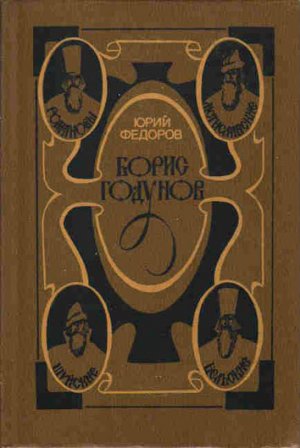
ЛОЖЬ
Глава первая
Федор Иоаннович изнемог и умирал, как и жил: не гневясь и не протестуя. Бескостные руки его не могли и свечу держать, и Федор Иоаннович слабо, извинно улыбался. Но он был царь, и велено было растворить на Москве двери церквей, возжечь свечи и, всенародно вопия с надеждой, молить о продлении дней последнего в роде Рюриковичей.
На колокольню Чудова монастыря полез по обмерзшим ступеням звонарь. Колокольня была стара. В кладке зияли дыры. Ветер гулял по стенам, опасно гудел, тревожил.
— Исусе Христе наш, — шептал звонарь, осторожно ступая по заметенным снегом, неровным ступеням. — Исусе Христе… — хватался красными, замерзшими руками за обледенелые перильца.
Ветер прохватывал монаха до костей.
— Грехи наши, — шевелил серыми губами звонарь, — грехи…
Знал он, по ком звонить идет, и скорбел сердцем. «Тиха, тиха была жизнь на Москве при блаженном Федоре Иоанновиче, — толкалось в голове, — почитай, так и не жили никогда…» И не то мороз, не то мысли эти выжали из глаз монаха слезу. Светлая капля поползла по бескровному, рытому морщинами лицу. Пожалел монах царя.
Чернец забрался на звонную площадку. Здесь ветер был еще жестче. Вовсю закрутило, забило звонаря, затолкало злыми порывами. Однако, отерев лицо рукавом грубой рясы, монах огляделся.
Внизу открылась Москва. Белым-бел стоял город. Но четко на снегу проступали красные каменные стены Кремля, надворотные, затейливые его башни, мощные стены Китай-города. И избы, избы — и в один и в два света — без края. Велика Москва — глазом не охватишь.
Монах широко перекрестился, крепко прижимая пальцы к груди, и взялся за колючую от мороза веревку. Качнулся легким телом, падая вперед, ударил в стылую медь.
Бом! — поплыло над городом. Бом! Бом! Бом! — как крик.
Двери сорока сороков церквей растворились на Москве, ярко вспыхнули свечи перед иконами, упали на колени люди, и многажды было повторено:
— Боже, продли дни блаженного!
Приказ Большого дворца двадцать пудов воска дал на свечи, да и так, от своих щедрот и великой жалости к умиравшему царю, многие из москвичей, кто побогаче, по полпуда, а то и в пуд поставили свечи.
На московскую землю в те дни упали невиданные холода. Спасаясь от их лютости, слетелось в город воронье, сорочье, лесные птицы. На улицах, пугаясь, московский народ видел волков, необыкновенных лисиц — и рыжих, и красных, и голубых, и черных. Они шныряли меж дворов, как собаки, их ловили и изумлялись необычному меху.
Многие говорили:
— То знаки. Ждать надо мора или чего хуже.
Шептали и иное, еще более страшное. Но скажет человек — и в сторону. Ясно — испуган и слово боится молвить, аи не может держать его под замком и предупреждает ближних:
— Вот на Сивцевом Вражке, у бабы старой, что травами для болящих золотухой приторговывает, метла на сору колом встала…
— А на Никольской, на Никольской… У булочника монастыря Николы тесто в опаре…
И далее не в силах говорить, человек рот прикроет рукой. А пальцы пляшут:
— Знаки всё, знаки!
На разговоры эти мужики поглубже надвигали шапки. Бабы заслоняли лица платками. Боязно было, сумно.
— Знаки!
В Кремле, у царского дворца, для обогрева, презрев боязнь перед пожарами, разрешили жечь костры. Пламя вздымалось рыжими сполохами к тесному небу, бурлило, но люди вплотную подступали к огненным языкам. Тянули руки к жару. Мороз давил на плечи.
Костры были зажжены и на улицах у многих церквей, и на перекрестках. И ревели, ревели стылые колокола.
Поутру, чуть свет, разгребет мужик изломанными ногтями наледь на слюдяном оконце, глянет — метет, метет текучая поземка, мороз, горят костры, и все — бом, бом, бом — колокола. Неуютно. «Что дальше-то? — шевельнется в нечесаной голове. — Что дальше?» Сядет мужик на лавку и опустит плечи.
А колокола гудят, гудят непрерывно. Рвут душу…
…Но видно, уже ничего нельзя было вымолить у бога для Федора Иоанновича. Он умирал, и только малая жилка, явственно проступившая на запавшем его виске, билась, трепетала, обозначая, что жизнь не покинула ослабевшее в немощи тело.
Патриарх Иов, белый как лунь, с изможденным молитвами и постами лицом, ломая коробом вставшую на груди мантию, склонился к умиравшему, спросил, отчетливо выговаривая:
— Государь, кому царство, нас, сирых, и свою царицу приказываешь?
Царь молчал.
Иов, помедлив, начал вновь:
— Государь…
Державшие крест руки Иова ходили ходуном. Боязно было и патриарху.
В царской спаленке душно, постный запах ладана перехватывает дыхание. Оконце бы растворить, впустить чистого морозного воздуха, но не велено.
У низкого царского ложа, на кошме, вытянувшись в струну, любимица Федора — большая белая борзая. Узкую морду положила на лапы, и в глазах огоньки свечей. Разевает пасть борзая, тонкий алый язык свивается в кольцо. Борзая еще глубже прячет морду, шерсть топорщится у нее на загривке. Может, не доверяет людям, стоящим у царского ложа? Может, боится их? Может, опасное чует?
Патриарх шептал молитву.
Со стены на Иова смотрели иконные лики древнего письма. Прямые узкие носы, распахнутые глаза. В них скорбь и мука. Многому свидетели были древние, черные доски, многое свершилось перед ними. И рождения были, и смерти — все пронеслось в быстротекущей жизни, а они все глядят молча. А что поведать могут доски? Человек лишь един наделен глаголом.
Вдруг малая жилка на виске государя дрогнула сильнее, как если бы кровь бросилась ему в голову. Губы Федора Иоанновича разомкнулись.
— Во всем царстве и в вас волен бог, — сказал государь, уставив невидящие глаза на патриарха.
Иов склонился ниже, дабы разобрать слова.
— Как богу угодно, — продолжил Федор Иоаннович, слабо шевеля губами, — так и будет. И в царице моей бог волен, как ей жить…
Жилка на виске царя опала.
Иов медлил, согнувшись, над ложем, словно ожидая, что царь заговорит еще, хотя понял — устам Федора Иоанновича никогда не разомкнуться.
Душа Иова содрогнулась.
Патриарх выпрямился, и царица Ирина, взглянув ему в лицо, страшно закричала. Упала головой вперед.
Больной, задушенный голос царицы подхватили в соседней палате, потом дальше, дальше, так, что стоны и вопли пошли и пошли гулять по многочисленным лестницам и лесенкам, переходам и переходикам старого дворца. Бились в стены, в окна, в низкие своды палат, пугая, еще и еще раз говоря всем и каждому — хрупок и немощен человек и коротки его дни.
Борзая с пронзительным, стонущим визгом вскочила с кошмы, метнулась к Федору, отпрянула назад, уткнулась в колени царицы. И вдруг повернулась к людям. В глазах вспыхнула ярость. Зарычала борзая, оглядывая стоящих в палате, будто говоря: «Царицу я не отдам». Прильнула к Ирине.
Иов протянул невесомую руку и опустил веки Федора Иоанновича.
Двери царской спаленки бесшумно распались, в палату вступили бояре. Косолапя, настороженно косясь на бьющуюся у царского ложа Ирину, вошел Федор Никитич Романов. Рыхлые щеки боярина подпирал шитый жемчугом воротник. Топырился на затылке. За плечами у Федора Никитича теснились дядья и братья. Боярин встал на колени, прижался лбом к дубовым половицам.
В спаленку вступил дородный, не в обхват, князь Федор Иванович Мстиславский и тоже повалился снопом.
В дверях, плечом к плечу, стояли Шуйские. Торчащие бороды, разинутые рты, и дальше, дальше, вниз по лесенкам, все тоже бороды, разинутые рты, расширенные глаза.
— Что там? Ну?
Царица сквозь рыдания отчетливо сказала:
— Я вдовица бесчадная, мною корень царский пресекается. — Дальше слов разобрать было нельзя: захлебнулась в слезах.
Свеча в руках царя, сложенных на груди, то вспыхивала ярко, то пригасала, и тени от пламени метались по стенам.
Борзая рычала, скалила зубы.
Тесня друг друга, бояре напирали.
На лесенке, возле спальни, плакал шутенок царский, хлюпал носом. Шутенок в полтора аршина ростом, лицо старческое. Видать, придавили в тесноте или пнул кто в зад. На него шикали. И всё тянули головы, тянули, стараясь разглядеть — что там, в царевых покоях?
Голос Иова доносился едва слышно:
— Чтобы не оставила нас, сирот, до конца. Была бы на государстве…
— Что, что он сказал? — переспросил глуховатый казанский воевода, в спешке прискакавший в Москву.
Как же, сейчас на Москве вершились большие дела. Надо было поспешать. Зашеина у воеводы медвежья, плечи крутые. Локтями отталкивал соседей. Лез вперед. Воевода знал: в такие дни следует жаться поближе к трону. А то, гляди, другие забегут наперед.
— А? — во второй раз, с придыханием, переспросил он. — Что сказал-то Иов?
Ему ответили:
— К присяге приводит царице.
— Царице? — воевода забеспокоился, глаза забегали. — Как это?
— Молчи, — зло сказал кто-то из верхних.
Воевода угнул голову. Унял пыл. Знал и такое: не откусывай больше, чем проглотить можешь, — кусок застрянет поперек глотки.
Федор Никитич, упираясь руками в пол, поднял голову и увидел стоящего за царским ложем, подле слепенького окна, правителя Бориса Федоровича. Тот, не мигая, смотрел на Романова. Глаза правителя не то пугали, не то предупреждали. И первому, и второму было ведомо: сойдутся их дорожки и кто-то должен будет уступить. А уступать ни тому, ни другому не хотелось.
«Так, так, — соображал Федор Никитич, клонясь долу, — значит, оговорено у них с Иовом. Присягу вишь царице, вдове, произнес патриарх-то… Быстро скумекали. Быстро…»
На презрительном желтом лице боярина проступила гневная краска. Дрогнули щеки, но и он сжал зубы и окаменел лицом.
Мстиславский Федор Иванович наморщил лоб, задумался. Но ни тот, ни другой не разомкнули уст. Оно и понятно: в такую минуту, когда все шатко, валко и не ясно еще, кому на высокий трон, а кому в ссылку, в безвестность, — каждое слово имеет особый смысл и произнести его страшно.
Федор Иванович катнул на скулах желваки. Зло волной ударило ему в голову. Боярин засопел, утопил тяжелый подбородок в широком воротнике.
Шуйский Василий Иванович хотел взгляд Федора Ивановича перехватить, но так и не разглядел глаз. Насупился боярин Федор, глаза завесил бровями, и что там, за веками, не угадать.
Молчали бояре, а в каждой голове свои мысли, думки путаные. И по тайным тропочкам бежали те мысли, петляли, от поворота к повороту, обгоняли одна другую. О царской короне думали бояре.
Пламя свечи, удерживаемой неживыми царскими пальцами, все билось и билось, и воск стекал светлыми слезами.
И тесно было в спаленке, потолочек крестовый нависал низко — Федор Иоаннович не любил просторных покоев, — а какая ширь увиделась многим, какие дали открылись! Захватывало дух. Кружились головы. Темнело в глазах. И, пугаясь своих дум, бояре ниже склоняли головы. Отстранялись друг от друга: не приведи господи сосед угадает мысли.
Голоса вопленные выпорхнули из дворца на кремлевскую площадь. Стоящий толпой народ качнулся, единым дыханием родив стон. Стрельцы в клюквенных, зеленых, лазоревых кафтанах, бабы в черных платках, дворовая шушера. Мужики сорвали колпаки да шапчонки, упали на колени в грязный, истоптанный снег. Завыли бабы. Глупа баба, конечно, ан и ей понятно: меняется власть. А уж здесь как получится — неведомо. Скорей всего, пойдет все вкривь и вкось. И еще так перечертоломят верхние люди — не соберешь угольков. Хитроумны бояре, древних родов, но нельзя без царя на Москве. Нет лиха большего, чем боярское правление. О том московский народ знал хорошо. Опустили головы. Закручинились.
Кривой стрелец, стоящий у самого Постельничьего крыльца, утерся рукавом. Крякнул. В голове одно: «Наплачемся». Но и этот не произнес ни слова. Вокруг разный люд, того и гляди, невпопад брякнешь — и на сворку[1]. Губу закусил до крови стрелец. Сжал кулаки. На темной шее, выглядывающей из широкого, хомутом, ворота, надулись жилы.
Москвичи биты многажды и пуганы зело. Стрелец отворотил лицо в сторону, и глаза у него нехорошо скосились. Не прост был дядя. Живя в Москве, подле царей, стрельцы насмотрелись на разное. По толпе пошло: — Царице, царице присягают!
С древних крестов сорвалась стая воронья и с мрачным граем закувыркалась, заплясала над площадью. Люди головы подняли и увидели за кремлевской стеной, за резными башенками, за причудливыми крышами вечернюю зарю. Тяжелые тучи у окоема будто прорубили секирой, и в проруб этот глянуло на людей стылое, ледяное небо. От зари в лица дышало таким холодом, что кожа у людей натягивалась на скулах. Цепенели губы. Ах, горе, горе, что-то еще будет?..
Царя похоронили по византийскому пышному чину, но с небрежением. Кафтанишко надели плохонький, подпоясали простым сыромятным ремешком и сосуд с миро, не по-царски бедный, поставили в гроб. Похоронщикам было не до того, а царица Ирина, в горе, недосмотрела. От царствования она отказалась и в простом кожаном возке съехала из Кремля в Новодевичий монастырь. Как съехала — никто и не приметил. К тайному крыльцу ранним утром подогнали санки, царица, шатко ступая по снегу, сошла молча, и дверцы возка плотно закрылись. Кони шагом пошли из Кремля. Подковы глухо простучали по наледи. Даже стрельцы, что стояли у сторожевой башни, не повернули голов. Возок беден, кто мог подумать, что то царица съезжает из Кремля?
В Новодевичьем царица постриглась под именем инокини Александры. В храме стояла ни жива ни мертва. Двое монахинь поддерживали под локотки. Царицу шатало. Игуменья положила ей руки на голову. На серебряном блюде поднесли ножницы, светлый локон упал на холодные плиты храма, и царицы не стало на Москве. Вот тогда-то московский народ всерьез ахнул. «Что дальше? — понеслось из улицы в улицу, от дома к дому. — И впрямь, что ли, ждать боярского царства?»
Ворота в Кремле с этого дня не закрывались, и люди толпой стояли у царского дворца. Едва забрезжит рассвет над Москвой, а уже видно — и тут и там идет народ, тропит дорогу по снегу и все дорожки к Кремлю. Беспокойно каждому, раз не спится, не сидится дома. Уже и мороз прогнать никого не мог. Толкаются, шумят. Стрельцы со стен молча поглядывают на людей. И ни гугу. Хоронятся от жестокого ветра за каменными зубцами, гнут головы. Сумно и стрельцам.
Верхние бояре сидели в Думе по целым дням до поздней ночи, потели в шубах, зло кричали, но согласия не было между ними. Вспоминали друг другу обиды, местничались. Федор Никитич — сырой, распаренный — ходил мелким шагом по палатам, уговаривал. На высокий лоб из-под горлатной шапки ползли капли пота. Дрожали губы. В кулак сжимал свою душу боярин, поднимал голос. Но его не слушали. Ведомо было: знатен боярин и, наверное, более других близок к царскому трону, однако и ему отдать первое место не хотел никто.
Шуйские заступали дорогу.
Мстиславские косились.
Нет, не было согласия у бояр, да и быть не могло. Так — стоял бездельный крик.
Федор Никитич хлопнул в ладоши. К нему подскочил кто-то из слуг. Боярин велел принести вина. Знал: вино людей лучше слов склоняет к согласию.
Вино принесли. Начали обносить думных, но бояре воротили лица. Мстиславский лишь взял ендову. Пил долго, жадно. Бока ходили, как у запаленной лошади. Но ендову отставил боярин, а глаза все так же были злы.
Федор Никитич глотнул из кубка. Вино обожгло, словно уксус. «Нет, — понял, — не до питья сейчас». Оглянулся. На него смотрели многие. В глазах светилось: «Хитришь, боярин, но и мы не просты». «Псы, псы злые, — подумал Федор Никитич, — сожрать друг друга готовы».
А оно верно — так и было. Каждый в думных палатах — матерый волчище. Такие и с иноплеменными королями на равных говорили, выступая от имени своей державы, с послами вели споры, воевали крепости, и, почитай, каждый не раз волен был в жизни и смерти тысяч и тысяч людей. В Думу-то слабые редко попадают. Дума она и есть Дума — вершина государства. Сюда забраться на хилых ногах нельзя. Думного не удивишь ничем и испугать трудно. А гордыни любой полон выше горла. Так разве уступит он другому дорогу? Согласится со словом, сказанным поперек?
Так вот и сидели по лавкам[2]. И много думано было, и предостаточно говорено, а ладу нет как нет.
Правитель Борис Федорович не выходил из своего дворца, и дела не вершились в приказах.
«Худо, — говорили на Москве, — совсем худо». Вспоминали время, когда Иван Васильевич был отроком и при нем правили бояре. Времечко было — не приведи господь. Вовсе затеснили людей податями да налогами. Порядок в государстве забыли. Каждый сильный свое гнул, и не было на силу царева страха. Один хозяин — хозяин. Два — лихо. Три — стропила у избы, так и знай, рухнут.
На виду у толпившегося в Кремле люда, у Посольского приказа, мужичонка с подвязанной щекой невесть зачем разметал снег. На дверях приказа висел пудовый заиндевелый замок. А недавно было здесь тесно от карет и возков, и бойкие иностранцы звонко постукивали каблуками, торопливо поспешая по ступенькам крыльца.
Да что Посольский приказ — у Красного царского выхода было натоптано, наплевано, намусорено. Клочками валялась неприбранная солома. Золоченые маковки церквей и кремлевских церквушек и те потускнели вдруг и опустились вроде бы ниже. Оконца в приказных избах, во дворце Большом загородились ставнями, решетками и не смотрели на людей.
Московский люд волновался. Разговоры на площади все те же: «Бояре лаются. Эх ты, Москва, Москва несчастная…»
Задирая головы, смотрели на дворец. Но что увидишь? Что услышишь? Стены толсты у дворца. Нет, не разгадать, о чем думают верхние.
В думных палатах Мстиславский прижимался к муравленой печи[3]. Боярина знобило. Грел ладони, косился на Федора Никитича прищуренным, недобрым глазом. В голове, как и у Федора Романова, вертелось: «Псы, псы алчные». Единственная разница: ежели Никитич его причислял к псам, то князь прежде всего Никитича величал самой жадной и алчной собакой.
Морщился Мстиславский. И царя еще не было, а бояре делили приказы. Каждый норовил сесть повыше.
— Куда тебе, худородному, заскакивать! — кричал кто-то. — Ишь ты, на Конюшенный приказ метит!
— Худородному? Да мой прародитель с Рюриковой дружиной на Русь вышел…
Обиженный захлебнулся злой слюной, раскашлялся. Мстиславский не повернул и головы. А голоса все надрывались:
— Какую ни есть избу дадут, и тем будь доволен!
— Мне какую ни есть избу?
И кто-то грохнул кулаком так, что в поставцах, расставленных по стенам, зазвенела посуда.
Шумели, шумели в верхних палатках, но крепли голоса и за стенами дворца. Наливались набатной тревогой. А набат опасен и часто кончается кровью. Неуютно становилось от голосов тех в боярских думных палатах. Помнили здесь, что бывает, когда дернут за веревку большого колокола. Сорвутся колокола в звон, и тогда и дворцовые двери — дубовые, обитые железом — не спасут. Москву до набата доводить нельзя.
Из боярских палат по ступенькам лесенок пошел щепетной походкой всесильный думный дьяк, хранитель печати, хитро-мудрым умом вылезший из грязи в князи Василий Щелкалов. Высокий, с глазами пронзительными, от взгляда которых холодно в груди становилось у человека. Ступал твердо, на скулах желваки играли.
Голоса крепли на площади, и он ускорил шаг.
Немецкие мордастые мушкетеры, закованные в железные латы, распахнули двери. Василий вышел на Красное крыльцо. Шагнул широко, да вдруг остановился. К нему качнулись толпой. Задышали в лицо. Василий чуть отступил. Но, набрав побольше воздуха в грудь, властно крикнул:
— Присягайте боярской Думе!
И оказалось, крикнул зря. К нему подступили вплотную. Бешеные глаза, кривые губы, пальцы, сжатые в кулаки. Дохнуло чесночным духом, хмельным перегаром, злым потом. Толпа закричала разом:
— Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу!
Щелкалов поднял руку. Глаза налились гневом. Тоже свое знал, и смелости ему было не занимать:
— Царица постриглась!
Открыл рот еще что-то крикнуть, но нашла коса на камень, и думный дьяк уразумел — надо уходить. Хуже будет. Уж больно жарко задышали на него, уж больно близко подступили. Того и гляди, возьмут за грудки, а что из того получиться может, дьяку было ведомо. Народ московский не одного спихивал с царского крыльца. Да еще и так, что расшибались насмерть те, кого спихивали. Головой об камни — и дух вон. Кремлевские камни кровь любят.
В толпе зашумели:
— Да здравствует Борис Федорович!
Дьяка, как поленом по голове, ударил тот крик. Глаза у Щелкалова метнулись по толпе. Выглядеть хотел: кто кричит? Увидел: какой-то мужичонка с саней вопит, надсаживается. А вон стрелец разинул рот. И ахнул — бабы, бабы орут. Знал: баба завопит на Москве — тут уж делать нечего. Кому-кому, а бабе рот не закроешь. Баба перекричит всякого. Мужика можно напугать, а бабу нет. Хоть убей ее, она угнется, а все свое будет талдычить.
Губы поджал дьяк и задом выперся в дверь. Но все же ухватил его злой мужичонка за полу бархатного кафтана.
— Постой, — глаза вытаращил, — постой! Долго ли нам снег топтать, пока верхние в ум войдут? А то подсказать что?
Губы у мужика растянулись в нехорошей улыбке. Видно было — бедовый человек, до греха ему шаг.
Дьяк рванулся, но мужичонка ухватил крепко. Оторвал полу. Мушкетеры едва отбили дьяка, захлопнули дверь.
В разорванном кафтане Василий вошел к боярам.
Федор Никитич, забыв и чин и родовитость, бросился навстречу. Борода тряслась, зрачки во все глаза:
— Ну?
Щелкалов отряхнул кафтан, плюнул под ноги боярину. Не сказал ничего. Только головой дернул, словно прищемили его за больное. Не привык дьяк, чтобы так обходились с ним. Его — хранителя печати — боялись и верхние, а тут на тебе, мужичонка, из самой что ни есть голи, оборвал кафтан.
Федор Никитич задрожал плечами, повернулся к думным. Глаза, налитые мутной влагой, страдали. Боярин крикнул по-птичьи высоко:
— Из Кремля народ вон выбить надо и ворота закрыть! Мстиславский, первый в Думе, тяжело упираясь руками в широко расставленные колени, поднял на него красные от бессонницы глаза. Посмотрел долгим взглядом. И ясно стало, что уже никого не выбить из Кремля, не затворить ворот и стрельцов с пушками не поставить на стены. Поздно.
— У-у-у! — замычал Федор Никитич. Кулачишко сжал до белизны в суставах. Недобрый был боярин. Ах, недобрый.
А голоса гудели за стенами дворца. Гудели…
Щелкалова выбили люди с Красного крыльца, и слова пугающие словно январским ветром понесло по Москве. А может, их растаскивало на крыльях воронье?
— Что ж, и впрямь, ребята, в набат ударить?
— И ударим. Чуток постой!
А ветер-мятежник в два пальца — фи-и-ить… фи-и-ить… Страшно, пронзительно, как тать в черном лесу. А вороны — кра-кра-кра… Сумрачно, зловеще. И голос:
— Эй, лихо петуха пустить!
Избы московские нахохлились. Присели на корточки. Затаились. Надвинули, как колпаки, тесовые крыши на слепые оконца. Поглядывали настороженно. По городу те, что посмирнее, уже и ходить опасались. На Пожаре закрыли ряды, и на Варварке, в Зарядье, в Ветошном переулке на лавках навесили замки. Но народ толкался меж рядов, ждал чего-то.
Мысли дерзкие были еще у боярина Федора Никитича, да и не у него только. Сладок кус — царская корона. Ах, как горело в груди у боярина, жгло, что те раскаленные угли!
Все романовское племя гудело: «Сейчас упустим, когда еще другой раз поспеет?.. За рога, за рога хватать надо случай…» — шипели. Скалились, ярились: «Оно бы только схватить, а там пойдет…» На шеях надувались жилы, будто непосильный груз тянули бояре, зубы трещали. Ах, как хотелось властвовать!
Обламывая ногти в темноте, откапывали кубышки в тайных погребах, щедро отваливали деньги на общее родовое дело:
— Не жадничай, позже сторицей возвернется.
И уже не тому, так другому виделось, какими грудами драгоценными возворачивается. В бесценных камнях играло пламя, золотые сияли жаром.
Чаще, чаще бились сердца.
У романовских палат стояли молодцы в стеганых тегиляях, в хороших колпаках, и видать сразу — не комнатные люди.
Вон один, на углу, саженные плечи, в глаза страшно заглядывать. Такому только нож в руку. Обучен лихому делу. Похаживают молодцы вдоль стен, неперелаэных тынов в два человеческих роста. Рожи красные — видать, не без хмеля, — зубы острые. И люди все — на глаз приметливый — не московские. Боярин зубастых этих привез из вотчин. А зачем? Дураку ясно: таких орлов солить капусту в Москву не тянут.
Небезлюдно и у палат Шуйских. Одного не хватает — пушки в воротах. Да неведомо — может, она и стоит, только не видать.
— Хе, хе, хе… — посмеиваются боярские людишки, уперев руки в бока.
— Хе, хе, хе… Поглядим на Москву, какая она есть недотрога.
— Поглядим, поглядим… А то и облапим, как бабу теплую.
Глаза горят у молодцов. Свистнет боярин — и пойдут в ножи. Таким все нипочем.
С прохожими боярские люди охотно заговаривают;
— Заходи, меды у нас хороши. Отведай. Но тут же услышишь и другое:
— Боярам присягайте. Бояре — отцы наши, милостивцы. Мы вот за Федором Никитичем как за каменной стеной — и сыты, и одеты.
Тегиляями хвастают молодцы:
— Смотри, смотри, прохожий… В такой одеже по любому морозу не зазябнешь.
Но московские люди поспешают мимо.
— Эко диво! Такое видели. Бояре не раз на Москву народ из вотчин приводили. Было, было, все было на Москве-матушке. А тегиляй — что ж? Тегиляй и собака порвать может. Или так: за колышек зацепишься — и конец ему. Лучше уж голову целу на плечах иметь.
Говорили, говорили на Москве и тут и там. Русский человек поговорить любит. Так-де, мол, и вот так, и что еще из того выйдет. Или-де вот эдак может оборотиться, и тогда неведомо, как получится… И намекает, намекает мужичонка, что осведомлен более другого и весть та у него от важного лица. Может быть, даже узнал от дьячка из церквушки, что в переулочке из-за десятого забора выказывает маковку. А то, может быть, и тетка дьячка сказывала племяннице своей, а уж та ему-то, мужичку, все дословно, так уж дословно, как и не бывает, пересказала шепотом, когда воду черпали из колодца.
Послушают такого и долго чешут в затылках:
— Да… Говорят люди… А им ведомо…
На Варварке чудо. По белому снегу черным пауком бежит человек, в зубах мясо, и на снег падают красные капли. Человек прыгает на четвереньках, теребит мясо, трясет, рвет. За ним идут двое в хороших армяках, смирные и человечно объясняют:
— Это провидец. Прибился недавно к церкви Всех Святых, что князем великим Дмитрием Донским поставлена на радость москвичам. Слушайте его, слушайте! Его устами праведные слова глаголются.
Народ валом бросился на Варварку. Давили друг друга: что? Да как? Да почему такое?
Святой человек прыгает по снегу, мясо кровью брызжет страшно. Одна рука у человека трехпалая, и на снегу следы остаются вроде бы куриные.
Один из купчишек, что на Пожаре торговал ветошью, наклонился разглядеть след, и глаза у него пошли врастопырку: точно, след не людской, а птичий. Но как это может быть, ежели здесь человек прошел, а не курица? Волосы зашевелились у купчишки под шапкой.
Мужики смирные доверительно говорили:
— Видение было святому, что лукавый правитель Борис учредил отравное зелье и пошел к царю во время стола.
Оглядывались смирные мужики, царапали глазами по лицам, но слова опасные все ж выговаривали:
— Вошел к царю Борис и встал у поставца. Государь, познав в нем через святого духа проклятую мысль, изрек: «Любимый правитель мой! Твори, по что пришел. Подай мне уготованную тобой чашу». Окаянный Борис взял чашу златую и, налив в нее меду, всыпал зелье, поднес государю.
Тут мужики и вовсе притушили голоса. Повисла тишина на Варварке. Мужики сказали:
— Царь чашу принял и выпил. Борис поклонился, радуясь, что царя и благодетеля своего опоил. Царь Федор Иоаннович стал изнемогать и жил по той отраве только двенадцать дней.
Народ оторопел. Мужики поклонились. Трехпалый с мясом в зубах запрыгал дальше. И все пятнал, пятнал белый снежок куриными следами. Рычал, подбрасывал вверх мясо, играл, что сытый волк, задравший овцу. А глаза у трехпалого стреляли по сторонам. И глаза бедовые. Какая уж святость? Глум один.
Кто-то крикнул:
— А что, братцы, не придавить ли нам этого, с мясом?!
Но тут крикуна толкнули в шею. Шапка с него слетела, покатилась по белому снежку. Вокруг зашумели, загалдели. Пошла уличная свара. Кого-то свалили, кому-то вывернули руки. Бабы бросились врассыпную. Мужики расходились, тузили по бокам уже по-серьезному. Кое-кто колья начал выламывать из заборов. От романовских палат, стоявших тут же на Варварке, покрикивали молодцы в тегиляях, бодрили, задорили:
— Давай! Давай! Пошибче!
— Бей, не жалей, вкладывай ум через чердак! Молодцам, видать, того и нужно, чтобы шуму поболее на Москве поднялось. Неразберихи. Оно в дыму, да в чаду, да в мути, глядишь, и схватишь рыбу — усатого да жирного сома. А ветерок злой надувал щеки и все — фи-и-ить, фи-и-ить — свистел. На перекрестках полыхали костры. Дым полз по земле. Дым горький, выбивающий слюну под языком. А снег у костров — ал. Тени у домов — сини. Небо — тесное, в тяжелых тучах — верченых, крученых, взбаламученных, как если бы небу вот-вот упасть на землю да и придавить все разом.
Жутко.
Мужики уже ногами охаживали друг друга. Покряхтывали битые, лихо вскрикивали те, кому в куче удалось сверху сесть.
Никто не заметил в уличной сваре, что в толпе, притиснутый к крайней избе, стоял запряженный возок. Слюда в оконце возка желтая, через такой глазок много не увидишь, но все же разобрать можно было, ежели приглядеться, что сидели в темноте возка, насупясь, правитель Борис Федорович и дядя его, Семен Никитич, человек серьезный.
— За юродом и мужиками приглядеть надо, — сказал Борис Федорович негромко.
Семен Никитич головой кивнул: угу-де, угу. И все: разговора между ними не было больше.
Возок тронулся средь расступившейся толпы и вымахнул на Варварку, а там, на Пожаре, свернул под горку и ударился к Хамовнической слободе. Правитель торопился в Новодевичий. Знал Борис Федорович: Москва сейчас что медовая колода, в которую вломился медведь, — но знал и то, что поспешать к такой колоде не след. Обождать надо, когда успокоится горячая пчелка. Пусть шустрят Романовы, торопятся Шуйские. Всему обозначено время. Он, Борис, подождет.
Над Кремлем видны были дымы, багровые отсветы огней плясали на башнях.
Возок правителя остановился у проездных ворот Новодевичьего, и Борис Федорович сошел на хрусткий снег.
Возок тут же отъехал, покатил к Москве, Кони пошли небыстрой рысцой. Замотали обмерзшими хвостами.
Борис Федорович постоял, перекрестился на святые смоленские кресты и вошел в ворота. Правитель был высок, строен, без лишнего жирка. Ступал неторопливо, но твердо. И, не зная человека, с уверенностью можно было сказать: такой повелевать привык и два раза слово не говорит. Ему взглянуть только — и веленое будет исполнено. Однако шуба на правителе была скромна. Не соболь. Барсучок рыженький, крытый темным сукном. И шапка скромна. Тоже темная.
Правителя ждала игуменья. Приличествуя сану, лицо ее было скорбно. Глаза опущены. Узкой тропкой она повела Бориса Федоровича в палаты. Шла впереди, подол черной рясы мел голубой снег.
Борис еще раз взглянул на кресты собора. Они, казалось, летели в морозном небе. «Тихо-то как здесь, — подумал Борис, — тихо… Не то что в Москве».
Вспомнилась толпа на Варварке. Борис мотнул головой, отгоняя воспоминание.
Игуменья посторонилась и, поклонившись, пропустила правителя в палаты.
С Бориса сняли шубу, приняли шапку, повели к сестре.
В переходах гнулись тени монахинь. Ни звука в монастырских покоях, ни вздоха. Инокиня Александра лежала на застеленном черными платами ложе, ноги прикрыты мехом.
— Уснула матушка, — шепнула игуменья тонкими губами и тихо вышла.
В углу палаты мерцали иконы, и свет от них падал на лицо государыни-инокини. Лицо бледное, дыхания не слышно.
Борис сел в креслице у ложа. В ногах царицы-инокини лежала борзая Федора Иоанновича. Глаза собачьи плакали. Борзая доверчиво потянулась к Борису. Длинным теплым языком лизнула руку и вновь припала к ногам Ирины. Обтянутые скулы Бориса обозначились резче.
Несколько всего и дней прошло, как видел он смерть царя, а теперь перед ним лежала родная сестра, и ее немногое отделяло от последнего предела. Борис напряг слух, но дыхания так и не услышал. «Дунет слабый ветерок, — подумал, — и эта свеча угаснет».
Вновь увидел толпу на Варварке, расширенные глаза мужиков и баб, юрода, теребящего мясо. «Страсти, — подумал, — страсти необузданные. А что есть жизнь?.. Человек слаб, и все суета и миг на земле». Кремль увидел. Народ на площадях, костры, сизый дым…
У глаз правителя собрались морщины, веки опустились. Лицо застыло в неподвижности, но все же было видно по нездоровому румянцу, алевшему на щеках, что потаенные мысли тревожат Бориса и он взволнован и напряжен. Горло сжало болезненной спазмой. Боясь потревожить тишину келий, Годунов кашлянул в кулак, поднялся, осторожно ступая, подошел к окну.
В морозной дали, за Девичьим полем, дымили трубы Хамовнической слободы, левее поднимались столбами дымы Патриаршей и Александровской слобод. А еще дальше виделись дымы московские: Хамовников, Арбата, Сивцева Вражка. В дымах — искрами — кресты церквей. Борис угадал — кресты церкви Николы на Песках и церкви Николы на Курьей Ношке[4].
Правитель долго вглядывался в хмурую даль. И вдруг застывшее, неподвижное лицо его — не то от саднящей боли в груди, не то от чего другого — дрогнуло, легкая судорога исказила твердые губы, глаза увлажнились. Даль расплылась, и уже не Москву и слободы ее видел или угадывал он перед глазами, а заснеженные литовские пределы со стрелецкими заставами в дремучих западных пущах; бескрайние южные степные просторы с новыми крепостицами Воронежем и Ливнами, Ельцом и Белградом, Осколом и Курском на путях крымцев; сибирские остроги — Тобольск и Пелым, Березов и Сургут, Верхотурье и Нарым, строенные его настоянием и свирепою волею упрямых воевод. Двенадцать лет просидел он — Борис Федорович Годунов — правителем при Федоре Иоанновиче, его именовали ближним великим боярином, наместником царств Казанского и Астраханского, он был шурином царским, и всяк на Москве, и в западных ближних и дальних странах, и в Крыму, и в Туретчине знал: Борис Федорович — правитель государства Московского по имени и царь по власти. С такой высоты виделось и угадывалось многое.
Русь расцветала. Некогда крохотное рядом с Литвой, Золотой Ордой и Новгородской республикой княжество раздвинуло невиданно границы, вступило в Сибирь, превратилось в могучую силу, позволявшую русскому народу готовить себя для великого будущего.
Борис коснулся рукой лба, охлаждая бегущие мысли.
Росла и честь русская. Великого князя Василия Темного уже называли «благоверным и боговенчаным царем». А такое впервые сталось на Руси. Царский титул непросто объявить. Митрополит Илларион в «Слове о законе и благодати» утвердил равноправие Руси с Византией.
В «Слове об осьмом соборе», после описания гибели Царьграда, торжественно возвещалось: «…а наша русская земля… растет и возвышается». В «Повести о белом клобуке» — символе верховной православной власти — говорилось о передаче ее в светлую Россию, в Новгород. С падением Константинополя старец Елизарова монастыря Филофей писал великому московскому князю Василию Ивановичу: «…блюди и внемли, благочестивый царь, яко вся христианские царства снидошася во твое едино, яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти: уже твое христианское царство инем не останется по Великому Богослову…» Все это были гранитные глыбы, мостящие основы Руси.
Но ведал Борис: достигнутое с великими трудами, многою кровью русских людей, страданиями, восторгами и болью может быть повергнуто в прах. На границах Руси, что на западе, что на юге, хотя и притушенные его, Бориса, усилиями, все же тлели бесчисленные костры, готовые в любую минуту слабости русской земли залить ее бушующим пожаром войны. Ведал Борис и то, что в сей скорбный час в высоких палатах кремлевского дворца рвут друг у друга из рук князья и бояре кусы этой самой Руси, боясь уступить один другому хоть малую кроху. Угадывал голоса. «Мы — родня царю! Мы — Рюриковичи!» — вопили одни. «В кике ваше родство, и Рюриковичи вы по кике! А мы — Гедиминовичи по корню!» — ярились другие. «Вы — пришлые! Вы Руси чужаки! А мы московским великим князьям и государям служим издревле!» — раздирали рты третьи. И каждый потяжелей слово выбирал, бил с полной руки, наотмашь, норовя побольнее ударить, пошибче, так, чтобы свалить разом. И не до Руси в спорах, криках, ярости этим в меховых о сорока соболей шапках, не до российских пределов, не до русской чести. Свое бы урвать. Стучали думные каблуками, валили скамьи. Будто и не Дума это, где принято чинно и мудро решать, опустив главы, государственные дела, но оголтелый торг. Еще бы боярам рвать губы, выдирая копейки из-за щек. За волосы, за бороды таскать за обман, за воровские слова, ударом в ухо сбивать с ног. Валять, катать по дворцовому полу, добивая пинками.
Многое повидал Борис. Знал царя Ивана Васильевича и его дела. Грозен был Иван Васильевич. Людей жег на сковородах, варил в котлах, зорил города. Выбивал вотчины из-под князей, приводил под власть Москвы, ибо Русь только сжатая в кулак могла выстоять. Князей на Москве служить заставил царю. Без родовых вотчин князья теряли власть и уже не были вольны в своей необузданности. Но пресекся последний корень в роде Рюриковичей — и заговорило ретивое в князьях. Вспомнилась былая непомерная власть, и в каждом засвербило: а что, не попытать ли вновь на крепость Москву? Вот и дрались в палатах кремлевского дворца. А что татары? Литовцы? Набеги разрушительные? Тысячные толпы русских людей, уводимых в Крым, в полон, в рабство? О том в думных палатах не говорилось. Свое, свое урвать… А Русь? Что Русь — пусть ее, как девку, татарин ли, литовец, поляк за волосы схватит и бросит поперек седла.
Борис лицо ладонями закрыл, и эта мысль о пляшущих чужих конях, жадных руках, беспощадных лютых глазах, ищущих добычу, как острый пыточный крюк вошла в сердце. «Да мало ли я трудов отдал обороне Руси, укреплению ее пределов? — подумал. — Кто сравниться со мной может в радениях этих непомерных на ее благо? — Раздражение и гнев всколыхнулись в правителе. — Я лишь один каждодневно год за годом силы тратил, болея за Русь, возвеличивая и приумножая ее мощь противу врагов. Я!» И это многажды повторенное «я» сжало горло, перехватило дыхание жгучей петлей жалости к себе и ненависти к недругам. «Так кому же на трон осиротевший? — ударило в темя. — Двенадцать лет, скажут, правил при царе, но вот когда корона перед глазами заблазнила — пороху не хватило? Назад попер? Нет…» И самолюбиво и гордо сказал себе: «Да и кто лучше меня укрепит русскую землю? Или вновь, ступенькой ниже царя? Так не бывает — с этой лестницы летят донизу. — И не то подумал, не то прошептал: — Да и расшибаются до смерти».
И был он в сей миг как стрела, наложенная на звенящую, натянутую тетиву лука.
Вспомнилось, как взглянул на него Федор Никитич Романов у ложа умирающего царя. Не надо было обладать большой проницательностью, чтобы угадать мысли боярина. Предки Федора Никитича служили еще при дворе Ивана Калиты и Симеона Гордого. Породнены были Романовы и с царской фамилией. Но нет, не хотел уступить и Федору Никитичу Борис. Слепящей, нестерпимой, нарастающей жгучей волной обида ударила его под сердце.
— Нет, — сказал Борис, — не быть Романовым на троне. Не быть.
И тут мысль уперлась в страшное. В то, о чем и подумать было боязно, от чего мороз по коже драл, сердце стыло. Да он и запрещал себе думать об этом, и мысль пугливо метнулась в сторону. То было тайное.
Государыня-инокиня вздохнула за спиной. Борис быстро оборотился, шагнул к ней.
— Иринушка, — позвал, — сестрица. Что, болезная? Помочь ли чем?
Царица-инокиня только повернулась на бочок, а глаз не открыла.
В тот вечер правитель долго молился в одном из притворов собора и уже затемно прошел в приготовленную для него монашескую келию. В ее слюдяном оконце допоздна не гасла свеча.
Черно во дворе монастырском, черны в ночи стены монастыря, и за стеной Новодевичьего черно — поле, ни зги не видно. Снега, снега… Но вот метнулась тень. «Эй, кто там?» Нет ответа. Зверь, видать, вышел на промысел. А может, бедовый человек с ножом за голенищем? Время-то какое… Вон за полем, над Москвой и в ночи багровые сполохи. Отсветы костров. Тяжелые тучи опустились над городом, волокутся, цепляясь за церковные кресты, за кремлевские башни. Исподу огонь красит тучи в кровяные тона. Ох, нехорошо и смотреть-то. В душе страх.
За окном монашеской келий все горела и горела свеча. И была видна тень человека. Ходит, ходит человек из угла в угол. О чем думает? В такую шальную ночь невеселы, должно быть, мысли. Прилечь бы на теплую лежаночку, прикрыться мягоньким мехом — куда как хорошо, но он все ходит… Ходит…
Глядя в черноту ночи, Борис твердо сказал себе: «Нет, не уступлю я Романовым, Мстиславским, Шуйским. — А сказав так, холодно и расчетливо, навыкшим к придворным борениям умом, решил: — Ступенями к трону должны стать сестра моя, Ирина, патриарх Иов, обязанный мне чином своим, да верные люди и здесь, в Москве, и по иным городам, куда немедля гонцов послать след. Пускай по всей Руси вздохом пройдет: один есть у нас царь, и имя ему — Борис».
— Борис, — прошептали губы, но вновь дохнуло из черноты ночи на правителя то, о чем и вспоминать жутко.
Длинный переход кремлевского дворца, каменные плиты пола. Дверь в царскую спальню неслышно отворилась. На ложе в неверном свете лампад возлежал царь Иван Васильевич. Глаза его были обращены к Борису… Правитель вздернул голову, как от удара, и воспоминания погасли перед мысленным взором.
Семен Никитич Годунов не забыл об «угу», сказанном в возке на Варварке. Не тот был человек, чтобы забывать такое. И тогда же, ввечеру, до того как московские улицы перегородили рогатками, в Зарядье въехали саночки. Розвальни крестьянские, губастая лошаденка в мочальной справе. В саночках сенца охапка и мужички. Серые армяки, незаметные шапчонки: глянешь — глаз не задержится. Одно приметить можно было: когда проезжали саночки мимо романовских палат, поглядели мужички недобро на огоньки в окнах. Так мимоезжие не глядят.
У церкви Бориса и Глеба мужичок с черной цыганской бородой с саночек легко соскочил и подошел к нищим, жавшимся у входа на теплых плитах. Наклонился, спросил что-то тихо. Да хорошо, видно, спросил, так как тут же вернулся к саночкам и показал вознице — сворачивай-де в переулок. Сани, визжа по наледи, развернулись и съехали за кладбище, торчащее крестами за церковкой. Миновали избу, вторую и стали. Мужички вылезли из саней и пошли к дому.
В переулке безлюдно, ветерок подметает занавоженную дорогу. Сугробы вдоль высоких заборов да деревья, опушенные снегом. Мирно.
В избяном оконце светил неяркий огонек. Мужички переглянулись, и чернявый, не снимая рукавиц, стукнул в калитку. Во дворе заперхал хриплой глоткой кобель, завыл. Мужик стукнул явственнее.
— Кто там? — спросили из-за калитки.
— Во имя отца и сына и святого духа, — смирно сказал чернявый.
— Аминь, — ответили ему, и калитка открылась.
Мужик ступил на двор. А второй, идущий следом, тут же поставил ногу под калитку. Ловко это у него получилось, как, видно, и было задумано. Ширк — и нога поперек створа. Калитку не притворишь.
— Здесь провидец, что от церкви Всех Святых? — мягко-мягко спросил чернявый. — У нас к нему слово. — И замолчал.
Снег где-то упал с крыши, и звук такой раздался, как если бы кто тяжко вздохнул.
Хозяин по лицам мазнул озабоченно глазами, но отступил, пропуская чернявого во двор. Второй вошел за ним следом, а двое за калиткой остались, но чувствовалось — шумнуть только, и они влетят мигом. А в переулке по-прежнему ни гугу. Тихо. Только кобылка, впряженная в сани, фыркнула. Видать, куснула ледку, а он колок оказался.
Хозяин простучал по ступеням крыльца, скрипнула дверь. И опять все стихло, лишь в углу двора в густой вечерней тени кобель поигрывал цепью, ворчал.
Чернявый пошевелил плечами под армяком. Видно было, разминается мужик. И даже вроде бы на лице у него промелькнула улыбка. Чуть тронула губы и ушла. Скулы строго обтянулись.
Кобель, еще раз звякнув цепью, потянулся вперед и, выставив нос, принюхался. Сел и уже ни звука не издал. Тварь неразумная, говорят, собака, ан нет. Пес знает, на кого брехать можно, на кого лаять, а кого и беспокоить не след. И вот тут-то почувствовал, видать, кобелина: надо назад сдать, а то враз голову к спине повернут. Заскулил и свернулся клубком на снегу. Прикрыл от греха голову пушистым хвостом. Звонкая цепь смолкла.
Вновь скрипнула дверь. На крыльцо вышел человек.
— Кто спрашивает? — сказал и, вглядываясь, ступил вперед.
— А ты спустись, спустись к нам, соколик, — попросил чернявый медовым голосом, — слово есть.
Но видать, душа не сдержалась в нем, и голос хоть и медовый, но звякнул жестко.
Человек святой, угадав недоброе, оборотился было и хотел кинуться в дверь, но чернявый в мгновение оказался с ним рядом, взмахнул рукой и, как кот лапкой, ударил в висок. Святой повалился с крыльца. Руки у него отвалились в стороны. Знать, удар крепок был. Подхватив юрода, чернявый, как куль с ватой, швырнул его в калитку. Двое, что оставались на улице, так же лихо подцепили святого под руки и, головой вперед, бросили в сани. Чернявый и второй со двора вскочили в избу. С лавки навстречу им поднялись хозяин и мужики, что водили юрода по Варварке. Перед ними стол на толстых ножках, на столе горшок, наверное, со щами, штоф, стаканчики оловянные.
— Гоже, — улыбаясь, сказал чернявый, — хлеб да соль…
Но так сказал, что у хозяина запрыгала борода. Один из мужиков наклониться было хотел, но чернявый шагнул вперед и опрокинул стол. Прибил к стене мужиков.
Через минуту, связанные, как бараны, лежали мужики у печи. Хозяин, стоя на коленях в углу, тряс худыми плечами.
— А с ним что делать будем? — спросил у чернявого товарищ, поднимаясь от связанных мужиков.
— Милые, дорогие, — запричитал хозяин, — не убивайте, господом богом прошу! Четверо детишек у меня…
Чернявый взглянул на него. У хозяина крутым яблоком кадык вылез из воротника.
— Деньги посулили, водочкой напоили, вот и пустил их переночевать, — молил хозяин. — Господи, чуяло сердце недоброе! Пожалейте!
— Целуй икону, — сказал чернявый, — что не видел нас. А эти, — он пнул связанного мужика, — пришли к тебе с вечера да и ушли рано утром. Ну!
Зубы открылись у него в бороде. Белые, чистые, что жемчуг.
Хозяин сорвался с колен, припал со слезами к иконе:
— Не видел, не знаю, никого не видел… Христом господом нашим… — Спина у него плясала.
— Хватит, — прервал чернявый, — не скули.
Оглядел избу. Лавка у стены. Оконце в две ладони. Печь. На лежанке горой серые лохмотья. Скудно. Бедно. Оно и впрямь, сообразил, могли соблазнить мужика стаканчиком. Хмыкнул. Еще раз обвел избу взглядом и вдруг, насторожившись, подозрительно спросил:
— А где хозяйка?
— С детишками на богомолье пошла, милостивцы, с детишками.
— Гоже, — сказал чернявый. Оборотился к товарищу, кивнул на связанных: — В сани.
Мужиков сволокли в сани, бросили рядом с юродом, притрусили сверху соломой. Сели на них сверху.
— Давай, — кивнул вознице чернявый и, повернувшись к стоявшему на коленях в калитке хозяину, сказал: — А ты, дядя, помни — икону целовал. И то помни: чуть что — придем.
Хозяин склонился до земли.
Сани тронулись. Возница взмахнул вожжами. Кони побежали бодро, но чернявый все же поторопил:
— Скорее, скорее.
Выскакали к Козьмодемьянским воротам. И вовремя. Сторожевые стрельцы уже тащили рогатки перегородить дорогу. Сгибаясь под тяжестью, волокли дубовую колоду, запиравшую ворота. Сани проскочили мимо. Стрелец у ворот хотел было крикнуть что-то, но ветер с Москвы-реки взметнул снег с дороги, бросил в лицо. Стрелец поперхнулся, махнул рукой.
Кони спустились к реке и уже по гладкому побежали вовсю.
Вот так дела творились на Москве, и слово Семена Никитича не слетало по ветру. Сказано — так, значит, и быть по сему. Это для дураков только Москва большая и человек в ней иголка: нырнет в улицы и канет бесследно. Нет, когда захотят сильненькие, человека на Москве найдут, хотя бы он и под землю ушел.
Стрелец у городских ворот отер лицо и вдруг подумал: «А где я видел чернявого мужика, что в санях сидел?» Припомнил: «В фортине»[5]. Усмехнулся. Такое всегда вспомнить приятно. Водочки в тот раз попито было предостаточно. Стрельцы загуляли, а тут денежный мужик подвернулся. Как раз этот — с черной бородой. Серебра не жалел. Стрельцы даже подумали: уж не иудины ли то денежки? Но чернявый человечно говорил о людском житье и все больше напирал, что-де при Федоре Иоанновиче москвичи беды не знали. Говорил и то, что правитель Борис Федорович тоже смирен. Спьяну, однако, кто-то полез к нему с кулаками, но другие зашумели за столом: «Постой! Послушай — человек дело говорит».
Кашлянул стрелец. Еще раз подумал: «Хороша была водочка». Глянул в снежную даль. Сани, едва видимые, летели по ледяной дороге. Стрельца позвали от ворот, и он, забыв и о санях, и о чернявом мужике, побежал на голос.
Однако мужики с Варварки были для Семена Никитича малой заботой. Язык злой, конечно, вырвать следовало, дабы поменьше народ на Москве смущался, но другое, и много труднее, поручено ему было тайно.
По смерти царя Москва ощетинилась заставами. Стрельцам было приказано: не то что человек — птица не пролетела бы ни в город, ни из города. На дальние подступы поскакали гонцы, и там было велено: рубежи держать крепко. Гонцам давали на смену по коню, а то и по два. Снег ли, ветер — гони, медлить не смей. Поскакали доверенные люди, понесли весть: царя не стало и ныне строго. У посольских дворов затворили ворота. Сказали: «Из домов ни шагу. Свое решим — тогда уж и вам обскажем».
К избам посольским поставили стрельцов.
— А что так-то, — молоденький стрелец пытал у седоусого дядьки, — больно опасливо? А?
— Эх, сосун, — ответил тот, — узнаешь… Сейчас самая страсть. Держава без головы…
Плечами повел, будто через шубу ветер прохватил:
— О-хо-хо…
Весть полетела по Руси. И закрестились, вздыхая, и на ливонских рубежах, и на южных неохватных границах. Однако приказов никаких, окромя сказанного о строгости, не выходило.
С гонцами Семен Никитич говорил подолгу. С каждым порознь и в тайных комнатах. В том, что разговор тот останется лишь промеж них, гонцы крест целовали. Велено же им было одно: сильных людей по городам и весям склонить словом и посулами к тому, что царем на Руси должен стать правитель Борис Федорович. Да еще и так говорил Семен Никитич, щуря глаза и вглядываясь в самую душу каждому доверенному:
— Царь Борис ни тебя, гонца, ни сильных, что поддержат его, милостями не обойдет. Довольны будут и внуки, и правнуки послуживших ему и щедрость ту восславят.
Страшно становилось от таких слов. Семен Никитич Бориса Федоровича уже царем величал. Но, сказать надо, робких среди доверенных Борисова дядьки не было. Он об том побеспокоился. Народ был всё — кремушки.
Тогда же Семен Никитич имел разговор с патриархом Иовом. Приехал внезапно на патриаршее подворье и к Иову в палату вступил, словно сквозь стену прошел: каблук не стукнул и дверь не брякнула. Иов оглянулся, а Борисов дядька вот он — стоит и глаза у него строгие. Семен Никитич подошел под патриаршее благословение. Иов руку протянул для целования. Но прежде чем к руке склониться, Борисов дядька на патриарха взглянул в упор, поймал невнятные его зрачки под веками, и пальцы Иова дрогнули.
— Разговор, — сказал Семен Никитич, — есть, разговор.
Склонился, поцеловал руку.
Борисов дядька от патриарха ушел так же скрытно, как и заявился на подворье. Возка его никто не приметил. Следочки, правда, остались у крыльца бокового, что за углом, подальше от людских любопытных взглядов, но и следочки ветер размел. Благо, погода тому способствовала.
Прежде чем уйти, Семен Никитич сказал:
— Святой отец, не то что минута — миг сейчас дорог.
Поклонился.
Иов слабой рукой перекрестил его и опустился у икон на колени.
Тишина повисла над патриаршим подворьем. Недобрая тишина. Тишину тоже послушать надо. Ласковой весенней ночью дохнет на человека мягкой обволакивающей тишью, обвеет неслышным покоем, окружит убаюкивающим дремотным маревом — и сердце, хотя бы и растревоженное, успокоится. Затихнет в нем тревога, и заботы, томившие и волновавшие его, отойдут. Но есть тишина, что бьет человека в темя, как обух топора. Вот такой тишины бояться надо. Тишина над подворьем патриаршим оглушила Иова, вползла в душу знобящим холодом. Хорошего он не ждал. Тяжкий груз взвалил на плечи Иову Борисов дядька. Поднять его — готовиться надобно было долго, ан Семен Никитич время на то не дал.
Молился патриарх, пергаментные губы шептали:
— Я червь земной, господи, и недостоин помощи твоей… — И еще, ибо слаб он был духом: — В большую печаль впал я по преставлении царя Федора Иоанновича. Претерпел всякие озлобления, наветы, укоризны, много слез пролил… Господи, дай мне силы… — Склонялся долу.
Тихие отроки подняли коленопреклоненного патриарха, с бережением посадили в кресло. Он отпустил их. Свесив голову, сидел молча. Желта, слаба лежащая на подлокотнике рука Иова, косточка каждая видна на ней. Что сделать может эта рука? Пушинку лишь удержать малую? Ан нет. Есть в ней сила.
Скромен поп на Руси. Посмотришь, на Ильинке, на торгу, стоят под моросным дождем безместные попы в битых лаптешках, и рясы на них драные, медные кресты на груди с прозеленью. Под ногами навоз хлюпает, мокрые бороденки, синие лица. Рука крестит мимохожих и дрожит, дрожит, так как голоден поп и продрог до пуповой жилы. Задрожишь, чего уж. Взглянешь на иных, что имеют места. Тоже не бог весть как богаты. Конечно, есть и такие, на которых и целые рясы, и серебряные кресты. Но все же православный поп прост. Он на крестьянской свадьбе сыграет на балалайке, а хватив стаканчик, и спляшет. Забалует поп, заворуется — его побьют те же, с кем плясал. Скуфеечку спокойненько снимут, повесят на колышек — скуфеечку с попа сбить на землю великий грех — и вложат попу ума.
Но вот ежели кто со стороны тронет попа, то тут обернется по-иному. Крикнет сирый попишка: «Православные, ратуйте! Веру обижают», — и кинутся мужики со всех сторон — не удержишь. Пойдут ломить, и даже до смерти. «Веру обижают!» Тут уж с русским мужиком не берись за грудки — сломит. Примеров тому было множество. У Иова же голос звучал не на Ильинку, не на Варварку, не на торг, что шумел в переулках между ними, но на всю Русь.
Скоро десять лет, как Иов патриарх. До него Москва не имела патриаршего стола и кланялась Константинополю. Иов первый поднялся на патриаршую кафедру на Руси. А кафедру ту трудно было воздвигнуть. Но вельми нужно!
Росла Русь, раздвигала границы, и единой верой, патриаршим столом надо было связать неохватные просторы. А кому нужна сильная Русь? Швеции, австрийским Габсбургам, Речи Посполитой? Хе-хе. Речь Посполитая вела тайные переговоры, чтобы поставить патриарший стол в подвластном ей Киеве. Турции нужна сильная Русь? Тоже нет. Крымский хан был под рукой у Турции, и пусть, считали в Константинополе, он ежегодными набегами грабит немощную Русь. Так-то спокойнее. Большая игра — патриарший стол в Москве. Ух, большая! В игру ту Иов играл вместе с Борисом Федоровичем. И они ее выиграли. Вот так.
Многомудры мысли склонившегося в кресле патриарха. «Един бог, едина вера, един царь», — было в голове у Иова. Готовился он к встрече с высшими церковными иерархами, крепил силы.
…Мигали огоньки лампад у резного иконостаса, сработанного знатными мастерами из Великого Устюга, попахивало ладаном.
Вошли иерархи в патриаршую палату, и Иов, помедлив, сколько было нужно, начал речь:
— Царь Иван Васильевич женил сына на Ирине Федоровне Годуновой и взял ее, государыню, в палаты царские семи лет, и воспитывалась она в царских палатах до брака.
Говорили об Иове, что его голос звучал аки дивная труба, всех веселя и услаждая. Сейчас голос патриарха был хрипл, незвучен, однако чувствовалась в нем такая убежденность, что все разом насторожились и особая напряженная тишина повисла в палатах.
Иов передохнул и продолжил:
— Борис Федорович также при светлых царских очах был безотступно с несовершеннолетнего возраста и от премудрого царского разума царственным чинам и достоянию привычен. По смерти царевича Ивана Ивановича великий государь Борису Федоровичу говорил: «Божьими судьбами царевича не стало, и я в кручине не чаю долгого живота. Полагаю сына своего, царевича Федора, и богом данную мне дочь, царицу Ирину, на бога, пречистую богородицу, великих чудотворцев и на тебя, Бориса. Ты бы об их здоровии радел и о них промышлял. Какова мне дочь царица Ирина, таков мне и ты, Борис. В нашей милости ты все равно как сын».
Иов замолчал, давая вдуматься каждому в произнесенные слова. Молчание было долгим. Никто, однако, не шелохнулся.
Глаза Иова из-под легких, прозрачных век смотрели внимательно. Не буравил он глазами лица сидящих перед ним и не ласкал, но так взглядывал, будто открывалась перед ним в каждом лице премудрая книга и он ту книгу прочитывал и узнавал из нее даже больше, чем каждый знал о себе.
— На смертном одре, — вновь зазвучал голос патриарха, — царь Иван Васильевич, представляя в свидетельство духовника своего, архимандрита Феодосия, говорил Борису Федоровичу: «Тебе приказываю сына Федора и дочь Ирину, соблюди их от всяких зол». Когда царь Федор Иоаннович принял державу, Борис Федорович, помня приказ царя Ивана Васильевича, государево здоровье хранил как зеницу ока. О царе Федоре и царице Ирине попечение великое имел. Государство их оберегал с великим радением и учинял их царскому имени во всем великую честь и похвалу. Государству же многое расширение.
Иов знал, кому он говорит. Каждый из сидящих перед ним вел за собой многочисленную паству. И было ведомо Иову, что слова его, удесятеренные многажды с амвонов церквей и соборов, дойдут до тысяч и тысяч православных.
Зажгутся свечи в церквах, вспыхнут огнями иконостасы, запоют голоса, и мужик, выслушав слова своего пастыря, почешет в затылке. «Что там, — скажет, — уличные шепоты? Вот что глаголет святой отец. А?»
Какой голос возразить поднимется? Кто посмеет сказать противное? А ежели и скажет, много ли смысла будет в том?
— Борис Федорович, — продолжил Иов, — окрестных прегордых царей послушными сотворил. Победил царя крымского. Под государеву высокую десницу привел города, которые были за шведским королевством. К нему, царскому шурину, цесарь христианский, султан турецкий, шах персидский и короли многих государств послов присылали со многою честью. Все Российское царство он в тишине устроил, как и православное христианство в покое. Бедных вдов и сирот в крепком заступлении держал. Повинным изливал пощаду и неоскудные реки милосердия.
Голос Иова зазвучал, как и говорено было, — аки дивная труба:
— Святая наша вера сияет во вселенной выше всех, как под небом пресветлое солнце, и славно было государево и государынино имя от моря и до моря, от рек и до конца вселенной. Да будет так и впредь.
Иов замолчал. Молчали иерархи. В пальцах неслышно скользили четки. И каждый мысленно озирал начертанный Иовом путь Бориса Федоровича. Все было так, как сказал патриарх.
Иов — знатный ритор — в начертанной им картине не положил всех мазков, но оставил достаточно места, чтобы мысли слушавших, направленные его речью, пошли дальше. Дорисовали то, чего не сказал он, но хотел, чтобы додумал каждый из них, приняв это уже за свое. Великому искусству убеждать научен был патриарх знаменитыми византийскими риторами, греческими старыми монахами и в том гораздо преуспел.
К обедне прозвонили во второй раз, и только тогда патриарх отпустил иерархов.
Вышли святые отцы из патриарших палат, а в Кремле суета, непотребный гвалт. И то на месте, святом для всякого русского человека! Баба неприлично раскорячилась на санях, шпыни шныряют, и рожи у них такие, что не только в Кремль не след пускать, а нужно бы за ворота города выбить да еще и согнать со слобод, И чем дальше, тем лучше. Костры горят, и летит черный пепел.
— Да-а-а, — крякнул один из отцов. Сгреб с бороды наносимый ветром мусор и, опустив голову, полез в подкативший возок. — Да-а-а…
Было о чем подумать иерархам.
Вот что, голуби, — сказал Семен Никитич, положив тяжелые руки на стол, — попрыгали, и хватит. — Отклячил губу, потер ладошки. — Говорить будем по-доброму али сразу угольков разживить?
Семен Никитич сидел за крепким, из добрых досок, столом, глядя в упор на мужиков, стоящих на коленях в углу подвала. В неверном свете лица их едва были видны. Провалы глаз, торчащие вихры да взлохмаченные бороденки. Руки были завернуты за спины.
Мужиков еще не били, а как привезли, так и бросили в подвал. Но, и небитые, они понимали — зацепили их намертво. Подвал глухой, старого красного кирпича, здесь жилы из человека тяни, кожу дери — никто не услышит, не прибежит на крик, не всплеснет руками и не бросится с кулаками за тебя. Помирают в таких подвалах без причастия, глухо. Может, позже на Москве-реке или в Яузе объявится безвестный труп, его оттолкнут шестом: «Плыви, милый, дальше». А ежели совестливый человек сыщет труп, стащит безвестное тело на Земской двор, божедомы приберут его, и будет лежать оно до Троицы, когда добрые жертвователи, одев непогребенных на медные гроши в белые рубахи, отпоют и зароют ради Христа.
Мужики головы опустили, и только один, постарше, видать, погрузней и в плечах матерее, осторожным глазом искоса оглядывал подвал. Примеривался невесть к чему.
Семен Никитич даже фыркнул, как кот: «Примеривайся, примеривайся… Отсюда не выпрыгнешь, соколик».
В подвале пахло кислым, и, надо думать, не капустой. Настораживающий запашок, нехорошо становилось от него под сердцем. Как кровь пахнет, знал на Москве всякий.
Сидевший с краю стола высокий чернявый человек с цыганской бородой, взявший этих троих на Варварке, сказал:
— Имена, имена пущай назовут.
Драный армячишко он снял, и под ним оказался хорошего сукнеца кафтан с расшитым воротником и узкими, тоже понизу расшитыми рукавами. Сидел чернявый ровно, и было видно: и подвал, и мужики в углу на коленях, и два плечистых молодца, приткнувшихся в стороне на скамеечке, дело для него привычное. Не раз так-то сиживал и людей спрашивал.
— Ну, — сказал он, не боясь забежать наперед Семена Никитича, — ты вот, — кольнул он взглядом старшего из мужиков, — как прозываешься и откуда появился на Москве?
Мужик забормотал в бороду невнятное, заерзал на коленях.
Чернявый, словно подброшенный, поднялся и шагнул к нему. Три шага всего-то и сделал, но видно стало, что гибок он, подвижен, играет в нем каждый мускул и такой ухорез выбьет слова и из мертвого. На мужика в углу пахнуло от чернявого такой разящей силой, что он подался к стене. Уперся затылком в холодные кирпичи.
Чернявый навис над ним:
— Говори, что бороду жуешь?
— Постой, Лаврентий, — остановил его Семен Никитич, — порознь с них надо допрос снять. Заврутся.
— Ничего, — возразил Лаврентий, — не соловьи — и на одном кусту споют.
— Порознь, я говорю, — повторил Семен Никитич, и тут же молодцы поднялись со скамеечки.
Тоже проворные были людишки. Быстренько так подцепили под локотки двоих мужиков и таской выбросили из подвала в малую дверцу, пробитую в стене.
— Ну вот и славно, — сказал Семен Никитич, когда оставшегося в подвале старшего мужика подтащили поближе к столу, — имя, имя свое назови, сокол.
Тот поморгал на свечу, повел плечами, словно зазнобило его, и вдруг отчетливо ответил:
— Иван.
Семен Никитич лицо огладил пятерней, прищурил глаза.
Мужик угнул голову, и тут же Лаврентий, качнувшись вперед, коротко ударил его ребром ладони ниже шеи. По хребту. Выдохнул с хрипом, как мясник, разрубивший мясо на колоде:
— Хе!
Мужика выгнуло дугой. Но Лаврентий не дал ему упасть, а подхватил за ворот армяка и ударил во второй раз. По груди, под сердце.
— Хе!
Мужик вытянулся струной и закостенел. По исказившемуся лицу видно было, что пронзила его жгучая боль, сильнее которой и нет, наверное.
Молодцы на скамеечке одобрительно посматривали на Лаврентия: вот, мол, человек, знает свое. Этому и пыточная справа не нужна. Он и так своего добьется.
У Семена Никитича не дрогнула бровь. Он протянул руку и пальцами снял нагар со свечи, чтобы видеть лучше. Вытер пальцы о порты.
— Так что ты за человек, — повторил постно, — говори. От нас никто молча не уходил.
Мужик, перемогая боль, страдал лицом.
— Смел ты, вижу, смел, — протянул Семен Никитич, — людей не боишься, себя не жалеешь, а зря.
Лаврентий вновь подступил к мужику. Подходил со стороны, приглядывался, как лучше взяться. Мужик косил на него глазом, и борода задиралась у него кверху. Ждал, сжавшись: «Сейчас ударит». Живое в нем кричало: «Не надо!» Но он не открыл рта.
Свеча высветила лицо подручного Семена Никитича. Тонкой кости лицо, чиста и смугла кожа, короткий прямой нос, и губы как рисованные мастерской кистью. Красавец. Глаза черные, жгучие, но огонь нехороший полыхал в них, заставлял отворачиваться от красивого лица, рождая тревогу. От такого удальца, увидев рядом в толпе, люди жмутся в сторону. Неуютно рядом-то. Он весел — улыбка растягивает губы, — а тебя оторопь ледяными пальцами трогает за душу. Что человек — конь окажется по соседству с таким молодцом и прижимает уши.
— Не зашиби, Лаврентий, — предупредил Семен Никитич, — правду еще надо узнать. — И засмеялся дробненько. — Правду. — И тут губы у него сломались зло. — Бей! — Торопился начать разговор.
Каблуки застучали по старому кирпичу. Кирпич-то в прежние годы обжигали хорошо. Звонкий был кирпич.
Лаврентий словно плясал над мужиком, руки взбрасывались. Свет свечи мотался, и моталась на стене тень, ну точно пляска. Вишь радостный пошел вприсядку, а вот руки закинул за голову, коленце выбросил быстрой ножкой, загулял по кругу. Только не бренькала балалайка и не звучал веселый голос: стонал человек, мычал от лютой боли, захлебывался кровью. Вот так-то и пляшут русскую в черных подвалах — под стон, под хруст костей, под крик, раздирающий рот. Но Семен Никитич не слушал голосов. Он на стену смотрел, на беспечальную тень, а тень, ведомо, не кричит. Лицо у Семена Никитича было скучное, уголки губ опущены. Словно он сидел на завалинке в тихий, предвечерний час: ни забот тебе, ни печалей — гляди, как ласточки режут воздух, как комарики веселятся в солнечных лучах.
Но как ни лих был Лаврентий, как ни ловок, а ничего не выплясал.
Мужик голову откинул, и лицо у него посерело, глаза закрылись. Его облили водой, но он только замычал и опять откинулся, как неживой. Крепким оказался на боль человек.
Молодец, притащивший в ведре воду, вопросительно взглянул на Лаврентия. Тот стоял неподвижно. В тишине было слышно, как бьются, вызванивают о края ведра льдинки. Лаврентий наклонился над мужиком, потыкал пальцем в мокрый армяк.
— Что, — спросил Семен Никитич и приподнялся беспокойно, — уходили?
Лаврентий повернул к нему лицо, зубы сверкнули белой подковкой.
— Живой, — ответил, — завтра вдругорядь поговорим. — Выпрямился, чуть не уперевшись головой в низкий заплесневевший свод.
Молодцы за ноги выволокли мужика из подвала. Борода мела по полу.
Но все же Семен Никитич добился своего. Лаврентий постарался. Он уж дружков Ивана тряхнул во всю силу, да и те не кремушки оказались. А правда вышла такая: люди то романовские, в Москву привезены из боярских вотчин и слуги Федора Никитича научили их ходить по улицам, рассказывать народу о том, что-де Борис царя опоил отравным зельем. За то обещана была мужикам одежа добрая и каждому по рублю.
Рубль — деньги, конечно, немалые, но вот каким боком он бедолагам вышел. Не позавидуешь. Но все же неладно у Семена Никитича дело с дознанием под конец случилось.
Романовских мужиков заперли в подклеть. И замок был хорош, но недосмотрел Лаврентий. Решетка старая стояла в окошке. Расшаталась, подгнила, и мужики ушли.
Глянули поутру люди Семена Никитича, а птицы улетели. Следки по снегу уходили через огороды, к Яузе.
Старший из молодцов, что навешивал замок, как увидел, что подклеть пуста, — затрясся. Бросился вперед, разбросал руками гнилую солому, словно мужики иголка и спрятались под соломой. Метнулся к окошку и тут только увидел, что решетка сломана. Застонал сквозь зубы:
— У-у-у…
Испугался. Ах, как испугался.
Сказали Лаврентию. Он сгоряча чуть не зашиб молодцов. Кинулся на огород. Точно, следочки. Кликнули собак. Собаки были учены. Пустили по следу. Свора пошла хорошо, но до Яузы только следы и довели. А дальше собаки стали. Хоть мороз и лютый был в тот год, но в том месте на реке били ключи и вода нет-нет да и прорывала лед, шла поверху. Мужики-то, видно, были не без головы. Ушли по воде.
Лаврентий остановился на берегу.
Яуза парила, серые клубы стлались над водой. В татарнике, поднявшемся вдоль реки, шелестел ветер да попискивали щеглы. Лаврентий постоял, поскреб в затылке, плюнул и, повернувшись, тяжело проваливаясь в снег, пошел назад.
Семену Никитичу донесли: мужики-де позамерзали ночью в подклети. Одежонка-то мокра-де была на них — водой сколько раз охаживали, — вот они и заледенели в беспамятстве. Тот рукой махнул: кому нужны чужие мужики. Все же буркнул:
— Внесите в поминальные списки.
Сунул руку в карман, достал горсть монет, выбрал самую маленькую и бросил подхватившему ее молодцу. Сказал:
— Дьячку отдай, пусть помянет.
Совестливый для бога был человек.
На том забыли о романовских мужиках. И неведомо было, что пройдут годы и вспомнить об Иване, битом здесь в подвале, случится. Но будущее от людей закрыто. Через годы!.. Что завтра станется — и то неведомо никому.
Как Лаврентий травил собаками, углядел с противоположного берега Яузы стрелец Арсений Дятел. Случайно углядел. Но да на случай всегда есть причина. То так сказано только — случай.
Вышел Арсений из теплой избы по нужде. От избяной парной духоты на морозце легко дышалось, бодряще обвевал лицо хороший утренний ветерок, лез под кафтан. Над самой головой, в тонких березовых ветках, пронзительно тренькали длиннохвостые синицы. Четко, звонко, весело. И вдруг синицы тревожно вскинулись, метнулись за избу. Арсений услышал: лают собаки, и не по-пустому, а идут по следу. Поднял голову, выглянул из-за кустика: что там-де и как? Не в поле же, в слободе, кто это удумал травить собаками? Увидел: по ночной пороше, по белому снегу, повизгивая и скуля, свалилась к Яузе свора, суматошно закрутилась у темневшей воды.
Выбежали мужики. Погнали собак арапниками, но куда там, ежели свора потеряла след: гони не гони — не будет толку. Напрасно мужики махали арапниками. Свора сбилась в кучу.
Тут с откоса сбежал один, в высокой шапке, и Арсений увидел — нехороший разговор вышел у мужиков. Тот, в шапке — видать, хозяин, — псарей начал хватать за грудки, но и из этого не вышло ничего. Собаки скулили у кромки воды, но в Яузу не шли. Мужики постояли, ругаясь, да и полезли на берег. Ветром донесло:
— Мать… Перемать…
Арсений не торопясь выступил из-за кустов и, постояв, ради любопытства спустился к реке.
Текучая вода булькала в промоинах, дышала в лицо холодным паром. Арсений пошарил глазами по берегу и, к удивлению, углядел следы. Шагнул поближе. По следам было видно — шли двое, третьего, видать, тащили под руки, он ступал неверно. Шаг, два — и валился набок. Вон на снегу явственная вмятина, и еще дальше вмятина. Не держался человек на ногах. Арсений наклонился над следами. На снегу алым бросилось в глаза кровавое пятно.
— Кхе, — крякнул Дятел.
Дело-то было, видать, серьезное. Не в снежки играли мужики. Арсений наморщил лоб. «Бежали, знать, — подумал, — от тех, с собаками».
Арсений пальцами потрогал след. Края были подстылы. «Ночью бежали, — решил, — а те, с собаками, хватились утром». И еще раз по глазам ударило алое пятно. «Добре укатали человека, — решил, — кровь-то живая». По цвету знал, какая она, кровушка. По сопатке ли дали, что брызнула красная юшка, или же серьезно зашибли. Кровь на снегу говорила: здесь не обошлось без раны.
Поднялся Арсений от следа, поглядел, куда ушли мужики. Беглецы через огород махнули к тыну да и перевалили на дорогу. Следы стежкой лежали поперек грядок.
— Так, так, — вслух сказал Арсений, потоптался на месте, оглядываясь, пошел к дому.
Арсений Дятел в молодые годы выглядел в Таганской слободе девку. Стрельцы все больше женились на своих девках, стрелецких. Говаривали так: стрелецкая девка привычна к служилому делу. Стрельца царь в поход ли пошлет, на рубежи ли дальние охраны для — она будет ждать. А девка со стороны, глядишь, как стрелец за ворота, зазовет молодца с улицы. Бабья кровь горячая, да еще и балованные были на посадах девки. А по Москве вон сколько гуляет молодцов, и ничего: без жен, а обходятся. У таких скоромная-то ночка бывает редко, а так все с грехом.
Но Арсений на разговоры махнул рукой. Девка уж больно была сладка. Оно конечно, каждая девка в одну из весен вдруг так расцветет, что поцелуй ее в щеку, а она отдает медом, но его Дарья, казалось, всех перешибла. Коса до колен, щеки — яблоки, глаза… Шалые были у нее глаза в ту памятную весну. Арсений по улице шел, а Дарья в березовом веночке стояла у забора. Сарафан в цветочках, тоненькая, как стебелек, шейка, рот чуть приоткрыт, руки закинуты за голову. И глаза, глаза — во все лицо…
Стрелец глянул, и словно под колени его подрубили — споткнулся. В поход пошел по весне, а все помнил те глаза. И даже листики березовые, что были в веночке у девки на голове, во сне трепетали перед ним. Засватали красавицу и окрутили молодца. Так на Таганке у стрельца оказалась родня. Жену свез он в свою слободку, а тесть засел корешком на Таганке. Тесть был мастеровым — ковал таганы. Всем ведомо: на Таганке таганы не сыщешь лучше. В огне не горят, служат век. Оно конечно, и в других местах не плохи таганы, но не те. Здесь мастера знали секрет. К тестю-то и наезжал Арсений. Изба с кузней на отлете у родни. Тишь. Огороды идут до Яузы. Благодать. В тени полежать в жару, под березкой, кисленького кваску попить. Все служба, маета, а тут, у тещи, сварганят ушицу из свежей рыбки — и посиживай себе на воле, у костерка. Да и поговорить ежели с кем надо — здесь от людей далеконько. Ни один глаз не приметит. А поговорить в тот раз Арсению было нужно. И поговорить тайно. Поморщился он на следы с кровью: не ко времени были беглецы, хоть и неведомо чьи, и собаки не ко времени.
Стрелец перелез через заметенную снегом кучу навоза, вышел с огорода. Долго-долго плетенную из ивы петельку накидывал на калиточку. Глазами по двору шарил, и рука никак не могла нащупать колышек.
Во дворе, сбившись в гурт, толклись овцы. Ступали точеными раковинками копыт по хрусткому снегу. Из хлева глянула на стрельца пестрая комолая корова. Выставила влажный кожаный нос — протяжно, ласково замычала. Нанесло запахом навоза, парного молока. Тесть жил домовито. Таганы кормили неплохо, но от крестьянского обычая он не отказывался, держал и скотину, и птицу. Вон через двор, к Яузе, потянулись гуси. Толстые, важные, шли переваливаясь, как купчихи к обедне. Гусак повернул к стрельцу змеиную голову, строго загоготал: ты, мол, дядя, идешь, так топай стороной. У стрельца смягчились губы, но вспомнились кровавые следочки в огороде, и Арсений улыбку согнал с лица. Однако, войдя в избу, стрелец слова не сказал ни о беглецах, ни о собаках. Не хотел тревожить.
За столом в избе сидело с десяток мужиков. Стрельцы в служилых кафтанах. Один только хозяин выделялся домашним овчинным душегреем и по-мастеровому повязанными сыромятным ремешком волосами.
Арсений молча обметал голиком валенки у порога. Ширк, ширк — посвистывали прутики.
К вошедшему оборотился сидевший крайним на лавке стрелец с серьгой в ухе:
— Где прохлаждаешься? Заждались.
За столом засмеялись:
— Не на конях скачем, аль горит ретивое?
Кто-то хлопнул стрельца с серьгой по спине:
— Пора придет, и водочка подойдет!
Тесть, Степан Данилыч, сопнув, вытащил из-под лавки непочатую четверть. С глухим стуком брякнул на стол.
Стрельцы оживились, задвигались.
Арсений выпил забористую — аж дух перехватывало — водку, окунул пальцы в миску с капустой. Ухватил щепоть, сунул в рот, жевал с хрустом. Капуста была хороша, с ледком. Веселила рот. Но стрелец морщился: алые следы на снегу не шли из головы.
Разговор за столом шел серьезный. Сидели давно, языки развязались.
— Брешут, брешут, — сипел простуженным горлом кривой стрелец с седой головой, — дело давай, а языком трепать ничего не стоит.
По всему видно — этот бывал в переделках. Но и его, знать, допекло, говорил с сердцем. Шрам над глазом багровел, наливался темным. Потные волосы мотались по низкому лбу.
Арсений, сжав в пальцах оловянный стаканчик, вертел его, нетерпеливо постукивал донышком о крышку стола, но в разговор не встревал. Ждал своего. Оглядывал лица сидящих за столом. Все это были его дружки, и беды были у них едины, и думы. Стрельцы знали много. Их, ежели где что случалось, первыми посылали. Воровство ли обнаруживалось, измена — кто шел послужить царю? Стрелец. От стрельцов не была скрыта на Москве ни одна тайна. Да ежели тайну упрятать и под семь печатей — дознаются стрельцы. Такой уж был то дотошный народ.
— У нас на слободе, — сказал молодой стрелец Игнашка Дубок, — говорят, царица Ирина сотников и пятидесятников в монастырь собирала, и хоть слаба — неведомо, в чем душа держится, — а говорила твердо: идите, мол, за Борисом, он вам радетель…
— Вот то-то и оно, — перебили его, — что слаба.
— Слаба, — засипел кривой стрелец, — оправится… Мужа, знамо, похоронила. Душа православная скорбит.
Голоса становились все сильнее:
— Истинно Борис Федорович заступник.
— Мстиславский — боров. Большой воевода, а на коне сидит, как собака на заборе.
— Загребущий боярин. Из каждого похода за ним обоз в сотню телег тянут. Да он еще нос сует и туда и сюда. То-де не так и это не эдак. Ко мне как-то раз сунулся, что, мол, рогожами воз покрыт плохо. Ощерился, и людишки его так меня бердышом в бок ткнули — неделю отлеживался.
Говоривший захлопал рыжими ресницами. Погладил битый бок.
— Истинно, — сказал, — во́роги.
— У нас, — встрял в разговор Степан Данилыч, — мастеровой люд, как один, шумят: надо кричать Бориса.
К нему повернули головы.
— Вот видишь, — зашустрил глазами Дубок, — и тут на Бориса глядят.
Четверть вновь пошла по кругу. Забулькало в стаканчиках.
Степан Данилыч подсыпал в миски грибочков, выставил бараний бок. И все подваливал, подваливал капустку. Любил Арсения и товарищей его угощал хорошо, от души.
Но гости ели вяло. Так, щипнет чуть тот или другой под водочку — и все. Не было веселья. Лица нахмурены, губы сжаты. Собрались-то не для выпивки. Великие творились на Москве дела — было о чем подумать.
— Борис-то Борис, — сказал вдруг старый стрелец, сидевший рядом с Арсением, — да вот царевича убиенного, Дмитрия, помните ли?
Лицо у старого стрельца серое, дубленое, вяленое. Арсений крепко хлопнул стаканчиком по столу:
— А черт его знает, убиенный ли он или сам на нож приткнулся! Кто там был? Ты, дядя?
Стрелец поворотил спокойно лицо к Арсению, посмотрел блеклыми глазами:
— Нет, не был. Люди сказывали, что убиенный, а ежели это так, то от Бориса — убивца младенца царственного — ждать нам, ребята, добра нечего! — Сказал и словно в темя каждому вколотил гвоздь.
Компания разом взорвалась голосами:
— Дмитрий-царевич — дело темное!
— То Нагих сказка. Тоже наверх рвались!
— Э-э-э! Постой, постой! — кричал кто-то. — Здесь, ребята, торопиться нельзя!
— А хрен ли в нем, в царевиче, — поднял вдруг голос стрелец с серьгой в ухе. — Я был в Угличе. Видел его забавы.
За столом насторожились.
— Мальчонка малый, Дмитрий-то, а волчок. Игрища-то, знаете, какие у него были?
Стрельцы, слушая, вытянули шеи.
— То-то! Налепят слуги царевичу с десяток снежных баб, а он каждой имя дает. Это-де Борис, то Шуйский Василий, а то Щелкаловы — Андрей ли, Василий ли. Похаживает важно вдоль ряда и головы бабам сечет. И так-то зло, кривится весь, и сабелька у него свистит. Я как посмотрел, и муторно мне стало. Подумал: придет такой на царство — и полетят головы. Кланялся царевичу — плечико он мне дал облобызать, — а у самого волосы на загривке дыбом стояли, — стрелец перекрестился, — вот ей-ей, испужался до смерти.
За столом помолчали. Потом неуверенный голос произнес:
— Да что там, дитя… Баловал…
Но это «баловал» повисло в тишине. Уж больно было страшно баловство.
Арсений потер лоб, провел ладонью по волосам. Сказал тихо:
— Царевича убить — не барана свалить. Да и подумайте: какой резон был на такое дело решаться? — Арсений глаза сощурил, сдавил стаканчик в кулаке так, что тот хрустнул. — Дмитрий, — сказал, — седьмой жены сын и на трон — о том ведомо — права не имел. — Повернулся всем телом к старому стрельцу: — И ты о том, дядя, знаешь. — Оглядел всех за столом. — Так зачем было убивать царевича? Кровью пятнать себя? Нет, здесь не то…
За столом загалдели:
— Нагих, Нагих дело! Они кашу варили.
— Обнос Бориса Федоровича…
— Охул!
Тут в разговор встрял стрелец с серьгой в ухе:
— Вот что, ребята, я вам скажу. Стояли мы как-то на карауле у храма Василия Блаженного. Ночь. Мороз страшенный. И вдруг видим — шасть к нам из Кремля человек, и в руках у него белое, клубком. Подошли и ахнули: правитель с младенцем. Борис на колени в храме упал и уж так молил, так молил господа о даровании жизни младенцу, что нас слеза — вот те крест! — прошибла. В то время у Бориса Федоровича первенец его болел, вот он и ходил к святым иконам жизнь для него вымолить. Многажды тогда я видел его — и днем, и в ночь. Он и святой водой младенца своего поил. — Стрелец крутнул головой и добавил: — Видел я, как он дитя к груди прижимал. Лик его зрел в ту минуту — вот так, как твой, — стрелец показал на сидящего напротив Дубка, — и вот что скажу: тот, кто так сердцем скорбел за свое дитя, и чужое не обидит. Нет, не обидит… Слепцом надо быть вовсе, чтобы такое не увидеть. Слепцом.
Помолчали.
— А еще и о другом подумайте, — сказал Арсений, — почему Нагие царских людей в Угличе побили, когда зарезался царевич? Дьяка Битяговского и других с ним? Дьяка-то помните? Мужик был справный. На вора не похож. На убийство не пошел бы. Не верю. Так его Нагие тюк по башке. А зачем? Аль не ясно? Всех побить и концы в воду — такого разве на Москве не было? Старая это наметка.
Стрельцы жарко дышали. С окон из скобленого пузыря потекло слезами морозное узорочье.
— А пожары на Москве о ту пору кто устроил? — выскочил Игнашка Дубок. — Левка-банщик с товарищами. Мы их имали. Я сам слышал, как винились зажигальщики, что научены Афанасием Нагим. Смуту Нагие хотели поднять, чтобы бедой всенародной покрыть грехи.
Арсений переждал, пока выкричится Игнашка, и сказал, как припечатал:
— Дознание в Угличе по распоряжению Думы вел боярин Василий Шуйский. А он ведомо, какой друг Борису Федоровичу.
— Да уж, дружки… Сережку боярин Василий для Бориса из ушка вытянет…
Стрельцы засмеялись.
— Вот то-то я и говорю, — продолжил Арсений, когда стрельцы успокоились. — Ежели бы Борисов коготок в Угличе был — боярин Шуйский правителя с головой втянул бы и утопил беспременно.
— Это верно, — согласился старый стрелец с серым лицом и потянулся за четвертью. — Утопил бы, — повторил, — с дорогой душой.
— А Василий показал, что царевич сам на нож налетел в падучей, — сказал Арсений.
Ему подвинули стакан.
— Ладно, — примирительно начал стрелец с серьгой в ухе, — говори, что надумал. Лаяться нам ни к чему.
— Патриарх, — продолжил Арсений, — народ к Новодевичьему зовет просить Бориса на царство. Думаю, это нам по сердцу должно быть. Служивый люд Борис всегда отмечал. Не было случая, чтобы стрельцам в его правление с жалованьем задержка выходила или в чем другом притеснение.
— А что, пойдем, — заторопился Игнашка, по молодости не давая себе труда задуматься, — пойдем, небось нас не остановят.
Стрельцы постарше склонились над стаканами. Хоть и бодрила водка, а ведомо было — не о сладких бубликах пошла речь. Задумаешься.
— А как романовские людишки, Шуйских молодцы посмотрят? — спросил один. — На Москве сейчас людно. Бояре натащили народу.
— Вот их-то и унять надо, ежели кто мешать будет народу к Новодевичьему идти, — ответил Арсений.
— Придержать малость, — хохотнул Игнашка, вновь по молодости выскакивая наперед.
— А народ точно пойдет, — сказал Степан Данилыч и непочатую четверть выставил на стол. — Давай, ребята, — заторопил, — разливай.
…Стрельцы сомневались не напрасно. На Москве последние дни случалось немало странного.
Мороз, к счастью, отпустил, и вновь на торжищах затоптался многочисленный люд. А знамо, где тесно от народа, там и разговоры. В Москве же об одном говорили: кто сядет на царство? Об этом и на торжищах шла речь. Шатался народ. Всяк кричал свое. Но приметили: как шумнет какой мужик, Борису-де Федоровичу быть на царстве, того мужика бьют неведомые люди. И бьют без жалости. Так-то в толпе прищучат и молча пойдут работать кулаками. Да еще хорошо, ежели кулаками, а то и нож шел в ход. Распадется толпа, а на снегу лежит человек, хватает ртом воздух. Под ним красная лужа. Готов, отпрыгал свое.
Письма подметные обнаруживались в лавках и в рядах. Письма пугающие.
А то и так было на Пожаре. Собрался народ, закричали: «Хотим Бориса Федоровича!» Из проулка вылетели сани и погнали на толпу. В санях люди в сушеных овечьих личинах, и кто такие — не разобрать. Многих подавили, побили чеканами. За санями бросились мужики, но лошади унесли неведомых забавников.
Однако стрельцов на Москве никто не трогал — видать, боялись злить. Однажды в сумерках стрельцы остановили саночки с молодцами у одной из застав, а те им и скажи:
— Мы вас не трогаем, стрельцы, и вы нас не троньте. А то как бы худа не было.
Стрельцы зашумели. Кто-то поднял бердыш. Но молодцы отъехали. Издали крикнули:
— Знайте, за кого голос поднимать, а то как бы не пожалеть!
И другое крикнули:
— Петух огненный по слободкам полыхнет, погреетесь! — и засвистели по-разбойничьи.
Стрельцы заробели. А оно заробеешь. По такой лютой зиме, с ветрами, с морозом, пустить петуха — Москве придется жарко.
И все больше и больше стаскивали на двор к Земскому приказу то там, то тут найденные мертвые тела.
Дьяк глянет, скажет:
— Опоек.
А какой опоек? У опойка лицо должно быть синим, а тут синевы нет и в помине. Видно, пришибли человека. Народ разбирался, что к чему.
Эх, время, время лихое…
В переулочках, меж изб, зарывшихся в снег, гулял ветерок, мел белую порошу. «Надую, надую, — кричал, — веселье!» Только и скажешь на то: бе-е-да, бе-е-да… А жить-то хотелось каждому.
За столом у Арсения кое-кто опустил голову. Задумался. Но как ни думай, а получалось все то ж: надо кричать на царство Бориса. Знали: у бояр не будет ладу, а в смуте упадет Москва.
Правитель меж тем не уходил из Новодевичьего. Как сел в монашескую келию, так и сидел сиднем.
Мрачный стоял монастырь: заснеженные стены, воронье на крестах, у ворот ни души. Тяжелыми шапками набивался снег меж смотровых зубцов, нависал грозно. Того и гляди, ахнет вниз, пришибет путника, поспешавшего на обмерзшей лошаденке к переезду через Москву-реку.
Спешит, спешит путник, но бросит вожжи, выдернет руку из теплой овчинной варежки, торопливо перекрестится на высокие кресты, и дальше. А то задержит взгляд на темных монастырских оконцах, забранных решетками. Решетки крепки, толщиной в руку, и мысль войдет в путника: «Нелегко, наверное, на мир смотреть день за днем через такое кружево».
Но правитель свои кремлевские палаты забросил вовсе. Указы писались от имени царицы-инокини. Землей же русской правил патриарх. Однако знал Иов, что долго так быть не может. На Руси уже пошли неустройства, неповиновения и беспорядки. В Смоленске, Пскове, в иных городах воеводы не слушались ни друг друга, ни боярской Думы. Злобствовали, местничались, обижали народ. Да и в самой столице стало сумно. Торжища позападали — подвоз был плох. По лесам шалили тати, и боязно было с обозами ходить. Купцы сомневались. А московский люд исходил силой в разговорах и спорах. Каждый тянул в свою сторону. Но все больше и больше становилось таких, что поговаривали:
— А не взять ли по колу в руки да не шибануть ли по сваре боярской? Аль в людях людей нет?
И тут черной, зловещей птицей пролетела над Москвой весть: крымский хан вышел в степи из-за Перекопа. Слово то принесли казаки. Прискакали станицей, и, как только копыта низкорослых ногайских коней простучали по бревенчатым московским мостовым, всюду заговорили: «Хан будет под Москвой, а мы без царя и защитника». И поползли страшные, пугающие разговоры: и там-де так, и здесь-де эдак, ну а нам-то что делать, сирым? И уже многим мерещилось, как волной катятся по степи татарские орды, гудит земля под копытами коней. Оторопь брала от одной мысли о таком. Разумный какой-то сказал:
— Да какая орда? Вовсе очумели… Коней-то чем кормить в снежной степи? В тороках сенцо не запасешь на дорогу от Крыма до Москвы.
Но уже закипели толпы на Пожаре, на Ильинке, на Варварке, закричали бабы. Заволновались мужики. И все чаще и тут и там можно было услышать: «А как же без царя? Кто оборонит?.. Мир без головы что сноп без перевязи». И так еще заговорили: «Вот в стынь лютую зверье на Москву навалилось, и тогда ведомо было, что надо беды ждать. Не поверили знающим, и вот что из того вышло. Чего хуже — крымцы у ворот. Подтвердились знаки». Нищие, убогие поползли по улицам, пугая страшными ранами, язвами, бельмами. Зашелестели обметанные коростой губы: «Царя, царя, царя зовите!» На то Семен Никитич тихо улыбался. Трудно было с точностью сказать, но полагали догадливые, что это его воинство Москву тревожит. Убогих он подкармливал. Из сострадания, конечно. Из жалости, угодной богу. Суетные мысли шли мимо него. Богу, только богу служил щедрыми даяниями. И часто его видели по церквам и тут и там. Лицо скорбное, глаза опущены долу. Молился усердно. А нищие ползли по улицам, и голоса их были все слышней:
— Царя, царя зовите! Пропадете, пропадете…
Из Боровицких ворот на Чертольскую улицу вылилось людское море. Дорога известная: от Кремля к «Пречистой», хранимой в Новодевичьем монастыре.
Шли мимо Колымажного конюшенного царского двора в решетчатые ворота, которыми на ночь улицу запирали от лихих людей, к старому Алексеевскому женскому монастырю, что на Чертольском урочище тянул к небу облезлые главы церквей. Монастырь стоял в небрежении.
Впереди выступал Иов в зеленой бархатной мантии, с полосами, унизанными крупным жемчугом. Клобук патриарший, с алмазным крестом поверху, был виден издалека. Иов ступал медленно, но ногу ставил уверенно, и лицо его — бледное, неподвижное — было твердо. Рука, сжимавшая обсыпанный дорогими камнями крест, как костяная. Не разжать. Глаза смотрели вперед, словно видя то, что недоступно другим.
За патриархом яркие мантии, рясы, поднятые высоко кресты, хоругви, иконы. А дальше московский народ пестрым, бурливым потоком — ферязи[6], охабни[7], мурмолки[8] или вовсе бедные грешневики[9].
По улице разные дворы: родовитого окольничего Ртищева, боярина князя Прозоровского, боярыни Шереметевой, дворян Юшковых, Бутурлиных. И поплоше, победнее — дьяков, подьячих, стрельцов.
На улицу дома выставлялись в лапу рублеными углами, а то и стенами тесаного белого камня. Камень крепок, красив, на века сложен. На крышах — тугобокие бочки, затейливые полубочки, ершистые гребешки, маковки. Ставни резные. Дома, как пасхальные яички, расписаны красками, и охрой, и зеленью, и васильковых цветов полосами. Москвичи любили лепоту. За домами поварни, валяльни, хлева, шерстомойни. И отовсюду набегал народ. Всколыхнуло людишек. Выглядывали из оконцев. И всяк смотрел по-своему.
Вон баба выставилась. Грудь высока, припухлый рот. Знать, ночка была весела, с водочкой сладкой, с калеными орешками, с милым дружком. И в голове у бабы все звучит, звучит ночная песня, и хоть крестится она, глядя на народ, а ей все едино, кто идет, зачем, — она, как птаха, смотрит, только бы мелькало пестрое перед глазами.
Другая выглянула, с черным ликом, глаза, как на иконе, плачут. Горя, поди, видела. Пальцы прижимает ко лбу. Эта об одном молит — о тишине. Кутает узкие плечи в черный платок, зябко ей, боязно. Баба прячется за притолоку: «Спаси, Христос, спаси и помилуй! Дай людям покой…»
А тут мужик высунулся, рожа поперек шире, глаза — ножи. Этот знает, куда и зачем идет патриарх, и ежели бы мог — убил взглядом. Этому чем больше на Москве разору, тем сподручнее.
Там мальчонка припал к оконцу. Глазенки горят. Для него все внове. У него и мысли нет, что от того, куда притечет этот людской разлив да с чем вернется, может вся жизнь его переломаться, перевертеться, перекрутиться.
Но все же главными были не те, что смотрели из окон. Из окон смотреть всегда легче. Поглядывай знай: моли, любопытствуй ли — ты в стороне.
Иов шел, втыкая зло в ледяной наст острие патриаршего посоха, — как бы утверждал, что непременно дойдет до видимой им вершины, вопреки и наперекор стоящим на пути. И так же упрямо, хотя и оступаясь на неверной, обледенелой дороге, шли за ним ведомые своим пастырем святые отцы. Шел московский люд: многих фамилий бояре, дворяне, купцы, мастеровые, стрельцы, вольные горожане, дьяки и подьячие многочисленных приказов. Оскальзывались, спотыкались на неровностях дороги, но шли.
За каждым из них стояло свое, толкнувшее на этот путь, но все то свое — большое или малое, — взятое вместе, было тем огромным, великим, необоримым, что выражало суть, необходимость движения вперед уже не отдельно взятых людей, но утверждающего себя народа. Немногие из них и думали, что движение это родилось не сейчас, на московской улице, а корнями уходит в древнюю историю. И что те же самые силы вели русских людей в сечи, против зоривших их земли ворогов, поднимали испепеленные города и деревни, вновь и вновь выводили в поле мужика с тем, чтобы он бросил в борозду животворные хлебные зерна. Москва могла пасть в междуцарственной лихоте, но этого-то люд московский допустить не мог.
Но Борис на просьбу принять царство ответил отказом. Стоя перед патриархом и церковными иерархами в монастырской келий, правитель сказал:
— Мне никогда и на ум не приходило о царстве. Как мне помыслить на такую высоту, на престол великого государя? Теперь бы нам промышлять о том, как устроить праведную, беспорочную душу пресветлого государя моего, царя Федора Иоанновича. О государстве же и о всяких земских делах промышлять тебе, отцу, святейшему Иову, патриарху, и с тобой боярам. — Борис поклонился до полу и, выпрямившись, добавил: — А ежели моя работа где пригодится, то я за святые божьи церкви, за одну пядь Московского государства, за все православное христианство и за грудных младенцев рад кровь свою пролить и голову положить.
Откачнулся, и глаза у него сделались точно невидящие.
Был правитель в черном, лицом темен. Заметили: правую руку он прижимал к боку, будто что-то томило, беспокоило его.
Обратились к Ирине с просьбой благословить брата на царство.
— Он же правил, — сказал Иов, — и все содержал милосердным премудрым своим правительством по вашему царскому приказу.
На витую решетку, прикрывавшую узенькое оконце царицыной келий, села птица, раскинула крылья, ударила о стылый металл. Решетка жалобно зазвенела. И еще раз ударила крыльями птица, осыпая снег. Царица-инокиня испуганно глянула в оконце, закрыла лицо рукой и ничего не ответила. Пальцы Ирины, прижатые к лицу, вздрагивали.
Борис лукавил.
Накануне, за полночь, когда давным-давно монастырские ворота закрыли крепким дубовым брусом, к Новодевичьему подлетела тройка. Лошадиные морды были в пене. Передок саней забросан снегом. По всему видно — коней не жалели и тройку гнали вовсю. Подскакали кони от Москвы, вылетев черной тенью из ночи, — и к воротам. Бубенцы были подвязаны.
Завизжав полозьями, тройка стала. Откинув кожаный фартук, выскочил из возка человек и, не перекрестив лба, торопливо шагнул к калитке. Стукнул в мерзлые доски.
Монастырь спал. У надворотной иконы едва теплилась негасимая лампада.
Приезжий был настойчив. Он стукнул нетерпеливо еще и еще. Знать, горело. Да, в такую пору попить медку через вьюжное поле не поскачешь и в божью обитель не будешь ломиться.
В кустах свистнул ветер. Приезжий оглянулся туда-сюда и вовсе уже без всякого почтения заколотил в калитку обоими кулаками. Вдруг за воротами заскрипели шаги и открылось в калитке зарешеченное окошко. Сквозь решетку упал свет фонаря.
Приезжий сунулся в окошко, что-то негромко сказал. Тотчас сухо лязгнул металл и калитка отворилась. По заметенному снегом двору в тени высоких стен приезжего повели в глубь монастыря. Провожатые в черных рясах поспешали. Свет фонаря скользил, прыгал по сугробам.
Приезжий — окольничий Семен Сабуров. Фамилия эта на Москве была известная. Бояре. Родственники Годуновых.
Семена провели к правителю.
Борис Федорович встретил окольничего, сидя с пером в руке за столом. Кирпичный крестовый потолок низко нависал над головой правителя.
Сабуров склонился в поклоне. Борис отложил перо, сказал негромко:
— Подойди ближе.
Окольничий шагнул по палате. Свеча осветила горевшее здоровым молодым румянцем лицо. Глаза окольничего были возбуждены. Смотрели пронзительно.
Взглянув на Сабурова, Борис Федорович отметил разом и этот молодой румянец, и лихорадку глаз, и запорошенный снегом плащ окольничего, и даже то нетерпение, с которым вошел и ступил по палате гонец. В душе у Бориса Федоровича родилось беспокойство.
— Слушаю, — сказал, едва размыкая губы, правитель.
Сдержан был Борис Федорович и насторожен крайне. Лоб прорезала глубокая морщина.
Семен заговорил быстро, задыхаясь, словно бежал и ему не хватало дыхания:
— Богдан Бельский объявился на Москве. У Бориса Федоровича дрогнули ресницы.
— У Романовых был. У Шуйских теперь. Верные люди говорят — привел с собой Богдан вотчинных мужиков, обученных военному делу, добрых пять сот.
Сабуров передохнул и заговорил спокойнее. Борис Федорович, не перебивая и словом, все так же смотрел ему в лицо.
— Известно и другое, — продолжил окольничий, — мирить бояр приехал Богдан, и ведомо, что грамоту они хотят составить.
Борис Федорович протянул руку, взял перо и, зажав между пальцами, чуть повертел, играя. Но тут же, выдавая раздражение, бросил перо, спросил:
— Какую грамоту? — Голос прозвучал с хрипотцой. Новость завалила горло.
— А такую, — сунулся вперед окольничий, — которая бы царя перед боярской Думой шапку ломать обязывала и во всем Думу слушать.
— Та-ак… — протянул Борис Федорович и поднялся. Подступил к окольничему. Тот смотрел открыто, ясно.
— Семен Никитич велел сказать, — добавил Сабуров, — что вести из городов есть, и вести хорошие.
— Молодец, — похвалил Борис Федорович, — верно служишь. Я того не забуду. — Постоял и вдруг снял с руки перстень с лалом[10], протянул Сабурову. — Жалую, — сказал, — бери.
Сабуров принял подарок и, наклонившись, поцеловал протянувшую перстень руку. Целовал почтительно, как целуют только руку царя. Знать, умел видеть далеко.
Подняв лицо, окольничий сказал:
— Завтра патриарх вновь народ к Новодевичьему приведет просить на царство.
Борис Федорович значительно взглянул на окольничего.
— Нет ли чего передать патриарху? — спросил Сабуров.
Правитель мягко, неслышно ступая, прошел по палате, остановился у свечи, полуприкрыл нездоровые, с заметной желтизной, веки и, повернувшись к гонцу, бесстрастно сказал:
— Ступай. Береги себя. Ночь темна.
Окольничий поклонился и вышел. Дверь за ним притворилась. Шаги ночного гостя отстучали в переходах монастырских и смолкли.
В палате правителя повисла настороженная тишина. Борис Федорович по-прежнему неподвижно стоял у свечи, лишь тонкие бледные пальцы его чуть подрагивали на краю стола. Глаза правителя, не мигая, смотрели на огонь.
— Бель-ский, — сказал он, растягивая слоги, — Бог-дан Бель-ский… — Сжал губы.
Из света свечи будто шагнул в палату и предстал перед правителем высокий, крепкий человек с властными черными глазами на холеном надменном лице. Род Бельских уходил далеко в историю, и Богдан любил называть при случае прямого своего родственника, члена рады московской, боярина и наивысшего воеводу, наместника владимирского Ивана Дмитриевича Бельского. Имя то многих заставляло клонить головы. Местничать трудно было с Богданом. Горд был Богдан Бельский. Но цепкая память воскресила перед Борисом Федоровичем и минуту слабости Богдана.
В безмолвной монастырской тишине будто бы тревожные колокола ударили, в темных окнах заметалось пламя факелов, раздались голоса: «Бельского! Бельского! Бельского!» И уже не монастырскую келию, но обширную кремлевскую палату видел Борис. Посреди палаты стоял Богдан. А голоса за стенами все крепли: «Бельского! Бельского! Бельского!» И прегордый Богдан вдруг изменился в лице и, взмахнув длинными рукавами польского нарядного кунтуша, бросился по переходам в царскую опочивальню. Высокие, тонкие, щепетные каблуки застучали по дубовым дворцовым половицам. Дробно, быстро, пугливо: тук, тук, тук, тук… А за окнами все гремело выкрикиваемое страшно в тысячу глоток: «Бельского! Бельского! Бельского!»
В день смерти Ивана Грозного Нагих с царевичем Дмитрием выслали в Углич. Уж больно солоны были московскому люду, уж больно ярились, рвались к власти. Но Бельский — по велению Грозного-царя воспитатель царевича Дмитрия — остался в Москве. Тут слух случился в народе: Богдан убить-де царя Федора собирается и на трон хочет посадить своего воспитанника. Московский народ хлынул к Кремлю, однако кремлевские ворота успели затворить. На стены стали стрельцы. Но народ бушевал. Овладев тяжелым снарядом в Китай-городе, выкатили москвичи к Фроловской башне пушку, и, не заступись тогда бояре, быть бы Богдану растоптанному на кремлевских камнях.
Бояре вышли на площадь. Успокоился народ, ушел от Кремля.
Годунов поднялся в царскую опочивальню. По неровным складкам полога над царским ложем понял, где укрылся Богдан. Взялся за тяжелую, золотом шитую ткань и откинул полог. На него глянуло искаженное унижением, обидой лицо. Совсем не то лицо, которое видеть привыкли. Богдан подался навстречу: что-де, как?
Борис Федорович не пожалел его, с насмешкой сказал:
— Выходи… — Выдержал долгую минуту и добавил: — Ушел народ. Страха нет.
И дрогнули, сломались всегда гордо поднятые брови Бельского. Жалкая улыбка исказила губы. Богдан вскинул голову, выступил из-за спасительного полога.
Многое связывало его с Борисом. И не только годы соединяли их. Самая крепкая цепь была между ними, и название ей — кровь. Богдан качнулся к Борису, но тот отчужденно заложил руки за спину.
Через два дня Богдана Бельского выслали из Москвы. Он был бессилен.
Пламя свечи мигнуло, и Борис Федорович отошел от стола. Запахнул поплотнее на груди тулупчик. Ему нездоровилось. «Бельский, — решил, — не страшен». Но тут же и подумал: «Богдан знает то, что другим не должно быть ведомо». И успокоил себя: «Хотя и не больно он умом прыток, но небось понимает, что тайное, явным став, и его пришибет».
Тогда же Борис Федорович решил: к трону надо идти через Земский собор. И чтобы от всех российских городов, от всех земель были на соборе люди. Их волею надо подняться на трон. Решил и другое: боярская грамота, о которой печется Бельский, трону ножки подломит. Сказал себе: «Грамоты не должно быть. Власть не полтина — пополам не разделишь. Все одно кто-то сверху сядет и погонит коней, как ему вздумается».
Оттого-то на просьбу патриарха Иова, церковных иерархов и московского люда принять царство ответил отказом. Ждал Земского собора.
В рыжий закат, пылавший у окоема, скакал посланный Семеном Никитичем гонец. Из-под копыт коня летели снежные ошметья. Конь хрипел натужно, ёкал селезенкой, но ходу не сбавлял. Ровно и сильно вылетали вперед копыта, били в твердую наледь дороги, как в звонкую медь.
За гонцом поспешали двое в войлочных стеганых тегиляях, в глубоких ватных колпаках, настегивали лошадей, кляня и гонца, и гоньбу, и службу проклятую.
Гонец наваливался на луку. Который день был в дороге. Устал. Щурил нахлестанные ветром глаза. В голове от скачки звенело. Долгая дорога — тяжкий труд. Хотелось слезть с седла, распрямить спину, размять затекшие ноги, походить по снежку — ну вот хотя бы и здесь, при дороге под березой, обсыпанной алогрудыми снегирями. А еще лучше — вытянуться на лавке у печи да слушать и слушать, как стрекочет в избяном тепле сверчок-домовик. Но гонец только прижал бока коню и пустил его еще шибче.
Семен Никитич мог быть доволен посыльным. В ямских дворах тот не засиживался, и с одним, и с другим воеводой повстречался. Говорил с третьим. На посулы был тороват, как и велено ему было Борисовым дядькой. Слов не жалел и, по-молодому, задорно блестя глазами, все намекал и намекал, что-де Борис Федорович не забудет тех, кто послужит ему в трудный час.
Разговоры были не легки. Воеводы — народ тертый. Понимали: сей миг ошибиться в выборе покровителя — дорогого стоить будет. А то, может, и голову сложишь. Но гонец, помня уговор тайный с Семеном Никитичем, прельщал, увлекал заманчивыми мыслями. И хотя усталость валила, но весел был, улыбчив, словно с праздника приехал и на праздник звал. От улыбки его — молодое лицо удалью было налито — и хмурые, и задумчивые, и испуганные светлели, разглаживались морщины. Молодая дерзость многое сделать может. «Ишь ты, — думал иной замшелый воевода, — какие молодцы у Бориса-то… Знать, дела правителя в гору идут. Лихие молодцы! Глаз боек у того только, кто хорошо кормлен и в избе теплой живет. Коли жрать нечего и крыша над головой худая, не взбрыкнешь — поостережешься. Видать, надо к этим приставать».
Гонец рассыпал шутки, прибаутки, присказки. И все к одному сходилось: за богом молитва, за царем служба не пропадет. Вырвав у сомневающегося пенька слово, что-де Борису Федоровичу он порадеет и других к тому склонять будет, обнимал хозяина, как доброго друга, — не без хмеля, конечно, разговоры велись, — сбегал по ступеням крыльца, прыгал в седло, и только морозная пыль завивалась следом. «Да, с такими молодцами, — думал воевода, — на трон и хромой залезет. А уж проныра лукавый Борис как петух на шесток заскочит. Неча и мне врастопырку стоять». Кутался в лисий воротник домашнего тулупчика.
Однако день ото дня стал примечать гонец, что нет-нет, а тот или иной воевода в разговорах взглядывал на него странно. В глазах непонятное показывалось, пугающее. Ан задумываться посланнику Семена Никитича времени не оставалось. Гнать, гнать надо было вперед, поспешать что есть силы. Да и молодое, задорное в душе играло. В гору шел. Как же, Борисов дядька поручение дал. Здесь что уж и думать? Говорено людьми: верхние поманят — верхние и отблагодарят. А думать надо было. Жизнь у человека одна, да и его она, а не дядина. Но, знать, на том молодость стоит: шпорь коня, пущай летит он как на крыльях, а там, что за холмом, видно будет. Не пропадем! В молодые годы трудно поверить, что ты убог и предел у тебя есть. Да и не нужно это, наверное.
Лес кончился, пошли поля с темневшими навозными кучами. Знать, рядом жилье было: навоз только что вывезли, его и снегом даже не укрыло. Дымком потянуло, конь и вовсе в струну вытянулся в беге.
За полем показались избы, и остро и больно кольнул в воспаленные глаза гонца высвеченный закатом золоченый крест на церкви.
Из-за крайней избы на дорогу вышли стрельцы. На плечах бердыши. Первый вскинул руку:
— Стой, стой!
«Застава», — подумал гонец и натянул поводья, сдерживая коня. Тот извернулся боком и, рвя, кроша шипами подков наледь, сел на задние ноги. Но все же разбег был так силен, а стрельцы так неожиданно вышли на дорогу, что гонец не сдержал коня и он с ходу налетел на заставу. Стрельцы бросились в стороны. Однако один уцепился рукой за узду, повис, закричал зло:
— Ты что? Цареву заставу бить? Разбой!
И, встав на ноги, сорвал с плеча бердыш, устремил в грудь всадника. Хищно блеснуло отточенное острие. Ловок стрелец был. Но налетели тегиляи, закричали:
— Московский гонец! Московский гонец!
Заматерились, заорали сиплыми, застуженными в гоньбе глотками:
— Аль не видишь? Глаза, что ли, в затылке?
Стрелец смешался, отбрехивался:
— Пошто гоните как бешеные? Кто вас знает, какие вы люди…
— А то не приметил? — закричал еще пуще тегиляй. — Залил, видать, буркалы[11].
Но полаялись да и успокоились. Гонец сказал:
— Ведите меня к воеводе. Бумага московская к нему.
Лихой малый, что едва не запорол гонца бердышом, вызвался проводить гонца. Вскинул бердыш на плечо и зашагал вперед. Гонец подобрал поводья и тронул коня следом. Тегиляи потрусили, как и прежде, сзади.
Стрелец шагал широко, размахивал свободной рукой и нет-нет да и поглядывал на гонца ясным глазом. Наконец спросил:
— Как на Москве-то, какие дела? — Любопытство, знать, его распирало. Даже приостановился, взялся за стремя. — Что говорят-то?
Гонец тронул теплый бок коня каблуком. Покосился на стрельца.
— А что тебе надобно знать?
Стрелец усмешливо скривил веселые губы:
— Все… Мы здесь давно никакими слухами не пользовались. Кого царем-то собираются крикнуть? — И в другой раз улыбнулся гонцу. — А?
Гонец помедлил минуту, раздумывая.
— Царем? — переспросил и сказал: — Бориса Федоровича, правителя.
— Правителя! — с искренним удивлением воскликнул стрелец. — Бориса Федоровича? Быть не может!
— Отчего быть не может? — подобрал губы гонец. — Истинно говорю.
Стрелец стремя отпустил и несколько шагов шел молча, думая о чем-то своем.
— Чего удивительного? — с гневом уже переспросил гонец. — Он при покойном царе двенадцать лет правил.
— Вот то-то, — поднял на гонца взгляд стрелец, — что двенадцать лет. Мужики в один голос и говорят: он и только он Юрьев день отменил и взял людей в крепость.
— То дело государское, — строго сказал гонец, — да и что мужикам бегать с места на место? Сиди на одной земле.
— Эко ты… — возразил стрелец. — А ежели барин в ту землю головой заживо вколачивает? А ты что, и уйти от него не моги?
— Но и бегать не дело, — сказал гонец. — Мужик, он побегать любит. Избаловались.
Стрелец опять остановился и, взглянув в лицо гонца с укоризной, сказал, растягивая слова:
— Э-э-э… Нашел баловство — лбом орехи щелкать… Шишек небось набьешь… Нет, Юрьев день мужик правителю не простит.
Стрелец вновь взялся за стремя и придержал коня. Но гонец нахмурился, убрал ногу, сказал строго:
— Пошли, чего стали? — Добавил: — Высоко запрыгиваешь, неосторожно говоришь.
Стрелец шагнул вперед, однако все же сказал:
— А мне что? Как знаю, так и говорю.
На том разговор у них кончился. Подошли к дому воеводы. Стрелец остался у ворот и недобро, с тайной мыслью, посмотрел вслед гонцу. И, видно не удержавшись, крикнул:
— А ежели невмоготу мужикам-то? Как быть?
Но гонец не оборотился.
Воевода и в этом городе на посулы гонца склонился и слово дал послужить правителю Борису Федоровичу. Однако все же закавыка вышла. Попито было за столом много. Разговор легко складывался. Воевода губы выпятил, захохотал да и брякнул:
— Что, молодец? Как тебя-то обротали… Стал бы в сторонку, да не выйдет из того толку?
— Как так? — не понял гонец.
— А ты ломоть отрезанный.
— Почему?
— Не глуп же, понимать должен. Тебе сейчас одно оставлено: и радеть, и молить за Бориса Федоровича. Другой на трон сядет, и голове твоей на плечах не удержаться.
Воевода, наваливаясь на стол, приблизил распаренное вином лицо к гонцу:
— По городам ездил? Людей под руку Бориса Федоровича склонял? За такое, брат, никто тебя не пощадит. — Выпил, вытер губы рукавом, сказал: — Коли поймали ворону в сеть, попытают, не станет ли она петь. А тебя давно сетью накрыли. — Поднял палец, помотал перед лицом опешившего гонца. — Пой теперь.
Неглупый был воевода. За свой век третьего царя ждал на престол. В груди у гонца запекло.
Февраль в Варшаве был вьюжный. С моря на город натащило тяжелые тучи, и они обрушили на столицу благословенной Речи Посполитой такой снегопад, что в Варшаву не могли пробиться из-за Вислы обозы со съестным. Город был завален сугробами, в многочисленных костелах прекратили службу. Прихожане не могли выйти из домов.
В эти ненастные, холодные дни король Сигизмунд скучал в своем дворце. Снегопад лишил короля единственной забавы, которая помогала ему коротать время в нелюбимой Варшаве. Здесь, в Польше, короля увлекала только охота. С одинаковым увлечением Сигизмунд гонялся за оленями и кабанами, в худшем случае король отдавал время псовой охоте за лисами или зайцами. Но поистине праздником для короля была травля медведей. Польский медведь яростен. Охота на него требовала умения, выдержки и бодрила короля почти так же, как любимое им красное вино. Но сейчас о том не могло быть и речи. Поля завалило снегом, доходившим лошадям до брюха, а в пущи под Варшавой не следовало совать и носа.
Каждое утро, выглядывая из-за полога своего ложа, король говорил с вопросительной интонацией дворцовому маршалку:
— Погода?
Тот кисло улыбался морщинистым лицом и, приседая и кланяясь ниже, чем было нужно, отвечал одно и то же:
— Снегопад, ваше королевское величество.
Король смотрел на ужимки маршалка и думал, морща жирный лоб: «Жалкий полячишка». Хмыкал в нос и велел подавать одежду.
Польская корона, которую Сигизмунд возложил на свою голову славного продолжателя шведского королевского рода Ваза, тяготила короля. Поляков — всех без исключения — Сигизмунд едва терпел. Короля в Польше раздражало все: малиновые с лазоревыми воротниками и разрезными рукавами жупаны знати, ободранные кунтуши шляхты и даже прелестные бобровые шапочки на головках ясновельможных паненок. В тихую ярость короля приводили широкие польские сабли на роскошных перевязях. Его бесили даже польские собаки. Гнутые, на тонких ногах, великолепные борзые приводили его в бешенство. Король предпочитал датских догов — тяжеловесных, с огромными челюстями и полными ярости круглыми глазами.
Сейчас, одеваясь, Сигизмунд не без удовольствия наблюдал, с каким страхом смотрел на растянувшегося у королевского ложа огромного дога дворцовый маршалок. Старик подавал его величеству штаны и боязливо втягивал голову в плечи, следя за догом, пускавшим слюну из приоткрытой пасти на великолепный ковер.
— Смелее, — бодрил маршалка король, — что может устрашить отважного польского пана?
— Да, да, ваше величество, — в полном отчаянии лепетал старик.
Король расхохотался, откинувшись на подушки.
В свое время, водружая на голову польскую корону, король связывал с этим создание польско-шведской унии, направленной против России. Но предприятие оказалось непомерно сложным. Прежде всего, как выражался Сигизмунд, ему гадили в собственном доме. Король удерживал за собой и шведскую корону, но носить на одной голове два таких великолепных убора было все трудней и трудней. В Стокгольме зрело недовольство Сигизмундом, и не надо было обладать счастливым даром предвидения, чтобы сказать — трон под Сигизмундом в Швеции вот-вот рухнет. Стокгольмские интриги отнимали у короля все время, остававшееся после любимой им охоты.
Сигизмунд негодовал, и ему уже было не до того, чтобы заглядываться на российские земли. Но все же мечта о возможности завладеть богатыми землями на востоке никогда не покидала польского короля. Он смотрел на Россию и, не скрывая, облизывался.
Наконец дворцовому маршалку удалось одеть короля, и тот, свистнув любимому догу, вышел к завтраку.
В высоком зале с тяжелыми дубовыми балками на потолке королевского выхода ждали папский нунций Рангони в пурпурной шелковой мантии и великий канцлер литовский Лев Запета — низкий, на кривых ногах сорокалетний человек с поломанным носом и такими острыми глазами, что, казалось, они могли высмотреть любой козырь партнера, даже ежели карта лежала на столе, обращенная рубашкой кверху.
Приняв должные приветствия, король подошел к камину и протянул руки к огню.
В черном зеве камина пылали смоляные поленья. До Сигизмунда в зале был камин, который вполне соответствовал размерам сравнительно небольших палат. Но король, любивший все неестественно огромное, тяжелое и неизменно глухих, желательно темных тонов, приказал заменить скромный, облицованный светлой плиткой камин чудовищем, разинувшим закопченную огненную пасть на половину стены. Сигизмунд еще не знал, что его любовь к необычайным размерам сыграет с ним злую шутку и именно из-за этой страсти он потеряет шведскую корону, да и во многом другом она принесет ему немало огорчений. Но до этого еще должно было пройти время. А сейчас король согрел руки, шагнул к столу, сел, расстелил на коленях салфетку и принялся за завтрак.
Обволакивающим собеседника голосом Рангони сообщил, что великий литовский канцлер располагает весьма интересными и многообещающими сведениями из Московии.
Король, отрываясь от окутанного парком блюда, с любопытством поднял глаза на Льва Сапегу. Все, что касалось Москвы, неизменно привлекало внимание Сигизмунда.
Великий литовский канцлер сказал, что перешедшие московские рубежи шпиги сообщают о недавней смерти царя Федора Иоанновича и о наступившем в Московии междуцарствии.
При упоминании о смерти папский нунций благопристойно перекрестился, строго сжав и без того тонкие губы.
Известие настолько увлекло короля, что он вытер салфеткой лоснящийся подбородок и отодвинул блюдо.
— Шпиги сообщают, — продолжил Лев Сапега, — что в Москве все больше и больше разгорается между боярами борьба за трон.
Король отвел глаза от великого канцлера и посмотрел в окно. За неровным, пузырчатым стеклом летел и летел снег. Лицо короля стало скучным. Уж он-то знал, что значит борьба между вельможами. Здесь, в Польше, Сигизмунд достаточно насмотрелся на грызню и свару между знатнейшими родами всех этих Вишневецких, Потоцких, Любомирских, Чарторыйских, Лещинских… Князья крови, словно лесные тати, рвали друг другу глотки. Сигизмунд видел, как злобно дрались между собой бароны на любимой им родине, и хорошо мог представить, что сейчас творится в Московии.
Но не междоусобная борьба московского боярства взволновала короля настолько, что кровь бросилась ему в лицо и оно стало почти таким же пунцовым, как ослепительная мантия папского нунция. Множество самых дерзких мыслей взметнулось в голове Сигизмунда, и в одно мгновение он, казалось, побывал в Вене и Константинополе, в Вильне и Крыму. Московиты, как знал король, искали союза с Габсбургами. Из Архангельска через Гамбург они посылали в Вену не только своих послов, но и драгоценные русские меха и золото с тем, чтобы укрепить австрийский царствующий дом против Польши и Турции. Они вели переговоры в Константинополе и Крыму, желая направить мечи янычар султана и кривые луки конницы крымского хана против Литвы, беспокоившей Россию на западных пределах. Это была многоходовая игра, которая позволила Московии почти без кровопролития вернуть себе многочисленные земли, захваченные Литвой, восстановить древние грани на карельских скалах, ожидая случая возвратить и другие важнейшие пристани балтийские. Россия заложила крепости под сенью Кавказа и неизмеримо расширила владения на востоке. Русские послы носили смешные, на взгляд европейца, высокие шапки, но были хитры и лукавы настолько, что вот уже на протяжении нескольких лет созданное ими сложное равновесие среди держав и народов, окружавших российские пределы, срабатывало безукоризненно. «Сейчас, — подумал король, — со смертью московского монарха годами наводимые мосты рухнут в междоусобной борьбе боярства, и тогда…»
Король протянул руку и отпил из бокала. Пожевал сочными губами. «Может быть, — подумал он, — пришло время, когда наконец осуществятся мечты?»
Не зная, куда направлены мысли короля, Рангони заговорил медовым голосом:
— Долг святой католической церкви всегда повелевал нести крест на восток. Здесь наши пастыри должны сеять свое учение. Восславим господа, который вновь и вновь указывает нам путь.
Король не слушал нунция. Сигизмунд думал о том, что в королевской казне едва ли найдешь десяток тысяч золотых, а он располагает только двумя-тремя сотнями добрых шведских солдат, но и им давно уже не выплачивается жалованье.
Сигизмунд сморщил лицо. «Все мое войско, — подумал он, — способно только разграбить придорожные шинки да забраться под толстые перины к своим паненкам».
Король поморщился и раздраженно дернул ногой под столом. Потревоженный дог недовольно заворчал и недобро покосился на пышного Рангони. «Все же, — решил король, — случай упускать нельзя».
Сигизмунд взглянул на Льва Сапегу. Замолчавший было великий канцлер продолжил:
— Как свидетельствуют шпиги, на трон претендуют Романовы, Шуйские, Мстиславские.
Варварские имена немногое сказали королю. Последним Лев Сапега назвал Бориса Федоровича Годунова. «Да, — думал король, — случай упускать нельзя». Он отбросил салфетку и, тяжело ступая, заходил вдоль стола. Нунций и великий канцлер настороженно следили за ним. Наконец король остановился и твердо сказал:
— В Московии должны быть постоянно наши глаза и уши.
Сигизмунд уперся взглядом в великого канцлера:
— Для этого вы должны сделать все.
Король повернулся к папскому нунцию. Он знал, какой толстый денежный мешок этот разряженный в пурпур святой отец.
— Я думаю, — продолжил король, — католическая церковь поможет нам в благих начинаниях.
Рангони склонил голову.
Богдан Бельский вином заливал боль души. Горело у него в груди, пекло, будто огонь полыхал под шитым кафтаном. На стол метали что ни попало: мясо жареное, вяленое, пареное, всякие моченья, соленья, хлебы. И подносили, подносили крепкие меды, водки, настойки. Богдан был зол, и дворовый люд сбивался с ног. Не дай бог в чем-нибудь промашку дать и угодить под горячую руку. Старик ключник — лысый тихоня с широкой, лопатой, бородой — только руками всплескивал да крестился:
— Господи, что деется… — Прижимал к груди лиловые ладошки.
Налитые кровью глаза Бельского недобро царапали лица сидящих за столом, и на голоса поворачивался он всем телом, как ежели бы ему стянули шею тугим железным ошейником. А оно так и было: ошейник уже надели на него, только того пока никто не видел.
Веселым приехал Богдан в Москву. Дела заворачивались крутые. «Ну, — думал, — ухвачу свое». В силах не сомневался, поигрывало у него лихо в душе. Как въехали в первопрестольную, глянул Бельский на московские терема, на кремлевские стены, на многочисленный люд, теснившийся на стогнах, — решил: поспел в самый раз. И кинулся в пекло с головой. Не щадил ни коней, ни людей.
С неделю мотался по Москве, не зная покоя ни днем ни ночью. Осунулся, почернел, но верил — найдет он, найдет управу на Бориску Годунова. По-иному и не называл правителя. А только так: Бориска. Похохатывал: «Хо-хо!» Бодр был и весел. «Ничто не проходит, — думал, — вернется старое». И сильно надеялся, что вновь заходит гоголем по хрусткому кремлевскому снежку под ясным морозным небом. Взбежит легко на Красное крыльцо, и караульные стрельцы — мордастые, краснорожие — вытянутся столбом. Видел, казалось, как склоняется правитель перед ним. Протягивает руки. И ждал, все время ждал: вот-вот приедет правитель с тихими речами и заговорит примирительно. Но шли дни, а Борис Федорович не приезжал к Бельскому. Более того, крепкую его руку Богдан начинал чувствовать с каждым часом все сильнее и сильнее. Сказывалось это в разном: в оброненном тем или иным слове, в настороженных взглядах, в том, как встречали бояре на Москве. В первые-то дни думные выскакивали на крыльцо, как объявлялся Богдан. Позже увидел Бельский: то там, то тут заперты ворота. И дворовый человек, выйдя навстречу, с поклоном говорил: «Боярин уехамши, а куды — неведомо…»
Кланялись, правда, до земли, но толку с того было чуть. Вот тебе и Бориска. Да и вовсе не Годунов стоял на дороге Богдана. Вон напротив — Бельский перекатил красные глаза — за столом рыхлый боров, боярин Федор Романов. «Тоже хорош, — подумал, — в корыто уткнется и будет хлебать, пока не зальет в уши».
Бельский отвернулся, взяв ендову, припал к краю. Углом глаза углядел второго Романова — Александра. «И этот добер, — решил, — пальцы только к себе гнутся». Нет, не нашел хорошего языка с Романовыми Богдан. И с Шуйскими, с Мстиславскими не получилось разговора.
Так, побегал по Москве, погонял коней, распугал по мелочи рыбешку, а толку не добился. И не то чтобы пожалел сил. Нет! Бил кулаками, но бил-то в глухую стену. Не угадал дверцы. Есть в каждой стене дверца. Глухо, глухо все, и вдруг — тук-тук — стена отдает звонким. Здесь и бей. Распадутся камни, и за ними желанная дверца. Но так не получилось. Кулаки отбил только. Саднило руки.
Ендовой грохнул Бельский об стол, расплескал вино. И не пьян был, а хотелось казаться пьяным. Пьяным-то лучше быть, чем дураком.
Попервоначалу хотел Бельский Думу боярскую над Москвой поставить, но углядел — не выйдет. Тогда метнулся он как заяц — следочки проложил и влево, и вправо — и решил охлестнуть все боярство одной оплеткой. Оплетка та — грамота, которая бы подчинила Думе царя. Тогда едино: кто ни заберись на трон — Романовы ли, Шуйские, Годунов, — грамотка любому руки свяжет. Но и этого не вышло. Понял: не выплясалась боярская волюшка.
И сегодня от отчаяния поутру решился на крайность. Нелегко было пойти на такое, но другого не зрел Богдан. Да оно всегда так — где квас, там и гуща. Ежели уж сердце загорелось — трудно человеку свернуть с избранного пути. Только очень сильным это дано, а Богдану страсти дурманили голову. Но страсть — не сила.
Как только московский народ собрался на Пожаре, из Спасских ворот на белоснежном аргамаке вылетел Бельский. На Богдана смотреть было любо-дорого. Шуба соболья с воротником выше головы, золоченый шлем, на каждом пальце блещущие огнями перстни с лалами. На один такой камушек торжище со всеми рядами, лавками, лотками, со всей человеческой требухой с лихвой купишь. И глаза у Бельского горели, как лалы. Соколиный взгляд. За ним с десяток молодцов выскакало, и тоже один другого краше. Коники играли. Из-под копыт дробь рассыпалась. Люди поворотили головы, по торжищу прокатилось:
— Кто это? Кто?
— Бельский, не видишь?
— Богдан! Верхний!
Народ повалил к Бельскому. Всякому интересно взглянуть на бравого да нарядного. Он сильной рукой, так, что только ошметья снежные полетели из-под копыт, осадил коня. Улыбкой расцвел во все лицо. Зачастил лихой скороговоркой:
— Люди московские славные! — И так-то раскатился широко звучным голосом: — Что ж вы шапку ломаете перед Бориской? На царство ходили просить, а он вам чем ответил?
Богдан привстал в стременах, сложил три унизанных перстнями пальца в известную фигуру. Ткнул рукой в народ:
— Вот чем ответил он на просьбу!
Конек веселился под Богданом, прял ушами. Народ таращил глаза, не понимая, к чему бы такому, счастливому, на торжище дурака валять. Посиживай себе в богатых палатах, размягчась душой у теплой печи. Зачем беспокойство? Надсад? За дураков Богдан поторопился их посчитать. Оно конечно, народ московский послушен и терпелив, но глупым его не назовешь. И в глазах у многих любопытство сменилось недоверием. Распаляясь больше и больше, Богдан тыкал рукой на стороны:
— Вот, вот — на все ваше уважение!
Лицо Бельского уже не улыбалось, а было диким. На скулах вспухли желваки, борода встала колом.
Всколыхнуть московский люд хотел Богдан, поднять его, как взнузданного коня. Бывало такое на Москве. Крикнут — и вспыхнет первая былка, а тогда не удержать. Степным палом заревет огонь, пойдет пластать до окоема, все пожирая жарким пламенем. Бежал когда-то и сам Богдан от такового пожара, вспыхнувшего на московских улицах. А теперь намеревался своею силою вздуть пламя и своею же силою направить его туда, куда ему, Богдану Бельскому, хотелось. Рева людского ждал он. Вот-вот, думал, вырвется страшное из глоток: «А-а-а-а!»
Но забыл Богдан, что для такого за сердце надо зацепить людей. И не о себе думать, а о них. Он-то себя тешил, свою болячку растравлял. Обмануть можно одного, двух, а народ — нельзя. Из толпы ровный голос спросил:
— А что ты нам, московскому люду, скажешь?
Богдан опустил руку, пошарил глазами по лицам и крикнул:
— С испокон веку говорено — одна голова хорошо, а две лучше!..
Тот же ровный голос прервал его:
— Сказка петая. Боярского правления хочешь?
И так это получилось, как ежели бы кто всезнающий продумал и предусмотрел заранее то, что Бельский упрется рогами в закрытые ворота боярские, а закипев, вылетит на торжище и вопрос свой задаст московскому люду. Цвет в цвет было угадано. Отсюда и голос:
— Боярского царства ждешь?
И в голосе том не вопрос, а издевка прозвучала.
— А что бояре! — крикнул Бельский. — Мало Руси послужили? Аль забыли боярина князя Воротынского, победившего татар при Молодях? А Шуйского боярина, Ивана Петровича, тоже забыли? Псковскую его оборону? Аль не он Москву защитил? Коротка у вас память…
— Было, было, — ответили ему. — Но мы и другое помним.
— Знаем, руки боярские загребущие. Исподнее с людей снять готовы.
— А ты сам не помнишь, когда отроком был Иван Васильевич, как бояре на Москве гуляли? Запамятовал?
И в другой раз смелый голос спросил:
— Так что, боярского царства ждешь?
Не удержался Богдан — выхватил плеть, взмахнул над головой, кинул вперед коня:
— Годуновский прихвостень! Бей его, собаку!
Верил Богдан — толпа что волчья стая: свали одного волчину — другие его рвать бросятся. Говорил: мужик умен, да мир дурак. Но опять вышла ошибка.
Аргамак встал как вкопанный. Крепкая рука схватила коня за узду. Перед Бельским стоял человек с рассеченным плетью лбом, кровь широкой полосой заливала лицо. Но он смотрел твердо.
— Нет, — сказал смелый человек, — я не собака. Стрелец московский. И в войнах был рублен за Русь. А вот и ты мне мету оставил. — Стрелец отер лицо, взглянул на кровь. — Может, краской этой, — поднял глаза на боярина, — твою рожу намазать?
И случилось то, чего не ожидал Богдан. Толпа вплотную подступила, чьи-то руки схватили за шубу, кто-то подколол аргамака острым. Конь, визжа, взвился на дыбы, и не отпусти стрелец узду, неведомо, чем бы все кончилось. Скорее всего, свалили бы под ноги нарядного Богдана. А под ногами-то, под каблуками — не сладко: косточки хрустят.
Но подскочили молодцы, на кониках, хлеща нагайками по головам, по рукам, по плечам, отбили Бельского; поддерживая с боков, поскакали к Спасским воротам.
В толпе засвистели. Кто-то кинул ком грязи и испятнал, изгадил богатую Богданову шубу.
Зашевелился Пожар, заходил, забурлил. Вишь ты, нарядного, знатного прогнали прочь! Сопливый мужичонка в драных портах, всего-навсего привезший пуд мороженых карасей на торжище, и тот сорвал серую шапчонку, засвистел в два пальца:
— Улю-лю-лю!
…Слуги все подносили и подносили меды да водки, но вино не помогало. Ворочал Бельский головой, оглядывал боярские лица, думал: «Кафтан-то я шил новый, а вот дыры в нем оказались старые».
Но то, что сделано — сделано и назад не вернуть. Одно оставалось Богдану — пить вино.
Бояре сидели хмурые. Веселья не было за столом. Федор Никитич постукивал дорогим перстнем в серебряную ендову, полную вина, поглядывал на Богдана, и в глазах у него была тоска. Вот и многое могли бояре, и люди были под рукой у каждого, и людей тех немало, было золото, власть, что порой и сильнее золота, но не связывались концы. Морщил многодумный лоб боярин Федор, старший в роду — да еще в каком роду! Однако напрасно с надеждой поглядывали на него сидящие рядом братья. Словно с завязанными глазами сидел за столом боярин Федор. И умный был человек, книгочей, знаток многотрудной истории, а понять не мог, что застит ему глаза.
У Богдана был еще козырь. Бориса разом прихлопнуть можно было, ежели только эту карту на стол бросить. Богдан опустил лицо. И вдруг забрезжило в сознании — он, как и Борис в Новодевичьем, увидел длинный переход кремлевского дворца, каменные плиты пола. Дверь в цареву спальню неслышно растворилась. На ложе в неверном свете лампад возлежал царь Иван Васильевич. Память Богданова, четко, безжалостно, до содрогания, высветила лицо Грозного. Богдан руку поднял, пальцы вдавились в глаза. «Нет, — как и предвидел Борис, осадил Богдан скачущие мысли, — тот козырь из колоды доставать нельзя, ибо прихлопнет и правителя, и меня с ним». — Вина, — крикнул Богдан, — вина!
…Стрелец, ухвативший за узду Богданова коня, был Арсений Дятел.
В овине пахло старыми, лежалыми снопами, пылью и холодной, тяжелой затхлостью, которая присуща всем заброшенным постройкам. Но здесь не было ветра, и крыша, хотя и дырявая, укрывала от снегопада. Овин стоял далеко в стороне от видимых на высоком берегу Яузы домов, и стежки к нему были заметены матерым, улежавшимся снегом.
На овин этот Иван с мужиками — Степаном и Игнатием — набрели, уже выбившись из сил. Мужики с трудом отвалили приметенные снегом двери, втащили под крышу полуживого Ивана. Он упал на старую солому и забылся в беспамятстве.
Мужики повалились рядом.
Иван первым зашевелился под утро. Замерз, окоченели ноги. Перевернулся на бок, с остервенением заколотил кулаками по негнущимся коленям и кое-как, но встал. В темноте ощупал обметанное кровавой коркой лицо. Застонал сквозь зубы, когда пронзила острая боль, и разом вспомнил подвал, чернявого, бившего без пощады, побег и тащивших его мужиков. «Не бросили, — удивился и хмыкнул, — тянуть такой мешок, когда на пятки наступают, нелегко».
Руками пошарил в темноте, нащупал лохмотья, ткнулся в колючую бороду. Тряхнул за плечи лежавшего колодой мужика. Тот воскликнул:
— Кто, что? — вскинулся со сна.
Иван узнал по голосу: Степка. Спросил:
— А где Игнатий?
— Тут где-то. Может, в снопы отполз.
Подняли Игнатия.
— Ну что, мужики, — сказал Иван, — как дальше-то будем?
Сидели на карачках, носами друг к другу. Мужики молчали. Сквозь щели в стенах серел рассвет. Иван посмотрел на мужиков и, отвернувшись, подполз к стене, выглянул наружу.
Рассвет едва разгорался. Но блеклое утро уже разбудило людей. Видны были тут и там поднимавшиеся над крышами синие дымы. Хозяйки ставили хлебы. Иван, будто увидел жаркий зев печи и румянеющие караваи, жадно потянул носом. Но колючий ветер не донес желанного запаха, а будто в насмешку швырнул в побитое лицо обжигающую горсть снега. Иван сглотнул голодную слюну, на тощей шее тугим узлом прыгнул кадык.
Из-за изб показались сани. За ними вторые. В гору вытягивался обоз. Лошаденки в пару, опуская головы до копыт, с натугой тащили сани. На дорогу вышли мужики. Но все это вдалеке, на взгорье. «Оно и хорошо, — подумал Иван, — отсидимся спокойно». Отвалился от щели.
— Ну, соколы, — сказал бойко, — что приуныли? Еще поживем. Знать, косая стороной нас обошла. А я думал — конец.
Сунулся к сваленным в углу снопам. Собрал колосья в жменю, сломал, начал катать в жестких ладонях. Пересохший хлеб обминался легко, и, хотя колос был легок, все же, когда Иван сдул с ладони трухлявую полову, в горсти осталась горка серых зерен.
— Ну вот, — сказал Иван, круша на зубах каменной крепости пшеничку, — и жратва нашлась.
Мужики потянулись к снопам.
Иван, прищурившись, поглядывал на мужиков, прикидывал что-то. В запавших глазницах, подведенных черным, расширенные зрачки были внимательны. Только-только мужик из смертельной беды вырвался, а уже соображал неведомое. Была, знать, в нем сила. Есть такие двужильные, что и мертвыми из петли вывернутся.
Пшеница, как сухой песок, хрустела на зубах. Не шла в горло, но Иван с трудом, а проглотил жесткий ком. Бросил в рот остатки и опять заработал крепкими челюстями, катая на скулах желваки.
Между тем рассвело. Жиденький свет пролился в щели стен. «Слабоваты, — думал Иван, оценивающе оглядывая мужиков, — и тощи: долго на пшеничке этой не протянут».
На задах романовской усадьбы, где свели его с мужиками, не успел он к ним приглядеться. Да особенно и не приглядывался. Ни к чему это было. Думал так: день-два потаскается с ними по Москве, а дальше разойдутся дорожки. Но дело по-другому себя оказало. Сейчас он хотел знать, что за люди с ним случились.
Сам он — Иван — бывалый человек. На Москве жил давно, так давно, что уже и забывать стал, откуда пришел. Бобыль. Мотался меж дворов. А вырос в подмосковной деревне. В молодых годках-то славный был парнишка. Все любил в поле жаворонков слушать. Так-то славно пели те птахи в недостижимой высоте неба. Но в малолетстве попортили ему руку. По злой пьянке отец запустил в мать топором, а попал в малого, и два пальца отскочили у него. Как их и не было. А что за мужик с трехпалой клешней? Вот и пошел гулять по петлявым дорожкам. Ну и, конечно, не без греха. Оно верно говорено: «Нет дыма без огня, а человека без ошибки». Романовские слуги прихватили его в фортине. Поднесли стаканчик, второй. Наговорили с три короба, он и растопырился. Подумал: «За пустяк деньгу схвачу». Многое ему сходило с рук, думал, и это обойдется. Ан не вышло. Понимал теперь — нет ему больше места на Москве. Догадывался, в чьих руках побывал. Сейчас приглядывался к мужикам. Прикидывал, на что способны сосуны. А уж что сосуны — видел.
Мужики, как зайцы, грызли пшеничку. «Ишь, — подумал Иван с неприязнью, — дорвались до ежева».
— Хватит, — сказал, — пшеничку-то с осторожностью есть надо: животы вспухнут.
Мужики оторопело взглянули на него. Иван помягче сказал:
— Брюхо с непривычки заболит. Снежком закусите.
Степан послушно отряхнул с ладоней колючую полову, ответил:
— И то правда. Зерно, оно пучит.
— Ну а что, соколы, в подвале у вас спрашивали? — совсем уже мягко начал Иван.
Мужики замялись. Степан неуверенно сказал:
— Да что спрашивали… Откуда-де мы, кто такие…
— Ну, ну, — подбодрил Иван.
— Что-де на Москве делали…
— Обо мне был разговор?
— Спрашивали, — буркнул Игнатий, — меня пытали… Уж как бьет, как бьет тот, с черной бородой.
Мужик повел битой шеей, и, видно, отдалось ему болью. Замычал.
— Да и меня бил, — сказал, оправдываясь, Степан, — со всей руки. И под дых, и по хребту. Рука у него — камень. Так бить — человека пополам перервать можно… Скотина и та не выдержит…
— Хватит, — прервал Иван. — Что ныть? Дело говорите.
Мужики насупились. Ушли головами в армяки. Иван, взглянув на них, убавил голос:
— Что отвечали чернявому?
— Ходили, дескать, вместе, — начал Степан, шевеля плечами, — говорили: человек, мол, святой…
— Ну, ну, — не выдержав, вновь поторопил Иван, — где встретились-то, кто научил говорить о святом?
— Романовские мужики, — словно удивившись непонятливости Ивана, вскинул глаза Степан. — Романовские.
Иван плюнул со зла.
— «Романовские мужики»! — передразнил. — Дура… Вот этого-то и не след было говорить.
— Так забил бы чернявый-то, — сказал Степан. — Беспременно забил…
— Заби-ил… — протянул Иван и тронул себя за лицо, но отдернул руку. Видно, саднило шибко. Помолчав, сказал решительно: — Уходить надо.
— Куда уходить-то? — спросил Игнатий. — Уйдешь, а тебя догонят.
— А тронемся мы, соколы, лесами, в украйные городки, — сказал, повеселев, Иван, — али на Дон. Авось пробьемся. На Москве сейчас и без нас забот много.
Мужики такого не ждали. Сидели, хлопая глазами на Ивана.
— Не-е-е, — начал Игнатий, — как на Дон? — Головой закрутил. — Это уж ты, брат, хватил. — И даже отодвинулся от Ивана, как от чего-то опасного. — Не-е-е… Куды нам…
«Сосуны, — подумал Иван, — как есть сосуны». Поднялся на ноги:
— Что вы, мужики! Да мы…
И тут, невесть для чего, глянул в щель в стене. Борода у него отвисла.
По ровному снегу, целиной, шли к сараю двое. Шли не торопясь, о чем-то разговаривая. Иван сразу разглядел: дюжие, сытые мужики, на плечах — вилы. В свете разгорающегося дня Иван увидел, как тонко и хищно поблескивали металлические острия.
«Ну все, — решил, — накроют, как зайцев, троих одной шапкой».
И пока шли целиной мужики, еще успел подумать: «Эх, жизнь наша — играют большие, а бьют маленьких».
В Успенском соборе шла служба. Двери храма были широко распахнуты и внутренность собора представала перед стоящим на паперти народом залитой золото-красным сиянием. В свете свечей золотом играли царские врата, вспыхивали яркими, слепящими искрами драгоценные камни на премудро изукрашенных старинных многопудовых окладах. Волнами выплывали из храма голоса хора.
Лицо патриарха Иова, бледное даже в теплом свете свечей, было облито слезами. Рука, сжимавшая яблоко посоха, дрожала, но то, как стоял он — вытянувшись, — как держал ровно плечи, как смотрел неотрывно на иконы, говорило: он свое знает.
В багровом свете проступало бледным пятном и лицо Богдана Бельского. И богатая шуба, искрящаяся седым мехом, и бесчисленные лалы на пальцах, а стоял он слабо, как убогий нищий в рубище, и не поднимал глаз.
Чуть поодаль — Романовы. И тоже в дорогих шубах, а будто бы траченных молью. Александр, Иван, Михаил. Не было только старшего — Федора Никитича. Сказался больным боярин, ан стало известно — болезни нет у него.
Шуйские держались особняком, и тоже глаз не разглядеть у бояр.
Ближе к патриарху Годуновы: Дмитрий Иванович, пожалованный в бояре еще Грозным-царем; Иван Васильевич, пожалованный в бояре Федором Иоанновичем по просьбе царицы Ирины; Семен Никитич. Их жены, многочисленные чада. Рядом родня Годуновых — Вельяминовы, Сабуровы. Тут же князья Федор Хворостин, Иван Гагин, Петр Буйносов, думный дворянин Игнатий Татищев — давние сподвижники правителя. Люди доверенные. И они, пальцы прижимая ко лбам, не шарили по храму глазами, но, приглядевшись к их лицам, можно было сказать уверенно: тут веселее.
Все в храме обычно. И голоса хора звучали так же, как вчера или третьего дня. И людей было немногим больше, чем на предыдущей службе. Патриарх плакал не в первый раз в храме, а бояре сумно взглядывали друг на друга, но и Иов, и Бельский, и Романовы, и Шуйские, и стоявшие подле патриарха чувствовали: натянулись до последнего предела струны страстей и борений, опутавших междуцарственным лихом великий город…
Накануне в Кремле заседал Земский собор. Знатнейшее духовенство, бояре, люди приказные и выборные. Иов воззвал к собору:
— Россия, тоскуя без царя, нетерпеливо ждет его от мудрости собора. Вы, святители, архимандриты, игумены, вы, бояре, дворяне, люди приказные, дети боярские и всех чинов люди царствующего града Москвы и всей земли русской, объявите нам мысль свою и дайте совет, кому быть у нас государем. Мы же, свидетели преставления царя и великого князя Федора Иоанновича, думаем, что нам мимо Бориса Федоровича не должно искать другого самодержца!
Иов замолчал и впился глазами в лица. Мгновение стояла тишина. И вдруг раздались голоса:
— Да здравствует государь наш Борис Федорович!
С неприличной для патриарха торопливостью Иов воздел руки кверху, воскликнул:
— Глас народа есть глас божий: буде, как угодно всевышнему!
Поздно ввечеру, тайно, Семен Никитич был у патриарха. Иов сказал, что завтра после службы в соборе, в церквах и монастырях решено миром — с женами и грудными младенцами — идти в Новодевичий бить челом государыне-инокине и Борису Федоровичу, чтобы оказали милость.
Разговор тот был с глазу на глаз, но патриарх даже Семену Никитичу сказал не все. Пожевал губами и, благословив, отпустил. А была у патриарха с духовенством еще и другая договоренность: ежели царица благословит брата и Борис Федорович будет царем, то простить его в том, что он под клятвою и со слезами говорил о нежелании быть государем. Но ежели опять царица и Борис Федорович откажут, то отлучить правителя от церкви, самим снять с себя святительские саны, сложить панагии, одеться в простые монашеские рясы и запретить службу по всем церквам.
И пугался, и плакал Иов в храме потому, что одно знал — не должно больше быть междуцарствию.
Услышал как-то шепот в ризнице, когда одевали его к выходу: «Недолго-то осталось Иову красоваться». — «Да, придут Романовы, а он у них не в чести». Слабый шепот, но все же разобрал Иов: «Гермоген Романовым ближе». — «Это так…»
Обернулся патриарх. За спиной стояли самые близкие. Подумал: «Ежели эти шепчутся, что другие говорят?»
Иов, ткнув посохом в каменные плиты, двинулся из храма. На паперти патриарх остановился, обвел взглядом московский люд, благословил широким крестом и, уже ни на кого не поднимая взор, пошел по ступеням.
Крестный ход двинулся в Новодевичий монастырь.
У Чертольских ворот людно, теснота. Напирает народ, но где там — узка улица. Харчевни, кузни, мучные лавки, блинные — углы корявые выставили и стоят, словно человек, растопыривший локти на перекрестке. Не пробиться.
Иов с иерархами, с боярами, с людьми знатными прошли вперед по свободе, а тут толпа поднаперла, и заколдобило. Того и гляди, топтать друг друга начнут в тесноте.
Вон мужик елозит лаптями по наледи: прижали к стене, и ему ни туда ни сюда нет хода.
— Братцы, братцы! — кричит мужик, а лицо уже синее.
Здесь баба с дитем. Ребеночек выдирается из тряпок, разинул рот в крике. Бабу притиснули — не вырвется.
— Ратуйте, люди! — вопит. — Ратуйте!
— Ах ты, мать честная! — выдохнул Арсений Дятел. — Подавят народ.
Рядом с Арсением Игнашка Дубок и стрелец с серьгой в ухе. Вышли из переулка, глянули, а тут вон что творится.
— Непременно подавят. Куда пристава смотрели? Развели бы народ за домами.
Такое случалось на Москве: хлынет толпа, задние навалятся — не удержать. И рад бы остановиться человек, да он и упирается изо всех сил, а его жмут в спину те, кто и не видит, что творится впереди. Праздники обращались в великое горе. Улицы узки, кривы — один поскользнется, упадет поперек хода, и через него повалится десяток. Страшно. Ребра ломали, глаза выдавливали.
— Ратуйте, люди, ратуйте!
Но в людском море у Чертольских ворот вроде бы посвободнее стало. Народ полегче пошел.
Вдруг Арсений услышал со стороны:
— Эх, дядя… Надо бы конька разогнать да и пустить с саночками через улицу. Вот уж станут намертво.
Арсений осторожно скосил глаза.
У облупленной стены лабаза двое — в легоньких полушубочках, подвязаны кушаками. За ними впряженный в сани конек. У Арсения екнуло в груди: «Ах, ты… Вот кто здесь старается». За поясом у Арсения нож. Но стрелец тут же решил: «Ножом нельзя. Крик да шум ни к чему. Завалить обоих молча в санки да и свезти в полк. Там, с ребятами, разберемся». Глянул на Игнашку. Тот поймал взгляд и насторожился. Арсений глазами дал понять: молчи-де. Потихоньку, полегоньку отступил назад. Дубок за ним. И стрелец с серьгой в ухе, недоброе почувствовав, двинулся за ними.
Но, видать, сплоховал Арсений, или те двое, в полушубочках, тоже были не лыком шиты. Мужик, стоявший у конька, повел глазом на стрельцов, толкнул товарища в сани и, повалившись боком на грядушку, гикнул и пустил коня. Так и ушли в переулок, только снег завился. Арсений головой крутнул:
— Лихие ребята! Узнать бы, чьи они.
Но не до того стало. Народ валом напирал через Чертольские ворота. Стрельцы влились в толпу. А все же не зря в переулочке стояли: оборонили крестный ход. Те, с саночками, много могли наделать беды.
Иов с иерархами, двором, воинством, приказами, выборными от городов вышли на Девичье поле, под самый монастырь. Впереди несли знаменитые славными воспоминаниями иконы Владимирскую и Донскую. Навстречу из монастырских ворот вынесли икону Смоленской божьей матери. В уши ударил звон колоколов. Звон малиновый. При таком звоне душа страждет. Икона Смоленской божьей матери в золотом дорогом окладе, украшенном бесценными камнями.
Подходили из Хамовников, шли от Никитских ворот, из Малолужниковской слободы и стеной ломили с Пречистенки. Из-за Москвы-реки санным переездом шли из Троицко-Голенищева, Воробьева, Раменок. Мужики, бабы, дети. Люди напирали, жарко дыша в затылки друг другу.
Боялись страшного. Жизнь пугала. Жестокими кострами, на которых жгли людей. Поветренными морами. Пыточными дыбами. Страшным судом. Геенной огненной.
Годунов стоял под высоко поднятой иконой. Глаза у правителя запали, нос заострился, и видно было — дрожит в нем каждая жилка. Обведя толпу глазами, он шагнул к патриарху.
— Святейший отец, — сказал с трещиной в голосе, — зачем ты чудотворные иконы воздвигнул и народ под ними привел?
На Девичьем поле стало так тихо, будто каждый задержал дыхание.
Иов, сжав яблоко посоха, выставил бороду, ответил:
— Пречистая богородица изволила святую волю на тебе исполнить. Устыдись пришествия ее и ослушанием не наведи на себя праведного гнева.
Годунов упал на колени в снежное крошево. Голова его, забывшая за многие годы, как склоняться, опустилась до земли.
Иов, не глядя на него, прошел мимо, к церкви. Прошел рядом, даже коснулся краем мантии.
Правитель стоял на коленях. Он знал: то, чего желал всей душой долгие годы, свершилось, но не испытывал ни радости, ни волнения. Чувствовал под ногами жестко надавливающий на колени ледяной наст, и это было единственным его живым ощущением. В нем будто бы все заледенело, застыло. Он не мог пошевелить ни единым членом, как в страшном сне, когда силится человек палец стронуть с места, а он не слушается, хочет крикнуть, но звук из горла не идет. Ужас охватывает человека, волосы у него встают дыбом, а он бессилен, беспомощен, бесплотен.
Вдруг Годунов услышал голоса, всхлипывания, причитания и, подняв лицо, увидел вокруг незнакомых людей. Множество глаз смотрели на него, будто бы спрашивали неведомо что.
Борис Федорович увидел глаза женщины в темном тяжелом платке. И ее глаза спрашивали. Борис Федорович потянулся к тем глазам и вдруг усмотрел в них… жалость. «Чего же она жалеет меня?» — подумал он.
И другой взгляд поймал Борис Федорович. Глаза смотрели, будто зная все и о прошлом, и о будущем правителя. Борис Федорович склонил лицо. И то, о чем он не позволял себе и думать, вновь возникло в сознании. Выше Борисовой воли было то воспоминание, не подвластное времени. Его нельзя было ни стереть, ни загородить другими думами, ни вырвать из памяти никакой силой. Оно жило, казалось, само по себе и, вновь и вновь возвращаясь, било в сердце с жестокой беспощадной болью. Борис увидел длинный переход кремлевского дворца, серые плиты пола. Дверь в цареву спальню тихо отворилась, и торопливо в Борисов затылок шепнул Богдан Бельский: «Другого нам не дано».
Борис мучительно сжал веки, гоня прочь видение. И оно, словно послушав его, неожиданно ушло. Болезненно сжавшееся сердце затрепетало в груди с облегчением, с надеждой на избавление от непосильной муки. Борис открыл глаза и чуть не задохнулся от поразившей его вновь боли.
В одном шаге от правителя стоял неизвестный парнишка в армячке. В вороте армячка белела тонкая, как стебелек, детская шейка, незащищенная, легко ранимая, и эта незащищенность, ранимость ударили по глазам правителя, словно он разглядел еще и нож, вонзающийся в детское тело. Борис обессилел и опустился на снег. «Замолю, замолю грехи свои, — чуть не воскликнул он, — и праведной жизнью найду прощение!»
Кто-то подхватил Бориса Федоровича под руки, приподнял, повел в монастырь.
В келии царицы-инокини было тесно от людей. У иконостаса ярко горели свечи, оплывая от духоты. Правитель услышал, как патриарх сказал:
— Благочестивая царица! Помилосердуй о нас, пощади, благослови и дай нам на царство брата своего, Бориса Федоровича!
Царица не ответила. Патриарх вопросил во второй и в третий раз. Царица по-прежнему молчала. В тишине было слышно, как потрескивают свечи. Наконец царица подняла голову и высоким, звенящим голосом сказала:
— Ради бога, ради вашего подвига, многого вопля, рыдательного гласа и неутешного стенания даю вам своего единокровного брата, да будет вам царем!
Годунов обвел взглядом келию и вновь увидел глаза, тихо и спокойно вглядывавшиеся в него на Девичьем поле. «Да, — промелькнуло в голове, — они знают о будущем». И тут же подумал: «И я угадываю его, и мне страшно».
— Такое великое бремя на меня возлагаете, — сказал он глухо, не поднимая головы, — передаете на такой превысочайший царский престол, о котором и на разуме у меня не было?
Царица, подавшись вперед к брату, сказала теперь твердо:
— Против воли божьей кто может стоять? И ты без прекословия, заступив мое место на престоле, был бы всему православному христианству государем.
И вновь все затаили дыхание. Годунов знал: вот теперь Иов возьмет его за руку и поведет за собой. И тут же холодные сухие пальцы сжали запястье правителя. Иов сделал шаг, другой, и Борис Федорович почувствовал, что рука, сжимавшая его запястье, некрепка. Тогда он перехватил слабеющую руку, и уже не Иов повел Бориса Федоровича, но Борис Федорович Иова.
В сей же час патриарх в монастырской церкви благословил Бориса на все великие государства российского царства.
Девичье поле огласилось тысячами голосов:
— Слава! Слава! Слава!
И чем громче гремели голоса, тем предчувствие страшного все больше и больше охватывало Бориса. Но гордыня, ярившая сердце правителя, была сильнее страха.
К вечеру Лаврентий принес Семену Никитичу слух, пущенный по Москве. Говорили, что-де, умирая, Федор Иоаннович протянул скипетр старшему из своих двоюродных братьев — Федору Никитичу Романову. Федор Никитич уступил скипетр брату Александру, Александр третьему брату — Ивану, Иван — Михаилу. Никто не брал скипетр. Царь долго передавал жезл из рук в руки, потерял терпение и сказал: «Так возьми же его, кто хочет!» Тут сквозь толпу протянул руку Годунов и схватил скипетр.
Семен Никитич выслушал Лаврентия, посмотрел на пляшущее пламя свечи и криво улыбнулся.
— Поздно, — сказал, — пускать молву. Поздно.
И умный был мужик, а вот не подумал, что молва как ржа — она и корону съест. И еще Лаврентий сказал:
— Стрельцы-то сегодня — стремянного полка да пехотного — с десяток людей побили, что помешать хотели крестному ходу к Новодевичьему.
Семен Никитич брови к переносью сдвинул:
— А чьих людей-то побили?
— Так до смерти их уходили, как теперь рассудишь?
— Угу, — ответил на то по своей привычке немногословный Семен Никитич.
Лаврентий потоптался в дверях и вышел.
Над дорогой низко, тяжко нависали нагруженные снегом лапы могучих елей. Тройка проскачет — дугой зацепит. А под такое дерево встань, ненароком тронь ствол — и лавиной обрушится снег, да еще такой, что человека засыплет с головой.
Стволы тесно жались друг к другу, не протиснуться меж деревьев. Черно от елей в лесу, глухо. И ни звука в стылой неподвижности скованного морозом ельника — ни птичьего щебета, ни скрипа веток. Сумно. Вот уж вправду сказано: в березняке веселиться, в кедраче молиться, в ельнике давиться.
Вдруг, пронзительно пискнув, над дорогой рыжим платом перелетела белка, скрылась в мохнатых еловых лапах, но тут же выглянула вновь и села столбом на вершине ближней к дороге ели. Белка веселая, глазки шустрые, ан недовольна была чем-то и все поглядывала на густой орешник у подножья ели, дергала хвостом.
Кусты орешника дрогнули, и на дорогу выполз на карачках человек в заскорузлом от снега армяке и заснеженной шапке. За кушаком у него тускло блеснул топор.
Белка вовсе забеспокоилась, защелкала зло: кто таков-де, зачем, почто тревожишь? Пошла скакать по веткам.
Человек с трудом разогнулся, встал, упираясь руками в поясницу, скользя лаптями по дорожной наледи. Снял варежку, обобрал горстью сосульки с бороды и усов, повернулся к свету. И видно стало, что это Иван-трехпалый, битый в застенке Семена Никитича.
Иван опасливо посмотрел в одну сторону, в другую и, с усилием собрав замерзшие губы, тихо свистнул. Из кустов вылезли Игнатий и Степан, такие же, как и он, скорченные от мороза. Объявились, голубки. Встали чурками. Видно, мороз пропек до костей. Едва-едва ворочали руками.
Белка на вершине ели вся извертелась, схватила шишку, швырнула в мужиков: уходите-де, уходите, чужие вы здесь!
Иван покосился на зверька, стянул с головы шапку и с остервенением хлопнул ею по колену. Не то хотел выколотить шапку от снега, не то обидно ему стало: зверюшка с ноготок, а и та гонит прочь.
В овине на Яузе, когда на беглецов Семена Никитича вышли мужики с вилами, все обошлось по-доброму. Иван вывернулся. Сказал, что по хмельному делу встретились с плохими людьми и те не только очистили у них карманы, но еще и побили. Водка не мед, человека гнет — вот и попали в лихую передрягу. Удивительно, но мужики поверили. Рожа, наверное, больно жалостлива была у Ивана, или мужики догадываться не хотели до плохого. Послушали-послушали Ивановы слова, да и сказали:
— Ну ладно…
Из шапки Иван выдрал две монетки — последнее не пожалел, — и тут вовсе разговор пошел по-хорошему. Мужики беглецов свели к себе домой, дали обмыться, послали мальца за водочкой. Малец хлопнул дверью, а через миг назад вернулся.
Хозяин бутылку в затылок стукнул твердым кулачком, плеснул в плошки. У Ивана даже зубы застучали, как хмельное взял в руку. Мужики засмеялись:
— Водочка, голубушка, горячая, а в дрожь бросает…
Но выпили, и как ни тепло было в избе, как ни согрелись души беглецов, а надо было уходить. Иван бойко поднялся с лавки, поклонился хозяевам, кивнул своим: пойдем-де, заждались дома. А дома-то, знамо, не было и вовсе. Какой дом, ежели только глухой подвал Семена Никитича? Но в такой-то дом навряд ли спешат.
Вышли за ворота — ветер в лицо, колючий снег. Эх, жизнь распроклятая! Пошли, спотыкаясь. Иван знал одно: из Москвы уходить надо поскорее.
В затишке у какого-то амбара беглецы встали, перекинулись словцом.
— В дом романовский, — сказал Иван, топчась по снегу, — по моему разумению, вам идти, мужики, не след. Посудите сами: денежки вы взяли, а дело? По Варварке денек походили, и все. — Надеялся все же сбить мужиков на Дон али куда на юг. Потому и старался, говорил много. — Побьют вас как пить дать, в яму посадят. Все же разговоры опасные по нынешним временам с вами вели, а не дай бог вы кому обскажете. — Покрутил головой. — На Москве с этим строго.
Мужики стояли молча. Хоронились от ветра. Сутулили плечи. Но все же не согласились идти на юг: забоялись. Игнатий сказал:
— В деревню пойду. Пущай что уж будет, то будет…
Скрыл, что в портяночке у него сохранился романовский рубль. Пяткой чувствовал рублик, кожу он ему жег. Надежду подавал. Впервые такое сокровище оказалось у мужика. Лаптем притопнул, словно убедиться хотел, на месте ли денежка. В лице изменился — показалось, что лапоть пуст. В другой раз притопнул, понял — на месте. И теплее вроде бы даже стало мужику.
— В деревню, — повторил, — пойду.
Степан решил по-другому:
— Прибьюсь к какому ни есть поместью. Я бобыль…
Но из Москвы уйти оба согласились. Даже попросили Ивана: выведи, мол, ради господа, выведи, нас без тебя точно забьют. Вспомнили чернявого из подвалов Семена Никитича. С ухарем таким не хотелось встретиться в другой раз. «Ладно, — подумал Иван, — пойдем. Оно шаг, говорят, только и сделать надо, а там дорожка сама под ноги ляжет». И пошли мужики.
Как обойти заставы, знал Иван. В жизни по разным тропочкам бегал. Оврагами, лесом, по брюхо в снегу, но вывел мужиков из Москвы. И вот сейчас стояли на дороге, думали. Торопиться было некуда. Разбойнички ли, калики ли перехожие — не поймешь. А дорога наезжена, блестит санными следочками, но вот в какую сторону податься — неведомо. На перепутье стояли мужики. Камня только на дороге не видно с надписью: «Влево пойдешь — беду наживешь, вправо пойдешь — еще горше попадешь, прямо пойдешь…» Э-э-э, да что там! Сумрачна впереди была дорога. Может, и проглядывало где солнышко, но не для бродяг.
В лесу, далеко на дороге, забренькал колокольчик. Иван насторожился. Шапку сдвинул с уха, прислушался.
— Айда, — сказал, — мужики, айда!
И, проваливаясь по пояс в глубокий снег, полез в кусты. Мужики, суетясь, кинулись следом. Упали в орешник.
А колокольчик все ближе, ближе, и вот уже из-за поворота показались первые сани. Головастая лошаденка, под дугой колоколец. За ней вторая, третья — и потянулся мимо мужиков длиннющий обоз. Возчики — один на пять-шесть саней, — спрятав лица от мороза в воротники тулупов, сидели мешками. Кони шли не бойко. Сани нагружены вполсилы. Да по такой дороге кто будет трудить лошадей — дурак только навалит с верхом.
Иван из-за кустов шарил глазами по саням: выглядывал, нет ли стрельцов с обозом. Но нет, обоз вели мужики-лапотники.
Иван поворотился к своим. Лицо у него загорелось: как будто бы и не он вовсе стоял на дороге, корчась от стылой непогоди.
— Ну, — спросил, жарко дыша, — со мной?
Мужики, отводя глаза, угнули головы.
— Пожалеете, мужики, — наседал Иван, — погуляли бы, ну же, ну… — Изо рта у него бился клубом пар. Вишь как разгорячился человек. Горел весь.
Но мужики молчали.
— Эх вы, — выдохнул Иван, — поленья сырые! Ну да ладно. Доведется — увидимся.
Чуть приподнялся, ловко перевалил через кусты и, проворно двигая лопатками под армяком, пополз к дороге.
Обоз уже прошел кусты, где засели мужики, но Иван добрался до дороги, вскочил на ноги, бегом догнал последние сани и упал в них боком. Повернулся, махнул рукой и с головой зарылся в ворохе соломы. Обозники и не приметили его. Вот как боек был: вмиг дело сделал.
Колокольчики звенели все тише и тише и наконец смолкли вовсе. Мужики полезли на дорогу. Выбрались на твердое и, не сказав друг другу ни слова, зашагали в разные стороны. Один туда, где беду наживешь, другой — где еще горше попадешь. А о чем говорить было? О чем совет держать? Одна забота была: не замерзнуть в черном лесу. Всяк о себе думал.
Лесная дорога обезлюдела, и вновь веселая белка показалась на вершине ели. Взглянула туда-сюда и осталась довольна: молчаливые деревья вокруг, пустынна дорога — ходи весело, страха нет.
Лес нахмурился еще более. Уйдя за тучу, погасло солнце, потянуло ветром. Ровно и глухо загудели деревья. В голосах их ничего не разобрать: только у-у-у да у-у-у… А иные из богатырей тех стояли и по веку, и по два. Век — много лет. И за дни долгие свидетелями были лесные богатыри всякому. Ныне и такого дождались: новое царствование началось на Руси.
Борис Годунов взошел на престол. Склонили головы Мстиславские, Шуйские, Романовы, Бельские… Угомонился на городских площадях московский люд. Погасли тревожные костры в Кремле. Затейники ночные затихли на Москве. Но надолго ли смолкли крики ярости, отполыхали отсветы костров на кремлевских стенах, все ли люди ночные забыли лихо? Кто знает?
Гудел лес, стонали многолетние великаны, а белочка прыгала, скакала, щелкала орешки… Ну да белочке орешки лишь и нужны. Людям — иное. Им звезду с неба обломать хочется и, как огурец, попробовать на зуб: «А?.. Звезда, говоришь?.. А ничаво, ничаво… Хрустит… Ничаво… Сольцы бы вот еще…»
От веку и до окончания времен в каждом горит своя свеча. Не угадать, для чего возжжена она, для чего бьется на ветру слабый язычок пламени. Все одно погаснуть свече.
У-у-у — пели деревья. Может, сказать что-то хотели? Уж больно много было ими видено. Но что сказать-то, что?
Глава вторая
Слух о том, что крымский Казы-Гирей собирается вступить в московские пределы, подтвердился.
В сшибке за Донцом казаки полонили татарина. Рано поутру сторожевая станица, выскакав из крутояра, увидела в степи трех всадников в пестрых крымских халатах. Татарина догнать в степи трудно, но солнце было так ало, воздух так свеж, казаки так бодры и легки, что старшой гикнул во всю силу и станица пошла в угон. Кони, разбежавшись, охватили широким полумесяцем уходивших к горизонту всадников. Молодой казачонок сорвал с плеча аркан и ловко выбил из седла нацелившегося было в него из лука крымца. Тот грохнулся оземь. Казачонок, горячась, спрыгнул с коня, упал на татарина. Станица еще с версту гнала двух ускакавших вперед крымцев, но те все же ушли в степь. Ушел за горизонт и конь сбитого наземь.
Пленник оказался зол до невозможности. Он вцепился в упавшего на него казачонка, до кости зубами изгрыз ему лицо и одолел бы, наверное, но подоспевшие станичники скрутили его арканом и оттащили в сторону. Казачонок, помятый пленником, едва поднялся. Все лицо его было залито кровью, горло исцарапано. Изумившись лютости крымца, казаки, скорее всего, пустили бы его на распыл, но старшой остановил их.
— Погодь, — сказал, — станичники, погодь.
Выступил вперед. Пленник катался по земле, рыл землю каблуками красных сапог, кричал что-то, брызгая слюной.
— Ух, волчина, — сказал все же старый казак, — зараз я его стреножу. — И потянул шашку из ножен.
Старшой придержал его руку, наклонился, прислушиваясь к выкрикиваемым крымцем словам. Лицо старшого стало внимательно. Глаза насторожились.
Среди булькающих звуков и ругательств старшой явственно разобрал: «Смерть вам, собаки… Смерть… Орда идет… Орда». Старшой выпрямился, что-то соображая, с сожалением поглядел на богатую саблю, на красные сапоги крымца и, видно переломив себя, решительно сказал:
— В Оскол его надо, станичники, в Оскол.
Пленника подняли с земли, посадили в седло, намертво приторочив к луке тем же самым арканом, который сорвал его с коня.
Пленник, ощерив желтые зубы, мотал бритой башкой, кренился набок, хотел, видно, упасть с коня, расшибиться насмерть, но крепкие волосяные путы держали в седле.
— И-и-и! — зло и обреченно визжал татарин, клокоча горлом.
— Но, но, — толкнул его в грудь старый казак, — не балуй!
Коня под крымцем взяли на длинный повод, и станица поспешно пошла к Осколу. Старшой понял, что дело здесь нешутейное.
В Оскол пришли к первым петухам, дважды сменив коней на подставах. Еще не рассвело, и крепость открылась взору темной громадой высоких стен. На топот коней в надворотной башне отворилось узкое оконце, и из него высунулась голова стрельца. Стрелец разинул рот, хотел было спросить что-то у казаков, но, увидев одетых в мыльные клочья пены коней, понял: не до спроса. И, времени не теряя, нырнул в глубину башни, захлопнул оконце.
Цареву сторожевую службу на рубежах несли строго. Да иначе и нельзя было.
С металлическим лязгом растворились ворота, тяжко скрипя, поднялась осадная решетка, и всадники проскакали в крепость.
Оскол спал. Но станицу окружили стрельцы, повели к воеводе, с любопытством поглядывая на торчавшего колом в седле, спеленатого арканом крымца.
В доме воеводы уже светили в слюдяных оконцах вздутые огни, и воевода, предупрежденный воротной стражей, ждал казаков.
Пленника, закостеневшего от долгой скачки, сняли с седла, втащили в избу, бросили к ногам воеводы. Воевода оскольский — низенький, плотный, с тяжелым лицом — сидел на скамье, уперев ладони в круглые, толстые колени.
Пленник лег на бок и отвернул голову в сторону.
— Вот, нашему лицо изгрыз, — кивнув на стоящего тут же казачонка с обмотанной тряпками головой, сказал старшой, — кричал, что орда идет, орда.
Стрельцы, толпившиеся в дверях, придвинулись ближе. Переглянулись.
Воевода, не поднимая глаз на пострадавшего, молча разглядывал крымца.
Старшой мягким, сыромятной кожи чириком[12] повернул голову пленника. Тот мотнулся мертво, прижался щекой к затоптанному полу. На сизо бритом черепе была видна кровавая ссадина, протянувшаяся черной полосой от бровей до затылка.
— Живой, — сказал старшой, — застыл в седле.
Воевода, ничего не ответив на то, по-прежнему не отводил глаз от крымца. «Сапоги кожи хорошей, — думал воевода, щуря глаза, — выделки бахчисарайской, халат узорочьем шит, ремешок серебром обложен керченской работы… Птица не простая». Воевода немало повидал на своем веку и людей понимал с первого взгляда. Бывал и в Крыму, и в Анатолии. В его жизни многое случалось. На южных рубежах сидел не первый год.
— А ну, — неожиданно ласково сказал воевода, — посади его.
Казак нагнулся и, ухватив пленника под мышки, рывком поднял, посадил на пол. Живые глаза крымца глянули на воеводу.
— Огня поближе, — сказал тот.
Стрелец, стоявший у дверей, поднес фонарь.
Воевода качнулся на лавке всем телом и, подавшись вперед, навис над пленником тяжелым лицом. Хекнул утробно, затряс щеками. Лицо налилось багровой гневной краской. И видно, в глазах его, устремленных на пленника, полыхнуло такое, что тот в сторону посунулся. Заелозил ногами по полу. Умел воевода напугать человека. Татарин обмяк, опустил угластые, поднятые до ушей плечи, понял: будет молчать — придется худо. В Бахчисарае так-то, шутя, с пленников кожу драли. Сажали на кол, а то — ох как не сладко — варили в котлах. Пленник тоже не был прост. Не вчерашний отрок, знал, чем кончиться может его молчание. Разлепил спекшиеся губы.
От него выведали, что хан вышел из Крыма со всею ордою и с семью тысячами султанских воинов. Татарин — не то пугая, не то злорадствуя — сказал, что султанские янычары вооружены хорошо, да и орда противу прежнего не только на конях выходит, но имеет и пушечный снаряд, ядрами и порохом огружена достаточно. Скривил рот зло: мол, не только меня пугайте, но и сами побойтесь.
Пленник сидел на полу ровно, даже ноги подвернул под себя, будто дорогой гость и ему сейчас подадут кальян. Гордый был.
Воевода откинулся на лавке, привалился к стене. На лбу прорезалась морщина. Это было внове, чтобы орда шла с пушечным боем.
— Врет, собака, — сказал казачий старшой, — чтобы через степь, по весне, пушки тащили, да еще с огневым припасом… Невиданно…
Пнул крымца в ребра. Тот повалился на бок.
— Врет, — еще раз сказал старшой.
Казаки загудели:
— Зараз степь сырая, ерики воды полны… Непременно врет гололобый.
Но воевода и не взглянул на казаков. Сидел молча, соображал. От лица звероватого отлила краска. Задумался крепко. Встал, прошелся по избе на вывороченных ногах, еще раз косо посмотрел на пленника и махнул рукой, чтобы убрали.
Крымца подняли, поволокли из избы. Тот хотел было что-то сказать, залепетал:
— Бачка, бачка…
Но воевода пренебрег. Пленник был уже не нужен ему. Все сообразил и прикинул воевода, пока сидел на лавке. Так решил: врать крымцу ни к чему. Об орде со зла сказал. Обиделся шибко, что его казаки вышибли из седла. А от обиды, со зла, врут редко.
Казаки посматривали на воеводу: отпускает их назад или как? Воевода сказал ворчливо:
— Ступайте, прикажу.
Казаки вышли. Воевода постоял посреди избы, крикнул писаря. Тот вошел с прозеленевшей чернильницей, сел к столу. Уставился круглыми глазами на воеводу.
Воевода подошел к окну, откинул створку.
Рассвело. В блеклом утреннем небе летали по-весеннему неряшливые грачи, которым в эти веселые дни одно было занятие: прыгать друг через дружку. Воевода сцепил зубы. Рот — резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах, — казалось, вот-вот сломается в больном крике. Но воевода не крикнул. А было о чем кричать.
Писарь, глупый мужик с льняными, набросанными на лоб волосами, — на что уж дурак дураком, в спину воеводе глядел — и то заметил: ссутулились широкие плечи воеводы, словно лег на них непомерный груз. Шея утонула в вороте тулупчика. Да и все грузное, тяжелое тело воеводы скукожилось, собралось в ком, как ежели бы готовился он к прыжку. Писарь поморгал белесыми ресницами и полез было под мышку почесаться, но отдернул руку, как от колючего. Воевода повернулся к нему лицом.
— Пиши, — сказал.
Писарь торопливо обмакнул перо в чернильницу. Склонился над бумагой.
Думы воеводы были трудные: крикнуть-то собирался на всю Русь — орда-де идет, орда, — а это непросто. Далеко от Оскола Москва, не одного коня изломают станичники, пока доскачут, но все же знал воевода — путано сейчас в первопрестольной. И кто еще прочтет его послание в белокаменной да и как — неведомо. Оно всего бы лучше напутать, напетлять в грамотке — так-де и эдак, а то и вовсе эдак-де и так. И все. Такое воевода умел: слов много, а дела чуть. И к кому бы грамотка ни попала, кто бы ее ни читал, а сказать ничего нельзя, и воеводе куда как спокойно. И одним, и другим, и третьим потрафил, а при надобности и вовсе можно отказаться от грамотки. Голос Москвы всякому страшен, ибо первопрестольная раз только говорит и бьет словом наповал. Но знал воевода: от степи чего хочешь можно ждать. И хоть дозоры казачьи стояли повсеместно, а налетят крымцы — и глазом не успеешь моргнуть, как спалят крепость и людей побьют. Много, ох много русские люди от степи горюшка хлебнули. На высоких дубах дозорные посиживали, но в степи поет ветер, гонит пыль, порошит глаза, дозорный прикроет веки, а каленая стрела — фи-и-ить — и все, нет казака. Орда пойдет — кто ее углядит? Запылают деревни и города, польется русская кровь, закричат, запричитают уводимые в полон люди. Впереди у них одно: невольничий рынок. В Константинополе, в Египте ли… Родной земли больше не увидеть, сгинуть на чужбине. В ярме, под плетьми. В боли и унижении. Сколько русских людей на невольничьих рынках продано было, сколько красавиц славянок в гаремах увяло? Кто знает, кто считал? Путь орды обозначится костьми на дорогах, черным вороньем да пепелищами деревень. Крымцы бегут быстро, кони у них хорошие, и зла много.
— И-и-и-и! — завизжат дико, засвищут передовые в конной лаве. — Алла-инш-алла!
И загудит степь. Черная пыль поднимется до неба.
Воевода не пожалел себя. Написал твердо: орда идет. К полудню грамота была готова, и воевода вышел на крыльцо. Сам хотел доглядеть, как повезут казаки тревожную весть в Москву. Отдал свиток сотнику и, проследив, как тот спрятал его в седельную сумку, внушительно сказал:
— Послужи новому царю.
Сотник при серьезных словах сдвинул брови. Махнул властно казакам, и сторожевая станица пошла в Москву. Глядя вслед уходившим казакам, воевода довольно отметил, как запылила под копытами коней подсыхающая земля. «Ничего, — подумал, — добегут быстро. Сейчас сподручно, не то что в непогодь». Но тут же подумал: «Но оно и для крымцев степь подсохнет». С сердцем взял себя за низ лица, сжал до боли. Повернулся. Сказал стрельцам, стоящим у крыльца:
— Пленника беречь. Чтоб был жив. В Москву его повезем.
Погрозил пальцем. Строг был, и его боялись.
А в Москве еще валил снег. Правда, сырой, по-весеннему рыхлый, но все же снег. И ветер зло толкался в узких кривых улицах, рвал на тесовых крышах изб обмякший дерн, которым москвичи обкладывали кровли, боясь пожаров. Мужики, по утрам выходя из домов прибрать и накормить скотину или по-иному распорядиться по хозяйству, изумлялись: «Ишь ты, зима вот, не в пример другим годам, была куда как лютой и по всем приметам весне прийти рано и споро, ан нет!» Пешней попробует мужик лед во дворе, а он тверд. «Да, — скажет, посмотрев на летящие над Москвой облака, — тепло-то, оно придет, конечно, но пока вот нетути». Покашляет в кулак: долгая весна — не радость. Всему есть свои сроки. А так что ж: холодна земля, и как-то еще дальше будет? А хлебушек? В такую землю зерно не бросишь. И зябко становится мужику.
Но как ни крепилась зима, а по желтым от навоза улицам с важностью, неторопливо зашагал грач. Косился на людей круглым блестящим глазом, поклевывал конские яблочки, топырил на спинке перья, встряхивался, и чувствовалось — этот, черный, знает: быть теплу. Первая примета: грач навозец на дороге разгреб — жди весну.
В эти-то дни тревожная грамота оскольского воеводы дошла до Бориса. Бойкий дьяк на одном дыхании прочитал ее и, взглянув поверх бумаги на царя, заморгал глазами: царь смотрел на дьяка в упор, и взор его был тяжел.
Дьяк растерянно уткнулся в грамоту, подумав, что сгоряча неверно сказал какое-нибудь слово, — глаза забегали торопливо по строчкам, но все было прочитано, как написано. Дьяк к царю был взят недавно и еще не обвыкся в верхних палатах. Несмело вновь поднял лицо. Борис по-прежнему неотрывно смотрел на него, и у дьяка даже горло перехватило сухостью. И стало видно, что и рыж он, и конопат, да и глуп, и хотя научили его языком бойко чесать, а долго он в царевых палатах не продержится. Здесь другие нужны. Борис сказал:
— Еще раз прочти. Внятно.
— «Великому государю, царю…» — торопливо начал оробевший вконец дьяк, но Борис прервал:
— Суть читай.
Дьяк, шевеля губами, пробежал глазами титул и, набрав полную грудь воздуха, громко и отчетливо, слово за словом, перечитал грамоту. Место, где было сказано: «Говорено сие татарином в великой запальчивости, и посему, полагаю, лжи в словах нет…» — Борис повелел перечитать в третий раз, а вслушавшись, отвернулся. Устремил взгляд в окно. Лицо царя было необычно сосредоточенно и хмуро. Дьяк стоял столбом, боясь и бумагой зашелестеть. Уж больно задумался царь. Бровь — было видно дьяку — круто изогнулась у Бориса, и губы легли жестко.
За окном мотались корявые, голые ветви, царапали желтую слюду в свинцовых с чернотой рамах. Стучали, словно просились в тепло палат.
Борис молчал, неведомо о чем думал, но наконец, не поворачивая лица, сказал сквозь зубы:
— Ступай.
Дьяк торопливо вышел. В мыслях прошло: «Беда». Рот прикрыл ладонью: «Что-то будет?» Сел на лавку у дышащей жаром муравленой печи. Ждал: может, вызовет царь, — но так и не дождался царского приказа.
В палаты призвали Семена Никитича. Тот прошел важно, как хозяева ходят. Лицо красное, твердое, щеки подперты шитым жемчугом воротником, глаза вперед устремлены. Вот как по Большому дворцу заходил царев дядя. Для такой поступи многое надо за спиной иметь.
Дьяк вслед ему потянулся, но Семен Никитич и не моргнул. Дьяк присел на край лавки, и глаза у него закисли. Но он все ждал.
У дверей Борисовых палат торчали мрачные немецкие мушкетеры, глядя на которых трудно было и сказать, живые то люди или железные болваны.
Время, казалось, остановилось.
Борис через стол подвинул Семену Никитичу грамоту. Сказал:
— Читай. — Поджал губы.
Семен Никитич склонил голову, разбирая косо и криво бегущие строчки. Оскольский писарь был небольшой грамотей.
Борис молчал.
— Так, так, — забормотал царев дядька, — вот те на. Дождались… Говорили, слышал, говорили…
— Кто говорил? — коротко спросил Борис.
— Люди, — вскинул глаза дядька.
Твердости прежней у него во взоре приметно поубавилось. Весть оскольского воеводы словно обухом по голове ударила.
— Люди, — невнятно повторил Борис. Оперся локтем на ручку кресла и положил подбородок на сжатый кулак.
— Да ведь оно, — не сразу придя в себя, начал Семен Никитич, — чего только не болтают.
Осекся. Увидел, что лицо царя налилось гневной белизной. Да и понятно, побледнеешь… Крымцы — беда великая, страшная. Да еще и неустройства. Власть не окрепла.
— Вот что, — начал Борис странным голосом, — доподлинно узнать надо, насколько сие верно. И думаю, помочь в том могут купцы крымские. Ничего не жалей, но чтобы к вечеру правда была сыскана.
Семен Никитич торопливо поднялся, шагнул к дверям. Только что пудовыми ногами шагал, а тут засуетился, запрыгал. И так вот изменяются походки в Большом дворце. То прыг-скок, и тут же как на переломанных ходулях зашагал. Или наоборот, и, думать надо, все это оттого, что из особого дерева полы в верхних палатах настелены.
За ручку дверную взялся Семен Никитич, но Борис остановил его. Выпрямился в кресле:
— О грамоте правду не скрыть. Читана многими. Да и скрывать не след. О том же, о чем ты узнаешь, не должно знать никому.
Насупился. Надвинул на глаза брови. Повторил:
— Ничего не жалей. Иди.
Оставшись один, Борис прошагал вдоль стены, глянул уже в который раз в окно на мотающиеся под ветром стылые ветви и руку прижал к боку, под сердце, как делал всегда в минуты большого волнения.
Семен Никитич был скор. Только что видели его в царевых палатах, а он уже на Ильинке объявился. Ильинка шумела голосами. Здесь свое — торг. Купчишки кричали из-за ларей, раззадоривали люд:
— Веселей набегай, хватай, а то не поспеешь!
Сани вымахнули из-за угла, а навстречу мужик — вывороченные губы, ноздри на пол-лица. Его со смехом хлестали кнутами по полушубку мимоезжие. Загулял, видать, молодец, на перекресток выпер.
— Но, но, дорогу! — крикнул кучер Семена Никитича и жиганул мужика уже со злом. Тот покатился головой в сугроб.
У гостиного двора — затейливого, с высокой крышей, с резным коньком, обложенным красной медью, — Семен Никитич приказал придержать коней. Сопя, полез из возка. К нему кинулось с десяток купцов. Каждый спешил помочь выпростаться и, ежели повезет, утянуть в свою лавку. Но Семен Никитич ногой отпихнул одного, дал пинка другому, цыкнул на третьего, и купцы прыснули в стороны. Здесь с первого взгляда угадывали человека.
Семен Никитич утвердился на ногах и повел тяжелыми глазами. Одумался уже, перемог растерянность.
Тесно, пестро, шумно на Ильинке — лари, лари, и там и тут купчишки в пудовых шубах — заходясь на морозе, орут, перебивая друг друга. Не накричишься — не расторгуешься. Вокруг народ — Москва город людный. Глаз не соберешь на Ильинке, но Семен Никитич, что ему надо, увидел и шагнул к лавке, в дверях которой стоял высокий седобородый старик в пестром теплом халате. Тот, сложив руки у груди, с почтением низко склонился. Быстрые, острые глаза его без страха глянули в лицо царева дядьки и спрятались под опущенными желтыми веками. Татарин, отступив назад, широко распахнул звякнувшую хитрыми колокольцами дверь. Семен Никитич шагнул через высокий порог. В лицо пахнуло щекочущими запахами пряностей. Здесь, чувствовалось, не на медные гроши торговали.
Купец тщательно притворил дверь и хлопнул в ладоши. Тут же невесть откуда вынырнули юркие, смуглые мальчики, расстелили перед гостем белый анатолийский ковер, разостлали скатерть, набросали подушек, принесли бронзовые тарелки с миндальными пирожными, вяленой дыней, просвечивавшей, как пчелиные, полные меда соты, поставили блюдо с запеченными в тесте орехами. Старик купец округло, от сердца, показал гостю на подушки. Семен Никитич грузно опустился на ковер. Старик легко присел на пятки, и его бескровные губы зашелестели неразборчивые слова молитвы. Царев дядька степенно перекрестился.
Помолившись, старик из великого уважения к гостю сам наполнил чашки крепким, как вино, чаем.
В лавке на полках тускло поблескивали длинногорлые медные кувшины, отсвечивали льдистым холодом серебряные пудовые блюда, чеканенные в жарком Константинополе, пышной Венеции, сказочной Мекке. Далек был путь этих товаров, и цена им в Москве была велика.
Семен Никитич отвел глаза от полок — не за тем приехал, — поднес чашку ко рту. Отхлебнул глоток. Отщипнул от пирожного, бросил сладкую крошку в рот, но жевал без вкуса, думая, как начать разговор. Купец по-восточному мягко улыбался, пил чай, едва касаясь губами края чашки, и часто, как птица, прикрывал глаза полупрозрачными веками.
Мальчики внесли жаровню с раскаленными углями. Старик запустил руку в складки стеганого халата, достал блестящую коробочку и бросил щепотку порошка на угли. Порошок зашипел, и из жаровни поднялись тонкие струйки текучего ароматного дымка. Струйки вились, сплетаясь в причудливый узор, старик следил за их игрой, и лицо его говорило, что он может молчать ровно столько, сколько того пожелает гость.
Семен Никитич допил чай и только после этого сказал:
— У меня есть разговор.
Купец с пониманием наклонил сухую, с запавшими висками голову, как бы говоря, что он все время ждет слова гостя. Умнее был купец, чем вид подавал.
Семен Никитич, упираясь кулаками в ковер, подался вперед. Как ни тяни, а разговор надо было начинать. Однако помнил: исподволь и ольху согнешь, а вдруг и ель поломаешь. Начал издали.
— Приходят войны, и уходят войны, — сказал с натугой царев дядька, — но купцы всегда остаются.
Передохнул, собираясь с мыслями. Уж очень трудное надо было выпытать. Старик вновь наполнил чашки. Откинулся на подушки. Сказал:
— Это мудрые слова.
Семен Никитич взял чашку в руку, но не донес до рта. Забыл. Волновал его разговор.
— Еще твой отец торговал на Москве, — продолжил царев дядька, — и немало товаров было взято от него в Большой дворец.
Гибкие пальцы купца привычно перебирали зерна янтарных четок. Тонкая струйка медового цвета лилась и лилась из ладони в ладонь. Этот был спокоен. Вся мудрость Востока была в опущенных веках старика. Неожиданно он взглянул прямо в зрачки Семена Никитича, как немногие смели взглядывать, и сказал:
— Уважаемый гость может рассчитывать на мою откровенность. Я ценю отношение ко мне его благословенного государя.
Семен Никитич удовлетворенно передохнул, будто свалил с плеч тяжкий груз, и только тогда донес чашку до рта. Понял: разговор, которого он так хотел, состоится.
— И мы умеем ценить, — поспешил со значением, — искренность наших друзей. Слава богу, казна царева не пуста.
Старик смотрел в свою чашку.
«Чертова крымская собака, — подумал Семен Никитич, — озолотим, скажи только правду». И верил и не верил купцу. Обмануться было страшно.
Купец молчал.
Семен Никитич поставил недопитую чашку и придвинулся к старику.
— Казаки говорят, что хан вывел орду из-за Перекопа…
Глаза царева дядьки зашарили по лицу купца.
Тот поднял руки и огладил бороду. Лицо его было неподвижно.
— Это война? — спросил Семен Никитич и, неловко подавшись вперед, опрокинул чашку. Темно-красная жидкость пролилась на ворсистый белый ковер. Пятно расплывалось шире и шире по яркому узору, но царев дядька не заметил своей неловкости. Весь был в ожидании.
Все серебро и золото с полок лавки глянуло ему в лицо и, заплясав множеством ослепительных лучиков, словно засмеялось едко и безжалостно: «Трусишь?»
Купец оглаживал бороду. Тонкие пальцы скользили по шелку седины. Мудрые веки старика плотно прикрыли глаза. Купец знал цену не только товарам, но и словам. Известно было ему и то, что слово, не слетевшее с уст, подобно верблюду в караване, привязанному крепкой веревкой к вожаку; слово сказанное… «Слова разбегаются, как испуганные сайгаки в степи, — думал старик, — а то, что хочет услышать этот русский, может стоить даже не золота — головы». Трудные были мысли у купца. Молчание затягивалось.
Семен Никитич вцепился короткими пальцами в край подушки и в нетерпении теребил, мял жесткую, неподатливую ткань. Ан слабоват оказался Семен-то Никитич. В подвале, где мужиков с Варварки били, крепче себя выказывал. Сильнее. Ну да там, конечно, попроще было. И у стены молодцы сидели плечистые. Лаврентий успокаивал. А вот государево дело решать — хе, хе — дрогнул. Дела державные требуют души неколебимой. Здесь слабины ни-ни…
Татарин молчал, и лицо его по-прежнему было застывшим. В тишине царев дядька явственно услышал, как бурлит, кипит голосами, шумит Ильинка. Вспотел под шубой. Пот бисером обсыпал лоб. Эти голоса вдруг подсказали ему, как вздыбится, взвихрится, взорвется жизнь на Москве, ежели только орда направит копыта своих коней на Русь. Кто устоит в том пламени? И тут же встали перед ним ненавистные лица Романовых и Шуйских, Бельских и Мстиславских. Кому-кому, а ему-то — наверное знал царев дядька — пощады не будет. И не крымский кривой нож вопьется в спину — засапожник московский за первым углом длинных переходов Большого дворца. А углов в переходах дворцовых много.
Семену Никитичу стало страшно.
Мысли его прервало покашливание. Купец, спрятав четки в широкий рукав халата, сказал:
— Хочешь знать правду — слушай не эхо, но рождающий его звук. Я многие годы ел русский хлеб и беды Москве не хочу.
Старик склонился к самому уху Семена Никитича, и его губы зашептали тайное.
Выйдя из лавки и садясь в сани, царев дядька подумал: «Цены нет тому, что сказал купец. Но человек он все одно не нашего бога, и прощен я буду, ежели с ним что и случится ненароком».
Сел, кинул на ноги волчью полсть, сказал:
— Гони! Царь ждет.
А царь и впрямь ждал. Ждал с нетерпением и узнал правду раньше, чем было им повелено.
— Та-ак, — раздумчиво протянул он на слова Семена Никитича.
И царев дядька не понял, что за тем стояло.
Борис откинулся в кресле, сцепил перед собой пальцы. Сжал. На руке царя вспыхнул нехорошим, зеленым, кошачьим блеском перстень, даренный еще Грозным-царем.
— Так, — сказал Борис и заговорил быстро и резко, как говорят, хорошо обдумав и окончательно решив.
Семен Никитич на что уж дерзкий мужик, видавший всякие виды, руками замахал:
— Такого не было… Отродясь не припомню…
И голос у него сел. Борис медленно-медленно поднял глаза на дядьку. И того будто два камня ударили — холоден и жесток был взгляд царя. Никогда раньше не глядел так Борис.
— Как же… — вновь, спотыкаясь, начал Семен Никитич. — Не было… Точно не было.
Царь перебил испуганный шепот.
— Так будет, — сказал твердо, — и завтра же Думу собрать.
А грач, поклевавший конские яблочки, оказался прав. Пришло тепло. И вот посреди площади перед Большим дворцом в Кремле купался длинноклювый в голубой лужице. Окунал головку в светлую водицу, скатывал по спинке крупные, в горошину, золотые под солнцем капли.
Семен Никитич долго смотрел на веселую птицу с Красного крыльца, но невеселые, ох, невеселые мысли царапали ему душу. Удивил и напугал своего дядьку Борис.
— Да… — выговорил Семен Никитич и горло пальцем помял, будто ему неловко стало. — Да…
И вдруг нагнулся, схватил камень, швырнул в грача.
— Пошел! — крикнул. — Погань!
А для чего птицу божью обидел — неведомо.
Подмигнула весна теплым глазом, да и опять закрутила непогодь. На Москве так часто бывает. Дерзко, с разбойничьим посвистом бился ветер в широкие арочные окна Грановитой палаты, строенной сто лет назад мастерами Марко Фрязинья и Пьетро Солари по повелению великого князя Ивана Васильевича.
Иван Васильевич был славным воителем и присоединил к Москве и Новгород, и Тверское великое княжество, и вятские земли. У Литвы отвоевал немалые владения. Но всю жизнь любил князь лепоту и поставил в Кремле Большой каменный дворец. Грановитая домина была одной из палат этого славного творения, коим Москва с достоинством гордилась перед приезжими. Изукрашена сия палата была снаружи граненым камнем невиданной красоты, а изнутри — стенописью необычайных красок, так положенных, что изумлялись люди великому мастерству безымянных художников.
Третий день в славной палате заседала Дума. Прочитана была тревожная грамота оскольского воеводы, и бояре решали, объявлять или не объявлять дворянское ополчение. Нужно было, отрывая людей от пахотных забот, созывать на ратный подвиг. Бояре беспокоились: а как хлебушек? Как иные хозяйские труды? Зима, известно, натворила много бед. Только и надежда была на доброе лето — залатать дыры. Ан нет, в поход надо собираться. Но поди вытащи дворян из дремучих нор, выкликни из-за стоялых лесов, вызволь через непролазные весенние грязи. Оно и простое занятие — срубить избу, но хозяин задумается: где лес взять, кто будет его валить, как привезти, какой мастер сруб станет вязать? Да и нужна ли та изба, а может, потесниться да и обойтись старой хороминой? Сей же миг разговор шел не об избе, а о государском деле. Постой в таком разе — не гони коней! Но да все эти резоны — и дельные, и к месту — только выговаривались. Главным было другое.
Без движения, как белые свечи ярого воска, стояли у трона тихие отроки с серебряными топориками на плечах, на лавках — большой и малой — сидели бояре. С трона холодными глазами пытливо взирал Борис Федорович. По мере того как велеречиво и хитроумно говорили бояре, глаза царя то темнели недобро, то высвечивались живым огнем. Борис был хмур, и глубокие морщины, прорезавшие его высокий лоб, говорили явно: многое говоренное в высоких палатах не по сердцу ему.
Государское дело — слова сильные, огромные, как неповоротные глыбы. Поди-ка соберись с мыслью — вона, Россия! А? Куда как неохватно. Го-су-дар-ское… Колоколу только гулкой медью выговорить. Ивану Великому, что на кремлевской площади стоит, впору ударить. А вершится дело сие не для божьих птиц, и не божьими птицами, но для людей и людьми. Человек слаб. И хоть бьет колокол — бом-бом-бом, — человек и в государском деле выглядывает свое место. Да еще такое, чтобы, веревку колокола раскачивая, не надорвать себя. Чаще так, по-иному — редко. И сейчас и царь, и бояре всяк свое искали. Хотя вон оскольский воевода, свое забыв, подумал о России. Но это из тех случаев, которые редки. Чаще безмерное честолюбие за хрип берет человека, стремление к высокой власти, алчность всепожирающая. Власть-то что ни на есть, а сласть! Не мед, не вино, но кружит голову. Вон боярин сидит на большой лавке, три шубы надел, жемчугом обсыпался — так кому он уступит место? Криком закричит, пальцами костяными в лавку вцепится, ежили кто подвинуть его захочет. Не было такого в Думе, чтобы сам по себе кто встал с лавки. Выбивать — выбивали, а миром чтобы ушел — не упомнят. Душа человеческая глубока, ложкой из нее долго надо черпать, чтобы выбрать донца и все своим именем назвать. Да и нет, наверное, такой ложки, чтобы до дна душу обнажила. Кстати примечено — просторны переходы Большого дворца, но в них и двоим разминуться нелегко.
Много было проговорено в Думе, и дошли наконец до трудного места. Рука Бориса Федоровича, лежащая на подлокотнике трона, постукивала жесткими ногтями. Борис Федорович перехватил пытливый взгляд Мстиславского, задержавшийся на нервно поигрывавшей руке, и сжал пальцы. Понял: слабость хочет увидеть в нем боярин. А того Борис Федорович выказать не хотел. Беспокоило в сей миг царя прежде всего: как откликнутся на его зов, пойдут ли в поход за ним ратные люди? Знал царь: в головах у многих сидящих с ним под расписными сводами мысли те же самые. Угадывал, что еще и так думают: «Ну-ка, Борис, давай, давай! Поглядим на тебя. Правителем быть одно, царем — другое. Раньше кричали: „За царя Федора Иоанновича, за род Рюриковичей!“ — и люди шли на смертную сечу. А что ты крикнешь? „За царя Бориса, за род Годуновых!“ А откликнутся ли на этот зов? Как бы не получилось конфуза. Давай, давай, Борис! Показывай себя. А мы еще не сказали последнего слова. Оно за нами».
Накануне, ввечеру, Борис Федорович вел разговор с Семеном Никитичем. Тот, осунувшись за последние дни, так сказал:
— Кряхтят думные.
И всегда дерзкие глаза его поскучнели, искры яростные погасли в них.
— Кряхтят, — повторил глухо.
А уж он знал, что говорил. У него, почитай, через дом сидели свои людишки и при нужде тут же добегали, куда им было сказано. По торгам, по кривым московским переулочкам, да и не только московским, бегали свои же люди. И не там, так здесь ушко такой человечек поставит, тайный говорок услышит и сей же миг — тук, тук — в заветную дверцу. Уходя от царя за полночь, Семен Никитич сказал:
— Трудно будет.
И уверенности в голосе Семена Никитича не было. Видать, знал, что можно и надломиться. Вон сколько нагорожено, человеческих судеб перевито единой оплеткой, чтобы посадить на трон Бориса, — и в одночасье все может рухнуть, ежели не поднимет новый царь людей в поход.
Ссутулил плечи Семен Никитич и вышел из царских покоев, неловко зацепившись за притолоку. На том и расстались. И сейчас Борис, сидя на троне в виду всей Думы, вспомнил дядькину спину, и тревога защекотала в груди. Борису показалось, что холодные подлокотники жгут руки огнем. Трон — деревянное кресло, а вот как может себя выказывать. То холодом обдаст, то жаром. И неживое, а как конь норовистый: не то взбрыкнет, не то шагом пойдет. Или вовсе на дыбы встанет.
Борис, завесив бровями глаза, оглядывал бояр. Видел — лица застывшие, напряженные, сумные. Сидят не колыхнутся, уставя бороды в пол. А там написано разве что? Мысли какие рассыпаны? Поди узнай. Всяк по-своему прочтет каменный узор и увидит свое. Лишь боярин Дмитрий Иванович Годунов — человек зело тихий и смирный, — задрав лицо, с тревогой и боязнью поглядывал на стучавшие под сводами слюдяные оконца. Его пугала непогодь. Вжимал, безмятежный, голову в плечи. Злого не держал в мыслях. А у Бориса Федоровича все скребло на душе, все саднило: не унялись знаменитые московские роды, не смирились и не отказались от потаенных до времени дум. Семен Никитич в другой раз это подтвердил.
Дмитрий Иванович отвел глаза от беспокоивших его оконцев и прямо взглянул на Бориса Федоровича. С удивлением — даже голову положил набочок — отметил, что улыбка тронула губы царя, и улыбка не добрая, но скрывавшая в себе тайную мысль.
«Господи, — перекрестил себя под шубой малым крестом тихий боярин, — чего же здесь тайного? Все явно».
Святой был человек — не видел беды.
А улыбка тронула губы царя не от доброты души. Борис Федорович решил так: он сейчас в глазах московского люда защитник отечеству. Кто же может воспротивиться ему в сем устремлении? Шуйские, Мстиславские, Романовы? Тогда во мнении России они станут изменниками отечеству. Вот как дело-то он обернул. И это многие из сидящих на лавках и без слов уразумели. Те, что поумней, еще и дальше заглянули: «Сейчас против Бориса идти — такую шишку набьешь, что и втроем не обомнешь». И другая мысль вошла в головы: «А и правда ли орда идет?» «Но нет, — тут же укоротили себя строптивые, — а грамота оскольского воеводы? Да и казаки передали, что пленного татарина в Москву везут. Вот-вот будет здесь… Однако к стенке припер нас Борис-то… Не взбрыкнешь». Увиделось: крикнет царь — предают-де бояре царство, — и московский люд всколыхнется. Для пожара, на Москве только и нужно, чтобы один выскочил наперед, не жалея себя, а тогда уж и пушки подкатят к Кремлю. С бояр срывать головы — народу всегда сладко. Паленым запахнет, и великое пламя вздуют. До небес. От таких мыслей многим стало нехорошо. Заерзали на лавках.
И все же верхние безмолвствовали.
Патриарх, сложив на коленях схимничьи руки, впился взглядом в царя.
Все ждали царского слова.
Борис выпрямился на троне. Наступил тот миг, когда разом надо было все определить и все расставить по местам. Промедление страшным грозило. Борис сжал подлокотники трона так, что кольца и перстни вонзились до боли в пальцы, сказал с приличествующей твердостью:
— Приговаривайте, бояре, — быть ополчению!
Темные глаза царя расширились.
Сидящие на лавках многажды слышали Бориса, когда он был правителем. И те же твердость, властность и сила были в его голосе. Уверенность была во взоре и смелость в лице. Но сейчас он сказал по-иному. Все было то же — твердость, властность, сила, уверенность, смелость, — но и еще одно услышали в его голосе: превосходство над каждым и над всеми.
Будто три покрытые алым сукном ступени, возвышавшие трон над сидящими на лавках, подняли разом Бориса так высоко, куда и заглянуть трудно, да и не дано никому из них. И это больно кольнуло в сердце многих.
По палате словно вздох пролетел, и сразу же все задвигались, а патриарх, оборотившись, взглянул на бояр.
После слов Бориса князь Мстиславский — первый в Думе — опустил голову, ковыряя что-то унизанными перстнями пальцами на поле шубы. И не великого ума был человек, но понял: так слабые не говорят. «Ишь ты, — подумал, — еще и не венчан, а головы нам гнет». Тоскливо стало ему от этой мысли, будто горькое проглотил. Он, Мстиславский, ветвь великого княжеского рода, а вот сидит и слушает худородного и по слову его поступать должен.
Борис, произнеся самое важное, молчал, как ежели бы сказанное уже не подлежало обсуждению, но стало сразу же неопровергаемым законом.
Семен Никитич привстал, глазами обводя лавки. Увидел: посуровели лица. Печатник Василий Щелкалов, соблюдая чин, сказал:
— По сему царскому велению следует указ воеводам составить, требуя от них ревности в службе.
И сказал это медовым голосом. Хитер, ох, хитер был печатник. К нему оборотились боярские лица. В глазах одно: «Ох, ты… Запел-то как Василий-то, дьяк дерзкий. Учуял, знать, жареное. Ведь против Бориса первым пер. На Красное крыльцо бегал народу кричать о присяге Думе. Нет, здесь не от дури мед в голосе». И другое в глазах было не у того, так у иного: «А я-то что? От глупости, выходит, упираюсь Борисовой воле? Чьи голоса-то слушаю? Шуйских, Романовых? Да что мне до них? Эти всегда были прыткими. Ах, Василий, Василий… Нет… Придержать надо свою дурь, а то вот такой и без коня обскачет».
Борис — правитель опытный, навыкший в душах человеческих читать, как в открытой книге, — взгляды те понял и Василию Щелкалову одобряюще закивал с трона, смягчился глазами. Знал, чем распалить бояр. И опять будто бы вздох прокатился по лавкам.
Дума приговорила — составить указ.
Решив главное, Борис без промедления — пироги печь, так не остужай печь — назначил главному стану ратному быть в Серпухове, правой руке в Алексине, левой в Кашире, передовому полку в Калуге, сторожевому в Коломне.
— И отписать, — сказал веско, уверенным голосом, — воеводам, дабы не было ни ослушных, ни ленивых. Все дети боярские, юные и престарелые, охотно садились бы на коней и без отдыха спешили к сборным местам.
Дума приговаривала — быть по сему.
Василий Иванович Шуйский, хоронясь за чрево сидящего рядом боярина, своротив шею на сторону, буркнул:
— Ишь ты, Думу, как тройку, вскачь гонит.
На то боярин выпучил глаза, но ничего не ответил.
Дмитрий Иванович Годунов, приняв сей разговор за знак одобрения, приветливо боярам покивал головой: хорошо-де, братья, хорошо — единой семьей думаем, так бы и впредь. Радушно улыбнулся. Дмитрий Иванович мог размягчаться сердцем. А вот иным ясно стало: сегодня Борис своею волею вновь сломил Думу и, настояв на ополчении, много крепче стал на ноги.
Семен Никитич рукой прикрыл лицо, дабы не увидели его улыбки. Петушок был. Знал хорошо: сильного бойся, слабого бей. А здесь его верх оказался.
О разговоре же у крымского купца так никто и не узнал. Даже самые ближние к царю, даже родные. Да и купец вдруг исчез. Лавка осталась, товары, приказчики были на месте, но купца не стало. Ветреным вечером тройка к лавке подкатила. Кто-то вызвал купца, тройка всхрапнула, и только колокольцы запели по Ильинке… Ну да и про это врали, наверное. За товаром, может, купец поехал или еще как случилось…
Папский нунций торопился на тайную встречу. Но лицо его — надменное, с презрительно поджатыми губами — не выдавало ни малейшего беспокойства. Оно было неподвижно и замкнуто, словно нунций сидел не в бегущей карете, а в покойных палатах костела, отгороженных от мира толстенными стенами и крепкими решетками. Кони щелкали подковами по камням мостовой.
Поутру прискакал из Вильны в Варшаву Лев Сапега, а уже через час наместнику папы дали знать, что литовский канцлер располагает сведениями, которые могут его заинтересовать, Рангони сообщили и то, что Сапега привез с собой двух неизвестных людей и хочет показать их нунцию. Такая поспешность настораживала, но Рангони, выслушав посланца литовского канцлера — вислоуслого дворянина с хмельными глазами, от которого так и тянуло запахом житной водки, — промолчал и отошел в глубину комнаты. Шляхтич в рыжем кунтуше, ожидая ответа, неловко топтался у дверей.
«Что могло так встревожить канцлера? — думал Рангони. — К чему такая спешка? И кто эти люди, что прибыли с канцлером в Варшаву?»
Рангони знал, что Лев Сапега ловкий и осторожный политик. «Но, — подумал он, взглянув на рыжий кунтуш у дверей, — этот полупьяный шляхтич, какие-то люди?.. Нет, с поляками трудно иметь серьезное дело».
Рангони стоял посреди палаты с той особой полуулыбкой на лице, которой старательно учат в иезуитском монастыре. Человек, глядя на такое лицо, теряется: и не отталкивают его, но и не приближают. Полуулыбка та говорит каждому: перед тобой служитель божий, наделенный силой, неведомой простому смертному.
Папский нунций назначил место и время встречи.
Рангони, несомненно, принял бы литовского канцлера в своем дворце со множеством тайных входов, плотными ставнями и молчаливыми слугами, но неизвестные люди, о которых было сказано, его смутили. Папский нунций не любил загадок, а неизвестный человек всегда представлялся ему как раз одной из самых сложных задач. Поэтому Рангони и назначил встречу на тайной квартире в переулках Старого Мяста.
На Старом Мясте людно, тесно, но папский наместник давно усвоил, что тайное надежно прячут только там, где его меньше всего ожидают найти. Сейчас кони поспешали к месту встречи. Конечно, подобного рода путешествия были беспокойны для святого отца, но Рангони хорошо знал о возложенной на него миссии и все неудобства переносил со стойкостью истинного сына ордена иезуитов. Осторожность, осторожность, осторожность — вот нерушимое правило святой католической церкви. Нунций был верен этому правилу.
Карета с поднятым кожаным верхом, дождливый вечер, глухие улочки и незаметный старый дом. На сутане святого отца не могло быть пятен, видных прихожанину. О том говорил Игнатий Лойола, а он знал, о чем говорил.
Кони стали. Чьи-то руки откинули кожаный фартук. Рангони вышел из кареты и вступил в растворившуюся дверь. Подол сутаны нунция плеснул алым.
Литовский канцлер ждал папского наместника. Сапега шагнул навстречу нунцию и склонился к руке, а когда выпрямился, Рангони отметил, что кривоносое, с пронзительными глазами лицо Льва Сапеги возбуждено как никогда. «Неужели сведения, — подумал нунций, — которые привез канцлер из Вильны, столь важны?» Острое любопытство кольнуло его, но Рангони ничем не поторопил канцлера.
Внесли свечи. Слуга, поставив канделябр на стол, вышел, плотно притворив за собой дверь. Здесь все — от кучера до последнего слуги — знали: ежели не хочешь накликать бед, держи уши плотно закрытыми. И не приведи господи услышать то, что не следует слышать. Палец, прижатый к губам, — вот истинное веление, которым следовало руководствоваться каждому, вступающему под сень руки католического Иезуса Христа.
Рангони молчал. Разговор следовало начать литовскому канцлеру, но он медлил. Лев Сапега понимал, что стоящий перед ним со смиренно опущенными глазами иезуит ничем не меньше польского короля, во всяком случае, такого, каким был Сигизмунд. С головы Сигизмунда вот-вот должна была пасть шведская корона, ну а польская и не на таких головах, как его, всегда сидела неуютно. Доблестное шляхетство, переутомив себя крепкими винами и жирным бигасом, могло в любой день штурмом взять сейм и провозгласить королем того, кто мог расплатиться в шинке. Речь Посполитая была пороховой бочкой, а фитилем, который поднимет ее на воздух, вполне могла стать и свеча, трепетно горящая на залитом вином столе.
Лев Сапега в своем возвышении многим был обязан Рангони и, видя, что влияние папского нунция в Литве растет с каждым днем, не только не препятствовал, но, напротив, способствовал этому. Он угадывал в папском нунции силу, которая поможет ему в осуществлении давно лелеемых надежд. «Уния между греческой и римской церквами — вот светильник на пути через тьму распри, ослабляющей христиан перед силой Аллы́ и Магомета», — часто говорил нунций. Но не защита христианских границ от магометанского мира заботила Рангони. Другое ставил перед ним папский престол: подчинить православную церковь Риму и поднять высоко папский крест на востоке. Это вполне устраивало литовского канцлера в его честолюбивых устремлениях.
— Я привез из Вильны, — прервав молчание, начал Лев Сапега, — моих шпигов. Они торговцы. Были в Смоленске. Но может быть, святой отец сам поговорит с ними?
Рангони не спеша сел в кресло и, подумав мгновение, ответил:
— Я внимательно слушаю вас.
Лев Сапега сел и, глядя на колеблющееся пламя свечей, сказал:
— В Смоленске распространилась молва о чудесном спасении царевича Дмитрия.
Рангони удивленно поднял брови:
— Дмитрия? Но, ежели мне не изменяет память, он погиб семь лет назад в Угличе и там же похоронен?
— Да, так, — ответил Сапега, — но говорят, что погиб не он, а другой ребенок. Царевич же был спасен верными слугами и скрывается в России.
Рангони осторожными пальцами коснулся крышки стола, будто желая погасить плавающее в темной полированной глубине дерева пламя свечи, и покачал головой:
— В час Страшного суда все мы восстанем из гробов перед ликом господа нашего, но до того никому не дано подняться из-под могильной плиты. — Помолчав, он добавил: — Слух представляется мне малоправдоподобным.
Сапега упрямо сжал губы.
— В Смоленске говорят, — сказал он, — что царь Борис, повелев убить царевича Дмитрия, стал держать при себе, в тайных покоях, его двойника с тем, что, ежели самому не удастся овладеть троном, он выдвинет лжецаревича и заберет трон его руками.
Губы Рангони тронула улыбка, и он еще раз покачал головой:
— То уже второе изложение злой сказки. — Помолчал. — Да, да… Это не более чем злая выдумка врагов царя Бориса. История знала немало лжепринцев и лжекоролей.
Он наклонился вперед и доверительно коснулся колена литовского канцлера:
— Я не вижу продолжения сказки, рожденной в Смоленске.
— Но Россия, — живо возразил Сапега, — подобного не знала, и молва о чудесном спасении царевича чрезвычайно действует на воображение россиян.
— Как? — Рангони прочистил горло и впервые прямо взглянул в лицо канцлера. — Чрезвычайно действует на воображение россиян?
Нунций встал и, неторопливо и мягко ступая, прошелся по палате. Канцлер внимательно следил за ним и почему-то подумал вдруг, что так в польских пущах идет по следу рысь, угадывая рядом поживу. Рысь чувствует живой, острый запах крови, он притягивает ее, но глаза зверя не видят добычи, и рысь дрожит, готовая в любое мгновение сорваться с места и броситься на свою жертву, вонзить в нее смертоносные клыки.
Рангони остановился у окна. Перед ним открылась безлюдная к вечеру рыночная площадь. У дальних домов мокли под дождем впряженные в тяжелые телеги крестьянские лошади. Едва видимые, копошились какие-то люди. Тускло блестел выстилавший площадь серый булыжник.
«Грубая ложь, — подумал Рангони. — Трудно предположить, чтобы она хоть в какой-то мере пошатнула величие столь могущественного самодержца, как государь России». Он криво улыбнулся, зная, что лица его не видит литовский канцлер: «В борьбе честолюбий идут в ход даже истлевшие под могильной плитой трупы».
Рангони заставил себя мысленно расслабиться, полагая, что ему удалось понять до конца и верно оценить весть, принесенную литовским канцлером. И все же в его мозгу мерцали какие-то тревожные сполохи. Так в ночи у края неба мерцают далекие зарницы. Небо темно, чернота покрыла землю, и вдруг нечто неуловимое проблеснуло вдали и погасло. То, говорят, черти костры палят.
Папский нунций поднял руку и слегка коснулся полуприкрытых век. Постоял так мгновение и только тогда вновь взглянул в окно.
На площади, там, где на серых тусклых камнях виднелись неряшливые человеческие фигурки, блеснул свет фонаря. Свет был так ярок и неожидан, что Рангони увидел площадь совсем иной, чем она была в сумеречный предвечерний час — мрачной, глухой и безлюдной. Перед глазами папского наместника зажглись разноцветные огни, площадь заполнило множество веселых, поющих людей в ярких одеждах, тут и там закружились карусели, загудели дудки, ударили барабаны, запели рожки, и в праздничном, бесшабашном, расплеснувшемся на всю площадь потоке радости вихрем закружилась многоцветная юбка пляшущей цыганки. Ярмарка, широкая ярмарка шла по площади…
У Рангони расширились глаза, прижались к голому черепу уши. Он видел торжество сатаны, дьявольский праздник человеческой плоти. И все так четко и ясно продуманное минуту назад вдруг смазалось, замутилось, рассеялось, как дым на ветру. Наместник папы резко отвернулся от окна. Сказал твердо:
— Следует внимательно следить за распространением молвы о чудесном спасении российского царевича. Больше того — сей слух литовские шпиги должны нести все дальше и дальше. Пускай заговорят об этом на базарах, на ярмарках, в шинках. — Рангони перекрестился. — Неисповедимы пути господа нашего Иезуса, и не нам судить о творимом под сенью его креста.
Стремянному полку вышел приказ собираться в поход, и Арсений Дятел закружился так, что не знал покоя ни днем ни ночью. Да и по всей Москве зашевелился народ. Разом — будто бы вихрем — завертело Москву. Бывает так: тихо, ясно, но упадет ветер с безоблачного неба, и запорошит пылью, захлопают ставни, заорет воронье, с криком побегут ребятишки, завопят бабы, замычит скотина — все сорвется с мест, закружится, подхваченное порывом.
Так и сейчас — каждому выпала забота. Лавки в рядах торговых, почитай, и не закрывались. Купцы валились с ног — столько народу поднаперло на торги. Тому толокно или сухари надобны в дорогу, другому ремешок или пряжечка, третьему другую какую вещицу, нужную для похода. На Варварке, на Никольской не протолкнуться. И даже на животинной площадке, в Зарядье, толчея и неразбериха. Мычат коровы, блеют овцы, визжат свиньи, летит перо птичье, и всякий здесь свое ищет и торгует. Да оно и понятно. И в походе хочется не тому, так другому укусить мясца. С мясцом-то оно покрепче. Тут же в хлебном, калачном, масляном, соляном, селедном рядах купцы знай только поворачивались. Лбы были мокрые. Хлеб али калач кому не нужен? А маслица горшочек разве плохо прихватить в дорогу? А без соленого как быть? Селедочка, она, известно, веселит воина. Да и давно ведомо: ежели не хочешь в пути страдать от жажды, съешь кусочек солененького.
— Эй, любезный, заходи! — кричали купцы. — У нас выбор!
За полы хватали. Горячий час — купец за копейку две брал, а то и три.
Ну и, конечно, зарядский люд: кузнецы, скорняки, картузники, портные, колодочники, шапочники, кошелевщики, пуговичники не сидели сложа руки. Каждому подваливали: одному — починить кольчужку, другому — залатать шубу, сапоги или шапку. Горны дышат жарко раскаленными углями, стучат молотки, мелькают острые иголки в ловких руках. И крик, перезвон стоит — больно ушам.
— Давай подходи, дядя!
Меж рядов и лавок толкались площадные дьяки в длинных, отличных от других кафтанах — доглядывали, чтобы не было непорядка или воровства. Глаза у дьяков строги, голоса глухи, кулаки крепки.
— Эй ты, бойкий, — покрикивали, — торговаться торгуйся, а в чужой карман не смей!
И такой-то начальственный кулачище подставят к носу — любой сядет на зад.
У кружал, у харчевен, у погребов с вином тесно. Оно понятно: перед ратным походом почему с дружками не посидеть да не покуражиться? Уйти-то уйдешь в поход, но вот вернешься ли? Собирались не к теще на блины — под татарские стрелы.
Вон мужик в заломленной на затылок шапке кренделя выписывает ногами. Да еще какие выделывает коленца! Пыль летит из-под лаптей. Знать, хватил горячего винца. А вокруг такие же веселые всплескивают ладошками. Москвичи поплясать любят. И вот уже второй вошел в круг, третий — и закружились, захороводились мужики.
Арсений Дятел шел по Никольской — а улица сия домами знатнейших на Москве была весьма украшена — и видел, что не дремлют и здесь. Во всех дворах — бояр Салтыковых и Шереметевых, князей Воротынских и Буйносовых-Ростовских, Хованских и Хворостиных, Телятьевских и Трубецких — суета и беспокойство. Проходя мимо дома Трубецких, Дятел в настежь раскрытые ворота увидел, что сам князь Тимофей Иванович стоит на широком крыльце, а конюхи взору княжескому коней представляют. И каких коней! Арсений даже остановился. На цепях врастяжку подвели к крыльцу вороного жеребца. Грудь что крепостная стена, на крупе впору укладываться спать, шея как ствол матерого дерева. Жеребец зло рыл землю мохнатыми ногами, косил алым глазом и все норовил на дыбы подняться, но конюхи ложились на цепи. Такой конек, понятно, в сече пойдет — и его никто не удержит. Сомнет, истопчет, сокрушит и пешего и конного. Чистое золото, а не жеребец. Воину великая надежда. Арсений видел, как князь Тимофей Иванович подбоченился на крыльце. Лицо князя украсилось доброй улыбкой. Да оно и понятно — всякому на такого конька поглядеть любо.
А еще и других коней вывели. Так бы стоял и смотрел, но заботы торопили Арсения.
На Москве стрелец оставлял жену да троих мальцов, и надо было покрутиться. Хотел, чтобы и без хозяина были сыты и не обижены лихим человеком. Стрельцы жили крепко. У Арсения два мерина добрых, коровы, телушка, полтора десятка овец, разная птица. Вошел во двор Дятел, глянул: с тесовой крыши высокой избы, сложенной в обло, так, что выступали наружу мощные концы бревен, капало, но двор был сух, только у хлева стояли желтые навозные лужи. «Присыпать бы надо», — подумал Арсений, но не стал задерживаться, а прошел за хлев, к ометам, поглядеть, сколько осталось сена, хватит ли скотине до нови. Сенца, слава богу, было достаточно. Арсений все же взял вилы, ткнул здесь, там — остался доволен. Сено было доброе: духовитое, сухое. Поставив вилы для сохранности в затишек, вернулся к избе и, словно бы не видя ее раньше, оглядел всю, от охлупеня до подызбицы. Что слеги, что причелины, что самцы показывались живым, смоляным цветом крепкого, не попорченного ни временем, ни червем дерева. Вот только водотечины чуть подгнили. «Ну да вернусь, даст бог, — подумал Дятел, — починю».
Стукнуло красное оконце, выглянула хозяйка. Арсений и на ней задержал глаза, как будто тоже не видел давно. А была она, хозяйка его, — как и десять лет назад, когда он привел ее сюда из Таганской слободы, — и ладна, и румяна, и ясноглаза.
— Арсений, — позвала, — иди, щи поспели.
Но Дятел еще задержался во дворе. Оглянулся на крик скворца, вернувшегося днями к своему дому на высокой березе у ворот, да и ахнул. И вот встретил не одну весну, но душа человеческая, видно, такова, что до смертного часа открыта лепоте.
Береза была еще обнажена, ветви не оделись молодой листвой, однако в них уже не было зимней сухости и ломкости, а свисали они живыми прядями, и набухшие почки вспыхивали на ветвях до нестерпимости яркими огоньками, вот-вот готовыми брызнуть зеленым пламенем. Три цвета: голубое небо, ослепительно белая кора березы, зеленые огоньки почек, — сливаясь во что-то единое, вечное, невыразимо прекрасное, с неожиданной силой ударили по глазам Арсения так, что в душе у него вдруг заныло, застонало, закричало от сладкой боли. Он положил холодную руку на горло и раздернул ворот армяка. «Нет, — подумал Дятел, глядя на высвеченную солнцем от верхушки до комля березу, — не бывать здесь крымцу. Эдакую красоту сломать и спалить? Нет… Иначе чего же мы сто́им…» Такая береза не живет ли в душе у каждого? По весне побежит по ее коре светлый сок и капля за каплей соберется в берестяном туеске. Один глоток только и надо того сока, чтобы запомнил человек ту весну и ту березу на всю жизнь.
Арсений вдохнул всей грудью так, что захолодило зубы, и бойко застучал каблуками по крыльцу.
А орда была страшна Москве. Помнила белокаменная и кривую саблю, и волосяной аркан, и огонь пожаров, когда трещит, ревет пламя и черный дым — не хворост горит, а человечина — вспучивается над крышами. На Москве с младых ногтей пугали татарином. «Татарин придет», — скажут, и малец, едва переставляющий ножонки, кинется под лавку очертя голову. В крови был тот страх. Татарский конь потоптал Русь. Ох, потоптал…
Но в том, что крымцу в этот раз не бывать на Москве, окончательно укрепился сердцем Арсений во время молебна перед походом в Успенском соборе. В храме, на царском месте, стоял Борис Федорович. Его лоб бороздили морщины. Тут же царица Мария, со скорбью в глазах, и царские дети: Федор, черты лица которого выдавали ум и скромность, и Ксения, блистающая необыкновенной красотой. Позади царской семьи бояре в златотканых одеждах, и дальше тоже златые одежды окольничих, стольников, других знатных людей и глаза, обращенные к иконам, таинственно и грозно мерцавшим древними ликами. Залитые светом, вспыхивали золотом красно-осиянный иконостас, резьба икон, многочисленные паникадила, тканые хоругви.
Службу вел патриарх Иов, и голос его звучал призывно и мощно, как никогда дотоле.
— Даруй, господи, воинству российскому победы над супостаты-ы-ы… — гремело под куполом храма.
Голос патриарха подхватывали хоры и, увеличивая его силу, несли на площадь, где стояли тысячи москвичей.
По окончании службы царь вышел из храма, и народ качнулся ему навстречу. И вот тогда-то Арсений окончательно понял: не бывать крымцу на Москве. Так един, так мощен был людской порыв, что и сомнения в победе не оставалось. И вдруг перед царем выскочил юрод в лохмотьях нестерпимо алого кафтана, с всклокоченными седыми волосами на голове, с гремящими цепями на шее. Упал к ногам царя, распластал изломанные слабые руки, воскликнул вопленно:
— Слава! Слава! — Прижался телом к серым плитам.
Все смолкло на площади. Народ таращил глаза. Юрода знали: известен он был давно на Москве и еще при Грозном-царе вопил на стогнах о жестоких его делах, и тот молчал. А вот и теперь выскочил перед народом. Люди разинули рты: что скажет? Рваные губы юрода кривились. Закаченные под лоб глаза невидяще смотрели на толпу.
— Слава, — Повторил он и, поднявшись со ступеней, внятно сказал: — С победой вернешься, Борис, на Москву, — лицо юрода, залитое слезами, дергалось, — но меч зачем тебе? Меч!
Юрод воздел руки к небу и с диким хохотом пошел на людей. Седые вихры на затылке у него стали торчком. Народ расступился. Все опешили на мгновение. Но тут же загремело над площадью:
— Слава! Слава!
И о юроде забыли. Да и темны были его слова. Как их понять?
Царь пошел с паперти. Шел он непросто и ногу ставил крепко, смело, как ставит ее только воин, готовый к дальнему походу. Грудь его была развернута так свободно, так широко, что каждый видел — этот примет на себя грозу и ярость врага. Голова царя была откинута гордо и властно назад, говоря всем и каждому — он победит! Народ вновь закричал на одном дыхании:
— Слава! Слава!
В тот же день войско двинулось через Москву. Царь повелел идти в поход всем людям, нужным и для войны, и для совета, и для пышности дворской. Выступили в поход князья Мстиславские, Шуйские, бояре Романовы, Годуновы. Меж других знатных людей и Богдан Бельский.
Побеспокоился Борис и о корне своем царском. Для бережения Москвы оставил он доброе войско, да еще и расписано было, кто и где должен стоять. На вылазки, коли такое случится, назначены были воеводы — князь Кашин, добрый воин, известный храбростью, да князь же Долгорукий, также прославленный на бранном поле. Оставлены были бояре при царице-инокине Александре, бояре же при царице Марии и царевне Ксении, а при царевиче Федоре — дядька Иван Иванович сын Чемоданов.
В последний день перед походом Борис побывал у сестры в Новодевичьем и более часу провел у нее. О чем они говорили, осталось неведомо. Известно стало только то, что царица-инокиня, уже давно не выходившая из келий, проводила брата до крыльца и перекрестила вслед большим крестом. Глаза у нее были сухи, рот сжат. Когда же карета царя отъехала, царица-инокиня качнулась от слабости, но тут же выпрямилась и отвела легкой рукой бросившуюся было помочь ей игуменью. Постояла еще с минуту, опершись на перильца, и вернулась в келию, повелев ее не тревожить.
С царицей Марией и детьми Борис прощался в своем дворце. И перед прощанием глянул на бояр так, что понял и глупый: из покоев царских надо убирать ноги. Царь проститься хочет без лишних глаз. Толпясь в дверях, бояре поспешили вон.
Мария и царские дети, как и сестра-инокиня, вышли проводить Бориса на крыльцо дворца и так же — без слез и воплей — перекрестили вслед. Лицо Бориса было строгим, решительным и твердым. Уже с седла глянул царь в последний раз на царицу и детей, и сердце у него зашлось болью, но то было только в нем, а лицо осталось каменным, и прочесть, что таилось за теми, застывшими чертами, не было дано никому. Да и навряд кто-нибудь думал о мыслях Бориса, хотя и смотрели на царя тысячи глаз. Таков уж человек, что, и на царя глядя, об одном мыслит, как жить ему, человеку, под тем царем. Чужая боль мало кого трогает.
Конь под Борисом — поджарый караковый жеребец на тонких бабках, глянцево блестевший под солнцем, — попросил удила и пошел легко, звонко постукивая подковами.
Мария руки прижала к унизанной жемчугом душегрее.
Слез же и воплей было много в тот день в стрелецких слободах. Арсений Дятел едва разжал руки своей хозяйки, сомкнувшиеся у него на шее, шагнул в ворота. Она вопленно запричитала, захлебываясь слезами. Ну да что бабе русской на проводах не поплакать, ежели на Руси и в праздник плачут. И еще одни проводы были на Москве. Семена Никитича Годунова провожал верный слуга — Лаврентий. Сидели они тишком в новых палатах царева дядьки, и Семен Никитич немного-то и сказал, но слова его Лаврентий запомнил крепко.
— Ты здесь поглядывай, — молвил Семен Никитич, — за людьми. Ох поглядывай, Лаврентий… — Покивал головой со значением. — Понял?
— Как не понять! — смело и бойко ответил Лаврентий. — Все будет, как сказано. — И засмеялся, заперхал горлом. — Знамо, народ вор, — стукнул крепеньким кулачком в столетию.
Царев дядька довольно хмыкнул в бороду. Подумал: «Со слугой мне повезло».
— Ладно, — сказал, вставая, — гляди в оба, а зри в три.
Красивые, ох, красивые — заглядывались бабы — глаза Лаврентия еще ярче зацвели. И Семен Никитич не пугливый мужик, совсем не пугливый, но, взглянув в те глаза, вдруг забоялся чего-то. Сказал хрипло, севшим голосом:
— Но, но… Не балуй, Лаврентий.
Лаврентий улыбнулся еще радостней. И Семен Никитич забыл страх. Повеселел. А зря. Сердце вещун, но вот редко слушаем мы его. Пусть его бьется. Лихо обойдет нас. Оно дядю ударит…
А войско, пыля, шло и шло через Москву. Визжали кони, трещали оглобли сталкивающихся телег, и с грохотом прыгали по бревенчатым мостовым звероподобные пушки. Летела щепа, обнажая белое тело дерева. Пушечный приказ расстарался для нового царя. Катили пушки славного мастера Кашпира Гану-сова и еще более славного его ученика Андрея Чохова.
— Эка, — дивились москвичи, — такая пушечка рот раскроет…
Доспехи, конские приборы воевод и дворян блистали светлостью булата, драгоценными каменьями. Святой Георгий звал вперед со знамен, освященных патриархом, и пели, пели колокола.
Войска шли, поспешая. Поспешая же, шагал среди других Арсений Дятел. Кафтан на нем был хорош, пищаль меткого бою на плече ловко лежала, лицо ясно, и смело можно было сказать — такой знает, куда и зачем идет. А ведомо было: ежели всем горячего хлебнуть придется, то уж стрельцы хватать будут с самой сковородки.
По иной дороге и не так живо переставляя ноги шагал Иван-трехпалый. Бойкости не было в нем. Да и какая бойкость у мужика, откуда ей взяться, ежели не знает он, зачем и лапти-то бьет о дорогу? Но все же как ни шагал, а прошел Иван северские городки Почеп, Стародуб, Путивль, Рыльск, Севск, что прикрывали рубежи Руси и от поляка, и от литовца, и от крымца. Боевые городки, и пройти их непросто. Заставы здесь были крепки, стрельцы борзы, воеводы злы, осадные дома со стенами каменными, но вот прошел все же. Сторонкой, правда, оврагами да перелесками. Голову за кустики пряча, а то и вовсе на брюхе. Брюхо-то у мужика сызмала не шибко кормлено, горой не торчит, на нем и ползать способно. Ну да по этой дороге многие бегали. И все больше с поротыми задами, со спинами, рваными кнутом, а то еще и такое видеть можно было: крадется человек за зелеными осинами, а у него лоб повязан тряпицей. Спрашивать не надо, к чему бы такое. И так ясно: с катом повстречался сокол, и на лоб ему положили меточку. Каленым железом. А железо крепко припечатывает. На всю жизнь. Песочком не ототрешь.
Одно спасало Ивана в пути — хоронился по крестьянским черным домам. Здесь многие были злы на беспощадное царево тягло, на безмерные поборы, дани, пошлины, оброки, на начальственных людей. Оберегали. Да оно на Руси всегда жалели беглых. Мужику — не тому, так иному, особенно из тех, что поумнее, — ведомо: сей день в своем доме, а завтра, глядишь, и сам побежал. Такой беглого схоронит от недоброго взгляда. Земля сия была богата — черна, жирна, но зорена многажды. Здесь мужику обрастать не давали, обстригали до голого места. Вон беленая хата на бугре, хозяином изукрашенная любовно. Рушники красочно шитые под образами, затейливый журавль над колодцем… Но налетят вороги, и как языком слизнет и хату, и рушники, и журавль. А хозяина — с петлей на шее — уведут в полон. Отчего так? Почему не сидится, неможется людям, чтобы без огня, головешек на пепелищах, петли на шее? Или они не могут по-иному и вечно будет один давить другого? Кто ответит, да и есть ли ответ?
Иван выглянул из овражка. Огляделся. Глаза безрадостные. Плохо глядели глаза. В дороге запорошило, забило пылью. Но все одно увидел Иван: облитый весенним солнцем, сверкал, играя чудными красками на росной траве, поднимающийся день. В Москве едва брызнуло зеленью с оживших от зимней спячки деревьев, а здесь буйная круговерть уже зашумела, заплясала, закружилась во всю силу сладостной, необоримой пляски торжествующей весны. И казалось, за птичьим щебетом, за звоном ветра было слышно, как шумят, бурлят соки в стволах деревьев, в гибких ветвях кустарника, в самой тонкой былке, сильно, мощно поднимающихся навстречу солнцу; и даже сама земля гудит и поет, переполненная той же силой весны.
— Эка ее, — сказал, моргая гноящимися глазами, Иван. — Да… — И, хрипло кашлянув, каркнул, как ворон: — Эка-а-а… — Растянул, словно понимая, что этот праздник не для него, а для того, кто выйдет в поле, поднимет землю и бросит зерно. И тогда уже, распрямив плечи, сладкий пот сотрет со лба. Вот вправду радость.
Но все же потянулась у Ивана сама собой рука, и он взял горсть земли. Но земля — теплая и живая — легла в ладонь холодным комом, хотя и был Иван кровь от крови и плоть от плоти крестьянский сын. Не ластилась земля к его ладони, не грела ее, но тяжелила, связывала руку, и Иван разжал пальцы. Вздохнул, как приморенная лошадь, вытер корявую ладонь о порты, присел на пенек. Опустил плечи. И так сидел долго, будто разом непомерно устал. Потом скинул со спины котомку, разложил на коленях сиротские кусочки. Сидел, жевал, катая желваки на скулах, мысли тяжело проворачивались в давно не чесанной голове. «Земля, — решил, — то уже не про нас… Ватажку бы вот собрать».
Подумал, как бы хорошо здесь, в леске, соорудить шалашик, огородить засеками — и ходи, гуляй смело. Можно и купчишку ковырнуть темной ночкой. Топориком по голове — и концы в воду. И ежели на одном-то месте не засиживаться, продержаться можно долго. Пока взгомонятся стрельцы — раз-два и ушли всей ватажкой в дальние леса. Слышал Иван на Москве, что ловкие люди так-то годами пробавляются, и пьют сладко, и едят вдосталь. «Вот, — размечтался, — судьба-то завидная, как у птицы лесной: тут поклевал, там и — фи-ить, фи-ить — вспорхнул крылышками». Разнежился под солнцем, прищурил глаза, как кот на теплой печи. А нежиться-то ему судьба не выпала. Его-то она все больше тычком пестовала, а тут, знать, забылась. Но, сразу же опамятовавшись, взяла свое.
За спиной у Ивана кашлянули. Мужика словно хватило поленом по затылку. Спина напряглась. «Да воскреснет бог», — произнес про себя давно не читанные слова молитвы. Испугался, что настигли стрельцы, но не дрогнул, а по-волчьи оборотился всем телом.
Перед ним стояли трое. Глянул Иван и понял: испугался зря. Таким орлам в степь только — воровать. И обрадовался донельзя: вот оно — только о ватажке подумал, и набежали людишки.
Старший из мужиков — он-то и кашлянул — вышагнул вперед. Бок у его сермяги был выдран, в прореху выглядывали желтые ребра. Рот разбит. За черными губами пеньки зубов.
Иван еще больше обрадовался: из бою, видать, мужички-то али бежали от кого лесом, оттого и побились и подрались о сучья да о коряги.
Нет, таких бояться было ни к чему. Подхватил с колен котомку Иван. Хохотнул:
— Что, мужики? Лихо?
Угрюмо глядя на него, мужик в рваной сермяге хрипло спросил:
— А ты кто таков, что нас пытаешь? — и тронул заткнутую за лыковый поясок дубину.
Собрав добрые морщинки у глаз, Иван все так же бойко, как будто и не было нехороших дум, зачастил:
— Как хочешь назови, только хлебом накорми. Ежели водочки подашь — вовсе будет в самый раз.
Слово «водочка» Иван произнес ласково, уважительно, так, что невольно каждый услышавший слюну сглотнул. Ну будто бы не сказал человек, а и впрямь по рюмочке поднес. Вот так: взмахнул колдовски рукой, и на растопыренных пальцах серебряное блюдо, на нем налитые до краев стаканчики. Прими, дружок, выпей сладкой.
У мужика с голым боком дрогнул разбитый рот, губы поползли в стороны.
— Веселый? — удивленно сказал он и повторил: — Веселый. — Лаптями переступил.
Острым глазом Иван приметил: «Не жрамши идут мужики». И сообразил: присел, раскинул котомку. И хотя невелик был запас: полдюжины луковиц да немного хлеба, — но у мужиков глаза заблестели.
— Садитесь, — сказал Иван и опять пошутил: — Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
Мужики к котомке, как к иконе, опустились на колени. Старшой несмело протянул руку, будто не веря, что дошло до ежева. За ним и другие потянулись. И так-то со смаком захрустел ядреный лук на зубах. С полным ртом мужик в сермяге, оправдываясь, сказал:
— Христа ради идем. Третий день крошки во рту не было.
А Иван и так видел, что мужикам трудно пришлось. На лицах, как взялись за хлеб, проступила каждая косточка. Такое только тот приметит, кто сам голодовал. Глаза у человека, что хлеба давно не видел, западают, тускнеют, наливаются белой, незрячей мутью. И коли положить перед ним хлеб, не вспыхнут они, но уйдут еще глубже, проглянут скулы сквозь кожу, обострится нос и все лицо, обтянувшись, жадно оборотится к куску. Иван отвернулся в сторону, чтобы не смущать мужиков. Знал: голодному трудно, коли смотрят, как он руку тянет к хлебу.
Мужики рассказали, что идут они из-под Москвы.
— Мы, — сказал старшой, — вотчинные люди. Князь наш, — мужик перекрестился, — преставился. Осталась его вдовица со чадом. Ну и как положено, — поиграл со злостью желваками, — княгинюшку и затеснили, а нас — и говорить нечего… Вовсе житья никакого не стало… А так мы смирные. — Руками развел. — А защиты нет. Побежишь… — Стряхнул в ладонь крошки с бороды, бросил в рот.
— А куда бежать-то собрались? — спросил Иван не без своей мысли.
— А куда хошь, — ответил мужик, безнадежно махнув рукой, — хотя бы и в Дикое поле. Нам все едино.
— Хорош, хорош, — сказал на то Иван и поднялся с колен, поправил за кушаком топор. — В Дикое поле успеется. А пока и здесь хлебушка добудем. То уж точно. Вы только мне доверьтесь.
Мужики посмотрели на него. В глазах мелькнула надежда. Намотались, намучились, и доброе слово, что масло, смягчало душу. Уж больно жестоко били — верить в хорошее хотелось. Мужик на украйны бежал не легким скоком, но от нужды и только тогда, когда жизнь становилась поперек горла. Легко-то бегут балованные. А русского человека кто баловал и когда? Не знали такого. Все над головой у него небо в тучах, солнышко редко.
Иван оглядывал мужиков, что барышник лошадей. Решил так: «Тощи, ну да ничего… Злее будут». Знал: в лесу чем злее, тем удачливее. «Будет ватажка, — решил, — будет».
Отыскались следы и романовских мужиков, что с Иваном-трехпалым в Москве на Варварке дурака валяли. Степан объявился в Дмитрове. На базаре, что галдел и шумел у Успенского собора, кружил красками — тут клок сенца желтый, там шапка красная на мужике, здесь подмазанная зеленым телега, — вдруг в толпе лицо Степана мелькнуло. Базар бурлил: перепечи румяные, пироги с пылу с жару, меды, квасы, водички разные — ну и понятно, напирают людишки. Тот дует из жбана душистый квасок, этот закусил пирог жадными зубами. Ох, хорошо, ах, сладко… Можно было приметить, что Степан только глазами водил по довольным лицам. На базаре он был лишний.
Цепляя ногу за ногу, мужик отошел в сторонку, присел на подвернувшуюся колоду, ковырял пальцем драный лапоть. Лицо было злым. Бочком, бочком к Степану приблизился монашек. Встал в сторонке и скосил глаз. Любопытный глаз, рыжий. Постоял монашек и, подступив поближе, человечно так, тонким голосом сказал:
— Слава господу нашему Иисусу Христу. — Поправил на груди медный крестик.
Степан повернул к нему лицо, вгляделся. Смирный монашек, но ряса на нем недраная, и хорошие сапоги из-под нее выглядывают. Губы сжаты гузкой, но не алчны, а вроде бы вот-вот готовы в улыбке распуститься. И монашек, точно, улыбнулся. Еще ближе придвинулся, присел на колоду. Подобрал рясу.
Степан хотел было податься в сторону, но так и не встал. Надоело бегать. Устал бояться. Как сидел — так и сидел. Даже не подвинулся.
Монашек поводил носом и оборотился к мужику. Покашлял негромко в кулак, горло от сырости прочищая, и начал издалека. Так-де и так, а жизнь-то вот какая — один пироги с мясцом лопает, а у другого и корки черствой нет.
— Э-хе-хе… — Вздохнул. Перекрестился, замаливая роптания. И опять за свое: — Оно конечно, по-всякому бывает, ежели человек покорен…
И разговор у них сам по себе сложился. Степан, глядя на топчущиеся по базарной пыли лапти, онучи, все монашку обсказал о себе. В кои веки встретил человека, который захотел его выслушать, да и вывалил ему, как грибы из кузова, про черную холодную избу в вотчинах романовских, про Варварку и про юрода, как били в неведомом подвале, про счастливый побег.
Человеку всегда хочется горе свое с кем-то разделить. Так легче. А пожалеют ли его, нет ли — то другое дело.
Монашек только головой кивал, присказывал:
— Господи, грехи наши…
Потом купил калач. Нарядный, обсыпанный белой мукой. Переломил и половину протянул Степану. Степан калач взял и от великой жалости к себе заплакал. Монашек его по плечу потрепал: ничего-де, ничего, бог терпел и нам велел. Степан слезы вытер и припал к калачу. И показалось ему, что ничего слаще он не ел — так вкусен был калач пополам со слезами. А вечером монах свел Степана в монастырь. Тут же, под городом, Борисоглебский. Не настаивал — боже избавь, — а так, слово за слово, увел за собой мужика. Ловко у него все получалось.
Подошли к монастырю — солнце клонилось к закату. Монашек, крестясь, остановился. Степан чуть отстал. Стоял в стороне. Ждал. Монашек кивнул ему и пошел по ступенькам вверх, к алевшим под закатным солнцем монастырским стенам. Солнце светило ему в затылок, и тень от монашка, ломаясь, легла на каменные серые ступени. И так необычно длинна она была, что протянулась до самых стен и там, наверху, почитай под самым небом, голова монашка явственно обозначилась. Степан глянул и изумился до сомнения: кого встретил-то, уж и вправду ли монах-то? Очень уж темна, велика была тень. А голова на стене вроде бы и нелюдская вовсе, а кошачья — круглая и с торчащими ушами.
— Господи, помилуй! — сказал Степан и кинулся бы, наверное, в сторону, однако тут ударили монастырские колокола. «Что ж я, — подумал, — сомневаюсь-то? В монастырь идет монах под святые кресты. Какая уж темнота, кресты оборонят». И успокоился.
Через малое время монашек вышел и сверху, с лестницы, призывно махнул рукой. Степан пошел по ступенькам. Вроде бы кто за веревочку его потянул. Ноги сами ступали по хорошим, крепким камням.
На другой день из монастырских ворот выехала телега. Сидящий в передке монах в серой рясе поддернул вожжи и шумнул на лошадку:
— Но, но, шагай!
Телега застучала по съезду. За монахом, прикрывшись рогожкой от сеющегося холодного дождя, колотился на тощей соломенной подстилке Степан. Поглядывал настороженно, хватался холодными руками за грядушку.
Борисоглебский монастырь был богат землей, но владения пустовали. С людишками было туго. Причин тому немало, но особливо обезлюдила край моровая язва, недавно прокатившаяся по тем местам. Народ ложился как трава под косой. Бывало и так: из деревни выйдет один, много — два человека и околицу затворят за собой. В домах только мертвые тела. И похоронить некому. А землица, известно, сама хлеб не родит. Ей для того надобны мужицкие руки. А где они, руки-то? Монастырские рады были любому мужику, пускай и беглому. Знали в монастыре, что царским указом мужик ныне привязан к земле, и коль назначено ему служить помещику, то он и должен служить до конца дней своих, но не бегать. А ежели побежал — имать и возвращать владельцу. На то и царское веление. Однако ж кто найдет беглеца, ежели его схоронить в дальней деревеньке? А найдут — монастырская мошна толста, глаза у дьяков Поместного приказа алчны, руки загребущи — откупятся монахи. Вот и повезли Степана.
Игумен — черт хитрый — пожевал губами, сказал:
— Свезите… Что уж… Бог простит, так и царь не обидит…
Свое, знать, заботило больше царского. Игумен повернулся, пошел класть поклоны.
Дорога бежала лесом. Телега билась колесами о корневища, монах понукал лошаденку. Лицо у него недовольное, постное. Сивая бороденка торчит клочьями. Небось думал: «А в храме-то, под крышей, не каплет. Вот занарядили беглых возить по непогоди». Со Степаном монах не обмолвился ни словом, а сказано ему было с мужиком быть ласковым, к месту пристроить и взбодрить душой.
Степан, из-за края рогожи поглядывая на монаха, думал иное: «Ишь ты, рожу воротит. Ну да мне без надобности. Не бьют, и то слава богу». Кутался в рогожу.
Тянуло свежим по-утреннему. Степана и вправду не били в монастыре, а щей дали, да таких густых и наваристых, что от их духа заломило в скулах. По-доброму обещали — посадим-де на землю и земля у нас хорошая. Степан придержал ложку, глянул в лицо говорившего и сказать было хотел — а как, мол, то, что я беглый, — но понял: говорить о том не след. В монастыре знали, кто он такой. Монашек все обсказал. Степан проворно работал ложкой. У монастырской чашки, казалось, и дна нет. Не поскупились на щи. А то редко, чтобы поп и был добр. «Ну, — подумал Степан, — наломаюсь у них». Однако рад был безмерно, что сядет на землю. Не привычен был бегать. А вот землю знал и любил. Земля была матушкой для него от рождения. И сей миг, трясясь на телеге по лесной дороге, жадно втягивал в себя запахи щедро напоенной дождем земли. Лаская и бодря, словно родная рука, земля дышала чем-то прочным, надежным, долговечным. «Ишь ты, — думал Степан, — леса здесь какие. Оно и правда, кто найдет меня в чащобе такой? А живут монахи, по всему видно, справно. Щи-то были с мясом».
Игнатий обнаружился в романовских вотчинах. Пришел и заявил: вот-де я, поступайте как знаете. Его жестоко пороли, опускали в сырую яму, вынув, вновь пороли, и так до трех раз.
Приказной человек, когда пороли Игнатия, приговаривал:
— Не бегай, не бегай, служи честно. — Губы собирал строго.
Мужики, стоявшие тут же, хмурились. Отворачивали лица. Били уж больно лихо. Оно конечно, поучить надо, но так безжалостно ни к чему. То лишнее. Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить будет.
Игнатий кричал, пока не охрип и не захлебнулся. Обеспамятев, смолк, по-неживому положил голову на лавку и только вздрагивал, когда лозина влипала в тело.
Ободрав до живого мяса, дали Игнатию клок земли. Он зад помазал деревянным маслицем, чтобы подсох быстрей, и пошел посмотреть на свой клинышек. Шагал, ступая твердо. Рубль, по-прежнему лежавший в лапте, веселил ему душу. И хотя земля была тоща, запущенна, засорена валунами, о которые загубишь любую соху, Игнатий, почесав в затылке, сказал:
— Ничаво, мы привычные.
Глаза, правда, у него были скучные. Стоял на меже, расставив ноги. Лицо черное, скулы угласто проглядывали под кожей, тяжелые руки брошены вдоль тела. Пугало огородное, мужик ли? Со стороны глядя, сказать было трудно. Ан под сермягой билось теплое сердце. Глядя на клинышек бедный, Игнатий неожиданно выговорил:
— Подожди, подожди… Обихожу тебя, вспушу…
Да ласково сказал, заботливо, человечно, словно не сырой земле говорено то было, но непременно живому и живым.
— Подожди… Обласкаю…
Ворона сорвалась с поникшей под дождем осины, обдала Игнатия по-утреннему холодной капелью, с криком полетела через поле. Мужик поглядел ей вслед и шагнул к торчавшему белым лбом из комкастой земли валуну. Навалился — затрещало в спине. Крепко камушек облежался в земле. Вроде бы врос корнями. Но Игнатий был упрям.
— Ничаво, — повторил и налег на камень со всею силою. Так решил: с рублем, что был в лапте, многого можно достичь. А зад что уж! Подживет. Какой мужик на Руси не порот? Такого не знали.
В сельце Кузьминском войску было велено остановиться. От Москвы до Кузьминского невелик переход, но допреж дела не хотели ломать ни людей, ни лошадей. Приказ вышел — разбить стан. Пыля, поскакали, рассыпая звонкую дробь, всадники обочь дорог и тут и там закричали:
— Стой! Стой!
Борис — ему придержали стремя — сошел с коня и, разминая после скачки ноги, прошагал под сень вздымающихся в небо дубов. Еще безлистых, черных, корявых, нависавших над землей суковатой громадой. Царю поднесли серебряную лохань — ополоснуть руки и пыльное лицо, но Борис отвел ее в сторону и, пройдя вперед, остановился на краю крутого холма.
Наступил тот час, когда солнце уже ушло за горизонт, но лучи его, лишенные ослепляющего блеска, освещают оставленное на земле так ясно и четко, что можно и за версту разглядеть каждый кустик и каждую травинку.
«Пить-пить, пить-пить», — пропела где-то птаха, прощаясь с уходящим днем, и Борису в тонком ее голосе послышался вопрос: «Что же тайного может быть в жизни людской, ежели и бескрайнюю землю высветить можно до последней травинки?»
Голосок птичий — звонкий, веселый, и, может быть, птаха и не спрашивала вовсе, но утверждала? Так уж чист был голос, так ясен: «Радость — вот вершина жизни, люди. А где она у вас?»
Борис ссутулил плечи и вгляделся в синеющую предвечернюю даль.
Все дни после смерти Федора Иоанновича Борис, напрягая себя, делал вид спокойный и уверенный, но в нем, как вода подо льдом, не избывала тревога. Но он крепился душой и когда сидел в Грановитой палате перед думными или отдавал приказы и распоряжения, когда службы стоял в Успенском соборе под древними иконами или сходил в лепоте царственной с Красного крыльца навстречу валившемуся перед ним народу. И хотя хоругви шумели над головой, царские одежды сверкали золотом и драгоценностями, народ кричал: «Слава! Слава!» — тревоги и сомнения бередили мысли и сердце Бориса, пугали, пригибали голову, и он, напрягаясь, сопротивлялся им всем существом, боясь выдать страх и неуютность свою не только дальним, но и ближним.
И сейчас, выведя в поход великое ополчение, он был так же полон опасений и тревог. Непроходящее беспокойство жило в нем, как боль старой раны, сосало душу, рождая неуверенность и раздражение.
За спиной царя раздались негромкие голоса, но он не обернулся, охваченный, как лихорадкой, нездоровым, знобящим холодом недоверия ко всем и каждому.
«Пить-пить, пить-пить», — бил в уши нежный голосок, все спрашивая и спрашивая об одном и том же.
Перед Борисом открылось сельцо Кузьминское: серые крыши изб, кривые улочки, огороды. Белой костью посредине сельца торчала высокая колокольня с ободранным, тронутым ржавчиной куполом. Борис, не останавливая взгляда на привычном виде сельца — таких было немало окрест Москвы, — среди домов, в улицах и ближе, ближе к холму, на котором стоял, разглядел множество людей. И там и тут торчали к небу поднятые оглобли телег, искрами вспыхивали шлемы воинов, оружие и кольчуги. Уже кое-где горели костры, и многочисленные дымы молочно-синими столбами вытягивались в небо. Стояло безветрие. Благодатная тишь, которая наступает после заката уставшего за день солнца.
Царь вгляделся пристальней и увидел дымы костров и фигурки людей дальше за сельцом, у зеркально сверкавших прудов, у темневшего у окоема леса. И там поднимались к небу оглобли телег, вспыхивали шлемы воинов и их оружие. Не было, казалось, ни кустика, ни деревца, под которыми не расположились бы люди, ни ямочки или увала, где бы не разгоралось живое пламя костров. И все это многолюдство двигалось, перемещалось в непрестанной суете разбиваемого стана, то ясно выказывая себя, то скрываясь в складках уже затененных сумерками холмов. Стан показался царю вешним половодьем, залившим окрест всю землю, — так многочисленна и велика была рать. Но не огромность стана поразила Бориса: он знал, сколько ведет за собой войска, и это не могло его удивить.
Снизу, с долины, широко раскинувшейся перед холмом, поднимался ровный, глухой гул: ржание лошадей, звяканье подков, стук телег, звон топоров, многочисленные людские голоса накатывались на холм, как шум вековечного леса, возмущенного порывом сильного ветра, или как грохот и треск могучего пламени пожарища. У-у-у — ревет огонь, бушуя и клокоча, у-у-у — и в голосе торжество силы, противостоять которой не может никто. Борис видел пожары, охватывавшие целые города. В огне с оглушающим шумом рушились колокольни церквей, как игрушечные разваливались избы, сложенные из вековечных бревен, и сами мостовые, выстланные мощными стволами, пылали под ногами людей, которым оставалось одно: молить бога, дабы остановил несокрушимую силу.
Борис острым, напряженным слухом уловил в слитном, сплошном гуле войскового стана эту ликующую ноту силы, и она неожиданно прогремела для него как обещание, залог, уверенность в будущем. Нет, не колокола ударили вдали так, что вздрогнул царь, не литавры прогудели, не гром грянул, раскалывая небо, но ровно, спокойно, явственно прозвучало: «Победа! Победа! Победа!» И разом Борис понял умом и почувствовал сердцем, какая власть обретена им, какое оружие у него в руках. До того не приходилось ему окинуть единым взглядом выведенную в поле рать. Он видел стрелецкие полки, но вот так, все вместе, войско не представало перед ним, и сей миг мощный, уверенный голос рати словно говорил ему: «По слову царскому закричали бирючи в Новгороде и в Ростове Великом, в Угличе и в Коломне, в Дмитрове и в Ярославле; твоя воля всколыхнула толпы людей, сорвала с места и повела за собой — чего же стоят твои тревоги, беспокойство, неверие? Не должно быть им места!» И сказано это было так убежденно, так властно, с такой проникающей в душу силой, что Борис изумленно спросил себя: «Почему же я сомневался?» И тревоги, сковывавшие царя все последние дни и месяцы, вдруг отпали, как отболевшая короста.
«Пить-пить», — ударила в последний раз птаха и смолкла, словно добившись своего.
Борис отвернулся от долины и, ступая по мягкому пушистому ковру, вошел в царский шатер.
Лицо царя было по-прежнему неподвижно и замкнуто, но все же оно стало другим. Будто бы в груди у Бориса возгорелась не видимая никому свеча. Ровный ее свет согрел его, высветил темные закоулки души, еще мгновение назад пугавшие Бориса своей чернотой, наполнил спокойствием. Царь прошагал через шатер, сел на походный стульчик, изукрашенный золотом и костью, свободно откинулся на спинку, полуприкрыл веки.
В шатер ввели ушедших тайно из Крыма литовца и цесарца, татарина, присланного оскольским воеводой. Вперед выступил толмач. Бояре, сидевшие на лавках — по правую и левую руку от царского стульчика, — насторожились. Вытянули шеи. В шатре повисла такая тишина, что Борис вновь услышал ровный и мощный гул, накатывавшийся из долины на холм. Даже толстые войлоки и плотные ковры шатра пропускали так ободривший царя победный голос. И Борис не поторопился с вопросами к пленникам, но лишь вгляделся в лица своих бояр, словно обретенная уверенность подсказала: не там, в ратном стане опасность для тебя, а здесь, под пышным пологом царского шатра, среди твоих слуг.
Годуновы объявились при дворе московского самодержца при Грозном-царе. До того прозябали в небрежении в костромских своих владениях. Лопухи, пруд с карасями, сопливые крестьянские дети, разбитая дорога, уходящая от помещичьего дома куда-то вдаль. Собака невесть на кого взлает, с дребезжанием ударит надтреснувший колокол на церквенке, и опять тишина. Дни уходили, как вода в песок. Серые, тоскливые, не нужные никому, невесть для чего проживаемые. Да так бы, наверное, все и осталось, но вот дядя Борисов — Дмитрий Иванович — шагнул высоко, взяв под руку Постельничий царев приказ. Не понять, как и вынырнул из неведения. Но, вынырнув, незаметно, тишком пошел в гору. Не обидел никого и кровью не запятнал себя. Однако кто обставляет царю жизнь удобно, кто проводит ночи рядом с самым сильным мира сего, оберегая и холя помазанника божьего? Постельничий. И уж он выберет миг удобный подойти неслышно в сапожках мягких и на ушко царю шепнуть то или иное. Да еще позаботится шепнуть так, дабы услышали. А словечко такое, сказанное к месту, творит чудеса. На Руси без него трудно отворяются двери, круты ступени, длинны и ухабисты дороги. Лоб расшибешь об стены, ноги изломаешь о камни. А вот «шу-шу» в сильное ушко — и в глухой стене дверцы распахиваются, лесенка, что мягонькая стежка, расстилается, а дорога — свернул за поворот, тут и конец ей. Бить лоб и трепать ноги нет нужды.
А постельничего своего — Дмитрия — Грозный благосклонно слушал. Дмитрий Иванович — благостный, тихий, истовый — и Бориса подвинул. Стал тот стряпчим в его приказе. Чин хотя и малый, но возле царя обретается стряпчий Постельничего приказа, а уж одно то многого стоит. На такой службе еще не густо, но уже и не пусто. И опять же «шу-шу» в ушко — и Борис был назван окольничим. Великие московские роды окольничим тем пренебрегли. Что им, знатным и родовитым, до безвестного юноши? Им ли бояться соперника? Да и мало ли вокруг царского престола во все времена вилось голи! Ишь ты, Бориска Годунов, окольничий, из костромских… Как вынырнул из неведомого, так и уйдет в небытие. Трон, ведомо, что мед, и муха к нему льнет. Но, думали, муха не прокусит брюха. А еще от гордыни великой и по-другому говаривали: «Орел мух не клюет». Меж тем безвестный юноша женился на дочери всесильного, страшного даже именем своим Малюты Скуратова, а сестра юноши стала царицей. Вот так-то. Не ждали, не гадали, не ведали. Вот тебе и юноша розоволикий, с наивными, кроткими глазами. Все в сторонке стоял, с краешку, вперед не выпрыгивал, голоса не слышали от него, и раз — он уже первый у трона. Правит делами державными. Ахнули сильные на Москве, ан поздно. Правитель! Сцепили зубы, сжали кулаки. Ноготки от злобы впились в ладони. Власть-то делить не хотелось. Но правитель уже крепко стал на ноги. Не бабка в дитячьих играх — палкой не сшибешь.
— Ах, не сшибешь? — оскалились.
И закрутилось, завертелось, заколобродило лихо по Москве. Меж дворов слова полетели:
— Годуновых на шею наколачивают?
— В Костроме в лаптях ходили, а выше Рюриковичей сесть хотят?
— Гедиминовичей отпихивают?
Глаза щурились. Губы растягивались в нехорошей улыбке. Голоса наливались черной злобой.
— Почему? Откуда такое поругание древней крови?
Но то все разговоры. Дело надо было варить, и заварили. Варить дворцовую кашу на Москве всегда было много мудрецов. Стены кремлевских домин толсты, окна тесны — голосов из-за них не слышно. А за стенами, за оконцами теми не один вопленно крикнул, заплакал кровавыми слезами. Власть-то высокая не только честь, но и боль. Подвалы глубокие, темные, гнилые в правительских дворцах не для того роют, чтобы солить в них огурцы. Много бы рассказали те подвалы, но двери на них навешены крепкие, кованные из железа, и затворены они навечно от людских глаз. Открывают их порой после смерти того или иного правителя, кто наломал так, что дышать нечем, и то только узкую щель приоткрывают, а в нее, ведомо, увидеть можно чуть. На том власть на Руси стояла, стоит, да и стоять еще, наверное, будет долго. Так считают: позволь мужику заглядывать куда не велено — заговорит. А нужен ли мужик со своими словами? Он ведь такое нагородит! Нет, лучше уж пускай он не видит, не слышит, а главное — помалкивает. Оно покойнее. От века написано мужику лямку тянуть, вот и тяни. Чего еще-то? Ишь ты…
Шуйские подняли посады. Андрей Шуйский на тайной встрече с торговыми людьми при свете пригашенных свечей говорил:
— Сидите на мешках своих, а Бориска Годунов нож наточил. Всколыхнетесь, да поздно будет.
Тряс бородой. От злобы великой царапал ногтями крепкую столешню, и лицо от натуги и сжигавшего завистливого адова огня пылало багровыми пятнами. Посадские хмурились — все же страшно было против правителя идти. Но раскачали и их.
— Мы вам радетели, — скалился боярин Андрей, — вы нам поможете — и мы вас не забудем.
И уже кое-кто за поясом нож шарил. А боярин Андрей все наддавал, силился, да и знал, как мужиков торговых за душу взять, поддеть за живое.
— Вот, — Говорил, — Борис-то клонится все больше к купцам аглицким да немецким. Смотрите, позападают ваши дворы. Англичанина да немца вам не перешибить, коли Борис беспошлинно позволит торговать им на Руси, а у него за тем не станет. Ему плевать на вас.
Лез в карман. А тут уж торговый мужик свирепел. Попробуй-ка у торговца отнять копейку! Он зарежет. Через копейку ему не перешагнуть и под крестом. Одной рукой креститься будет, а в другую возьмет нож.
— А что, ребята, — заговорили на посадах, — изживет нас Борис. Подниматься надо!
Зашевелились. В лавках, в торговых подвалах — крик, шум. Стало не до торговли.
— В набат ударить и навалиться скопом!
Шуйский, как на каменку, горячим подбрасывал:
— Без порток останетесь. Разденет посады Борис.
Ну и не без вина, конечно, обошлось. В таком разе вино первый помощник.
А под хмелек да песню можно много наворошить. И глядь, тут уже бочку горячего разбили, там донышко ковырнули.
— Подходи, подходи выпей!
И еще в бочоночек топориком — тук. И все огневое, огневое в кружку:
— Пей, пей, да не забудь, кто налил!
Меж собой верхние говорили по-другому:
— Вона, оглянись — Речь Посполитая, Литва… Там шляхетство вольно. Каждый пан — пан. Его властью не задавишь сверху. Прибьем Бориса, по своей воле править будем. Федор блаженен, телком будет послушным. Была, была боярская воля на Руси, куда как славно жили.
Вспоминали золотые дни.
И на Варварке по ночам на подворье Романовых тревожные огни вспыхивали в окнах, скрипели тайные калиточки, отворяемые для неведомых людей, взлаивали псы. А на подворье Шуйских в ночи голоса, похрустывает снег под злыми каблуками. В домах Мстиславских беспокойно… И «шу-шу», «шу-шу» там и тут:
— От служивого племени крапивного житья не стало. Приказы задавили: и то покажи, и в том ответ дай. Или мы в своих вотчинах не хозяева?
А о правителе уже и не говорили, но шипели только:
— На нем креста нет… Все может. Вон к Ирине-царице, сестре своей, не надеясь на мужскую силу Федора, людишек допущает из тех, что до баб люты… Чадо, чадо своей крови хочет посадить на трон. Федор о том прознал и палкой бил его, а Борис-то, Борис ножом Федора чуть не запорол, едва удержали.
Желтой слюной исходили:
— Царица девочку родила, а ее подменили мальцом стрелецким. Благо, царь Федор угадал обман, а так быть на троне неведомому выродку.
И опять «шу-шу», «шу-шу»… Вали кулем, там разберем. Лишь бы погрязнее, погаже, погуще, почернее.
От таких разговоров у людей мутилось в головах.
— Нда… Вот тебе и клюква… — И, руку загнув за спину, скреб по ребрам человек.
Да тут уж скреби хоть по всем местам — не поможешь. Только вот и сказать оставалось:
— Нда…
Борис с походного стульчика все взглядывал и взглядывал на бояр. И те затихли, придавленные его взорами. Видели — задумался царь. И о чем? Темна царская душа, и как обернется дума царева — неведомо. Уж лучше, когда весел царь. А Борис был невесел. Куда там… Губы плотно сжаты, глаза затенены веками — не угадаешь в них ничего. Зябко под таким взором.
Царь оборотился ко входу в шатер и остановил взгляд на главном своем телохранителе, капитане мушкетеров. Тот стыл в каменной позе: руки в черных перчатках на эфесе упертой в пол тяжелой шпаги, грудь, одетая в панцирь из буйволиной толстой кожи, бочонком вперед, лицо под козырьком боевого шлема. И все же видны были грубые морщины по бокам хищного, как щель, рта, крючковатый нос, торчащий вперед, словно кованая подкова, подбородок. Глядя в неподвижное лицо капитана, Борис припомнил лихую, вбитую в голову на всю жизнь ночь.
Накануне узнано было, что князь Андрей Шуйский ездил на литовские границы и встречался с литовскими панами. Не давала покоя верхним на Москве литовская и польская вольница. Бояться нужно было в любой час ножа в спину. Борис кожей нож тот чувствовал — вот-вот вопьется. Ходил по лестницам дворцовым и оборачивался. Сейчас, мнилось, прянет человек из темноты. Дыхание перехватывало. И все больше и больше вокруг подворья Годуновых похаживало крепеньких мужичков из посадского и торгового люда. Так-то на каблучок, осторожненько, ножку поставит молодец, на носочек обопрется, и видно: ходить-то он ходит, а до того, как прыгнуть ему, миг остался. И улыбочка неласковая на лице у такого, глаза так и шарят из-под прищуренных век.
И кинулись.
Борис услышал в ночи, как торопливые шаги застучали в доме. В спальную палату вбежал верный человек. Лицо будто обсыпано мукой, рот разинут. Выдохнул:
— Боярин!
Борис бросился к оконцу.
В ворота ломились, по заснеженному двору бежали мушкетеры. Один оборотился ко дворцу, и при свете факела Борис узнал капитана. Капитан вскинул в руке шпагу и, крикнув что-то мушкетерам, заторопился к воротам. По подворью гулял метельный ветер, рвал огонь факелов, свистел. В ворота садили бревном. От плах брызгами летела щепа.
В ту ночь отбились. Розыск был краток. Андрея Шуйского на телеге в деревню свезли, в ссылку. Торговых мужичков покрепче пощупали. А кое-кому и лихие головенки поотрубали. Так-то палач ухватил за волосы, пригнул к плахе, и тяжелый топор ударил сильно: хрясть!
Воронье, московское заполошно сорвалось с обмерзших, покрытых инеем стен, святых крестов, с дворцовых башен — заорало, закувыркалось в синем безмятежном небе. Ну да что вороне московской стук топора. Она к тому навычна. Поорала стая да и села все на те же святые кресты, на зубчатые, чудно изукрашенные стены до другого раза подождать, когда загуляет топор. Нахохлились птицы. А оно резон был к тому. В который раз увидеть воронью довелось, что на плаху-то уложили не того, кого след. Гнездо Шуйских разворошить поопасался правитель. А побить мужичков на Москве — забава. Нахохлишься и головку — хоть и птичью — спрячешь под крыло. Слабого бей под дых — он упадет легко. А вот сильные трудно падают, да еще и неведомо — завалится такой да тебя же и придавит. Нет, лучше на святой крест повыше сесть, растопырить перышки и не глядеть, что там в людском море.
Народ с Пожара расходился, повесив головы. Кровь алая на снегу — не маки. Палач в овечьей сушеной личине, в короткой рубашке похаживал по ледку. Шевелил плечами. Только-только разогрелся в веселой работе. Постукивал каблуками…
Капитан мушкетеров, почувствовав на себе взор царя, тут же настороженно оборотился к боярам, словно выискивая, кто из них сейчас опаснее. Из-под козырька боевого шлема острый глаз резал черным зрачком.
Пленники литовский и цесарский показали, что орда уже вышла из Крыма. Татарин промолчал. Но было видно и без слов — так зол, что слова не идут из горла. От него веяло на сидящих в шатре гарью пожарищ, посвистом сабель, бранными криками боли и ярости.
Бояре насупились. Ясно стало: собрались не на соколиную охоту, с застольными чарками, мягкими коврами, лебяжьими подушками. Нет, не на охоту, но на сечу.
Капитан мушкетеров так и не отвел взгляд от бояр. Борис молчал. Вот так и сидели в царском шатре, собираясь оборонить Русь.
Арсений Дятел, отбрасывая липнувшие ко лбу волосы, закинул голову и увидел парившего высоко в небе ястреба. Величественная птица плыла в бескрайней синеве, распластав крылья, так царственно, так мощно, словно не было для нее ни расстояний, ни бурь, ни злых стрел охотников, но все пространство небесное и то, что раскрывалось на земле, были ее, только ее, и она здесь полноправно властвовала.
Арсений проводил птицу взглядом, отер мокрый лоб и вновь склонился над лежащей у ног тесиной. Рубили гуляй-город. Гуляй-город соорудить — дело большое. Сколько лесу надо повалить, вытесать, плах сбить, поставить высокой стеной на колеса, вырезать бойницы, установить крепи, за которые бы люди держались, двигая гуляй-город на врага, — и не сочтешь. В бою с крымской конницей гуляй-город, который катят впереди наступающего войска, многажды приносил в сражениях успех русскому воинству. Не один конь расшибся о его стены, и не один всадник, так и не доскакав до русских рядов, пал под меткими выстрелами его защитников, хоронящихся за толстыми плахами. Стрелы крымские не доставали русских воинов. Гуляй-город, бывало, стоит, словно еж, утыканный вражескими стрелами, а держится. Защитники живы. Не достает их лучный бой. Пытались крымцы поджигать гуляй-город горящими стрелами, но и такое не помогало. Русские стали обмазывать глиной деревянные щиты, и она гасила огонь.
Рубить гуляй-город крикнули охотников перед всей царевой ратью. Арсений с Игнашкой Дубком вызвались из полка. Мастерство плотничье знали стрельцы, да и ведомо им было: кто рубит гуляй-город, тот и в бой пойдет впереди других. Оно конечно, под крымской стрелой голову сложить они не торопились, но Арсений так считал: вышел в поле, чего уж за чужие спины хорониться, шататься не моги, иди смело, а там как бог скажет. Кровь загорелась. Стоял май — веселый месяц. Веселись, маю поклонись! И малая птица соловей, а знает — в май песню давай! А уж человеку да не развернуться душой? Вона какие росные восходы, алые закаты, необозримые дали. Нет, в май горевать — радости не знать. Вот и пошли. Оно и в драке победителем не будет тоскливый. И здесь нужна широта, душевный размах. На кулачках веселый побеждает, угрюмого бьют. Такое примечено давно.
У Арсения топор в руках вертелся колесом. Щепа, облитая молочным соком, летела брызгами. Тесину прогнав, Арсений шагнул к зрелой, в добрый обхват, сосне. Вскинул топор, Ударил в медно загудевший ствол. В пару Арсению встал Игнашка Дубок. Топоры заходили колесом. В распахнутом вороте Арсения, на широкой, облитой жарким потом груди, мотался крест. Вспыхивал под солнцем. Глаза горели.
— Ну давай, — дышал стрелец всей грудью, яря и подбадривая дружка. И так-то они взялись взапал, что соседи, оставив работу, поглядывали из-под ладоней.
Топоры у стрельцов сыпали искры над головами. И не верилось, что так можно поспешать. Вот-вот, мнилось, столкнутся у них топоры да и покалечат молодцов. Но такого не случилось. В лад, им только и ведомый, били и били стрельцы в сосну, обсыпавшись вокруг ослепительно белой щепой, крепко пахнущей смольем.
В работе русский мужик спор и ловок — дело бы только было в охотку. Конечно, со стороны глядя на стрельцов, больно было думать, что могучая сила растрачивается не на работу, творимую для жизни, но на сооружение боевого снаряда. Человек-то родится не для боя, но для доброго труда и продолжения рода. С такою бы силой мужикам для души орало вести в борозде. Да и многажды было сказано уставшими от сечи людьми: перекуем мечи на орала. Оно так бы и хорошо. Ан нет, не получается. Чаще орала перековывали на мечи.
Вершина дрогнула. Затрепетала и, ускоряя и ускоряя падение, рухнула с шумом сосна. Не медля ни минуты, мужики бросились обрубать ветви.
А стволы с треском и грохотом валились по всей опушке. И там и здесь стучали топоры, с хищным хрястом вгрызались в текучее светлой смолой дерево пилы, гремели молотки. И голоса так и летели в просвеченном солнцем лесу. Простор, пьянящий воздух весеннего леса заставляли шагать шире, двигаться размашистее. Смелели людские голоса. В городе-то, в Москве, теснота. Дома друг к другу лепятся. Улицы завалены серой золой, непотребностью всякой. Весной и осенью грязь — лошади тонули. Споткнется и — бух с головой. Мужик успеет вытянуть — будет жива, а так — захлебывалась. Летом пыль: детишки пробегут, и непонятно — не то их русская мать родила, не то какие арапские карлы забежали со стороны. Глаза только да зубы блестят, а лица — ну точно арапы — черны. Зимой еще хуже: снег по уши — не пробьешься. Да и перегорожены улицы плахами, колодами, решетками, рогатками от лихих людей. Тыны, частоколы так и напирают на человека со всех сторон. Над головами пугающие кресты церквей, церквенок, часовенок, бочкообразные крыши боярских домов и приказных изб с колючими, ершом, коньками. Да и черно в городе от корявых стен, углов гнилых, червем изъеденных заборов. Не больно-то расшагаешься и голос поднимешь. А здесь, в лесу, вольно. Душа отдыхает. А ей-то, душе, ох как отдохнуть охота. Мало о ней человек думает. Все хлопочет, все недосуг ей, ретивой, дать передохнуть.
По опушке меж людей погуливал ученый дьяк. Поглядывал острым глазом из-под круглых жестяных очков. О дьяке говорили — то выученик знаменитого городельца Выродкова Григория Ивановича. Григорий Иванович при взятии Казани Грозным-царем такую соорудил башню и так подвинул ее к Арским крепостным воротам, что татары и ахнуть не успели, как русские зажгли город, проломили стену и ворота.
Дьяк осторожненько похаживал. Лицо круглое, да и весь он мягкий, чувствовалось, рыхлый, не прыткий — напротив, тих и уважителен с каждым. Погонять не погонял никого, да и слово-то не торопился молвить, но, ежели нужно, и за топор брался. И видно было: то уж мастер так мастер, избу без углов срубит. Дерево что мягкая глина под топором у него. Изумлялись и умелые — какая ловкость человеку дана. И ведь вот что: вид домашний, а великий знаток по воинскому снаряду. Правду говорят: не верь тому, что наперед выступает в человеке — молодечество ли, лихость? — в работе взгляни. Вот то истинно обскажет мужика. А так что — один норов.
Лесину, заваленную Арсением и Игнашкой, очистили от сучьев и потащили к козлам, где мужики длинными пилами разваливали стволы на плахи. Под хлыст — лесина уж больно тяжела была — встало четверо, а под комель — Арсений с Игнашкой. Сосна легла плотно на плечи. Игнашка крякнул, но удержался на ногах. Только раздулась шея да спина вспухла буграми. И, глядя на ту спину, Арсений подумал: «Скажи-ка, молод ведь, а кряжист. Правда, дубок». Лесину понесли чуть ли не бегом.
Гуляй-город, почитай, был готов. Щиты — крепкие, высокие — стояли по всей опушке. Вот так вот: навалились миром и сработали урок.
Москва, как ушло ополчение, затихла, будто заснула. На что Китай-город бойкое место, шумное, но и здесь безлюдье и тишина. И колокола не бьют. Нехотя там или тут ударит колоколишко да и смолкнет. Вроде бы утомился звонарь, дернул раз только за веревку и устал. Опустил руки или, больше того, прилег на лавку. Взашей-то никто не гонит, чего уж колотить до одури. А бывало, обгоняя и торопя друг друга, гудят колокола певучей медью. Так и сыплют скороговоркой с небес у славной церкви Варвары и не менее славной церкви юрода Максима. Будят совесть православных добрые колокола Ильинского монастыря. И всех покрывает мощный голос многопудового молодца старинной церкви Дмитрия Солунского. Так-то брякнет — бом! — и душа, хотя бы и зачерствевшая во грехе, затрепещет. Отзовется на тот звон. А ныне — сумно.
Нищие и те приуныли. То не пробьешься на Варварке среди гнусящих, просящих, требующих. Шлепают лаптями по навозной жижице, тянут серые ладони, бойко полы рвут, скалят зубы. Не выпросят — так отнимут. Держи на запоре карманы, а то получиться может, что ходил по шерсть, а пришел стриженым. В Китай-городе все бывало. Здесь и безрукие могут пошарить по карманам, безглазые высмотрят, где плохо чужое лежит. А сейчас сидят убогие на папертях, головы утопили в лохмотья — грязные, рваные, нечесаные — молчат. Тесанные из камня серые ступени, серые лица и глаза как оловянные ложки, от веку не чищенные.
— Ради Христа-а-а… — тянет старая ведьма на углу, а по голосу чувствуется — и ей неохота вякать. По привычке дерет горло.
Под древними крестами, над высокими колокольнями, плывут ленивые облака и тоже вроде бы затосковали. Цепляются за кресты, останавливаются в бесцветном небе, заглядывают в улицы. Может, спросить хотят: что-де там у вас, люди, уныло?
На Мытном дворе, где всегда гвалт и неразбериха — без крику не взыщешь мыт, — только драные псы по пыли бродят. Щелкают блох желтыми клыками. Нет подвозу — и нет мыта. А что везти-то? Москва пуста, ушел народ.
Мальчонка с грязным задом бредет посредине бойкой во все времена Варварки, загребает пыль кривыми ножонками. И тоже не сядет на хворостину, игогокая, не поскачет. Знать, и ему скучно. А зад вспухший, в ссадинах — вложили парнишке ума. Идет, мотает сопли на кулак. Поплакаться и то некому. Сумно, сумно на Москве, и постными щами тянет в улицах. На такой запах не облизнешься.
Но и в обезлюдевшей Москве вышел Лаврентий за рыбой. А может, ищет зверя? Али чего другого? Такой рыбак знает, что рыбка иной раз клюет в вёдро, а иной раз, напротив, в дождичек. Знать надо приманку. А зверь в ямину, вырытую опытным человеком, заваливается не только в темную ночь. Бывает, угодит и при ярком солнце. У Лаврентия-то, старателя, и зверь, и рыба особые: хаживают на двух ногах. И верши он плетет не из ивовых прутьев. Ему ива ни к чему.
Ныркой, жилистой походочкой Лаврентий шел по Варварке. Ступал на прогретую солнцем землю. Взгляды осторожненько забрасывал и налево, и направо. Все видел удалец, все подмечал. Вон у забора сидит баба, вытаращила глаза — дура дурой. Пущай сидит. А вон у кабака людишки показались — то уж другое, то важно. Лаврентий прибавил шагу. Кабатчик поклонился ему с крыльца. Рукой на приотворенную дверь показал да низко поклонился.
В кабаке о человеке знают больше, чем в церкви. Поп заставит ли еще рассказать о потаенном, а вино завсегда вынет правду. И не у длинногривого, а у кабатчика спросить резон: кто и чем дышит? Кабак от веку на Руси исповедальный дом. То дурак только скажет, что сюда люди вино пить приходят. Вино они, конечно, пьют, но не вино ведет их в кабак. Лаврентий такое знал.
За ручку поздоровался с кабатчиком верный слуга Семена Никитича. Да еще, поздоровавшись, ласково, приветливо улыбнулся. На крыльце размялся, потопал ножками. Шапочку лихо так, молодецки, щелчком сдвинул со лба на затылок. Не спешил. А зачем ему торопиться, Лаврентию? Торопится тот, кто не уверен, что поспеет вовремя, а он знал — угодит в самый раз. Не раньше, не позже.
Кабатчик распахнул широко дверь, и слуга Семена Никитича, перекрестившись смиренно на торчащие из-за крыш, обгаженные вороньем кресты церкви юрода Максима, шагнул через порог. Кабатчик ужом мимо и все сбоку старался забежать и заглянуть в глаза. Лаврентий прошагал за стойку в дальнюю комнату, сел к столу. Ровненький, пряменький и локти прижаты. Другой развалится за столом, растопырится, и, слова с ним не сказав, видно — душа нараспашку. А к такому вот, ровненькому, подходи всегда с опаской, потому как неведомо, что у него на уме. Ровненькие во всем опасны. Так и гляди, почто он прижал локти. Неспроста. И ежели поначалу не видно, потом скажется.
Перед Лаврентием засветилась свеча — вроде бы сама по себе, — и харчишки кабатчик начал без промедления метать на стол. Поджарку из доброго мяса с хорошим лучком, потрошки, холодчик, непременную капустку с ледком, чесночок, хрустящие огурчики. Лицо с толстыми жабрами так и светилось у кабатчика, так и сияло, будто светлый праздник заглянул в кабачишко. А уж наливая водочку в оловянный стаканчик, кабатчик перегнулся дугой, и непонятно было, как с такой толстой зашеиной и немалым пузом столь замысловатую фигуру можно изобразить. Однако вот сумел. Что тебе радуга сияющая встала над верным слугой Семена Никитича.
Лаврентий поднял стаканчик, выпил водку, хорошо крякнул и, отдышавшись, пальцем поманил поближе кабатчика. Тот склонился низко. Лаврентий шепнул словцо, и кабатчик заморгал глазами. Однако, надо полагать, понял сказанное, так как тут же, сорвавшись с места, исчез в малоприметной дверке. Только и сказал:
— Сей миг, сей миг…
Еще и пальчик прижал ко рту.
Лаврентий — сидел молча, поглядывал на свечу, и ноздри у него трепетали. Ждал, накаленный, словно белое железо.
Пламя свечи металось, и по стенам гуляли тени. В кабачишке пошумливали, покрикивали. Русский человек, отведав винца, покуражиться любит. Его в жизни все в оглобли вводят. Жмут свои и чужие, а тут, стакан хватив, он и потеряет узду. Оглобли разлетятся в стороны, и пойдет телега во весь мах. Ну что, штоф опорожнив, разлечься на лавке? Скучно. Побазарить непременно горит. А въедут в ухо или вышибут глаз — на то он и кабак. Веселье…
Покрикивали за стеной уже в голос. Знать, всерьез взялись за кого-то, но, надо думать, не зря. Оно по пьяному делу поднимают кулаки многие, но редко невпопад. Трезвый промолчит, а пьяный все вывалит, что держал на душе. Скрывают же чаще обидное, то, что слышать никак не хочется. А с пьяных-то глаз — бряк. Ну и, конечно, в зубы. Как иначе распорядиться? А там и пошло, и поехало. Всё мужики выяснят. Шило, что тайным лежало в мешке, вылезет. А оно бы и так дерюжку проткнуло. Вино только подтолкнуло острие.
— И-эх! И-эх! — крякали за стеной, поддавая по шеям. От всей лихости, с полной руки.
Лаврентий ковырял холодчик: ему до кабацкого баловства не было дела. Шалили людишки. Да оно и пусть. Оно и хорошо. Дурную кровь сбросят. Битый да пьяный не человек — прелесть. Мыслей у него злых нет, весь на виду. И для Лаврентия голоса те рыкающие пели как сладкозвучные рожки. Он еще и так думал: «Вот бы всех напоить — ах, любо! И благодетель, Семен Никитич, был бы доволен».
Голос хозяина перекрыл шум в кабаке. И все смолкло. Один только, неразумный, заворчал. И сразу же дверь сильно хлопнула: пустили, знать, молодца головой вперед ступеньки посчитать на крыльце. Тут уж точно смолкли. Вот они, пьяненькие, — послушный народец.
Кабатчик вошел в комнату к Лаврентию, поклонился на всякий случай и потаенную дверцу приоткрыл. Из нее тотчас вышел человек. Дверки такие тайные в Китай-городе, почитай, были в каждом доме. Кто вошел, откуда, куда вышел — не узнаешь. Давно велось: ежели кто нашалит на Москве — бежит в Китай-город. Здесь спрячут. И многое из разбойных и тайных дел на Москве закручивалось в Китай-городе. Церкви здесь — и тут и там, множество крестов, зовущих к богу, ан под крестами теми такие узелки завязывались — я те дам! То хорошо, что свечи горят в церквах, мерцают лампады, смиренно люди кладут поклоны, но правду о Китай-городе может сказать только Москва-река, что на песчаном своем дне хранит мешочки с костями. Вот то уж точно все — и о церквах, и о теплых свечах, и о смирных людях, кладущих поклоны перед святыми ликами.
Лаврентий гостю ногой подвинул лавку. Тот сел. Лаврентий повернул голову к хозяину, и кабатчика будто сдуло ветром.
Булькнула водочка в склянке. Стаканчики стукнули. И шепот, шепот… Всего не услышишь, однако можно было разобрать:
— Коренье… ведовство лихое… зелье отравное…
Вот он, рыбак, и объявился в Лаврентии. Забросил сеточку. Да осторожно, да ловко. Любо-дорого было слушать.
— Оговорить, оговорить, — шептали красивые резные губы Лаврентия, — а мы одарим.
Словцо-то какое царское — «одарим». Его, словно шубу дорогую, подают человеку. Так-то на плечи мягонько ложится шуба, обнимает, ласкает, греет. Ну какому слабому устоять? Да тут еще брякнул о стол золотой. Да звонко — ну прямо песня. Вот она, раскинулась сеточка Лаврентия. Что там ива — дерево глупое.
Дзи-и-инь — прозвенит золотой, и суетная голова разом закружится. И все поплывет, поплывет перед глазами — только звон тот да жаркий блеск.
Вот и хозяин кабака — тертый мужик и себе на уме, — спрятавшись за притолокой, не удержался и посунулся на сладостный звон. Да и ахнул. Лаврентий, не глядя, руку назад завернул — под ним только лавка скрипнула, — поймал за ушко хозяина. Жесткие пальцы, как железные клещи, потянули на себя. Кабатчик выполз из-за притолоки. Лаврентий подтащил его к столу и оборотился лицом к нему. У того перехватило дыхание. Показалось, что в глазах у Лаврентия зажглись две голубые свечки. Ничего страшнее не видел мужик. Геенна огненная со всеми адовыми чертями, намалеванная на старых иконных досках, представилась козой, что пугают детей. А глаза с голубыми свечечками все вглядывались, вглядывались… Волосы зашевелились у кабатчика на затылке, в груди что-то екнуло и поползло холодным комом к низу живота. «Ну, — решил, — отходил, пришел смертный час». Но пальцы разжались, и кабатчик на карачках выполз из комнатки. Привалился жирной спиной к стойке. Лоб отер слабой рукой. «Что такое было со мной? — мелькнуло в голове. — Куда я заглянул?» И ответить не мог. Шепот, что слышал, забыл.
А из комнатки все вились слова, вились змеиными кольцами:
— Ведунов, ведуний добывают-де… Мечтаниями на следу испортить хотят…
И опять золотой брякнул о стол. Гость Лаврентия протянул руку за светлым кругляшком, но Лаврентий накрыл монетку ладонью.
— Дело сначала, — сказал.
Петельки, петельки накидывал. Ниточками, ниточками опутывал. Верил: жаден человек, завистлив, зол.
«Редко у кого, — говаривал Семен Никитич, — сосед не вор. А шапка у соседа, уж точно, всегда теплее, жена непременно красивее. Отвернись только — и ежели не стянут шапку, то жену сманят. А коли закричишь, еще и осудят: мол, плохо не клади, в грех не вводи. Поговорка в оправдание тому придумана: „Первый человек греха не миновал и последний не избудет“».
От этих-то словечек и плясал Лаврентий. В них только и верил. В доброе — нет. Добро не для людей. Оно цветет на небеси. Там ему вольно. Так-то думалось: натравить слабых на сильных, сильных на слабых. Пущай мать не верит сыну, сын отцу, брат брату и собачатся друг с другом хуже псов. Один судьей меж них станет — благодетель Семен Никитич, а уж он, Лаврентий, слуга верный, сыщет при нем место. Великую кляузу хотелось учинить меж людей. Пущай она вьется серым дымом по улицам, вползает, непрошеная, в избы через дверь ли, через оконце, в трубу. Круговертит людишек, застит им глаза, валит с ног. Вон из-под ворот вывалилась серым комом, покатила по улице. Ты от нее в переулок — и она за тобой, ты по лестнице вверх — и она по ступеням поспешает. Хоть в омут головой. Она тут как тут. Серая, на мягких лапах и вьется, кружится, колесом пошла… Туман не туман, муть не муть. Лица у нее нет — так, серый дым, неугадываемый запах, — и распознать ее трудно. Но клубится, вспучивается рыхлым грибом, опадает, растекается по углам и вновь уже поднялась столбом стоялым. И поигрывает, поигрывает… Раскрыла пасть, жарко дышит, крутит глазами. Отыщет — от нее не спрячешься. Там оборотилась письмом подметным, здесь — злым словцом, тут — обманным разговором, в четвертом месте — лестью, что душу как ржа разъедает, в пятом — лютой ненавистью… И зубы крепки у нее, вцепится — не сбросишь. «Великая кляуза, — сказал Семен Никитич с улыбкой тихой, — кого хошь съест. Нет от нее защиты». И засмеялся.
Темны были мечтания, страшны. Великая кляуза и впрямь все могла перекривить, переворошить, переломать. На Москве знали такое при Грозном-царе. Иван Васильевич, известно, был затейник. Любил себя потешить. Сядет на стульчик в скромной скуфеечке, посидит молчком, и блеснут у него глаза — надумает забаву. От тех потех многажды люди исходили кровушкой. Всякое случалось. Но на то он и царь, Иван Васильевич, ему отдай царево. Боярин слуги боялся, слуга — боярина, дети скалились на стариков. Муж жене опасался слово сказать. Москва чуть врозь не разошлась.
И опять такое?.. Серая завьется, засвищет, закуролесит. Нет, люди, страха у вас нет…
Лаврентий по плечу гостя похлопал. Поднес остатний стаканчик. Улыбнулся и гость, исчез в потаенной дверке.
Кабатчику Лаврентий сказал:
— Приду завтра. — Наклонился, шепнул имя. И твердо, сквозь зубы: — Был бы непременно.
Повернулся, пошел ухарем. Каблуки застучали серебряными подковками.
Кабатчик смотрел ему вслед, угнув голову, как бык, которого промеж рогов хватили обухом.
Игнатий плакал, стоя на коленях у избы приказчика Осина, которого на деревне звали не иначе как Татарином. Приказчик был и головой, и рукой бояриновой: все мог, и через него, как через неперелазный тын, — не скакнешь. От него зависело, выть ли тебе, помирая, на холодном дворе с голоду или еще пожить под светлым солнышком, пошагать. Игнашка жалостливо сопел носом. Слеза, правда, выжималась трудно, но все же глаза были мокрыми. Давно стоял у крыльца. Ноги судорогой начало сводить. Но стоял. Думал так: «Своего добьюсь, хоть день простою».
Солнце пекло в затылок. Во дворе покрикивали мужики, но Игнатий не оборачивался и не разгибал спины. Так-то согнулся покорно, только дергались плечи. Видно — глотает мужик слезы, а они — горькие — перехватывают горло. Давится мужик, но глотает.
Подошла хозяйская собака. Понюхала драный Игнашкин лапоть, посмотрела скучливыми глазами, отошла. Игнашка поерзал коленками по земле, устраиваясь поудобнее, и опять низко склонился. В голове все одно было: «Подожду, подожду». А что ему оставалось? Ждать только и мог.
Наконец приказчик — мужик с редкой бородой и узкими глазами — вышел на крыльцо. Встал, положив руки на поясницу за красный, хорошей шерсти, кушак. Выставил губу, раскорячил ноги. Лицо коричневое, твердое, как камень, и глаза — не сморгнут. С такими глазами коней по степи гонять. Да и гоняли, наверное, в седые века коников-то предки такого мужичка. Гоняли с гиканьем, с посвистом, крутя сабельками.
Игнатий, истово крестясь и кланяясь, загнусил плаксиво. С земли были ему видны сапоги Татарина. Хорошие сапоги, жирно мазанные дегтем. Порты, выше сапог, тоже добрые, полотняные, крашенные синим. Выше глянуть не смел Игнашка. Знал: такое может и за дерзость счесть приказчик. Тогда уж гнуси не гнуси — черта в зубы получишь. А просил мужик серебра боярского. Однако приказчик ежели кому другому и дал бы — серебро возьмешь и в кабалу попадешь, — то Игнашке опасался. «Сбежит, непременно сбежит, — думал, стоя под солнышком, — как я перед боярином ответ держать буду? Нет, опасно давать. Ненадежный мужик». Так и стояли друг против друга: один на коленях, другой вольно, шевеля пальцами больших, лопатой, рук под кушаком.
Серебра Игнатий просил с хитростью: у него рубль был — громадные деньги. «Но вот покажи их, — думал, — и неведомо, что из того получится. А так, коли даст Татарин, вроде бы взял в рост и на то по хозяйству обзавелся новинами. А посчитать со стороны трудно, сколько заплачено и кому. Боярин же надеялся, — забыл о заветном рубле. Холопов у него много. Да и когда было то?» Однако ошибался Игнатий: боярин все помнил. Время спросить не подошло. Но да то в сей миг было ни при чем. Другое боярина заботило.
Игнатий склонился до земли, и Осип — глаз-то был зоркий — приметил: из драного ворота армяка выпирала у мужика крепкая шея. Столбом да гладкая, и ни морщинки на ней, будто бы и не запрягала еще жизнь мужика в хомут. Не набила холку. «Ах ты, — подумал Татарин, — с такой шеей только пахать. Мужик ладный. Может, и впрямь дать деньжонок? Такого взять в кабалу — хорошее дело. Боярин похвалит». Засвербело в душе у Осипа. Засомневался Татарин: крепкие мужики в хозяйстве были нужны. Ох нужны. Пожевал губами, глаза сощурил. Знал: мужичок не грибок, не растет под дождок. Расколыхался. Даже за бороденку себя подергал и, не удержавшись, ступил с крыльца.
— Вставай, — сказал хмуро, — вставай. Ишь ты… Не время дурака валять.
А время и впрямь было горячее. Только что отсеялись, и дел было куда как с головой. Знай поворачивайся. А тут мужик нежится на коленях. Занятие вполне глупое.
— Губу-то разъело, знать, на безделье. Вставай!
Игнатий поднялся несмело, нарочно кряхтя и поохивая.
Исподволь взглядывал на Татарина. Хотел угадать, что тот надумал. Но у Татарина и бровь не дрогнула. Его боярин не вдруг отметил и поставил приказчиком. Осип был таков, что и без топора избу мог срубить, знал наперед: ни в коем разе перед таким вот серым, что льет слезу и молит Христом богом, думки свои нельзя выказывать. Говорит он одно — думает другое. Да оно и впрямь так было. У Игнашки свое лежало за душой, и он не показывал глаз. Боялся: угадает чертов Татарин его задумки. Клонил голову: смирный-де и не может глаз поднять. Какое уж там дерзить! Робок, вовсе робок.
Чуть поодаль от крыльца, под навесом, мужики стригли овец. Щелкали ножницами. От навеса наносило острым запахом жирной немытой овечьей шерсти. Когда Осип спустился к Игнатию, ножницы смолкли. Мужики оборотили лица к крыльцу. А ближний под навесом — старик с сивой бороденкой — и вовсе отложил ножницы. Сосед он был Игнатию и выглядывал с любопытством: что и как? Будто бы ему от того рот намажут медом. Но медом пока и не пахло.
Татарин обошел Игнашку, приглядываясь, на лбу у него легли морщины. «Здоров, здоров, — смекал, — и откуда сила? Хлеба-то не больше, чем у других, а многих в деревне шатает по весне». Задумался. И вдруг оборотился к мужикам под навесом:
— Ну чего раззявились?.. Знай поспевай свое!
Голос у него был резкий. Таким голосом говорят, когда знают, что не перебьют.
Ножницы вновь защелкали торопливо, обнажая сине-розовые, до удивления маленькие и тощие без шерсти тела овец. Старик сосед, отваливая руно, словно шубу, крутнул головой, сказал:
— Ну, жох Игнашка…
Похоже было, что и вправду Игнатий возьмет свое. Уж больно приглядывался к нему Осип.
Из-за навеса, где работали стригали, выехала телега. Осип шагнул к ней, ловко, локтем, спихнул с передка возницу и, взяв вожжи, буркнул Игнашке:
— Садись.
Игнашка — вот черт! — без всякого удивления ухватился за грядушку и запрыгнул на телегу. Сел, будто бы знал, что так и получится. Да еще и оборотился к мужикам, и на лице его обтянутом блеснула подковка зубов. Улыбнулся зло, дерзко, а ведь только-только слезы лил. Эх, Игнашка, ловок молодец… Выехали за ворота, и Осип, слова не говоря, свернул к околице. Игнашка понял: на поле его взглянуть хочет хитрый Татарин. «Ну давай, — подумал, — давай погляди».
По левую и правую руку открылись без любви и приязни рубленые избы, крытые серой, трухлявой драницей. Кривобокие, с просевшими крышами овины, поставленные то вдоль, то поперек дворов, а то и вовсе неведомо как выпершие на улицу — задом ли, передом. Ссыпал вроде бы кто разом из кузова, а разобрать, расставить по порядку не хватило времени. Из тех, наверное, был хозяин мужиков, что из трех пудов пшенички, собранных с великим трудом, два перегоняет на вино. Что уж ему расставлять по порядку, где приткнулось — там и место. И городьба, городьба, криво и косо торчащая из края в край деревни. Отбеленные ветром и солнцем жердины да покосившиеся ворота. Один заплот кончается, другой начинается, но ни кустика, ни деревца у изб. Когда-то были, но мужики повырубали не то по нужде, не то так, сдуру. Лес вон он — рядом, за деревней. Шаг только сделать, и все. Но кому нужно — шаг? «Вали, Ваня, вырастет». И рукой махнет мужик: «Вали!» А оно раньше сынка дождешься, чем дубка. Ну да что жалеть мужику? Его-то самого никто не жалел. Так что уж деревцо, кустик? Стояли избы, как и тысячу или более лет назад, когда только-только научились вязать кряжи. Ничего не изменилось. Замшелые углы, сажные языки у волоковых оконцев — топили-то по-черному, — тяжелые, из горбылей, в полроста двери. Не войдешь, так вползешь, зато теплее будет. Печи с трубами не научились класть. Игнатий, побывав на Москве, рассказывал: так-де и так, а вот тамошние кладут печи, и труба через крышу выносит дым. Мужики не верили. Отмахивались: «Ладно врать-то… Да ведь через трубу все тепло уйдет… Чем избе обогреться?»
Игнашка божился, что-де прогревается камень и оттого тепло. А дыму в избе ни-ни. «Что дым, — возражали, — дым не помеха, глаз не выест. Врешь небось…»
Деревенька, правду сказать, была не из лучших в романовских вотчинах, но и не из последних. Не в том, так в ином дворе коровенка, а то и лошадка, птица, овечки опять же. Нет, жили еще ничего. Конечно, как оброк собирать, изводили немало батогов. Чуть ли не всю деревню ставили на правеж. За версту вой был слышен. Но были места и похуже, где истинно рвался мужик. Здесь все же до весны доживали с хлебом. Но немало было и запавших дворов в деревне. Просевшие крыши изб, обрушенные ворота, бурьян выше головы у крыльца. Бежали люди на благодатные приволжские черноземы, в южные степи от безмерных поборов, от лютой нужды, от великой тоски и безнадежности ковырять тощий суглинок чужого, немилого поля. Сидели крепко только старожильцы. Такому и сбежать нельзя. Поймают, и пойдешь в вечную кабалу, так как никогда не расплатиться за пожилое. Вой, зубами землю грызи, но корми боярина.
Телега не шибко катила по колдобинам, но Игнашка стиснул зубы, чтобы язык не откусить. Выехали за околицу, и Осип — все знал Татарин — свернул к лесу, к землице Игнашкиной. Натянул вожжи у самой обугони[13]. Слез с телеги.
— Ну, хвались, — сказал.
Поле лежало ровным лоскутом и словно бы гребешком было вычесано. Обугонь провели как по шнуру. Осип даже хекнул в бороденку. По краю были свалены камни, и немалые. Пузодерами их называли мужики и всегда опахивали, потому как камушки такие собрать с поля да скатить на сторону — порвешь пузо. А тут вот не пожалел силы Игнашка, сволок-таки. Осип наклонился, запустил руку в борозду, и ладонь утонула в ухоженной, разбороненной землице.
— Хе-хе, — еще раз хекнул Татарин. Решил: «Коли мужик так поле обиходил — бежать не думает. Нет… Дать надо серебра в рост. Не возвернет — в кабалу возьмем. Свое отработает».
Игнашка, еще не веря, что уступит Осип, ткнул ногой соху.
— Во, чем ковырял… Хребет изломаешь.
Соха и впрямь была никуда не гожа. Деревянная полица, деревянные же — клешней — сошники. Намордуешься с такой сохой.
«Да, — решил Осип, — дать надо деньжонок. Здесь не прогадаешь».
Игнашка, повалив соху набок, взглянул на Татарина и понял: уговорил. Переступил лаптями по траве и возликовал душой. А всего-то и хотел мужик жить неголодным. И вот окреп надеждой. Но тут словно знобящим ветерком потянуло на него. Надежда — что свечи пламя. Разгорится, а сквознячок хватит, и упадет огонек. Вспомнил Игнашка Варварку, и нехорошо ему сделалось. «А вдруг боярин-то про рубль помнит?» — мелькнуло в голове, и недоброе предчувствие обожгло мужика.
Степан же про Варварку, про опасные разговоры забыл думать. Его отцы монастырские так спрятали — не то что боярину, не сыскать и черту. Вот тебе и отцы, молящиеся за грехи наши. А ты подумай: кто прятать умеет — тот и воровать горазд.
Угрюмый монах завез Степана в памятный день за какую-то горушку, сипло сказал:
— Слазь, приехали.
Степан огляделся: редколесье, и ни овина, ни избы, ни какого другого жилья. А монах, кряхтя, уже слез боком с телеги и, сведя лошаденку с дороги, привязал к осине. Вожжи перехлестнул через сук, затянул крепко узлом.
— Слазь, слазь. — Оглянулся, повторил ворчливо: — Слазь, божья душа.
Степан осторожненько, с опаской сполз с телеги. В голове нехорошее: «Прибьют здесь, прости господи, никто и не услышит. Самое глухое место». Монах пугал — больно звероват образом да и непонятный молчун. Но монах, даже не взглянув на него, отвел ветви орешника и шагнул за обочину. Степан несмело пошел за ним.
Монах ломился сквозь кустарник что медведь. Тяжелый был дядя, и ветви под ним трещали с хрустом. Плечи широки у монаха, голова угнута. Лапищами, сразу видать, нелегкими хватался за сучья. Такой голову свернет набок — не ворохнешься. Степан тайно от монаха перекрестился: «Господи, спаси меня, грешного. Не дай погибнуть безвинно…» Ветви хлестали по лицу.
Но зарослью шли самую малость. Степан по-настоящему и напугаться не успел. Кустарник расступился, и открылись уходящие до окоема луга. Разом распахнулись — глаза не достают.
Монах остановился, потер ладонью зашеину, обсаженную комарами, оборотился к Степану, и тот увидел — лицо у монаха мягкое, глаза ясные, как у мальца. Пугаться-то было нечего.
— А-а-а, — раздвинул толстые губы монах, — господи… Места-то какие… Райская обитель…
Всю дорогу молчал, невесть почему хмурясь, и тем пугал Степана, а тут заговорил:
— Лошадок здесь держим. Угодная богу животина. Телегу на дороге оставил, потому как не любят шуму. Человек-то придет сюда в райские, прямо сказать, кущи, а пахнет мерзостно, суетлив без меры, криклив без причины. Лошадки того не терпят. — И еще раз повторил: — Истинно божья животина.
И оборотился вновь к лугам. Даже тяжелые руки поднял, расставил, словно бы охватить хотел необъятный простор или показать Степану — вот-де ширь!
А луга и впрямь были сказочные. Еще не зацвели — время не пришло, — но уже поднялись мощным травостоем, ложившимся под ветром. И так сильны были травы, так напитаны влагой, животворными соками земли, что, уступая ветру, ложились упруго и гибко всей жемчужно-зеленой грудой и тут же поднимались во весь рост, с тем, чтобы вновь, лоснясь широкими стеблями, поклониться взрастившему их солнцу. И каждая травинка, былка невесомая, казалось, пела под ветром какую-то неведомую песню. Нельзя было выделить в необыкновенном хоре отдельные голоса, разобрать слова, но явным было одно — то песня радости жить под необозримым куполом неба, вставшим над землей синью несказанной красоты.
— Посчастливилось тебе, раб божий, — сказал монах Степану, — у коников будешь. Обвеет тебя здесь, мерзостное повыветрит, и лошадки признают.
Вдохнул всей грудью травный настой, сказал твердо:
— Пошли.
И широко пошагал по луговине, поширкивая рыжей, выцветшей рясой по высокой траве.
«А и впрямь, — подумал Степан, — место красное».
И послушно заспешил за монахом.
Вот так-то жизнь распорядилась с двумя мужичками, что вышли из подмосковного леса. Вроде бы грозили им черные сосны и низкое небо, ан нет — рассвело, заулыбалось впереди. А вот у третьего дружка — Ивана-трехпалого — по-иному завилась судьба. Ну да он сам ее искал.
Воровскую ватажку сбил Иван и сел в лесу. Среди топких болот, на островке. Чтобы попасть на островок, надо было знать особую тропинку, а так не пройдешь. Шагни неверно, и ух — с головой в бучило. Барахтайся не барахтайся, а не выберешься. Лучше уж силы не тратить, а ключом опуститься на дно. Топь тяжко дышала ночами, вздыхала, хрипя, стонала, будто хотела рассказать, каясь, скольких задавила на своем веку. А, думать надо, на дне ее лежало немало людишек. И попали они туда по-разному, но, знамо, не по своей воле. Туман плыл над болотами — белесый, густой, вонючий. Не приведи господи заплутать в такой сырой падерге.
Буль-буль-буль… — всхлипывала топь, и жутко было слушать ее непонятные слова.
У-ух… — вздохнет кто-то.
Тсс… — простонет другой.
И опять — буль-буль-буль — будто за горло взяли жесткие пальцы, сдавили, и дышать уже нечем…
Мужики попались Ивану смирные, баловать непривычные по лесам. Таких подбить на воровство — не пиво заварить. Однако Иван расстарался, и мужики пошли на лихое дело. Слов покорявее да послезливее нагородил. Мужиков мукой прошибло от великой жалости к себе, и не захочешь, а пойдешь и стукнешь обушком в темя не того, так другого, кто жизнь твою затеснил, заел, замордовал. Что другое, а жалеть себя люди умеют, растрави только. Так больно в груди засосет, так защемит: обижен, обижен, со всех сторон обижен. Осатанели мужики. Поглядывали волками.
Сам Иван за время сидения в лесу будто бы подсох, подобрался жилистым кулаком, верткий стал, гибкий, шел меж деревьев и плечами поигрывал, улыбочкой светился. По-настоящему, казалось, только и зажил. На Москве — что уж там — шалости были одни. Здесь, в лесу, поспело его дело.
— Пчелка взяток тяжко несет, а медведь придет — враз приберет, — говаривал. — Так-то, ребята. Уж мы свое… — И грозил кулаком.
На воровство выходили к вечеру, когда солнышко склонялось к закату и длинные тени от деревьев вытягивались по земле. Из логова выползали по обманному кругу, волчьей петлей. Да еще и потоптавшись по овражкам, да полям, по тропинкам лесным. След за собой прятали. Первым шел Иван, прибаутками, припевочками бодрил мужиков. Те хоть и распалились от его слов, но попервоначалу постукивали у них зубки. Все же христианскую душу загубить непросто. Молились подолгу мужики, опасаясь грешного. Кровушка-то, она кислым пахнет, конечно, но все одно — проливать ее страшно.
Мужики шли угрюмо, цеплялись лаптями за сучочки да пенечки. Топор за кушаком, в руке кистень, а вот ходу нет. Устало шли, хотя целыми днями валялись без дела в потайном логове. Знать, устают не только намаявшись до пота — есть и другая усталость. Да она и злее, раз вот так спотыкались мужики на ровной тропе.
Иван вперед рвался. Побыстрее ступал. Битый был, и битый сильно, до кости. Собаку ярят палкой, чтобы она на людей бросалась. А у человека от палки крылья, что ли, ангельские растут? Нет, не видно перьев-то у битых. Рубцы-то есть, а они, знамо, пекут, и пекут шибко. Добро, говорят, отстаивают кулаком. Вранье. Такое сказал злой. Добро оно и есть добро и лишь добром сыскивается. Огонь с водой не мирятся, а злом добро не пашется. От злого семени цветочки растут горькие, отравные.
Выходили к лесной дороге, хоронились в кустах, высматривали, на каких кониках едут людишки, тележечку оглядывали, примечали, каков купец на передке сидит, и ежели конь весел, тележка на железном ходу, а купец в шапке, заломленной на затылок, — значит, есть что зацепить и чем подхарчиться.
Иван бестрепетной рукой привязывал волосяной аркан к дереву и выползал на обочину. Ждал. А как только тележка поближе подскакивала, поднимался и махом петлю набрасывал на коренника. Петля охватывала шею коня, и чем быстрее катил купец, тем сильнее был удар. Конь, ломая оглобли, бился всем телом оземь, телега налезала на него и шла кувырком. Купца и добивать не приходилось. Расшибался насмерть. Да и как не расшибиться? Ездили купцы быстро по лесным дорогам. Знали: балуют здесь. Надежда только и была на доброго коня да на быстрый ход.
Легко денежку Иван добывал, легко и быстро. Глазом не успевали моргнуть мужики, а вот уже на дороге зашибленный конь, разбитая тележка и рассыпанный товар. Собирай да поживее прячь в мешки. Липла, правду сказать, добытая разбоем копейка к руке, и не оттого, что была намазана медом, да Иван так говорил:
— В ручейке сполосни руки. Она и отойдет, соленая. — И добавлял: — Меня бивали. Ох как бивали… Ну а теперь мой черед пришел людишек попробовать на крепость. — Показывал зубы.
Мужики собирали товар, торопливо хватая, что под руку попадет, и давали тягу. Главное было — подальше да побыстрее уйти от страшного места. В чащобу. Там и собака не найдет.
Но не заладилось у них как-то раз. Вышли на разбой — смеркалось. Иван аркан за корневище накрепко привязал и залег на обочине. Мужики в кустах схоронились. Чу! — колокольцы забренчали вдали. Иван приподнялся, увидел: катит тележка, и хорошая. Поджался, подтянул ноги, чтобы ловчее вскочить и бросить петлю. Насторожился глазами. А тройка ближе, ближе и — вот она. Вскочил Иван, метнул аркан. Но или рука у него дрогнула, или попался норовистый конь, однако коренник головой отбросил петлю. Вихрем пролетела тройка, только пахнуло в лицо Ивану острым лошадиным запахом да жарким дыханием разбежавшихся коней. Все же петля зацепила сидевшего на передке мужика, вырвала из телеги. Он грохнулся о дорогу. Иван подскочил к нему. Мужик, мотая головой, пытался подняться. Елозил руками по пыли, но руки ломались, не держали разбитое тело. А тройка ушла. Только вихрь на дороге завился. Второй мужик, сидевший сбоку, подхватил вожжи и погнал коней во весь опор. Колокольцы залились вдали.
Иван стоял над сидевшим на дороге мужиком, пальцы ощупывали обушок топора.
Из кустов вылезли ватажники. Глаза торчком, рожи испуганы. Подошли. Встали вокруг. Разбитый мужик поднял голову, глянул на разбойников. Лицо у него исказилось. Но не сказал ничего. Знал: жизнь не вымолишь у татя. Ему концы прятать надо: тогда веселье волку, коли не слышит за собой голку.
Мужики взглянули на Ивана да и пошли в кусты. А когда он догнал их, крайний прянул от него в сторону.
— Но, но, — сказал примирительно Иван, — на разбой ходить не лапти сушить. Где пьют, там и девок валят.
Но мужик сошел с тропы. Пропустил вперед Ивана.
Тройка, что укатила от разбойников, была путивльского воеводы. Его холопы везли товар. Воевода, узнав про разбой, осерчал. Говорили ему и раньше: неспокойно-де на дорогах, — он отмахивался. Где не балуют? Не до того было воеводе. Но, потеряв своего холопа, шибко разобиделся.
— Ну, ну, — сказал, — ну, ну…
Ноздрей дернул.
Царь сел в Серпухове. Палат, достойных царского дворца, не нашлось в городке, однако с поспешностью — давай, давай, знай, кому служишь, — убрали коврами да расшивными платами лучшую домину, изукрасили золотой посудой, резными поставцами, и Борис поселился здесь двором, пока ставили на лугах у Оки царские шатры и рубили царев стан.
Пышности такой дотоле, при выездах из Москвы Иоанна Васильевича и Федора Иоанновича да и прежних царей, не знали. Тут уж приказ Большого дворца расстарался. В походной домине все сверкало и искрилось золотом и серебром, шелковыми яркими тканями. Зачем такое — никто сказать не мог, но было о том особое царское повеление.
За дни похода нездорово-темное лицо Бориса забронзовело, белки глаз очистились от желтизны, он взглядывал на бояр быстро и остро и был необыкновенно деятелен. Даже печатник Василий Щелкалов — мужик громогласный, завидного здоровья, умевший, как никто, работать споро и подолгу, — не поспевал за царем. Загнал его Борис. У дьяка лицо высохло за поход, скулы обтянулись, и он был резок в словах и зол, как никогда. Шагал быстро, каблуки ставил твердо, так, что приказные слышали его еще издалека и заранее обмирали.
Ополчение требовало великого иждивения и забот. Бумагу изводили пудами, чернила — бутылями. В поле вышли тысячи воинов, и что стоило накормить их и обиходить? Великая на то нужна была казна и великое же старание. Крапивное семя не поднимало голов, отписывая бумаги туда и сюда. Не повольничаешь, кваску не попьешь. Скрипели перьями в духоте и неуютстве тесных, случайных палат. Роптали: «Были походы, но против других… Нда-а…» И опять склонялись над бумагами. Повытчики из кожи лезли, чтобы бумаги отписывались в срок. Василий Щелкалов — от его прыткого глаза и малая ошибка не укрывалась — был строг. Во дворе с утра выл во весь голос не один, так другой писец. За неимением батогов Василий приказал учить лозой. Резали ее в ближних зарослях и от торопливости и походного положения выбирали все больше суковатую и занозистую, так что и привычные к бою зады писцов не выдерживали. Многие чесались в те дни, сидя бочком на лавках да пошмыгивая носами. Но Василий своего добился. Бумаги отписывались вовремя, и к Серпухову — по царскому повелению — шли и шли со всех сторон обозы со снедью, с необходимым воинским припасом, со всякой другой нужной для похода справой. «Без строгости нельзя, — говорил думный дьяк, — балует крапивное семя».
В Серпухове Борис распорядился воеводством над войском. В главной рати поставил Федора Мстиславского, в правой руке — Василия Шуйского, в левой — Ивана Голицына, в передовом полку — Дмитрия Шуйского, в сторожевом — Тимофея Трубецкого. Такого никто не ожидал. Родовитые приосанились:
— А что вошло в ум Борису-то? Понял, видать, на ком держава стоит. Первых выставил в главные. А?
— Понял, понял… Да оно и дураку ясно: без столбов и забор завалится.
Боярину честь слаще сладкого.
Василий Щелкалов, сидя над бумагой, покрутил носом. Хитрющий был дьяк, как бес. Все понял. Борис заткнул рты, отдав знатнейшим высокие посты. Еще и так подумал дьяк, глядя в слюдяное тусклое оконце: «Решил, наверное, пусть спесью наливаются. А он — царь и свое возьмет».
Борис еще больше удивил хитроумного Василия, объявив, что Земский собор бил ему челом предписать боярам и дворянству службу без мест. То всегда крик, шум, грызня и недовольство — выставлялись друг перед другом при назначениях людишки, а теперь воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с разрядными книгами о службе отцов и дедов. Нечего было задираться, и многие споры и раздражения отпали. Большой остротой ума надо было обладать, чтобы вот так — разом — не врагов, но друзей приобрести и укрепить рать.
Дьяк, от которого никогда не слышали смеха, рассмеялся:
— Хе-хе-хе. — Словно проскрипело ржавое железо.
Писцы, хотя и не смели поднять глаза на всесильного, злого Василия, изумились тому крайне.
Василий, отперхав горлом, зыркнул на свою паству для порядка и вновь склонился над бумагой. Царевы указы торопили.
Серпухов многое повидал, а такого не случалось. Улицы заполнило несметное многолюдство. Да еще и люди какие — один знатнее и выше другого. Местным пришлось трудно. И хотя царь Борис перво-наперво распорядился обходиться с жителями милостиво, однако притеснение все одно вышло. Да и как не быть притеснению? В том доме стал боярин, и в другом тоже боярин, здесь князь, и там князь. Куда деваться люду? Ютились в пристроечках, в баньках на задах, в лопухи подальше забивались. В сторонке-то от больших спокойнее. А в городе шум, гвалт, скачут конные, и все спешно, по цареву делу. Запустит такой по улице — только куриные перья в стороны да искры из-под копыт. Не остановить. Даже стаптывали иных, но жаловаться было некому.
В соборах теснота. Душно. Со стен по святым иконам ползет влага. Давка что в славном храме Георгия и Дмитрия во Владычном монастыре, что в Покровской церкви в Высоцком монастыре. Многих выносили: спирало дыхание. Дьяконы голоса срывали на службах. Да что дьяконы! Беспокойство выпало всем. А конца шуму и суете не было видно. Идут войска на рысях — только топот и конское ржание, — проносятся казаки, пылят обозы. Труден ратный подвиг мирному народу. Не посидишь на лавке, орешков не пощелкаешь. От сумятицы великой во всем городе у коров пропало молоко. А у тех, от кого еще понемногу цедили, стало горьким, в рот не возьмешь. О сне забывать стали. Когда царь Борис спал, никому не было ведомо. Так многое делалось. И свечи в царских оконцах горели по всем ночам.
В темноте по улицам стрельцы ходили с фонарями дозором, и голоса, голоса:
— Слу-у-шай! Слу-у-шай!
Ох, боязно! Ох, жутко!
Да к тому же разговоры вдруг по городу полетели:
— Татары, татары близко…
— Пыль, видели казаки, в степи стоит столбом…
— Несметная, говорят, идет орда. Ой, батюшки! Ой, что будет!
От таких разговоров в подпол только и залезть. Да многие и рыли норы поглубже да похитрее. Одно оставалось: царь оборонит. К Борису тянули руки:
— Надежа, надежа…
Колокола в Серпухове, не смолкая, звонили все дни. Медные голоса молили:
— Победу! Победу! Победу!
Свечи пудами жгли в церквах. Монахи разбивали лбы в молитвах.
Из Серпухова царем к начальникам степных крепостей были посланы гонцы с милостивым словом, и гонцам велено было спросить о здравии воевод, сотников, детей боярских, стрельцов и казаков. То была великая честь. Борис писал: «Я стою на берегу Оки и смотрю на степи. Где явится неприятель, там и меня увидите».
Подняли на ноги Тулу, Оскол, Ливны, Елец, Курск, Воронеж. Но царю и это показалось малым. Он потребовал карты лесных засек в местах, способных для вражьего обхода. Карты принесли. Царь сидел при открытых окнах — жара была нестерпимой, — без воинского убранства, в вольно расстегнутом на груди черевчатом кафтане малого наряда. Нетерпелив был и, заметили, плечиком стал подергивать, выказывая раздражение.
Карты расстелили на столе. Борис подался вперед и низко нагнулся над хитро и красочно изукрашенными листами. Темные глаза царя сощурились. Борис пальцем повел от Перемышля на Лихвин, Белев, Тулу, Боровск, Рязань. Спрашивал:
— А тут как устроено? Здесь все ли сделано?
Отвечал Василий Щелкалов. Дьяк поспевал везде.
Царь слушал внимательно.
Дьяк из-за царева локтя показал по карте все, о чем спросил Борис. Пояснял пространно, но дельно, лишних слов не употребляя. Думные и начальственные над ратью, помалкивая до времени, дышали друг другу в затылки.
Борис откинулся на спинку походного стульчика, задумался. В глазах промелькнуло сомнение. Бояре придвинулись к царю. Борис раздельно сказал:
— Напомнить хочу ратный подвиг великого князя московского Дмитрия Ивановича, названного Донским. На реке Воже сей муж славный впервые татар сокрушил и лагерь их полонил.
— То истина, — поклонился Василий Щелкалов, скосив стеклянные, налитые усталой влагой глаза на царя.
— На реке! — с особым ударением повторил Борис и ткнул пальцем в карту. — Вот Ока… На ее берегах может быть опасность главная русской рати. — Помолчал и сказал с еще большей твердостью: — А может быть немалый залог победы.
Никто не проронил ни слова.
Царь продолжил:
— Повелеваю поставить здесь главную рать и. особых же воевод послать с мордвою и стрельцами, потому как буде здесь татарин наступать — дать ему отпор сокрушительный по примеру предка нашего, великого князя Донского.
«Эка куда хватил, — опустив глаза и отворотя надменное лицо, подумал князь Мстиславский, — славы Донского неймется». Но ничего не сказал. Всем было понятно: Борис углядел правильно слабое место. Зима была холодная, морозы землю высушили, а по весне снега, почитай, не выпало, и Ока стояла вполводы. Перейти ее конницей было нетрудно.
Указ царев тут же составили и назначили воевод. Никто не смел перечить царю.
На совет начальственных над ратью людей Борис собирал только ввечеру. А поутру, чуть свет, садился на борзого коня и ехал к полкам. Каждый день. И каждый день царь пировал с полками на широких лугах Оки.
Удивились, когда Борис указал: в царском стане — еще до того, как будут подняты шатры и другие затеи, — поставить столы для десяти тысяч человек. «Чудит Борис, — подумал Василий Щелкалов, — непременно чудит». Но вскоре понял, что не было чудачества никакого в царском указе.
Стол, покрытый отбеленным полотном с прошивными красными и золотыми нитями, цвел синими, алыми и лазоревой — необычайной — краски бокалами тонкой работы, старого темного серебра кубками, жаркими золотыми чарами, усыпанными самоцветными камнями. Золотые тяжелые блюда, тазы с чеканными узорами, ковши, черпала, турьи рога в накладном серебре и множество другой посуды блестело и переливалось под солнцем, бодря и радуя глаз. И уж здесь метали на стол такие кушанья, каких многие и не видели. Пирующих обносили винами, водками, медами, квасами. Слуги следили неустанно, дабы не пустовали кубки.
Во главе стола — царь. И весел, добр, ласков. Лицо сияет. А нет-нет да еще и встанет, меж воинов пройдет и кубок подаст не тому, так другому. Похлопает по спине.
Тут-то Василий уразумел, для чего городили столы, постиг цареву мысль. Погляди, вон скачет князь в боевых полных доспехах, с ним ратники его и тоже в доспехах. Лица насурьмлены, накрашены, брови подведены черным, во весь висок. Строги люди — страх один. Ну сей миг нападут и изрубят. Смелый отстранится, робкий залезет в кусты. А проскачут, — посмотрев вслед, скажет мужик: «Ох ты грозный какой, пронесло, и слава богу». Перекрестится. А тут, гляди, вот он, царь, и ласков. Брат родной, и только. «Наконец-то, — подумает любой, — сподобились, радетеля обрели». Душой обмякнет. И уже недосуг ему подумать: а почему ласкает-то царь, для чего? Давно ведомо и дедам и прадедам — власть предержащие по простоте душевной не гладят слугам головки. Им ласкания без надобности. Жизнь и без того к ним милостива, и выброженный квасок у них в подвалах есть. А погладили — подумай, ох подумай…
К тому же приметил Василий, что царь ласкал все больше людей не видных, не родовитых, а так, скажем, из Свияжска, известного солеными грибами лучше, чем пустившими корни в древнюю историю домами. Царь чашу посылает за столом служилому человеку, а тот в поместьях своих — деревенька в пять дворов и три мужика, задавленных тяглом, — с хлеба на квас перебивается. В поход едва-едва собрался, призаняв в соседнем монастыре на коня и ратную справу. И уж ему честь, великая честь — принять чашу из царских перстов. Он о том всю жизнь не забудет и детям, и внукам, и правнукам перескажет. Да еще как перескажет! Сказка волшебная в необыкновенных красках раскроется перед ними, и за царя такого, радетеля, и он, и дети его, не задумываясь, лягут на плаху. Вот что такое чаша за пиршественным царским столом.
Дьяк Василий Щелкалов, по всем ступенькам приказным пройдя, во все дворцовые двери заглянув, точно угадал, к чему приведут ласкания. Немного прошло и времени, а по всему лагерю закричали:
— Слава Борису, слава!
— Долгие ему лета!
И опять же:
— Слава! Слава!
Многие из бояр от едучей зависти нахмурились. Дьяк же только сопнул медвежьим носом. Подумал: «Подождем». Да как-то взял перо и прикинул: во что же слова эти громкие державе обошлись? Ахнул. Дорого, дорого они стоили. Крепость, почитай, поставить можно было, да не одну.
А пиры? Что пиры? Они были и впрямь хороши.
За стол царский попали и Арсений Дятел с Игнашкой Дубком. До царя, правда, было не близко — приткнули Дятла с Дубком на дальнем конце стола, — но все же и им было видно, что весел царь. Сидел Борис вольно, широко, в изукрашенной одежде, но главным было то, что сидит он, виделось, не один в царской лепоте, но вместе со всеми, и вместе же со всеми радуется переломленному хлебу. Во всяком случае, так чувствовали все на пиру.
И другое приметил Арсений. Ближе к стрельцу, так, что лицо вполне разглядеть можно было, сидел Богдан Бельский. Тот самый, которого Арсений на Пожаре в Москве чуть не ссадил с коня. Высоко чашу поднимал Богдан, пил много и ел, но веселости не проглядывало в нем. Хищный, сухой нос его нависал над краем чаши, пальцы охватывали затейливо витую ее ножку, но, видно, не легкой пташкой проходила водочка в уста, а тяжелым колом.
«Ну-ну, — подумал Арсений, — вот оно, значит, как… Ну-ну…»
А пир шумел. Разгорались сердца.
Борис яркий платочек вытащил из-за пояса и взмахнул им. Тут же, как из-под земли, выскочили перед столами рожечники и разом грянули песню. Да мощно, ладно, с присвистами. Следом высыпали ложечники, и тут уже трудно было усидеть за столом, так-то звонко сыпанули ухари-молодцы в легкие, певучие, раскатистые вологодские ложки. Звонче, чем в городе этом славном, по всей Руси не делали ложек. Соловьем ложки заливались, выстукивали, выщелкивали неслыханные трели.
Борис в другой раз платочком взмахнул.
Теперь перед рожечниками и ложечниками в алых, огненных рубахах вымахнули плясуны. И закружилась, завертелась, завихрилась круговерть. Кто ломит вприсядку, кто идет вприскочку, а третий раскинул руки и завертелся волчком, так что и не понять, как такое может человек. Глаза синие, волосы вразлет, ладони плещут…
Дубок не выдержал, вымахнул в круг. Вскинул руки, ударил по груди, шлепнул по голенищам и юлой завился. Царь милостиво кивнул ему, и тут же выскочило в круг с добрый десяток молодцов. Земля, как колокол, запела под каблуками.
Вот так-то пировали на берегах Оки, так-то веселилось русское сердце. Но веселье только присказка, сказка была впереди, ан о том мало кто догадывался. А надо было всего-навсего оглядеться да на царя попристальнее взглянуть.
Из-за праздничной чаши в пиршественном веселье посматривал Борис на сидевшего сумно матерого Бельского. И вот взмахивал платочком, бодрил плясунов да рожечников, а нет-нет да и взглядывал исподволь, задерживал глаза и на Бельском, и на других знатных, скользил взором, и в царских глазах свое. И не грозили те глаза, не пугали. Не было в них ни жестокости, ни прощения, ни злой насмешки или торжества сильного над побежденным. Нет. Другое было: давно обдуманный и решенный приговор. И то было страшнее и угрозы, и торжества силы.
Но того никто не примечал. Пир. Радость. Веселье. Недосуг. Миска глубокая стоит перед человеком, и в ней подернутая паром похлебка. Кубок с винишком тут же. Где взять силы поднять глаза? Эх, жирная похлебочка, сладкое винцо! Торопится человек поглубже ложкой черпнуть, пожирнее ухватить кусок. До смотрин ли?
Борис же поглядывал, и глаза царя блестели.
Тишине в Москве был рад патриарх. Тишина благо: можно без сумятицы обмыслить свои шаги, и то уже много. А подумать было над чем. Крики, шум, ярость — плохие помощники в деле божественном, да тако же и в мирском. Но шумных и яростных Борис увел из Москвы. Посчитал, видать, что в ратном подвиге больше пристало выказать гордыню и горячую кровь. А может, напротив, охладить ее перед лицом опасности? Такое тоже для пользы могло послужить.
В саду патриаршем пышно расцвели деревья. Зазеленели. Ветви налились соком, залоснились, заблестели, словно их воском натерли. Гибко склонялись под ветром, играли свежей листвой. Благодать. Взглянешь только, и на душе покой и тихая радость. Запели, защелкали, затренькали соловьи. Переливчато засвистели скворцы.
Патриарх в обыденном платье, но в клобуке с серафимами, с крестом и жезлом сошел смиренной походкой из палат по каменным ступеням в сад. Повелел под тень деревьев поставить стол и кресло, сел, опершись подбородком на изукрашенное камнями яблоко жезла. Услужающие отошли в сторону.
Тренькали птицы, перепрыгивали с ветки на ветку, ища свое счастье, но патриарху было не до них. Тени лежали под глазами у Иова — от поста ли, от трудов ли принятых? А трудов было немало. Как Борис ушел из Москвы, патриарх забыл покой. Все в дороге, в коляске, от монастыря к монастырю, не помнил уже, когда вот так-то сидел в последний раз. Да и впереди покоя ждать не приходилось.
— Ах, суета, суета… — вздыхал Иов.
Неуютно, беспокойно было ему и в тихом саду. Сраженье, не меньшее, чем на бранном поле Борису, следовало на Москве выиграть Иову. Мечей в той битве не должно было иметь, как и лихих коней или огнедышащих пушек, — напротив, в благостной тишине, не тревожа людских душ, предстояло свершить сей подвиг.
— Суета сует, — шептали неслышно тонкие губы патриарха. Пергаментное лицо страдало.
Когда истекло время траура по Федору Иоанновичу, собрался в Москве Земский собор и всяк возраст бесчисленных родов государства начертал свою волю в грамоте, призвав на царство Бориса. Но была в той грамоте немалая оплошка. Боярская дума, восстав против нового царя, не подписала грамоту, а без той подписи бумага была слабенькой и веры ей было мало. Великую изворотливость надо было явить — так составить и подписать грамоту, дабы и без подписей думных стала она крепкой основой к царствованию на все времена рода Годуновых. О том были и мысли Иова, и печаль.
В обезлюдевшей Москве многое успел Иов. Не жалея ни времени, ни сил, объехал московские монастыри, славя Бориса и убеждая монастырских иерархов скрепить грамоту своими подписями. Настаивал, со всею страстью уговаривал и многих сомневавшихся и колеблющихся склонил руку приложить к грамоте. Порадел, дабы и из дальних монастырей игумены подписали грамоту, и в том тако же преуспел. Два игумена Свято-горского монастыря скрепили грамоту подписями, вяжецкие игумены приложили руку. Многие монахи, пришедшие в Москву, священники — даже из тех, что ранее никогда к соборным грамотам не допускались, — поставили свои подписи.
Однако не во всем споспешествовала удача патриарху.
Митрополит казанский Гермоген — третье лицо после патриарха в православной церкви — подписью так и не скрепил грамоту. А его рука на той бумаге была очень важна. Посылали в Казань боярина князя Федора Хворостина — человека прыткого, верткого, медоречивого, — но и он не смог склонить упрямого Гермогена. Федор Хворостин прискакал в Казань — и на подворье митрополичье. Словами раскатился. Гермоген встретил его сурово. Поджав губы, сказал строго:
— Все в руце божьей.
Князь Федор, желая смягчить митрополита, заулыбался всем лицом. Гермоген на улыбку не ответил. Недобрые глаза его омрачались еще более. Долгий у них был разговор, но все хлопоты князя Федора оказались пустыми. Упрям был казанский митрополит и на раз сказанном твердо стоял.
Да что Гермоген! В Кремле, рядом, далеко не надо ходить, и то не все иерархи поддержали Иова. Уперлись: нет и нет. Никакие слова убедить их не могли.
Иов сухими невидящими глазами оглядывал сад. Из зелени листьев, показалось ему, выплыло львиное лицо казанского митрополита. Яростные глаза и, как грива, вздымающиеся надо лбом седые волосы. Гермоген смотрел хмуро. Сильный был человек, властный. Что такому боярин князь Федор Хворостин? Гермогена испугать было нелегко. Такого как бы еще и самому не забояться. Матерый был и знал — грамота надолго, а может, и навсегда. Не спешил присягнуть Годунову. На Шуйских, Романовых поглядывал, как и казанский воевода Воротынский Иван. О том Иову было известно.
Листья заколебались под ветром, и лицо казанского митрополита исчезло. Патриарх переложил жезл из руки в руку, изогнул губы в гримасе. «Честолюбив, коварен, — подумал о Гермогене, — но посмотрим, чья возьмет». Сердцем ожесточился.
Вот так получилось с Иовом-то. Когда умер Федор Иоаннович, патриарх растерялся в великом страхе. Да и как было не растеряться? Вся Москва пришла в боязнь. Закрыл глаза патриарх блаженному Федору, но не знал, что дальше-то делать, куда идти, к чему звать. За Бориса, правителя, схватился, как хватаются в ночи, в кромешной тьме, за забор, дабы не упасть в неведомую ямину. Что там, впереди, не видно, вот и хватается человек испуганными руками за первую опору. Здесь, знает, твердо, удержусь, а оглядевшись, сделаю другой шаг. Да и луна, может быть, выглянет. Перебирает руками плахи, ступает с осторожностью, едва касаясь земли. Надежда одна: выйду, выйду из тьмы, а там оглядимся. И, испуганный, прижимается к забору, льнет к горбылям. Вот так-то и Иов держался Бориса. Он был ему опора в безвременье междуцарственном, в ночи боярской распри. Позже патриарх умом понял, что Борис, царь, истинная его надежда. Затолкают, замнут его без такой опоры высокородные бояре, московское знатное племя, князья жизни. Знал патриарх, что вот и Гермоген — и дерзкий, и гордый — не от строптивости восстает против Бориса, но по наущению Шуйских. От них он и милости приемлет, дорогие подарки, их властью пользуется и им же споспешествует в делах, противных новому царю.
Теперь же не только умом, но и сердцем восстал за Бориса Иов, а восставшее сердце может многое. Зажечь его трудно, но коли охватит сердце пламя, коли раскалится оно — нет ему преграды. И многое вершилось на земле яростным сердцем и плохого, и хорошего.
Патриарх, перекрестившись, оборотился к услужающим. Тотчас к Иову подошел начальствующий над патриаршей канцелярией. Склонился низко. Иов остановил на нем взгляд и долго и внимательно разглядывал острое, сухое, умное лицо с красными веками — должно, от сидения за бумагами — и скучными глазами. Известно было патриарху: сей крючок — великий мастак в письменном деле и многое может при усердии.
Выпрямившись в кресле, патриарх сказал:
— Приписку следует к грамоте сделать, что-де боярин князь Федор Иванович Мстиславский… — Передохнул. — Да и все бояре, и окольничие, и дворяне, и дьяки, и гости, и лучшие торговые люди ото всей земли Российского государства на Земском соборе заседали…
И не договорил. Склоненный дьяк взглянул растерянно. Из глаз плеснул страх. Понял мысли патриарха и убоялся. Знал: такое не забудется ни в сей день, ни через годы, да и неизвестно, во что станет сие дело, какой платой за него придется рассчитаться самому или его детям.
Иов упрямо царапнул костяными пальцами изукрашенное драгоценными каменьями яблоко патриаршего жезла. Сказал настоятельно:
— Господь надоумит их в сей нужной для отечества службе, наш же долг подвинуть их к тому шагу.
Дьяк послушно нырнул головой книзу. Решил: плетью обуха не перешибешь и не ему — сирому — перед сильными поднимать голос. Тонок он, слабее комариного писка.
Руки Иова в изнеможении легли на подлокотники кресла. Приписка сия, хотя бы и в несколько слов, меняла силу грамоты и говорила всем и каждому, что Борис избран царем полномочным собором с боярской Думой во главе.
— «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои», — прочел патриарх стих Давида, опуская грешную голову.
Король захохотал. Голосовые связки его громыхали и лязгали, как цепи поднимаемого крепостного моста. Дворцовый маршалок, услышав хохот Сигизмунда, даже споткнулся и чуть не упал у дверей королевского кабинета. Маршалок. торопливо перекрестился и со святыми именами — Иезус и Мария — приотворил дверь. Увиденное им в королевском кабинете привело его в еще большее изумление. Он широко раскрыл глаза, недвижимо застыл.
Сигизмунд стоял посреди палаты с побагровевшим лицом и, сгибаясь пополам, хохотал, отпихивая от себя прыгающего вокруг дога. Собака, как и маршалок, была явно в недоумении. Наконец, в отличие от безмолвствовавшего дворцового маршалка, дог разразился лаем, окончательно оглушив и испугав несчастного старика.
Но то было не все. У окна королевского кабинета, за столом, сидели с вытянутыми лицами папский нунций Рангони, литовский канцлер Лев Сапега и один из влиятельнейших панов сейма вислоусый старик с вытаращенными глазами. Они были также растеряны.
Дворцовый маршалок, не найдя возможным войти в королевские покои в столь неожиданной обстановке, да еще в присутствии таких важных государственных особ, притворил дверь и еще раз прошептал ставшими вдруг непослушными губами:
— Иезус и Мария…
В веселое расположение духа Сигизмунда привел рассказ Льва Сапеги.
Последнее время дела короля в родной Швеции час от часу становились хуже и хуже. Его соплеменники явно не хотели более терпеть Сигизмунда на шведском престоле. Ни дел великих, ни побед воинских не видели от короля. Иезуиты шныряли по стране, как голодные крысы, и спасения от них не было ни купцам, ни баронам. Дядя короля, герцог Карл, набирал все большую и большую силу. В королевских домах всегда находится дорогой родственник, портящий печень царствующему лицу. Сторонники герцога в Стокгольме, не скрываясь, говорили, что шведской короне совсем ни к чему оставаться на голове воспитанника иезуитов Сигизмунда. И с надеждой поглядывали на дядю короля. Герцог обещал прогнать иезуитов, возродить старые роды, дать волю купцам, воевать ганзейские гавани на Балтике, и ему верили. Сигизмунд проклял Карла и был готов начать с ним открытую войну. Но корона еще оставалась за ним, и он не решался начать боевые действия. К тому же короля сильно смущало состояние польской казны. Поход с мечом в родную Швецию, с тем чтобы наказать ослушников, стоил бы больших денег, а их-то не было.
Как-то Сигизмунд в сопровождении королевского казначея — дородного пана с застенчивым лицом и необыкновенно юркими для его тяжелого тела руками — спустился в дворцовые подвалы. Королю надоели разговоры о безденежье, и он захотел сам осмотреть казну, забыв истину, которая гласит, что, ежели короли спускаются в свои сокровищницы, с уверенностью можно сказать: полки казны от золота не огрузли, не просели под тяжестью драгоценных мехов и дорогой посуды. В мошне шарят, когда она пуста. В полный кошель только сунь руку — и вот они, дорогие, зазвенят на ладони.
С тяжелым лязгом растворились кованые решетки дверей, и Сигизмунд с раздражением, но не потеряв надежды, ступил крепким ботфортом на истертые ступени. В лицо пахнуло пресным запахом тления. Пан казначей скользнул мимо короля серой тенью. Мушкетеры подняли факелы. Огонь шипел, брызгая смолой. Король опустил руку в бочонок, стянутый медными обручами, и в сухой пыли нащупал горстку монет. Поднес к глазам и вдруг с яростью швырнул их в застенчивое лицо казначея. Тот откачнулся, заслонившись рукой, но Сигизмунд ухватил его за шитый жемчугом ворот, тряхнул так, что у пана казначея щелкнули зубы, глаза ушли под лоб.
— Вор! — крикнул. — Вор!
Повернулся, пошел из подвала. Раскатившийся по каменным плитам жемчуг с ворота казначея захрустел под королевскими каблуками, как яичная скорлупа.
— На виселицу, — сказал король, — на виселицу!
Голос у Сигизмунда хрипел, будто и ему на горло накинули петлю.
Через неделю пан казначей закачался на виселице. Тем и кончилось посещение королевской сокровищницы. Но с тех пор Сигизмунд со всей серьезностью обратил взор на восток. Вот тут-то и дошло до хохота, так изумившего робкого дворцового маршалка.
Лев Сапега рассказал королю о переговорах, которые велись между Речью Посполитой и Россией после смерти Стефана Батория. Король хотел знать прошлое в отношениях Польши и России, а канцлер литовский был свидетелем многому, так как своими руками творил историю соседствующих держав. Творил по-разному: и шпагой, и подкупом, и подложными письмами. Все шло в ход. Оливковое сухое лицо литовского канцлера с жесткими буграми желваков на скулах говорило — такой ни перед чем не остановится.
Рассказывая, Лев Сапега остро поглядывал на короля. Голос канцлера сипел: зол был и на своих, и на чужих. Поляки, рассказал он, считая, что в своем отечестве нет пророков, почти всегда приглашали на польский престол представителей королевских домов из других государств. Так и со смертью великого Стефана польская корона была предложена австрийскому, шведскому и русскому дворам.
Российское посольство на переговорах возглавлял думный дьяк Щелкалов, брат нынешнего печатника, человек пронырливый и хитрый до невозможности.
По польскому обычаю, в первую очередь начинались переговоры с тем двором, который вызывал большую приязнь свободолюбивой и гордой шляхты. А для того чтобы определить приверженность панов, на обширном поле выставлялись высокие шесты с изображениями корон, притязающих на польский трон царствующих дворов. Так и в то памятное время на широком поле под Люблином были выставлены три шеста: один — с изображением шапки Мономаха и два других — со шведской и австрийской коронами.
Паны в ярких одеждах, в мехах, в бобровых шапках, сверкая пышным убранством конских сбруй, выехали на поле. Честолюбивые, заносчивые паны могли и на саблях схватиться, и стрельбу учинить из пистолей, но то, что произошло, поразило и бывалых.
Щелкалов, тонкий знаток тайных человеческих помыслов и пристрастий, приказал под шапку Мономаха подкатить бочки с двойной сцеженной водкой, и на поле случилось трудновообразимое. Все смешалось. Паны, пришпорив коней, не раздумывая бросились под шапку Мономаха. У иных шестов еще поначалу топтался кое-кто одиноко, но и тех вскоре как ветром сдуло. В скачке многие, сбитые с коней в сутолоке и спешке, даже пострадали.
У бочек с огненной водкой не хватило черпал, и дьяк, проявив сметливость, распорядился подвезти черпала. Паны на морозце — день был ядреный, ветреный, — разметав по плечам усы, заалев мордастыми лицами, не могли оторваться от русской водочки. Уж больно забориста была, больно сладка. Дьяк молча щурил глаза. Успех русского посольства был полным.
Услышав про то, Сигизмунд и расхохотался. Мнение короля о его подданных было хорошо известно, но, наверное, рассказ Сапеги еще больше укрепил короля в неприязни к панам и тем доставил ему искреннюю радость. Хохоча, король прослезился. Рангони с неудовольствием и укором поглядел на него, но Сигизмунд оставил без внимания его взгляд.
Лицо Льва Сапеги пылало. Шляхта — разнузданная, спесивая, жадная до удовольствий — не вызывала и у него никаких симпатий.
Дальнейшее повествование литовского канцлера несколько охладило Сигизмунда.
Лев Сапега рассказал, что дьяк Щелкалов, многих удивив поначалу, не менее удивил и далее. Получив право ознакомиться с польскими делами, он заперся в отведенных покоях.
Дня два возле подворья русского посольства шныряли сомнительные лица, пытаясь узнать, что там и как. Но у дьяка в окне только свеча невесело горела, а лица у посольских были постны. И при горячем желании у таких скучных ничего не добьешься. Когда же дьяк вышел из палат, от него тоже ничего не узнали. Отвечал он неразборчиво да с тем и уехал. Однако стало известно: после изучения польских бумаг дьяк отписал своему царю, что земли польские под российскую корону не следует брать, так как отягчены они большими долгами, с которыми навряд ли когда-нибудь смогут расплатиться. А шляхта землю разорила и зорит так, что польское государство великой тяжестью на российские плечи ляжет и ныне, и присно, и во веки веков.
Вот тут Сигизмунд и поскучнел. Прошелся по кабинету, тяжело ступая по скрипучему паркету, более приспособленному к мягким польским сапожкам, чем к подкованным железом шведским ботфортам, и подумал, что со времени Стефана Батория долгов у Речи Посполитой не уменьшилось, паны не стали добрее и зорят землю с той же алчностью. К тому же в мрачных тонах припомнился Сигизмунду Стокгольм, узкие его улицы, высокие стены королевского дворца, холодные свинцовые воды Балтики… С короной на голове можно действовать, можно и бездействовать. Нельзя одно — совершать глупости. Но Сигизмунду третье было свойственно более всего. «Звезда воссияет только на востоке», — решил король.
Сигизмунд резко повернулся на каблуках, сел к столу и с надеждой взглянул в лицо Льву Сапеге.
В Серпухове слухи о ханской орде стали незаметно стихать, вскоре и вовсе прекратились. Как-то сами собой на папертях церквей успокоились нищие, притихли жители города, и даже коровы вновь стали давать сладкое молоко, замычали сыто и умиротворенно. В степи поднялись травы, отпели весенние песни птицы, отстучали в свои барабаны зайцы, ковыль выбросил метелку, и заструилось, задрожало, заиграло над степью уже по-летнему жаркое марево. По всем приметам лучшее время для набега крымской орды прошло.
— Видать, остановились крымцы, — заговорили в царевом стане. — Остановились…
— Постой, дядя, татарин хитер, время выберет.
— Крымцы по свежей траве идут. Сейчас им в степи скучно. Вот-вот посохнут травы.
Может, тешили себя люди, может, нет, но тишины уж больно хотелось. С надеждой смотрели на небо. Понимали: ежели вёдро продержится еще неделю-другую, травы и впрямь посохнут, а там пойдут жаркие палы, черный пепел закружит над степью, и какой уж поход — беда одна. Кони через горелое поле не пойдут, а крымцы сильны только на конях.
У царевых палат стрельцы сидели на солнышке. Зевали. Скучно. Томно. Соснуть бы, да вот служба. От нечего делать стрельцы следили запухшими от безделья глазами за низко носившимися над лугом ласточками. Ласточки стрекотали успокаивающе.
И вдруг топот, тревожные голоса. Все всколыхнулось, и по городу словно ветер:
— Орда, орда!
Как язык пламени, рванулся к небу бабий нехороший крик. Захлопали спешно затворяемые ворота, пыль поднялась в улицах. Заполошно побежали люди, в Высоцком монастыре — сдуру — чуть было не ударили в колокола.
Тревогу, оказалось, подняли зря. Шуму наделали гонцы елецкого воеводы. Прискакали к Борисовым палатам — кони в мыле, лица в спекшейся дорожной пыли — и к царю. Гнали, ни себя, ни коней не жалея. Вот и шум, вот и тревога.
К Борису был допущен служилый человек из Ельца — Сафонка. На вывороченных степных ногах неловко вошел он в палату, упал на колени, уткнулся лицом в кошму. Плечи у мужика саженные, и весь он налит недюжинной силой. Елецкий воевода ведал, кого посылать к царю, — такой доскачет.
Борис, взирая на Сафонку с походного стульчика, повелел говорить. Тот поднял голову, выставил пегую бороду, набычился так, что лицо налилось красным, но сказать не смог ничего. В первый раз увидел царя. Слово не шло из горла. Только моргал круглыми глазами.
Василий Щелкалов подкатился к нему на мягких ногах. Зашептал что-то в ухо, погладил по плечу. Сафонка захрипел заваленным степной колючей пылью горлом.
Гонец принес весть, что в степи, в трех днях езды от Серпухова, ханское посольство. Посол — мурза Алей.
— Татары просят мира, — сказал Сафонка и опять уткнулся лицом в кошму.
Это было так неожиданно, что тишина повисла в палате. Борис оторвал руку от подлокотника, поднес ко рту, прикрылся длинными пальцами, но многие увидели — улыбка тронула губы царя. Ну а что улыбка та? Самое время улыбнуться: без крови беда отошла от Руси, лихо миновало… Ан Бельский опустил стальные глаза, Мстиславский кхекнул в кулак, дивясь и поражаясь Борисовой доле. В головах и у того, и у другого, да и у иных многих, стоявших за изукрашенным царевым стульчиком, было: и здесь ему удача споспешествует. Великой досадой поразила первого в Думе весть елецкого воеводы. Но Борис повернул голову к боярам, и лица зацвели улыбками. Вот ведь как в высоких покоях вести приемлют. Здесь не слово — молчание надо слушать.
Борис поднялся со стульчика. Шагнул к Сафонке и милостиво поднял с кошмы. Тот припал к царевой руке. Черная кость, а смел был не по роду.
Сафонку за службу государь пожаловал: велел из казны дать платье, пять рублей денег да приказал быть на Ельце в боярских детях.
Радостная весть разнеслась по стану. Но здесь не молчали. Счастье было — во всю грудь кричи, и то мало. Арсений Дятел — на что был хладнокровен — сорвал шапку, хлопнул ею оземь:
— Вот государь счастливый — Борис! Без войны крымца повалил!
Больше всех куролесил в тот день Сафонка. Вертелся колесом, прогулял пять царевых рублей. Каблуки у сапог отлетели у него в пляске, горло сорвал, а все не мог успокоиться. Мужики, пожалев его, уложили под телегу, накрыли конским потником, но он и во сне покрикивал да сучил ногами. Плясал, знать. И не только Сафонка, славя Бориса, радовался избытой ратной страде. Весь воинский стан поднялся на ноги. Царское угощение меж шатров возили обозом. Серпухов гудел колоколами.
В небе над городом, поднятая небывалым перезвоном, заполошно металась стая воронья.
В Москву к патриарху и царице с царскими детьми, ко всему московскому люду послали нарочных. Счастливые — каждому вышла награда, и немалая, — они полетели, звеня бубенцами: «Победа! Победа! Победа!»
Борис в тот же день повелел свести войско на берега Оки к царским шатрам, изукрашенным умельцами с невиданной пышностью и богатством. Походу вроде конец — чего уж войско тревожить? Но приказ царя был строг. Недоуменно поднявшему плечи князю Федору Мстиславскому Борис, задержав на нем строгий взгляд, пояснил:
— Сие необходимо для вящего страха послов ханских. Увидеть им должно, как Русь восстала.
Князь отступил.
Борис, вложив ногу в стремя, легко и ловко поднялся на коня. Пожелал осмотреть, где и как будут поставлены полки. А рать уже двинулась к Оке. Царевы приказы промедления не терпели.
Разговору тому был свидетелем Семен Никитич, но он и глаз не поднял на князя Федора. Улыбнулся в бороду, на лице явственно проступило: «Что, боров, съел?» Уж очень любил, жаловал князя дядька царев Семен Никитич.
Невеликая хитрость Борисова произвела на ханских послов впечатление даже большее, чем можно было ожидать.
Послов Казы-Гиреевых остановили в семи верстах от царских шатров, на лугах Оки, куда уже несколько дней отовсюду сходилась рать. Пышные июльские звезды только что погасли, но молодой месяц — холодный такой, что становилось знобко, глядя на него, — еще виден был на краю неба. Тишина стояла вокруг. Парила Ока, и полз по лугам туман. Птица ветку качнет, и то, кажется, слышно. Послов с бережением ссадили с коней. Мурза Алей, худой старик с впалыми темными щеками, вдавливая в желтый зернистый речной песок высокие каблуки узконосых сапог, отошел в сторону, сложил руки ковшиком, огладил лицо и поднял глаза к востоку. Губы зашептали святые слова:
— Алла-инш-алла…
Откуда-то мирно пахнуло теплым запахом костра. И тут — обвалом — грянули за рекой пушки, да так, что ветром качнуло послов, взвихрился песок, прилегла трава. У мурзы Алея чалма упала с головы. Кони, удерживаемые казаками, вздыбились, заржали. Кое-кто из послов от неожиданности и страха присел. Мурза оборотил лицо к взметнувшемуся за рекой пушечному дыму. В глазах — смятение.
Послов окружили стрельцы и повели вдоль берега.
Мурза высох до костяного звона, а шел тяжело. Полы шелкового халата цеплялись за жесткий полынок, за упрямые стебли ножевой, на песке возросшей, степной травы. О чем думал мурза? Неведомо. Может, о том, что всему есть время свое и мера своя? Вспоминал, как водил орду по широким приокским просторам, как играл под ним конь и кричали полонянки? А может, прикидывал, кто он в сей миг? Пленник или почетный ханский посол?
На холмах, у Оки, была видна бесчисленная рать. Утреннее солнце играло бликами на тяжелых шлемах воинов, вспыхивало ослепительными искрами на отточенных остриях копий, высвечивало медь щитов. Тут и там гарцевали многочисленные конные, и пушки били так, что звенело в головах.
Мурза долго смотрел на стоящих везде воинов, и глаза у него наливались старческой бессильной влагой. Алей отвернулся, шагнул, его качнуло. Ловкий царев окольничий Семен Сабуров — тот самый, который однажды в ночь прискакал к правителю в Новодевичий монастырь, — поддержал старика под руку, подвел к Борисову шатру. Посол переступил порог.
В шатре все блистало великолепием. Но Борис, увенчанный вместо короны золотым шлемом, первенствовал в сонме князей не столько богатством одежды, сколько повелительным видом. Мурза мгновение смотрел на царя и преклонил колена. На лице его еще были растерянность и страх перед увиденным на берегах Оки несметным русским войском.
В тот день послами было сказано, что хан Казы-Гирей желает вечного союза с Россией и, возобновляя договор, заключенный в Федорово царствование, по воле Борисовой готов со всею ордою идти на врагов Москвы.
Москву шатало от колокольного звона. Сорок сороков церквей заговорили медными языками.
Бом! — и кажется, земля в сторону подалась.
Бом! — и в другую качнулась.
К полудню звонари отмотали руки, оглохли, и им помогали лучшие из людей посадских, лучшие же люди из гостинной сотни, первые купцы. Каждый хотел порадеть во имя победы. Как же, великая опасность миновала, крымцы отступили!
На колокольне Чудова монастыря веревку от большого колокола таскал здоровенный купчина. На красное лицо горохом сыпался пот из-под шапки. А купец все наддавал, садил десятипудовым языком в горячую от боя медь. Тяжелый, с седой прозеленью колокол гудел не смолкая, проникая низким басовитым звуком в самую душу.
Сверху видно далеко. И хотя пот застил глаза купцу, все же различить можно было, что дома на Москве украшены зеленью и цветами, а народ в улицах как бурная река. Да и сами дома вроде бы выше стали, раздвинулись, а площади и вовсе распахнулись, как никогда, вместив разом столько народу. Церкви взметнулись невиданно высоко, а стройные колокольни, казалось, ушли в небо и уже оттуда, из подоблачной выси, сыпали медную, торжественную музыку. Густо, тяжко…
Пестрели на Пожаре и дальше, у Москвы-реки и за рекой, к Серпуховской дороге, яркие бабьи платы, синие, красные, василькового цвета кафтаны; блистали под солнцем бесчисленные хоругви, святые иконы. Москва ликовала, и народ вышел встречать Бориса, как некогда выходил встречать Грозного-царя, завоевателя Казани. Впереди — патриарх, царица Мария с озаренным счастьем лицом и царские дети: царевна Ксения и царевич Федор. Царица в широком ожерелье, сверкающем драгоценными каменьями, царевна и царевич в черевчатых[14] бархатах.
Царя встретили при въезде в город. Он сошел с коня. Борис стоял над коленопреклоненной Москвой. Стоял молча. За ним виднелись бояре: Шуйские, Романовы, Мстиславские, Голицыны, бледный до синевы, осунувшийся Бельский. И они стояли молча, стеной, но никто из бояр не смел поднять головы. Было ясно: единое слово царя бросит в сей миг на любого, кто только помыслит против него, всю Москву. Одна голова все же поднялась, и острый взгляд ожег лицо царя. Борис, почувствовав взгляд, повернул голову. Не мигая, на него смотрел Семен Никитич. Он, и только он знал: Борис войной напугал Москву и свалил себе под ноги. Придавил коленом. Крымский купец с Ильинки, невесть куда исчезнувший в лихую темную ночь, сказал ему, цареву дядьке: «Орда не пойдет на Русь. Копыта ханских коней стремятся к Дунаю». То было дело, от которого кровь стыла в жилах.
Мгновение смотрел царь в глаза Семена Никитича и отвернулся. Вокруг оглушительно закричали:
— Слава! Слава!
Вперед выступил Иов, воскликнул:
— Богом избранный и богом возлюбленный великий самодержец! Мы видим славу твою. Но радуйся и веселись с нами, свершив бессмертный подвиг! Государство, жизнь и достояние людей целы, а лютый враг, преклонив колена, молит о мире. Ты не скрыл, но умножил свой талант в сем удивительном случае, ознаменованном более чем человеческой мудростью. Здравствуй царь, любезный небу и народу! От радости плачем и тебе клянемся!
И эти превозносящие слова порождены были ложью и сами были безмерно лживы. Однако вновь раздались оглушительные голоса:
— Слава! Слава!
Все вокруг пришло в движение. Море сияющих лиц всколыхнулось перед Борисом, но он по-прежнему был недвижим. И вот ведь как получалось. Под сельцом Кузьминским сошел с коня Борис и остановился на вершине холма, вглядываясь в свое воинство. Трепетен был царь, услышал едва угадываемый тонкий птичий голос, а в сей миг не различал и вопленные крики. Вроде бы уши ему заложило. И ноги держали его, что врытые в землю столбы. Дней минуло с той поры всего ничего. Прошлое то — недавнее. Совсем недавнее. «Прошлое? — подумал Борис. — Прошлого больше нет. Есть будущее!»
Путивльский воевода, разобидевшись на татей, что забили его холопа, послал в лес стрельцов. Но те вернулись ни с чем. Воевода — упрямый мужик — в другой раз послал стрельцов и наказал:
— Смотрите, ребята! Без баловства. Я такого не люблю.
И пальцем с печаткой постучал о крышку стола. Внушительно постучал. Глаза у воеводы округлились и налились нехорошей, злой мутью.
Лес стрельцы прочесали — кустик за кустиком, овражек за овражком, но тати будто сквозь землю провалились. Следа и то не угадывалось, а казалось, до последней ямки лес обшарили ребята. Болотную топь прошли да оглядели, но и здесь не следа. Заросшие ряской омуты, осока по пояс, камыши. Ни дорожки, ни скрытой стежки. Ступишь — и нога с тяжким хлюпаньем уходит до бедра в жидкое месиво. Нет, здесь не пройдешь и не спрячешься.
Собрались стрельцы на взгорке, сели, притомившись. Находились, наползались, набегались по лесу. Лица были невеселые. Туман полз меж деревьев. Всходило солнце, золотя полнолистые верхушки, — лето было в зените. Где-то далеко звонко куковала кукушка. Рассказывала сказку о долгой жизни. Стрельцы сидели молча. К воеводе идти с пустыми руками было страшно.
— Разобьет он нас, — сказал один, — как есть разобьет.
— Непременно, — почесал в затылке второй. Сдвинул колпак на лоб и с досадой пнул трухлявый пень. Тот рассыпался желтыми гнилушками.
Кукушка откричала свое и смолкла.
Старший из стрельцов недобрым взглядом обвел лес. Подумал: «Может, еще походить?» Но тут же решил: «Ушли, наверное… А может, схоронились у кого? Народ-то вокруг — вор на воре». Глянул вдаль. Лес безмолвный стоял до окоема. А там, за розовевшим краем неба, знал старшой, казачья вольница, Сечь, Дикое поле, где нет ни управы, ни креста. Пойди заверни руки за спину… Хмыкнул:
— Эх, жизнь, жизнь служивая…
Третий надоумил:
— Надо к целовальнику, что на постоялом дворе у леса. Он все знает.
То, что целовальник все знает, и без слов было ведомо, но вот как подойти к нему? Тать и кабатчик живут завсегда в мире: один ворует — другой торгует. Да еще и так говорили: «Нет вора-удальца без хорошего торговца». Но куда ни кинь, а идти было надо. Очень опасен был воевода. Нетерпелив. Вины без шкуры не снимал. Говорил: «Так царева служба требует». И на том стоял крепко.
Стрельцы приступили к кабатчику. Кабатчик завертелся, как уж под вилами: и этого-де не знаю, и того не ведаю. Всплеснул руками. Четверть выставил стрельцам. Но те скушали водочку, а от своего не отстали. Старший из них сказал:
— Ты, Опанас, не верти. Выдай татей, иначе мы запомним.
Посмотрел на кабатчика просто. Тот заробел. От отчаяния стрельцы могли и плохое задумать. На постоялом дворе пусто. Все, кто с ночи стоял, выехали. И ни голоса, ни звука вокруг, только глупая курица где-то стонала страстно, яичко снеся. Очень даже просто — стрельцы возьмут под белы руки, разложат посреди двора да и выдерут без всякой жалости. Вот так-то обидел их один, и они в сердцах привязали его с вечера к мельничьему крылу. Дядя до утра крутился. Ночь была ветреная, кричи не кричи — никто не услышит. Еле отходили поутру. Синий был. Кровь в голову бросилась. Но это еще шутка. Стрельцы озоровали и много опаснее.
Прикинул кабатчик и так и эдак, и получилось: лучше выдать татей. С воровства, конечно, копейка шла, и немалая, но выходило из разговора со стрельцами, что здесь можно и рубль потерять.
Опанас растерянно пошарил руками под стойкой и как бы невзначай выставил еще четверть. В склянке заманчиво булькнуло, но старший из стрельцов, приняв и этот подарок, все одно значительно сказал:
— Ну, Опанас…
Кабатчик сдался:
— Приходите ввечеру. К кому на стол поставлю свечу, те и есть тати. — Сокрушенно махнул рукой. Добавил: — Только, стрельцы, уговор — меня оберегите. А то ведь знаете, лихому человеку петуха пустить ничего не стоит.
Посмотрел, как прибитая собака. Постоялый двор на большой дороге. Здесь всякое может случиться. Выжал слезу.
— Не робей, — ответили, повеселев, стрельцы, — обороним.
Ввечеру на постоялом дворе негде было и ногой ступить. Чумаки возы с солью пригнали, обоз, шедший на Путивль, пристал. Тому ось у телеги починить, другому колеса подмазать, третий, на ночь глядя, темноту решил переждать. На дорогах не то что в темень — грабили белым днем. Нагло. И хлопала, хлопала дверь. Входили разные люди: и лыком подпоясанные по посконной рубахе, и ничего себе — подвязанные хорошими кушаками. Вкусно пахло чесноком, вяленой рыбой, тянуло сытным запахом свежевыпеченного хлеба. Но в зернь никто не играл, и никто не ломался пьяный у стойки, хвалясь пропить последний крест. Хохлы в бараньих шапках и шароварах шире Турецкого моря, тощие белорусы в серых посконных портах, евреи в пыльных камзолах и перемазанных чулках на тощих петушиных ногах. Монах сидел у окна, закусывал, мелко, по-заячьи, шлепая губами. Народ все то был тихий, отягощенный дорожными заботами. А ежели кто и поднимал голос, хватив с устатку горилки, то тут же и смолкал под строгим взглядом возвышавшегося за стойкой в красной рубахе Опанаса.
Стрельцы настороженно, из прируба, поглядывали в щель. Сидели давно, но Опанас не подавал знака.
Хлопнула дверь, и вошли четверо. Сытые, видно сразу, уверенные. Последний задержался у порога. Мужик — не то чтобы из шибко крепких, но, чувствовалось, и не слабый — глазами повел по головам. Взгляд у мужика тяжелый. Чтобы так глядеть, надо повидать всякого и уж точно можно сказать: не одни лазоревые цветочки перед этими глазами цвели. Было другое чего, пострашней. По-хозяйски мужик шагнул к стойке. Опанас тотчас вышел навстречу, провел мужиков в угол, усадил подальше от дверей. Вернулся, взял вино, стаканчики, зажег сальный огарок и разом отнес молодцам. На лице у него и морщинка малая не дрогнула. Тоже был жох. Еще и неведомо, кто кого бы перетянул, ежели его с татями на весы положить. Не успел Опанас еще и от стола отойти, осторожный, тот, что огляделся, войдя в кабак, погасил свечу.
— Ну, ребята, — подсохнув лицом и прижав локти, сказал старший из стрельцов, — не робеть.
Пошел из прируба. И как только вышагнул из-за притолоки, глазастый глянул на стрельца и руку за спину завел. «Нож у него, — мелькнуло в голове у старшого, — бить надо с ходу». И тут же резко качнулся вперед и взмахнул чеканом[15]. Но Иван-трехпалый увернулся. Литая тяжелая гирька ударила в стол, проломила крышку. Старшой грудью кинулся на татя. Весь кабак встал на ноги. Монах, как перепуганная курица, бросился за печь. Старшой, изловчившись, прижал Ивана к стене. Тот боролся, елозя спиной по обсыпающейся известке. Выворачивался и все пытался схватить стрельца за горло. Но стрелец был зол и не давался, хрипел:
— Постой, постой!..
Стрельцы скопом навалились на татей. Одного свалили, другому руки заломили за спину. Иван все же вывернулся. Помог дружок. Упал под ноги старшому, и тот рухнул на пол. Иван плечом вышиб дверь, выскочил из кабака. Тут случилась невесть кем оставленная повозка, и Иван прямо с крылечка прыгнул в нее, подхватил вожжи. Дружок, спасший его от страшного стрелецкого чекана, замешкался в дверях. Двое насели на него, но он их одолел. Кинулся к повозке и запнулся. Падая, схватился за грядушку. Однако Иван уже погнал коней. Хлестал кнутом так, что вспухали кровавые полосы на конских крупах. Кони, взбесясь, высигивали из оглоблей.
— Иван, Иван, — хрипел дружок, волочась за повозкой, — остановись!
Трехпалый оглянулся, увидел бегущих следом стрельцов, чумаков, отпрягающих лошадей от коновязи, и сплеча, что было мочи, хлестнул дружка по глазам. Тот, вскрикнув, покатился в пыль. Грохоча, повозка пошла под уклон.
Вот ведь как получается в жизни: били, били человека да свое и выколотили — ну а теперь что ж, держись! Он себя выкажет. Ну а где тот парнишка, что любил в поле слушать жаворонков? А? Всё, люди… Был парнишка — да вышел. Очень старались вокруг, чтобы жаворонков он забыл.
Иван загнал повозку в лес, соскочил на землю и, не оглядываясь, пошагал в чащобу. Шел поспешая. Грудь вздымалась высоко. Он перевел рвавшееся из груди дыхание, прислушался. Погони не было слышно. Иван дрожащей рукой отер потное лицо и вдруг подумал: «А куда я бегу? Стрельцы давно отстали». Огляделся. Ноги не держали, и он сел на поваленный ствол. Над головой ровно шумели деревья, а может быть, то кровь гудела в ушах? «На украйны идти нельзя, — решил, отдышавшись, Иван, — стрельцы озлились, перекроют дороги — и мышь не проскочит. Старшого-то я ножом полоснул… Пойду к Москве. Там не ждут. Авось проскочу». Ему нестерпимо захотелось пить, но он только облизал губы. Здешнего леса не знал и, где сыскать родничок, не ведал. Поднялся с замшелой лесины и зашагал в темноту. Ветви захрустели под ногами. Но и они вскоре смолкли — и все: был человек, да растворился в черной ночи.
Игнатий в доверие вошел к Татарину. Чертоломил на своей землице, не разгибаясь, с ранней зари до позднего вечера, да и на барщине головы не поднимал. Одним словом — по понятиям боярского приказчика — встал мужик на ноги. От такого есть прок в хозяйстве. «Не заграждай рта, — помнил приказчик боярский, — у вола молотящего». Серебра Игнашке дал, и тот обзавелся новой сохой, справную лошадку прикупил и ныне считался на деревне крепким. Осталось сосватать девку да и жить как бог даст. Заветный рублик еще не извел до конца. Можно было и избу поправить и хорошие ворота поставить. Старая изба валилась. Да оно и понятно: ее еще дед рубил, так ныне одно название было — изба. Но Игнатий шибко надеялся на свою силу.
К концу лета Татарин призвал Игнашку к себе. Игнашка на подворье чинил городьбу: скот вытаптывал огород. Вдруг услышал — позвал кто-то. С дороги проезжавший на телеге мужик крикнул:
— Приказчик зовет! Поспеши. Злой…
Покрутил головой. Хлопнул вожжами гнедуху и, визжа на полдеревни немазаными колесами, поехал дальше. «Зачем бы такое?» — подумал встревоженно Игнашка, глядя вслед телеге, но не идти было нельзя. Снес топор в сарай, поддернул лыковый поясок и зашагал, озабоченный.
Татарин встретил его во дворе. У избы, у амбаров, несмотря на страдное время, когда у каждого в хозяйстве рук не хватало, гоношилось с десяток мужиков. Созвали их, видать, из-под палки, и они ходили повесив головы. Рожь доцветала, катилась над полями рыжая пыльца, и вот-вот, ждали, побелеет, родимая, а там и жатва. Так уж зачем отрывать мужиков? Вот и ходили они на перебитых ногах. Таскали бочки, плетушки, чинили собранные не иначе как со всей деревни телеги. «Обоз снаряжают, что ли?» — подумал Игнашка и крайне удивился. Однако для бережения, ни о чем не спрашивая, сорвал шапчонку.
Татарин кивнул ему — побывав на Игнашкиной пашне, стал выделять среди других и был ласков.
— В Москву поедешь, — сказал, однако, строго.
Игнашка изумленно поднял глаза.
— Малый столовый оброк везем боярину, — пояснил Татарин. — Мужики нужны.
Игнашка раскрыл было рот сказать, что у него-де и здесь горит, и там дел невпроворот, но Татарин и слова не дал вымолвить:
— Ты бобыль. Да и дорогу знаешь. — Прищурился с ухмылкой: — Аль забыл, как пороли… Не по этой ли дороге-то бегал? — И погрозил пальцем: — Сегодня же и поедешь. По холодку тронетесь.
Отвернулся, пошел озабоченно к амбарам.
Оброк этот столовый назывался малым, но гнали в Москву полных два десятка возов. Всякую свеженину к боярскому столу: ягоду, грибы, парное мясо, птицу в клетушках, живую рыбу в лоханях. Позже, по первому снегу, везли в Москву большой столовый оброк — вот тогда чего только не волокли, — а это так, считалось, по мелочи.
Игнашка утерся рукавом, посмотрел вслед Татарину, подошел к телеге, груженной ушатами с рыбой. Ушаты накрыты травой, однако слышно было, как рыба скрипела, скрежетала жесткой чешуей. «Стерляди, — решил Иван, — белорыбица тихо сидит в лохани». И еще подумал: «Боярин в три горла, что ли, жрет? Такую пропасть добра каждый раз ему везут!» И тут же испугался своих мыслей. Не дай бог Татарин угадает, что у него в голове, — беда. Поправил траву на лоханях, пугливо оглянулся. Нет, никому не было до него дела.
— Эй, мужики! — крикнул бойко. — Воз-то с рыбой зашпилить надо. Так-то ей одно беспокойство, да и развалим лохани.
— Что орешь? — подходя, ответил мужик в посконной, распояской, рубахе. — Зашпилим, зашпилим… За боярское добро болеешь?
Злой был: вовсе не ко времени созвали на работу. Игнашка примирительно ответил:
— С меня спросят, как возы в Москву пригоним.
— Но, но, — тише сказал мужик, — не ты первый, не твой и ответ.
Но все же позвал мужиков. От амбара принесли ряднинную полсть и начали зашпиливать воз. Татарин позвал Игнашку к амбару. До половины дня Игнашка прокрутился на дворе, помогая собирать обоз, а там отпросился домой. Однако Татарин приказал:
— Сей же миг назад. В дорогу пора. Поздненько уже. — И добавил: — Давай! Чего стоишь?
Игнашка пришел на свое подворье, увязал в узелок луку, хлеба, что был, привалил поленом дверь и, пожалев, что не доделал городьбу, заторопился к соседу. Повел лошаденку. Очень беспокоился о животине. Да и понятно: лошаденка — вся надежда. Христом богом просил приглядеть за ней. Сосед, хотя и без желания, но сказал:
— Ладно, пригляжу.
— Я уж твоим мальцам, — пообещал Игнашка (знал, у соседа кузов ребятишек), — московских калачиков привезу. Скусные…
Сосед подобрел.
— Ладно, — махнул рукой, — ступай с богом.
На слово его можно было надеяться, и Игнашка с радостью, что все так хорошо устроилось, поспешил к приказчику. Знал: обоз вот-вот тронется. А о другом не подумал: хозяйствовать ему оставалось совсем ничего.
При выезде из деревни мужики перекрестились на бедную иконку в придорожном столбе, и обоз пошел на Москву.
Борисоглебский монастырь не был обижен ни селами и деревеньками, ни озерами с рыбными ловлями, ни сенными покосами. Слава богу, все было у братии, но отец игумен услышал, что монахи недовольство выказывают сырыми келиями и бедным столом. Келии правда были сыроваты. Невесть отчего — стены-то были куда как толсты и мощны, — но в глухие зимние месяцы углы в келиях промерзали, зарастали инеем, и монахи мерзли. К заутрене выйдет иной, а у него зуб на зуб не попадает. Крестом осенить себя не может — рука трясется. Да и стол, конечно, был тощ.
— Кхм, кхм, — откашлялся внушительно отец игумен. Ему в келию подавали сулею — и немалую — с монастырской настоечкой. Губами пожевал. Душиста была настоечка. Отец игумен хотя и был сочен телом и розовощек, но жалобу имел на горло и для согрева болящего места постоянно употреблял славный сей напиток. Но, согревшись, так увлекался его сладостью, что уже и без всякой меры чары поднимал, и в такую минуту тянуло отца игумена всенепременно на пение ирмосов[16] осьмым гласом. Что же касательно мяса в скоромные дни или, скажем, красных рыб, также постоянно приносимых к его столу, то это он оправдывал желанием укрепить себя для служения господу. Однако любил отец игумен неустанно повторять для вящего воспитания братии, что путь монаха к раю очищается не стерлядями и вином, но исключительно хлебом и водою. И, понятно, разговором о бедности стола в монастыре пренебрег. Однако братия как-то прижала его у трапезной, в углу, и вышел большой крик. Игумен рясу подхватил и хотел дать деру, но не тут-то было. Монахи бранили игумена в глаза, и даже кое-кто руку поднял. Особую дерзость проявили брат Мисаил — монах злой и дерзкий — и брат Аника — не менее же непочтительный хулитель и крикун. Мисаил теснил, теснил игумена чревом, да и без всякого стыда ухватил за рясу. Аника же вельми тяжким посохом троекратно ударил поперек лба. Другие монахи стояли вокруг, и ни один не остановил охальников, но, напротив, смеялись, а некоторые даже подбадривали непотребными возгласами. Кто-то сказал:
— Вдругорядь учить будем крепче, а то и вовсе выбьем из монастыря.
Игумен на карачках вылез из свалки и, не мешкая, удалился в свою келию. Заперся на крепкий засов и уже только тогда подал голос. Сгоряча, от обиды великой, проклял и брата Мисаила, и брата Анику. Но, охолонув, вспомнил богопротивные слова: «Вдругорядь учить будем крепче, а то и вовсе выбьем из монастыря», — и они крепко запали ему в память.
От учения игумен отлеживался с неделю и припомнил, что в Вятском монастыре так и было: братия за жадность и непомерные строгости не только побила отца Трифона, но и напрочь согнала со двора, хотя вятский игумен считался чуть ли не святым и основал не один монастырь.
— Охо-хо, грехи наши, — чесал битый лоб игумен, — надо поостеречься. Золотишко-то и впрямь в гроб не возьмешь…
Лоб у игумена шибко саднило, и явственно от переносья вниз и под глаза стекала синева, даже и с прозеленью. Рука у брата Аники, говорили, была суховата с детства, но вот, смотри, сухой рукой, а нанес такой ущерб.
За окном келий надрывно стонал голубь. Ухал, переливая в горле сладкие слезы, и отец игумен расчувствовался, пожалел себя до боли. Носом хлюпнул. Ему отчетливо припомнилось, как наскакивал Аника, щеря жаждущие зубы, как бесстыдно хватал за рясу Мисаил, как смеялись стоявшие вокруг монахи, и игумен решил, что лучше для братии порадеть, так как иначе может быть и худо.
Бой у трапезной неожиданно сказался на судьбе Степана, пасшего монастырские табуны на дальних угодьях. Игумен поохал, поохал да и решил продать часть лошадей — келии подновить, а может, и новые пристроить, дабы смирить пыл братии.
— Пусть их, — сказал, — греются. — И уже благодушно вспомнил о душистой настоечке: — Ах, настоечка, сладкое питье. — Вздохнул: — Слаб человек…
Перекрестился, и хотя свербело в душе, но с распоряжением о желанном напитке решил до времени переждать.
На дальние угодья в тот же день с приказом о продаже лошадей покатил на тряской телеге брат Мисаил. Поехал довольный. «Впрок, — усмехался, — отцу игумену учение наше пошло. И в божьем писании сказано: „Пусть не ослабевает рука, изъязвляющая тело впадающего в грех“».
У Степана меж тем случилось несчастье.
Борисоглебский монастырь лошадками промышлял вельми успешно. Славились они широко, и даже на Москве за них давали большую цену. Так и говорили: «Это монастырские. Из Дмитрова», — и уже никто не торговался, но выкладывал денежку да поскорее конька уводил с торга.
На монастырских угодьях взращивали лошадок крепких, таких, что тяжелых воинов со всеми доспехами могли держать, но притом же угонистых и выносливых чрезвычайно. Крепость, прочный костяк брали кони из Дмитрова от монгольских мохноногих степных крепышей, а стать и угонистость — от ногайских скакунов, хороших в ходу, но слабоватых для воинов с боевою справой. Главным все же надо было полагать в успехе дмитровских лошадей необыкновенные монастырские выпасы, раздолье травное, где конь резвости набирался, силы и выносливости в беге. Табуны монастырские гуляли вольно с ранней весны до поздней осени, по брюхо в таких травах, на таких ветрах, что тут бы из серой мышки-полевки вырос скакун для великого князя.
Лошади поначалу сторонились Степана. Но потом обвыклись: мужик-то был мягкий, с тихим голосом, неспешными руками. Да и глазами был добр, а лошадь это видит. Нет животины славнее и понятливее лошади. Она все уразумеет, только бы хозяин был ласков.
Монахи-отарщики, приметив, что лошади к Степану льнут, вскоре дали ему табунок. Двадцать кобылиц. Двухлеток. Быстрых, как стрелы, ладных, от одного взгляда на которых становилось теплее на душе. Водил их черный с рыжими подпалинами по крупу жеребец — сторожкий и злой. Но то ли жеребец не углядел за табуном, то ли Степан проморгал, а одна из кобылиц — лошадка караковой масти с черным ремнем по крестцу — угодила в болотное бучило. К воде потянулась и ушла в трясину. Степан услышал вскрик, кинулся, а уж одна голова кобылицы торчит из грязи. Выхватив из-за кушака топор, торопясь, Степан свалил одну, вторую березку, бросил в трясину и по ветвям полез к лошади. Дотянулся, ухватил кобылку за шею, но куда там, лошадь засела накрепко. Пошевельнуться не могла. Только смотрела на Степана огромным, залитым слезой глазом и мягкие розовые губы дрожали бессильно. Ржать и то, видно, боялась.
— Ну, ну, милая, — бодрил кобылку Степан, — давай, давай…
Тянул, напрягаясь, но ветви ползли, тонули под ним, не давая опоры, и он все глубже и глубже уходил в трясину. Степан оглянулся. Табун стоял вокруг бучила и смотрел на него. Даже жеребец — недоверчивый — сей миг, казалось, вытянув до предела шею, подался всем телом к распластавшемуся в болоте Степану.
Степан перевернулся на бок, скинул с плеча веревку и с головой окунулся в вязкую, вонючую жижу. Захлебываясь, подсунул веревку под грудь кобылки. Вынырнул, хватил воздуху и опять с головой ушел в трясину. Опоясал тонущую лошадь. Лег на спину. Передохнул. «Теперь узел, — подумал, — потуже затянуть надо, не то соскользнет». И вновь, уходя с головой в хлюпающее бучило, забарахтался, силясь подтянуть веревку, но она уходила из рук. «Нет, не сдюжу, — мелькнуло в голове, — не сдюжу». И тут лошадка заржала, словно угадав, что пришел конец. Заржала со стоном, со всхлипом, жалуясь, что так мало выпало ей погулять под светлым солнцем да потоптать зеленую траву. И эта жалоба ударила захлебывавшегося, ослепленного — грязь-то глаза залепила — Степана в самую душу. Пронзила нестерпимой жалостью, и, не думая о себе, он сполз с державших его березовых ветвей и вцепился в веревку из последних сил.
Как вылезал из трясины, Степан не помнил. Одно запало в память: вытянул ноги из вязкой жижи, шагнул к жеребцу, и тот, всегда сторонящийся человека, не отступил. Степан закинул веревку ему на шею.
— Давай, — прохрипел, — ну, давай!
За спиной с тяжким хлюпаньем забилась кобылка, и веревка подалась вперед…
Степан лежал, уронив голову в траву. Рядом стоял табун. Подошел монах-отарщик. Увидел облепленную грязью кобылку, жеребца с веревкой на шее и все понял. Наклонился, потыкал пальцем Степана, спросил:
— Жив?
Степан слабо повел плечом. Монах перекрестился. И не сказал, но подумал: «Во грехе родится человек, во грехе и живет, но вот себя не пощадил, а животину пожалел. Мог жизни лишиться, но превозмог себя…»
Степан поднялся, пошел к ручью обмыть лицо. И, глядя ему в спину, монах еще раз перекрестился.
На следующий день Степан погнал лошадей в столицу.
У приотворенного оконца, выходящего на Варварку, стояли двое. Тяжелый, с великим чревом боярин Федор Романов и брат его Александр. Федор нетерпеливо теребил, тянул вдавившийся в толстую шею шитый жемчугом ворот сорочки. Пальцы тряслись, не могли ухватить за крючки, скользили по шитью. Лицо у боярина было красно. Глаза, суженные гневом, неотрывно следили за текущей по улице толпой. Задыхался боярин и открытым ртом, как рыба на песке, ловил воздух. А утро раннее было на дворе, только что дождичек прошел, прибил пыль, и воздух тек в оконце духовитый и свежий. Задыхаться вроде бы ни к чему было.
Александр — худой, высокий, с некрасивым, как у всех Романовых, курносым лицом, с запавшими висками, — упираясь головой в нависший низкий свод, гудел у брата за спиной прерывистым шепотом, но Федор его не слышал. Александр все говорил, говорил, словно боясь не успеть.
Народ по Варварке шел валом. Непрерывный гомон поднимался над толпой, но отдельных голосов было не разобрать, только слышался ровный гул, прорывавшийся сквозь мощный и все нарастающий над Москвой стон колоколов. Федор знал: народ идет к Успенскому собору, где сегодня, 17 февраля 1598 года, патриарх возложит на Бориса шапку Мономаха. И в голове у боярина кровь гудела, что те колокола. Кровь злая.
Наконец пальцы ухватили за крючки, рванули, ворот распахнулся. Дышать стало легче. От глаз отхлынула муть. Федор отчетливо увидел лица идущих по Варварке. Мужики, бабы, дети. Лица ждущие. «Чего ждете-то, — подумал, — чего ищете?» И опять мутью боярину заволокло взор. Ему бы, родне Рюриковичей, предки которого служили еще при первых московских великих князьях, не здесь стоять, глядя на текущую толпу, а самолично собираться в собор, дабы принять из рук патриарха и скипетр, и державу, и шапку Мономаха. Принять достойно и роду своему, и заслугам своим.
— Э-э-ы… — простонал, словно раненный этими мыслями, боярин Федор, и спина его мучительно перегнулась и передернулась, как ежели бы ожгли ее кнутом. Вцепился боярин в свинцовую раму. Сжал неподатливый металл. Тонко звякнули цветные нарядные стеклышки в оконце. И свет, отражаясь в заморском этом стеклянном диве, пробежал по лицу боярина, окрасив его шутовски и в багровый, и в синий, и в зеленый цвета. А он, боярин-то, и впрямь считал себя в сей миг шутом. «Колпак только, колпак дурацкий с бубенцами, — крикнуть хотел, — надеть на голову!»
Но не крикнул.
— Э-э-ы… — еще раз вырвалось у Федора из горла с клекотом и надсадой.
Народ катил по Варварке до мельтешения в глазах. И видеть ему это было невмоготу. «Что народ, — думал боярин, прикусив до крови губу, — толпа, сор, смерды… Истинно смерды…»
Для него — Федора Романова — должны были сегодня петь колокола на Москве… Но нет! Ненависть жгучая, лютая брала боярина за сердце, сжимала горло, жилы тянула из груди.
Федор услышал робкий шепот брата за спиной и повернулся возбужденным гневом и ненавистью лицом:
— Ну, что?
— Говорят, — торопливо зашептал Александр, — вчера Борис… — И не договорил.
— Что шепчешь? — не сдержался Федор. — Уже и на своем подворье слово молвить боитесь?
Ступил от оконца на брата. Трясущиеся руки трепетали на груди. Побелевшие губы ломала судорога. Александр откачнулся — так страшен был в гневе Федор.
— Что ты, что ты, — замахал руками, — охолонь… Говорю, что верные из дворца передали.
— Ну?
— Волшебного мужика из Звенигорода к Борису привозили, и тот на бобах ему разводил.
Федор лицом сморщился, но Александр все же договорил:
— Нагадал мужик Борисову царствованию семь лет, а Борис на то ответил, что будь оно и семь дней — все одно корону царскую возложит на себя. Вот как возжаждал-то власти… А?
Федор глаза прикрыл и долго молчал. Не понять было, думал ли об этих словах или о чем другом, но, постояв так, сказал, вдруг обмякнув и опустив плечи:
— Нет… Вовсе вы, видно, белены объелись.
И, уже не взглянув на брата, пошел одеваться к выезду в Успенский. Шагал, и ноги под ним гнулись. Каблуки и острые, и высокие у боярина, а как ступали, было не слышно.
Наряжали боярина Федора пышно. Надели одну шубу, вторую. Цепи золотые навесили… Он стоял как неживой. Угнетенная бесчестьем душа боярина замерла.
И Шуйские в это утро слезы глотали, глядя, как течет народ к Кремлю.
Великий князь московский Иван Калита вел род от Александра Невского. Шуйские — от его старшего брата. Им, и только им, считали в роду, пристало сегодня облечься в царские одежды и встать над Россией. Иван Петрович Шуйский был регентом при Федоре, но позже, сломленный Борисом, пал. У князя Василия и сегодня перед глазами стояло, как свели стрельцы Ивана Петровича из дому, по-подлому растянув шубу за рукава. Подтащили без стыда к саням. Пристав Ванька Туренин веревку набросил на плечи царева регента, князя свалили на солому, гикнули, и кони понеслись вскачь. Малого времени не прошло, и тот же Ванька Туренин задавил дымом Ивана Петровича в Белоозере. Дальше — шибче: оставшегося в роду старшим — князя Андрея — повелением правителя убили в тюрьме в Буйгороде. Здесь уж и вовсе без всякого: к чему дым и другие сложности — ножом в сердце сонному ткнули, да и все. Полил, полил кровь Шуйских Борис, и вот он торжествует. Нет, тяжко было Шуйским смотреть на толпы, собирающиеся к Кремлю. Но и в этом доме доставали из сундуков парчу и бархат — обряжать князей к выезду на царскую коронацию.
И князь Федор Иванович Мстиславский, сходя с высокого крыльца в поданную для выезда карету, передохнул трудно. Оглянулся на свой дом. От богатства несметного и великого честолюбия дом был крыт темно-серебристым свинцовым листом, а медный конек горел поверху, как золотой. То был дом Гедиминовичей, выводивших род от великого князя Гедиминаса, титул которого писался как короля литовцев и русских. И легко ли было ему, князю Федору Ивановичу, кланяться царю Борису? Скулы горели румянцем у князя Федора, ноги переступать не хотели, но он перемог себя и сел в карету.
А народ шел и шел к Кремлю. На Москве с царями всегда было худо. То царь грозный, такой, что сегодня голова у тебя на плечах, а завтра отсекут и покатится она, как капустный кочан. То царь блаженный, и его не то что чужие, свои забивали. Так уж шли и молили. И страшно было ошибиться в своих надеждах, страшно помыслить, что и в сей раз не услышатся молитвы о крепком, справедливом, милосердном царе, не дойдут и не будут приняты. И вот же на праздник шли, да и кричали горланы на Москве, что угощение царское выдадут народу, а в душах знобко, неуютно. Все боязно, опасно вокруг, все темно. Русского мужика бьют от рождения до смертного часа. И волоком, и таской, чем ни попадя и по всем местам. Люди начальственные так рассуждают: а чего ему, мужику, спуску давать? Забалует. Нет уж, топчи! Мужик на Руси что трава, из-под каблука поднимается. Да и что печалиться о траве? Вона — луга… Россия простором не обижена. Да и битый мужик куда как лучше… Тут взмолишься. Крикнешь небу: «Укроти алчущих, смири беспощадных!»
Не чужим горбом, но своими руками жизнь строить хотели те, что шли и шли к Кремлю. А как без царя-то? Как? Без царя вовсе пропасть.
В толпе лицо знакомое объявилось: Иван-трехпалый. Но этот шел, что колесо катилось: рот до ушей, глаза растопыркой. Хмельной, руки вразлет, сей миг плясать пойдет. Ему все одно: чьи бы ни были пироги, лишь бы послаще. А чуял — будут пироги, и пироги даровые.
— Эх, эх, эх! — весело покрикивал, поглядывая на всех круглыми глазами. Подсвистывал, каблуками притопывал. А за голенищем-то засапожник, отточенный у молодца. Да узкий, длинный, что грудь человека, как шило, насквозь прохватывает. Молодец прибаутки сыпал, но мысли были у него недобрые. Помнил, все помнил о жизни своей треклятой. Да и знал: оно и дальше у него житье волчье и крикнули бы только — засапожник выхватит из-за голенища и перед кровью не остановится. Будь даже та кровь царская.
Из переулка Арсений Дятел вышел и его друг Дубок. Эти по-другому ступали. Шли не торопясь, с думой на лице, но с думой хорошей. В глазах ясное светилось: врага избыли, царя сыскали. Чего уж, иди смело. Крестились истово.
Тут же шагал тесть Арсения. Как все посадские, нарядный, в хорошем колпаке, кушак новый. Сильно надеялся мужик на нового царя.
И не только по Варварке шел народ к Кремлю. Толпой подваливали с Балчуга через Всехсвятский наплавной мост, который ставили на Москве-реке сразу же после ледохода и до первых зазимков. Шли по Чертольской улице к Боровицким воротам, и тоже непробойной стеной. Колыхались тысячи голов, а над морем людей все выше и выше рос, набирал силу колокольный праздничный бой.
Из толпы еще одно знакомое лицо выглянуло — Игнашка. Теснили его шибко, но он ничего, выдирался, головой крутил — грешневик на затылок съехал, — глаза так и бегали по сторонам.
Поутру пригнали обоз со столовым припасом, и, пока расшпиливали возы, Игнашка выглянул за ворота боярского подворья. Тут толпа его захватила да и понесла, как щепку в половодье, и ноги сами повели Игнашку к Кремлю. А Кремль — вот он: стена седая, зубчатая, у ворот в белых кафтанах стоят стрельцы, и Спасская башня надвинулась громадой. Игнашка и ахнуть не успел, как людской водоворот втянул его под тяжелые воротные своды.
— У-у-у-ы-ы! — оглушительно загремели под сводами голоса, по глазам ударила черная тень, и тут же вынесло Игнашку на простор раскинувшегося по холму кремлевского двора.
Взору открылись бесчисленные маковки церквей и церквушек, часовен и часовенок, черные гонтовые крыши боярских крепких домов и приказных изб, серебряные, золотые и всех цветов крыши царского дворца. Кресты соборов летели в такой небесной выси, что и не понять, и не поверить. И такой силой, такой мощью дохнуло от Кремля, что народ, оторопев, остановился. Игнашка рот разинул. «Вот оно как у царя-то, — подумал, — так, значит… Ага. Сладкие пряники небось здесь с утра едят…» И поротый зад у него занудил, заныл, заскорбел. «Ну и ну — только и сказать, так-так… А нам-то как жить? Царь! Как?» И глаза Игнашки налились обидой и мукой. Ан не знал он еще того, что поутру приметил его на подворье боярин Федор Никитич и вспомнил юрода, которого по его приказу по Варварке водили. Тут же и сообразил: по нынешним временам мужик этот опасным может стать. И властно слово приказчику шепнул. Так что времени Игнашке на житье под солнцем оставлено было чуть более длины короткого воробьиного носа.
Оторопев же, остановился, войдя с толпой в Боровицкие ворота, Степан. И его захватил и принес в Кремль бурный людской поток. Да и неудивительно. Весь московский люд пришел к Кремлю. Купцы торговлю забросили, мастеровые самые срочные дела отложили, холопы и те, кто мог, пришли. Нет, напрасно боярин Федор сказал, что сор-де, толпа люд московский. Не сор… Понимали, знать, крепко, что в сей день большое на Москве вершится, и в сторону отойти никто не пожелал.
Степан моргал голубыми, как весеннее небушко, глазами. Славные у него были глаза. Все васильки в поле мать, видать, собрала и красоту их влила в своего сыночка. В рань вставала и в росной траве те васильки рвала. Трудов не жалела для своей кровинушки. С такими глазами многое может человек, а может и все! Вот только долей люди наградили его злой. А все же глаза цвели у него на лице. И была в них просьба: подождите, постойте, придет час!
С величавой мудростью смотрел Кремль в лица людей. Дома, стены, мерлоны зубчатые… Годы прошумели над Кремлем. И ликовала здесь русская душа, и, уязвленная болью унижений, страдала безмерно, омываясь в крови. Были восторги и слезы. Он все видел, все знал, и у него была своя мера и людям, и времени.
Народ устремился к Успенскому собору.
Борис стоял под святыми иконами без кровинки в лице. Иов с высоко воздетыми руками приблизился к царю и возложил на его главу священную шапку Мономаха. Руки Иова дрожали, лицо трепетало, но он твердо отступил в сторону, и все взоры обратились к Борису. Голоса хора взметнулись под купол, славя царя. Вздрогнуло пламя бесчисленных свечей, и ярче осветились иконы, засверкал, заискрился драгоценными камнями иконостас, людские лица — влажно мерцающие — выступили из темноты и приблизились к царскому месту, глядя жадными глазами. Колокольный бой полыхнул над собором алым пожаром.
Свершилось!
Но само венчание царской главы священным царским убором, символом богоданной власти, не было в сей многозначный, торжественный миг главным, да и решено оно было не сейчас, не сегодня и не вчера. Главным было другое.
Людьми был полон храм, и еще большие толпы плотно, плечо к плечу, стояли вокруг него. Бояре Романовы и князья Шуйские, Арсений Дятел и его друг Дубок, Игнашка и Степан, и тысячи других Арсениев и Степанов. Новому царю было владеть ими, а им — жить под новым царем. И каждый из них, идя сюда и стоя здесь, в храме или подле него, многажды спросил: как владеть и как жить? Это и было главным.
Боярин Федор глаза прикрыл, дабы не видеть Бориса, увенчанного шапкой Мономаха. Даже перед лицом свершившегося не мог согласиться, унять и смирить себя. Умудренный опытом предков, годами наверху прожитой жизни, умный, цепкий, пронырливый боярин, холодея от тоски, угадывал — яма впереди, глухая, черная яма опалы. Лицо покрывалось испариной, шуба давила на плечи, дурнота подкатывала к горлу. Смертная испарина, шуба что дыбы хомут, дурнота как перед последним вздохом, когда уже поднят топор. Плохо было боярину. Тяжко ему было.
Гордо, осанисто стояли Шуйские, Мстиславские, Бельские… Бровь не дрогнет. Стояли, как учены были с малых лет — а учены были крепко, и учителями добрыми, — но дядя царев, Семен Никитич, выглянув из-за плеча Борисова, все разглядел, все увидел. И в осанистости, и в гордости много есть оттеночков. А он, известно, мастак был оттеночки примечать. Гордость-то она гордость, но есть гордость уязвленная, униженная, есть гордость страдающая. «Ничего, — подумал Семен Никитич, — ничего…» И глазами отыскал незаметно приткнувшегося в сторонке Лаврентия. Надежного человечка. Взглядами с ним обменялся, и они друг друга хорошо поняли. Как же! А кляуза великая? Она-то коготки уже выпустила. Не напрасно, не впустую бегал Лаврентий по Москве. Да и не только Лаврентий. Дымом серым катилась кляуза. И ежели приглядеться, и здесь, в храме, уже вилась. Вон, вон промеж людей ходит, попрыгивает, поскакивает. В дымных столбах, что льются из высоких окон, серыми пылинками играет. Над горящими свечами колеблется маревом. Вокруг бояр пошла. Одного обвила, другого, третьего охватила мягкими лапами. Иной и не заметит, но Семен Никитич явно ее угадывал. И улыбнулся недобрыми глазами: «Ничего, поглядим…» Губы застыли у него в бороде черными полосами.
Иов с иерархами двинулся из собора, дабы явить царя народу. Борис шагнул за ним. Шаг, еще… Тысячи глаз уперлись в Бориса. Куда ни глянь — лица, лица, бороды, непокрытые головы, черные, рыжие… Едкая осенняя пыль садилась на потные лица и резко, четко вырисовывала каждую морщину. В морщинах тех, проложенных трудной жизнью, тот же вопрос: как дальше-то, как? Ползли к паперти люди, тянули руки.
Но настоятельнее и упорнее глаз людских устремил свой взор в Бориса Кремль. Царя даже качнуло, и он оперся на подставленную руку. Все сотрясающий, тяжкий колокольный звон ударил в уши. Заговорил тысячепудовой медью Иван Великий. И вдруг Борис явственно различил в медных ревущих звуках слово «ложь». Он не понял, сказал ли это кто-то из стоящих перед ним на коленях, выговорил ли медный язык колокола, или крикнул, уперев свой неотрывный взор ему в лицо, Кремль. И еще раз повторилось:
«Ложь!»
Загремело, заметалось между главами собора, загудело в кремлевских башнях и, многократно увеличиваясь, грянуло эхом от зубчатых стен:
«Ложь! Ложь! Ложь!»
Теперь слышал Борис и большее.
«Весь путь твой к трону — ложь, неправедность, преступление! Ты от великой гордыни, в алчном властолюбии опоил дурным зельем Грозного-царя! Ты вложил нож в руку убийцы царевича Дмитрия! Ты обманул Москву ордою и свалил себе под ноги! Ложь! Ложь! Ложь! И ответ за то будет!» — вопили колокола.
Борис шагнул вперед. Его бил озноб. Не помня себя, заглушая рвущие душу голоса, Борис крикнул:
— Отче, великий патриарх Иов, и ты, люд московский! Бог мне свидетель, что не будет в царствовании моем ни голодных, ни сирых. Отдам и сию последнюю на то!
Борис ухватил себя за ворот сорочки и, оттягивая и рвя ее у горла, выкрикнул еще громче и исступленнее:
— Отдам!
И еще раз солгал.
Народ закричал.
Из дальнего угла площади, заслоненный стоящими ближе к паперти, странно смотрел на Бориса юноша в скромной одежде — Григорий Отрепьев…
Глава третья
Борис был щедр. Семь дней москвичей угощала царева казна, и каждый, кто желал, мог вкусить у царских столов на Пожаре, у столов, выставленных у Боровицких ворот или на Болоте. Да и во многих иных местах стояли столы, и царские слуги подвозили к ним новые и новые яства. С утра шли люди, ползли нищие и убогие к Кремлю, и над Пожаром не смолкали голоса. Тут и дудочники, и скоморохи, и рожечники, и ложечники. Трещат ложки, гудят рожки, и вертится, кружится праздничный хоровод: яркие сарафаны, огненные ленты, улыбчивые лица с румянцем на щеках.
— Эх! Ходи, веселись, славь царя!
Борис дважды тайно с кремлевской стены смотрел на народ. Каруселью ходила толпа по Пожару, но как ни высоко было царево окошко, а разглядеть можно было медно-красные лица, распиленные бочки с медом, стоящие тут и там, большие ушаты с соленьями, кашами и другими угощеньями. Глаза Бориса были внимательны, словно он определял, достаточна ли мера радости, звучащая в людских голосах на Пожаре. Но, видно, царь остался доволен, так как ничего не сказал Семену Никитичу, поднимавшемуся вместе с ним на кремлевскую стену.
Но гулянье на Пожаре было лишь малой толикой Борисовых щедрот. У Кремля бросали в народ штуками сукно и камку, раздавали бабам цветные платы и всему люду сыпали без счета печатные пряники. Медовые, сахарные, маковые.
И это было не все.
Главным полагать следовало тройное жалованье, выданное служилому люду.
Бирючи прокричали на стогнах:
— Первое жалованье — памяти для покойного великого государя царя Федора Иоанновича! Другое — для своего царского поставления и многолетнего здоровья! Третье — годовое, для вашего благоуспеяния!
В ответ закричали:
— Многие лета царю и благодетелю!
— А? — сказал Арсений Дятел, оглядываясь на товарищей блестящими глазами. — Что я говорил? При Борисе служилый люд никогда не бедствовал. — И тряхнул головой.
Ан и на этом не иссякла река царской милости. Дабы дать всероссийской земле облегчение и всю русскую сторону в покое, в тишине, в благоденственном житии устроить, царь строго определил повинности и платежи с каждого крестьянского двора. Сказано было твердо о послаблении налоговом повсеместно, а касательно опаленных войной или другими невзгодами земель налог был снят вовсе на десять лет. Мужики, какие были тогда в Москве, погнали по деревням, кнутов не снимая с конских спин. Уж очень хотелось прискакать да крикнуть: «Дождались! Вот оно, пришло облегчение. Ну теперь поживем!»
Москва в те дни в неумолчном колокольном звоне была вся — один большой праздник. Столько надежд, столько радости всколыхнула беспримерная царева милость. Да и сама природа, словно умиленная царской лаской, расстаралась вовсю.
Над Москвой стояли тихие, безветренные, хрустальной прозрачности дни, какие случаются в первую осеннюю пору. Необычайно изукрасились яркой листвой клены, зацвели пунцовыми кистями ягод рябины и затрепетали, заискрились золотом осеннего убора белотелые березы. Полетела, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, тонкая, невесомая паутинка. Мальчишки побежали за этим чудом, и каждому верилось: ухватись за такую нить — и она понесет тебя прямо к солнцу.
И уж вовсе удивил Борис Москву, показав, что, не помня зла, любит и чтит своих бояр.
Ждали гонений. Оно всегда так было: передаст в царские руки патриарх скипетр и державу, отзвенят колокола над головой вступившего на престол помазанника божьего, отцветут улыбки — царь вытрет рукавом пышного наряда многажды целованные губы и пойдет головки сшибать. После великого праздника наступали на Москве великие слезы. Так было при вступлении на престол Федора Иоанновича, Грозного-царя да и всех прежних государей. Сколько криков, сколько воплей раздалось в ночи над Москвой…
— Мстиславский? Хе-хе… В ссылку, в ссылку. В тележке да на соломе гнилой. Погулял, — скрипело по приказам крапивное всезнающее семя.
Но нет. Вышло по-иному. Борис оставил князя Федора Мстиславского верхним в Думе.
Многие озадачились: «Вот те и ну…» Да и сам князь удивлен был не менее других. Сел у себя в хоромах на венецийский стульчик, из-за моря привезенный, и долго сидел молча. Хмурил лоб, поглядывал на иконы, но так ничего и не решил. Сам умел головки сшибать. Да и у кого из верхних во все времена руки не были в крови? Так что было чему удивляться боярину.
Князей Шуйских — и Василия, и Дмитрия, и Александра, и Ивана — царь в Думе оставил, и на первой лавке.
Здесь уж вовсе многие изумились: за Шуйскими стояло немалое зло против Бориса. На Москве это никогда не было тайным. В доме Шуйских и не знали, радоваться или подождать с восторгами. Оторопь брала от царских милостей. Радость радостью, честь честью, но вот ледяным ветерком как-то потягивало.
Опричнина сломила князей Ростовских, и тридцать лет были они в забросе и небрежении. Борис пожаловал боярством Михайлу Катырева-Ростовского и Петра Буйносова-Ростовского.
Князя Михайлу из ссылки привезли. Из Пустозерска. Во рту у него и половины зубов не осталось. Кормили, видать, не сладко. Он дыры во рту воском залепил, шапку о сорока соболях, как колпак, надвинул на брови и сел в Думе пень пнем. Не понял, как это все с ним случилось. Глазами хлопал, что филин, ослепленный солнечным светом. Да оно и захлопаешь глазами: из ссылки, из небытия, и сразу же на самую гору. Это только сильному по плечу. А у князя Михайлы в голове-то с детства свеча не очень пламя бабочкой распускала.
Романовых не забыл Борис, а они, известно, первыми были против него. Александру дал боярскую шапку, а Михаилу — чин окольничего.
И на Варварке, в каменных покоях романовских, строенных как крепость, в затылке почесали. К чему бы такое?
Богдана Бельского подарками оделил. Тут уж одно и оставалось — опешить да столбом встать. Милости, милости царские — как в них разобраться, да и чего ждать от них? Но на Москве и в приказах, и в знатных домах, и на посадах, среди торгового люда, заговорили:
— А Шуйские-то нас в ножи звали идти…
— Бельский-то на Пожар выскакивал на конике. А ему подарочки…
— Да…
— Хе-хе…
— Вот так так…
Однако в головы вошло многим: «Незлобив царь, нет, незлобив… Не помнит лиха… Зря, видать, плели на него…»
О том Семену Никитичу многажды сказывали люди. Дядя царев слова те Борису передал. Царь прищурился на него. Ответил коротко:
— А ты что, аль не рад словам хорошим? Пускай говорят. Тебе еще и помочь в том надобно.
И махнул царской рукой: иди-де, иди и делай, что велено.
Но то все были радости. И отхороводились они, отшумели, откружили, как отпоет, отпляшет, отзвенит любой праздник, да и угомонится.
В Думе царь в один из дней после коронации соизволил отпустить бояр и повелел остаться для важного разговора дьяку Щелкалову.
Бояре вышли. Царь поднялся с трона, неспешно спустился по ступеням и сел к торопливо поставленному столу. Молодой дворянин подвинул кресло, тяжелые его ножки явственно стукнули в пол. Царь указал дьяку, дабы и тот присел для беседы.
Бронзовый загар, придававший Борису вид бодрый и свежий во время серпуховского похода, давно сошел, и лицо его было, как и раньше, нездорово желтым и усталым. Он поднял руку, упертую локтем в стол, и, оглаживая усы, взглянул на Щелкалова.
— Дабы сыскать мир на границах государства нашего, — сказал Борис, — надобно…
И вдруг царь прервал плавно начатую речь, подумав, что уж кому-кому, но только не сидящему напротив него дьяку следует объяснять — мира не сыщешь, ежели и тысячи воинов поломаешь на бранном поле. Плох мир, завоеванный такой ценой.
Поверх головы Щелкалова, смирно сидевшего на лавке, Борис устремил глаза в стену и сжал губы. В глазах царевых неясным светом заходило что-то, отражая многодумные мысли.
Царь не ошибся. Слишком опытен и знающ был дьяк: заботы Борисовы и без слов угадал.
В тот год земля уродила так щедро и обильно, что и старики не могли припомнить подобное. Счастливый урожай, успешный поход в степи, одушевление поднятого на крымцев дворянства да и прочего люда укрепляли царя в мысли, что в пределах российских дела складываются как никогда крепко. Забота Бориса сейчас была другая — так же прочно и уверенно укрепиться за рубежами державы, и в этом помочь должен был не кто иной, как сидящий напротив за столом крепкокостный, с мужичьими въедливыми глазами дьяк. Многоходовые дорожки вели Василия Щелкалова к иноплеменным царским дворам, и ходить по ним, не сбиваясь, мог только он. Всей посольской службой ведал дьяк, и его слюдянисто-прозрачные глаза заглянуть могли туда, куда другим путь был заказан. А сделать следовало многое. Сигизмунда строптивого — подпереть двором австрийского цесаря. Двор цесарский — напугать султанской стрелой. Крымцев — озаботить Литвой и Польшей. И много, много другого, неотложного, решить пристало немедля, так как в делах межгосударственных и час промедления может привести к гибельным утратам.
В разговоре царя с Василием Щелкаловым в тот день были названы три имени: думного дворянина Татищева, думного дьяка Афанасия Ивановича Власьева, думного же дворянина Микулина.
Думному дворянину Татищеву дорога выпала в Варшаву. Сборы были коротки, прощания еще короче. Надел лисью шубу посланник царев, жена припала с воем ему на плечо, но он отстранил ее и, отворотя лицо от стоящей на крыльце дома дворни, сел в возок и покатил к западным пределам.
От Митавы карету дворянина российского сопровождали королевские рейтары с белыми лебедиными крыльями за плечами. Бравый был вид у рейтар — крылья трепетали, трещали, бились на ветру, — однако Татищев подумал, что игрушка эта, хотя бы и нарядная, несомненная помеха в воинском деле. Еще и так решил думный: «Воинский доспех ни к чему украшать бантиками». Строг был в суждениях и, как ни ярили коней рейтары, раз только и глянув на них, внимания уже не обращал на почетных сопровождающих. Не до перьев ему было, даже и лебединых. Другое имел в мыслях.
Татищев — сухонький, маленького росточка, с печеным темным лицом, однако отпрыск старого рода и человек зело ученый, — в службе посольской состоял давно и знал много. Ему было о чем подумать.
Шведская корона так-таки упала с головы Сигизмунда. Сгоряча, в бешенстве, король со страшной силой влепил в несуразно огромный камин креслом так, что щепки брызнули в стороны, до последнего гроша выскреб королевскую сокровищницу и приказал готовить десант к шведским берегам. Грозен был. Горечь за утерянную корону под горло подпирала. Так бы и кинулся в сабельную драку. Клокотало в груди. Да и здоров был, до драки охоч. Но что он мог сделать с жалким отрядом? Воевать за шведскую корону? Нет… Охотников таких сыскалось в Польше немного. Паны крепко сидели в своих замках и на помощь королю не спешили.
В Варшаве, накануне десанта, в славном храме Святого Яна служили молебен, дабы святой помог войску Сигизмунда в ратном подвиге. Торжественно звучали серебряные трубы органа, множество свечей было возжжено, но папский нунций Рангони взглянул на молящихся и в лицах не увидел должной святости. Замкнуты были лица, скучны, да и особой тесноты в храме не отметил папский нунции, и это заметно его смутило.
Войско Сигизмунда было разбито в первом же серьезном сражении. И думный дворянин Татищев понимал, что и ангелоподобные рейтары, и льстивые речи панов во время остановок в замках на пути к Варшаве — не что иное, как следствие неудач Сигизмунда. Будь дела польского короля получше, не следовать бы российскому дворянину к столице Речи Посполитой в столь парадном окружении. Много скромнее был бы его путь. А теперь что уж? И рейтар можно послать, и тосты провозгласить.
В кулачок посмеялся Татищев и, опустив голову, казалось, задремал на мягких сиденьях. Во всяком случае, невыразительный, короткий его нос нырнул книзу, явно указывая, что дворянина утомила дорога.
Дорога и впрямь кого хочешь могла утомить — длинна да ухабиста. Кони разбрызгивали точеными копытами грязь, мелькали колесные спицы, и проносились — верста за верстой — обочь дорог могучие деревья. Редко встречный попадется, да и то все больше черный народ — холопы. А такой увидит летящую карету и побыстрее в сторону. Пусть лихо обойдет. Паны — они и есть паны, от них добра нечего ждать. А не успеет свернуть в сторону холоп, соскочит с телеги, упадет в грязь и низко склонится, сорвав шапку для бережения. И опять пущи, пущи потянутся за окном кареты, серые вески с черными, поросшими бурьяном крышами риг, слепыми хатами с голодными, хриплыми кобелями за заборами.
Подремывал думный дворянин. Но когда старший из рейтар заглянул в оконце кареты, то неожиданно встретил направленный в упор, внимательный взгляд серых настороженных глаз. Шляхтич отпрянул от оконца, почувствовав себя неудобно. Кашлянул в пышные усы. Думный дворянин, напротив, ничем беспокойства не выразил и так же уныло поклевывал носом.
Старший из рейтар — должно быть, по молодости или оттого, что перья лебединые уж больно задорно играли за спиной, — решил: «Странный москаль. Ему бы красоваться в карете, окруженной столь представительным отрядом, а он вот скис, прячется за кожаный фартук». Да и другое удивляло резвого шляхтича: к пирам и застольям московский посланник был равнодушен, но проявлял живой интерес к разговорам с людьми низкими и, по его, шляхтича, мнению, недостойными внимания, как-то: корчмари, торговцы грошовые или вовсе холопы.
Как только остановится поезд у яма или корчмы, москаль тотчас заводит разговор с черным людом. Да и спрашивает все больше о безделицах, для пана никакой цены не имеющих. То интересуется, как хлеб уродился или как скот перезимовал, больше того — что нынче от урожая ожидают, голодно ли живут или сытно.
Вот уж забота — что в брюхе у холопа. Хе! Прислушаешься к такому разговору да и плечами пожмешь. А москаль и в следующей корчме с тем же. Все — жито, жито, овес да, прости господи, моровые болезни. И так на час или более карету задержать может. Гордый шляхтич одного правила придерживался и верил в него твердо: крестьянин что конопляное семя, и сколько его ни жми, поднавалившись, хоть одну капельку масла еще выжать можно. Рейтары между собой даже посмеиваться начали над странностями Татищева. И зря, конечно.
Думный дворянин свою цель имел.
Татищев вез в Варшаву весть о венчании Бориса на все российские государства. Однако поручено ему было выведать доподлинно: крепок ли западный сосед российской державы? И разговоры в корчмах да ямах лучше, чем застольные речи, сказали ему: голодно в польских землях и золота Сигизмунду ждать неоткуда. Бедствует черный люд, и, как ни усердствуй, с Речи Посполитой шерсти не настрижешь.
За окном кареты тянулись к небу строгие кресты костелов, выхвалялись красными черепичными крышами замки, но вот поля тут и там желто посвечивали сквозь черноту пахоты тощим песочком. С такого поля надорвись, но житом не обсыплешься. Не ухожены были поля, лежали в жестоком небрежении. И хотя шляхтичи поскакивали бойко вокруг кареты, но, по понятиям Татищева, им бы скорее впору было «караул» кричать. Разорена и не обихожена была польская земля.
Кони всхрапывали, влегали в постромки, били копытами в первый осенний хрусткий ледок, вскидывали лебединые шеи. И опять поля, поля бежали обочь дороги, ельничек, и опять поля… Песочек желтенький так и резал глаза. Плохая, вовсе бросовая землица.
Вот так поглядывал, поглядывал российский думный дворянин в оконце и свое выглядел.
Но и другое его интересовало.
Перед самым отъездом из Москвы имел Татищев в Посольском приказе разговор с печатником Василием Щелкаловым, да еще дал знать всесильный дьяк, что разговор сей ведет он по научению самого царя. Прямо этого не сказал, но Василий никогда прямо ничего не говорил. Намекнет — и в сторону. Ну да служба его была такая — умный поймет, а дураков Василий в Посольском приказе не держал.
Уперся в столешню локтями Василий и, помолчав ровно столько, сколько требовалось после упоминания имени помазанника божьего, сказал, что есть слух из Варшавы о готовящемся великом польском посольстве в Москву. Посольство-де привезет договор об унии между Речью Посполитой и Российским государством.
Василий бороду сжал рукой, выказав тем несвойственное ему волнение. Поднялся и, остановившись у муравленой печи, прижал ладони к теплому ее боку. Ладони у него костяные. И он все прижимал, прижимал теснее руки к зеркалу печи, словно не чувствуя тепла. А в печи-то огонь хорошо взялся. Из-за неплотно притворенной дверцы так и било алым. Но знобило, знать, или, скорее всего, разговор беспокоил. Прямая спина думного дьяка была напряжена, но вот он повернулся и, глядя в глаза Татищеву, сказал:
— Уния — большое дело. Слов поляки нагородят, думать надо, много. Во главе посольства, как говорят, будет Лев Сапега, а он что заяц петлявый: напрыгает — не разгадать.
Василий мигнул холодными глазами, договорил:
— Надобно знать допрежь приезда сих гостей, что за унией стоит, и это в твоей поездке главное.
С польской унией Василий чутьем угадывал неладное, но до конца проникнуть еще не мог и вот посылал верткого Татищева туман развеять. Что-то уж больно заспешили паны с предложениями дружбы. А знал дьяк: от доброты душевной редко бывает, чтобы в межгосударственных делах торопились. «Непременно, — думал, — за унией выгода своя есть». Ну да он не против выгоды был, беспокоило иное — обоюдной она должна была стать. А такого пока не выплясывалось.
И еще сказал дьяк:
— О многом догадываться можно, но нам в гаданюшки игрывать нечего на государевой службе. Понял?
Татищев склонил голову.
Дьяк шагнул к стоящему у стены темному, с глухими, крепкими дверцами шкафу, достал толстые книги, обшитые желтой потрескавшейся кожей. Подержал в руках и положил перед Татищевым. Подвинул свечу:
— Читай. Здесь многое есть о польских делах. — И вдруг добавил: — Еще братом моим, Андреем, писано. Читай, читай… Оно без знаний добрых и тесто у бабы в опаре не взойдет… У короля Сигизмунда тебе трудно придется.
И неожиданно всегда плотно сжатые губы дьяка дрогнули, глаза, к удивлению Татищева, засветились теплом. Может, вспомнил всесильный дьяк брата, которого Борис еще правителем угрыз, аки зверь дикий, и с высокого места согнал, или правда пожалел своего посланца? Василий, при всей строгости, посольских людей — из тех, на кого положиться мог в сложном деле, — жалел и оберегал всячески.
… — Гей-гей-гей! — закричали рейтары, веселя коней.
Татищев глянул в окно.
По левую и по правую руку от кареты теснились серые, словно обмазанные дорожной грязью домишки. Это была Прага — предместье Варшавы. Думный поднял глаза и за Вислой, среди множества топорщившихся к небу черепичными гребешками крыш, на высоком берегу увидел величественный силуэт храма Святого Яна. В стороне от него вздымались крыши королевского дворца.
В животе у думного кольнуло остро, и он было уже сморщиться хотел от неудобства этого, однако вдруг раздумал и сказал: «Ничего, поглядим». Но это так, для себя только. Для рейтар же и прочих любопытных, живо поглядывавших от домов на карету, поскучнел лицом и уткнулся в воротник: мол, устал дорогой и интереса ни к чему нет. Знал: Москвой приказанное делать надо, и делать честно, хотя бы и кровь из носу пошла.
Но сколь ни озаботил Татищева хитромудрый Василий, еще более трудный урок назначил он думному дьяку Афанасию Ивановичу Власьеву, послав его к австрийскому цесарскому дому.
Афанасий Иванович — не чета Татищеву и в родословной не много мог помянуть имен, однако в изворотливости, знании посольской службы ни в чем родовитому сослуживцу не уступал, а может быть, даже и превзошел того, так как в достижении цели настойчив был до беспощадности к себе. Здесь наверное можно было сказать: этого в двери не пустят — так он в окно влезет.
И внешне не был похож Власьев на думного дворянина, посланного в Варшаву. Дьяк высок, крепок, хорош твердым, умным лицом, на котором посвечивали бирюзовые неторопливые глаза. Да и всей повадкой был он неспешен, но просимое им выполнялось людьми тотчас и с желанием, так как каждый чувствовал, еще и не перемолвившись с ним, что этот попусту не говорит и помнит: рубль тратить с копейки начинают, а человек убывает со словом, сказанным не к месту.
Поляки не пустили московского посланца к австрийскому цесарскому дому через свои границы. Не хотели разговора Москвы с цесарем. Но тем озадачить Щелкалова было трудно, хотя он сильно подосадовал на эту неудачу и сказал что-то невнятное, но, думать надо, не очень лестное для западного соседа.
Власьева, не мешкая, послали кружным путем: из Ново-Холмогор Северным морем, далее Норвежским и Датским морями и после — Эльбою.
По вантам побежали матросы, вскинулись к небу паруса, непонятное крикнул немец-капитан, и судно отвалило от причала. Длинны посольские дороги, ну да Власьеву было не привыкать стать.
Чайки закричали, торопясь за судном, на топком низком берегу означились серые рубленые домишки, и вслед уходящим глянули кресты с деревянных глав церкви Архангельского монастыря.
Афанасий Иванович торопливо закрестился, зашептал молитву, кланяясь святой обители. Землю родную и по цареву указу оставлять нелегко.
Труден был путь посланца московского, но Власьев дошел. Он куда хочешь дойти мог, да и бесценными русскими мехами огружен был достаточно, а они не хуже хорошего ветра подвигали кораблик.
Цесарь назначил русским встречу в Пильзене, куда хотел выехать со всем двором, опасаясь страшной болезни, вдруг случившейся в столице. Перед Власьевым раскланялись низко, тряся буклями пышных париков, и до времени и его, и людей, с ним прибывших, поместили в хорошем немецком доме близ богато изукрашенного Рынка. Стеклышки наборные цветные в окнах, камины добрые, небольшой дворик с чудно стриженными кустами жасмина, с пахучими цветами на грядках, скамеечки. Просвечивающий каменный затейливый заборчик ограждает двор.
Вечером стоял дьяк на крыльце, поглядывал в тесную улицу. Кирпич красный, серая мостовая, выложенная круглящимся булыжником, затейливые перекрестья балок в стенах домов… Где-то бренькал колокол на кирхе, звал к вечерней молитве. По улице поспешали немки в темных платьях. Все непривычно да и сомнительно.
Малиновый закат зрел над городом. И стоящий на крыльце дьяк, залитый яростным, диким светом, вдруг вроде бы выступил вперед, и стало очевидно, что он слишком тяжел плечами для игрушечного домика с садиком перед крыльцом и хотя вырядился в западное платье, дабы не выделяться среди здешнего народа, но не спрятать ему ни свою силу, ни разящую наступательную волю.
Встретили его любезно, слова говорили ласковые, но понимал Власьев, что болезнь, случившаяся в столице, конечно, страшна, однако не оттого завезли его в Пильзень. В столице-то русский мог куда как способнее и с одним переговорить, и с другим, с третьим повстречаться, с посольским иноплеменным людом побеседовать. Здесь труднее. Вот и посадили его в Пильзень, славный больше пивом, чем людьми, знакомыми с государственными делами. Но дьяк расстарался и в малом городке. Поговорил со многими, и немалое известно ему стало. Для того-то и в платье иноплеменное оделся. Так способнее было — не выпирая, в городе показаться.
Сзади к Власьеву подошел приехавший с ним толмач. Остановился неслышно и, постояв с минуту, сказал:
— Тишина-то, а… — Вздохнул. — На Москве в этот час стрельцы рогатки расставляют в улицах. Сторож пройдет, в колотушку ударит. А здесь без страха, видно, живут. — И повторил: — Тишина.
Афанасий Иванович повернулся к нему и хотел было ответить, но передумал. Решил: «Ишь ты… Счастливый, коли тишину только слышишь». Знал: тишины нет в германских землях. Видимость одна. Священная Римская империя германской нации развалилась давно. Испанский дом, австрийский дом вот-вот были готовы вцепиться друг в друга. Знал и другое: что ходить до Мадрида? Здесь Максимилиан Баварский косо смотрел — ох, косо! — на цесаря Рудольфа Австрийского. И тот и другой мнили себя Цезарями, и лучшим зрелищем обоим было бы увидеть своего родственника с заломленными руками, когда того подведут к коню победителя. Католики, протестанты — кипело все. Чехия, Венгрия, Моравия — ждать надо было — взорвутся, завихрятся в самое короткое время в военном пламени. И со звоном полетят стеклышки наборные, упадут затейливые заборчики, грядки с цветочками вытопчут грубые каблуки военных ботфортов. А пока вот колокол на кирхе и вправду тихо бренькал. Звал к смиренной молитве. Промолчал Власьев. «Пусть его, — подумал о толмаче, — молод еще, свое успеет понять».
Афанасий Иванович пошевелил плечами и, так ничего и не сказав толмачу, ушел в дом. Назавтра ждал советников цесаря.
Разговор начался с улыбок. Но как ни улыбались, а думный дьяк к своему берегу прибился.
— Ведомо цесарскому величеству и вам, советникам его, — сказал, — что попустил бог басурман на христианство.
Советники закивали головами. «Да уж куда там, — стрельнул на них глазами Власьев, — терпите, известно». И продолжил:
— Овладел турский султан Греческим царством и многими землями: молдаванами, волохами, болгарами, сербами, босиянами и другими христианскими государствами. Да что там…
Горечь в голосе дьяка прорезалась. Не сдержал себя, а может быть, намеренно это выразил. Хитер был. Лицом так и играл. То оно затуманивалось у него печалью, то расцветало радостью, и опять огорчение кривило рот. Так и в сей миг губы у Власьева сложились, будто он гадкого отведал.
— Где была с давних лет православная вера — Корсунь-город, — и тут вселился магометанский закон, и тут теперь Крымское царство. Для избавления христиан царское величество сам, своею персоной хочет идти на врагов креста Христова со своими ратями сухим путем и водяным.
Советники цесарские головы подняли. И, видя, как встрепенулись австрияки, Афанасий Иванович поднажал:
— Да, да, хочет идти на врагов, дабы вашему цесарю Рудольфу вспоможение оказать, а православному христианству свободу учинить.
Ничего более приятного услышать цесарские советники не могли. Сладкоголосой музыкой звучали для них эти слова. Турки все больше и больше теснили их на южных пределах. Цесарь терял одну землю за другой. Уж больно яростны были турецкие янычары, и австрияки — тоже неплохие в бою — им уступали.
— Однако, — продолжил Афанасий Иванович, — цесарскому величеству и вам ведомо, что к крымскому хану от Москвы водяного пути нет, кроме Днепра. Великий государь наш посылал к Сигизмунду посланника просить судовой дороги Днепром, но Сигизмунд и паны радные[17] дороги не дали. Да что там! — Афанасий Иванович с сердцем взмахнул рукой, выказывая жестокое огорчение. — Меня, посланника великого государя, к цесарскому величеству не пропустили. Сигизмунд не хочет видеть между великим государем нашим и цесарем дружбы.
Старший цесарский советник сложил сочные губы в обиженную гримасу. Дьяк загремел во весь голос:
— Сигизмунд не желает христианам добра, с турским султаном ссылается и крымского хана через свои пределы на цареву землю пропускает.
Власьев передохнул, давя в себе гнев, и заговорил задушевно:
— Да и прежде от панов радных над арцыкнязем австрийским Максимилианом многое бесчестье учинялось. Так просим мы вас, дабы цесарское величество, подумав с братом своим Максимилианом и со всеми курфюрстами, государю нашему объявил, как ему над Польшею промышлять и какие досады и грубости отомстить. А великий государь наш хочет стоять с ним на Польшу и Литву заодно.
Старший советник заерзал на золоченом тонконогом стульчике так, что тот скрипнул под ним.
Власьев ждал. У австрияка лоб от досады покраснел. Но не на русского посланника досадовал он, нет! Сидящий перед ним московский гость волю своего государя исполнял с понятным и похвальным настоянием. Советник его даже одобрял. Гнев на радных панов вызвал у него на лице краску. Недавно вел он с поляками разговор и определенных слов от них не добился, а теперь через то должен был испытать неудобства, так как нет ничего хуже, когда дипломат и для себя не тверд во мнении. С раздражением старший советник сказал:
— Король Сигизмунд и паны радные нам отказали: на турского султана заодно стоять не хотят. — И уж вовсе с обидой воскликнул: — Да что с ними говорить! Смятение у них великое, сами не знают, как им вперед жить. Короля не любят. Отер лоб и спокойнее, приличествуя чину своему, сказал:
— Цесарское величество большую надежду держит на великого государя Бориса Федоровича. Надеется, что по братской любви и для всего христианства он его не забудет. Всего досаднее цесарскому величеству на поляков, что не может он их склонить, дабы стояли с ним заодно на турка.
Австрийцы закивали париками:
— Да, это так…
— Но, — продолжил старший советник, — надобно терпеть, хотя то и зело досадно. Цесарское величество с турецким султаном воюет, и ежели с Сигизмундом еще начать, то с двух сторон два недруга будут. Казны же у цесаря все меньше от турецкой войны. О победах Цезаря уже и не мыслим.
«Э-ге-ге, — подумал Власьев, — вот оно как оборачивается. Поговорим. Казною можно и помочь». И чуть было не улыбнулся не к месту, вспомнив свои вчерашние мысли о том, что мнят себя Цезарями и Максимилиан, и Рудольф. «Куда уж Цезари, — подумал, — с пустым карманом Рим не берут».
Получив известие о восшествии на престол Бориса Федоровича, Елизавета английская писала: «Мы радуемся, что наш доброхот по избранию всего народа учинился на таком преславном государстве великим государем».
Письмо из Англии пришло во время похода и тогда же, в Серпухове, было оглашено в Думе.
Когда дьяк читал, тяжелая королевская печать, свисая со свитка, покачивалась на шнурке, и многие не могли от нее отвести взор. Алая, ярче крови, она, казалось, колола глаза. «Так-так, — было в головах, — уже и из-за моря бумаги начали приходить». И это жестокой болью отозвалось в сердцах. Ну да поговорили о послании королевы и забыли. Помнить о том было ни к чему. Чужая радость кого греет?
Ныне настало время послать своего человека к Елизавете. В Англию был отправлен думный дворянин Микулин. И, как и Власьев, он потащился — и водою, и по разбитым дорогам — до Ново-Холмогор. Иного пути не было. Весь путь — вот напасть! — как в лес въехали, охала, кричала, причитала над возком птица лунь, и так-то жалобно, с такой болью, стоном, что только глаза закрыть и содрогнуться душой. И странно: вынесут кони на опушку — тихо, но только вкатится возок под черные лесины — вновь страшная птица забьется, закувыркается, запляшет над головой. И в который уже раз: «Сы-ы… Кр-р… Сы-ы…» Ну словно кожу с кого дерут.
Микулин твердо решил: быть нехорошему. И впрямь — к морю подъехали, а оно белое от штормовой пены. Правда, море было неспокойно уже третью неделю. И, как стало известно, суда аглицкие и ганзейские, пришедшие к неуютным и далеким берегам за лесом, ворванью, кожами, воском и другими русскими товарами, крепили на банках и у причальных стенок с особой тщательностью, а многие и вовсе от берегов отошли и дрейфовали за мысом Пур-Наволок, едва видимые в сизой мгле. Шторм гнал и гнал волну, и вода в Двине поднялась до самых высоких отметок. Но еще больше морякам досаждал дождь, который, казалось, решил смыть с берегов и людей, и многочисленные грузы в бочках, бухтах и коробьях, громоздившиеся у воды, да и сами суда угнать в море и потопить. Вот такое накричал, наплакал лесной лунь.
Микулин после трудной дороги ночь отлеживался в теплых палатах игумена Архангельского монастыря, а поутру, чуть свет, поехал на берег.
Море ярилось. Громадные волны накатывались из серого тумана, отчаянно кричали чайки. Думный вылез из возка, встал у прибойной полосы. Ветер рвал на плечах заячий тулупчик, забрасывал воротник холодной моросью.
Микулин зябко ссутулил плечи. Капитан с торчащей от шеи бородой толкнул его широкой, изъеденной солью лапищей в спину, крикнул, отворачиваясь от дождя:
— Ничего, не будь хмур! — Поперхнулся, закашлялся, но вновь прокричал, вплотную приблизив лицо: — Пройдем, шторм не помеха!
У берега билась шлюпка, вставала на дыбы, обнажая исцарапанное камнями днище.
Капитан, будто и не было шторма, высоко поднимая ноги в диковинных сапогах, достававших до бедер, полез в море.
Микулин повел глазами по берегу. Из навороченной грудами гальки торчали ребра шпангоутов разбитых барок, валялись выбеленные волной и солнцем бревна, обрывки канатов, куски сетей. Чернели кучи травной гнили. В лицо дохнуло острым запахом рыбы и водорослей.
Думный поплотнее запахнул на груди тулупчик и шагнул за капитаном. Волна с шипением бросилась навстречу. Игумен от возка, в спину, перекрестил его дрожащей старческой рукой. Прошептал никем не услышанное в шуме ветра и грохоте прибоя:
— Спаси, господь, и помилуй…
Отдали концы и отошли от банок. Ветер встал в полный фордевинд, и капитан велел брамсели поставить и на гроте, и на фоке. Судно подняло бушприт над волной и полетело, будто птица. Мыс Пур-Наволок ушел за край неба.
На другой день Микулин, обтерпевшись в качке, стоял у фальшборта и с дерзостью поглядывал вперед. Капитан гудел за спиной:
— Судно с гамбургской верфи, а там мастера добрые. Остойчивости и на самую жестокую бурю хватит. Шведские каперы опасны, вот беда.
И поглядывал светлыми глазами в рыжих ресницах на горизонт. Но на море, качавшем край неба, белели только барашки волн. Однако, опасаясь пиратов, капитан взял мористее. Чайки-поморники отстали.
И все же пираты подстерегли судно.
На рассвете на палубе явственно прозвучали тревожные слова команды. Микулин торопливо сбросил ноги с рундука. Дырчатый фонарь, со скрипом раскачиваясь на ржавом крюке, освещал закопченные плахи низкой потолочной переборки. В каюте попахивало сгоревшим тюленьим жиром, невыделанной кожей, рыбой, но все запахи перекрывал непривычный для сухопутного человека, остро бивший в нос йодистый дух перепаханного штормом моря.
Микулин наклонился за сапогами. Из-под рук со злым писком метнулась рыжая тень. Шмыгнула под рундук.
— Тьфу, погань! — отдернул руку думный. Не мог привыкнуть к длиннохвостым корабельным крысам, крупным, словно кошки. — Тьфу, — плюнул еще раз. В посольском деле надо было привыкать и к такому.
Он натянул сапоги, набросил тулупчик и вышел на палубу. В лицо ударил более резкий, чем в каюте, запах моря, с ног до головы окатила брызгами разбившаяся о борт волна. Порыв ветра ослепил, рванул на груди тулупчик и чуть не вбил назад в каюту. Микулин ударился спиной о косяк, с трудом захлопнул за собой дверь. «Однако, — подумал, — балует море». Хватаясь за леера[18], неуверенно ступая по уходящей из-под ног палубе, шагнул к капитанской рубке.
Галиот[19] вздымало, как на качелях. Постепенно глаза обвыклись, и Микулин увидел несущиеся с левого борта на галиот громады валов. Они показались много выше корабельных мачт. На вершинах валов закипала пена. Такого думный дворянин еще не видел и невольно вжал голову в плечи. Вал упал, не дойдя до борта, рассыпался пенными брызгами. И сей же миг следом за ним полез горой к небу второй вал — еще грозней, еще круче. Горб набухал, медленно и неотвратимо вздымался, наливаясь пугающей чернотой. Вал прорезали ослепительно белые жгуты пены, как грозовую тучу сполохи молний. Но галиот скользнул наискось и, развалив вал на две пелены, выскочил на гребень.
Микулин, не выпуская спасительного леера из рук, оглянулся и увидел капитана. Тот стоял у мачты, выглядывая в море видимое, наверное, только ему. Думный с опаской отпустил леер и перебежал к капитану.
— Вон, вон, — указал рукой в море капитан, — смотри!
Микулин разглядел у горизонта перекрестья мачт. Пиратское судно бежало навстречу, вразрез волне. И тут на море упал туман. Да такой плотный, что и палубу закрыло белесой, текучей падергой. Капитан откачнулся от фальшборта, гаркнул во всю силу легких:
— Всем наверх! Рифы отдать!
Матросы кинулись к мачтам. Судно рванулось вперед и, заметно ложась на борт, изменило курс. Шли теперь так ходко, что волны, выбрасываясь из-под бушприта, захлестывали палубу и, не успевая сбегать в шпигаты, бурлили и пенились вокруг ног.
— Счастлив наш бог! — крикнул Микулину капитан. — Меха будут целы!
Остаток пути прошли спокойно. Выглянуло солнце, и море расстелилось перед бушпритом, как тяжелое, расплавленное масло. Судно потеряло в ходе, но все двигалось и двигалось вперед.
К Лондону подходили и вовсе по спокойной Темзе. Над туманными аглицкими островами стоял солнечный день. Сочная зелень берегов поражала яркостью красок. На холмах парило, и колеблющееся марево восходящего к небу воздуха еще более подчеркивало ясность дня и яркость зелени. Впереди, перед судном, бежал, весело играя на ветру флагом, лоцманский бот.
Капитан объяснял Микулину:
— То место, к которому ведут нас для швартовки, королевское. Тут ни одному судну приставать не велят, так как здесь на берег сходит только королева Елизавета. Большую честь оказывает Лондон российскому посланцу. — И надувал щеки от важности.
Микулин во все глаза смотрел на встававший по берегам Темзы город. Видя живой интерес русского, капитан рассказывал:
— Вестминстерское аббатство. Знаменито гробницами великих людей Англии. Дворцы Сент-Джеймский, Хэнтон-Корт… Это большой город, и здесь есть что посмотреть иностранцу.
Бот развернулся и ошвартовался у одетого камнем причала. С палубы замахали флагом.
В тот же день в честь прибывшего московского гостя в королевском дворце был дан обед. Российский посланник с переводчиком сидел за особым столом по правую руку от королевы. В начале обеда Елизавета, оборотившись к русскому гостю нарумяненным, приветливым лицом, сказала:
— Со многими великими христианскими государями у меня братская любовь, но ни с одним такой любви нет, как с вашим великим государем.
Напудренные парики придворных низко склонились над столами. А королева улыбалась, глядя на московского гостя, и глаза ее были полны доброты.
Микулин же, отвечая на улыбку Елизаветы, вдруг вспомнил стоящие в очередь у причалов Ново-Холмогор аглицкие суда, увидел груды бочек, коробьев, бухт, толстенных кип с русскими товарами. И будто в ухо ему влез голос думного дьяка Василия Щелкалова: «За лес, который аглицкие купцы берут у нас, у себя на родине они выручают вдесятеро в цене, а то и в двадцать раз более. То же с кожей, льном, ворванью, дегтем. Об этом помни всенепременно».
В Москве вели переговоры с послом крымского хана Челибеем. Челибей — кривоногий татарин с щекой и бровью, жестоко посеченными саблей, с глазами, глубоко спрятанными под низко, котлом надвинутым на лицо бритым черепом, — хитрил и отмалчивался. Старый воин, он хорошо понимал, что лучшие времена для хана прошли. Русь, набирая силу, была далеко не та, что прежде, и ныне на Москве уже не просили, но требовали.
Окольничий Иван Бутурлин, дабы смутить татарина, показывал ему новые стены Китай-города, земляные раскаты Донского монастыря, защищавшие Москву от Дикого поля. Татарин, удивляясь толщине стен и высоте башен Китай-города, щупал осторожно желтыми пальцами красный каленый кирпич, ногтем ковырял замешенную на яичном желтке, крепкую, как камень, известь кладки, но только головой качал да цокал языком:
— Якши камень!.. Ай-яй-яй… Якши крепость!..
Задирал голову, смотрел на башни, но глаза его не выражали ничего. Окольничий горячился и, чтобы вяще припугнуть татарина, повез его в Пушечный приказ. Челибею показали новые пушки Андрея Чохова. Гладкие стволы отливали сизым блеском хорошего металла, пушки били точно, лафеты были легки и удобны. Бутурлин не удержался, соскочил с коня, выхватил у пушкаря запальный фитиль. Пушка рявкнула, и каленое ядро ударило в грудой наваленный камень. Брызнули осколки, и груда развалилась.
— А?! — воскликнул Бутурлин. — Каково? Против каленого ядра никакая крепость не устоит!
Татарин покивал с седла:
— Якши, якши…
И все.
Незадолго до переговоров Бутурлин ездил под новый Борисов город для размена послами с крымцами. Выбор пал в этом деле на Ивана Бутурлина не случайно. Окольничий был дерзок, остр на язык, и Москва хотела посмотреть, как люди хана будут слушать его речи. Но не это было главным. Окольничий вез хану подарок — обязательный при размене послами — намного меньший, чем давали ранее. На Москве так думали: возьмут крымцы эти деньги — значит, слабы, не возьмут — ну что ж, тогда подумаем.
В Думе говорили:
— Нужно ли испытывать крымцев? Хан и так напуган. Чего задираться?
Шлепали раздумчиво губами, чесали в бородах. Но Борис сказал:
— Пускай везет.
Крымцы подарок взяли, и хан Казы-Гирей перед русским послом, князем Григорием Волконским, дал клятву на Коране о братской любви к великому государю Борису Федоровичу и мире с Россией.
Русский посол, однако, — и то было беспримерно, — подняв лицо, сказал:
— Пущай книгу, на которой ты клятву давал, покажут моему толмачу. — Одышливый и тяжелый князь Григорий передохнул и закончил твердо, как и начал: — И пущай же он подтвердит, что эта книга и есть священный Коран. Вот тогда клятва будет клятвой.
Князь Григорий выставил бороду, плечи развернул, и, казалось, убей его в сей миг, а с места не сдвинешь. Вот как загорелся князь, отстаивая державное дело.
Ханский визирь испуганно раскрыл рот. Сомневаться в сказанном ханом не смел никто. За дерзость такую мало было и на кол посадить. Но хан молчал.
Русский посол стоял, словно бы окостенев, лица не склонял.
Хан снял руку с подлокотника трона. Визирь голову вжал в плечи. Знал: сейчас последует гневный приказ и прольется кровь. Но хан повелел священную книгу предъявить русскому послу.
Ныне на Москве опасались, что Челибей при произнесении царем клятвы хану потребует того же от Бориса Федоровича. А клятву на Библии царь давать не хотел. Оттого-то и возил к стенам Китай-города и раскатам Донского монастыря расторопный окольничий ханского посла. Смущал. Но Василий Щелкалов, раз только глянув на Челибея, сильно засомневался, что такого можно испугать.
Молодой Иван Бутурлин, выхваляясь удалью, ухмыльнулся, сказал:
— Э-э-э… Крымцы ныне не те, и Челибейка рта о Библии не раскроет.
— Ну ты, Ванька, — повел в его сторону мужичьими упрямыми глазами думный дьяк, — помолчи.
Василий Щелкалов оказался прав.
Челибея ввели в Грановитую палату, и он, к удивлению своему, увидел, что рядом с царем нет думных, только дядька царев и ближний дьяк.
Борис Федорович повелел Семену Никитичу подать книгу и, взяв ее в руки, с царским величием произнес:
— Это наша большая клятва. Больше ее у нас не бывает. — И тут же отдал книгу боярину.
Все замерли.
У крымского посла заметались глаза. И все же Челибей, преодолев сухость в горле, сказал:
— Когда государь наш Казы-Гирей перед вашим послом, князем Григорием Волконским, прямую клятву учинил на Коране, то князь велел эту книгу смотреть своему толмачу. Со мною Казы-Гирей для того же прислал дьяка-грека…
Царь прервал Челибея:
— Сказывал я тебе, что мы такой клятвы, как теперь брату своему дали, не учиняли никогда.
Голос его выдал раздражение, но Борис Федорович тут же погасил гнев и продолжил спокойно и медленно:
— С которыми великими государями бывают у нас постановления, их утверждают бояре, окольничие и думные дьяки. Ныне же, желая крепить братство с Казы-Гиреем свыше всех государей, велели мы тебе быть у себя наедине. При нас только дядя да ближний дьяк, потому как все большие дела — тайны.
Борис замолчал, и крымский посол понял, что царь больше ничего не скажет.
На том и закончились переговоры с Челибеем. Царскую клятву крымский посол принял.
…Ввечеру того же дня Борис Федорович стоял у хитро изукрашенного окна кремлевского дворца. Над Москвой нарождалась ночь. Отдельные дома уже было не разглядеть, как нельзя было разглядеть и летящие в небе кресты многочисленных церквей и соборов, их купола и колокольни. Вся Москва представала перед взором царя огромной единой громадой, прихлынувшей к стенам Кремля. И в один, и в два света избы, различавшиеся лишь разновеликостью набранных ими теней, как волны, ряд за рядом набегали из темноты, и трудно было увидеть конец этому прибою, так как окоем еще не высветился утопленной за край земли луной. Напротив, ночь, все больше сгущая краски, растила набегающие на Кремль валы, вздымала их выше и выше и все теснее приливала к его стенам.
Борис Федорович, сдвинув брови, напрягал глаза, но оттого темнота за окном не становилась различимее. Слух царя ловил отдельные голоса, звоны, шорохи, шумы, но и это не было разъято на понятные звуки, а сливалось в один глухой гул.
Черный воздух был душен.
Рука Бориса Федоровича, лежащая на холодном мраморе подоконника, начала дрожать. Он отвернулся от окна и прошел в глубину палаты, покусывая губы. Во всем теле было напряжение.
Дьяк Щелкалов, читавший поодаль, у стола, посольские отчеты, прервался и поднял на Бориса Федоровича глаза. Но царь даже не оборотился в сторону думного, и Василий понял это так, что Борис Федорович внимательно слушает письма.
— «…А посему считаю, — продолжил дьяк, — что Сигизмунд, отягощенный долгами и нищетой государства своего, Российской державе во времена настоящие ратными действиями повредить не может».
Дьяк отложил зашелестевшую в пальцах бумагу и от себя сказал:
— Сей вывод думного дворянина Татищева, ежели взять во внимание писанное ранее, счесть надо зело верным.
Царь утвердительно кивнул.
Дьяк взял со стола другой свиток — это был отчет Афанасия Ивановича Власьева — и начал читать его ровным и четким голосом.
А Борис Федорович все так же ходил в глубине палаты, не прибавляя и не замедляя шага, не останавливая и не перебивая ничем дьяка.
Последние слова Власьева думный выделил голосом:
— «…По моему разумению, мягкой рухлядью или чем иным цесарю следует помочь, ибо без того подвинуть их величество против крымского хана, Литвы или Польши и думать не можно».
Царь остановился, и каблуки его чуть приметно скрипнули. Оборотившись к дьяку, Борис Федорович сказал:
— Сие заключение тако же следует счесть верным.
Щелкалов взял со стола отчет думного дворянина Микулина. Царь, по своей привычке, вновь заходил вдоль стены, то приближаясь к дьяку, то уходя от него.
«…Многажды могли обогатиться, — читал дьяк, — когда бы не только северными морями, но и немецкими пользовались…»
— Такое и подтверждения не требует, — неожиданно прервал его Борис Федорович и подошел к окну.
За окном все изменилось, да так, что у царя едва не вырвался изумленный возглас.
Над Москвой взошла луна и разом высветила и площади, и улицы, и отдельные дома, и кресты на церквах и соборах. Вся Москва лежала перед кремлевским дворцом как на ладони. Золотом сияли купола церквей, черными шапками поднимались гонтовые крыши крепких изб, льдистым серебром отливали одетые в свинец коньки знатных дворов. И четко, броско рисовались на высвеченном луной небе кремлевские башни и зубцы могучих стен. И даже звуки стали различимы, понятны и ясны. Вон стрелец на стене откинул голову назад — и:
— Слу-у-шай Ка-а-зань!
И в ответ тут же раздалось:
— Слу-у-шай Вла-а-ди-мир!
И еще дальше:
— Слу-у-шай…
«Все, все видно, — подумал царь, — чего это я? Какие сомнения? Все видно и в пределах наших, и за гранями рубежей, и в сегодняшнем дне, и в завтрашнем».
И как лгал людям, солгал и себе, так как не видел даже то, что в этот самый миг уже стучался в дверь романовских палат на Варварке неведомый ему еще Григорий Отрепьев.
ВОЛКИ
Глава первая
Зима 1599 года была ветреной, морозной и бед принесла много. В самую стынь ломало крыши, выдавливало оконца, валило кресты с церквей. А еще с осени, как расцветилась до необыкновенного обсыпная рябина, знающие люди предсказывали: «Лихая будет зима. Ох, лихая…»
Оно так и сталось.
По весне, глядя на бесснежные поля, заговорили о неурожае. Проплешины черной, стылой, глыбистой земли вносили в людские души неуютство, смятение, страх. Забоялись и отчаянные. Русь издревле хлебом жила и хлебом была крепка. А вот на тебе: деревянный пирог — начинка мясная.
Просить у бога урожая по последнему санному пути отправился в подмосковную святую обитель царь Борис. О том от имени московского люда и черного, и посадского, и купецкого звания, и лучших дворянских фамилий слово держал перед царем патриарх Иов, и он же, патриарх, в сей скромной обители вел службу.
Царь Борис молился истово. Крепко прижимал трепетные пальцы к груди и глаз не отводил от святых ликов, скорбно, с болью и жалостью смотрящих с древних досок.
Иов взглядывал на Бориса, и в груди у патриарха сжималось тревогой необычно колотившееся сердце: Иов думал: «Не к добру такое. Не к добру…» И в другой, и в третий раз взглядывал из-под высокого с алмазным крестом клобука на царя. Боязливо щурился. По серому лицу, давно не видевшему солнца за толстыми стенами глухих монастырских келий, от глаз к вискам прорезались морщины. «Сердце — вещун, — думал Иов, — вещун…»
Борис клал поклоны. Колеблемое сквозняками пламя свечей то вспыхивало ярко, то пригасало, рвалось вверх и на стороны, лицо царя менялось в неверном освещении. То видны были на нем страстно, с мольбой обращенные к иконам глаза, то высвечивался высокий лоб, то угласто проступали обтянутые скулы и тогда провалы щек на узком царском лице обозначались черными тенями. Нездоровое лицо было у царя. А все — суета, суета, мирские хлопоты.
Свет свечей трепетал, струился, и вот пляшущее пламя ярко высветило прижатые ко лбу длинные и тонкие Борисовы пальцы, склоненные узкие плечи, и опять выплыли перед патриархом распахнутые глаза царя. Щемящая тревога в груди Иова поднялась с большей силой.
Трудны и непонятны царские мысли. Однако патриарх уразумел, глядя в Борисовы глаза, что так, как он, только о хлебе не просят. Святые слова «хлеб наш насущный даждь нам днесь» со столь глубокой страстью, истовостью, взабыль не читает и голодный. Здесь было иное. Но что? Понять сие Иов не мог и только пристальней вглядывался в Борисово лицо. Свет свечей вновь заплясал под сквозняками, и глаза царя ушли в тень.
Иов был прав. Не о едином хлебе молил бога царь, хотя лучше, чем кто-либо иной в храме, угадывал гибельность неурожая для Руси. За полгода перевалило, как повенчан был Борис на великие и малые земли государства Российского, и борения и страсти, сопряженные с его воцарением на древнем престоле Рюриковичей, должны были утихнуть. Ан нет, того не случилось. Покоя царь Борис не знал, как и прежде.
Входя в храм по высоким ступеням крыльца, выстланным в честь приезда царя по ноздреватому серому камню алым сукном, Борис неловко оступился. Однако, поддержанный под локти, выпрямился и вскинул глаза на встречавших его на ступенях храма. Здесь стояли верхние, те, что власть держали на Руси. Романовы. Старший, Федор Никитич, и братья его, Александр, Иван, Михаил. Недвижимо стояли, крепко. И нарядные, и уверенные. Каждая складка дорогой одежды, покойно опущенные руки, прямые плечи, каждая морщинка на лицах свидетельствовали: стоят они здесь и по праву, и по чину, и по роду. Рядом — Шуйские. И тоже в них проглядывала порода, и тоже право и чин.
По левую руку от патриарха стояли Годуновы. Дядья царя: Иван Васильевич, Семен Никитич. И родня иная: Вельяминовы, Сабуровы. Близкий Борису князь Федор Хворостин. Горсть людей-то. Горсть. Однако сила от них шла, говорящая всем и каждому — они сверху. Русь под ними.
Ближе других вышагнул навстречу царю толстый, не в обхват, первый в Думе боярин — князь Федор Иванович Мстиславский. И вдруг в рыжих навыкате его глазах Борис заметил усмешку. Она тут же истаяла под моргнувшими веками. Федор Иванович склонил голову, попятился, раздвигая задних широкой спиной, ан все же царю достало времени понять и оценить боярский взгляд.
Твердо вбивая каблуки в алое сукно, Борис быстрее, чем надобно, взбежал на крыльцо. Прошагал мимо князя, но, и встав на молитву, все видел дерзкие, с рыжинкой глаза. Напоенная сладким запахом ладана, раззолоченная, красно-алая от пламени свечей внутренность храма, долженствующая радостно всколыхнуть душу, неожиданно поразила царя дохнувшим в лицо жаром ненависти и злобы.
Борис не слышал первых слов службы, так как внутри у него кипело от яростного возбуждения. Прилившая к голове кровь застила глаза, и он едва различал святые лики. Только минуты спустя Борису явились слух и зрение.
Иов вел службу древним чином. Грозный, ничего не прощающий бог витал над головами. Лица склонялись долу, никли под властью неискупаемых грехов и страха перед ответом за них.
Голоса хора, звучавшие низко и тяжело, были подобны огню костра, на котором сгореть суждено каждому. И костер этот разгорался яростно и зло, языки пламени охватывали души, разжигая, раскаляя их, оглушая угрюмым ревом.
Борис коснулся лбом пола. Он знал все разговоры о неурожае. Говорили ему о недобрых приметах, страшных гаданиях. Извивались, морщились губы старателей донести до царского слуха загадочные слова и лихие вести о грядущем море, когда люди будут есть траву и убивать друг друга за кусок хлеба. «И не токмо деревни заглохнут, — шептали, — зарастут травой города. Путник будет бояться остановиться в доме, и сосед не пойдет к соседу, страшась быть убитым. У матерей высохнут груди, а мужчины будут не в силах похоронить мертвых». Бормотали и другое — неразборчивое. Да Борис и сам различал впереди многое. Ощущение близящейся беды, всегда таившееся в глубине его сознания, становилось с каждым днем явственнее и острее. Оно было слишком глубоко, чтобы выразить его словами, однако нисколько не теряло от того в силе.
Неожиданно в хоре над гудящими тяжко звуками взметнулся высокий, светлый, прозрачный подголосок, затрепетал необычайно высоко и разом освободил молящихся от давящей тяжести. И звенел, звенел, забираясь выше и выше. И Борис, лишь повторявший за патриархом слова молитвы, вдруг воскликнул:
— Господи! Укрепи шаги мои на дорогах твоих, дай силы и оборони!
И в церковной службе нужен роздых. Без него нельзя. «Не нагружай осла своего чрезмерно», — сказано людям. А Иов был пастырь опытный и знал, как вести молитву.
Хор вслед за светлым подголоском смягчился, и древний напев зазвучал, не грозя и пугая, но, напротив, бодря и поднимая души, вселяя надежду. Туманившие голову страхи отхлынули от Бориса, и он увидел: рука, сложенная в троеперстие, сжата словно в кулак. И тут же почувствовал: дрожат губы. С усилием царь отвердел лицом и пальцы мягко положил на лоб. Мыслями обратился к молению Иова.
Хлеб был нужен и черному пашенному мужику, и государевой казне. И нужен был больше, чем прежде. Крепости Руси искал царь Борис и мира для нее же, однако знал, что крепость и мир сопряжены, а пахотный плуг черного мужика единственная сила, коей, поддержав одно, защитишь другое.
Неперелазным частоколом поднимал Борис твердыни, защищавшие Русь от дикой степи по южным пределам. Елец, Белгород, Оскол, Царев-Борисов город вставали один за другим мощной преградой крымской орде. И то стоило великого труда и великих трат. Упрочивал Борис западные грани, где Литва и Речь Посполитая грозили непрестанно. Крепил Смоленск, Псков, Новгород. Да и об иных крепостцах и городках заботы были. Иван-город, Ям, Копорье, Орешек, земля Карела требовали и призрения, и золота. А еще и с севера хотел защититься Борис, где стоял Архангельск-город — надежда на российские дальние торговые дороги. Но и это было не все в мыслях царских о хлебе. Неудержимо, разящей поступью шла Русь на восток, утверждаясь грозными острогами и городками. Тюмень, Тобольск, Пелым, Березов, Сургут, Верхотурье, Нарым раздвигали восточные пределы. За горы Кавказские устремлялся царский взгляд. Да, хлеб был нужен России!
Смолк светлый подголосок в хоре, но направленные им густые басы гремели теперь с уверенностью и напором. «В вере обрящете, — говорили голоса, — в пути укрепитесь, сбудутся ваши желания и надежды». Кто-то всхлипнул, воскликнул неясное, многим и многим слезы омочили глаза, однако то были слезы не страдания, а радости.
Борис вышел из храма с надеждой, что доброе свершится, а злое будет наказано.
От трапезы царь отказался и, сказав только несколько слов дядьке своему, Семену Никитичу, сел в поджидавший возок, в который уже проводили с бережением царицу Марию и царских детей.
Бояре с почтением окружили Борисов выезд — скромный кожаный черный возок. Одно лишь в выезде выдавало высокое положение хозяина: шестерик караковой масти, необыкновенно подбористых и живых коней.
За Борисом притворили дверцу, и возок тотчас тронулся.
Бояре склонились.
Возок покатил, убыстряя ход.
Провожавшие стояли, не поднимая голов. Вдруг стало видно, как по опустевшему враз двору гуляет невесть откуда взявшаяся пороша. Кружит, петляет, ложится солью на застилающее крыльцо храма алое сукно, играет полами долгих боярских шуб. Неуютным, голым показался двор обители, хотя и обнесен был немалой стеной и затеснен, даже излишне, многими постройками.
Князь Федор Мстиславский с поскучневшим лицом запахнул шубу и решительно зашагал к трапезной. Ступал тяжело, давил землю. За ним потянулись остальные. Стоял великий пост, но ведомо было и князю Федору, и боярам, что обитель святая ни рыбами, ни иной доброй пищей не обнесена и не обижена.
Борис, выйдя из храма, не только слова не сказал боярам, но даже не кивнул.
Ежели грядущий голод лишь брезжился в глубине беспокойного царева сознания, то о ненависти к нему стоящих вокруг трона он знал наверное. Здесь гадания волхвов и вещания юродов были не нужны. Он долго шел к власти и видел, что ступени на вершины ее выложены завистью и злобой, уязвленным честолюбием и ненавистью. И он, угадывая гибель свою и рода Годуновых, ждал удара только от людей, стоящих вокруг трона. И все же, хотя Борис и не мог быть с ними, он не мог и без них. «То крест мой, — говорил Борис, — тяжел он, а не переступишь».
Царский возок с передком, забросанным снегом, неспешно катил по ухабистой санной дороге. Накануне выгоняли мужиков из ближних деревень обколоть, выровнять дорогу. Но куда там! Мужик русский на дурную работу всегда был ленив. А тут и впрямь была одна дурь. Поковыряли мужики пешнями, и ладно. Подтаял ледяной наст, просел. Борисов возок потряхивало.
Не в пример другим случаям, когда царев поезд в пути окружало до тысячи, а то и много больше стремянных, иноземных мушкетеров, стрельцов, трубников и сурначей, Борис на этот раз повелел в дороге его не беспокоить и царскому взору своим присутствием не мешать.
Возок поднимался в гору.
Царица Мария, утомленная службой, дремала, и дремали же, привалившись к ней, царские дети — царевич Федор и царевна Ксения. Борис из-под опущенных век взглядывал на них и кутался в шубу. Его, как всегда, познабливало. Лицо царя, однако, было спокойно. Даже Борисовы глаза, неизменно с затаенной настороженностью присматривавшиеся к людям, были умиротворенны. После глубоко проникшей в душу молитвы, один на один с близкими людьми в тесном коробе возка, Борис чувствовал — может быть, впервые за долгое время — тихую безмятежность, и эта минута была ему дорога. Мысли царя то улетали к российским пределам, обшаривая только ему ведомые дали, то возвращались к сидящим напротив родным людям, и глаза ласкали лицо царевича Федора — великую Борисову надежду на продолжение рода Годуновых.
Черты лица царевича выдавали в нем еще отрока, и трудно было сказать, каким оно станет в будущем, однако было видно, что лицо сложено соразмерно и четко, не имеет изъянов, а чуть удлиненный овал его, намеченная челюсть говорила о зреющей воле. Высок, хорош был лоб царевича, и Борис с удовлетворением подумал, что голова сия слеплена для мыслей смелых. Да, царевич Федор уже и ныне радовал Бориса прилежанием к учению и умением не по годам пытливо вникать в то, что иным и более зрелым возрастам было не по силам. К изумлению многих, Борис пригласил для воспитания царевича учителей из немцев и повелел учить его и языкам, и цифири, и иным наукам. Немец Герард составил для царевича карту России. То вызвало немало возмущений. Патриарх Иов, преодолев робость перед царем, явился к Борису и, потрясая посохом, сказал, что неразумно вверять царственного отрока попечению католиков и лютеран. У патриарха пухли жилы на сморщенной шее, пальцы дрожали. Посох по-костяному сухо пристукивал в дубовые плахи пола.
— Обширная страна наша, — воскликнул он, — едина по религии и языку! Вспомним Содом и Гоморру[20]. От многоязычия, от шатания в вере погибли сии древние города!
Царь теми воплями пренебрег. Царевича Федора учили, как было повелено. Борисом было обозначено тогда же, чему обучить и царскую дочь. Ей вменено было разуметь письменно, читать книжно и иностранные языки знать. То было вовсе как гром среди ясного неба. Девке-то к чему сия грамота? Девка она и есть девка, хотя бы и царского рода. Царев духовник даже опешил. Но царь был тверд в решении.
Борис взглянул на царевну. Она спала. Чуть припухлые девичьи губы выдавали легкое дыхание.
И опять мысли Борисовы улетели далеко. С царской вершины видится многое, даже и такое, что смертному недоступно. Да оно, может, и не нужно. Что там, впереди? Заглянешь — да и напугаешься. А со страхом, известно, трудно жить. Это царская доля. Царю в колокола звонят, но и ему же о страшном ведать. Одного без другого не бывает. Ежели бог счастья привалит, то черт зла пригребет.
Возок качнуло гораздо, и царь понял, что они перевалили взгорок.
Борис подался вперед и выглянул в слюдяное оконце. С высоты холма открылся пологий, долгий спуск, полоса перелеска да петлистая река, уходящая в поля. Взгляд Борисов безразлично скользнул по неприметной дали, но вдруг веки его дрогнули, и он, насторожившись лицом, вплотную приблизился к оконцу.
Снизу, от темневшего леска, по заснеженному склону, след в след шла стая волков. Борис отчетливо, так, как ежели бы это было вовсе близко, разглядел матерый с сединой загривок передового волчины, сильные лапы, вылетавшие из-под груди, рвавшееся из пасти паром дыхание. Волк шел легко, вольно кидая распластавшееся в беге тело. Саженные прыжки казалось, не стоили зверю никаких усилий, и он стлался над снежной заметью серой тенью. Зверь бросал и бросал тело вперед мощными жгутами мышц, и было непонятно, не то он уходит от стаи, не то ведет ее.
Неведомо почему Борису вдруг захотелось непременно выйти на дорогу и не через оконце, но вживе и как можно ближе увидеть и матерого вожака, и стаю. Неожиданное желание всколыхнулось в Борисе так остро, с такой несдерживаемой силой, что он тотчас приподнялся и стукнул в переднюю стенку, как ежели бы уже не Борис, но кто-то иной, более властный и настойчивый, управлял его рукой.
Царский возок остановился. Но волки не учуяли и не увидели ни коней, ни возка, ни вышагнувшего на заснеженную дорогу Бориса. Ветер дул в низу холма, от реки, и запахи не доходили до стаи, а может быть, в бешеном скоке волки не обращали внимания на опасные приметы.
Придерживая полу шубы, царь стоял на дороге. Сейчас он видел волчью стаю так ясно, что разглядел темные подпалины на боках вожака, плотно прижатые к квадратной голове треугольные уши. Из-под лап вожака брызгами летело льдистое крошево снежного наста.
Царь подался вперед и застыл, вглядываясь в рвущегося вперед волка.
Вожак был — порыв, движение, стремительность. Тело его, от морды до конца поленом брошенного хвоста, было вытянуто в линию, и так округло и ладно, что он, казалось, парил над землей.
Стая шла в угон. Крупные двух-, трех- и четырехлетки. И они шли хорошо. Тела упружисто, с ощутимой силой и гибкостью наддавали в беге. И все же Борис почувствовал: вожак без особых усилий может оторваться от стаи и уйти вперед. Слишком угласто проступали у шедших за ним лопатки под шкурами, слишком тяжелы были лапы, не обретшие, как у вожака, бойцовой сухости и крепости, что дали ему, вероятно, долгие охотничьи тропы. «Так, может быть, он все же не уходит от них, но ведет за собой?» — подумал Борис. И в это время, неожиданно метнувшись в сторону, вожак развернулся и, проваливаясь задними лапами в снежную заметь, вскинул голову навстречу летевшему на него молодому, только начавшему линять по весне волку. Царь увидел, как взметнулось вверх тело крупного трехлетка и в тот же миг косой скользящий удар клыков вожака полоснул по обнажившемуся брюху, распоров его от груди до паха. Волк отлетел в сторону и пополз по снегу, волоча за собой ало и страшно обозначившиеся на снежной целине внутренности. Больной, захлебывающийся вой ударил в Борисовы уши. Царь откачнулся от возка, ступил с дороги и увяз в снегу. Глянул под ноги. Но рык, хрип и вой выплеснулись снизу с такой силой, что Борис торопливо вскинул глаза. Неведомо почему Борис был целиком на стороне вожака, и ежели бы смог, то расшвырял, разбросал пинками, разогнал его преследователей. Однако волки были далеко, и даже крикни Борис, голос его не остановил бы схватку. Слишком жарок был волчий бой, и человеческий голос не прервал бы его. Слепая ярость владела стаей.
В матерого волчину вцепились два трехлетка, рвя темные в подпалинах бока. Но вожак тем же разящим ударом, которым опрокинул первого волка, резанул одного по шее, вывернулся на сторону, поддел под ребра другого, вскинул и, тряся головой, въелся в мякоть. Тут же вырвавшийся вперед из цепи третий волк впился ему в горло. Серый клубок тел, судорожно дергая бьющими по воздуху лапами, взрывая снежную целину и разбрасывая комья наледи, покатился к кустам.
Борис отступил от обочины и оглянулся. В нарастающем грохоте копыт к возку по дороге мчались конные. Над одним из них всплеснул черным крылом широкий плащ, и царь понял: мушкетеры.
Борисов дядька, Семен Никитич, услышав царево слово о том, чтобы в пути его не беспокоили, распорядился по всей дороге — в оврагах, перелесках, за корявыми избами деревень — поставить дозоры и оберегать царский возок строго. «Глядите в оба, — сказал, — а зрите в три!» Кулаком взмахнул. Так что хотя ни спереди, ни сзади, ни сбочь царева поезда не скакало, как обычно, ни одного человека, глаз довольно много следило за Борисовым выездом.
Молодой стрелецкий сотник, стоявший в дозоре с десятью иноземными мушкетерами и двумя десятками пеших стрельцов, увидел, что царев возок остановился, и, желая порадеть на службе, разгорячившись, свистнул и погнал коня. За ним пошли мушкетеры.
Подскакав к возку, сотник скатился с седла и стал перед Борисом. После лихого скока грудь стрельца дышала прерывисто, глаза беспокойно метались по дороге, отыскивая причину царевой остановки.
Подскакали мушкетеры. Эти были спокойны. Нерусские лица, красные от морозного ветра, сдержанны. Из-под плащей мушкетеров торчали непривычно длинные шпаги.
Борис пожелал спуститься к перелеску, где только что кипел волчий бой.
Сотник, чтобы царю пройти без помехи, торопясь, ступил на обочину притоптать снег.
Борис, издали разглядев серые тела, подумал: «Ну а вожак-то ушел али нет?» И ему захотелось, чтобы непременно ушел, но едва подумал об этом, как увидел матерого волчину. Тот лежал у кустов, выделяясь тяжелым телом, мохнатой башкой, заметно продавившей хрупкую наледь. Борис подошел и остановился над павшим волком. Снег вокруг был изрыт, истоптан, испятнан алой, еще не застывшей кровью, и казалось, ее пресный, беспокоящий запах пропитал даже воздух. Но это было не так. Тревожно будоража все в человеке, пахнет по весне поле, тронутое первыми лучами солнца, и запах, который втянул в себя Борис, шел не от бросившихся в глаза кровавых пятен, но от гнущихся под ветром лозин талины и самой земли, просыпающейся после зимней спячки. Поднятая борозда хлебной нивы и только что отрытая могила пахнут одинаково, хотя первая уготована, чтобы дать жизнь, а вторая, чтобы принять смерть или то, что остается после нее. Начала и концы имеют много общего, и не случайно с трепетом человек встречает рождение и с трепетом же ждет смерть.
Башка вожака грозно и даже торжественно лежала на лапах. Матерый волчина не опрокинулся, не растянулся безобразно, но лишь приник к земле, прильнул к ней, как к последнему и желанному пристанищу. Даже сама неподвижность волка несла в себе что-то значительное. Но сотник по молодости, по глупому желанию непременно услужить царю шагнул к вожаку и, ловко подцепив носком нарядного казанского сапога поникшую голову зверя, выставил ее так, чтобы Борис смог получше разглядеть. Весело играя голосом, сотник сказал:
— Гон! Самое что ни есть время волчьих боев.
И вдруг, увидев, что царь поморщился, понял — поторопился зря — и отдернул ногу. Голова волка беспомощно упала на снег. «Дурак!» — подумал Борис и, не взглянув на сотника, повернулся и пошел к дороге. Сотник растерянно поморгал круглыми сорочьими глазами и суетливо побежал следом. Мушкетеры как были, так и остались неподвижны.
Борис сел в возок. Кони тронулись.
Царица взглянула на Бориса, но он покивал ей успокаивающе, и она вновь задремала.
Царские дети даже не проснулись.
Царь откинулся на кожу подушек, прикрыл глаза. И вновь послышалось поскрипывание полозьев, пофыркивание коней, стук копыт по ледяной дороге, однако ни уют возка, ни близость родных не вернули царю тихое чувство умиротворения, владевшее им до остановки. За мерным стуком копыт Борис отчетливо различал сейчас многие и многие голоса, из полумрака возка взглядывали на него вопрошающие лица, тянулись руки, одновременно умоляющие и властно требующие. И неизвестно, чего в них было больше — мольбы или приказа.
У царя обострилось лицо. И тут подумал Борис, что он как волк, павший у перелеска, который не то вел стаю, не то уходил от нее. Царь сжал кулаки и посунулся к оконцу. Свежего воздуху захотелось глотнуть, морозного, очищающего. Даль оглядеть. Но оконце было добро вделано в короб дверцы и даже малой свежей струйки не пропускало, а даль затуманилась сумерками. День катился к вечеру, и ничего, кроме ближней дорожной обочины, Борис не увидел.
Строить Россию работа была тяжкая.
Зимы непутевой, бесснежья испугались, как оказалось, зря. Когда такого не след и ожидать было — по утрам лужи морозом прошивало, и накрепко, — загрохотало вдруг в небесах, к изумлению, полыхнула молния, и тут же закапало, закапало, да не враз, не торопко, но так, как и нужно было. Не косохлест, подстега упал на безрадостные поля, а ситничек — самый мелкий и мужику приветный дождичек.
Несказанно обрадовался урожайному дождю московский стрелец Арсений Дятел, которому в Борисовой судьбе да и всего рода Годуновых должно было сказать слово.
Не дано человеку знать связи причин, поступков и следствий и потому не угадать, кому и какое место отведено на этой земле. Правда, известно: ежели жизнь некая вершина, на которую человек взбирается в сомнениях и трудах, то каждый камень на пути может послужить и ступенью, поднимающей на шаг выше, и началом лавины, что сметет, раздавит его. Однако до перекрестка, где должны были пересечься пути царя и стрельца, лежала долгая дорога. А пока вот шел добрый весенний дождь.
Арсений Дятел вышел на подворье, поймал в ладони первые капли и не удержался, всплеснул руками, хлопнул по голенищу, ударил в землю каблуком. Рад был и за себя: будет урожай — будет и жалование, — и за тестя, что на Таганке при кузнечном деле держал не одну десятину земельных угодий, и за всех мужиков-лапотников, которым дождичек кивал улыбчиво: поднимется, встанет хлебная нива.
Подобно Арсению, порадовался доброму весеннему знаку Степан, пригнавший на продажу в Москву коней Борисоглебского монастыря. Меж дворов шатался мужик: ан крестьянское в нем жило крепко. Да оно так и должно: что с кровью пришло, то навек прижило. Заскучал без лошадок. Вот и чужие были табуны, но представил: идет лошадка по лугу, ставит в перебор точеные раковины копыт, трогает губой зеленую травку — и в Москве ему тесно стало. Поглядел, как дождь пузырит лужи, одернул под лыковым пояском рубаху, постоял да и сказал себе: «Ну все, хватит». Вышагнул из-под навеса и, топая по лужам, добежал до бедной церквушки, что притулилась у Мытного двора, стукнул в поповский дом. Знал: здесь монахи. Знал и то: балуются чернорясые, и не только добрым чайком. Вошел, сказал:
— В дорогу пора!
Уговаривать начал и даже пристыдил, что, мол, винцо-то губу ест. Стоял на пороге взъерошенный, и видно было — с места не сдвинешь. Лапти словно вросли в пол.
Монахи сильно удивились. Черный мужик, невежа, подобранный монастырем невесть где, а туда же, со словами. Но, однако, подумали: мужик-то он непременно мужик, а ежели о винце игумену брякнет? Нет… Поднялись от стола. Борисоглебские монахи были люди осторожные.
Через малое время трясся Степан с монахами на телеге, которая катила не спеша к тому самому перекрестку, на который выйти была судьба царю Борису, стрельцу Арсению Дятлу да ему, черному мужику. Телега стучала по неровной дороге. Монахи помалкивали.
Был на Москве и еще человек, которого судьба вела в ту же сторону. Оно ведь как — узел-то одним пальцем не вяжут. Здесь непременно руки надобны со всей их силой, чтобы петельку сложить и затянуть накрепко. Да и то сказать надо: ежели подумать, нет дорог, которые не перекрещиваются. Пускай одна в поля ведет, заросшие цветочками, другая по черногрязи продирается, одна по одну руку легла, другая по иную, но всенепременно перехлестнуться им. Где? За окоемом? Может быть. Еще дальше? И такое станется. Так что всяк помнить должен: не гони коней, не гони! Там за поворотом чужая судьба пролегла, и не дай тебе бог переехать ее, хотя бы и ненароком. Да еще и то сказать надо, что на всяком пути будет тройка резвее твоей. Кони в ней звери, а ямщик вожжи отпустит. И зашибет он тебя, как ты тележку за поворотом. Так что, кнут поднимая, подумай и не гони коней.
Ан вот третий — Иван — о том не думал. Ни к чему было такое молодцу.
Сидел Иван в известной фортине на Варварке и перед кабатчиком куражился, пока были деньжонки. Но денежек было мало, однако — и кабатчик то видел — на груди у Ивана, в распахнутом вороте, крест выказывался. И не медный. Кабатчик поглядывал из-за стойки. Крепкий мужик: поперек себя шире и руками не слабый. Но молчал. А что говорить — все знакомо. На столе штоф, стаканчик оловянный, над штофом рожа опухшая, а пальцы — пальцы на стаканчике пляшут.
Пахло кислым.
Иван по замызганному столу руку провел. Тронул штоф, но без пользы. Штоф был пуст. Последняя капля стекла слезой на светлое дно.
Иван медленно, тяжело, по-хмельному, всем телом оборотился к кабатчику. Тот глядел сумно. Иван непослушным пальцем поманил его, хотя таких мужиков пальцем не манят. Слишком хорош был дядя. И тут улыбка проснулась на каменном лице кабатчика. Тронула чуть у глаза глыбистую скулу и не сразу, не вдруг, но, незаметной волной пройдя под дубленой кожей щеки, объявилась на губах. Ан не сломала их, не сдвинула известной фигурой, но лишь чуть приподняла надгубье. И тут же все вернулось на свои места, будто рассвет только померещился у края окоема. Ночь, ночь стояла, в которой не видно ни зги. А что означала улыбка — понять и вовсе было трудно. Одно можно сказать — не радость, куда там.
Кабатчик — под ним половица скрипнула — вышагнул из-за стойки и подошел к Ивану. А тот уже головой поник. Кабатчик глянул ему в затылок. Редкие волосенки торчали над замызганным воротом армяка. Давно не чесанные и не мытые. Но шея была сытая и морщинами по-мужичьи не исхлестана.
«Угу», — сказал про себя кабатчик и губы поджал.
Иван поднял голову. Пьян был, а вмиг уразумел: деньги на стол выложить надобно перед дядей, не то штофу пусту оставаться. Рука Ивана сползла со стола, сунулась к карману.
Мужик кабацкий высился столбом.
Иванова рука, тычась слепо, пошарила по поле, но нашла свое и припала к нему, что щенок жадным ртом к теплому брюху суки.
Кабатчик молчал.
Рука неохотно полезла из складок армяка, выматывая и выматывая за собой цепь.
Глаза кабатчика сузились и напряглись.
Цепь блеснула тусклым, старым серебром.
Иван положил руку на стол. В открытой ладони кабатчик увидел: последнее звено цепи рваное. И в другой раз сказал: «Угу». Понял дядя, кто у него в кабаке сидит.
За слюдяным, в две ладони, оконцем дождь поширкивал. И так-то хорошо: ши-ши. Водица, сбегая с крыши в подставленную колоду, журчала успокоительно. Однако и голоса были слышны. Известно: Варварка место людное, тесное. Ряды торговые и лавки понатыканы тут и там, кружала[21], харчевни, погреба. Еще Грозным-царем поселены были на Варварке, на спуске к Москве-реке, купцы-псковичи, а то народ хваткий, знал, как свое взять. В одном пострадали, так в другом нашли.
Дождь не дождь, а Варварка шумела. Да оно понятно: торговое дело без крику не бывает. Бом! — ударил недалече колокол. Может, отпевал кого, может, радовался рождению? Город Москва велик — здесь смерти и рождения в одну минуту случаются. Это где в далекой деревне смерть в горе, рождение в радость, а здесь все в обыденку. Может, конечно, кто из богобоязненных и перекрестится на голос тот медный, а скорее, никто не услышит. Для того чтобы бог в душу вошел, тишина нужна, но здесь-то какая тишина? Варварский крестец. Маета, маета, и люди бегут.
В голосах этих, в шуме ни Иван, ни кабатчик, стоявший подле стола и с жадностью смотревший на серебряную цепь, не услышали, как рядом, на Варварке, в тот же час стукнул в тесовую калитку романовского подворья сирый инок Григорий Отрепьев. Стукнул и сказал:
— Во имя отца и сына и святого духа.
— Аминь, — ответили ему.
Голоса были негромкие, да ежели бы они и громче прозвучали, все одно затерялись за дождем и беспокойством Варварки. А ведь все то были узелки веревочки судьбы царя Бориса. Жизнь петельки набрасывала, вдвое, втрое перегибала веревочку, образуя проушины, складывала в мочку, в хомутик. Сказано: вот был на Москве третий, но был и двадцатый, и сотый, и тысячный… В одну петельку все пуговки не устегнешь, и жизнь новых и новых людишек к судьбе Борисовой пригребала. О том, каков царь и царствование его, говорят не колокола медные, хотя они и поют ему многие лета, но люди, коим довелось жить под ним. Царю еще при венчании провозгласят здравицу, раскачав большой колокол на Иване Великом, а царь и ручкой не поведет. Да и то сказать надо: цари на Руси одним начинают — колокольным праздником и обещанием великих дел. А медь — она звонка. За ней в колокольный бой слабые человечьи голоса не слышны, ан все одно судить о царе будут люди, и, конечно же, не в праздник, не под пылающую медь, но в серые будни.
Ответили Отрепьеву и калитку отворили. Чернорясый переступил через тяжелую колоду и склонился, как и подобает скромному монаху. Лицом монах был худ, ряса ветхая. На локтях и по подолу рыжее проступало.
Отрепьева провели в подклеть. Показали на лавку. Монах присел, подобрал рясу. Тонкими веками прикрыл глаза.
В подклети было чисто, сухо, покойно. Пахло известкой от свежевыбеленной печи, выступавшей приземистой грудой из темного угла. Из поддувала печи жарко проглядывали раскаленные угли. Текучий их свет скользил и вился странным узором по дубовым плахам пола.
Монах молчал, и ни звука не проникало в подклеть сквозь толстые каменные стены. Крепкое подворье было у Романовых. Камень мастера клали. Хороший камень — московский белый бут.
Неожиданно в глубине подклети сухо щелкнуло железо, и тут же скрипнула дверь.
Монах головы не поднял. Однако взор его беспокойно метнулся по текучему пятну света у подпечья, но тут же тонкие веки опустились ниже и вовсе прикрыли глаза. Лицо чернонорясого застыло.
В темном углу тихо кашлянули, и мягкие подошвы ступили по дубовым плахам. К монаху вышел Александр Никитич Романов. Не старший рода — Федор Никитич, но брат его, с шустрыми глазами, ан неторопливый в движениях и речью небыстрый. Так уж было в доме том в заводе: коли дело требовало осторожности, вперед пускали младших. Береженого, говорят, бог бережет, а в доме Романовых шибко береглись. А как же: многажды были пуганы и не раз биты.
Александр Никитич сел на лавку.
Монах говорил, сложив руки на коленях. Они лежали ровно и покойно. «Не робок, — подумал, глядя на те руки, Александр Никитич, — не робок».
— Отца моего здесь, на Москве, на Кукуе, ножом убил пьяный литвин, — сказал монах.
И когда сказал «отца», Александр Никитич вскинул на него глаза, но промолчал. Пальцы на поле шубы заиграли, царапая мягкое сукно. Взора, однако, Александр Никитич от монашка не отвел и приглядывался к гостю все внимательнее. «Лицо круглое, — отметил, — волос рыжеват. Росту, пожалуй, среднего или почти низкого. Сложен хорошо. Не тучен…» И вглядывался, вглядывался, хотел рассмотреть глаза. И тут монашек оборотился к нему, поднял взгляд. «Голубые глаза-то, — отметил Александр Никитич, — голубые. Славно. А то, что неловок, — пускай. Пройдет».
— По молодости жил на Москве у князя Черкасского в холопах, — рассказывал монах. — Потом по монастырям ходил. Имя в монашестве получил Григорий.
— Так, — сказал Романов, — то любо.
— Грамоте разумею. Пером навычен и боек.
— Знаю.
Помолчали. Стало слышно, как в печи потрескивали дрова, Монах упорно смотрел в пол, но руки по-прежнему покойно лежали на коленях. Александр Никитич кашлянул и руку поднял, прижал пальцем на виске жилку. Малая была жилка, а стучала, стучала в голову. Знать, торопились мысли, обгоняя одна другую. Далеко заглядывал Романов, и многое ему виделось, но он сдержать хотел мечтания. Слишком дорого было то, что держал в голове, да и страшно. Торопится человек, спешит ухватить свое, тянет руки, и вот, кажется ему, сей миг схватит, но пальцы сомкнутся, а под ними пусто. Оно и комара прихлопнуть непросто. Выждать надо, хотя жжет кожу, пока он хоботком в теле увязнет. Тогда бей, не улететь длинноногому. Конец. Ну а ежели раньше рукой взмахнешь — сорвется комарик и запоет свое — у-у-у, — не давая покоя. Нет, надо ждать. А здесь не о комаре мысли были у Александра Никитича. Нет, не о комаре. Да и умели ждать Романовы.
— В Чудов монастырь, — сказал, — тебя определим. Послужишь богу. На Москве тебе способно будет. Да и нам станешь споспешествовать в служении господу.
Монах молчал.
Боль в голове у Александра Никитича утихала. Романов сделал очевидное усилие, лицо обострилось, скулы подсохли, и он, обретя внутреннюю твердость, сказал необыкновенно прозвучавшим голосом, в котором были и откровение, и загадка, и утверждение:
— О себе ты, Григорий, не все знаешь. Не все…
Голос был столь неожидан, что у монаха затрепетали тонкие веки и он вскинул глаза на Романова. Но тот не смотрел на него. А голос его угас.
— Ан не разом откроюсь, — сказал он, — всему сроки обозначены. Но знай: время придет — и тайное станет явным.
Александр Никитич повернулся и пошел, мягко ступая. Яркий на свежебеленой печи крапивный цвет его шубы ожег монаху глаза, но до тех пор, пока в глубине подклети не щелкнул засов на дверях, он все смотрел и смотрел вслед Романову.
Спустя малое время к монаху вышел комнатный человек в чистой рубахе, подпоясанной хорошим шнурком. Вывел во двор. Остановились. С неба капало. По широкому двору, по лужам, вели мужика в колодке. Лицо мужика было измучено.
Рот разбит.
— Беглый, — сказал, лениво кривя губы, комнатный человек. — Неймется мужикам, вот и бегают.
И соврал, а может, брякнул по незнанию. Мало ли кого по каморам и чуланам на романовском подворье держали. И в колодках и без колодок. На цепи. Очень даже просто: железный ошейник на шею — и к стене на крюк. Не забалуешь. Романовский дом большой, людей не счесть. Куда там темному холопу счет им вести и вины их знать. А был этот мужик Игнашка, черный пахарь из дальней романовской деревни. И хотя в колодке шел, но несказанно был рад, что живой еще, а не гниет в яме, так как выпала ему несчастная доля малый боярский секрет вызнать. И непременно прибить бы его должны были за то, но вот не прибили. Случай выпал. А сейчас отправляли в деревню. Посчитал боярин так: от падали какая польза, да и деревня далеко, пускай мужик гнет спину. Все рубль, а то два али три в год в боярский кошель ляжет.
Игнатий оглянулся на стоящего вороной у подклети чернорясого и — памятливый был — запомнил лицо. И тут жизнь петельку забросила.
Игнашку посадили на телегу.
— Давай, — сказал приведший его вознице, — трогай!
— Ты бы, чай, — возразил тот плаксиво, — кого другого послал. Вишь, — показал изломанным кнутом на мерина в оглоблях, — старый, ногами перебирает, зябко ему по грязи. А?
— Ничего, дотащитесь.
Мерин качнулся всем телом, и телега тронулась.
— Ишь, — сказал Отрепьеву, кривя рот, отославший телегу романовский холоп, — зябко. — Хохотнул. — Чего только не придумают. Зябко…
Монах смотрел на холопа словно глухой. В ушах Григория стояло сказанное Александром Никитичем: «Время придет — и тайное станет явным».
Тем временем Александр Никитич взошел в палаты. И здесь принимали гостя Романовы, однако и гость был иной, и прием не тот.
Под сводами, ближе к окнам, стоял покрытый богатой скатертью стол, и старший Романов — Федор Никитич — потчевал за ним Богдана Бельского, которого царь посылал воеводой в Царев-Борисов — крепость и город на южных пределах державы.
Бельский сидел за столом, уперев крепкий подбородок в сжатый кулак. Цыгановатое лицо воеводы было мрачно. И без тени улыбки сидел за столом Федор Никитич. Оба знали: царь Борис, назначая Бельского воеводой на Северский Донец, прежде иного хочет убрать сильного человека из Москвы. В Думе при назначении воеводы в Царев-Борисов много говорили лестных слов, что, мол, от Богдана ждут великих дел по укреплению крепости и защите державных рубежей. Царь Борис поднялся с трона и милостиво на плечи нового воеводы руки возложил: дерзай-де, Богдан, и мы тебе воздадим и благоволением царским, и щедрыми дарами. Царь говорил сладко, а бояре глаза прятали, головы опускали. И глупому было ясно: царская речь что мед, а дело что полынь. Руки царя давили Богдану плечи.
Александр Никитич вошел и взглянул на брата. Тот ответил коротким кивком. И слова не было произнесено между братьями, но первый дал знать, а другой понял, что разговор с монахом состоялся, и такой, какой и был надобен.
Федор Никитич руку опустил на стол, сказал, твердо глядя в лицо Бельского:
— Что ж, не кручинься, воевода. Дал бог роточек, даст и кусочек. Борис на Москве царь, а ты в Цареве-Борисове царем же стань.
Молчали после таких слов долго. Уж больно крепко было сказано. За эти слова и голова с плеч могла скатиться. Но вот же сказаны они были. Богдан Бельский крякнул, откашливая вдруг завалившую горло сырость. Сказал:
— Быть по сему.
Вот какие заваривались дела на Варварке. Не заяц петлял. Туго-натуго жизни перехлестывались. А Варварка еще не вся Москва. Были в белокаменной и другие улицы, и там люди жили, и каждый свое тесто месил.
Кабатчик же в известной фортине сплоховал. Откусил больше, чем смог проглотить. Серебряная цепь смутила, да и на силу понадеялся. Ан нашла коса на камень. Поднял руку на Ивана, а тот — ловок был, ах ловок — вывернулся и полоснул засапожником. Твердо убежден был Иван: нет человека, который бы не украл. Только одному крошка нужна, а другому и ломтя мало. И держался сторожко. Знал: не сейчас, так в другую минуту рубанут по макушке. Кабатчик повалился на лавку, Иван метнулся по кабаку да и выскочил прочь на улицу.
В тот же вечер со зла и досады сорвал в богатой церкви Дмитрия Солунского бармы[22] с иконы и ушел из Москвы. Теперь ему в белокаменной и вовсе нечего было делать. Обманув стражу, выбрался за город и, стоя в ночи, погрозил Москве кулаком.
— Ну, — хрустнул зубами, — погодь…
А почто грозил? Аль сам не был виновен? Но грозил же, грозил! Пальцы до боли, до белизны в суставах сжал.
— Ну… — Губы обтянулись, как у оскалившейся собаки.
На Москве много строилось, но еще больше начиналось строительством. Борис был нетерпелив и торопил всех, хотя иным было и непонятно, зачем столько городить разом. Оно, помолясь да без спешки, как бывало раньше, может, и лучше? Деды неторопко жили, отцы не бог знать как поспешали, а нам для чего такое? Все под богом ходим, всему черед есть, зачем время гнать? Не божье то веленье. На Руси такого не было. Но нет…
Великою мудростью в Кремле строили водовод, который забирал воду в Москве-реке, поднимал хитрым насосом на башню и далее пускал ее самотеком. Люди дивились, но кое-кто и спрашивал: «А к чему?» Приставы, однако, отвечали твердо: «На то царская воля». Вот и весь сказ. А вода лилась, лилась в гору загадочной силой. У опущенных в Москву-реку заборных колод течение крутило воронками. Вода уходила вниз со всхлипом, со стоном. Кое-кто крестился. Другие спрашивали, округляя глаза:
— Как это понимать? Ни тебе паводка, ни тебе ветра. А ежели в эту воронку угодить?
И вспоминались слова, не раз слышимые по церквам, страшно и жутко гремевшие под сводами: «И разверзнутся хляби небесные, и падет небо…»
Перекрестишься тут.
На Пожаре поднимали каменное, изукрашенное резьбой Лобное место, чтобы с вершины сего читать москвичам и всему русскому люду царевы указы и распоряжения. Камень тесали с великим тщанием.
В Кремле вовсе, к вящему изумлению, принялись надстраивать храм-колокольню Ивана Великого. А он и так, строенный на месте скромной церквенки Ивана Лествичника, был не мал. Куда громоздить-то? Но громоздили. А ответ один: «На то царская воля».
Да что Иван Великий! По всему Кремлю валили храмины старых приказов, так что треск стоял, растаскивали неподъемные бревна и жгли в огромных, чадно пылающих кострах. По многу человек впрягались в лямки и растаскивали замшелые срубы, как глухими шапками, накрытые гонтовыми тяжелыми крышами. Хрипели, вытягивая шеи:
— И раз! И раз! И раз!
Уложенные в обло стены подавались трудно. Но ломать не строить: сыпалась щепа, трещали бревна и срубы разваливались. Говорили, новые, каменные приказные храмины поставят. Но и это было непонятно: разве в старых дьякам тесно было али зябко? Нет, такого не скажешь. Палаты были просторны, а бревна в обхват не возьмешь. За такими стенами и в лютый мороз отсидишься куда как с добром. Но, надсаживаясь, рушили приказы и везли камень. Иные на работах надрывались, многим ноги отдавливало, пальцы ломало, и тут одно — спешка, царское нетерпение.
В Китай-городе тоже не заскучаешь: крик и шум, неудобство. Разваливали деревянные торговые лавки. Строили, строили годами купцы, лепились друг к дружке, и на тебе — в ломку. Загорелось царю каменные лавки поставить. Не перечесть, сколько лет торговали в деревянных, и никто от того не окривел и с лица не сошел. Но нет — долой! Отныне будут лавки каменны.
— Ну ладно, — говорили на то москвичи, — пущай так.
Но, правду сказать, голоса звучали по-разному. Прижились в вонючих углах и так говорили: «Старые норы надежнее, чем новые хоромы». Известно: обмятое лыко ногу не трет.
Мост через Москву-реку затеяли. И тоже каменный. Оно неплохо. Наплавной, что ни весна, бог знает куда сносило. По две сотни лошадей запрягали и притаскивали с великим надсадом, калеча и лошадей и людей. А тут каменный. Не унесет. Да и понятно: царь похотел — бояре постановили. Но вот заговорили, что по сторонам моста на иноземный манер лавки будут ставить. Пойдет человек через мост и то, что надобно, купит.
— А? Лавки над водой? — качали головами. — К чему? Или землей оскудели? Нет, мужики. Это баловство. Старины надо держаться. Так-то вернее.
— Да-а-а…
Но и это было не все. Царь с иноземными советчиками — а они липли к нему, как мухи к меду, — объехал Москву и повелел отныне мусор и всякий дрязг, который от веку хозяин выбрасывал за ворота, на улицы не сваливать, но свозить за город и на указанных местах складывать в кучи. Тут уж руками развести только.
— Это что же, ведро помоев не волен хозяин выплеснуть под свой забор? А бабе битый горшок за город тащить?
Но приставы свое: «И горшок битый, и помои тащи куда следует». А сказ тот же: «На то царская воля».
Пристава по московским улицам по-новому стали ходить: впереди пристав, за ним воз батогов. Пристав идет и оглядывается, а уже тут или там на куче непотребного дрязга стоит хозяин у забора и его батожьем потчуют.
Били зло.
Хозяева начали было прятаться, но пристава иное удумали. Нет хозяина — прищучат бабу. Тут и визг, и крик, и слезы, но без жалости, строго:
— Становись к забору!
И опять по Москве разговоры пошли:
— Оно бабе батоги всегда на пользу, но скажи и то: при чем здесь дрязг уличный? Поучи бабу так, коли охота пришла.
Раздумчивый землю ковырял носком лаптя, кряхтел:
— Воистину… Дальше — больше.
Каждый дом обложили конной повинностью. Богадельни начали строить, а ты поставь и телегу и лошадь. Дело-де божье. Оно так, оно верно, но ломаться кому охота? Солнышко чуть забрезжит, а уже катят обозы, напрягаясь, визжат кони, гремят колеса по мостовой, орут сдуру мужики. Все: тишины на Москве не стало.
Благостна была белокаменная при покойном Федоре Иоанновиче. Беспечальные стрижи да ласточки резали воздух, за высокими застрехами ворковали жирные голуби, редко-редко пройдет распояской мужик по улице, дьячок пробежит трусцой ко времени в колокол ударить, и — бо-о-ом! — поплывет лениво над тихими крышами. Вот и весь шум. Ныне того нет. По Москве полетели слова, будто бы сказанные Борисом: «Рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста». И мужики московские поняли: было попито, а ныне будет за то и побито. Поскреби в затылке в минуту вольную. Задумайся. Говорят, русский человек быстр-де и прыток. Оно, может, и так, да только тогда, когда прижмут и дышать нечем. Вот он и запрыгает куда как споро, а так нет, зачем, где там! Неповоротливо живущая Москва просыпалась с великой неохотой.
А царь выступил с новыми мечтаниями, и повелено было думным в неурочный час собраться ко двору.
Съезжались со всей Москвы. Эко было диво посмотреть. Впереди боярского поезда, думного дьяка или дворянина думного трусцой поспешал скороход. А то два или три. Скороходы мужики здоровенные, но сухи, что оглобля. Трусит такой дядя, глазами ворочает и хрипит:
— Дорогу! Дорогу!
Ежели кто не послушается, то и пихнут в зашеину, да пихнут со всей силой. Жеребцы стоялые, скороходы, у них всего дела по-дурному перед боярской колымагой пробежаться, а так днями лежи на боку и свисти в кулак. Истинно стоялые жеребцы.
За скороходами — сурначи, трубники и литаврщики. Трубы визжат и свистят до боли в ушах. Литавры бухают так, что боязливый вздрагивает. А вздрогнешь — бьют, как колом по башке гвоздят.
За литаврщиками — гусем, с выносом — боярский выезд. Упряжь изукрашена хвостами — лисьими, куньими, соболиными, — серебряными пряжками, длинными, в черненом же серебре лямками, а узда, хомут, седелка с чересседельником в серебряной насечке. Бывало и того богаче: боярские лошади — задастые, тяжелые — покрыты серебряной не то золоченой сеткой. Упряжка идет, словно звонкие золотые копытами чеканит.
Но как ни здоровы скороходы, умелы сурначи и трубники, громоподобны литаврщики, как ни бойки холопы на выносных горячих конях и ни сильны идущие в корню жеребцы, как ни звонки их копыта, но лучше всех боярин, раскинувшийся в широкой, на пол-улицы, колымаге.
Первое — какая на нем шапка! На Москве всякие шапки носили: круглые, казачьи, татарки, мужичьи, кучерские, мурмолки; шапки архиерейские, колпаки и наклобучки, но все не то боярская шапка. По тулье высока она так, что иной боярин, особенно из малых ростом, ежели идет, то его вроде бы и качает. Ан и это не все: понизу боярская шапка узка, а у донышка расширяется и на боярской голове воронкой сидит, и даже странно, как ее удержать можно. Строена шапка из соболя, и непременно чтобы в тулово не больше, но и не меньше сорока шкурок легло. И нет чтобы там подбрюшье, или лапки, или соболиные пупки в дело шли. Ни-ни! Только ремешок хребтины достоин в такую шапку лечь, да еще и такой ремешок, чтобы каждым волоском блестел, играл, пушился и был шелковист и маслен. Вот тогда шапка шапкой и боярин боярином.
Теперь боярская шуба. Вон боярин в колымаге полы раскинул. Приглядись! Что, увидел? Тоже соболек, а он кусается, потому как дорог. Соболек не огурчик — с грядки не снимешь. Такого зверька поймать — сильно поломаться надо, сходить за окоем. И купец не знает, как цену ему сложить на торжище. А на шубу боярскую не один и не два соболька шло. Так прикинь: сколько верст мужики истоптали, чтобы боярин шубу надел, сколько легло их в лесах, ловчие колоды пристраивая, бесследно ушло в болотную топь, сгинуло в буераках, измаялось цингой, изломалось в чащобах? А? То-то же… Вот москвичи оттого, разинув рты, и смотрели на боярина. А он на них не глядел. Зачем такое? Сидел свободно, но глаз не видно было под низко надвинутой шапкой, под густыми бровями, да и лицо слабо было различимо за густой бородой, за воротником высоким, чтобы не судили да не рядили по-пустому. Одно было явно — боярин сидел тяжело, и вся стать его была сама нерушимость, сама неподвижность. Пугаться должен был малый человек, глядя на боярина, ничтожность свою чувствовать, трепетом проникаться до почтительной дрожи, деревенеть в страхе. В этом был великий смысл российской власти, дающей ей и право, и силу, что никем, кроме бога, не должны оспариваться.
Но и шапки, и шубы, и раззолоченного выезда, и грозной, боярской неподвижности ныне было мало для Москвы. Гостомысловы времена минули, и боярин, поспешая за скорыми годами, должен был соображать прытко. Вот и глаз не поднимал он, по Москве едучи, хоть и видел, головы не поворачивая, как шустрит народ, хоть и слышал голоса и шепоты. Изумленно ахала Москва новшествам, шепталась, но боярин понимал, что слова те гниль, шушера, пустопорожние головы разносят. И цена словам тем не большая, чем падучему осеннему листу, который прошелестит по ветру да и ляжет на землю. Всегда было, есть да и впредь будет, что новины не враз приживаются. «А крепкие мужики, — соображал боярин, — понимают, что и каменный мост на благо Москве строится и ветхие приказы рушат на благо же». Ан и дальше, протоптав первую тропинку, шла боярская мысль: «Придет время, и, сказав, что державы для царь Борис старается, мужик московский и душу ему отдаст. А хорошо ли это?» Боярин ниже голову опускал. «Чем крепче Борис, — думал, — тем больший боярской воле укорот». И костистые пальцы подбирал под длинные рукава шубы. Помнили на Руси, как Иван Грозный ломал боярскую и княжескую волю, гнул великим головы, дотла зорил великокняжеские гнезда, с кровью, с мясом выдирал их корни. «Теперь бы самое время вздохнуть, — мечтали, — при новом-то царе. Спину выпрямить».
Боярская колымага катила, колеса проворачивались трудно, с хрустом.
В царских палатах было тесно от собравшегося по Борисову зову люда. У патриарха лицо было необычно торжественно и словно светилось. Да и иные, из ближних к царю, будто на праздник собрались. Семен Никитич — всесильный царев дядька — цвел улыбкой, и многие, глядя на него, прочли в ней загадку. Шуйские — и Василий, и Дмитрий, и Александр, и Иван, — стоя плечо к плечу, стыли в ожидании. И видно было по скучным глазам — томились. И от Романовых — старшего Федора и братьев его, Александра и Михаила, — напахивало тревогой. Бояре — старый Михайла Катырев-Ростовский и грузный телом Петр Буйносов — в стороне, под низким оконным сводом, шептались, оглядываясь. Подслеповатый Михайла глаза щурил озабоченно. Митрополит казанский Гермоген, держась по правую руку от патриарха, закостенел лицом, и глупому видно было, что, хотя и люди вокруг него, он один. Брови у Гермогена строго сходились над переносьем. И также со всеми и против всех стоял столбом на почетном месте боярин Федор Иванович Мстиславский. Под скулами князя в темных провалах стыли упрямая воля, раздражение и досада.
Все ждали царского выхода.
Наконец двери царевых покоев распались, и взору явился Борис. С ним вышли царица Мария и царские дети. Борис шагнул стремительно, волосы разлетелись у висков. Ступал твердо. Царица выплыла лебедушкой, так, что ни одна складка не шевельнулась на широком, золотом расшитом подоле. Царские дети вышли не поднимая глаз.
Большого выхода никто не ждал, и у многих перехватило дыхание в ожидании необычных вестей. Бороды потянулись к царской семье. Глаза раскрылись шире.
Борис милостиво кивнул думному дьяку, печатнику Василию Щелкалову. Василий склонил голову на царское повеление и выпрямился. Все взоры обратились к нему.
Василий завел руку за спину и принял поданный на серебряном блюде свиток, а когда разворачивал жестко гремевшую бумагу, обвел взглядом собравшихся. Глаза думного дьяка были как два черных провала на сухом, костистом лице, высоким куполом вздымался необыкновенно просторный лоб, за которым, знали, много есть, что, почитай, любого может в бездну низвергнуть. Свиток разворачивался, разворачивался в пальцах дьяка, и царская тяжелая печать на суровой нитке медленно раскачивалась. Дьяк обратил глаза к бумаге.
В палатах вдруг стало слышно, как кто-то тяжело передохнул, и этот вздох больше, чем слова, сказал о силе и могуществе Щелкалова.
— «По указу великого государя, царя, — почти не раскрывая рта, медленно и торжественно читал Василий, — и великого князя, всея Великие и Малые и Белые России самодержца…»
Слова ловили задержав дыхание. Но обошлось без страшного. Царь повелевал возвести на Москве собор Святая Святых, который стал бы и краше и величественнее всего, что было построено для бога на Руси.
Василий прочел царев указ, положил свиток, и в палаты внесли макет будущего собора, поставили для обозрения на лавки. Тесня друг друга, думные придвинулись, разглядывая игрушечную, дивно сработанную храмину.
Изумляться только и можно было, какие руки сотворили такое чудо. На досках, разделанных под зеленую траву, да так, что вроде бы она и угадывалась явственно, стоял каменный храм, выложенный из кирпичей величиной в половину пальца. Храм венчали вызолоченные купола, и в звонницах видны были бесчисленные колокола, слюдой поблескивали оконца.
Иов перекрестился, глядя на это диво, и многие за ним осенили лбы. Все молчали.
— Сей храм, — сказал Иов, — москвичам и России подарок от великого государя.
На эти слова у боярина Федора Никитича кадык полез из воротника, но старший из Романовых проглотил слюну, и комкастый желвак нырнул за шитый жемчуг. Никто и не заметил такого, только у дьяка Василия Щелкалова обозначилась на губах едва приметная улыбка. Федор Никитич осторожно взгляд поднял. Дьяк смотрел на него в упор, и старший Романов понял, что Щелкалов в мысли его проник и угадал едучую зависть. Однако улыбка сошла с лица дьяка, и он глаза прикрыл. Все, что было угадано, в себе оставил.
Василий Щелкалов обошел вокруг выставленной храмины. В палату из высоких окон неожиданно ударил луч выглянувшего из-за туч солнца, и храм заиграл множеством красок, искусно положенных мастерами на купола, порталы, крыльца и шатровые кровли. Храм, стоящий на высокой подклети, связующей его в единое целое, выказал себя еще мощнее, величественнее множеством разновеликих столпов, выраставших купольными главами, странно и прекрасно венчавшими невиданное доселе строение. Князь Василий Шуйский ощутил нехорошее жжение в груди, но, лукавый и расчетливый, он не дал страстям выказаться, как это позволил горячий Романов, а, напротив, смягчился лицом. В мыслях же у Василия прошло: «Воздвигнув сей храм, Борис увековечит себя и род Годуновых на сотни лет… Нет, такое позволить не можно. Храму сему на Москве не быть!»
Вот так, и не иначе.
Руку у патриарха Василий Шуйский целовал с особым почтением и пошел из палат — не быстро и не медленно, но как и должно, так, что у дьяка Щелкалова — а он смотрел на князя внимательно — и бровь не дрогнула. Но ежели всевидящий печатник не заметил волнения и гнева в Шуйском, то увидел это царь Борис. Распознавать людей, видеть то, что скрывается за лукавой улыбкой, за словами лести или привета, учил его в младые годы старший брат печатника, дьяк же думный Андрей Щелкалов, и Борис в науке сей успел гораздо. О том одно говорило, что он учителя своего угрыз не задумываясь, когда тот поперек ему стал, а ныне уже без труда разглядел на улыбающемся лице Шуйского, в гневном румянце Федора Романова противление царской воле. А распознав сии знаки, обрадовался. Дальше лукавого князя и хитроумного боярина умел видеть Борис и угадывал: словом или делом выступят эти двое против строительства сего храма и он перед москвичами да и перед всей христианской Русью выставит их безбожными татями, а от того до плахи — шаг.
В тот же день царь повелел расчистить место в Кремле для храма и, не мешкая, отрядить людей для возки камня, леса и иного нужного для строительства. В приказах согнулись над бумагами, поспешая отписать царевы указы. Тогда же Борис призвал дядьку Семена Никитича и, впечатав крепкие каблуки в пол, остановился перед ним, сказав:
— Твое — все знать о строительстве храма. — И повторил со значением: — Все!
В том же разговоре он назвал два имени: Василия Шуйского и Федора Романова.
Над Старым Мястом, над тесной площадью варшавского Рынка, над королевским дворцом, недавно поднявшим башни и башенки над Вислой, ветер нес пух тополей. И ежели бы день не был так ярок, а солнце не светило столь яростно, что из улиц, подступавших к дворцу, словно из печей, дышало жаром, можно было подумать, что на Варшаву налетел снегопад. Пух поземкой катило по булыжным мостовым, завивало воронками, сбивало в рыхлые сугробы у подножья серых стен, тускло глядевших бельмами окон на чертову эту падергу, невесть отчего насланную на город.
По раскаленным солнцем булыжникам придворцовой площади брели два унылых еврея в длинных лапсердаках, и видно было, что идти им некуда и незачем, а шагают они через площадь только потому, что надо же евреям иметь занятие.
На облезлой колокольне храма Святого Яна неуверенно пробили колокола и смолкли. Костлявый еврей, нескладный и развалистый, как холопий рыдван, остановился, задумчиво взглянул на колокольню, но, видно так и не разобрав, к чему бы беспокоиться звонарю в столь неподходящее время, с унынием подставил солнцу тощую спину и зашагал дальше.
Пух летел и летел, играя на солнце.
Тополиный пух был проклятием короля Сигизмунда. Невесомая эта пакость проникала через наглухо закрытые окна, влетала в двери, проходила каминными дымоходами и, несмотря на усилия многочисленной челяди и требовательные распоряжения дворцового маршалка, наполняла королевские покои.
Пух был везде: в шкафах, забитых полуистлевшими книгами, в потрескавшихся вазах, торчавших в самых неподходящих местах, в рыцарских доспехах, расставленных по углам не то для устрашения, не то для поощрения высоких чувств. Серым налетом плесени пух затягивал ковры и гобелены, заплетал шерстистой гадостью золоченые рамы картин. Но это была лишь половина беды. Пух по неизвестным причинам вызывал необычайное разбухание королевского носа, извергал из глаз миропомазанника поток слез, сжимал горло острой спазмой. Достаточно было вдохнуть самую малую пушинку, и мощное тело держателя польского престола начинал сотрясать неостановимый кашель. Лицо короля багровело, а тело его гнуло и ломало так, что он совершенно обессилевал. Старания придворного эскулапа остановить губительное действие тополиного пуха на здоровье Сигизмунда или облегчить страдания царствующего лица не давали результатов. У Сигизмунда раскалывалась голова, а главное, с каждым днем ему становилось все труднее и труднее видеть своих подданных. Два-три слова с любым из них, и у короля начиналось нечто вроде белой горячки. Царствующей особе непременно хотелось швырнуть в улыбающиеся физиономии даже самых высоких по чину любым подвернувшимся под руку предметом. Правда, следует сказать, что не только пух был причиной раздражительности короля. Были и другие основания для подобного самочувствия.
Дядя короля, предприимчивый герцог Карл, давно считавший, что две короны — шведская и польская — для головы Сигизмунда слишком роскошное убранство, поднял наконец верных ему баронов и мощным ударом под Стонгебро свалил с Сигизмунда одно из этих украшений. Сигизмунда приводило в неистовство воспоминание о том, как хваленая польская конница бежала под пушечными выстрелами соотечественников короля, решивших, что присутствие Сигизмунда на шведском престоле отныне им ни к чему. На десяток верст польские воители растеряли роскошные плащи и пышные перевязи дедовских мечей, которыми так гордится каждый уважающий себя польский рыцарь. Это был позор!
Однако Сигизмунд, переложив ответственность за поражение на своих польских подданных и их нежелание проливать кровь за его отчий престол, не согласился с действиями столь нелюбезного дяди Карла и не отказался от борьбы. В голове Сигизмунда зрели многообещающие кровавые планы, он был полон решимости бросить в бой новые тысячи поляков, однако его самоотверженному желанию отдать польские жизни за шведскую корону мешало неизменно жалкое состояние королевской казны. И хотя король, казалось, должен был привыкнуть к безденежью, все одно это было ударом в подбрюшье. Какие уж здесь улыбки придворных и вечная их жажда пиров и развлечений! Королю нужны были кирасы и мечи, но не пиршественные столы, порох и пушки, но не воздушные платья неуемных польских красавиц, клинки и пики, но не соколиные охоты, на которые паны выезжали тысячными толпами. У Сигизмунда стонала печень от мысли о бездумной расточительности шляхетства и пустом польском королевском кошельке, ставшем притчей во языцех европейского мира. Только безденежье сдерживало Сигизмунда от немедленных военных действий и нисколько не меньше тополиного пуха сокрушало его здоровье. На всякий случай Сигизмунд обложил варшавскую еврейскую общину новыми податями и мучительно изыскивал повод для введения еще одного общепольского налога, который бы разом наполнил королевские подвалы золотом. Но это было непросто, а посему король стоял у окна и с задумчивой скорбью оглядывал площадь перед дворцом. Он не мог понять, почему поляки не хотят умереть за его шведскую корону. Король морщился от раздражающе щекотавшего ноздри пуха. Бредущие по площади евреи в унылых лапсердаках были ему омерзительны, хотя именно варшавская община дала казне столь желанное золото. Гораздо меньше, чем было нужно, но все же золото.
С тем чтобы перебить отвратительное настроение, Сигизмунд мысленно обратился к сладостным дням воцарения на польском престоле.
О-о-о! Правда, польская корона в те дни, когда он владел престолом в Швеции, не представлялась Сигизмунду особо ценным приобретением, но, безусловно, то было лучезарное время.
Бывшие шведские соотечественники короля — люди сдержанные и неторопливые в выражении чувств — никогда не выказывали столько почтения, сколько изъявили пылкие, готовые на самые неожиданные жесты, новые польские подданные. Польша встретила Сигизмунда фейерверками, заверениями в верности и исступленными криками «виват!». Застольные буйствования и неумеренные речи должны были навести Сигизмунда на многие размышления и прежде всего подсказать — чем больше восторженности и заверений, тем меньше надежд на прочность обретенного трона, но рассуждения не были уделом Сигизмунда. Он родился человеком действия.
Король решительно отвернулся от окна.
Дворцовый маршалок, стоявший у дверей, никак не ожидал этого и в тот момент, когда король обратил на него взор, сделал достойный лучшего фехтовальщика выпад, пытаясь схватить слабыми пальцами пролетавшую пушинку. Пальцы маршалка сомкнулись в пустоте. Мгновенно поняв нелепость своего фехтовального выпада, маршалок судорожно дернулся и застыл в подобающей положению позе, громко звякнув висевшей на тощей груди цепью.
Губы короля выразили презрение. «Нет, — с очевидностью сказало лицо царствующей особы, — с такими подданными будешь вечно сидеть в дерьме». Король любил крепкие выражения.
Маршалок выждал мгновение и с заметным волнением сообщил, что королевской аудиенции ожидают папский нунций Рангони, великий канцлер литовский Лев Сапега, а также прибывшие с ними Станислав Варшидский — кастелян варшавский — и Илья Пелгржимовский, писарь Великого княжества Литовского.
Король молчал, не изменив выражения лица. Все, что могли сказать ему эти высокородные паны, он знал.
В минувшем году из Москвы в Варшаву приезжал несговорчивый думный дворянин Посольского приказа Татищев. Пронырливый и лукавый, он просидел больше месяца в Варшаве и, не жалея царских соболей, выведал — в том у короля не было сомнения — не только о заросших паутиной королевских подвалах, но и то, что предлагаемая Варшавой Москве уния — единственная возможность Сигизмунда удержаться перед силой мощного кулака, грозящего из Стокгольма.
Раздражение волной поднялось от печени, но король перемог себя.
Сигизмунд вспомнил суровые, замкнутые лица соотечественников, мрачные переходы загородного королевского дворца Кунгсер, твердый взгляд дяди Карла и сказал маршалку, не размыкая губ:
— Проси.
На этот раз Сигизмунду были предложены не только разговоры, но и листы статей предполагаемого союза с Москвой. Король подвинул бумаги и начал читать. Четыре пары глаз обратились к нему, пытаясь угадать движение мысли короля.
Самым осторожным из сидящих за столом, но притом и самым дальновидным, умеющим заглядывать дальше других за старательно обкатанные слова лежащего перед королем договора, был папский нунций Рангони. Однако его лицо было бесстрастно и выражало только спокойствие и выжидательную вежливость.
Пан Варшидский сидел за столом с видом человека, заказавшего к завтраку пулярку[23], но так еще до конца и не решившего, именно ли это блюдо ему нужно. Станиславу Варшидскому принадлежала добрая половина варшавских земель, и его доходы от домовладений приносили весьма ощутимую сумму злотых, которая позволяла пану смотреть на происходящее вокруг с превосходством и презрением, только лишь как на забавные картины. Он мог позволить себе и Сигизмунда, и его нелепые тупоносые шведские ботфорты, как и многое другое.
Лев Сапега взирал на короля с настойчивой решительностью. Во взоре его угадывалась страсть. Да оно иначе и быть не могло. Лев Сапега ближе, чем другие из сидящих за столом, видел пылающие костелы, толпы казаков, жадно опустошавших польские и литовские городки и местечки, высматривал за литовской границей, за порубежными засеками уверенных москалей, и иные чувства, кроме страстной ненависти к восточному соседу, давно выгорели в его мрачной душе.
Пан Пелгржимовский пощипывал пышные усы. Он был само польское здоровье и рассуждал так: «Что бы там ни было, но обязательно что-то будет, а вот тогда мы поглядим и не уроним шляхетской чести». Свернуть его с этой позиции не могли никакие неожиданности.
Король перевернул жесткий лист договора.
В лице папского нунция произошло движение. Нельзя сказать, чтобы изменилось то выражение спокойствия и выжидательной вежливости, которое было написано на нем с первой минуты аудиенции, — нет, но в глазах появился интерес. Нунций понял, что Сигизмунд подошел к статьям договора, которые больше прочих интересовали папского наместника. Нунцию было безразлично, кто будет на польском престоле: Сигизмунд шведский или Карл шведский, кто-то третий, четвертый или пятый. Перед ним не стояла задача сохранения польской короны обязательно на голове Сигизмунда. Он искал другое. Первые же статьи договора о любви и вечной приязни между московским и польским тронами, об их врагах и друзьях, о незаключении союзов во вред друг другу, о помощи в случае нападения третьей стороны укрепляли лишь Сигизмунда в его стремлении удержать польскую корону и, при возможности, возобновить борьбу за утраченный шведский трон. А вот то, что излагалось дальше в договоре и что, перевернув лист, начал читать король, воистину волновало папского нунция. В статьях этих говорилось, чтобы позволено было полякам и литовцам, в случае состоявшегося союза, вступать в российскую придворную, военную и земскую службы, вольно приезжать в российскую землю и отъезжать из нее, выслуживать вотчины и поместья, покупать землю, держать веру римскую, а для того государь и великий князь Борис Федорович должен был разрешить в Москве и по другим местам строить римские церкви для тех поляков и литовцев, которые у него будут в службе. Не для Сигизмунда и поляков искал Рангони Московию, но для римской католической церкви.
Король перевернул листы и с этими статьями договора.
Настала очередь напрячься Льву Сапеге. Лев был не воинствующим католиком, но честолюбцем, а король читал статьи договора, где говорилось о возвращении Польше княжеств Смоленского и Северского с крепостями, о чеканке единой монеты для государств Московского и Польского, создании двойной короны царствующих домов, что уже одно могло привести к последствиям, в которых изощренный мозг Сапеги угадывал возможности удовлетворения самых радужных и пылких надежд.
Король, по-прежнему молча, прочитал и это.
Розовое лицо пана Варшидского, как и до чтения договора, сохраняло выражение некой неопределенности. Пан Пелгржимовский, напротив, был явно доволен своим присутствием на столь значительной встрече, что само по себе льстило его чести, и он заметно свободнее пушил ус. Что же касаемо статей договора, он считал — здесь все образуется и без его участия. Впрочем, в столь разном отношении сидящих за королевским столом к такому делу, как союз между двумя державами, ничего необычного не было. Подобного рода договоры редко вырастают на почве глубокой и страстной целеустремленности и обоюдного согласия участвующих в их подготовке. Чаще это плод взаимной неприязни, размолвок, поиска личного в общем, и только ловкое сочетание противоречий может привести к единому мнению. Но и это не все. Договоры, как правило, составляются и подписываются вовсе не для того, чтобы их выполняли, и это бывает понятно и составляющим и подписывающим. Напротив, высокие бумаги часто даже предусматривают не выполнение указанного в них, но вовсе противоположные действия, кои и есть скрытая причина их написания.
Король прочел и отложил договор. Тогда же было решено отправить в Москву великое посольство. Возглавить посольство по общему согласию король поручил Льву Сапеге.
Надо сказать, что среди статей договора была и такая: «Обеим сторонам выдавать по первому требованию другой стороны беглецов, воров, разбойников, зажигателей и других преступников, против царствующих домов глаголющих».
Монах недобро глянул на Григория и, не сказав ни слова, повел низким, тесным переходом. Шел не оглядываясь. Ряса над рыжими сапогами была у монаха обита, оболтана, из-под скуфьи прядями торчали седые космы. Стены перехода были сырые, ветхие, кое-где штукатурка осыпалась, выглядывали темные узкие кирпичи старого обжига. «Чудов монастырь, — подумал Григорий, — царев, кремлевский, а вот сурово здесь». Шмыгнул носом. Боязно ему стало. В переходе пахло плесенью.
Монах шаркал подошвами, отмахивал рукой. Остановился, сказал строго:
— Жди.
Стукнул согнутым корявым пальцем в обозначившуюся в стене дверь. Глухо стукнул, не то боясь потревожить устоявшуюся монастырскую тишину, не то от слабости изможденного постом тела.
Григорий остался в переходе. Потягивало сквозняком. Далеко-далеко звонил колокол. Брень-брень… — плакала медь, жалуясь на кого-то. — Брень-брень… И от ее голоса еще неуютнее, тоскливее стало монашку. Некрасивое бледное лицо его, круглое, с грубой бородавкой ниже скулы, вовсе поскучнело. Он оглянулся, и вдруг удивительно проступили и стали вполне видны необычайно голубого цвета глаза. Совершенно неожиданные на утомленном, нечистой кожи лице, они выказали и разум, и волю, и ту удаль, которая единая делает жизнь человека необыкновенной.
Странным, поражающим светом горят детские лица. За нечеткими, незрелыми чертами светится такая жажда жизни, такое восхищение увиденным, такая всепобеждающая уверенность, что, глядя на них, нет сомнений — эти все сумеют. Но проходят годы, и лица тускнеют, стираются, меркнут. Редко кому удается пронести необычайное это свечение дорогами лет. В глазах монашка была и жажда жизни, и восхищение, и всепобеждающая уверенность, ан было что-то и еще, вопрошающее и пугающее одновременно. Но они светились. Григорий, однако, опустил веки, и глаза погасли. Отрепьев зябко повел плечами: бедная ряса, видать, плохо его грела.
Дверь отворилась. Угрюмый монах пропустил Григория в келию и шагнул в переход.
В келии было темновато, и Григорий едва разглядел в неверном свете лампады ветхое лицо сидящего на лавке у стены старца. Тот кротко взглянул на него и, поведя легкой рукой, сказал со вздохом:
— Садись.
Монашек присел на край лавки.
Лампада потрескивала, язычок пламени облизывал край зеленого стекла и чадил. И опять послышалась издалека жалоба: брень-брень… брень-брень… Только безнадежнее и глуше.
— Глеб имя мое во иночестве, — сказал старец, — иеродиакон я Чудова монастыря, хранитель книг и рукописей монастырских. Ты, сказывали мне, книжному письму навычен?
— Да, — торопливо ответил Григорий.
— Вот и хорошо. Помощником станешь.
Иеродиакон по-заячьи пожевал скорбными губами:
— Дело богоугодное.
Помолчали. И вдруг монашек, вскинув глаза, сказал торопливо и сбивчиво:
— Отец, большой боярин Александр Никитич говорил, что я не все о себе знаю. Ведома ли тебе тайна сих слов?
Впился в иеродиакона взглядом, руки прижал к груди. Сказанное на подворье Романовых глубоко запало в душу Отрепьеву, необыкновенно волнуя и требуя ответа. Иначе и быть не могло. С незаметным монахом говорил один из тех, чье имя на Руси, почитай, каждому было известно, на кого взглянуть было страшно, не то что словом обмолвиться, да и говорил непросто, но с загадкой, делясь сокровенным и, знать, известным только тем, кто на самом верху, кто жизнями и смертями людскими правит.
— А? Ведомо? Почто молчишь?
Знал: в Чудов монастырь по слову большого боярина его определили — и мысль имел, что именно здесь откроют ему не договоренное Александром Никитичем.
— Отче! — взмолился. — Скажи!
— Чур, чур, — боязливо вскинулся старец, загородился рукой, — то мирское, то не мое. — Лицо его затрепетало. — Узнаешь, скажут…
Опустил голову, прикрыл лицо клобуком и так забоялся, что узкие плечи задрожали. Глядя на эти слабые плечи, Григорий подумал с тревогой: «Что скрывают? Что?» Руку положил на горло. Старец ниже и ниже опускал лицо. Монашек потянулся к нему, коснулся края рясы.
— Поведай! — воскликнул с мольбой. — Поведай! Чую — знаешь!
Старец молчал. Но молчание и страх иеродиакона только с большей силой всколыхнули в монашке непременное желание вызнать недосказанное.
— Отец! — молил он. — Поведай!
Иеродиакон выпрямился на скамье. И вдруг неожиданно строго, будто толкая кулаком в грудь молящего на коленях монашка, сказал:
— Не мое, и не мне говорить о том. Есть люди — они скажут!
Монашек застыл с растерянным лицом.
— Другое мне поручено, — сказал иеродиакон, — и я то исполню.
Он поднялся и, крепко ступая по половицам, словно и не сидел минуту назад с трепетавшими от страха плечами, прошел через келию. Вытащил из-за божницы кованый ларец и, не глядя на монашка, вернулся к лавке. Сел — знать, сил хватило всего на эти несколько шагов — и замолчал, задумался.
Иеродиакону было о чем задуматься. Мало знал он о стоявшем перед ним на коленях монашке, об уготованной ему сильными мира судьбе, не ведал о горе, что принесет слабый этот юноша не ему только, иеродиакону Глебу, московскому люду, роду Годуновых, но всей Руси. Однако была у старца за плечами долгая жизнь, был он книгочей и, ведая о прошлом, угадывал и будущее. Прожитые лета, древние рукописи и книги говорили: злая воля завязывает судьбой юноши сего лихое дело. Примеры тому были в истории народов. Уж слишком много напутали вокруг монашка, слишком много недосказали, поручив иеродиакону небывалое. И крики боли померещились иеродиакону Глебу, кровь он увидел, и смерти. Однако, угадывая страшное за пеленой времени, он успокаивал себя. «Слаб я, — говорил он, — слаб, что я могу, червь незаметный в мире великом? Бог поможет, бог единый не выдаст, оборонит и спасет». И молил, и просил защитить его, грешного и земного, убрать с пути неправды, не дать его людской слабости послужить злу.
«Боже праведный, боже милосердный», — молил иеродиакон, а руки уже открывали стоящий на лавке ларец. Он жил среди людей, и так ему было велено. Под пальцами, перепачканными орешковыми чернилами и закапанными воском, щелкнул замочек, крышка ларца отпала. Иеродиакон взглянул на монашка. Увидел — скорбно склоненная голова, бессильно брошенные вдоль тела руки. В смятенных мыслях иеродиакона прошло: «А ведь монашек сей не тать, помышляющий о лихе, но жертва». Но чья — не сказал, да и не знал того. А что жертва — понял и пожалел. «Однако и тебе, — подумал, скорбя, — придется худо, ох, худо. Ничем не легче, а может, и тяжелее других».
Из ларца пляшущей, неверной рукой иеродиакон достал крест, да такой, что в келии посветлело. По черненому золоту рассыпались алые лалы, вспыхнули ослепительно белые алмазы, зеленым огнем полыхнули изумруды. Крест, как живое пламя, горел на ладони иеродиакона. Горячей струей сбежала с руки иеродиакона и засветилась в полумраке келии хитро кованная струящаяся цепь. Больших денег стоил крест, таких больших, что и уразуметь трудно.
Иеродиакон подержал крест на ладони и, протянув монашку, сказал:
— Надень, это твой. Наложен был на тебя при крещении.
Монах изумленно откачнулся.
— Надень, надень, — настойчиво повторил иеродиакон. — В лихое время, как сказали мне, сей крест был снят с тебя, однако сохранен, а сейчас настала пора вернуть его. Подчинись и надень.
Помертвелые губы монашка зашептали неразборчивое.
Иеродиакон придвинулся ближе.
— Надень, — сказал в третий раз, — так надо.
Протянул руку и сам распахнул ворот рясы у монашка. Открылась бледная шея Григория и на ней серый гайтан[24] с оловянным стертым крестиком. Царапая ногтями по коже, иеродиакон с трудом поймал непослушными пальцами шнурок, снял его с монашка и, наклонившись так, что лица их почти касались, надел золотую цепь на шею Отрепьеву. Крест скользнул за ворот рясы. Иеродиакон в изнеможении откинулся на скамье, прижался затылком к холодной стене, не чувствуя холода и жесткости.
Монах стыл на коленях, как неживой.
Умельцы, что плели в Чудовом монастыре удавку для царя Бориса, были не одиноки. И другие мастера нашлись тайного этого промысла. И мастера хваткие: нити скручивали крепко, ссучивали надежно да еще и узелки для верности затягивали. В Москве что? В Москве опасно. Кабак — так в углу ярыжка сидит и из-под руки смотрит злой мышью; перекресток — царев стрелец и тоже доглядывает. Брякнешь неосторожное слово, и тут же — хап тебя — и к цареву дядьке Семену Никитичу под руку. А рука у него тяжелая, засовы в застенках кованые, а люди как псы цепные. Один Лаврентий — лицо доверенное — человека выжимал, как спелую клюкву, и, как из клюквы, из того красное капало, да только не сок для кислого питья, но кровушка. Нет, в Москве всегда баловать было трудно. Здесь знали: без доброго кучера понесет тележку так, что и колес не соберешь. Вожжи придерживали. Под иным небом сыскались лихие людишки, и головой им стал Богдан Бельский — воевода Царева-Борисова.
У Богдана от всегдашнего напряжения, от сосущей тоски глаза завалились, подплыли черным. Понимал: ходит вокруг огня. Но по-иному не мог. В голове стучало, как с тяжелого похмелья. Ему и раз, и другой ставили на зашеину пиявки да и так, отворяя жилу, кровь сбрасывали, но шум в ушах не проходил. Знать, сердце напряглось чрезмерно. Какие пиявки? Богдан хлопотал об одном — людей, людей побольше сколотить, сбить, связать единым словом, подчинить своей воле. Дальше не заглядывал. Гадать не хотел. Говорил так: «Там будет видно». Голос у воеводы хрипел от сдерживаемой гневной дрожи. Богдан был как натянутая тетива лука. Даже свои, ближние, его побаивались. Воевода темно взглядывал на людей, и неясно было, как он поступит в следующее мгновение — по головке погладит или шашку выхватит и смахнет ту же голову. Но это видели только ближние. Для иных Богдан глядел самой лаской. Ходил мягко, говорил негромко, в глаза заглядывал и по плечам гладил.
— Ничего, ребятушки, — ободрял, — здесь не Москва, здесь воля.
Но поворачивался спиной к тому, кого только что обнимал, и лицо вновь темнело.
В Цареве-Борисове, не затихая, шумели пыльные степные шляхи, тянулись бесконечные обозы чумаков, из степи ватагами наезжали казаки, не закрывались двери погребов, шинков и кабаков на перекрестках дорог. Здесь спускали свои или чужие денежки, и никто не спрашивал ни казака, ни стрельца, чей жупан, серебряные кованые подсвечники, свитку или шубу выбрасывает он на стойку, требуя вина, вяленых лещей или кусками жаренную баранину, что готовили на больших сковородах невесть откуда явившиеся, голые по пояс, облитые потом татары. Винный дух перемежался с острыми запахами подгорелого мяса, чеснока, терпких степных трав. Да стрельцы на степном ветру хмелели и без вина и славили воеводу. Богдану эти разговоры передавали, а он на них отвечал одно: «Пускай гуляют».
Шальная круговерть, вовсе не похожая на российскую строгую жизнь, закручивала людей, как в половодье бешеное течение мутную бросовую воду. И полыхали над степью, над ковылями, так что больно было глазам, невиданно яркие закаты, горели опасными красками, будя в душах не то страх, не то отчаянный восторг перед чем-то несбыточно прекрасным. Такого неба, размаха, шири русские мужики не знали. Глаза наливались надеждой.
В эти хмельные денечки через наезжавших в Царев-Борисов казаков верные Богдану люди связались со степными атаманами. В кабаке, глядя в лица загулявших казаков, стрелецкий сотник Смирнов — человек с острыми, злыми глазами и сгнившими на царевой службе черными пеньками зубов — сказал:
— А что, казачки, плохо ли вас принимают в нашей крепости?
Казаки зашумели:
— Добре, добре, слава воеводе Богдану!
Смирнов, с лицом, раздобревшим от вина, другое спросил:
— А принимали ли вас, казачки, так же в иных царевых городах?
И на это казаки ответили:
— Добре, добре принимаете, а из иных крепостиц и царевых городков нас выбивали вон. — И засмеялись.
Смирнов бесшабашно рукой взмахнул и ведро вина на стол выставил да блюдо жареной гусятины попросил. И после доброй кружки, ломая жирную гусячью ножку, сказал:
— Воевода наш хочет с вашими атаманами поговорить.
За столом замолчали. Смирнов увидел: казаки насторожились. Битый был народец казаки, любого подвоха от царевых людей ждал.
Сопя, один из казаков потянулся за гусятиной, выворотил птичий бок, хрустя, впился зубами в сладкое мясо. Смирнов, разгорячась, еще ведро вина попросил и колбас. Славные были колбасы в Цареве-Борисове, прокопченные, запашистые от чеснока, жирные. Под такую колбасу и язык сжуешь. Да и широко угощал стрелецкий сотник: кабатчик блюдо нес, а из-за груды колбас лица не было видно. Брякнул блюдо на стол, сказал:
— Гуляйте, гости хорошие, гуляйте!
Хохотнул бесовски, как умели только шинкари на вольных землях. Подмывающее веселье было в его голосе и забубённая удаль: кто, как не шинкарь, знал, что сегодня гуляет здесь человек, радуясь людским лицам, вину и сытому желудку, а завтра нет его — срубили, а шинок или городок только дымом возьмется в пламени всепожирающего пожара — татарского ли, литовского, польского или иного какого набега. Неустоявшаяся жизнь была на окраинах Руси, густо тянуло по степям и перелескам горьким дымом погорелых городков, и пахарь, налегая на плуг, тревожно оглядывал окоем — не показались ли из-за холмов лихие люди. На покос ли, на пахоту, на уборку хлеба без шашки мужик не выходил. Брался за чапыги плуга, а сам поглядывал в борозду, где лежала боевая справа. Да иначе и нельзя было. Так что с легким сердцем говорил шинкарь:
— Гуляйте, гуляйте, соколы!
Сотник, расплескивая вино, поднял кружку.
— Ну, казачки, — крикнул, — вольные люди, слава!
Но вино выпили, колбасы съели, а за столом никто слова об атаманах не сказал. Да и сотник Смирнов в другой раз поопасался напомнить.
Пьяный казак, упершись грудью в заваленный обгрызенными мослами стол, взглянул на сотника мутными глазами, но, видимо, на то у него только и сил достало, так как тут же увенчанная чуприной голова его упала в винную лужу.
Вечером, однако, когда сотник, пыля сапогами по мягкой улице и тревожа бесчисленных собак за кривыми плетнями, шел из кабака, крепкая рука придержала его за плечо. Хмель разом слетел со стрельца. Смирнов дернулся, нашаривая у пояса нож.
— Погодь, сотник, — раздался за плечом спокойный голос, — не гоношись!
Сотник опасливо оборотился. Перед ним стоял казак, который в кабаке казался самым пьяным. В казачьем ухе блеснула в лунном свете серьга.
— Скажи, сотник, — начал казак, — ты спьяну в кабаке о воеводе языком трепал или впрямь у него дело к атаманам есть?
Смирнов ворохнулся под рукой, но казак, так и не отпуская его, увлек в тень, под деревья.
— Что молчишь? — спросил, вглядываясь в лицо. — Разговор-то, ежели не шутейный, может и состояться. Только вот в голову не возьму, о чем цареву воеводе с вольными казаками гутарить? — И опять блеснула серьга, как острие ножа.
Смирнов сглотнул слюну, прочистил горло. Больно неожиданно насел на него казак, больно хватко взялся. Оторопь, однако, прошла, и он, без робости сбросив с плеча казачью руку, сказал:
— О чем разговор — то воевода знает. Мне велено о встрече договориться. — Подступил к казаку: — Да условиться, чтобы разговор был тайным.
Казак, наклонившийся было к сотнику, медленно выпрямился, помолчал, приглядываясь прищуренным глазом, и, крутнувшись на подкованных каблуках, повернулся и зашагал прочь. Однако на следующий день к сотнику, так же вдруг, подошел другой казак и заговорил о встрече впрямую. А еще через два дня, ночью, по тихим улицам спящего Царева-Борисова простучали копыта коней. У дома, где жил воевода, кони остановились. Злой жеребец взвизгнул в ночи, но тут же примолк.
— Цыц, чертяка, — глуша голос, сказал кто-то и, видать, придавил жеребца шпорой.
Из темневших ворот навстречу всадникам шагнули несколько человек. Луна высветила бледное лицо стрелецкого сотника Смирнова. Он поднял руку и взял за узду жеребца.
— Не узнаю, — сказал, подаваясь вперед, — темно…
— Здорово, сотник, — со смешком ответил давеча условившийся о встрече казак. — Отчиняй ворота.
Воевода Богдан Бельский ждал гостей, сидя за столом при свече. Слышал, как подскакали кони, слышал и голоса во дворе, однако не встал и навстречу не вышел. Испугался: а что, ежели это Борисовы люди и разговор предстоящий лишь испытание ему? Подумал: «Борис далеко заглядывает, и от него такое вполне можно ждать». Ну а ежели бы такое сталось — что дальше, догадаться было нетрудно. И от тревожной мысли зазнобило Богдана. Лежащие на столе руки стянулись в кулаки, да так, что суставы хрустнули. И не то холод, не то судорога прокатилась по спине. Воевода уперся каблуками в пол, вдавил локти в столешню. Эх, не хотел сплоховать! Да оно редко, когда люди по доброй воле в петлю лезут. Иной сам удавку на шею накинет, но неизвестно, что его за хвост прищемило. Думать надо, что в случае таком человек себя избыл, по-иному и мыслить трудно. А. Бельский на мир смотрел жадно. Ему жить хотелось. Глаза воеводы налились тоской.
Дверь стукнула, и в палату вступил сотник Смирнов, а следом за ним шагнул через порог широкий, во весь дверной проем, человек в коротком казачьем чекмене и высокой бараньей шапке.
— Здоров бывай, воевода, — сказал низким голосом казак, снял шапку, и, когда поднял лицо, на бритый лоб упала наискось хохлацкая чуприна.
Казак вступил в круг огня, и воевода отчетливо разглядел его лицо. Бельский знал, кого он ждет из степи. Но то, как вошел в палаты, заслонив дверные косяки, ночной гость, как широко взмахнул рукой, снимая косматую шапку, как резанул взглядом, да и весь напахнувший от него дух острого лошадиного пота, дыма костра и других диких запахов недобро поразили Богдана. И он — родовой московский дворянин, в ком с младых ногтей воспитывали неприязнь к степной вольнице, — непроизвольно подумал: «Тать, волк степной, тебя бы на Москве кату[25] изломать, на колесе изрубить». Но оборвал себя: «Что это я, о чем?» И заговорил ласково.
Многому учили боярского сына Богдана, учили разговоры вести и с друзьями, и с врагами, и в царских палатах, и на городских площадях перед подлым народом. И он помнил выученное. Ан разговора, какого он хотел, с казачьим атаманом не вышло. Шибко запетлял воевода. Перемудрил, недостало в нем крепости. Разговор гнулся, как лозина на ветру. Казак щурился, вскидывал чуприну и все приглядывался к воеводе, силился уразуметь, чего хочет царев человек, но не понял. Богдан говорил, что хорошо бы сталось, ежели казаки были бы опорой Цареву-Борисову; говорил и то, что стрельцы им единоверные братья, а он, воевода, рад их в крепости видеть и, чем сможет, тем казачкам поможет. Но все как-то вкривь и вкось получалось у него. Слова прямого не было сказано. Но больше вертких слов насторожило атамана лицо воеводы. Вот и улыбался Богдан казаку, но улыбка, чувствовал степной человек, была не знаком привета, но ловчей петлей, которую хотел накинуть воевода на гостя. А он, казак, охотником был и знал, добре знал, как самого сторожкого зверя в степи ловят, и сам ловил.
— Ну как, — спросил воевода, — быть между нами согласию?
— Добре, — ответил атаман, — добре. — Но глаз на Богдана не поднял.
На том разговор закончили. Поопасался Богдан тайное сказать. И когда казак пошел из палаты, хотел было воевода остановить его да и заговорить не скрытничая, но опять что-то тревожное удержало. Казак взялся крепкой рукой за притолоку и, повернувшись вполоборота к воеводе, посмотрел на него долгим взглядом. Уверенного слова ждал, а воевода молчал. Губы засмякли у Бельского. На лице казака родилась и истаяла странная улыбка. Он снял руку с притолоки и вышел.
Сотник Смирнов, провожая казаков, услышал, как один из них спросил:
— Ну как, батько?
— Хм, — сказали в ответ, — вот гутарят: «Церковь близко, да ходить склизко».
Третий засмеялся:
— Но и так бают: «А кабак далеко́нько, да хожу потихоньку».
И вся ватага загоготала, а кто-то матерно выругался. Кони взяли в намет, и разговор утонул в топоте копыт.
Однако с тех пор казаки стали наезжать в крепость вовсе вольно и воевода распорядился выдавать им хлебный и боевой припас. Царев-Борисов подлинно стал вольным казачьим городком. Не тут, так там, и утром, и ввечеру можно было увидеть в крепости казаков, сидящих за кувшином вина, услышать их песни, посмотреть на их лихую пляску, когда хмельной казак, а то два, три разом садили каблуками в спекшуюся под солнцем землю или с гиком и свистом пускались вприсядку, вздымая пыль до самого неба. Тут же рядом десяток и более других в широченных шароварах, сшитых не то из ксендзовских ряс, не то из турецких шалей, бились на кулачки, да так, что кровавая юшка брызгала.
И тут случилось то, чего воевода Бельский не ждал. Как-то поутру к нему пришел немецкий мушкетер Иоганн Толлер, постоял, поджав узкие губы, и сказал, что он отъезжает в Москву, так как срок его службы в Цареве-Борисове, оговоренный ранее, окончился. И тогда же Толлер, твердо глядя в глаза воеводе, добавил:
— Долгом считаю на Москве сообщить, что царева крепость стала воровским казачьим притоном, и я, Иоганн Толлер, о том молчать не могу.
У Бельского кровь ударила в голову, на висках вспухли узлы жил. Иоганн смотрел такими честными, неподкупными немецкими глазами, что было ясно: остановить его нельзя. Бельский понял: он бессилен перед этим взглядом. Иоганн Толлер повернулся и вышел, высоко держа голову.
Глаза Иоганна решили его судьбу.
На слово, сказанное воеводой, стрелецкий сотник Смирнов показал черные пеньки зубов и нырнул в дверь. Воевода оперся локтем о стол и долго-долго растирал дрожащими пальцами набежавшие на лоб морщины. И вдруг в растворенное окно пахнуло кизячным, горьким дымом, степной сладкой пылью, острым полынным духом — чужими для Бельского, раздражающими запахами, и тут же кобель во дворе взлаял. Да странно так, хрипло, со стоном. Завыл, зловеще поднимая высокий дрожащий звук. И запахи эти, и кобелиный вой, как острая игла, как зубная боль, пронзили Богдана. Пальцы сорвались со лба Бельского, и он грохнул кулаком по столу:
— Эй, кто там?
В комнату заполошно вскочил стрелец.
— Уйми кобеля! — крикнул воевода. — Глотку заткни!
Стрелец ошарашенно выскочил в дверь. А Богдан уже обмяк, обессиленно, вялым мешком навалился на стол и понял, что не о кобеле он хотел крикнуть и не вой собачий был причиной поразившей его боли. Однако стрельца в другой раз не позвал и сотника Смирнова не вернул.
В тот же день, после полудня, Иоганн Толлер выехал из крепости. У него был хороший конь, и он вполне надеялся на него. Конь шел доброй рысью, ветер мягко обдувал лицо, горизонт был чист, и ничто не предвещало ненастья, не напоминало Иоганну Толлеру о злом ветре, занесшем его служить на чужбину из милой сердцу Баварии, где такие аккуратные домики, ровные улицы в селениях и где так славно поют девушки. Да, никогда не уехал бы он от полноводного Дуная, будь подзолистые земли за ним чуть плодороднее и щедрее.
Солнце спускалось к горизонту, когда Иоганн услышал за собой топот коней. Он оглянулся и бестревожно увидел на шляхе всадников. А то поспешала его смерть.
Так пролилась первая кровь в этом страшном деле.
Когда Иоганн Толлер умирал на безвестном степном шляхе, царь Борис принимал в Грановитой палате Кремля его соотечественников. Для гостей были накрыты столы, и царь и царевич Федор потчевали их с невиданной иноземцами щедростью. Некоторое время назад Борис повелел собрать по российским городам и свезти в Москву немцев и литвинов. То были пленные, взятые еще при царе Иване Васильевиче: рыцари, купцы, горожане — мастера разных ремесел — из Нарвы, Пярну, Даугавпилса и других городков и крепостей. Царь Борис счел нужным забрать их в Москву.
Из Суздаля, Ростова Великого, Вологды, Пустозерска, где содержались они за караулом, потянулись в Москву обозы. Впереди, на телеге, пристав, укутавшийся в добрую шубу, за ним в рванье, на соломе, немчин или литвин с бабами и ребятишками. В плену по-разному жили, но больше худо. Да оно и понятно: на чужой стороне и сокола вороном назовут и на куриный насест посадят. У баб немецких лица были исплаканы, мужики морщили бритые губы. На одной из телег пугалом торчал пастор в черном. Его, видать, знобило на свежем ветру. Лицо было без кровинки. И это было понятно: намыкались чужестранные, и куда везут, зачем — не знали. На новую муку? На страдания? Доброго не ждали. Пастор сжимал застывшей рукой нерусский крест на груди. Обозы едва тащились по желтой от конской мочи и навоза дороге. Орало заполошное воронье, и неприветно было в душах пленников.
— Эй, эй! Пошел! — надсаживались голоса, погоняя в гору лошадей. Дорога была по-весеннему трудной.
Мужик с головной запряжки мазнул голицей под носом, уперся плечом в задок телеги, крикнул, как простонал:
— Еще! Ну, еще!
Влегая в хомут, как в петлю, сивая лошаденка, разбрызгивая грязь, поскользнулась, но, удержавшись, рванула с отчаянием, перевалила взгорок. Не езда была, а беда.
В Москве нежданно немцам и литвинам дали хорошие дворы и ссудили из казны на прокорм и на обзаведение по хозяйству. Деньги отвалили щедро. А ныне, к еще большему удивлению, царь и царевич пригласили всех на пир в Грановитую палату. Вот как повернулась судьба чужестранных. По присказке пришлось: «И так бывает, что кошка собаку съедает».
Пастор Губер сидел за столом, покрытым скатертью снежной белизны, с золотой дорогой прошвой, вертел в пальцах тончайший, невесомый, как воздух, бокал, и в радужных переливах стекла венецийского литья перед ним вставала наполненная едким дымом курная изба, безнадежно уходящая вдаль дорога, низкое небо, придавившее землю, и чужой, но до боли скорбный крест у околицы неведомой деревни. Пастор, будто отводя сон, тряхнул головой и, чуть не выронив из задрожавших пальцев бокал, поставил его на стол. Хрупкая ножка тонко звякнула. Губер поднял глаза.
По стенам Грановитой палаты сложным узором вились травы, выписанные необычайно яркими для европейского глаза красками. И зелень, и желтая охра, и пронзительной голубизны крап по темно-красному полю. Краски смешивались, рябили, но от стенописи невозможно было отвести взор — так искусно, изысканно, с непередаваемо глубокой страстью выполнила ее мастерская кисть.
Губер прищурился, вглядываясь в стенную роспись. И чем больше смотрел, тем больше краски притягивали его взор. На минуту-другую вдруг смолкли для него голоса гостей, звон посуды, забыл он о неведомом угощении да и о самом царе и только видел колышущиеся травы, ярко горящие цветы, солнечные пятна и себя — мальчонкой — на сказочном лугу. У пастора поднялись плечи. Рисованные на стенах Грановитой палаты неведомым Губеру мастером травы, казалось, гнулись под ветром, никли, переплетались, но все же гибко и мощно, преодолевая враждебные силы, придавливающие их, вздымались кверху, и не было сомнения, что они найдут путь к солнцу. У пастора смягчились горькие морщины на лице, обмякли строгие губы. Он неожиданно подумал, что для понимания огромной, распростершейся от невиданной до невиданной дали страны этот рисунок дает больше, чем курная изба с едким дымом и волоковым, в ладонь, оконцем, свирепые лица царевых приставов и жалкие крестьянские нивы. В настенных росписях Грановитой палаты была мечта, а ученый пастор Губер знал, что мечта — игра и движение мысли — неразменная ценность, определяющая будущее. И ежели до того не смел, то сейчас поднял взор на сидящего во главе стола царя. Гневен был за нанесенные страдания и обиды и взглядом опасался выдать гнев. А сей миг душой окреп, словно роспись стенная, войдя в него, властно напомнила о тщете и мелочности обид перед лицом вечного. «Боже, — сказал себе Губер, — прости за гордыню мою и не покарай за осуждение».
Борис оглядывал гостей. Осторожно, с тем чтобы не испугать, не насторожить ненароком, скользил взглядом по лицам. Поистине то был необычайный день для ума и чувств пастора Губера. Ежели в стенной росписи Грановитой палаты он прочел мечту, столь поразившую его, то в царевых глазах увидел явное желание приветить, обласкать сидящих за столом. Перед ним был самодержец раскинувшейся на половину мира страны, повелитель неперечислимых народов, и вдруг такая кротость во взоре? Это было удивительнее, чем стенная роспись. Губер выпрямился на стуле и в другой раз обратился к богу.
Из-за плеча пастора к столу придвинулся кравчий, длинным и острым ножом быстро и ловко рассек огромную рыбину на куски и, так же ловко подхватив один из них, выложил на большую серебряную тарелку, стоящую перед Губером. Чья-то рука придвинула наполненный доверху кубок. Голоса за столом понемногу оживлялись. А уже внесли другую перемену кушаний, затем еще одну и еще. Стол украсили жареные лебеди в перьях, да еще и так птицы были уложены на блюда, что казалось, взмахни рукой — и стая вспорхнет со стола, вылетит в широкие окна.
Губер, почти не замечая угощений, смотрел и смотрел на царя. Лицо Бориса было радушно, глаза приветливо светились, но пастор угадал тщательно скрываемую за улыбкой глубокую горечь, причину которой разгадать не мог. Борис нет-нет да и опускал глаза, и тень набегала на его лицо, лоб прорезали морщины, но он, вероятно, усилием воли не позволял себе поддаться угнетающим мыслям и вновь взглядывал на гостей просветлевшим взором. Переведя глаза на стенную роспись, пастор подумал, что между царем и украшавшим стены Грановитой палаты письмом необычной кисти есть общее. И в облике царя Бориса, и в стенописи увиделась ему скрытая сила, страстность, непременное стремление выстоять, выдюжить под угнетающим ветром.
Царю поднесли серебряную лохань для омовения рук, подали полотенце. Голоса гостей смолкли. Борис оперся перстами, унизанными тяжелыми кольцами, о край стола и заговорил ровным, глуховатым голосом. Толмач заторопился с переводом. Но пастор за годы в плену и сам понимал по-русски.
Царь сказал, что, собрав по российским городам немцев и литвинов, просит их без принуждения поселиться на Москве, а ежели кто из них захочет служить в России, то повелит устроить и вознаградить годовым жалованьем.
Гости слушали затаив дыхание. И молча, с застывшими лицами слушали царя бояре, сидящие во главе стола. Пастор не знал их в лица, но ведомо было ему, что это верхние, самые ближние к трону. Единственный, кто был ему знаком, — думный дьяк, печатник Василий Щелкалов. Он сидел по правую руку от царя, пастор невольно задержал на нем взгляд. Плотно сомкнутые губы дьяка были вытянуты в белую нитку. Глядя на Щелкалова, пастор понял, что слова царя, жадно ловимые гостями, не доходят до дьяка. Он не слышит их, да и больше того — не хочет слышать.
Царь замолчал на мгновение, и пастор увидел, что гости переглянулись, будто спрашивая друг у друга: «Да правда ли все, что мы слышим? Не сон ли то или наваждение какое?»
Царь заговорил вновь, и голос его набрал большую силу и уверенность. Он сказал, что для поддержания российской торговли готов выдать тем из иноземцев, кто захочет послужить благу ее, по тысяче и по две рублей, а лучшим из них пожалует звание гостей. Борис подался вперед, и глаза его, вглядываясь в лица, искали ответа.
Но сколь ни странны были эти слова царя, а еще не все он сказал. Стенам Грановитой палаты, слышавшим за годы и годы возвышенные и подлые заверения, страшные клятвы, изъяснения восторгов и по-змеиному шипящие слова измен, суждено было на этот раз услышать то, что никогда не звучало под ее сводами. Как давно обдуманное и решенное, царь сказал, что намерен послать в германскую сторону доверенных людей, дабы они, приискав там профессоров и докторов, привезли их в Москву для обучения молодых россиян.
— Университет в Москве хочу видеть, — сказал он, — и алчущих знаний юношей. Мыслю лучших из лучших молодых людей послать и в Лондон, и в Любек, и во французскую столицу, дабы они переняли добрые знания, а возвратясь на родную землю, обогатили ее своими приобретениями.
Сказав это, Борис опустил глаза на лежащие на столе руки. На лице его явилось выражение, будто он хотел убедиться, хватит ли в них сил свершить сказанное.
Все молчали.
Пастор Губер, еще не готовый охватить умом глубину сказанного, все же подумал: «Сие невиданное и великое дело — просветить душу несметного народа». Царь Борис смотрел и смотрел на свои руки. И вдруг, словно решив, что достанет сил в них на этот подвиг, поднял голову и, неожиданно встретившись со взглядом пастора Губера, прочел в нем одобрение и готовность к помощи. Ни царь, ни чужестранный пастор не знали, что застолье это и взгляд, которым они обменялись, вспомнятся им через годы во время жестокое, которое не пощадит обоих.
Арсений Дятел стоял в карауле у Грановитой палаты и видел иноземных царевых гостей. Приметил стрелец как неуверенно всходили они по ступеням крыльца и несмело переступали через порог. Углядел и то, как привычно, без забот, властно поднимались на крыльцо свои: князь Федор Иванович, подкативший в развалистой карете шестериком, боярин Федор Никитич, что и головы в сторону стрельцов не повернул, Шуйские, быстрый на ногу царев дядька Семен Никитич, а за ним и другие — князь Федор Хворостин, бояре Михайла Катырев, Петр Буйносов. Боярин Петр задержался на крыльце, шелковый платочек достал и обмахнул бестревожное лицо. По всему было видно: не торопится боярин, да и к чему такому торопиться? Но то было понятно: куда чужеродным с этими столпами равняться! Другое озадачило стрельца. Как по-разному сходились гости, так по-разному и расходились. Только вот вроде бы местами они поменялись. Чужестранных в Грановитой палате, казалось, подменили. Люди те же были: и ростом, и платьем, и бритыми губами являли тот же нерусский вид, — но выступали они теперь по-иному. И прежде всего в лицах была перемена. Когда всходили на крыльцо, глаз, спрятанных под надвинутыми шляпами, насупленными бровями, вроде и не было видно, но, когда выходили, глаза расцвели живым блеском. Задор в лицах появился, интерес обозначился, движения стали размашистее и вольнее.
— Ты глянь, Арсений, — сказал стоявший вместе с Дятлом в карауле молодой стрелец Дубок, — их, видать, царь живой водой потчевал. — Оскалил зубы в улыбке. — Глянь, глянь! А?
Но то, что Дубок углядел, Арсений наперед приметил и сей миг, насторожившись, к своим присматривался.
Матерый боярин Федор Никитич на крыльцо выпер медведем, да только не тем, что колоду с медом у мужика уволок, но тем, что за колодой полез, а его на пасеке в узы взяли — он и взъярился. Упал в карету Федор Никитич и так на холопа зыкнул, что тот голову пригнул, а кони на ноги сели. Горяч, ох, горяч был боярин Федор! Ежели что не по нему — так он и голову срубить мог. Романовы отроду такими были. Да ведь в жизни оно и хотел бы, да всем головы не собьешь. Романовы много от горячности своей теряли. И в этот раз царев дядька Семен Никитич, глядя, как боярин Федор в карету садился, кхекнул в бороду.
И немало в этом звуке было. Немало…
Верный подручный царева дядьки Лаврентий, покашливание то услышав, так поглядел вслед боярской карете, что молодой Дубок головой покрутил:
— Ну, ну…
И боярин Федор Иванович без радости вышел из Грановитой палаты. Перешагнул через порог, постоял раздумчиво и пошел, с осторожностью сходя со ступеньки на ступеньку. Только Шуйские — и особенно старший из них, Василий, — сияя, как маковы цветы, выкатились на старые, истертые плиты. Боярин Василий — крепкий, сбитый, ядреный — даже Арсению Дятлу подмигнул от избытка радости или по какой иной причине. Щекой дернул, глаз прищурил и пошел вольно, красуясь. Да о боярине Василии по Москве присказка ходила: «С его совестью жить хорошо, да умирать плохо». И что у него на уме — лишь черт знал. Увидев разъезд, Арсений смекнул: «Видать, у царя не все ладно и опять разговоры по Москве пойдут». Сдвинул шапку на лоб.
А Москва и без того шумела. Круто, как норовистого коня, брал жизнь под уздцы Борис.
В один из дней Москва пораженно ахнула. На Болоте, где вершились казни, на грубо и поспешно сколоченный помост вывели известного дьяка Поместного приказа Ивана Широкова.
Поднимался он на помост шатаясь. Ворот наброшенного кафтана был разорван, губы разбиты. На помосте дьяка ждал кат в красной рубахе. Руки у ката были заложены за спину, однако те, кто поглазастее, увидели: кулачищи играли пальцами. Кат, видать, знал, что без дела не останется, и себя заранее злобил. Оно и в катовом деле душой загореться надо. Народ, оттаптывая друг другу ноги и наваливаясь на плечи передних, придвинувшись, притих.
За дьяком поднялся на помост известный же всем подручный царева дядьки Лаврентий и, обведя площадь беспечальными голубыми глазами, не торопясь, развернул бумагу, закричал в толпу звонким, хорошим голосом.
Из государевой бумаги народ узнал, что царь отныне будет строго наказывать мздоимцев, без пощады, хотя бы и высокого рода, звания и чина те были. Повелено было бить мздоимцев кнутом, налагать на них великий денежный штраф, принятую взятку вешать им на шею и позора для выставлять их на общее обозрение. Более того — возить мздоимцев по городам в худых телегах или прогонять по деревням, дабы каждый видел, сколь велик царский гнев к мздоимству, и извлекал из того урок.
— Взятки, поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, хабары, магарычи зорили и зорят государство наше хуже пожара! — прокричал Лаврентий. — И несть им числа!
Люди, раскрыв рты, стояли не дыша. Такое на Руси было неслыханно.
Лаврентий свернул бумагу. На площади стало так тихо, что и в задних рядах услышали, как хрустнула она в его пальцах. Лаврентий оборотился к дьяку Широкову и сказал уже без усилия — каждое слово ловили с лету:
— А сей дьяк во взятке уличен, и дело доказано. — Взмахнул рукой. — Поступить с ним должно, как царевым словом определено. Бить кнутом, возложить в мешке на шею взятые им деньги и меха, выставить для позора на Болоте и возить по городу. — Повернулся к народу, и опять люди увидели его глаза. Смотрели они не моргая.
Дьяк на расставленных ногах торчал на помосте как обмерший. Глаза его — снулые, слепые — свидетельствовали, что он уже и не понимает ничего и скорее это бесчувственный чурбан, нежели человек.
Какая-то баба в толпе заголосила по-дурному:
— Мила-а-й! Беда-а какая-а-а! — Забила руками, как крыльями.
На нее зашикали. Баба смолкла, поперхнулась. Удивить Москву казнью было трудно. Москва многое видела. Кровь лить в белокаменной умели, и народ ко всякому привык, но чтобы за взятку кату в руки?.. Под кнут? Нет… Такого не знали. Взятка госпожой была, и недаром говорили, что она и камни дробит. А вот те на!
К дьяку подступили молодцы, взяли за руки и начали срывать одежду, но кат, стоявший до того неподвижно, выступил вперед и легко отстранил их. Толпа придвинулась ближе. Кат поднял руку и, одним движением ухватив кафтан у ворота, сдернул до пояса, обнажив рыхлое, сытое, в рыжем пуху тело дьяка. Тот легко ахнул и отшатнулся. Но кат, подступив к дьяку, уже не оставлял начатого дела. Он крутнул Широкова на пятках, притиснул к свежеобструганному столбу. Молодцы подхватили висевшие плетьми руки дьяка и, окрутив бечевой, накрепко приторочили к столбу. Кат, отступив к краю помоста, снял с пояса кнут. И тут притянутый к столбу дьяк оборотил лицо к народу. Все взоры устремились к нему, и вроде бы не стало ни помоста, ни стоящих на нем молодцов, ни ката с кнутом, но виделось одно это лицо. Нет, не бесчувственный чурбан подняли на помост для казни, но человека. Лицо дьяка было сама боль, страдание, крик безмолвный. От глаза Широкова, подплывшего синим, поползла на обвисшую сумкой щеку слеза. Слеза — вода, да иная вода, что кровь. Дьяк плакал кровью.
Стоявший у самого помоста высокий, в добром платье старик, видать, такой же приказной, как и Широков, трепещущими, неверными пальцами взял себя за горло. Сосед перекрестился, губы зашептали: «Господи, неисповедимы пути твои…» Третий угнул голову. На лицах было одно: «Что деется? Да как без взятки, без посула? Столпы шатает царь-то… Твердь прогибается…»
Лицо дьяка Широкова было мокро, а глаза все жаловались и молили. Но кат на лицо дьяка не смотрел. Он видел только рыхлую спину с глубоким желобком меж лопаток, что сладкой жизнью был проложен, куском жирным, питьем хмельным. Глаза дьяка вопрошали с ужасом: «Почему я здесь, только я, почему не другие?» В толпе крикнули:
— Бей приказную крысу!
Падая вперед, кат ударил.
Арсений Дятел в тот день был на Болоте и слышал, как зашептали, забормотали:
— Как же без подарка?
— Оно и служба станет…
— Приказы позападут…
— Дела вершиться не будут…
— Нет…
И люди изумленно разводили руками, взглядывали с растерянностью друг на друга, волнуясь и не понимая. И другое говорили:
— Племя приказное, крапивное царю того не простит. Чиноначальники восстанут. Ох восстанут…
И неясно было и стрельцу, чем все это кончится. Смутно становилось на душе, нехорошо.
Ободранного кнутом дьяка сняли с помоста, бросили в телегу на солому и повезли меж раздавшихся людей. Слаб оказался дьяк на расправу. Мужичья спина — костистая, желвастая — много больше ударов держала, а этот от пяти кнутов развалился. Голова Широкова падала, тряслась, на губах вскипали розовые пузыри, руки хватались за грядушку телеги и не могли удержаться, срывались.
Народ раздавался перед телегой. Многие крестились. Одни плевали вслед битому, другие кланялись.
Малое время спустя по царевой воле иное объявили. И то уж не на Болоте прокричали, но с вновь возведенного Лобного места на Пожаре.
Дьяк, читавший царев указ, ронял слова с напором, будто в большой колокол бил, и с каждым словом на высоком лбу приказного взлетали косо и падали вновь на глаза матерые, густые, с сединой брови. Было видно: этот дитячьими игрушками бросил баловаться и давно навычен гвоздить в макушку, в самое темечко. Мимо руку не пронесет.
День был ветреный. Над Москвой, над кремлевскими башнями, над крестами Василия Блаженного стремительно неслись рваные облака, и солнце то проглядывало в разрывы, то скрывалось. Свет и тени бежали по Пожару, по людским лицам, то ярко высвечивая их, то притеняя, и так это было, как ежели бы в разных местах площади вспыхивал солнечный и радостный день или вдруг сгущались сумерки.
Дьяк читал, вколачивая в толпу слово за словом:
— «Впали мы в пьянство великое, в блуд, в лихвы, в неправды, во всякие злые дела…»
Старуха, коротким пеньком торчавшая у самого Лобного места и непонятно как не вбитая громадой людей в грязь по малому своему росту, щепотью, морщеной и ломаной, как куриная лапка крестила мелко-мелко серый пятак лица, шептала:
— Истинно, истинно… Господи, истинно…
Трясла заплатами измызганной шубейки. Сложенные в троеперстие пальцы слепо, неверно тыкались в изъеденный годами лоб, в рвань платка на груди. В глазах тускло светила дрожащая слезная муть.
Облако заслонило высветивший старуху луч, и лицо ее ушло в тень. Ан тут же на другом краю площади солнечное пятно выделило из толпы лицо мужика в грешневике, лежавшем на голове охлюпкой. Лицо было необыкновенно широко, пухло, отечно, там и тут обозначаясь желтыми пятнами и отметинами, как ежели бы то был ком теста, который долго тискали в жестких ладонях, били, катали, а потом надели на него грешневик и поставили на шею, укутанную в ворот армяка. На читанное дьяком с Лобного места мужик сквозь обитые о кружку или пострадавшие по иным каким причинам губы мычал тупое и неопределенное:
— Кгм…
И были в этом звуке тоска, жалоба, обида и на себя, и на весь мир.
Дьяк читал о повелении царском запретить вольные питейные дома, о призыве Борисовом к корчемникам жить иным способом, нежели торговля вином, обещал дать им земли, ежели они пожелают заняться честным трудом хлебопашца.
Облака все неслись над Москвой, выказывая в толпе лица с растрепанными бородами, вздернутыми, настороженными бровями, обтянутыми в напряжении скулами. И глаза, глаза глядели с разных сторон Пожара. Одни смотрели изумленно, хотя уже и многим удивил царь Борис народ московский, другие взглядывали твердо, с надеждой, третьи взирали с тайной усмешкой, издевкой, сомнением. Груда людская двигалась, ворочалась, шевелилась, издавая неясный, но ровный гул, порождаемый шепотами, вздохами, бормотаниями, и было непонятно, чего в нем больше — одобрения или недовольства. Серый пар дыхания густел над толпой. С глубокой печалью, болью смотрел на народ патриарх Иов с высокого крыльца белого на синем цоколе собора Василия Блаженного. Слабые плечи патриарха были опущены, Рука крестила толпу, губы шептали что-то.
И вдруг в толпе раздались голоса:
— Смотри, смотри!
Многие обратили взоры к Спасской башне.
— Царь, царь! — зашептали по площади, и кто-то якобы углядел, что из тайного окошечка на народ на Пожаре грозно и с осуждением взирал Борис. Толпа сгрудилась еще плотнее, как ежели бы люди хотели спрятаться друг за друга от сурового взора.
Дьяк читал, что царь Борис запрещает пьянство и объявляет, что скорее согласится простить вора и даже убийцу, чем пьяницу, ибо большей беды для державы нет, нежели пьянство. Страшные слова падали на головы людей: «обман», «корысть», «неверие»…
Все оно и было так, да было, однако, и не так. Сии страшные болезни вправду прикинулись к людям, но матерый дьяк, называя хвори, не называл породившие их причины.
Великими трудами и великими жертвами было создано государство Российское, объединившее под рукой Москвы земли рязанские, суздальские, новгородские и многие-многие другие, что жили осо́бе под властью князей. Московия стала державою, однако державным не стало отношение к людям, в державу объединенным. Сильный бездумно и беззастенчиво сокрушал слабого, отношения между людьми покоились на случайностях, и не было да и не могло быть уважения к собственной чести. Цель перед человеком стояла одна — выжить, и для этого годны были любые средства.
Князья и бояре дрались за места у трона или за сам трон, а мужик хотел остаться живым. О державе не научились думать, это только брезжило в отдаленной глубине сознания. И унизить, украсть, сподличать, обмануть, убить было можно, а после залить пересыхающую глотку вином. Все было можно.
Арсений Дятел уходил с Пожара молча.
В Москве было беспокойно, тревожно, непросто. А здесь стояла тишина, и в неизменной обыкновенности жизнь без затей одевала землю в весенний наряд. Телега, на которой ехал из Москвы с борисоглебскими монахами Степан, вкатила в лесок, и в лица пахнуло таким густым, настоявшимся запахом прошлогоднего перепревшего листа, кисловатым, вяжущим губы духом распускающихся почек, что Степан не удержался и спрыгнул на землю. Сапоги разъехались по грязи, но он, взмахнув рукой, извернулся и, перепрыгнув через колдобину, встал на твердую дернистую обочину. Расправил плечи, потянул носом сильные запахи, и губы невольно сложились в улыбку.
Лесок, подступавший вплотную к дороге, был еще по-зимнему просвечен, и каждое деревцо виделось отдельно, но набухшие, а кое-где и лопнувшие почки уже одевали ветви зелено-коричневой дымкой, которая угадывалась явственнее, чем дальше стояло дерево. Лес же в глубине, в гуще, был и вовсе зелен. Но наверное, все же не первая зелень вносит в людские души ощущение предстоящего праздника. Скорее, поражает и радует то движение, которое обретает лес с приходом тепла. Зимние деревья стылы и мертвы, весной же ветви становятся гибкими, летучими и даже в безветрии колышутся, колеблются, зыбятся и волнуются. Весна преображает неподвижную, пугающую, мертвую громаду в живое чудо, потрясающее самые глубинные, самые нежные струны человеческого существа.
Степан легко шагал по обочине и был полон, как это бывает только с молодыми и здоровыми людьми, ощущением праздника жизни. Глаз его в чистом и крепком лесном воздухе радостно подмечал все: как, темная у основания, горит зеленым огнем малых своих вершинок щетинящаяся на пригорках трава; как, дергая хвостиком и кивая головкой, прыгает по обсыхающей лесной дороге трясогузка; как парят под солнцем спины коней.
Дышалось Степану легко, и радость ощутимо щекотала грудь. Он отломил ветку и прикусил мягко подавшуюся под зубом зеленовато-коричневую ее кожицу. Рот наполнила терпкая влага, еще больше усилившая ощущение радости, и Степан, казалось, услышал, как мощно, сильно, с гудением поднимаются по стволам деревьев от корней к самым верхним и тонким веточкам земные соки. От избытка переполнивших его сил Степан пристукнул сапогом в дернину, не то собираясь сплясать, не то проверяя, не брызнет ли из-под каблука живительная влага, так преобразившая лес.
Повеселели и монахи. Старый грузный Порфирий, кутавшийся от сырости в рогожу, откинул хламиду и, вольно усевшись на передке телеги, подставил солнцу лицо.
— Хорошо, — сказал, — благодать.
Перекрестился степенно и одобрительно поглядел на Степана. Глаза у монаха были по-детски голубыми.
— Что, — спросил, — радуешься солнышку, божья коровка? Сей миг каждая букашка господу кланяться должна. Ей-ей… Истинно благодать.
Снял скуфью[26] и широкой ладонью, такой, что в нее бы и младенец, как в люльку, лег, стал гладить и мять лысую, лоснящуюся под солнцем голову. Вот и стар был, и рыхл, но и его тепло расшевелило. Тер лысину, даже постанывая от удовольствия, и вдруг запел тонким дребезжащим голосом. От удивления лошади, с усилием влегавшие в хомуты, насторожили уши, а второй монах, сидевший в задке телеги, извернулся весь, скособочился и с осуждением оборотился к Порфирию серым, изможденным лицом. Но тот на его взгляд и внимания не обратил, а затянул громче и даже с вызовом. Хлопал ладонью в такт песне по грядушке телеги и щурился на солнце. Лицо зарозовело, обмякло, распустились морщины.
Степан засмеялся. Монах подмигнул ему с очевидным приглашением присоединиться к песне. Но Степан эту песню не знал, хотя была она и не церковная, а самая настоящая мужичья, крестьянская, однако такая давняя, что ему по молодости лет не довелось ее слышать. В песне этой говорилось о поле, о поднимающемся хлебе и даже о девице, что ждет молодца в такую вот распрекрасную весеннюю пору. Тощий товарищ Порфирия при этих словах горлом от досады заперхал. И Порфирий, так же неожиданно, как и запел, прервал песню и убежденно сказал:
— Слепой ты, братец, и дурак. Господь наш всякую тварь и человека тако же радостью наделил. Господь! — Палец для убедительности воздел кверху. — А такие, как ты, понять этого не могут, и от вас уныние одно.
— Я вот игумену, — возразил тощий, — скажу про твои богохульные речи.
Порфирий на то рукой только махнул:
— Вот и в другой раз ты дураком выходишь. Эх! — Кивнул Степану: — Садись со мной, божья коровка, давай вдвоем споем. — Подвинулся на передке телеги, рукой показал: — Садись, садись!
Но спеть им не пришлось. Лес раздался, и взору объявились первые домишки Дмитрова. Порфирий скуфью надел и взялся за вожжи.
Через малое время телега выехала на пустынную по-утреннему базарную площадь. Порфирий остановил лошадей, и монахи, а за ними и Степан, сойдя с телеги, перекрестились на высоко вознесенные главы Успенского собора. Над крестами собора, кувыркаясь, орало по-весеннему беспокойное воронье, то всей стаей вскидываясь кверху, в сверкающую синь неба, то падая до самых куполов и вновь взмывая к солнцу в вечной и сладостной игре за счастье быть на земле.
Порфирий проследил взглядом за птицей и повернул лошадей к монастырю. Теперь ехали молча. Колеса телеги мягко вминались в густую грязь. Тощий монах покашливал со смыслом.
В обители, оставив лошадей на конюшне, двинулись к трапезной. Порфирий так рассудил:
— К отцу игумену успеем, а оно бы и горячего похлебать с дороги неплохо.
Ан и в этом им не выпало удачи.
Возвращаясь от утренней молитвы, отец игумен углядел их у самых дверей трапезной, и три божьи души предстали перед его взором. Сидел настоятель монастыря на игуменстве десятый год, и Порфирий, хорошо зная его норов, без слов, морщась, вытащил из-под рясы потертый, телячьей кожи кошель и, протягивая его игумену, сказал:
— Вот все, что за коней выручили. А две лошадки пали. Одна животом замаялась, другая на ноги села. Прирезали и татарам на Москве продали.
Отец игумен пожевал губами, пухлой рукой отвел кошель, сказал:
— Не мне, не мне… Иеродиакону Дмитрию отдашь. — Спросил: — Почто в Москве задержались?
Порфирий поднял на игумена глаза. Молчал долго. Игумен с ноги на ногу переступил, и лицо у него удивленно вытянулось. Наконец Порфирий ответил:
— А в Москве много разного. Сразу не обскажешь.
Братия, стоявшая за спиной настоятеля, любопытствуя, вытянула шеи. Порфирий в другой раз посмотрел на игумена. В глазах старого монаха, хотя и по-детски голубых, вдруг явилась такая дума, такая грусть, что игумен поспешил остановить его:
— Ко мне в келию зайдешь. — И, перекрестив всех троих, сказал: — Ступайте.
Повернулся и пошел покойно, плавно, как человек, в душе у которого тревог и сомнений нет, да и не было. Складки его рясы лежали строго, неколебимо. Монахи остались посреди двора. Порфирий поглядел вслед игумену, и у глаз старого монаха прорезались морщины, как ежели бы он что-то прикидывал в уме, примеривал, соображал. А настоятель монастыря уплывал дальше и дальше безмятежной, покоящей грузное, сытое тело походкой.
— Кхм, — кашлянул Порфирий и, повернувшись, сказал: — Пошли, однако, похлебаем горячего.
Щи им дали добрые и прямо с пылу — рот обжигало. Хлебали из большой чашки вкруг. Порфирий ел в охотку, даже рукава рясы подвернул. Неожиданно тощий монах спросил:
— А что игумену обсказать хочешь?
И ложка у него в руке застыла, до рта не донес, ждал ответа. Но Порфирий будто не слышал вопроса, хлебал, не пропуская своей очереди. Щи, видно, по вкусу ему пришлись. И только через время, положив ложку и обметя крошки с бороды, ответил:
— Ты вот хлеб со стола брал и больший кусок ухватил. — Мотнул головой. — Я не сужу. Знаю: оно само собой выходит, что рука больший кусок выбирает. — Улыбнулся скорбно.
У тощего монаха глаза расширились: при чем-де он и кусок? На то Порфирий сказал:
— Москва ныне на многое замахнулась, — вздохнул, — а рука у каждого к себе кусок тянет, к себе… Да тот еще, что поболее. Вот я все о том и мыслю. — И опять губы его сложились безрадостно.
Тощий скребнул ложкой о дно чашки, пошлепал синим ртом, сказал:
— Богохульствуешь. Все от бога. Богохульствуешь, Порфирий.
И видно было — озлился. Даже хрящеватые уши монаха назад оттянулись, бровь над нездорово заблестевшим глазом прыгала.
Порфирий, отворачивая рукава рясы, ничего не ответил. Степан водил взглядом от одного монаха к другому, и почему-то старый Порфирий был ему ближе, хотя речи его он не понял.
В тот же день, к вечеру, Степана свезли в дальнюю деревеньку к монастырским табунам. Привезший его монах, передавая мужика с рук на руки табунщику, сказал:
— Игумен велел: пускай пасет лошадок, как прежде. А там видно будет. — И уехал.
Табунщик повел Степана в шалаш, крытый корьем и строенный по-татарски — с открытым верхом. В просвет проглядывало сумеречное небо. Посреди шалаша горел костерок, дым струйкой утекал в свод. Наскучавшись без людей и зная, что Степан побывал в самой Москве, табунщик, едва сели к костру, спросил:
— Ну как там?
— А ничего, — устало ответил Степан.
— Но все же, — добивался табунщик, катнув упрямые желваки на скулах, — небось…
— Царь у нас иной теперь, — сказал Степан, глядя на табунщика поверх костра. — Борис. И царица иная. Мария.
— Ишь как. — Табунщик загорелся интересом еще более. — Ну и что? — Руки к груди прижал.
— Да что? — пожал плечами Степан. Помолчал, глядя в огонь, и сказал: — Землю, думаю, пахать надо. — Улыбнулся с доверчивостью. — Ехал сюда, видел: земля вот-вот подойдет к пахоте.
— Землю пахать, — эхом повторил за ним мужик, — это да, это точно.
— А что иного-то? — качнул головой Степан.
И, соглашаясь с ним, табунщик отвечал:
— Оно, конечно, так. Оно верно. Пахать…
В костерке вспыхнул ярким пламенем сухой сучок и осветил два лица, несхожих и вместе с тем имеющих много общего. Это были обычные крестьянские лица, одинаково запыленные, серые, скучные в своей невыразительности, но, несмотря на выказываемую усталость, ни в одном, ни в другом лице не было дремы. Напротив, за серой обветренностью, обыденной скукой из глубины проглядывала та страстность и живое стремление выдюжить, выстоять, которые так поразили пастора Губера, когда он рассматривал настенные росписи Грановитой палаты. Пламя костерка притихло. Догорали последние угли, но два лица все вглядывались и вглядывались в огонь, будто странно и чудно колеблемое пламя могло подсказать, что дальше, за чередой дней.
На тысячу верст от монастырских угодий, но также у костерка сидел Иван-трехпалый, что в Москве, на Варварке, уходил засапожником кабатчика, а позже, в ночи, грозил белокаменной кулаком. Кизяки на горячих углях, на миг закрывшись молочным дымом, разом пыхнули жарким огнем, вскинув кверху темноту ночи.
Пламя набрало силу, и стало видно, что у огонька, как и близ Дмитрова, двое, только вот лица у них были иные и разговор они о другом вели.
Зло щуря глаза, Иван, видать только что сказав резкое развалившемуся на кошме стрелецкому сотнику Смирнову, ждал ответа. Но сотник не торопился со словом. Теребил редкую, просвечиваемую костром бороденку и, должно, прикидывал, как получше ударить. По лицу его бродила тень, ан видно было по обострившимся чертам, что слова у него есть, и слова убойные. Но он молчал. Иван опасливо ноги поджал. Вот ведь как получается. Иные торопятся в разговоре, бросают слова как ни попадя, кричат. А страшное-то говорится тихо, оно — страшное — само по себе бьет тяжко, и глотку в таком случае нечего драть. Собака, которая лает, не укусит. А Смирнов хотел уесть Ивана за самое живое.
— Кхе, — кашлянул сотник, — а ты послабже, чем я думал. — В глазах полыхнула искра злой издевки. — По жизни-то в валеночках ходить надо, чтобы и тепло, и удобно, и неслышно. А ты каблуками стучишь.
Лицо сотника горело нехорошим огнем уверенности в превосходстве. Бровь ломалась, кривилась углом, выдавая радость Смирнова унизить и прибить. Ежели в лица вглядываться, многое сказать можно. Даже и то, каким был тот или иной, еще материнскую сиську не отпустив, каким позже стал, когда зашагал по земле. На лице написано, подличал он, крал али прямо, смиряя душу, шел по свету. И то на лицах есть, кто отец твой, мать, дед и прадед. Какие они были. Вот только мы не доверяем себе, вглядываясь в чужие глаза, а доверять надо и много оттого минуешь ямин и рытвин на своей дороге. Лицо Смирнова было ночью, и ночью темной.
Сотник улыбку сломал, сказал:
— А походочка твоя петлявая для меня что заячий следок по пороше. Каждый скок виден.
В Цареве-Борисове Иван объявился вдруг. А здесь хотя и вольница была, но за людишками как-никак, а присматривали. Да оно русскому человеку без пригляда и нельзя. Не тот у него норов, чтобы без узды прыгать. Кровь горячая, мечты пылкие, и куда его при этих-то статях занесет? Нет уж! Вот и в Цареве-Борисове бегали людишки, взбрыкивая и хватая взахлеб хмельной степной воздух, но счет им все же был и был доглядывающий глаз и за теми, и за этими, и за всеми вместе.
Сотник Смирнов Ивана углядел, как только тот появился в крепостце, и, навычный к тому, тут же и определил, что этот не от дури, но по нужде забежал на край русской земли. «Знать, пекло, — решил, — знать, иного места ему нет». И тогда же под крыло подобрал. Такие люди нужны были в каше, что заваривали в Цареве-Борисове. И Иван сообразил, что ему лучшего поводыря по здешним закоулкам, чем сотник, не сыскать. Но то было, а теперь вот разговор вышел, разговор крутой.
Дым от костра ел глаза. Сотник отмахнулся рукой, посунулся на кошме в сторону. Прилег за ветер и посмотрел на Ивана нехорошими, шарящими глазами.
За неделю до того Бельский шибко кричал на сотника, что он-де зря первым советчиком воеводы по крепостце слывет.
— Девок портишь, водку жрешь! — кричал Бельский. — Над людьми верховодишь, а толку чуть! Смотри, Смирнов, как бы худым тебе это не обернулось.
Сотник на слова воеводы утерся рукавом и глаз не поднял.
Бельский сорвался с лавки, втыкая высокие каблуки в ковер, мотнулся по тесной палате, остановился напротив сотника. Лицо Богдана, морщась, ходуном ходило, скулы подпирали бешеные глаза. С каждым днем все нетерпеливее, все жестче был воевода. Подходило винцо, играло, пенилось, набирая силу, и обручи на бочке трещали, не в силах сдержать грозный напор. Сотник подался назад, стукнулся затылком в стенку. А крик вышел из-за того, что казаки гуляли по крепостце, как по своему куреню, но, как поначалу держались особе, так на том и стояли. «Вы, — говорил иной из казаков, вольно, непочтительно сбив шапку на затылок, — москали, у вас свои дела, у нас свои, казачьи. Мы в ваши дела не входим». Богдану же хотелось, чтобы предались казаки ему всей душой. Того не выплясывалось. И винил воевода в том сотника.
Вот и богат был Бельский, и золота не жалел, швырял по сторонам без счета, но злое пламя, что хотел раздуть, не поднималось. Оно человека и одарить-то с умом надо. Глупым деньгам, может, иной и рад будет — схватил ни за что, — но все одно скажет о том, кто ему деньги по-пустому швырнет: «Дурак, деньги бросил, знать, они для него мусор». Нет, не разгорался пожар. Тлели сучочки, чадили вонючим дымом, но стоящего огня не было. Казаки чуяли, что большим разбоем пахнет. И хотя разбой казаку мед, но казаку же и ясно: пчелка сильно бьет того, кто порушит колоду. А на какую колоду воевода глаз положил — хотя прямого разговора у казаков с Бельским не было, — и глупому становилось видно. Смотрели на север казаки и покашливали. Чесали в затылках:
— Кхе, кхе…
Москва была всем страшна. Знали: в белокаменной за баловство по головке не гладят. Там речь о державе поведут и, коль поперек встал, сомнут враз. Только косточки хрустнут. Москва властью стояла. Много, слишком много тянулось к ней жадных рук, много алчных глаз нацеливалось на золотые ее купола, так что и минута слабости грозила ей гибелью, и Москва послабления себе не позволяла. То было известно. Однако среди казаков, конечно, находились и такие.
— На конь! — орали дуроломом и шашку вон из битых ножен, но этих, горячих, круг придерживал.
— Пинка под зад щенку, — говорили старики, — пинка! Энтот еще не знает, как кусает Москва. Пинка ему!
Шумели казаки, кричали, бросали шапки оземь, брали друг друга за грудки, но круг со стариками соглашался. Грозные батьки-атаманы укорот давали быстрым, смиряли пыл. Бельский на то наливался дурным, хмельным гневом.
Сотник Смирнов ужом вился среди казаков. С одного боку заходил, с другого подлезал, с третьей стороны наваливался. И так и эдак прилаживался, но казаки хорошо пили винцо и жрать за чужим столом были молодцы, ан как только разговор заходил серьезный, глаза отводили. А однажды так сказали:
— Ты вот, сотник, нам моргнул, и мы немчина, которого было указано, прибили. Было?
— Было.
— Но пойми ты, голова, то немчин, да еще и в поле. Кто свалил его? За что? Ответ сыскать трудно. А ты на другое зовешь. — Старый казак пальцем помотал перед носом у сотника. — То-то же…
Сказали и иное:
— Поговорите с запорожскими казаками. В Сечи. Там есть батько Панас, есть батько Гетько. Мабуть, они поднимутся, а мы подсобим. Чуешь?
Сотник совет этот запомнил и вот у костерка в степи, подальше от ненужных глаз, завел разговор с Иваном. И так как догадывался, что на этом знакомце шапка перед Москвой горит, особо не таился. Вывалил тайное. Но Иван сразу сообразил, что его подводят под перекладину, на которой петля. И вот у костра сидел, а все же зазнобило его. Знал, как веревочка на шее захлестывается. Такого, как он, учить нужды не было. Вот тут-то, зло щурясь и показывая зубы, Иван и сказал Смирнову:
— Ты, видать, так про себя считаешь: где пройду — там три года куры не несутся? А?
Долго на то молчал сотник, но потом сказал:
— А ты, паря, не корячься, коли с тобой подобру говорят. — И добавил, глядя в упор в Иваново лицо: — Серебро, что тобой за долги в кабаке оставлено, признали сведущие люди. То бармы со святой иконы церкви Дмитрия Солунского на Москве. А они воровски оборваны были по весне, и нам о том писано для сыска. Что теперь скажешь? Проквохчет курочка, коли я пройду?
Поднялся из-за костра, грозно потянулся к Ивану. Тот по-волчьи, телом оборотился к степи. Глянул с отчаянием. Но степь была темна. На много верст и огонька не светило. И понял Иван, что темнота эта для него как стена, через которую не перелезть и не перепрыгнуть. Повернулся к сотнику. А тот уже успокоился. Понял: придавил овцу. Смотрел с ухмылкой. Цедя сквозь зубы слова, добавил от щедрости, на довесок:
— Узду мы на тебя накинем, а гарцевать отведем в Разбойный приказ. Тебе небось ведомо, как там пляшут? На угольках или в хомуте на дыбе? Кому как лучше…
— Говори, — оборвал его Иван. — Что нужно?
— Вот это разговор, — протянул сотник и вбил коротко: — Поедешь в Сечь. Ты тать, и тебе с тамошними татями сподручнее говорить, чем кому иному. Завтра поедешь. Коня и харч дадим.
Отвалился на кошму, оперся на локоть и вот доволен был донельзя, а гадкая улыбка все гнула губы, все играла в глазах.
В те же весенние дни в далекую романовскую деревушку привезли на телеге мужика-колодника, которого на Варварке в Москве, на романовском же подворье, видел монах Григорий Отрепьев. Глаза в глаза глянули они тогда друг другу, и у мужика зарубкой в памяти осталась черная ворона с боярского крыльца. Но на том пути их до времени разошлись.
У избы деревенского приказчика колодку с мужика кое-как сбили и толкнули сердягу к дверям.
— Иди, иди! — шумнул, засовывая за кушак плеть, привезший его здоровенный дядя с рябым лицом. — Иди!
Мужик зло ощерился и оборотился было к нему, но, знать, так намаялся, что сил не хватило огрызнуться, молча шагнул через порог. Да неловко шагнул зашибленными ногами, зацепил каблуком за щербатую плаху. Кривя рот, помыслил: «Ишь спотыкаюсь. Примета недобрая».
Приказчик Осип, на деревне среди мужиков чаще называемый Татарином, сидя за широким столом подле хорошо горевшей печи, хлебал горячее. Услышав, как подъехала телега, с неудовольствием подумал: «Кого принесло в неурочный час?» Дверь распахнулась. Осип поднял взгляд на вошедших и отложил ложку.
Рябой, ступив через порог, перекрестился на темные иконы в углу. И мужик потянул руку ко лбу, однако, складывая пальцы для крестного знамения, скособочил рожу и, крутнув носом, отметил, что Татарин хлебал лапшу непременно из гуся, и надо думать, жирную. В брюхе у мужика что-то болезненно сдвинулось и подкатилось под грудь. Но он перемог немочь и дотянул руку до лба. Третий день был не жравши и съестное за версту принюхивал.
Рябой поздоровался сырым голосом. Приказчик вместо ответа крикнул:
— Марфа!
Из-за печи суетливо выглянула справная, гладкая баба. Осип кивнул рябому:
— Садись. — Показал напротив себя на лавку.
Рябой удовлетворенно крякнул и с посветлевшим лицом шагнул к столу. Приказчика не только деревенские, но и московские романовские люди знали как жилу. Вот рябой и посветлел, что Татарин позвал к столу. Выдернул из-за кушака плеть и, не зная, куда пристроить ее, торопливо сунул к оконцу.
Баба нырнула за печь и вынесла рябому миску, положила ложку. Глянула на мужика у дверей, но Осип натужно кашлянул, и бабу словно сдуло. Мужик как стоял, так и остался у порога. Посмотрел на Татарина и глаза опустил. Смикитил: лапша не про него. Переступил на скрипучих половицах, но, видать, ноги держали его плохо, и он боком приткнулся на край лавки.
Осип неодобрительно поднял глаза и вдруг удивленно сморгнул.
— Игна-ашка? — сказал врастяжку. — Вот те ну…
Рябой, не выпуская ложку из крепкой, как копыто, руки и не поднимая от миски головы, буркнул:
— Мужика велено тебе, Осип, возвернуть. — И опять торопливо заработал ложкой, словно боялся, что лапшу отнимут.
— Та-ак, — протянул Осип, — а мы тебя, Игнашка, верно сказать, в беглые отписали.
Мужик ноги подогнул под лавку. Промолчал.
— Значит, ты на боярском дворе обретался? Ну-ну…
И на это мужик ничего не сказал.
Осип ожидающе посмотрел на него и взялся за ложку. И минуту, и другую, и третью слышно было одно — как шумно хлебали эти двое. Лапша и вправду была из гуся, и точно, навариста и жирна. Рябой пошмыгивал носом. У Игнашки горло сжало судорогой. Он зябко втянул шею в ворот армяка, нахохлился. Мокрый ворот ожег холодом. В ушах нарастал сухой звон. Свет приткнутой к печи лучины расплывался кругом и, дробясь в семицветие радуги, колол глаза безжалостно синим лучом.
Положив ложку и отвалившись к стене, Осип спросил рябого:
— И что же мне делать с ним?
Игнашка разбирал слова будто сквозь стрекот рассыпавшихся в траве кузнечиков, а Осип и рябой виделись ему, как ежели бы они сидели далеко-далеко и между ним и этими двумя играло, поднимаясь кверху, парное марево.
— Как что? — ответил рябой. — Мужик, слава богу, непорченый тебе возвернут. Руки-ноги целы. Пойдет в работу.
— У-гу… — протянул Осип. — В работу, говоришь? То добре. — И обратился к Игнашке: — Хлебушек твой мы, верно сказать, собрали. Ничего хлебушек… А изба твоя стоит. Чего ей, стоит.
Глаза Татарина приглядывались оценивающе.
Слово «хлебушек» как-то приглушило шум в ушах Игнашки и прояснило голову. Он увидел свое поле. Камни, валуны в бороздах. И, выныривая из опаляющего жара, спросил хрипло:
— А что мне с того хлебушка? — Губы облизнул. От жара и голода его трясло.
— А ничего, — ответил Осип, — боярину свезли хлебушек. В столовый оброк записали. — Головой покивал. — Боярину.
Валуны, валуны плыли перед глазами Игнашки. Двое за столом уже не ждали ответа, когда он сказал:
— Выходит, я даром пуп рвал. Поле-то было одни камни. Хребет ломал. — Игнашка качнулся на лавке. — А?
Осип, обирая ладонью кольца лапши с бороды, сказал вразумляюще:
— Так мы тебя в беглые отписали. А поле верно камни были. Камни.
Помедлил, потрогал крышку стола корявыми пальцами, откашлялся. Все же понял, что неладно складывается. Игнашка-то был еще не холоп. Кушак следовало потуже затянуть на мужике, чтобы в кабалу взять. Потуже, поверней.
— На посев я тебе дам, — наконец сказал Татарин, — непременно дам на посев.
Рябой оборотился к Игнашке и, округляя губы в бороде, протянул:
— О-о-о!
Видать, сильно изумился Осиповой доброте. Сырой нос рябого в глубоких, словно злым ногтем выковырянных, оспинах повис над столом.
— Кукушка давеча кричала, — сказал рассудительно Осип, — а это значит, что самая пора для сева. — И опять повернулся к Игнашке. — Вовремя ты подоспел. Завтра же в поле. Тянуть неча.
Сказал так, будто пожалел, что мужика с дороги в хомут запрягает или как ежели бы тот просил об отсрочке, да вот не было ее.
— Кукушка прокричит, — добавил наставительно, — и то верная примета. По ее голосу и деды наши в поле выходили. Она не обманет, проносу в примете нет.
Рябой головой покивал: точно-де, так оно и есть.
Баба внесла чашку с чем-то наложенным кусками. Игнашка от дверей носом потянул, и его от напахнувшего духа жареного мяса так затрясло, что лавка под ним застучала.
— Ты что трусишься? — удивленно скосив глаза, спросил Осип.
Игнашка поднялся с лавки, запахнул армяк на груди. Хотел крикнуть: «Жрать дайте!» — но только ощерился, показав зубы. Ответил:
— Я пойду.
А глаза, остановившиеся на приказчике, все же надеялись. Но Осип не заметил того, а скорее — не захотел заметить. Отвернулся, показав крепкий затылок.
— Иди, — ответил не оборачиваясь.
Лучина пыхнула ярким светом. Обломившийся уголек упал в плошку с водой, шипя погас. Рябой протянул руку и ухватил кусок мяса. Свет лучины выровнялся. Двое за столом жевали молча. Игнашка вышел. Прикрыл за собой дверь. И тут его качнуло, словно кто в спину толкнул. Игнашка ухватился за резной столбик крыльца и остановился. Идти сил не было. «Что бы это, — подумал, — вовсе ноги не идут? Такого не было никогда». Лицо опахнуло липкой, как паутина, сыростью. В ушах нарастал звон. И теперь вроде бы уже не кузнечики верещали, а брякали далекие колокольцы. «Ладно, — подумал, — обойдется».
День кончился. На деревню из-за леса волнами натекал туман, но можно было еще разобрать выступавшие в сумерках копнами избы, городьбу плетней, тоскливо торчавший журавль колодца. Холодной рябью морщились лужи, наплюханные тут и там.
Игнашка, цепляя ногой за ногу, пошел через двор. В воротах ухватился за жердину, оглянулся на Осипов дом. И показалось ему, что дом Татарина горбится вслед цепным псом, выбеленные ступени крыльца скалятся, как зубы в разверстой пасти.
Дверь в Игнашкиной избе была приткнута колом. Он прибрал кол, вступил в избу и тут же споткнулся о невесть когда и кем брошенное полено. В темноте долго искал кресало и еще дольше, сбивая пальцы, высекал искру. Руки не слушались, и искра падала мимо трута. Но наконец трут занялся. Игнашка торопливо поднес его ко рту и дохнул на красную искорку. И все дышал, дышал хрипло, со всхлипом, отстранял трут от лица и опять дышал и дул, боясь, что искра погаснет и все придется начинать сначала, а он чувствовал — сил на то не хватит. Завел руку за спину, вырвал из стены клок мха и наложил на теплившийся глазок. Из-под пальцев выползла белая струйка дыма, и мох вспыхнул. От разгоревшегося пламени Игнашка вздул лучину и только тогда оглядел избу. А наверное, было это ни к чему. На лошадь-то, особливо ежели в гору тянет, груз с осторожностью накладывают. Не выдюжит животина. Но на человека наваливают без меры. Почему бы так? Да и когда станется, что скажет кто-нибудь: «Постой, куда валите? Ноги подломятся у сердяги. Поостерегитесь»? Никогда, наверное, такого не будет. Да человек сам берет груз непосильный. Мыло на боках у иного, а он все одно: «Давай, выдюжу!» А может, так и надо? Неведомо… А уж Игнашка-то силы напряг — куда там! — но поднял лучину. Огонек осветил избу.
Нет ничего угрюмее нетопленой, нахолодавшей, необихоженной печи. Жизнь печи придает огонь, и только он, прогревая и освещая ее, превращает печь в чудо, радующее глаз и бодрящее душу. Горящая печь — обещание тепла, уют, надежда, радость. Холодная печь — укор и сама безнадежность. На половину Игнашкиной избы громоздилась давно остывшая печь. Как раны, темнели на ее боках отметины облупившейся известки, проглядывали выбоины, щербины обсыпавшегося кирпича. От печи пахнуло на Игнашку тоскливой жалобой, как ежели бы она выдохнула из черного нутра: «Ну что же ты, хозяин?»
Игнашка отступил и, натолкнувшись на лавку, сел. Лучина едва не выпала из пальцев. Он воткнул ее в стену и опустил голову на руки.
Так он просидел долго. Тупая безнадежность овладела им. Потрескивала лучина, но Игнашка не слышал этого треска, как не видел бродящих по избе слабых теней. Так с наступлением холодов уходят в небытие иные лесные звери. Забираются в глухие ямы, под коряги, в бурелом и там забываются до весны. Но то звери, и сон их определен природой и обозначен временем. А Игнашка был человеком, и не природа, но люди гасили в нем жизнь.
И вдруг в глубине Игнашкиного сознания забрезжил слабый огонек, просвет обозначился. Игнашка торопливо поднялся с лавки, метнув широкую тень, шагнул по избе, плечом отпихнул стол. Вспомнил: в подполе в тайном месте лежит кусок сала. Тот кусок, что откладывают по русским деревням в день Агафьи Голендухи, дабы дать мужику в страду, на пахоту. С лебеды-то, знамо, плуг не потянешь. Игнашка ухватился плохими пальцами за чурбачок и рывком, из последних сил, поднял тяжелую ляду[27]. Срываясь со ступеней крутой лестницы, спустился вниз, сунул руку за крайний у стены горбыль. Пальцы ухватили пустую тряпочку. Он ощупал ее и не поверил, что она пуста. Просунул руку дальше, еще дальше, но там и вовсе ничего не было. Тряпочка тонко пахла салом. «Мыши сожрали, — догадался Игнашка, — мыши…»
Он отшвырнул тряпочку и привалился к холодной стене. Однако разбуженное надеждой сознание продолжало работать четко и ясно. Он все слышал, ощущал и видел, как ежели бы стояла не темная ночь, а яркий день. Игнашка поднялся из подпола, оглядел избу, заметив даже малую трещину в ветхой стене, сел на порожек растворенной настежь двери.
Туман меж тем остыл над деревней и осел холодной росой. В лицо Игнашке ударил льдистый свет полной луны, висевшей над избой. Луна была так велика, что, показалась Игнашке, занимала половину неба. И с этой половины лился, ощутимо придавливая плечи, мертвый, до боли бьющий в душу свет. С режущей остротой Игнашка вспомнил романовское подворье, где били его без пощады чем ни попадя, наколачивали на ноги колодки. Вспомнил вывезенный в боярские амбары хлебушек, увидел хлебавших лапшу Татарина с рябым мужиком, и, как острия вил, вошло в него гибельное ощущение своей бесприютности, незащищенности, беспомощности. Пальцы его впились в холодный от росы порог, он закинул голову, и из глотки вырвался неожиданный, больной вой:
— У-у-у!..
Тоска, мольба, безнадежность были в нечеловеческом этом крике. На шее Игнашки трепетали вздувшиеся от напряжения жилы.
— У-у-у! — рвалось из груди.
Но страшнее этого крика было ответное молчание. Нет чтобы загремело окрест:
— Доколе же, русские люди? Доколе…
Для царствующих и сирых, обжирающихся и голодных.
— Доколе…
Глава вторая
На Москве ранним утром ударили в колокола. И первыми всполошились бабы:
— Как?
— Что?
— Почему такое?
Нет любопытнее русской бабы, а паче московской ее сестры. Эта варежкой наизнанку вывернется, ежели ей приспичит что-либо узнать. Кричали друг дружке через улицу:
— Да ты добеги, узнай, Маланья!
— Аль пожар?
— Дура, колокола-то празднично бьют!
По улице шел степенный человек. Купец. Морщась от бабьего крика, не выдержал, плюнул:
— Цыцте вы, что растрещались сороки!
Остановился, неторопливо поворачивая крепкое, по-стариковски румяное лицо, поглядел солидно в одну сторону, в другую, сурово округлил глаза. Оравшая более других, простоволосая, драная бабенка, встретившись с ним взглядом, забоялась и присела за калитку.
Купец наставительно сказал:
— Кучума, сибирского хана, наши побили, и ханство сибирское под московскую руку стало.
Оправил сухой рукой богатую бороду, откашлялся и зашагал, закидывая далеко вперед толстенный, суковатый посох. На него и опереться надежно, и им же можно по голове кого погладить, ежели к тому случай выйдет.
Бабы молчали. Правда, когда купец свернул за угол, одна все же спросила:
— Это какой Кучум? — и прикусила губу.
Другая махнула рукой: какая-де разница, Кучум он и есть Кучум. На том бабий переполох кончился.
В то же утро с Лобного места на Пожаре объявили о победе над ханом сибирским. А на другой день в Москву торжественно ввезли многочисленное Кучумово семейство. Жен, детей, дядьев и братьев. Пленников везли на изукрашенных коврами и шкурами телегах, впереди на коне, покрытом серебряной сеткой, ехал победитель Кучума, воевода Воейков.
Поезд медленно продвигался по улицам сквозь толпы москвичей, стоящих по всему пути. Вот была людям забава! Чтобы лучше разглядеть пленников, иные притащили с собой лестницы, приставляли их к избам и, оттаптывая друг другу руки, залезали повыше. Блестели любопытные глаза, алели лица, и головы, поворачиваясь за проезжавшими телегами, клонились как под ветром. Пристава и ярыги теснили людей к заборам, орали, надсаживая глотки, но толпы напирали. Иные лезли чуть ли не под колеса поезда. А колокола, распаляя страсти, все били и били, все кричали о победе.
Кучум упрямо противостоял Москве и, хотя его дело было безнадежно — российские остроги крепко стояли на сибирской земле, — сильно досаждал московской власти. Воевода Воейков вцепился в Кучума насмерть и шел за ним день и ночь. Упрям был Кучум, но кремнем был и воевода. Россияне утопили на одной из переправ обоз, но преследования не остановили и достигли войско хана на Оби. Прижали к реке и, обложив, как волчью стаю, бились от восхода солнца до заката. Воейков сам бросился в сечу, получил две раны, но Кучум был сломлен.
В последнюю минуту хан в лодке с тремя воинами ушел вниз по Оби. Войско его легло на приобском лугу.
Гарцуя по Москве на добром коне, воевода Воейков в седельной сумке вез письмо Кучума. Это был ответ на предложение покориться и ехать с миром к российскому государю. Кучум писал: «Не поехал я к государю по его государевой грамоте своею волею в ту пору, когда был совсем цел, а теперь, за саблею, мне к государю ехать не почто. Я еду в ногаи». Воейков знал и весть о том вез, что ногайцы Кучума зарезали. Конь воеводы печатал шаг. Серебряная сеть рассыпала слепящие искры.
Воеводу ждали милости государевы, и лицо его цвело улыбкой и торжеством. Он сидел на коне плотно, и чувствовалось, что он и гибок, и увертлив, и силен. Хороши были покатые его плечи, при каждом шаге добро кормленного коня подававшиеся вперед, ровна и по-особому осаниста шея, надежна рука, чуть поигрывавшая у седельного крыла затейливой плетью. Народ московский жадно смотрел на Воейкова, разглядывал пленников. Ханши и дети ханские в мехах, в чу́дно расшитых золотом, серебром и бисером одеждах были на московских улицах как птицы из райского сада. Лица у пленниц, однако, до глаз были закрыты платками и опущены. Непрестанно били барабаны, и литавры рвали душу нестерпимым лязгом. Преградив путь, пристава завернули поезд к Кремлю.
В грохоте и победных, надсадных криках у Кремля, на замшелых камнях паперти торчавшей кукишем из земли стародавней церквенки, молча сидел юродивый. Мерклыми глазами смотрел на толпившийся народ, на поезд с пленниками, на геройского воеводу. Спускаясь с груди юрода на ржавой цепи раскачивался, будто отсчитывая быстротечное время, крест в пуд весом. Босые ноги юрода были вытянуты вперед, потрескавшиеся пятки чернели шрамами лопнувшей кожи. Он плакал.
Поезд втянулся под арку кремлевской башни. Колокольный бой набрал большую силу. Юрод склонил голову ниже. Но ежели для юрода в опущенных плечах, скорбно брошенных руках, поникших головах пленников была только боль, то Борис, встретивший поезд с ханским семейством на выходном крыльце царского дворца, увидел другое. Сибирь обещала богатый пушной и рудный промысел, дорогу к далеким китайским городам, да и не только к китайским, но и в Бухару, Хиву, Персию и еще дальше и дальше. Великое будущее угадывалось царем в Сибири, и, воочию убедясь, что упрямый Кучум побежден и путь на восток отныне открыт, он ликовал.
Кони втянули телеги на придворную площадь и стали. Царь заложил руки за спину и крепко сплел пальцы, что всегда свидетельствовало о его хорошем настроении и добром самочувствии. Борис чуть-чуть, упруго покачивался на носках. Да, этот день был долгожданен и оттого особенно радостен.
Василий Шуйский, заметив цареву радость и желая досадить Борису, сказал:
— Ногой да и на самый краешек ступили на земли Кучумовы. — Вздохнул: — Охо-хо… Дабы утвердиться — многое надобно. Воейков-то молод… Ишь как возгордился, а то неведомо воеводе, что не один живот положить придется за земли те.
И этим притворно-страдательным «охо-хо» Борис почувствовал себя оскорбленным. Он поворотился к Шуйскому, сказал резко:
— А ты, боярин Василий, видать, поговорку забыл: «Дай только ногу поставить, а весь-то я и сам влезу».
Василий понял, что слово брякнул не подумав. Забормотал что-то, оправдываясь, но Борис слушать не стал, повернулся и вошел во дворец. Василий суетливо поспешил следом, а сев за праздничный стол и подняв кубок за победу и здравие воеводы Воейкова, заговорил длинно и витиевато. И все поворачивался, поворачивался к Борису, сыпал похвалы и выражал радость. Рукав собольей шубы сбился у боярина к локтю, обнажил тяжелое, ширококостное запястье, и видно стало, что такой руке больше пристало не воздушный, тонкого стекла кубок держать, но топор. Ан боярину такая догадка была невдомек, и он все красовался и бахвалился. Борис, однако, на него глаз не поднимал. Пальцы царя мяли и комкали край парчовой скатерти. Кровь стучала в голове у Бориса, в затылке тупо ломило. Он закрыл глаза. Это был совсем другой человек в сравнении с тем, что стоял на дворцовом крыльце. В том выглядывало воодушевление и торжество, в этом — бесконечная утомленность.
Боярин Василий, взглянув на царя, поторопился закончить витиеватую речь.
Борис прикрыл глаза связкой пальцев и так застыл, словно отгородившись от взглядов и голосов.
Сибирь была большой, но не единственной заботой царя. Всегдашняя опасность грозила Москве с юга. Как страшное наваждение, маячили за дикой, ковыльной степью минареты Крыма. В любой час можно было ждать татарского набега. Борис хорошо знал коварство крымского хана и отправил к нему верткого, умелого в посольских делах князя Барятинского. Князь держался на Москве особе. Открытой дружбы ни с кем не водил, но и не чурался людей. Был он начитан более многих, знал восточные языки, характером был тверд. Смолоду в дикой степи посекли Барятинскому руку, но зато второй владел он вполне, и с уверенностью можно было сказать — в бою смог бы постоять достойно. Перед отъездом царь имел с князем долгий разговор. Барятинский был из тех людей, что и себе, и другим, не подумавши, не позволяют слово сказать. В разговоре был он сдержан, в поступках нетороплив, но, коли круто приходилось, смелости ему было не занимать. Оттого-то царь и выбрал Барятинского для посольского представительства в Крыму. Так решил: на дерзость хана дерзостью же отвечать надо и то, может быть, его сдержит. А Барятинскому сказал:
— С волками, князь, жить — по-волчьи выть либо съедену быть.
У Барятинского на те слова у глаз обозначились морщины, и все. Он свое знал, и Борис в него верил. Когда князь, поклонившись, пошел из тронной палаты, четко отбивая каблуками шаги по гулкому каменному полу, Борис, глядя в его прямую спину, подумал: «Таких бы слуг России побольше». Пользуясь вестями из Крыма, Борис знал: князю приходится круто, однако при ханском дворе с ним считаются и российские интересы Барятинский отстаивает твердо. Но как ни ловок был князь, Борис понимал, что лишь его усилиями Крыма не сдержать.
Мысли царя путаными степными дорогами, где редкой цепью стояли российские заставы, через ковыли устремились к Волге.
В приволжских степях было три ногайские орды, лишь одна из которых подчинялась Москве. И астраханский воевода, лукавя и изворачиваясь, держал в постоянном напряжении ханскую верхушку орд, не давая им объединиться и, паче того, сыскать союз с крымским ханом. То была тонкая московская игра, и Борис внимательно следил, чтобы противопоставленная притязаниям Крыма сила эта была как напряженный лук, тетиву которого держал астраханский воевода.
Но и это было не все из того, что позволяло сохранять мир на южных гранях России.
Хитромудрый дьяк Щелкалов стежок в стежок, нитями изобретательнейшей вышивки клал узорочье тайных дорог в Молдавию, к православному господарю Михаилу.
В недавно отстроенном Посольском приказе дьяк появлялся затемно. Неспешно поднимался на крыльцо, крестился на главы соборов и, не отвечая на поклоны стрельцов и сторожей, несших строгий караул у приказа, шел гулкими палатами. Внутренний сторож, трепеща, поспешал впереди со свечой. Оглядывался. Свеча освещала узловатые пальцы, охватившие прозеленевший медный шандал, взлохмаченную бороду, пуганые глаза мужика. Не дай бог, ежели дьяк примечал какой-либо непорядок: печи ли казались ему недостаточно вытопленными, али угадывал он угар костистым сухим носом, иной недосмотр. Худо приходилось тогда виновному. Дьяк был неумолим. На жалобы и уверения, что-де печи неладны или трубы снегом забило, дьяк, показывая крепкие желтые зубы, говорил твердо:
— У плохого мужика баба всегда дура.
На том разговор и кончался. Виновного вели на правеж.
В каморе за присутственными палатами, где за длинными столами локоть к локтю теснились писцы, Щелкалов садился спиной к печи — зябок был и любил тепло, — подвигал к себе посольские книги и читал молча, подолгу. Так же старательно исполняли службу в приказе и другие — ленивых дьяк не держал, — но, однако, сей думный, распутывая крепко затянутые, петлистые посольские узелки, одной рукой разводил концы, что иные и зубом ухватить не могли.
Тайными дорогами с подставами, скрытыми тропами, где в незаметных балочках, в чащобах, в потаенных избах сидели свои люди, думный дьяк переправлял господарю золото на борьбу с турками, а для ободрения единоверцев — церковную утварь и святые иконы. Путь ценностей был труден. Все здесь было: хрипящие кони в ночи, бешеные погони, перестрелки, кровь людская, — и вести дело сие необходимо было смело, решительно, но небезрассудно. Такое только Щелкалову мог доверить Борис, но царь и сам не спускал глаз с молдавских пределов. Укрепляя господаря Михаила, Москва ослабляла турок, а значит, и крымского хана.
…Боярин Василий Шуйский поставил кубок. Уставя тусклые глаза, невыразительно взглянул на него царев дядька Семен Никитич. Боярин с досадой, зло подвинул к себе блюдо. Бесстрастно сидел за столом думный дьяк Щелкалов. Михайла Катырев-Ростовский озабоченно оглядывался. Не изменяя выражения лица, царь послал кубок счастливому воеводе Воейкову. Тот разом поднялся на крепких ногах. Борис с душевным теплом отметил, что воевода хотя и был ранен в сражении, но силу не потерял. Однако тут же краем глаза Борис углядел, как недовольно подергиваются щеки у сидящего напротив воеводы, тучного боярина Федора Романова. Раздражение и тревога вновь пробудились в Борисе. А причин для беспокойства было достаточно.
Казна российская была еще не столь богата, чтобы трудно наживаемое золото одновременно отдавать на многие нужды удержания мира с ближними и дальними державными соседями. А царь Борис помнил: «Не дразни кобеля дальнего, тогда и ближний не укусит». Смел, отважен и необходимым державе слугой был воевода Воейков, но не ему должно было считать, сколько пахотных плугов вывезти в поле, хребтов изломать мужикам на посевах, уборках, покосах и выпасах, недолюбить девкам парней по деревням и черствых кусков отнять у голодных, чтобы свершил он победный поход. Труд и кровь считать была доля Борисова. Царская доля. И он считал. И сей миг, понимая, что с победой Воейкова затраты на сибирские нужды сократятся, прикидывал, как можно будет усилить российское влияние на многобеспокойных гранях кавказских. Еще при Иване Грозном от грузинского царя Александра приезжали в Москву послы. Жаловались на турецкую и персидскую жестокость, плакали, рассказывая, как никнет под магометанским полумесяцем христианская Грузия. Молили о помощи. Иван заключил договор с Александром и послал пятьсот казаков в подмогу. Но что пятьсот казаков против могущественной Турции? Трудно было на кавказских гранях российских… А где было не трудно? Русь стояла в осаде. Все непрочно, ненадежно, зыбко было на рубежах державных. Борисово лицо каменело. В устьях глаз копилась нездоровая синева. И вдруг за столом кто-то неловко звякнул кубком. Царь вздрогнул, и глаза его, перепрыгивая, полетели по лицам гостей. Кое у кого дыхание сперло. Один из братьев Шуйских обгладывал баранью лопатку да так и застыл с костью у рта. Царь задержал на нем взгляд, и глаза его налились презрением.
В праздничный перезвон над Москвой вплетали божьи голоса колокола Чудова монастыря. Медь торжествовала. Радостные звуки плыли над Кремлем, летели за Москву-реку и еще дальше и дальше. В Замоскворечье, на Болоте, на Таганке, на Арбате люди останавливались и, поворачивая головы к Кремлю, говорили:
— То чудовские. Ишь как поют!
Оно и малый поддужный колоколец отлить — большой труд и знания надобны. И коль он из-под мастерской руки вышел и ты услышишь его, он такое расскажет, что только сей же миг в тройку и в путь, чтобы гривы перед глазами бились, коренник хрипел в скачке и мелькали сбочь дороги неоглядные поля. Но то поддужный колоколец. А это, взгроможденная на колокольню, экая громада! Многие и многие пуды, но да не в пудах суть. Колокол сей должен людей на подвиг звать, плакать провожая дорогих к последнему пределу, тревожить в страшную годину и петь в праздник. Сто голосов держит в себе добрый колокол, и все разные. Льют его трудно. Поначалу из воска, затем восковую мякоть одевают в глиняную рубаху, да так, чтобы не истончить, не повредить хотя бы и в малом, высушивают подолгу и, когда глина наберет известную мастеру крепость, вливают в форму расплавленную бронзу. Раскаленный металл выжжет воск, и явится колокол. И опять же: запеть сему колоколу или простонать ни на что не похожее — зависит от того, как выплавят металл. Здесь каждое «чуть» меру имеет. Медь, олово, серебро, много другого в колоколе есть, а сколько чего прибавить, лишь мастер знает. И ежели соблюдет он все в точности, колокол на праздник позовет, в битву бросит, несчастных из мрака выведет.
Чудовы колокола благовестили.
Григорий Отрепьев, выступив из тени монастырской стены, запрокинул лицо, взглянул на колокольню, сказал:
— Вот и бездушен колокол, а господа славит.
Скромный монашек, стоявший рядом, изумившись на странные эти слова, оборотился к Григорию, но ничего не ответил. Только плечи поднял да заморгал испуганными на всю жизнь глазами.
А Григорий давно изумлял монастырскую братию. Впервые объявившись в монастыре, был он незаметен: ходил скромно, кланялся низко и в лице у него держалась робость. Узкие губы были поджаты. Ныне стало не то. Неизвестные доброхоты прислали монаху хорошее сукно на рясу, да такое, что многим выше чином впору. Ну да это ничего. Такое бывало: услужит монастырский кому из сильных, и его одарят. То пускай. Монах богу служит, но подаянием живет. Изумляло другое. Поначалу вдоль стеночек крался Отрепьев и ноги у него косолапо, по-рабьи внутрь носками выворачивались, плечи сутулились, руки трепетно к груди прижимались, но вдруг откачнулся от стены и вольно зашагал. Вот это и показалось диковинным. Иеродиакон Глеб, под чье начало отдали Григория, покатал в пальцах сукнецо новой рясы, сказал:
— Нда-а…
По горлу у него прокатился клубочек, дряблые складки на шее затрепетали.
— Славное сукнецо, — сказал, слабо шевеля лиловатыми губами. И в другой раз протянул раздумчиво: — Нда-а…
Повернулся к иконам и, вздохнув, осенил себя крестом.
Приметила монастырская братия и то, что нового монаха не принуждали от зари до зари тереть коленями церковные плиты. Послабление ему в службах дали, и, больше того, нет-нет да и уходил он из монастыря и пропадал невесть где день, два, а то и три. Да оно и это никого бы не удивило. Монахи для процветания монастыря и с кружками ходили, и многие службы на стороне справляли. Иной месяц ходит, а приволочется — еле живой. С кружкой ходить — труд не легок. Копейки собирать — не мед пить. И дождем монаха бьет, и солнцем палит, а когда перепадет ему кусок да и где? О горячем одни мечтания были. Так, пожует чего ни попало и дальше:
— Пода-а-айте на построение божьего храма!
Несладко. Отрепьев же из отлучек являлся гладким. И с каждым разом, приметно было, ходил вольнее, слова произносил медленноречивее, взглядывал покойнее. Будто кто вливал в его душу уверенность. И братия, безмерно тому изумляясь, зашепталась. Известно: слабы люди, любопытны, им бы в своем разобраться, ан нет — чужое знать хочется. В себя заглянуть трудно. Колупнуть болячку. А чужое что ж? Хоть и всю руку в рану запусти. Не твоя боль и не твои слезы. С уха на ухо заговорили в монастыре, а слышно стало с угла на угол.
В один из дней угрюмый монах Анисим, первым встретивший Григория в Чудовом монастыре, в очередную отлучку Отрепьева не то по злобе, не то по зависти к сытому его виду увязался следом. Хромой был, убогий, а прыть какую выказал. Знать, саднило в нем что-то, беспокоило. А может, надоумил кто? Среди людей всякое бывало. Шепнули: давай-де, Анисим, топай. А там поглядим.
Григорий вышел из монастыря и, опустив голову и не глядя по сторонам, пошагал через заброшенный сад подворья покойного князя Юрия Васильевича, брата покойного же царя Ивана Грозного. Юрий Васильевич затейником слыл большим. В саду у него, бывало, по деревьям сидели чудные птицы павлины, в ямах забавы для ревели медведи, по полянам бродили ручные лоси. Ныне все было не то: птиц распугали, лоси и медведи исчезли. О прошлом напоминали заросшие диким кустарником и колючим крыжовником, обвалившиеся ямины да годами неубираемая, грустно шелестевшая под ногами гниющая листва. В кованой, затейливого рисунка решетке ограды тут и там зияли проломы. Ветер давил на поросшие сизым мхом гонтовые крыши старого дворца, дикий плющ заплетал окна, под дождем разваливались белокаменные крыльца.
Григорий приметно поспешал, теребя беспокойной рукой крест на груди. Неожиданно навстречу ему из зарослей шагнула старая плешивая лосиха с треснувшим колокольцем на шее. Монах остановился. Лосиха, уставясь на него гноящимися, страдающими глазами, потянулась шишковатой головой, замычала по-коровьи, прося хлеба.
— Чур, чур, — вздернул руку, откачнулся от нее монах и зашагал поспешнее.
Лосиха смотрела вслед, в больных глазах копились слезы, как жалоба, мольба по былому. Да ныне много стояло опальных дворов в Кремле: в заброс и небрежение приходили домины князя Бориса Камбулат-Черкасского, князей же Сицких, боярина Шереметева и многих иных, что были в свои дни сильными. Кремлевская земля не луговина разнотравная, где под ветерком, спорым дождичком да солнышком цветики разрастались. Здесь мороз бил и крепкие корешки. Да еще так: глядишь, пышно цветет куст, а назавтра нет его. Повисли потемневшие в непогодь листья, и стебель сломался.
Григорий миновал подворье Кириллова монастыря и вышел к Фроловским воротам. Анисим, хоронясь, шагал следом.
У Кремлевского рва, на раскатах, корячились на тяжелых лафетах, колесами вдавившихся в землю, прозеленевшие пушки. Тут же стрельцы от нечего делать играли в свайку. Били острым шипом в круг. Ссорились, рвали друг у друга проигранные копейки. Лица у стрельцов красные, злые, шапки сбиты на затылки. А один кис от смеха, прислонясь спиной к пушечному лафету, гнулся пополам, задорил:
— Давай, давай, в ухо его! Проиграл — выложи…
Глаза стрельца выпрыгивали из орбит от дурацкой радости.
У лафетов, для бережения завернутые в тряпицу, лежали стрелецкие пищали.
Григорий прошел мимо, головы не повернув. Забавы стрелецкие никому в диковину не были. Целый день на раскатах в карауле торчать — от тоски изойдешь. Вот и баловали. Оно конечно, когда в походе, в непогодь, по раскисшей дороге киселя месить — не заскучаешь. Но вот так, у пушек, из которых забыли когда и стреляли, вольно было и свайку забить.
Перейдя ров, на берегах которого в лопухах сидели белоголовые мальцы с удочками — в стоялой воде караси были необыкновенно жирны, — монах окунулся в разливное море площадного торга. В шатрах, шалашах, со скамей и с рук торговали здесь жареным, пареным, печеным, соленым, вяленым, вареным, копченым. На прилавках лежала битая птица и огромные желтые сыры, завернутые в чистое рядно, стояло молоко в кадках, обернутых золотистой соломой, громоздился горой свежепеченый духовитый хлеб.
— Вот сбитень горячий! — кричали сбитенщики.
— А вот пироги, пироги! — надсаживались пирожники. — С мясом, с горохом, с морковью!
Чуть поодаль врастопырку стояли коровьи туши, белея нагулянным на хороших травах жиром. Рядом головы коровьи с прикушенными языками, свиные головы, припаленные на соломе, свиные же ножки для студня. В нос бил запах соленых грибков, густо приправленных травками. Масляток темноголовых с копейку в шляпке, рыжичков желтых, как доброе коровье масло, толстопузеньких боровичков. От острых запахов кружилась голова. Тут же ягоды моченые разных цветов и вкусов. И алые, и синие, и пунцовые… Так-то вымочить ягоду, чтобы она кругла была, словно только что сорвана, и ярка, большое умение надобно. Глянешь, и во рту слюна набежит, хотя бы и сыт был гораздо.
Крик стоял великий, гвалт и неразбериха. И бывалый человек растеряется. Шалаши и шатры эти непременно по три раза в год выгорали дотла, и оттого площадь перед Кремлем звали Пожаром, но истлеют угольки, и глядишь, новые лавки уже нагромоздили и вновь народ толпится. Купцы рвут полы. И не хочешь, а бери товар. А коли ненароком приценился да отказался, без сомнения, жареной курой или окороком и морду набьют. Да так и говорили: «Товар товаром, да вот при нем купец недаром».
Анисим приблизился к Отрепьеву. Потерять в толчее поопасался, а боязни, что тот приметит его, не имел. В такой круговерти не то что человека — груженый воз углядеть было трудно. Григорий, сторонясь торговых людишек, шагал по мостовинам, брошенным от Фроловских ворот к Ильинке. Но у Лобного места его все же сбили с мостков, затолкали, затискали среди груды тел. И Анисима тут же прижали. Народ закричал. Вора схватили. У какой-то бабы корчагу со щами опрокинули. На Григория навалился здоровенный дядька, и вовсе монаху дышать стало нечем. Но вот раздался народ, и Григорий увидел, как взметнулся над головами кулак и влип в лицо шпыню[28]. Брызнула кровь. Шпынь упал на колени, и юшка алая окропила серую пыль. Красное ударило в глаза Отрепьеву, как яркая вспышка, как язык пламени среди ночи. «Господи, — перекрестился монашек, — господи…» И руку ко лбу вскинул стоящий подле него Анисим. Но ни тот, ни другой не знали, что пройдут годы и на этом самом месте один из них прольет уже свою кровь и будет лежать тут же, изломанный, на худой лавке, с лицом, прикрытым сушеной овечьей личиной, а для потехи в мертвые руки вложат ему смешно раскрашенную берестяную дудочку. Другой же клятвенно скажет народу, что ведом ему лежащий под личиной человек, и назовет его имя.
И вновь шарахнулся народ в сторону, оттеснил Григория от Лобного места, вытолкнул на мостовины. Шпынь подкатился монашку под ноги, ища защиты, ухватился за рясу, за руки.
— Оборони! — крикнул. — Защити!
Шпыня оторвали от монашка, отбросили от мостовин. Народ закричал еще шибче. Но Григорий стоял уже в стороне. Клубок человеческих тел катался по пыли у Лобного места. Анисим увидел, как Григорий достал из-под рясы тряпицу и отер испятнанные кровью руки. Приметил и то, что пальцы у монаха не дрожали и отирал он руки словно не от алого живого человечьего сока, но от светлой водицы. У Анисима челюсть заходила, как в мороз, зубы стукнули. Страшно ему почему-то стало. Страшно.
Не медля более и минуты, Отрепьев поспешил с Пожара, вышел на Варварку и остановился у крепких ворот романовского подворья. Постучал в калитку. Ему открыли. Он сказал что-то отворившему калитку дворовому человеку, и его впустили. Калитка притворилась. Лязгнул крепкий засов.
На другой день, со слов Анисима, в монастырской трапезной один из монахов шепнул другому, указывая на Отрепьева:
— То романовский, известно, с чьего стола он морду наедает.
Но на том разговор и кончился. Будто, узнав об этих словах, кто-то властно оборвал пересуды. А сам Анисим вовсе забыл, что провожал монаха на Варварку. Малое же время спустя Отрепьева взяли к патриарху. Монастырской братии сказано было так:
— Сей монах в грамоте вельми навычен и послужит богу там, где ему указано.
Постельничий, неся тяжелый витой серебряный шандал о трех рожках, ввел Бориса в опочивальню. Поставил с осторожностью шандал на столец у царской постели и, поклонившись низко в ноги, неслышно вышел. Борис, приготовленный ко сну, в наброшенной на плечи легкой пупковой собольей шубке, минуту помедлил и, шагнув к окну, сел в кресло. В этом движении были усталость и надежда на отдохновение. Он запахнул поплотнее полы и откинулся на спинку. День кончился.
Ровное пламя свечей освещало тяжелый, изумрудного цвета, шитый золотой ниткой полог раскрытой постели, белые груды подушек. Глаза Борисовы кольнули слезки их жемчужных застежек. Царские пальцы гладили податливый, мягкий, медового глубокого цвета мех отворота шубки. Уютно зарывались в подпушь и опять ходили, не задерживаемые мыслью. В опочивальне чувствовался запах сандала и не было слышно ни звука. От изукрашенной изразцами печи дышало теплом.
Только царица ведала, что в минуты перед сном Борис, никогда не позволявший своей памяти и мгновения забывчивости, шаг за шагом и слово за словом прослеживал прожитый день. То был совет старого дьяка Андрея Щелкалова. «Бытия нашего земного мало, — говорил дьяк, — чему быть, того не миновать, но что было — знать и помнить обязан». И, словно кости магометанских четок, Борис ежевечерне перебирал в памяти случившееся за день. С годами это стало привычкой, от которой он не отступал. Лица, глаза людские проходили перед мысленным взором Борисовым. Улыбки, жесты, нахмуренные лбы видел он, не заслоненные многолюдством и суетой, не искаженные блеском дня и не прикрытые льстивыми речами. И голоса, голоса слышал, не заглушаемые шелестом бумаг и не измененные верноподданными интонациями. Лицо Бориса хмурилось или, напротив, освещалось добрым чувством, негодовало или радовалось. Но чаше оно было сосредоточенно-замкнуто, как сосредоточен и замкнут был Борис в окружении приближенных. Сегодня, однако, в лице царя проглядывало удовлетворение. Тому были причины.
Поутру Борис осматривал место, на котором должно было возвести храм Святая Святых. Цареву мечту и гордость. С великим интересом оглядывал заготовленный лес — уральскую пихту, которой веку нет в постройках. Свозимый в Кремль тесаный, многих цветов и оттенков камень. Бунты железных полос, кованных владимирскими лучшими кузнецами, славными тем, что вышедший из-под их молотов крепеж этот не имел раковин и трещин или иных изъянов. Только владимирцам ведомым способом они выколачивали из металла сырость, и полосы владимирские не брала даже ржа. Могучие стволы пихты, остро пахнущие смольем, были сложены колодцами, дабы дерево могло свободно дышать и выстояться, созреть, набрать силу, прежде чем лечь в тело храма. Тонкокорые стволы серебрились, словно покрытые воском. Стоя подле них, человек ощущал небывалую бодрость от духовитого запаха.
— Истинно, — сказал патриарх Иов, обращаясь к Борису, — сие дерево — божий дар России.
И другое ныне обрадовало Бориса. Из Архангельска была получена весть, что пришли корабли — и английские, и голландские, и французские — с богатыми товарами. Купцы предлагают сукно, пряности, медь красную, медь волоченую, медь в тазах, медь зеленую в котлах, олово, свинец, железо белое, серу и многое другое. Сообщалось, что еще ждут суда из Лондона, Амстердама, Дьепа. То были вести вельми знатные — в морской торговле Борис полагал будущее процветания российского.
Вокруг свечного огня уже довольно нагорело, но Борис не поднимался из кресла. Все так же в тишине рисовались тяжелые переплеты затененного ночью окна, мерцая искусно вплетенными золотыми нитями, светился в полумраке опочивальни драгоценный полог, теплом напахивало от печи, но Борис не видел ожидавшей его раскрытой постели, не ощущал тепла печи. Он был весь там, у будущего храма, вдыхая терпкий аромат согретого солнцем леса, видел паруса швартующихся у архангельских причалов судов, слышал скрип и треск мостков, по которым сносили с кораблей тюки, корзины и коробья с товарами.
Вдруг в Борисово сознание вошли неожиданные звуки. Царь было подумал, что это ему почудилось, но вот застучали по площади копыта коней, явственно раздались голоса. Борис приподнялся в кресле, уперся руками в подлокотники. Нет, день для него не кончился. Напряженным слухом царь отчетливо различил голоса и шаги на дворцовой лестнице.
— Государь, — тревожно сказал за дверями постельничий и повторил тверже: — Государь!
Дверь отворилась. В метнувшемся пламени свечей искрами брызнула медная ручка. На порог ступил царев дядька Семен Никитич. Шагнул вперед и, выставив бороду, выдохнул:
— Измена!
Борис сжал пальцами подлокотники. Семен Никитич приблизился еще на шаг.
— Государь, — сказал, — гонец из Царева-Борисова…
И задохнулся. Уж очень поспешал или вид тому показал. Слова застряли в глотке, но страшное слово было произнесено. И все, что мгновение назад стояло перед мысленным Борисовым взором, все, что слышал он, разом отлетело в сторону. Но царь не тронулся с кресла, только поднял руку и закрыл лицо, словно хотел заслониться от страшного. Так, молча, сидел он и минуту, и другую. Царев дядька стоял вытянув шею. Ждал. Вдруг Борис опустил руку и странно прозвучавшим голосом сказал:
— Говори.
У Семена Никитича кадык прошел по горлу, будто он проглотил непрожеванный кусок. Торопясь и сбиваясь, он рассказал, что гонец из Царева-Борисова привез весть об убийстве немецкого мушкетера Иоганна Толлера, о злонамерениях воеводы Бельского сколотить степную сволочь в воровскую шайку, о преступных его намерениях воевать Москву.
Борис был недвижим.
Семен Никитич подступил еще на шаг, и свеча высветила фигуру и лицо царева дядьки. Пригнутые, напряженные, как для прыжка, покатые, сильные плечи, выброшенные вперед руки, крутой, как стиснутый кулак, кадык на перевитой набрякшими жилами шее. Но более другого изумило царя Бориса лицо Семена Никитича. Не растерянность, гнев или ожесточение разглядел он в лице дядьки, но никак не ожидаемую в мгновение сие радость. Нет, лицо не улыбалось, напротив, губы Семена Никитича были искривлены и изломаны злобой, надбровья тяжело нависали над возбужденными глазами, щеки прорезали суровые морщины — и все же лицо было озарено радостным торжеством. Оно горело в нем, как отблеск пожарища. И крики, и стоны вокруг, мольбы, стенания и плач, но пламя ревет, гудит, не оборимое ничем, вскидывается страшными языками, и нет для его страданий, слез, боли испепеляемых жизней, а только своя, всесокрушающая сила и радость от этой силы.
Борис все медлил со словом.
Семен Никитич, выговорившись, смолк. Слышно было только дыхание — прерывистое и хриплое. Но возбуждение его не улеглось. И застывший в молчании царев дядька уже не словами, не движениями, но всей сущностью своей опалял недвижимо сидящего царя. И Борис, острее и глубже понимающий окружавший мир, видящий гораздо яснее и дальше, нежели дядька, распознал, прочел и разделил не высказанные Семеном Никитичем чувства и слова. Немедля, прямо с порога царевой спальни, с кремлевской площади броситься в погоню — вот что прежде другого угадал в дядьке Борис. В упоительную погоню по кровавому следу, когда алые маки пятен перед глазами, раздражающие нюх и распаляющие жар мышц. В погоню… Настичь, сшибиться, свалить и впиться в глотку.
Борис отнял руку от подлокотника, медленным движением наложил пальцы на переносье и огладил надбровья, снимая тяжелую усталость. Он уже знал, как распорядиться силой и страстью Семена Никитича и тех, что были у него под рукой. А таких было немало. Ох, немало… Не подумал лишь царь Борис об ином: мельник, отворяя плотину, обрушивает поток на жернова, что крошат зерно, предназначенное для хлеба, а он словом своим другие камни поворачивает. Камни, что жизни людские разотрут, и не мука из-под них потечет, но кровь.
Слово царское повернуло грозные жернова.
Спешно, на хороших телегах, ошиненных добрым железом, к Цареву-Борисову был послан стрелецкий полк. Людям было сказано: полк идет на смену застоявшимся на дальних рубежам стрельцам, коим милость царская будет — отдохнуть от службы на родных подворьях в Москве. Цари всегда хорошее впереди обещают. И вовсе не многие знали, что с полком идет Борисов дядька, боярин Семен Никитич. Как не знали и то, что идут с боярином доверенные его люди — Лаврентий со товарищи. Полк делал по тридцати и более верст в сутки. Остановки были коротки, хотя всякий раз на привалах над кострами навешивались котлы и стрельцы, не в пример другим походам, горячим хлебовом обижены не были.
— Так-то можно и в дальней дороге не спотыкаться, — отваливаясь от котла, сказал стрельцу Арсению Дятлу молодой Дубок. — А, дядя?
— Ну-ну, — ответил Арсений, однако более ничего не добавил. Он понимал, что куры в кашах от доброты душевной в походах не дают, и ждал: к чему бы такое?
Семен Никитич среди стрельцов почти не показывался, ненадолго выходил размяться на привалах и опять в возок. Однако Арсений углядел, что лицом царев дядька хмур. Но вот ближний его человек — Лаврентий — вертелся волчком в стрелецкой гуще. То к одному костру подсаживался, то к другому, здесь веселое слово говорил, там бойкую шутку подбрасывал. Глаза его блестели, и улыбка не сходила с губ. Стрельцы к нему льнули. Веселый человек и ловок, ах, ловок! Такой в походе подарок: с ним и шагать легче, и на привале душевнее.
Версты наматывались и наматывались на колеса.
До Царева-Борисова оставалось рукой подать, солнце было еще высоко, и до крепости непременно к вечеру полк поспел бы, но вышла команда остановиться, распрячь коней и отдыхать. Однако, к общему удивлению, на сей раз костры велено было не зажигать, а обойтись сухарями, вяленым мясом да рыбой. И строго-настрого в полку сказали: «Осмотреть со тщанием боевую справу». Стрельцы еще более удивились: вот те на — подходили к своей крепости, а приказ был такой, будто впереди их ждали вороги. Стрельцы в недоумении приуныли, но колесом по стану покатился Лаврентий. На сей раз он бойкостью все прежнее свое превзошел. Костров не было, так искры от него сыпались, да как еще — и не хочешь, а согреют. И стрельцы успокоились. Вяленое мясо полотками горячими показалось. А как стемнело, укладывались под телеги и вовсе с легкой душой. Шутка, слово веселое, известно, и усталость снимет, и тревогу облегчит. Да и небо над головами стояло высокое, тихое, мирное, усыпанное огромными, чуть не в тележное колесо, звездами. Млечный Путь, Моисеева дорога, широкой полосой вставал над степью. Густой, душистый запах не по-российски обильных трав кружил головы, баюкал.
Арсений, лежа под телегой, покусывал булку крепкими зубами, поглядывал на непривычно яркое небо. Соображал.
— Ты что, дядя? — поднял от кошмы взлохмаченную голову Дубок.
— Спи, спи, — махнул рукой Арсений, — твое дело молодое.
Дубок посмотрел на него сонными глазами и, уютно умостив голову на дорожном мешке, уснул, натянув на себя рогожную хламиду. Из степи тянуло свежим. Звезды, мерцая, казалось, ниже и ниже опускались над землей. Над ковылями пополз реденький, белесый туман, странно и чудно игравший тенями в лунном свете. Закрытая туманом степь вдруг представилась Арсению заснеженным полем с пляшущими всполохами поземки. А через минуту-другую степь выказала себя по-иному. Будто бы уже не буранилось заснеженное поле, но катила широкая, полноводная река, вскипали упругие струи, сшибались, выбрасывались кверху и опять мощно, сильно устремлялись дальше. Вот только не было слышно всплесков, не звенели струи, не говорили многоголосо на каменистых перекатах, но текли беззвучно. Запах трав стал еще явственнее и острее.
«Чудо, — покачал головой Арсений, — истинно чудо». Провел рукой по лицу и ощутил под пальцами влагу. Туман садился моросной капелью. Арсений решил, что к полуночи похолодает. Но не это занимало его. Он хотел понять, почему так поспешает полк в Царев-Борисов. День, два или неделя для смены стрелецкого наряда на степных рубежах не имели значения. И стрелец догадывался, что здесь было иное. Тревожная неизвестность бередила сознание Арсения. Он знал, что в Цареве-Борисове воеводой сидит Богдан Бельский, а Арсений хорошо помнил Богдана. В памяти всплыло, как вылетал Бельский на коне на Пожар, кричал людям: «Боярской Думе присягайте!» Помнил и то, как ударил его воевода злой плетью. Все помнил стрелец, и оттого тревога все более бередила душу. Однако сказать Арсений не мог, чтобы на Москве хотя бы единым словом кто обмолвился: Богдан-де на рубежах, вдали от белокаменной, балует. Нет, того не слышал. «Так что же всполошились в Кремле? — думал. — Почему дядька царев с полком идет? Нет, — решил, — то неспроста, от скуки Семен Никитич в поход не потопает. К чему боярину такое? Скорее всего, тайком Богдан что-то умыслил и о том Москва прознала».
Дубок во сне что-то забормотал. Арсений обернулся к нему. Полная луна освещала спящего стрельца. Дубок вовсе по-детски сложил губы, пошлепал ими сладко. «Ишь ты, — подумал с теплотой в груди Арсений, — словно материнскую титьку сосет». Заботливо потянулся к Дубку, поплотнее прикрыл рогожкой от ветра. И опять мысли вернулись к Богдану Бельскому. «Эх, люди, люди, — подумал стрелец, — не сидится вам в мире, неможется добром меж собой ладить». Откинулся к тележному колесу, уперся спиной.
А туман густел, белые волны в лунном, призрачном свете вздымались, как пена на молоке в горшке на припечке. Веки стрельца смежились, мысли смешались, и он задремал. И уже во сне привиделось ему: Пожар, Бельский на коне и народ, народ кругом… И во сне же подумал: «Так оно и было». Но разглядел, что в этот раз в руке у Бельского не плеть, как в памятный день на Пожаре, но кривая сверкающая татарская сабля. «Эге, — сообразил стрелец, стоя против воеводы, — вот оно как теперь будет». Бросился вперед и ухватил воеводу за руку, вывернул ее на сторону, вырвал саблю. «Нет, — сказал, глядя в бешеные Богдановы глаза, — не быть по-твоему, воевода. На Москве подворье мое, других людей родные дома, церковь моя, погост, на коем отец лежит… Рушить Москву мы не дадим». Бельский крикнул что-то в ответ, но народ вокруг зашумел: «Бей его, бей!» И крик этот был оглушителен. За спинами людей полыхнуло красным, как ежели бы вскинулись высокие языки пламени, и тут же в толпе ударил барабан.
Барабан! Арсений встрепенулся. Над станом били литавры, гудел барабан.
— Что! Как! — вскинулся со сна Дубок.
— Давай поспешай! — крикнул Арсений.
А вокруг уже суетились люди, впрягали лошадей в телеги, грузили боевую справу. Лагерь разом поднялся по тревоге. Но прежде чем тронуться в путь, перед стрельцами на телегу влез боярин Семен Никитич. В руках у него при свете луны они увидели свиток. Царев дядька развернул бумагу и крикнул в толпу:
— Воевода Царева-Борисова замыслил воровское дело, и вам, стрельцы, государь повелел вора схватить и, не мешкая, с воровскими его людьми в Москву представить!
Среди стрельцов кто-то растерянно ахнул. Стоящий подле Арсения могучего сложения сотник шапку передвинул на лоб. Другой стрелец зло ощерился и, поворачиваясь всем телом в одну и в иную сторону, заговорил с ожесточением:
— А? Псы… Вот псы… Ну держись… Псы поганые… Неймется им…
На худом его лице угласто проступили скулы. Царев дядька, раздувая от натуги шею, прокричал:
— И за то будет вам, стрельцы, царева благодарность и царева милость!
Получаса не прошло, как полк, вытянувшись по степи, пошел к Цареву-Борисову. Кони, туго натягивая постромки, хрипели в тумане, стучали по сурчиным взгоркам колеса телег, глухо били в землю стрелецкие каблуки.
— Во как, дядя, дело-то обернулось, — заглядывая в лицо Арсению, сказал Дубок.
— Ничего, парень, — ответил стрелец, — ничего, поглядим…
Полк прибавлял и прибавлял шаг. Стрельцы были злы.
— Как, — говорили, — опять верхние за прежнее принимаются?
— Знать, без набата да резни невтерпеж…
— А верно, ребята, слава богу, живем мирно под Борисом, чего уж…
— Да…
И полк еще наддал в шаге.
В одной из передовых телег катил Семен Никитич. Полковник, сидевший рядом, поглядывал на него, ждал, чего скажет боярин, но царев дядька помалкивал. Вот и с яростью бросился в степь боярин, а как подходить стали к Цареву-Борисову, примолк. Понимал: в крепости и стрельцов, и казаков довольно и, ежели возьмутся они крепко, прихлопнут полк, как муху. В Кремле, перед царскими очами, вольно было пыжиться силой, задорить и себя и других, ан вот в степи по-другому представился Семену Никитичу Бельский. Издали-то и кошка мышью кажется, а вблизи… Знал Семен Никитич: воеводе Богдану ловкости не занимать. Этот всякое видел… Телегу потряхивало, и настороженно поглядывал из-под низко надвинутой шапки царев дядька. Складки шубы, в которую кутался он зябко в предутренней сырости, топорщились, ложились по-неживому. «Знать, — подумал полковник, — под шубой-то кольчужка… Ну-ну…»
Царев-Борисов открылся взору вдруг. Засинело впереди, и тут же проглянули в тумане беленые дома, а вокруг них вал и крутые раскаты. Городок спал, и ни огонька не светило за валом, не поднималось ни дымка. Зоревой, сладкий для сна час баюкал Царев-Борисов. Раскаты были изумрудно-зелены, безмятежно играли росой.
Полк остановился. Горяча коня, на виду у всех к телеге Семена Никитича подскочил Лаврентий. Царев дядька сказал ему слово, и Лаврентий, жестко приняв поводья, развернул коня и негромко, но так, что услышал каждый, свистнул в прижатый к губам палец. «Ну, этот, — подумал Арсений, — не только плясать умеет. Так-то свистеть на большой дороге учатся, да и не каждому наука эта дается». А из-за стрелецких телег уже выскакивали шедшие с полком одвуконь люди Лаврентия. Немного, с полсотни, но, по всему видать, тоже из тех, что не только шутки шутят. Кремлевские жильцы. Как один подбористые, рослые и, чувствовалось, в седле крепкие.
Не мешкая, без лишней суеты, полусотня сбилась клином и пошла к крепости. По дороге пыль завилась. Легкая степная пыль и горькая на вкус, так как трудно сказать, чего больше пало на древние эти дороги — дождей или крови половецкой, кипчакской, татарской, монгольской, русской и иных многих народов, никак не умевших в войне поделить благодатные сии земли. А ей-то, земле этой, одного, наверное, хотелось — плуга, который бы и накормил всех, и помирил. Но нет, опять вот стучали по ней, пылили копыта боевых коней.
Полку было велено, чуть приотстав, идти следом.
— Что, дядя? — спросил Дубок.
Арсений оглянулся на него и в другой раз отметил, что стрелец-то еще мальчонка, не более. Предутренний свежий ветерок даже щеки ему окрасил по-детски ало.
— Ничего, — ответил, как и в первый раз, — молчи.
Лаврентий с полусотней подскакал к воротам. И как ежели бы ему невтерпеж было, как ежели бы гнал он от Москвы, не щадя, коней по срочному цареву приказу, а вот те на — замедление вышло оттого, что воротная стража, не помня службы, спит в предутренний час, — закинул голову к смотровому оконцу и вскричал нетерпеливо и властно:
— Э-ге-ге!
Оконце растворилось со скрипом. Моргая, выглянул стрелец.
— Ну! — вскричал Лаврентий. — Спите!..
И пустил крепкие слова да так по-московски курчаво и солоно, что у стрельца и тени сомнения не осталось в том, кто подскакал к воротам. Через минуту растворилась воротная тяжелая калитка, и стрелец вышагнул навстречу подскакавшим. Хотел было порядка для спросить все же, кто, мол, такие и отчего в такую рань тревожат, но Лаврентий взмахнул плетью, и она удавкой охлестнула горло стрельцу. Воротной захрипел и упал с вывалившимся языком. А молодцы Лаврентьевы уже вломились в калитку и вязали полусонную стрелецкую стражу.
Далее, почитай, все так и сталось, как задумал Семен Никитич. Полк вошел в ворота и растекся по крепости еще до того, как стрельцы Бельского разлепили глаза ото сна. Москва с носка бьет и сразу на грудки садится.
Полусотня Лаврентия подскакала к воеводину дому. Стрелец с крыльца вскинул было пищаль, но Лаврентий метнулся в сторону, подскочил к стрельцу и наотмашь рубанул ладонью по груди. Стрелец повалился, глухо стукнувшись головой о перильца. Лицо у него посинело. Глаза вылезли из орбит. Вот как умел подручный Семена Никитича, ну да то давно было известно. Лаврентий вскочил в горницу. Богдан голову поднял с подушки, увидел чужого человека и метнулся рукой к сабле.
— Лежи, — жестко, так, что у воеводы рука опустилась, сказал Лаврентий. И уже вовсе тихо, даже с лаской, повторил: — Лежи.
Бельский замер: не без ума был воевода и разом сообразил, что за человек вскочил к нему в горницу. Кровь прилила к глазам у боярина, и подумал он, что лучше бы ему умереть сегодня не просыпаясь.
Тяжко ступая по скрипучим половицам, вошел Семен Никитич. Постоял, оборотил лицо к Лаврентию, сказал:
— Выйди.
И, только дождавшись, когда стукнула дверь, присел на лавку. Достал большой платок, отер лицо и усы, сунул платок в карман, повернулся к Богдану. И хотя вот в исподнем взял воеводу, но не позволил себе Семен Никитич ни улыбки, ни усмешки, но только поднял глаза и долгим взглядом посмотрел в лицо Бельского. Что было в его взоре, прочел Богдан, и лицо воеводы посерело, уши прижались к голове, к легкомысленно, бездумно взлохмаченным, взбитым во сне волосам. За окном хлопнул выстрел, другой… В лице Бельского мелькнуло живое. Но Семен Никитич и бровью не шевельнул, лишь, чуть разомкнув губы, сказал:
— То пустое.
Выстрелы смолкли. Двое в горнице застыли в молчании.
Пустое, однако, для царева дядьки Семена Никитича было последним мгновением молодой жизни московского стрельца Игнатия Дубка.
Правая рука воеводы в Цареве-Борисове, сотник Смирнов, услышав тревожный шум на улице, глянул в окно, увидел московских стрельцов и, все уразумев разом, как и воевода его, выскочил из дома и садами, хоронясь, пошел к задним воротам крепости. Знал: кому-кому, а ему-то в первую очередь голову сорвут. Еще и так подумал: «Бельскому, по знатности рода, царь Борис может и оставить жизнь, а мне — петля». Бежал по саду, ломясь сквозь сучья, задыхался и, не сообразив в спешке, как незаметно пробиться к воротам, вылетел на стрельцов. Повернул, но за ним уже бросились двое. Смирнов вскинул пищаль и чуть не в упор ударил в Дубка. Дубок еще увидел, как пыхнул дымком порох на полке пищали, различил огненный всплеск, и все для него померкло. Арсений подхватил молодого стрельца, положил на землю, раздернул кафтан на груди. Из раны черным ключом била кровь. Дрожащими руками Арсений приткнул к ране тряпицу, но на глаза Дубка уже опускались чернеющие веки. И вдруг до боли остро, ясно, как в яви, увиделась Арсению крохотка синица-московка, далекие годы назад закрывшая глаза в его трепетной мальчишечьей ладони.
Смирнова достиг и свалил стрелец, что на рассвете на царев приказ взять воров в крепости, оборачиваясь к товарищам, говорил, зло ощерясь: «Псы… Вот псы… Неймется им…»
Арсений поднял Дубка и понес к телеге. Вот тогда и смолкли выстрелы.
Семен Никитич встал с лавки, сказал:
— Собирайся, воевода. Без порток в дорогу негоже. — А стоя в дверях, добавил: — Поспешай. Ежели сказать правду, времени у тебя осталось вовсе немного. — И не удержался, усмехнулся: — Да и дни-то, думаю, не лучшие тебя ждут.
О времени, только о днях лучших, как ему казалось, думал и канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега. Канцлер уже знал о случившемся в Цареве-Борисове. Он так посчитал: царь Борис не пощадит Богдана Бельского, прольет кровь и тем всколыхнет родовитую Москву. «Кровь Богдана, — думал канцлер, — ударит по роду Годуновых сильнее царь-пушки. Бояре не простят ему этого». И спешил, спешил поспеть к сроку в Москву. «Зашатается царь Борис, — считал, — мягче воска будет. Уния ему столпом покажется, на который опереться можно, и вот тут-то и свершится задуманное». Лев Сапега в возбуждении стукнул сухим кулаком по столу. Наконец-то все сходилось в его планах и концы связывались.
Однако выяснилось, что есть-таки помеха, и помеха неожиданная — король Сигизмунд. Хотя, по размышлении, неожиданностью назвать это было, пожалуй, нельзя.
Король оправился от своего недуга, но со свойственным ему легкомыслием не спешил распорядиться об отправке в Москву великого посольства с одобренным им договором. И одной из главных тому причин стал Илья Пелгржимовский, великий заступник шляхетской чести.
Случилось так, что однажды король после очередной охоты в диких польских пущах неведомо как попал в имение пана Пелгржимовского. Известно, что Сигизмунд не любил ничего польского, но именно пану Пелгржимовскому удалось открыть глаза его величества на одну из гордостей каждого поляка — неповторимую польскую кухню. О, сладостные, бурлящие кровь польские меды! О, прозрачнейшая, крепчайшая, обладающая неслыханным ароматом, старая польская житная водка! Сердце короля дрогнуло. И тут в бой пан Пелгржимовский двинул обжигающий польский бигос. Да какой бигос! Из дикого кабана! Минуту спустя были поданы тающие во рту кныши со сметаной, кровяные польские колбасы… Да, пан Пелгржимовский сумел сломить неприязнь короля. В довершение всего пан писарь Великого княжества Литовского торжественно отправился на кухню, дабы своими руками сварить известный только ему по старинным рецептам, истинно польский суп из свиных ушей и хвостов. И вот уже вторую неделю король Сигизмунд не выезжал из имения пана Пелгржимовского и не хотел видеть ни единого человека, хотя бы даже прискакавшего из Варшавы для сообщения его величеству о том, что рухнул главный храм столицы — храм Святого Яна.
Шляхетская гордыня пана Пелгржимовского была неуемна.
У ног короля сидели его мрачные датские доги. Квадратные их головы едва ли уступали по размерам лошадиным. И несмотря на то что доги невзначай придушили двух лучших кобелей из своры пана Пелгржимовского, он велел подать им на оловянных подносах колбасы с панского стола. Король одобрил рыцарский жест пана поднятием еще одного кубка. И, уже окончательно сломившись под натиском тройной крепости житного эликсира, простил пану Пелгржимовскому даже его пышные польские усы.
Сгибаясь под тяжестью невероятных размеров блюда, холопы внесли нечто вовсе невообразимое — сооружение из кабаньих голов, торчащих во все стороны оленьих рогов и каких-то перьев. У короля начали пучиться глаза. И разве было здесь место для каких-то межгосударственных договоров, велеречивых статей, многозначительных пунктов? Но канцлер литовский Лев Сапега все же пробился сквозь редуты бутылок, штофов, тяжелую артиллерию неподъемных графинов. В какую-то минуту ему удалось отвлечь пана Пелгржимовского от королевского стола.
Пан предстал перед канцлером. Писарь Великого княжества Литовского был нетверд на ногах, усы его не были столь роскошны, как обычно, однако он нашел силы сделать конфиденциальное заявление:
— Но король, боюсь, сейчас не в силах… Э-э-э…
И пан Пелгржимовский выразительно развел руки.
Лев Сапега принял решительные меры. Он предложил пану Пелгржимовскому устроить для короля увеселительно-освежающую прогулку. Пан писарь Великого княжества Литовского угрожающе качнулся, однако все же сумел повернуться и уже довольно уверенно вошел в зал к королю. Немедленно к ступеням дворца была подана карета, а некоторое время спустя поддерживаемый под руки король соизволил прогуляться. Его тут же водрузили на мягкие сиденья кареты, и кони под оглушительный лай королевских догов тронулись. Кучеру было дано строгое указание править непременно против ветра, с тем чтобы благотворные струи полнее и свободнее овевали королевскую особу. На третьей версте король задремал, и это вдохнуло в канцлера надежду, что уже сегодня он добьется своего.
Но верста проходила за верстой, по сторонам от кареты проплывали очаровательные опушки и перелески, бежавшие за каретой доги вывалили языки, а король спал. И опять проплывали перелески, доги начали натужно хрипеть, и Лев Сапега уже всерьез подумывал о замене спотыкавшихся лошадей. Король по-прежнему спал. Но вдруг глаза его раскрылись, и Сигизмунд увидел перед собой жесткое, непреклонное лицо канцлера Великого княжества Литовского. От неожиданности король заморгал, словно пытаясь отвести наваждение.
— Ваше величество, — сказал канцлер наступательно, — необходимо незамедлительно отдать распоряжение об отправке посольства в Москву.
Король смотрел на Льва Сапегу ничего не выражающими глазами. Канцлер по-прежнему в наступательном тоне рассказал о случившемся в Цареве-Борисове. Взгляд короля нисколько не изменился. Тогда Лев Сапега ударил последним и главным козырем.
— Мои шпиги доносят из Москвы, — сказал он, — что воевода Бельский схвачен и уже брошен в темницу только потому…
Канцлер приглушил голос и склонился к уху короля. Едва размыкая губы, дабы голос не был слышен кучеру, он рассказал, что гнев царя Бориса обрушился на воеводу, так как тот на исповеди поведал духовнику страшный секрет.
Король выпрямил спину.
— Ваше величество, — продолжил Лев Сапега, — Богдан Бельский сказал, что он и Борис умертвили, отравив ядом, царя Ивана Васильевича и царя Федора Иоанновича.
Глаза Сигизмунда расширились и неотрывно впились в лицо канцлера.
— Духовник Бельского, — сказал Лев Сапега, — сообщил об исповеди патриарху, тот донес это до царя, и тут же последовал указ об опале.
Сигизмунд был само внимание. Яды, цареубийство — ох как это понималось им!
Теперь Лев Сапега уже без напряжения высказал все свои соображения относительно удачности момента для начала переговоров с Москвой.
Карета въехала под тень деревьев и остановилась. Королевские доги, вздымая бока, легли в пыль дороги.
— Да, — наконец сказал король, — время не ждет.
Иван-трехпалый узнал о смерти сотника Смирнова, ступив на паром, что перевозил за грош через Днепр желающих попасть в Сечь — столицу вольного казачества. Паром был заставлен многочисленными арбами, заполнен плотно стоявшим друг к другу беспокойным и горластым народом, однако Иван среди бесчисленных лиц вдруг увидел знакомого казака.
В отличие от других тот, нисколько, видать, не опасаясь за свою жизнь — утлый паром гулял и зыбился под ногами на быстрых днепровских струях, — свободно расположился у края опасно вспарывающих течение бревен и благодушно взирал на чаек. Иван, посчитав, что мыкать дорожные невзгоды всегда лучше с добрым знакомцем, нежели в одиночку, оставил свою лошадь под присмотр подвернувшегося под руку дядьки в продранной соломенной шляпе и протолкался к казаку. Ударил по плечу и вскричал:
— Хорош!.. А ты, видать, не признаешь старых знакомых?
Казак живо оборотился к Ивану и расцвел улыбкой:
— Москаль?.. Э-э-э, друже, який ветер закинул тебя в нашу краину?
Не медля далее и мгновения, он запустил руку в ближний к нему воз и, видать, сам тому немало изумившись, вытянул из его глубины вяленого леща величиной с полковую сковороду. Сидящий на возу дядька глянул на казака с неодобрением, но тут же и отвернулся. Здесь каждому было известно, что нечего с казаком из-за малости вздорить, так как может воспоследовать неожиданное и тогда не малость, но все потеряешь. Казак же, и вовсе не обращая внимания на хозяина воза, навычной рукой в одно усилие содрал с леща шкуру, да так, что чешуя разлетелась золотистым веером, разодрал рыбину пополам и тут же, сняв с пояса немалую флягу, свинтил с нее крышку и подал посудину Ивану со словами:
— То добрая горилка! А я все думку имею, с кем бы мне опохмелиться! Не поверишь, москаль, душа в одиночку не приемлет и малой толики. С богом!
На все это да и на сами слова ушла у казака минута, не более. Ловкий был хлопец, ничего не скажешь.
Горилка была и вправду хороша, да хорош был и лещ, так налитой ядреным жиром, что рыбина, несмотря на грузную толщину в спинке, просвечивала каждой косточкой.
Паром вышел на середину Днепра, и бревна под ногами переправлявшихся так заплясали, так начали ударять друг о друга и прогибаться, что население ненадежного этого сооружения заволновалось, запричитало, крестясь и отплевываясь от нечистой силы, наддававшей снизу только лишь — по общему убеждению — из одного сатанинского желания погубить православные души.
Дядька, сидящий на возу, из которого казак раздобылся славным лещом, беспрестанно осенял себя крестным знамением и повторял раз за разом:
— Чур, меня, сатана, чур!
Хозяева прочих возов, доставлявшие в Сечь румянобокие, пышные хлебы, которые едят непременно горячими и с маслом, коржи из доброй пшеничной муки и продолговатые поляницы из доброй же муки, гречаники, хорошие к любому столу, перевязи бубликов, кухвы с желтевшим в них маслом и многое-многое другое, — все, как один, закричали дикими голосами на паромщика:
— Давай же, чертов сын, сей миг поворачивай к берегу!
Знакомец Ивана, поглядев на все это беспечальными глазами, сказал одно:
— Нехай их!
И вновь оборотился к собутыльнику. Опустошив флягу и изрядно перекусив, друзья разговорились. Вот тогда казак и рассказал Ивану, как свалили сотника Смирнова. Однако сожаления в его голосе не чувствовалось. Напротив, сплюнув в быструю воду, казак сказал:
— По правде, собакой он был, сотник. Парнишку — стрельца — убил ни за что… Нет, — и казак в другой раз сплюнул, — собака, точно… И пришибли его как собаку.
Иван меж тем ощупывал беспалой рукой зашитое на груди тайное письмо. Ненужным оно теперь стало, и Ивана от радости даже жаром обдало. Как ни есть, а все в мыслях держал: письмо это для него — петля.
Казак между тем со свойственной вольному человеку легкостью обратился к Ивану.
— А ты, — сказал, — правильно сделал, что на Сечь прибежал. Здесь, смотри… — И он повел окрест рукой с зажатой между пальцами короткой казацкой люлькой. И в широком этом движении было так много всего, что трудно выразить словами. Но прежде, конечно, несказанно прекрасное ощущение свободы, независимости ни от чего и ни от кого. Удаль, присущая всему казачьему миру. Безмерная радость — жить под солнцем.
Паром, преодолев течение, повернулся к бьющим в боковину волнам тыльной стороной и, значительно прибавив в скорости, покатился к желтому песчаному плесу как-то сразу приблизившейся Хортицы, на которой ныне сидела Сечь, не раз и не два, в зависимости от обстоятельств кочевой своей военной жизни, менявшая место расположения.
Ткнувшись в берег, паром стал. При этом крепком ударе многие из переправлявшихся не на шутку зашиблись и даже волы, всегда невозмутимо жующие жвачку и неизменно со спокойствием взирающие на мир, испуганно округлили глаза. Потирая больные места и недобрым словом поминая паромщика, не мешкая, люди посыпались на берег.
Иван свел лошадь с парома, отошел чуть в сторону, с ожесточением рванул из-под армяка тайное письмо и, бросив его на песок подле воды, зло начал топтать каблуком. Он так бил в клочок бумаги, скатавшийся сразу в грязный комок, будто хотел вколотить в зернистый песок не письмо сотника, но всю свою прошлую жизнь, со всеми ее обманами, воровством, кровью, неверием ни в бога, ни в черта… Бил и бил до тех пор, пока бумага не распалась на мелкие частицы и наконец не затопталась в проступившую из-под песка жижу. В яростном ожесточении, однако, Иван не подумал, что человек может, конечно, затоптать клочок бумаги, и не только его, но никому не дано уйти от своего прошлого.
Когда Иван возвратился к поджидающему его знакомцу, тот спросил:
— Чего это ты?
Но Иван махнул рукой и не ответил. Да казак тотчас и забыл об этой странности, так как вообще не давал себе труда задумываться над чем-либо, но жил, как живет дерево или трава.
Впрочем, так жил не только знакомый Ивану казак, но вся Сечь. Сюда сходились беглые крестьяне и холопы, а также те, кто был так или иначе стеснен жизненными обстоятельствами, те, кого не удовлетворял тяжкий труд хлебопашца, а горячая кровь не позволяла изо дня в день держаться за чапыги плуга. Были среди запорожцев натуры незаурядные, мощные, крупные, но были и тати, омочившие руки в праведной крови. Были обиженные, и были обижающие.
Всякие здесь были люди, и странное это сожительство натур, характеров, силы и бессилия, веры и безверия, целеустремленности и почти абсолютной бесцельности давало удивительный сплав, называемый Сечью. В иные годы Сечь наполнялась без всяких видимых к тому причин многочисленным народом, в другие обезлюдевала, в одно время, ожесточась и накопив силу, бросала свои боевые челны к берегам Анатолии, в другое — седлала коней и шла громить польские местечки и города. Здесь никогда и никто никого не спрашивал, откуда он пришел и зачем, так же как не спрашивали, почему он уходит, ежели тот или иной забирал саблю, укладывал нехитрое имущество в седельные сумки и садился на коня. Приходившему говорили неизменное «здравствуй», уходившему короткое «прощай». И все на этом кончалось. Общие же дела Сечи решались на круге, на который сходилось все ее население. Решали в крике, в драке, и побеждал часто тот, у кого голос был громче, а кулак увесистее.
Иван-трехпалый со знакомым казаком прибыли в Сечь как раз в тот боевой час, когда шумный ее народ решал, собравшись на круг, какой-то из спорных вопросов. И хотя Иван повидал всякого и со всячиной, но и ему было здесь чему подивиться.
На круге седоусые дядьки и вовсе молодые казаки в мохнатых кожухах или легких свитках, в смушковых шапках или без оных, в нарядных жупанах или в полотняных драных шароварах, не договорившись, схватились на кулачки. То было лихое побоище, где в ход уже были пущены и тройчатки — злые плети из воловьей кожи — и батоги. Многочисленное население Сечи, казалось, в один дух отплясывает какой-то совершенно непостижимый гопак. Поле, затянутое желтоватой, взбитой каблуками пылью, кружилось в бешеном вихре. Из желтых пыльных клубов нет-нет да и вырывался то один, то другой казак, выдирал из ближайшего плетня здоровенную дубину и вновь устремлялся в пыльное марево.
Знакомец Ивана остановил было одного из таких бойцов громким криком:
— Пидсыток!
Но тот только глянул на него и, не задерживаясь ни на миг, бросился в самую гущу дерущихся. Казак тут же последовал его примеру, неведомо как определив, на чьей стороне должен он выступать в свалке. Оставаться безучастным Иван никак не мог, да такого не смог бы и другой, даже и робкий.
Через час, получив под оба глаза по доброму синяку, Иван-трехпалый был уже совершенно своим человеком в Сечи. Правда, знакомый казак все же привел его к кошевому. Тот, здоровенный дядька с могучими усами, ниспадавшими чуть ли не до самой груди, одобрительно глянул на украшавшие лицо Ивана следы недавнего боя и сказал:
— Добре. Отведи его к Кирдюгу.
— Ни, — ответил казак, — то негоже.
— Тогда отведи его к атаману Касьяну.
— И такое негоже, батько, — отвечал на то казак, — мы думку имеем: вин буде у нас.
— И то добре, — сказал кошевой.
Так Иван остался в Сечи.
С Игнашкой, собакой взвывшим на своем крыльце от безнадежности и великой жалости к себе, как это всегда случается на Руси, обошлось. Татарин наутро, как и обещал, привез посевное. С недовольным, каменно-невыразительным лицом столкнул с телеги мешки, спрыгнул на землю, по давней привычке поцыкал сквозь зубы, огляделся.
Игнашка стоял опустив руки.
— Но-но, — промычал Татарин, — ты это… Мужик здоровый, чего там…
Повернулся, взял в передке телеги что-то завернутое в рядно, сунул Игнашке и, ничего более не говоря, пошел по двору, выворачивая ноги. На влажной от росы земле оставались за Татарином четко впечатываемые следы каблуков. Под навесом у амбара, углядев соху, Татарин остановился и, крепкой рукой завалив ее на одну сторону, на другую, обежал узкими глазами.
— Подь сюда, — вскинув голову, позвал Игнашку.
Тот подошел.
— Обжи, — властно сказал Татарин, — новые выруби. — И еще раз повернул соху. — Палицу, однако, — крякнул с досадой, — ржа сожрала. Зайди, дам. — И словно тем решив все, оставил соху, шагнул к телеге.
На амбаре, роясь в гнилой соломе, дурными голосами орали воробьи, топырили перья. Весна была: что воробью, знай свое — дери глотку. Татарин поднял глаза на орущую стаю и, видать, даже воробьев Игнашкиных пересчитал. На лбу у него морщина прорезалась. И не хотел, знать, но сказал:
— Лошадь дам. — Скулы у него обострились. — Как обжи вырубишь, зайди.
Теперь, точно, было сказано все. Татарин легко вспрыгнул на передок телеги, круто взяв вожжи, развернул коня и покатил в распахнутые настежь со вчерашнего дня ворота.
Игнашка посмотрел ему вслед, сел на крыльцо, провел рукой под носом, развернул рядно и задохнулся. Татарин отвалил Игнашке три каравая хлеба, дюжину луковок да кусок сала. Сало, правда, такое, что больше кожи, нежели мякоти, но все одно — сало. Тут же лежала тряпица с солью. Ежовой щетиной давно оброс приказчик, ан знал: мужик как-никак, а должен пожрать, прежде чем в поле выйти.
Воробьи вовсе взбесились, разодрались на крыше амбара, перья летели по ветру, но Игнашке было не до весенних птичьих игрищ. Он впился зубами в хлеб, грыз луковку. Ах, сладок был хлеб, сочна луковка! Сала он не коснулся. Сообразил: завтра, как за соху возьмется, оно будет нужнее. Сладкий хлебный сок ударил хмельным в голову Игнашке, и двор, амбар, распахнутые ворота вроде бы заколебались, сдвинулись с места, закачались. Игнашка через колено отломил чуть ли не половину каравая. И тут только увидел орущую воробьиную стаю. «А эти-то чем живут, — подумал, — в амбаре и зернышка не найдешь! А живут…» Крутнул головой.
Через час на околице деревни, в березняке, вырубив две хорошие слеги, Игнашка пришел к Татарину. Лошадь мужику дали. Он оглядел ее, ощупал бабки, заглянул под мягкую, шелковисто подавшуюся под рукой губу и остался доволен. Лошадка была ничего — задастая, высокая в холке и еще не старая. Закинув на плечо веревочные вожжи, Игнашка повел лошадь со двора.
— Поспешай! — крикнул вслед Татарин. — Поспешай!
И не то от этого окрика, будто толкнувшего в спину, не то от чего другого в голове у Игнашки родилась беспокойная мысль. Да это нельзя было, наверное, назвать мыслью, а скорее чувством, ощущением, а еще точнее — беспокойным внутренним движением. Игнашка подумал только: «Ишь ты, кусок дал и уже погоняет». И все. Но эти слова не выразили родившегося чувства, не разрешили беспокойства. Недодуманное, неоформившееся, оно как было, так и осталось в нем.
Вернувшись домой, Игнашка отвел лошадь за амбар, где кое-где пучками проглянула на припеке первая яркая травка, стреножил ее и отпустил пастись, а сам принялся за соху. Обстукал обушком колодку, приладил обжи, сбил старую, проржавевшую палицу и стал приспосабливать новую, взятую у Татарина. Обиходив соху, он вытащил из-под навеса борону и, оглядев, нашел, что несколько зубьев подносились и их следует заменить. Присел тут же и, приспособив на полене обрубок слеги, начал обстругивать колышки. И опять смутное беспокойство поднялось в нем. Он вдруг вспомнил боярское подворье на Москве, в памяти встало, как сходил с широкого крыльца с пузатыми витыми столбами старший из Романовых — Федор Никитич, увидел и взгляд боярский из-под высокой горлатной шапки, из-под густых бровей — резкий, тот взгляд, о котором говорят, что под ним все вянет.
Однако хлопоты перед выходом в поле отвлекли Игнашку от этих дум. Борону он починил, укрепил грядки вязками, заклинил свежевыструганные зубья, но и оттащив борону под навес, все суетился и суетился, беспокоясь то об одной, то о другой малости, коих бывает в такую пору не счесть. И все же, взявшись починять обечайку — гнутый коробок с донышком, из которого, повесив его на грудь, высеивают зерно, — опять вспомнил Москву. Но уже иное увиделось ему: глухой подвал, в котором били чуть не до смерти, как он бежал из того подвала, а потом замерзал с товарищами в лесу. Игнашка перебирал пальцами упругую бересту короба, отыскивая трещины и изломы, и, как пальцы, едва притрагиваясь, скользила по дням прошлым память. И хотя там все было трещиной и изломом, память, не задерживаясь, восстанавливала все новые и новые картины, впрочем никак не разрешая пробудившегося в Игнашке беспокойного чувства.
С ощущением все той же недодуманности, незавершенности, внутренней неудовлетворенности Игнашка и заснул в тот вечер. На поле он был до рассвета. Влажные сумерки окутывали поле, проглядывающее лишь тут и там пятнами необихоженной земли, сгущались черными тенями у опушки подступавшего к нему леса. Но сам лес не был виден, выступая, однако, темной громадой, которая, казалось, дыбилась, вздымалась, желая поглотить и поле, и Игнашку, и понуро стоящую лошадь, и легкую, белевшую свежими обжами соху. От леса тянуло таким свежим ветерком, что Игнашку зазнобило и руки у него задрожали, но он на это не обратил особого внимания, так как знал, что стоит только стать в борозду, пройти первую гонку, и он разогреется, и ветерок будет не помехой, но помощником. И Игнашка заторопился. Огладил и впряг в веревочную, но все же крепкую справу лошадь, охлопал ее, выправил из-под хомута редкую гривку, подвязал хвост и свел к обугони. Подтащил соху. Теперь все было готово к пахоте. Игнашка оправил на себе армяк, подтянул веревочную опояску, ободрившись, пошевелил плечами и только тогда взглянул на восток.
За лесом в темном предутреннем небе чуть обозначился первый луч, окрасил горизонт дымчато-розовеющим светлым размывом. Игнашка со строгим лицом стал на колени. Он не знал другой молитвы, кроме «Отче наш», и потому, истово перекрестившись, дважды, явственно, слово за словом, прочел ее.
Прочтя молитву, Игнашка поклонился до земли, перекрестился еще раз и только после этого поднялся и шагнул на поле.
Лошадь влегла в хомут, и Игнашка почувствовал, как под давлением рук соха ушла в землю.
С этого мгновения, не размышляя, он весь отдался работе. Лошадь, натягивая постромки, вела соху ровно, без рывков, как это и бывает у доброй крестьянской лошади, прошагавшей по пахоте многие и многие десятки верст. А Игнашка не только руками, но всем существом своим ощущал, как режет, раздает палица землю, как, вздрагивая и напрягаясь, соха преодолевает сопротивление влажной, но и вязкой, хрящевато-упругой, в самую пору подошедшей для пахоты земли. И радовался этому сопротивлению, все время примериваясь к шагу лошади и стремясь не сбить наладившийся ход, втянуться в его размер и вместе с тем не дать сохе излишне заглубиться или, напротив, выбиться из борозды. Холода он уже не ощущал, а, как и предполагал, пройдя первую гонку, согрелся и только чувствовал, как прибывают и прибывают силы в разбуженном движением теле. В окрыляющей душу работе Игнашка даже не заметил, как поднялось солнце и разгорелся день, высветивший поле, но, остановившись, однако, увидел в солнечной ясности, как ровно, словно протянутые по нитке, легли проложенные им борозды. И обрадовался своей работе и возгордился ею.
Но то был не весь праздник, подаренный ему этим весенним днем.
Когда солнце, перевалив за полдень, начало склоняться к закату, Игнашка нагреб в обечайку посевное, навесил короб на грудь и, примерившись к полю взглядом, вступил в борозду. Рука взяла полной горстью зерно, вышла из короба и широким жестом, будто желая охватить землю до горизонта, размахнула посевное веером. Услышал, как — ш-ш-ш-ш — ширкнуло зерно по земле. Игнашка выпрямился, даже откинул плечи назад, выбросил вперед ногу, и в другой раз махнула рука — ш-ш-ш-ш… И в третий… Он все шагал и шагал по полю, и каждый его шаг сопровождал этот ни с чем не сравнимый звук:
Ш-ш-ш-ш-ш…
Ш-ш-ш-ш-ш…
Ш-ш-ш-ш-ш…
Вот то была вершина праздника.
Смеркалось, когда Игнашка, отсеявшись и забороновав поле, сел на обочине. И в эту минуту наконец разрешилось мыслью родившееся в нем накануне беспокойство. Вмиг встали перед ним долго копившиеся в памяти картины — боярское подворье, подвал, убивавшие, но так и не убившие его люди, колодки, — и он подумал: «А не взять ли дубину да и садануть по всему этому разом?» Он посидел молча и так глянул в сторону подворья боярского приказчика, что даже странно было, почему в опускавшейся ночи не вскинулся, не расцвел, не распустил перья хвост «красного петуха».
До мысли о «красном петухе» у Степана не дошло, но все же с монастырскими схватился он крепко. Почитай, вот-вот — и кулаки пошли бы в ход. Ай да Степан… А все началось с того, что монастырский настоятель позавидовал на лошадей дмитровского воеводы. А лошади и вправду были хороши. Гладкие, на высоких бабках, грудастые и резвые необычайно. Тройка шла так, что спицы в колесах сливались в единый круг, пыль взметалась столбом, и только крикнуть оставалось: «Пади! Пади!» — так как прохожий и под копыта мог попасть, не предостереги его этот возглас.
В груди у игумена засосала зависть. А зависть душу гложет, как ржа железо. Точит, беспокоит, тревожит. Игумен раз на тройку посмотрел, в другой, и невмоготу ему стало. Вечером закрывал глаза, и представлялось одно, как наваждение: сидит он в доброй коляске, кони гремят копытами и ветер бьет в лицо. А о том не думал, что такая скачка воеводе, может, и годилась, но ему, игумену, никак уж была не по чину. Подумал бы только: ряса черная по ветру бьется и кони скачут. А воображением игумен был наделен — увидеть такое в мыслях мог вполне. Но нет и нет. Втемяшились в игуменову голову борзые кони. Припомнил, правда, как его в прошлом году, прищучив у трапезной, братия учила уму-разуму, но пренебрег. Позвал иеродиакона Дмитрия, что вел счет монастырским доходам.
Иеродиакон пришел на зов игумена. Настоятель монастырский у икон смиренно клал поклоны. Лицо было благообразно: губы строго собраны, глаза страдающие. Иеродиакон приличия для склонил плешивую голову. Со стенанием упирая руки в бока, пошатываясь, игумен поднялся с колен. Шагнул на неверных ногах к лавке, сел.
— Ох, — выдохнул, выпячивая губы, — что-то ходить я стал вовсе нехорошо.
Иеродиакон взглянул на него с изумлением, так как еще накануне видел, как игумен на вполне здоровых ногах гулял по монастырю.
— Ох и ох, — в другой раз вздохнул настоятель монастырский, — грехи наши… Да и то сказать, — поднял глаза на иеродиакона, — и заботы, заботы новые вижу. Походить-то во славу божию придется немало. Побить ноги… Да…
Иеродиакон Дмитрий, хитрый как бес и многое видящий наперед, так и эдак прикинул в голове, к чему бы такой разговор, но не уразумел. Поднял брови.
Игумен постанывал на лавке. В углу, у икон, в лампадке чадил фитилек.
— Поправь огонь божий, — с трудом сказал игумен, — сил нет подняться.
Иеродиакон прошел через келию, желтым ногтем отсунул фитиль от края лампадки. Огонек вытянулся ровным язычком.
— Славно, — сказал игумен, — славно. — Взглянул на иеродиакона. — Думаю, лошадку бы мне надо. По монастырским заботам сюда или туда проехать… Послужить богу…
— Так, — начал было иеродиакон, — не пойму… Лошадка-то есть, и коляску, слава богу, недавно новую прикупили.
Но игумен со вздохом прервал его:
— Да что это за лошадь? К тому же засекается на все четыре ноги, копыта давно полопались. Зубов, почитай, половины нет. — Выпрямился на лавке и голосом окреп. — А коляска? Перед прихожанами стыдно… Как сяду в нее, так тут же меня страх возьмет. Вот-вот, жду, вывалит на дорогу. Каково? — Поднял палец кверху.
Иеродиакон поглядел внимательно на игуменов палец, но и сейчас, несмотря на всю свою бойкость в мыслях, не понял, к чему разговор.
— Как зубов нет? — возразил. — Копыта полопались? Пятый год ей всего-то…
Тогда игумен сказал:
— У нас лошадки-то какие возрастают на нивах тучных? Красавицы… Бога для съезди, брат, не сочти за труд. Отбери тройку… — И опять заохал.
Тут только иеродиакон уразумел, чего захотелось отцу настоятелю. Больше того, вспомнил, как стояли они у монастыря, как подлетел на тройке воевода и как, глядя на воеводиных коней, забеспокоился игумен, заблестел глазами.
— Угу, — кашлянул иеродиакон.
— Вот-вот, — уже с определенностью сказал игумен, — съезди, отбери и вели пригнать. Чего уж там… — Застонал, взявшись за поясницу, как ежели бы и вовсе умирать собрался.
На другой день иеродиакон Дмитрий поехал к табунщикам на монастырские выпасы. Старший над табунщиками, беспрестанно кланяясь и забегая вперед, дабы указать дорогу, повел его к табунам. Шли дубравой, и иеродиакон, привыкший больше к кислым запахам бумаги да орешковых чернил, крутил сухоньким носом, вдыхал вольный дух свежей листвы, оглядывал крепко взявшуюся поросль сныти, пышно расцветшую желто-синими метелками. Пропасть была этого цветка в дубраве. Но миновали дубраву и вышли в поле. В разнотравье. Тут уж иеродиакон и руками развел. Травы, расцвеченные и синим, и красным, и золотым цветом, поднимались по пояс.
— Благодать-то! — выдохнул иеродиакон. — Вот господь сподобил… Ай-яй-яй!
Наклонился, сломил веточку бледно-розового цветка, горящего под солнцем ярче свечи.
— Это цвет не простой, — угодливо сказал табунщик, — мы им лошадок лечим. Скажем, язва нору в теле у лошади выест, вот тогда им и пользуем, и оттого цвет этот норышником зовем. А так, по простоте, кличут его золототысячником. Он и людям вельми полезен.
— Да-а-а, — прошлепал засмякшими в проплесневелых монастырских стенах губами иеродиакон, — неисповедимы деяния господа нашего…
В ту пору Степана на выпасах не было. Его послали в ближнюю деревеньку с поручением. Вернулся он к тому часу, когда иеродиакон, уже выбрав лошадей, стоял, вольно обмахиваясь веточкой от прилипчивых комаров. Мужики, отбив от табуна двух лошадей и заведя их в связанный из толстых жердин загон, пытались заарканить третью. Табун, плотно сбившись, стоял весь на виду. Впереди табуна — красавец жеребец с узкой, сухой головой, настороженными ушами и высоко вскинутой длинной шеей. Внимательно следя лиловыми глазами за табунщиками, он, не понимая, что они делают, зло морщил нижнюю губу. Под лоснящейся шкурой жеребца напряженно играли стяжки мышц. Волосяной татарский аркан, раз за разом взлетая над табуном, падал, не достигая цели.
Степан слез с лошади и подошел к старшему над табунщиками, спросил:
— Что это? — Кивнул в сторону отбитых от табуна лошадей, ходивших за толстыми жердинами загона, как рыба в садке.
— Постой, — отмахнулся от него табунщик, не отводя взгляда от мужиков, суетившихся у табуна.
— Ты толком скажи, — взял его за рукав Степан. — А?
В голосе его прозвучала такая настойчивость, что табунщик оборотился к нему.
— Да вот, — осторожно показал глазами на иеродиакона, — отцу игумену в тройку коней отбиваем.
— В тройку? — повторил Степан и перевел взгляд на табун.
Брошенный сильной рукой аркан взметнулся еще раз и упал на шею той самой лошади, что в прошлом году Степан вытащил из болота. Жеребец всхрапнул и, нервно, мелко переступая копытами, дрожа раковинами ноздрей, двинулся боком к мужикам. Те закричали, замахали руками.
Степан сорвался с места, кинулся к табуну.
— Ты помоги им, помоги! — думая о своем, крикнул ему вслед старший над табунщиками.
Мужик, заарканивший лошадь, упираясь ногами в землю, изо всех сил тянул ее на себя, но, хрипя и мотая головой, она не давалась. Аркан все злее и злее въедался в шею, и лошадь вдруг закричала.
Степан подскочил к мужику, вырвал аркан у него из рук.
— Ты что? — окрысился тот. — Сдурел?
— Пошел отсюда, — шумнул Степан, — пошел…
Подступил к лошади и пляшущими руками стал снимать через голову захлестнувший шею аркан. Лошадь колотило от дрожи, прокатывавшейся под шкурой зыбкой судорогой.
— Но, но, милая, — торопился освободить ее от аркана Степан, — успокойся. — И гладил, водил ладонью по взъерошенной арканом шкуре. — Но, но… Успокойся…
Наконец он снял аркан и отшвырнул в сторону. Лошадь, почувствовав облегчение, свободу от черной петли, так жестко, так больно передавившей хрип, и набрав воздух всей грудью, дохнула в лицо Степана теплым, чистым, сенным духом.
А Степан гладил и охлопывал ее, говоря успокаивающе:
— Тихо, тихо…
Мужики стояли в десятке шагов от Степана и молчали. Степан оглянулся на них и крикнул:
— Не дам лошадь, не дам! Ее на племя надо, а не в тройку!
Старший над табунщиками, почувствовав неладное, покивал торопливо иеродиакону и боком, боком, сказав «сей миг, сей миг», побежал к табуну.
Лошадь, доверительно прижавшись к Степану, переступала ногами.
Подбежав к мужикам, старший над табунщиками крикнул:
— Вы что, мужики?! Давай, давай, отец иеродиакон… — и не договорил.
Мужик, у которого Степан вырвал аркан, повернулся к нему и сказал не то с усмешкой, не то с одобрением:
— Да вот Степан лошадь не отдает.
Старший даже опешил:
— Как не отдает?! Да вы что? Отец иеродиакон, — сорвался на крик, взмахнул рукой, — забирайте лошадь, забирайте!
Мужики было двинулись к табуну, но здесь выказал себя жеребец. Избочив голову, он подступил к Степану и стал как врытый в степную дернину. Он был так напряжен, в нем чувствовались такая злость и сила, что мужики остановились.
Повернувшись к старшему, один из них закричал натужным голосом:
— Как подступишь-то! Он так набросит копытом, что сразу на тот свет. А?.. Как подступишь…
— Давай, давай! — шумел старший.
Но мужики не двигались с места. И напряженно, все сильнее изгибая шею, стоял жеребец. Так продолжалось минуту, другую. Караковая кобылка дышала в лицо Степану тепло и влажно, но он вдруг отступил от нее, вскинул руки и крикнул:
— Эге-ге!
Жеребец взвился на дыбы, храпнул и, легко бросая ноги, пошел по степи. Табун развернулся и бросился следом.
Иеродиакон уехал ни с чем. Злой был и уже не вдыхал ароматные запахи, но лишь сопел сухим носом. Уж очень ему приглянулась караковая кобылка, а может быть, вслед за отцом настоятелем подумал: «А неплохо бы на лихой тройке проскакать». Старший над табунщиками, не зная, как его улестить говорил:
— Оно мужика согнать, конечно, можно… К тому же приблудный, с базара взяли… Но одно сказать должно — лошадиное дело тонкое. А он лошадник, где такого возьмешь?..
И кивал, кивал головой, подтыкал в телеге под ноги иеродиакону соломку.
Монастырский настоятель, выслушав иеродиакона, послал к табунщикам старого монаха Порфирия. Не хотел лишних разговоров среди братии и знал, что Порфирий добром решит там, где и смирные подерутся.
Монах приехал и сразу подступил к Степану:
— Что ж лошадь не отдал?
— Так на племя…
— А где она?
— Да вон, — указал кнутовищем Степан, — гуляет.
Порфирий увидел лошадь. Она шла иноходью по полю, и грива стелилась по ветру. Монах посмотрел, посмотрел и перевел глаза на Степана. Отметил: высокий лоб у мужика, не тронутые монгольской кровью глаза, мягко переходящая к подбородку скула. И вот баловался монах запретным винцом, иные грехи за ним числили, однако он, в отличие от многих из монастырской братии, не одну свечу сжег, листая древние монастырские летописи, и так, по жизни шагая, все приглядывался, присматривался, сообразить хотел, для чего божья душа на землю является. И сейчас, глядя на Степана, так подумал: «О племени мужик заботу имеет, а лошадки-то не его. Знать, не о себе у него боль». И, глубоко веря в русскую натуру и еще раз утверждаясь в своей вере, сказал:
— Пускай гуляет лошадка… Пускай… Игумен обойдется.
Монастырскому настоятелю тройку, конечно, сбили, но караковая осталась в табуне.
Старый монах Порфирий, глядя на лихую эту тройку и сидящего в ней игумена, сказал:
— Э-хе-хе… Беды российские произрастают от безмерного богатства земли нашей да и оттого, что на Руси каждый себе царь. — Хлопнул от досады по пыльной рясе.
Игумену слова те передали, но он только посмеялся. Балованный был, ох балованный и жить хотел сладко.
Не до баловства, однако, было в Москве.
Борис был болен, и царев доктор — немец Крамер — говорил, что болезнь сия лечится лишь покоем и воздержанием от тягот ежедневной работы, коей чрезмерно утруждает себя царь. Борис был уложен в постель, и вставать ему было не велено. Однако царь, лежа в постели, не оставлял дел. Отменив сидение с боярами, когда он в окружении думных подолгу сиживал в своих покоях, теряя время в пустых пересудах и разговорах, царь ныне утренние часы проводил с печатником, думным дьяком Щелкаловым.
Переворачивая сухими пальцами листы дел, Щелкалов пересказывал царю переписку с иноземными дворами, сообщал о положении на рубежах российских, зачитывал письма, ежели таковые случались, от выехавших за рубеж по его, Щелкалова, или царевой воле русских людей. У печатника дел было много — лишь успевай поворачиваться, и дела все путаные, трудные, где каждое слово только в строку должно было лечь, ибо сносился он с домами высокими и переговоры вел с людьми вольными, с российской державой сносящимися только по сердечному согласию.
Печатник, взглянув на бледное, с синими тенями под глазами лицо царя, придвинул к себе новую бумагу.
— А теперь, государь, — сказал негромко, — о молодых людях боярских, что отправляются для обучения наукам и ремеслам в Лондон, Любек и во Францию. Все они здесь и, ежели изволишь приказать, предстанут перед тобой.
Борис откинулся на подушки, закрыл глаза, на лбу у него выступила испарина.
Щелкалов молчал.
В Борисовых палатах стояла тишина. Ни звука не раздавалось под раззолоченным потолком, и ни звука не доносилось извне, но ежели бы можно было проникнуть в мысли двух этих людей, так близко находившихся друг от друга, то палаты сразу бы наполнились вихрем, ревущим ураганом, бурей голосов, вскриков и воплей, которые слышали они в эти минуты.
Борис вынужден был отказаться от своего желания открыть в Москве университет. Восстал патриарх Иов, восстали бояре. На Москве не было человека, который бы не говорил, что царь отдает державу под власть иноземцев. «Как, — раздирали рты, — эти тонконогие, с Кукуя, детей наших учить будут? Нет уж… А вера православная? Ей что, вовсе сгинуть? Так нет же…» И это кричали на Пожаре, на Варварке, на Ильинке… Кричали в голос, заходясь от ярости. По Москве поползли слухи о дурном глазе, о кикиморе, объявлявшейся в ночные часы на Болоте, о странном трясении моста через Москву-реку, в треске которого-де явственно различимы предупреждающие голоса.
Борис догадывался, от кого идут разговоры и слухи, но сломить их не мог. Люди Семена Никитича схватили было безместного попика, что трепал языком в фортине на Варварке, свезли в тайный подвал, но поп замкнулся, молчал, как ежели бы язык ему отрезали. Боялся ли кого? Не знал ли чего? Неведомо. Пытать его не пытали, но напугали крепко — поп все одно молчал. Застыл, как костяной. Семен Никитич выслал всех вон и остался с глазу на глаз с попом. Тот сидел у стены, не то от сырости, не то от немощи утопив по уши голову в грязные лохмотья рясы. Семен Никитич сказал:
— Ну, что молчишь? Как ни прыгай, а жизнь-то у человека одна. Скажи, кем научен? Кто велел тебе речи дерзкие против государя вести? О разговоре нашем никто не узнает.
Но поп даже не пошевелился.
Семен Никитич помолчал, сказал другое:
— Еще день, от силы два, и прибьют тебя, душа божья, до смерти. Слышишь — до смерти!
Поп и на это ничего не ответил, и Семен Никитич понял, что он напуган словами более страшными. На том с попом разговор закончили. По указанию Бориса его свезли потихоньку в Пустозерск в глухой монастырь навечно. До корней, что питали слухи, не добрались. А все же Борис в разговоре со своим дядькой Семеном Никитичем сказал с сердцем:
— Не верю, что простой народ начало тем слухам. Не верю… Мужик из самой что ни на есть глухой деревни знает: нет человека без выучки. И сына сызмальства учит и пахать, и косить, и за землей ухаживать. Так почему же он против учения будет? — Ударил кулаком по колену. — Не верю.
Да оно и многим, стоящим рядом с Борисом, ясно было, что слухи и разговоры эти своекорыстное, злое дело тех, кто шатнуть хотел Борисов трон. Царевы скипетр и державу кому-то непременно хотелось взять в свои руки. Ну а Россия? Да что Россия, полагать надо, считали, ежели о своем только думали, она выдюжит… Она всегда выдюживала, и впрок ее хватит. Иного и быть не могло. Люди Семена Никитича всю Москву обшарили, добиваясь, кто и почему беспокоит люд московский. Но концы были спрятаны надежно.
Так корень и не нашли… А восемнадцать отроков, что ждали царева приглашения, были лишь выходом, который сыскал Борис в эдакой каше. Знающих людей не хватало позарез. Рудного дела мастеров, суконного, бумажного и многих, многих иных ремесел. И вот они первые — восемнадцать отроков — должны были привезти в Россию эти знания. Борис считал их своей победой, Щелкалов — царевым поражением, ибо знал, что те, у кого детей отняли для посылки в далекие страны, собрали их, как в могилу, и того царю не простят никогда. Породившие на Москве слухи и речи знали, как завязывать мертвую петлю дворцовых заговоров.
Борис поправился на подушках и повелел ввести отроков. И все время, пока они стояли в его покоях, смотрел на них неотрывно. О чем думал он в эту минуту, что виделось ему в юных лицах? Сказать трудно, но можно предположить, что Борис был счастлив, потому как бледность сошла с его лица и он даже порозовел.
Однако счастливые минуточки были для царя коротки. Едва вышли от него отроки, отправляемые в далекие страны, в царевы покои допустили Семена Никитича.
Он начал с рассказа о суде над Богданом Бельским. Борис слушал его, откинувшись на подушки и полузакрыв глаза. Лицо царя вновь стало серым. Борис угадывал, что и в судебном деле сыщутся люди, которые все силы приложат, дабы оборотить поражение Богдана против его, Борисовой, власти. И не подтвердил надежд канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги и разочаровал, думать надо, многих в Москве. Царь сказал, что крови Богдана Бельского, несмотря на его явное воровство, не ищет. И от суда крови не ждет. И хотя многие, даже из самых ближних к царю, на то вельми изумились и, больше того, настаивали на крови, царь остался тверд. И сейчас слушал своего дядьку вполуха.
Семен Никитич, взглядывая на царя, читал с листа, но Борис, пропуская большую часть читаемого, улавливал только главное:
— «…лишить чести… имущество взять в приказ Большого дворца… выставить у позорного столба… сослать в Нижний Новгород… Людей его освободить и дать им служить кому похотят…»
Но это было не все, что принес с собой Семен Никитич.
Покончив с судебным делом Богдана Бельского, Семен Никитич, отодвинув бумагу, присел к постели царя и, не скрывая беспокойства и тревоги, сказал, что на Москве новый слух пущен и народ сильно волнуется.
Борис взглянул на дядьку вопрошающе. Семен Никитич, передохнув, сказал:
— Говорят, что-де царь умер.
У Бориса лицо исказила судорога. Дядька заторопился:
— В селе Красном, известном воровством и буйством, купцы и купецкие молодцы на улицу вышли, кричали шибко и грозили в Москву идти.
Пальцы Борисовы на атласном, шитом жемчугом и зелеными камнями одеяле сжимались и разжимались, словно ухватить кого-то хотели, но вот не могли. И цареву дядьке, не смевшему взглянуть в его лицо, но глядевшему только на эти пальцы, стало страшно.
— Великий государь, — взмолился он, — покажись народу, пресеки злые голоса!
Горло у него завалило, он замолчал.
Пальцы Борисовы, переплетясь, застыли. Дядька несмело поднял взор на царя. Борис лежал, уставя глаза в потолок. Молчал. И он, и дядька понимали, что кто-то хочет, очень хочет затеять свару на Москве, во что бы то ни стало добраться до веревки большого колокола и ударить в набат. А дальше — толпы народа, людской вой, пожары и пал, страшным огнем ударивший по Москве. Кто выстоит в буйствах толп, кто сверху сядет? Как знать…
— Хорошо, — наконец сказал Борис, — сегодня же вечернюю службу я буду стоять в Казанском соборе.
Семен Никитич припал к царевой руке.
Доктор Крамер руками всплеснул, когда царя начали одевать к выходу.
— Бог мой! — вскричал трепетный немец, лицо которого состояло из тщательно промытых морщин, фарфорово белевших зубов и умоляющих глаз. — Это никак невозможно.
Но Борис, закусив губу, поднялся с постели. К нему подступили с выходными одеждами, но он качнулся и, не удержавшись, тяжело опустился в счастливо подставленное кресло.
Все присутствовавшие в палатах застыли в немоте. Немец, задохнувшись, прижал ладони к лицу.
Лоб царя влажно блестел. Наконец он поднял лицо, сказал:
— Одевайте. — И встал.
Было ясно, что он не дойдет до собора и тем более не выстоит службы. Немец, закатывая глаза и задыхаясь, доказал, что царя можно только нести на носилках.
От Бориса больше не услышали ни звука за все время, пока его одевали и укладывали на носилки. И лицо царя было странным, таким, каким его не видели никогда. Царь Борис всегда был неразговорчивым и чаще молчал и слушал, нежели говорил, а на лице его скорее можно было прочесть настороженное внимание, сосредоточенность или углубленное желание понять то или иное, но сейчас с чертах не было ни того, ни другого, ни третьего. По-восковому застыв, лицо в противоестественной неподвижности вроде бы даже не жило.
Царя наконец одели, уложили на носилки с высоко взбитыми в изголовье подушками, прикрыли ноги дорогим собольим мехом. Носилки подняли и понесли. Лицо царя стыло на подушках. Бориса вынесли из дворца. Он почувствовал, как лица коснулся свежий, вольный ветер, и тут только различил, что Никольский крестец и вся Никольская улица заполнены иностранными мушкетерами в латах из непробиваемых и каленой стрелой воловьих шкур, стрельцами и иным народом. Но, подумав при этом, что Никольская улица длинна, а путь еще и далее немалый — через Никольские ворота, через весь Пожар, — Борис тут же забыл о предстоящем пути и даже о том, что его несут на носилках. Он был весь во власти поразившей его мысли. Еще в палатах, застыв лицом, Борис подумал с внезапно раскрывшейся ясностью, что все вокруг него зыбко, неверно, шатко и гораздо более ненадежно, чем в то время, когда он вступил на трон. Он всегда знал, что зависть, распаленная алчность, властолюбие точили и точат основание его трона, однако только сегодня, вынужденный больным, на носилках, явиться народу, с плотски ощутимой очевидностью, до конца понял, как тонка, ненадежна, слаба нить, удерживающая его власть.
Носилки внесли в собор и поставили на ковер перед древними царскими вратами. Архимандрит в золотом облачении выступил вперед, и служба началась. Но Борис не слышал архимандрита, как не слышал ничьих голосов, когда его несли в собор. Не слышал царь и славящих господа певчих. Храм для Бориса был полон тишины. Носилки царевы были вынесены перед всеми присутствующими, и Борис не мог видеть лиц, но он легко мог нарисовать их внутренним взором. А представив их перед собой, он разгадал и мысли, родившиеся при виде лежащего на носилках царя. На него пахнуло такой злобой и яростью, что он закрыл глаза. И вдруг чувство незащищенности начало истаивать, и Борис почувствовал облегчение. Ему показалось, что он ежели не нашел, то угадывает новый путь.
Когда Бориса после службы в Казанском соборе перенесли в его покои, он сам поднялся с носилок и, отпустив всех, не лег в постель, а сел у окна в кресло, в котором ему особенно хорошо думалось.
Первой вехой на вновь избранном Борисом пути стало дело Богдана Бельского. Нет, царь не отказался от своего слова, что не ищет Богдановой крови. Борис был опытен и понимал, что государево слово назад не берут. Оно ведь, слово государево, не бренчание поддужного колокольчика и на всю Россию говорится. Он решил по-иному. Все дни суда воеводу Бельского держали в застенке у Пыточной башни, однако сразу по объявлении приговора его из застенка взяли и под крепким караулом повели по знакомым ему с детства кремлевским улицам на его, воеводин, двор. Да еще выбрали не самый ближний путь, а такой, чтобы Богдан подольше пошагал под солнышком, особенно ласково гревшим после вонючего, сырого подвала, побольше поглядел на памятные ему золотые купола кремлевских церквей и монастырей, поглубже надышался вольным кремлевским воздухом, который и вдохнул здесь же, в Кремле, едва народившись на свет.
В Кремле многое говорило и глазам, и ушам, и даже носу Богдана. Знал он, как горят золотые кремлевские купола в ясный день, видел тусклый, тяжелый их отсвет в ненастье, помнил праздничный перезвон колоколов, глухой их рокот в дни тревог, были знакомы ему запахи дорогого, пряного ладана кремлевских церквей и соборов. Запахи незатоптанной, вольной кремлевской земли, что годами и десятилетиями охранялась на царском и боярских подворьях Кремля от чужой ноги. Это был вовсе иной дух, нежели дух Пожара, Варварки, других московских улиц, истоптанных тысячами людей. Там были запахи пота и крови, запахи нужды и человеческого горя. Здесь били власть и сила, покой и богатство. По весне в Кремле свежестью дышала нетронутая трава, а по осени над боярскими тихими дворами летала золотая паутина и пронзительно, до сладкой боли в душе, свистели синицы. И воевода шагал и смотрел, и под солнышком грелся, и дышал, и, знать, от всего этого, едва выйти на Чудовскую улицу, напрямую ведущую к его родовому двору, начал спотыкаться. А когда подошли к Никольскому крестцу, разделявшему его, воеводин, и царев дворы, стрельцы взяли Богдана под руки. Он уже идти не мог.
Подняв воеводу по ступеням во дворец и введя в палаты, кои ему уже не принадлежали, но были отписаны по суду, Бельскому приказали одеться, как на великий праздник. Когда сказал ему такое серый дьяк с наглым лицом и ищущими, рысьими глазами, Богдан даже откачнулся. Однако его крепко взяли за руки и призвали холопов с требованием вынести лучшие одежды. Одевали воеводу в соболя, в тончайший шелк, пристегнули сплошь шитый жемчугом воротник, нанизали на пальцы перстни с лалами с добрый лесной орех. Но и это было не все. Насурьмили воеводе брови, подкрасили глаза и губы, как и должно было на праздник, и тщательно, волосок за волоском, расчесали бороду. Богатую бороду, красу и гордость, честь дворянскую, коя говорила о знатности рода, о великой приверженности Богдана к старине. И только тогда, когда все это было проделано, когда сняли холопы внимательными пальцами последнюю ненароком севшую на боярскую шубу пушинку, Богдана Бельского вновь вывели из дворца и повели через Кремль, через Пожар, иными улицами, на виду таращивших глаза прохожих, на Болото, где вершились торговые казни, драли кнутами ворье и разбойников, непотребных женок, где плакала, валяясь в грязи и моля о пощаде, шушера, сброд, сволочь московского люда.
Богдан шел шатаясь, ломал высокие каблуки, бил изукрашенные носки нарядных сапог о камни, о рытвины замусоренной мостовой. На лицо его было невыносимо глядеть. Кто шел-то: спальничий царя Ивана Васильевича, любимец царский. Тот, кто Русь, как шубу, наизнанку мог вывернуть. А шел, шел…
Но всякая дорога имеет конец, дошагал до конца своей дороги и Богдан Бельский. На Болоте его подняли на свежесколоченный помост. Неведомо как сыскав в себе силы, Богдан вскинул опущенную на грудь голову, взглянул окрест.
С высокого помоста было широко видно, и Бельский увидел запруженную народом площадь. Глаза его пробежали по толпе, не выделяя отдельных лиц, но вот взгляд сосредоточился, и Богдан разглядел подступивших к помосту верхних. Семен Никитич побеспокоился, чтобы собрали всех: и Романовы, и Шуйские, и князь Федор Иванович Мстиславский стояли у помоста. С утра со стрельцами брали бояр по дворам и свозили на Болото. Корень, что мутил Москву, не нашел и не вырвал Семен Никитич, но, зная, на чьих подворьях растет злая трава, хотел напугать всех вместе. И ошибся. Страха на лицах верхних не было. Но было злорадство, довольство унижением того, кто недавно был сильнее, чья власть была крепче, чье богатство — больше. Эх, люди, люди… Нет, видать, добро не про вас писано…
И все же побледнели лица верхних.
Бельский, ступив на помост, увидел ката, увидели его и верхние, да и иные, что сошлись на площадь, однако никто не обратил внимания на стоящего на помосте, одетого в черное, в черных же жестких перчатках шотландского капитана Габриэля.
Борис, сидя в кресле у окна своих покоев, вспомнил смерть Иоганна Толлера и, желая выказать иноземным мушкетерам, что каждая капля их крови, пролитая за него, Бориса, будет отмщена, решил поручить главную роль в казни над Бельским одному из них.
Капитан мушкетеров стоял подбоченясь, вскинув гордый шотландский подбородок. Он верно служил царю Борису, как служил бы верно и французскому, испанскому королям или венецианскому дожу. За верную службу требовалось одно — золото. Он был наемником, и его ничто не связывало ни с толпой, сгрудившейся вокруг помоста, ни с казнимым воеводой Бельским. Там, внизу, в толпе, могли быть злорадство, ярость, боль, но он был лишен этих чувств. И ярость, и боль, как ни суди, — сопричастность, а он был здесь чужим. Губы капитана кривила презрительная улыбка.
И вдруг Богдан увидел мушкетера, разглядел выражение его лица и понял, что выпил не всю горькую чашу. Капитан Габриэль, вколачивая каблуки в гулкие доски помоста, подходил к нему. И этот стук каблуков — дум, дум, дум — услышал каждый на площади. Медленно, очень медленно рука капитана в черной жесткой перчатке поднялась к лицу воеводы и замерла. И замерла, следя за рукой, площадь. Пальцы капитана отобрали прядь в тщательно расчесанной бороде Бельского и, резко рванув, выдернули ее. Над площадью пронесся единый вздох. Капитан поднял руку и пустил волосы по ветру. Вновь рука опустилась к бороде и, словно лаская и холя напитанные розовым маслом волосы, отобрала новую прядь. Глаза Бельского дышали болью и ужасом. Капитан рванул резко и так же пустил волосы по ветру. И еще, и еще пряди полетели по ветру, упали на помост. Лицо Бельского залила кровь, клочки волос — седина с кровью — устилали уже не только доски, ступени помоста, но и землю вокруг него. Годами холенные волосы свалялись с пылью, смешались с прахом ничтожнейшего из ничтожных, отведенного для самых позорных казней места на Москве.
И тогда страшно стало и верхним. Глупых-то среди них не было, а ежели и были не особо отличавшиеся мыслями, то не они определяли положение, вес, значимость верхних. И эти, кои вперед смотрели, поняли: не только бороду Бельского с кровью рвет Борис, рвет он старое, родовое, то, чем сильны они, бояре, служащие царям московским со времен первых Рюриковичей. И не только волосы Бельского брошены в пыль, но и их право стоять подле царя, направлять его, жить богато, властвовать над Россией. И не один из верхних подумал: «Волоски бы эти подобрать надо, в ладанку положить да спрятать на груди, чтобы они никогда не давали забыть — один неверный шаг, и полетит в тартарары все, что родами и столетиями нажито».
Капитан мушкетеров Габриэль все с той же презрительной усмешкой рвал бороду воеводы.
После казни Богдана Бельского укатали в Нижний Новгород, в ссылку.
На Москве стало много тише. Народ унялся, а в селе Красном, слышно было, купцов, что расшумелись более других, вроде бы даже и побили слегка.
Благолепно звонили колокола церквей, без лишней бойкости гнусили на папертях нищие, в торговых рядах лениво покрикивали купцы. По утрам, едва показывалось над белокаменной солнышко, нежно пели на улицах пастушьи рожки, прутиками выгоняли хозяйки коров и, переговариваясь, перекрикиваясь, стояли у ворот в ожидании водолея.
Добрая это была минуточка для бабьего московского народа. Всласть поговорить, уколоть соседку занозистым словцом, глазами пошустрить по улице, без чего баба человеком себя не чувствовала. Ну а уж когда подъезжал водолей, гвалт разрастался на всю улицу. Московские водолеи для веселья и доказательства того, что вода взята у самого чистого и перекатистого бережка Москвы-реки, в бочку обязательно запускали серебряную рыбку. Живую, игривую, такую, чтобы, попав в ведро, хвостом била и ходила винтом. К тому же считалось, что у хозяйки, в чье ведро попадет рыбка, день будет счастливым. На водолея бабы шли, как стрельцы на приступ. Каждая норовила первой взять воду и непременно с рыбкой. И смеху и шуму хватало на весь бабий день. Но проезжал водолей, и над улицами устанавливалась тишина. И так до сумерек, до тихого заката, что гас у окоема в безмятежных красках.
Лаврентий, разомлев в такой благодати, сказал Семену Никитичу:
— А? Ти-хо…
Благодетель, почувствовав тоску в голосе верного человека, успокоил:
— Подожди. Ты без дела не останешься.
Тоже дураком-то не был и видел, куда государева тележка начала сворачивать, да и рад был тому. С топором-то много легче, чем без него, да и привычнее на Руси.
Здоровье царя Бориса поправилось. В горькое сидение у оконца в памятный вечер, когда на носилках принесли его из Казанского собора, Борис решил связать кровными узами род Годуновых с западными высокими родами. И ныне более чем прежде засиживался с печатником Щелкаловым. Дочь царя — Ксения, отличавшаяся необыкновенной красотой, была на выданье, и Борис с хитромудрым дьяком сыскивал ей жениха. Выбор пал на шведского принца Густава. Думный дьяк, знавший явное и тайное западных высоких домов так же, как дела своего Посольского приказа, не один год наблюдал за судьбой принца, и интерес тот не был праздным. Москва давно стремилась к Балтике, дабы морем выйти к ганзейским и иным западным городам, и в этом немалым козырем мог стать принц Густав, сын шведского короля Эрика XIV. Балтикой владела Швеция, почти безраздельно распоряжаясь на ее берегах. Но царствующий шведский дом Вазы, подобно иным царствующим домам, не был единодушен. За стенами королевского дворца шла яростная борьба за власть. И трудно было сказать, какую ступень в непрекращающемся соперничестве займет на королевской лестнице юноша столь высокой крови. Думный дьяк со свойственной ему обстоятельностью выведал о Густаве почти все. Карету печатника в эти дни часто можно было видеть на Кукуе. Он бывал у тамошних купцов, подолгу беседовал с приезжими купцами, запросто сиживал с иноземными мушкетерами. Был щедр на угощение и вопросы задавал с осторожностью, не докучая собеседникам. Но никто, как думный, не мог так четко уловить случайно оброненное слово, направить разговор по нужному руслу, выспросить у собеседника и то, что тому не хотелось говорить. Дьяк теперь знал, что Густав был рожден от дочери простого воина и его мать, опасаясь, что в династической грызне он может быть убит, почти постоянно держала сына за пределами Швеции. Большую часть жизни принц провел в Италии. Ныне он сидел в Риге и, поговаривали, был не лишен мысли создать из Ливонии самостоятельное королевство.
Все это было немаловажно. Собранные печатником сведения были ценны, но Борис хотел сам услышать подробнее о предполагаемом женихе дочери. И с не меньшей, чем думный дьяк, ловкостью вызнал о жизни и душевных свойствах принца. Борис преуспел, пожалуй, даже больше, чем Щелкалов.
В один из дней царь пригласил к себе пастора Губера, которого так поразила настенная роспись Грановитой палаты. Заблаговременно пастор был извещен о государевом приглашении доктором Крамером. На Кукуй за пастором была послана карета, запряженная шестериком белоснежных коней, а на пороге своих покоев его встретил сам царь.
К этому времени пастор Губер оправился от потрясений ссылки, покруглел и, обвыкшись в Москве, решил навсегда связать свою судьбу с Россией. Его знания и немецкое трудолюбие оказались весьма полезными при книгопечатном деле, которое вели на Москве старый типографщик царя Ивана Васильевича Андроник Тимофеев Невежа и сын его, Иван Андроников Невежа. Пригласив пастора к накрытому столу, царь и начал разговор с книгопечатного дела. Поначалу, смущенный любезным царским приемом, пастор, человек увлекающийся и заинтересованный, разгорячился и, почувствовав себя много вольнее, заговорил о несомненной полезности книгопечатания в распространении столь необходимых России знаний, о планах и возможностях расширения книгопечатания на Москве. Высказал восхищение Борисовыми заботами, недавним распоряжением о строительстве новых палат для московской типографии.
Неожиданно для пастора двери покоев, в которых царь принимал гостя, распались, и взорам сидящих за столом явились царица Мария и царевна Ксения. Пастор поднялся столь поспешно, что едва не уронил стул. Склонился в поклоне.
Царица Мария за столом оказалась весьма милостива к Борисову гостю, предлагая невиданные им кушанья, а царевна, к изумлению пастора Губера, выказала изрядные знания немецкого языка, латыни и греческого.
Ежели кому-нибудь из москвичей дано было в эти минуты заглянуть в Борисовы палаты, то, без сомнения, сей русский человек, взбросив руки, воскликнул бы: «Да истинный ли то царь, а не немчин, в царские одежды ряженный, и царица ли то и царевна, а не кукуйские женки?! Господи, что деется?.. Чур, чур меня!.. Где грозные царевы очи, где гнев самодержавный?.. Чур, чур!..»
И Москву бы зашатало на другой же день от ревущих толп. На Руси каждый в пылком своем воображении царя по-своему лепит и чаще так, чтобы он непременно удобен был и во всех отношениях устраивал, а иначе и царь не царь и в державе вовсе не то происходит.
Впрочем, царица и царевна у стола были самое малое время. Когда они вышли, царь заговорил о своей приверженности и любви к семье, к дочери и о намерении выдать ее замуж.
Пастор Губер смотрел на Бориса, на изможденное болезнью и державными тяготами его лицо, на тонкие нервные пальцы и думал, проникаясь симпатией, что великодушная судьба предоставила ему — смертному человеку, ничем не выделяющемуся среди иных, — лицезреть личность необычайную, наделенную не только выдающимся умом государственным, но и такими человеческими чувствами, как любовь к семье, к чадам своим.
Пастор был потрясен и рассказал, не таясь, все известное ему о принце Густаве. Осведомленность пастора, переписывавшегося со многими книгопечатниками Европы, оказалась весьма обширной. Помимо известного Борису, пастор рассказал, что принц Густав учен, так как прослушал курс университета в Болонье, занимался науками в Венеции и иных славящихся ученостью городах Италии. Пристрастие его — наука ботаника, коей он отдает многие часы ежедневно.
— Все это говорит в его пользу, — сказал пастор Губер, — однако я хочу обратить внимание вашего величества на одну особенность принца.
Пастор помолчал, пожевал губами. Было заметно, что ему нелегко продолжать далее свой рассказ, но все же он сказал:
— Я протестантский священник, однако скажу, что принц воинствующий протестант… В нем нет веротерпимости, и я предвижу большие трудности в заключении брачного союза между царевной Ксенией и принцем. Густаву придется отказаться от своей веры, а я даже с великим трудом не могу представить, что он пойдет на это.
Губер замолчал и посмотрел на Бориса с сочувствием.
Пастора проводили из Кремля с еще большей любезностью и почтением, нежели принимали. За каретой шли многочисленные слуги, неся на больших блюдах яства Борисовой кухни, которые мог отведать, но не отведал в силу скромности царев гость.
А как только гостя проводили, в Борисовы покои прошел думный дьяк Щелкалов. Царь встретил его стоя. Он был уже одет в свой всегдашний легкий тулупчик на собольих пупках и стоял, привалившись спиной к теплым изразцам хорошо вытопленной печи. Лицо царя было озабоченно.
Многоопытность в делах державных подсказывала Борису, что любое действие на государственной вершине неизменно порождает множество следствий, которые могут или свести на нет первоначально задуманное, или дать выгоды даже большие, нежели вызвавшее их к жизни событие.
В Борисе было живо стремление вывести Россию к Балтике. Оно родилось давно, еще тогда, когда он окольничим участвовал в походе царя Ивана Васильевича в Ливонию. И все, к чему царь Борис ни понуждал Россию в укреплении ее рубежей и на юге, и на западе, и даже на востоке, было в конечном итоге направлено на осуществление броска к Балтике. И сейчас, размышляя о брачном союзе дочери с принцем Густавом и зная немало о предполагаемом женихе, он обдумывал, как может сказаться результат этого брака на решении давно вынашиваемой им мечты. В этом дьяк Щелкалов, наторевший в межгосударственных делах, мог сказать свое слово.
— Садись, — сказал Борис печатнику и указал на лавку, покрытую бархатным, шитым камнями налавочником.
Щелкалов присел.
Борис подул в сложенные перед ртом ладони, как ежели бы ему было зябко. Из-под опущенных бровей взглянул на дьяка. Лицо Щелкалова, как всегда, было невозмутимо. Царь отнял руки от лица, плотнее запахнул на груди тулупчик и пересказал думному разговор с пастором Губером. Дьяк слушал внимательно, и видно было по собравшимся у висков морщинам, по менявшемуся выражению глаз, что он не только слушает, но и примеривает услышанное к известному ему ранее.
Борис замолчал и в другой раз поднес ладони ко рту, подул в них. Он не торопил печатника, знал: для ответа время надо, вопрос был не прост.
Наконец дьяк, качнувшись на лавке, сказал, что при всей шаткости королевского шведского трона он не верит в возможности принца овладеть короной.
— Что касаемо его стремления создать из Ливонии самостоятельное королевство, о котором говорят явно, — сказал Щелкалов, — то тут при известной помощи он может преуспеть. А это в случае брачного союза с царевной, — дьяк посмотрел на Бориса, — откроет для России немалое на Балтике.
— Так, — сказал Борис и повторил: — Так… — Поднял на дьяка глаза. — Ну а вера протестантская?
На губах дьяка появилась усмешка, бровь поползла кверху.
— За корону — а ведь эта корона — самостоятельное королевство — не только от веры отказывались, — сказал он убежденно.
И, как показало дальнейшее, ошибся. Но Борис ему поверил.
— Хорошо, — сказал царь, — надо послать к принцу в Ригу послов.
На том и было решено.
В царе Борисе вроде бы плотины внутренние растворились, многократно прибавив силы. Он и так работал без устали, а тут погнал, словно назавтра и солнышку не всходить и дня не будет.
В Москве вновь слезы пролились. Царь повелел в прибавление к отправленным в западные страны восемнадцати отрокам собрать в дальнюю дорогу еще пятерых юношей для обучения в ганзейском городе Любеке наукам, разным ремеслам, языкам и грамотам. К домам, из которых брали юношей, поставили стрельцов во избежание побега или порчи отроков. Стрельцам было велено глядеть строго. Купцов, с коими отправляли в учение юношей, царь принимал в своем дворце и говорил с ними о том, чему отроки должны быть выучены, как содержать их в Любеке, и тогда же купцам было вручено золото в вознаграждение за усердие и в уплату за иждивение и обучение молодых россиян. Царь сердечно, прикладывая руку к груди, просил купцов всяческую заботу проявить о том, чтобы русские юноши вдали от родной земли не оставили своих обычаев и веры. Купцы с коленопреклонением клялись волю царскую выполнить.
Малое время спустя с английским негоциантом Джоном Мерком отправлены были в Лондон еще четверо молодых людей.
Слезы, слезы лились по московским домам…
Семен Никитич донес Борису, что к патриарху Иову обращались многие с просьбами заступиться за православных отроков, не дать им сгинуть на чужбине.
— Ну и что патриарх? — спросил Борис.
Дядька помялся, изобразил лицом неопределенность.
— Отмолчался, — ответил невыразительно и тут же добавил с большей твердостью: — Однако, говорят, слезы льет и скорбит душой.
Борис помедлил, посмотрел на дядьку, сказал:
— Молчит, ну и хорошо.
На то Семен Никитич возразил:
— Ан не все хорошо, государь. Разговоры всякие опять по Москве пошли. Шепчут разное…
Царь поднялся с кресла, прошелся по палате. Семен Никитич, водя за царем глазами, ждал. На лице Борисовом явилось несвойственное ему ожесточение, и казалось, вот-вот с уст его сорвутся злые слова. Царь остановился у окна, поднял руки и оперся на свинцовую раму, тяжкой решеткой рисовавшуюся на светлом небе. Семен Никитич замер, глядя в цареву спину. И было это так: глубокая амбразура окна, вздетые кверху, раскинутые царевы руки и решетка. Семену Никитичу показалось, будто царь рвется навстречу светлевшему за решеткой небу, но черно-сизый свинец не пускает его. Царь стоял неподвижно, и все напряженнее, внимательнее вглядывался в его спину Семен Никитич. Наконец царь опустил руки и отошел от окна. Видно было, что возникшее ожесточение Борис преодолел. Лицо его вновь было спокойно.
— Ладно, — сказал он дядьке, — ступай.
Семен Никитич повернулся и вышел, но, и спускаясь по дворцовой лестнице, все видел: решетка и на ней черным на светлом небе, распятой тенью фигура царя. И еще видел он Борисовы губы, кривившиеся на лице и вот-вот, казалось, готовые выговорить что-то злое. Семен Никитич даже задержался у выхода из дворца, пытаясь понять, что хотел сказать царь. На лице его выразилось такое движение мысли, что мушкетер из царевой охраны, взглянув на него, подступил ближе. Пристукнул шпагой в гранитную ступеньку. Но дядька только глянул на мушкетера и пошел через дворцовую площадь.
Предупреждение Семена Никитича не остановило Бориса. В Думе он сказал, что намерен послать в северные города Вологду, Великий Устюг, Архангельск старательных к тому людей для сыскания рудознатцев, железоплавильного и медеплавильного дел мастеров.
— Земля наша богата, — сжав подлокотники трона и подавшись вперед, сказал царь, — а мы не ведаем, что в ней есть. — Обвел глазами бояр. — О российских умельцах заботу иметь должно, а где она?
Никто не посмел возразить Борису, видя раздражение царя, но никто и не поддержал. Только старый боярин Катырев-Ростовский покивал высокой шапкой: так, мол, так.
Дума приговорила — послать людей. Многие облегченно вздохнули: «Слава богу, сегодня обошлось малым… А что до того, что людей послать в северные города, то пускай, оно ничего. И брань царская тоже ничего. Оно хотя и царская брань, а все на вороте не виснет. Пускай его…»
Но Борис на том не остановился. Сказал, царапая по боярам глазами, как филин из дупла, что полагает послать в ганзейские города знатного купца с Кукуя Бекмана для приглашения на цареву службу мастеров того же рудознатного, железоплавильного и медеплавильного дел, так как очевидно, что мастеров оных великая нехватка на Руси. А также велит он купцу Бекману врачей и аптекарей приглашать для службы на Москве.
Бояре заворочались на лавках: «Опять, опять иноземцев на шею наколачивают. Потаковщик иноземцам Борис, а что их тащить на Русь, сам же сказал, что земля наша богата…»
Недовольный рокот прокатился в Думе. Но поднялся думный дьяк Щелкалов, и рокот смолк. Думный зачитал наказ Бекману:
— «…ехать в Любек, или на Кесь, или другие какие города, куда ехать лучше и бесстрашнее. Приехавши, говорить бурмистрам, ратманам и палатникам, чтобы они прислали к царскому величеству доктора, навычного всякому докторству и умению лечить всякие немощи. Ежели откажут, искать самому рудознатцев, которые умеют находить руду золотую и серебряную, суконных дел мастеров, часовников и так промышлять, чтоб мастеровые люди ехали к царскому величеству своим ремеслом порадеть».
Скрепя души, бояре и это прожевали, как проплесневелую горбушку. Приговорили сей наказ утвердить и купца Бекмана послать с царским поручением.
Но и это оказалось не все. Царю Борису не надо было бы гнать коней, не снимая кнута со спин, придержать малость, по он покатил тройку во всю прыть.
— А так как полагаться нам постоянно на иноземных мастеров не пристало, заботясь о благе России, считаю нужным послать доктора Крамера в неметчину, дабы он, приискав там, привез в Москву профессоров разных наук и советчиков для обучения молодых россиян, — сказал Борис твердо.
Дума загудела, как потревоженный пчелиный улей: «Как? Едва-едва отбились от геенны пагубной — университета на Москве, а он вновь за свое… Профессоров на Москву, советчиков иноземных… Нет…»
И здесь вспомнили: и казнь Бельского, и седину его бороды на досках позорного помоста, и всех кружащих около царя иноземцев. Рудознатцы, мастера различных ремесел — это было одно. Профессора, советчики — иное. От веку на Москве знания держало боярство, из рода в род их передавало, научая будущие поколения, как государством управлять, как людей преклонять перед властью, как с иноземными державами разговор вести, воинской доблести и воинской же науке учило и тем стояло у трона. А тут на тебе. Профессоров из неметчины…
— Нет и нет, — гудела Дума, — не быть тому.
Гневные лица, дрожащие от ярости бороды оборотились к царю. И вдруг Борис разглядел умно, внимательно следящие за ним глаза Федора Романова. Лица вроде бы даже и не видно было, но вот глаза смотрели, казалось, в саму душу Борисову, твердо смотрели, все понимая, все замечая и говоря с очевидностью, что они не уступят и малости из принадлежащего боярину. Видел Борис и лица бояр и думных дворян, которые могли бы поддержать его. Князь Федор Ноготков-Оболенский ободряюще выглядывал среди иных, а также князь Василий Голицын, царева родня Сабуровы, Вельяминовы. Были и другие, но Борис уже понял, что Думу в сей раз не сломить.
Никакого решения относительно доктора Крамера и приглашения им профессоров для обучения молодых россиян Дума не вынесла.
В тот же вечер, в свободный час, играя в своих покоях с царевичем Федором в завезенные на Русь из Персии шахматы, Борис спросил сидящего тут же Семена Никитича:
— Так какие разговоры на Москве-то, что говорил ты давеча?
Царев дядька, коснувшись пальцами лба и разглаживая набежавшие на чело морщины, ответил, как и прежде:
— Разное говорят, государь, разное…
— А все же? — настаивал Борис, не отводя глаз от шахматной доски.
Навычный в любимой им игре царевич теснил Борисовы фигуры. Царь рассеянно коснулся пальцами вырезанной из слоновой кости ладьи и передвинул ее на два поля. Оборотился к дядьке:
— А все же, все же?
И тут царевич сказал звонким, молодым голосом:
— Мат! Шах умер.
Борис взглянул на доску, обежал глазами фигуры, но было видно, что не шахматы занимают его мысли. Однако он улыбнулся, сказал:
— Да, да…
Поднявшись от столика, полуобнял царевича за плечи и так, обнявшись, проводил до дверей. Перекрестил с благословением на ночь и, когда двери за царевичем закрылись, повернулся к Семену Никитичу.
— Ну? — спросил настоятельно, с изменившимся, сосредоточенным лицом.
— Да вот говорят, государь, — поднявшись с лавки, ответил Семен Никитич, — что на подворье Романовых опять холопов из деревень собирают и все таких везут, что только дубину в руки. Крепких подбирают молодцов.
Царь сел к столику, наугад взял шахматную фигуру и, словно любуясь искусно сделанной вещицей, неспешно поворачивал ее в пальцах. Полированная слоновая кость светилась изнутри. Не глядя на Семена Никитича, Борис спросил:
— Так говорят о том или тебе доподлинно известно о романовских холопах? Тогда скажи: сколько было их, сколько стало?
Семен Никитич заморгал глазами.
— Вот то-то, — по-прежнему не поворачивая головы, сказал Борис, — ты доподлинно о таком знать должен, а не из разговоров на Пожаре.
У Семена Никитича на лице под темной кожей проступили желваки.
— И вот еще что хочу сказать. — Тут Борис повернулся к дядьке, и жестко, зло блеснули царевы глаза. — Повторяешь все, повторяешь: говорят-де, и тем царь Борис плох и этим нехорош… Так… — Борис помолчал, будто перемогая в себе нечто, и сказал, как гвоздь вбил: — Пускай ныне люди доверенные скажут народу, чем нехороши Шуйские, чем плохи Романовы и иже с ними. Понял?
Поднялся резко, прошел через палату, остановился у печи и загнутым носком мягкого сапожка, подцепив, распахнул дверцу. В печи бурлило пламя, жадно обнимая сухие поленья. Языки огня бились в стены печи, сворачивались, играли, вскипали всполохами. Глядя в огонь, Борис увидел: носилки, толпу людей на Никольском крестце Кремля и себя на высоких подушках носилок. Унизили его в тот раз, испугали… И еще увиделись в языках пляшущего пламени глаза Федора Никитича Романова. Глаза, казалось, заглядывали в самую душу, твердо смотрящие глаза, сосредоточившие в себе постоянно окружавшее Бориса неверие. И Борис за унижение свое, за страх свой, за неверие стоящих вокруг него решил ответить тройным унижением унизивших его многократно умноженным страхом, ярой, добела раскаленной ненавистью. В груди у Бориса клокотал гнев — плохой советчик власть предержащему. И царь забыл, что стоящий над людьми не должен, не может, не имеет права болеть их болезнями, предаваться их страстям, тонуть в их слабостях, ибо, приняв это от них, он уже не будет царем.
Лаврентий дождался своего часа. Вот радость была! Он только копытом не бил, как застоявшийся жеребец, так как копыт не дано ему было от бога. Все же в человеческом образе обретался, но горячее дыхание, однако, струями рвалось из ноздрей от чрезмерного пыла.
— Ну-ну, — говорил, — подождите…
И звучало это почти так же, как угроза Ивана-трехпалого, что, сжав кулак до белизны в суставах, замахивался на белокаменную. Ну да этот пострашнее был, чем Иван — тать с Варварки, убийца, вор. Много страшней. Тать в ночи, хоронясь от людских глаз, неслышно вершит черное свое дело, а этому и ясное солнышко не помеха. Убийца по переулкам крадется, за углы прячется, за плетни и заборы припадает, а такой посередь улицы, у всех на виду, идет и ногу ставит уверенно, властно, так, чтобы каждый видел: он идет, он, именно он. Вор лицо прячет, руки у него дрожат, когда за чужое схватится, и бежит опрометью, коли приметят воровство. А этому ни к чему лицо прятать. У него за спиной сильные, что над людьми поставлены, вот и руки не дрожат и бежать незачем. От него другие бегают, а он вдогонку идет. Оно и большой пес, коли хозяина нет, и малую шавку не тронет. Но вот когда хозяин за спиной, то и моська ярится, слюной брызжет, злом пышет и любого за горло готова схватить. Нет страшней пса, коего хозяин с цепи спустил и крикнул: «Ату! Ату!» По правде, такое в человеке давно примечено: достигнуть и свалить. Это как хмель в крови, как затравка, дабы горячий в нем сок бродил.
Лаврентий начал с Варварки.
У тесовых крепких ворот романовского подворья, на виду многочисленного люда, толпящегося здесь с раннего утра до позднего вечера, объявился неведомый нищий. Сел, распустив лохмотья, загнусил дребезжащим, жалостным до боли голосом:
— Подайте на пропитание… Подайте-е-е…
И видно было, слеза у нищего ползет по грязной щеке. Жалкий человечишка, убогий. Голова у нищего тряслась.
— Подайте-е-е…
В грязную шапчонку, брошенную в пыль, в дрязг уличный, падали полушки. Купчиха из жалостливых, степенно перекрестясь на церковь юрода Максима, копейку отвалила. Нищий кланялся, шамкал слова благодарности беззубым ртом, крестился.
Из ворот вышел сытый романовский холоп, поглядел ленивым глазом на убогого, сказал:
— Что растопырился на дороге, козел вонючий? Иди вон, сейчас боярин выедет.
Нищий не услышал, а, скорее, вид тому показал. Гнусил по-прежнему, дребезжа:
— Подайте-е-е убогому!
— Но-но, — подступил ближе холоп, — пошел вон! Аль не слышишь?
И без опасения пихнул сапогом в бок убогого. Тот упал, раскинул по земле руки, замотал косматой, с торчащими вихрами башкой и, раззявив рот во все лицо, взвыл:
— Убивают! Убивают убогого! Православные, ратуйте! — Закатил глаза под лоб.
Холоп, разъярясь, поволок его в сторону.
— Убивают! — надсаживался убогий.
И тут из толпы жилисто вывернулся здоровенный мужик, подскочил к романовскому холопу, схватил его, за плечо.
— Ты что? — крикнул. — Просящего Христа ради обижаешь.
Потом оборотился к толпе. Гнев, возмущение пылали на лице.
— Люди! — завопил. — Бояре уже и бога забыли, холопы боярские убогих бьют!
И, размахнувшись, ахнул здоровенным, тяжким, как обух, кулачищем холопа в зубы. С того шапка слетела. Мужик насел на него медведем. Холоп, захлебываясь кровью, заверещал. Калитка в тесовых воротах распахнулась, и на помощь своему человеку выскочило на Варварку с полдюжины романовских молодцов. Вцепились в мужика. Но не тут-то было. У рваного нищего объявились новые защитники. И все народ не слабый: рослые, без жирка, кулакастые да ухватистые. Откуда только и набежали такие — один в одного. Пошла потеха. Улица перед романовским подворьем заходила колесом. Русский мужик на кулачки схватиться горазд. Навык у каждого есть, как под дых въехать, по голове оглоушить, зубы посчитать. А эти били с оттяжкой, навычно, особо резвые на плечи высигивали и сверху гвоздили по макушкам кулачищами, что те кувалдами. Из ворот романовских высыпали еще молодцы, но и толпа с Варварки поднажала. И крик, крик полетел по всей улице. В случае таком покричать, почитай, каждому любо:
— Вот оно, бояре! Убогих бьют!
— У голодного кусок вырвали!
— Православные! Романовские холопы нищего затоптали!
— Двух убили!
— Трех!..
Обиженного сыскать на московской улице нетрудно. В жизни-то люди редко цветочки нюхают, чаще дурманом горьким она им в нос напахивает. Вот и заорали:
— Не трех, но четырех сапожищами в грязь втолкли!
Крики росли, распаляя людей, будя непрощенные обиды и злобу. На крик к романовскому подворью бежали, как на пожар.
— Ой-ей-ей! — взялся за голову благолепный старец, хоронясь у стены. — Ой-ей-ей!.. Бога не боятся люди… Побьют, побьют друг друга…
Тут, на свое несчастье, из растворившихся ворот на шестерике выкатил боярин Федор Никитич. А ходу карете нет. Народ покатом по Варварке ходит. Кони остановились. Боярин к оконцу прильнул, а зря. Здесь-то его и углядели.
Толпа разъярилась пуще прежнего. Погулять вот так, норов показать, развернуться — мол, серый я для вас, мал и слаб, но нет же — москвичи всегда были горазды. И ком грязи влип в слюдяное оконце кареты. Федор Никитич руку вздернул, отстранился от оконца, откинулся в глубь кареты. А толпа наступала, теснила коней.
С паперти церкви юрода Максима внимательно, с тайной усмешкой поглядывал Лаврентий, запустив пальцы за шелковый пояс о сорока именах святителей, повязанный по нарядному кафтану. Так, посмотреть на него, непременно скажешь: «Со стороны человек, стоит себе осо́бе, посетив святую церковь. Ему до уличной свары дела нет». И, словно подтверждая это, Лаврентий перекрестился на летящие в небе кресты церкви, повернулся и пошел вниз по Варварке.
Он свое сделал. Шел ровно, руки, неподвижные в прижатых к бокам локтях, но размотанные необыкновенно в кистях, болтались как-то нехорошо, даже не по-людски.
На другой день по Москве повели доказного языка. Это было пострашней, чем свара у боярских ворот, крики да мордобой.
Из Фроловских ворот на Пожар в середине дня, когда торг кипел от народа, вывели мужика с черным мешком на голове. Сквозь прорезанные в мешке дырки глядели острые глаза. Это и был доказной язык. Разбойный приказ хватал татя, и, ежели на дыбе, не выдержав пыток, тот говорил, что в воровском деле имел сотоварищей, кои еще по Москве гуляют, на татя надевали мешок, дабы он не был до времени ворами признан, и выводили на улицы.
Выискивая меж люда московского, тать указывал, кто был в шайке. Поднятый палец его был беспрекословным доказательном. «Вон тот», — указывал мужик в черном мешке, и все. Человека тащили в Пыточную башню, ну а оттуда редко кто выходил.
Мужик с мешком на голове был страшен на Москве, так как, озлобясь от пыток, изнемогая от ран, он мог указать на любого. Волокли, волокли его на веревке, и, дабы мучения прервать, доказной язык, не разбирая, тыкал пальцем: «Этот!» Люди разбегались от языка, как от зачумленного. Улицы пустели.
Мужика дотащили за веревки до Лобного места. Доказного шатало, по неверным ногам было понятно, что били его крепко.
На Лобное место поднялся дьяк в хорошей шубе, прокричал в народ, развернув бумагу, что на Москве объявились три ведуна, наводящие на людей порчу.
— Сей мужик, — указал дьяк на шатавшегося у ступеней доказного, — под пыткой, с третьего боя, признался…
Взметнувшийся вихрь забил дьяку глотку пылью. Он откашлялся и стал перечислять приметы ведунов:
— Первый мужик вельми высокого роста, глаголет торопливо, лицом нехорош. Другой роста меньшего, лицом также нехорош, телом много плотнее первого. Что касаемо третьего ведуна… — Тут приказной поднял на людей глаза, оглядел толпу вроде бы даже с удивлением и выкрикнул: — То это вовсе баба! Примета — глаза таращит.
Дьяк свернул бумагу.
Площадь убито молчала.
— Велено их сыскать, — крикнул напоследок приказной, — и поступить с ними как должно!
В толпе, сбившейся вкруг Лобного места, стали оглядываться, угадывая по названным приметам, нет ли рядом кого из тех, кого ищут. Но и тут мужик вельми высокого роста стоял, там выглядывал другой на голову выше иных, здесь — вот он — поменее и плотнее телом. А бабы все до одной глаза таращили.
Народ ударился врассыпную.
Дьяк медленно, боясь поскользнуться, спускался по ступенькам Лобного места. Нащупывал носком камень и тогда только ставил ногу. Тучен был и по ступенькам ходить не привычен. Когда дьяк ступил на землю, Пожар был пуст. Дьяк откашлялся в другой раз, освобождая горло от горькой пыли, и, не выказывая ни малейшей озабоченности, что вот толпа была вкруг Лобного места, а ныне пусто и только кем-то оброненная веревочка валяется, одышливо повелел стрельцам:
— Поступайте как сказано.
Стрельцы взялись за веревки. Мужик в мешке качнулся, пошел шатаясь. И будто черный, страшный коршун, ища поживу, закружил по московским улицам.
Языка протащили через опустевший Пожар, свели по Варварке на Солянку и поволокли по ломаным, кривым переулкам: Никольскому, Владимирскому, Колпачному, Квасному, Иконному… Гнали, бодря пинками, мимо церквей: Рождества Богородицы, что на Стрелке, Николая Подкопая, Трех Святителей, что на Кулишках, Петра и Павла, что на Горке. Поддавая взашей, толкали мимо дворов алмазника Ивана Немчина, стольника Ивана Ивановича Салтыкова, стольников же Ивана Ивановича Пушкина и Бориса Ивановича Пушкина, заплечного мастера Якова и иных домов, в которых люди, замерев и сторонясь окон, слово молвить боялись. Прижимались к стенам, и губы у многих дрожали, белели глаза… А каково, ежели рука доказного на воротах дома остановится? Тут же вломятся стрельцы, вступит на порог дьяк, и тогда доказывай, что ты чист и в ведовстве не замешан. Ох, трудно это… Кровавыми слезами умоешься и под пыткой, на дыбе, припеченный каленым железом, пожалеешь, что на свет тебя мать родила.
Но язык проходил мимо дворов не останавливаясь. А шел он уже вовсе плохо.
Упадет на карачки, его подтянут веревками и толкнут в спину:
— Иди!
А дьяк все приказывал:
— Смотри, смотри, разбойник, где сотоварищи твои, в каких дворах обретались? Узнаешь?
Голова татя падала на грудь.
Время от времени дьяк останавливался, доставал клетчатый платок, отсмаркивался, переводил дыхание. Одышка его мучила. Отдыхал. Отдыхали и стрельцы: тоже ноги-то бить кому охота. Доказной качался меж ними, как прибитый морозом куст на ветру.
Дьяк кивал стрельцам:
— Взбодри, взбодри его! Ишь голову свесил…
Стрелец подступал к языку и твердой рукой бил в подбородок. Вскидывал голову. Шли дальше. Страх расползался по Москве.
Дотащились наконец до Покровки, и здесь доказной упал. Попытались было поднять его пинками, но напрасно. Он лежал плотно.
— Все, — сказал шедший со стрельцами кат, со знанием перевернув доказного с боку на бок, — сегодня без пользы его трогать.
Как мертвое тело, доказного завалили в телегу. Дьяк подступил к кату: как, мол, дела-то нет? Тот пожал плечами.
— Завтра, — обещал виновато, — завтра поставим на ноги.
Телега покатила к Кремлю. Повезли мужика в Пыточную башню, в застенок.
И многие прячущиеся за углами, в подворотнях, в домах перекрестились. Передышка вышла.
В ту ночь Москва спала беспокойно. Ожидание-то всего хуже. В иных домах не помыслили даже свечу либо лучину вздуть: так страшно было.
В Дорогомиловской ямской слободе ввечеру в худом кабачишке, где подавали до самой ночи припоздавшим ямщикам сбитень горячий на меду и другое, что поплотней да пожирней, так как, известно, ямское дело нелегкое и мужикам силу надо держать, — сидело за столом четверо. Один, закусывая жирной сомятиной, спросил:
— А как это ведуны порчу наводят?
Другой, взглянув на него поверх кружки со сбитнем, ответил:
— Очень это даже просто для того, кто знает. Возьмут за тем или иным след, высушат, в ступе истолкут и пускают по ветру на человека, которому порчу хотят сотворить. И все, спекся малый.
У ямщика, что спросил, отвалилась челюсть.
Помолчали. Третий сказал:
— И по-иному бывает. Против солнца, — он поднял руки и приставил растопыренные пальцы ко лбу, — козу на человека наводят, и, как только тень от рогов этих человека коснется, тоже… — Закивал со значением головой, развел руками.
А четвертый, молча обведя всех за столом взглядом, сказал:
— Хватит, мужики, разговор опасный. Не дай бог влетит в чужие уши.
Оглянулся. Мужики смолкли.
Наутро доказного языка повели по иной дороге. По Тверской протащили, по Никитской, на Арбат выперли, проволокли по Знаменке, дотащили до Чертольской. И опять, не боясь бога, гнали пинками мимо святых церквей: Николы Явленного, Знамения Богородицы, Иоанна Предтечи, Вознесения, Успения, Воскресения и Николы в Гнездниках. Мимо домов крестового Дьяка Михаилы Устинова, Ивана Ивановича Головина, по прозвищу Мягкий, бояр Хованского, Шуйского…
У дома Ивана Ивановича Шуйского доказной остановился. Дьяк и стрельцы замерли. Мужик в мешке что-то промычал, рука его вроде бы зашевелилась, но он качнулся и замертво грянул оземь.
Так дело с тремя ведунами и не довели до конца. С Лобного места в тот же день дьяк объявил, что доказной язык помер, но ведунов ищут и впредь искать будут. Так что роздых для Москвы вроде бы и вышел, однако, чувствовалось, ненадолго.
Опасно, ох, опасно на Руси царя пугать. И страшно, ох, страшно от него напугаться.
Служили благодарственный молебен об избавлении царя Бориса от тяжкого недуга. Сладкий запах ладана заполнял храм, блестел иконостас, вспыхивали в свете свечей золотые оклады икон, и мощный голос архидьякона, казалось, сотрясал стены.
Чудовская братия, валясь на колени, клала поклоны, истово крестилась.
— …избавление-е-е… богу всеблаго-о-о-му… — так низко рокотал голос архидьякона, что в груди у каждого трепетало. Могучий голос подхватывался хором. Лбы покрывались испариной, пальцы, накладывая крест, дрожали. Лица были истовы, глаза, устремленные к Христу, ликовали, благодарили.
Среди молящихся выделялся стоявший на коленях в тени колонн, у стены, Григорий Отрепьев. Плотно сомкнутые губы, полуприкрытые глаза, морщины у висков говорили скорее о глубоком раздумье монаха, нежели о молитвенном экстазе, испытываемом всеми в храме. Он кланялся, когда склонялась в поклоне братия, рука его поднималась и опускалась, привычным движением накладывая крест, но и выражение лица, и медлительность в поклоне, и даже то, как слабо, без должной истовости были сложены в троеперстие его пальцы, — все говорило: монах далек от творимой в храме молитвы, мысли его заняты иным.
Ныне изменения, давно примечаемые чудовской братией в Отрепьеве, были еще разительнее. И выделялся теперь он среди них не только богатым платьем, постоянно подносимым ему неведомыми доброхотами, но прежде всего своим поведением. И ежели и раньше замечали, что ходить он стал увереннее, говорить тверже, то ныне уже властность угадывалась в его походке, в голосе и жестах. Но, что удивляло всех, было все же другое.
Впервые придя в монастырь и стоя в ожидании у келии иеродиакона Глеба, монашек сей, кутаясь в рваную рясу, оглянулся вокруг, и неожиданно на утомленном лице его объявились необычайно живые глаза, светившиеся разумом, волей, и необыкновенной, странной в стенах монастырских, удалью. Но Отрепьев тут же опустил веки и погасил глаза. Так вот ныне глаза Отрепьева неизменно и на всех смотрели с победительной силой и властностью. И взор этот не мог не смутить каждого, кто только видел монаха. Так в монастырях не смотрят, так, богу служа, людей не оглядывают.
С некоторых пор Отрепьеву в трапезной стали подавать отдельный от братии стол, и блюда подавали вовсе иные, отдельно же приготовляемые. Братия зашепталась. Но было сказано: «Монаху сему подают пищу, ежедень приносимую для него доброхотами». «Хорошо, пускай», — ответили на то монахи. Но вот однажды вся трапезная была поражена вдруг случившимся.
Иеродиакон Глеб, весьма уважаемый в монастыре за долгие годы свои, за ученость великую и за скромность бытия, по известной рассеянности, видать, остановился как-то у стола Отрепьева, и тот, увидя его, пригласил к столу. Но как! Рука Григория поднялась от стола и проплыла, приглашая старца сесть на лавку, так, как плывет, указуя, только рука царская. Старец растерянно присел, и видно было по затрясшейся голове, что он чрезмерно напуган. Все, кто только был в трапезной, опешив, открыли рты не в силах и передохнуть. В головах родилась мысль: «А чего бояться иеродиакону? Отчего лицом он посерел? Почему седая голова трясется?»
Ответа, однако, не нашел ни один из братии. Отрепьев неотлучно был ныне подле патриарха. Читал по его приказу святые книги, когда тот желал послушать то или иное, но по слабости зрения и недосугу сам уже прочесть не мог, переписывал жития святых по патриаршему же повелению, бывал с патриархом в Грановитой палате, в Думе и многократно мог лицезреть царя.
О чем думал Отрепьев сейчас, во время благодарственного богослужения, было неведомо. Но до самого конца службы лицо его так и не озарилось святым огнем.
По окончании молебна на паперти храма один из монахов, задержавшись подле стоящего молча Григория, видать, со зла сказал дерзко:
— На лице твоем не видел я благолепия, когда братия господа славила за дарованное здоровье царю. — И повторил со значением: — Царю!
Григорий, долго-долго вглядываясь в монаха, неожиданно сказал, раздельно и четко выговаривая каждое слово:
— Царю… — Качнул головой. — Неведомо вам, сирым, кем я являюсь на Москве. — Перекрестился. — Вот и царем, быть может.
Монах, пораженный его словами, даже не ответил. Постоял, выражая всем своим видом полное недоумение, повернулся да и пошел прочь.
Через малое время слова Григория Отрепьева знал весь монастырь.
Промысел сильных людей бодрствовал над Григорием, и кто-то неведомый и в сей раз попытался отвести от него беду, братии сказали было, что в словах Отрепьева нет предосудительного. От гордыни-де это, не подумавши сказано или, напротив, в словах этих надежда на служение богу. И слово «царь» и так-де можно понимать, как сильный, могучий, старший отличнейший меж другими. И монах-де сей в этом смысле говорил, стремясь отличиться в служении церкви. Однако разговоры унять не удалось. Слова Отрепьева дошли до митрополита Ионы.
Рыхлый сей старец, подолгу не выходивший из келий, выслушав их, разволновался необычайно. Всплеснул пухлыми руками и не смог объяснить слова Григория как надежду на служение богу подвижническим делом. Мирское, злое услышал он в них и, несмотря на хворь, в тот же день толкнулся к патриарху.
Патриарха Иова митрополит застал за слушанием Библии, чему патриарх отводил ежедневно немалое время, стремясь проникнуть в смысл святых слов. Монах Григорий читал Иову благовествование от Матфея. Сжимавшая посох рука митрополита Ионы задрожала, когда он увидел Отрепьева. Лицо напряглось.
Патриарх, увидев вступившего в палату, не прерывая чтения, легким движением указал на лавку, и митрополит, почувствовав слабость в ногах, присел. Оперся на посох.
Отрепьев, стоя к митрополиту вполоборота, продолжал читать. Патриарх, не то заметив, не то почувствовав волнение Ионы, успокоительно покивал ему головой. Митрополит сложил руки на посохе и, унимая беспокойное чувство в груди, вслушался в произносимые монахом слова. Отрепьев читал глубоким голосом, ровно, не выделяя отдельных слов, но так, что чтение лилось единым сильным потоком. Без сомнения, монах сей умел читать священные книги, и, ежели бы у митрополита не было против него предубеждения, Григорий, наверное, увлек бы его своим голосом. Но Иона, так и не уняв волнения, не святое, но бесовское, лукавое услышал в голосе Отрепьева. Голос Григория был для него обманом, издевкой, надругательством над смыслом того, что произносил он.
— «Ибо, — читал Отрепьев, — кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».
Жар ударил в голову митрополита, губы его пересохли, и уже не волнение, но гнев всколыхнулся у него в груди. Превозмогая нечистое, гневливое чувство. Иона до боли переплел сухие пальцы на посохе, и на время боль заглушила голос монаха.
Но вот вновь проник в сознание митрополита ровный и теперь ненавистный голос:
— «Горе вам… лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
Далее митрополит слушать не смог. Посох застучал в его руках. Патриарх Иов с удивлением поднял на Иону глаза и, заметив необычный жар в лице митрополита, различив в его чертах волнение, поднял руку и остановил Отрепьева. Но охватившее митрополита чувство было столь сильно, что он молчал и только посох в дрожавших пальцах все пристукивал и пристукивал в пол.
Патриарх отослал Отрепьева и ждал, когда успокоится митрополит. Наконец тот, смирив тревогу и волнение духа, рассказал Иову о случившемся. Патриарх помолчал и спросил даже с недоумением:
— Ну и как же ты толкуешь эти слова?
— Владыко! — воскликнул митрополит.
Но Иов, к удивлению Ионы, остановил его.
— Я подумаю, — сказал, — подумаю.
И на беду свою, на беду паствы своей так и не задался трудом помыслить о разволновавшем митрополита. В тот же день патриарх уехал в Троице-Сергиев монастырь. Трудная дорога утомила его, укачала…
Но митрополит Иона и через неделю не успокоился и напросился к царю.
В царских покоях Борис был не один, тут же была и царица Мария. Дрожа рыхлым подбородком, с тревогой в голосе митрополит Иона рассказал о словах монаха. У Бориса поползла кверху бровь. Вдруг стоявшая сбоку царя Мария, помрачнев взглядом, с обострившимся, побледневшим лицом сказала:
— Сего монаха следует взять из монастыря и под крепким караулом выслать из Москвы.
Иона вскинул глаза на царицу и угадал в лице ее отчетливо проступившие черты отца царицы — Малюты Скуратова. Не по-бабьи, жестко смотрели глаза царицы, резок был рисунок губ, да и слова, говоренные ею, не по-бабьи были определенны.
Тогда же царь Борис велел дьяку приказа Большого дворца Смирному-Васильеву взять монаха Отрепьева из монастыря, под крепким присмотром свезти в Кириллов монастырь и содержать там надежно.
Дьяк Смирной-Васильев, выслушав царя, с излишней суетой выбежал из царских покоев. На лестнице дворца дьяк вдруг, невпопад тыкая пальцами в лоб и плечи, перекрестился несколько раз и, пришептывая что-то, побежал торопливо. На лице дьяка была растерянность. Однако в приказ он вошел много вольнее, а идя из повыта в повыт, вовсе лицом успокоился и, взглядывая на гнувших головы писцов, даже поскучнел, как это и должно в службе. Глаза Смирного-Васильева скользили по согнутым над столами головам и вдруг, выражая родившуюся в каверзной голове приказного мысль, настороженно остановились на томившемся у окна за стопкой бумаг дьяке Ефимьеве.
— Семен, — скучливо позвал Смирной-Васильев, — зайди ко мне. Разговор есть.
И, не останавливаясь, прошел в свою камору. Сел к столу и задумался.
Вошел Ефимьев. Под сводами сильно пахло сальной свечой, в засиженное мухами оконце цедился тусклый свет.
— О-хо-хо… — зевая, вздохнул Смирной-Васильев. — Жизнь наша тяжкая…
Ефимьев с досадой посмотрел на дьяка. Дел у Ефимьева было много, и все спешные.
— Да ты сядь, сядь, — в другой раз зевая и прикрывая рот ладошкой, сказал Смирной.
Ефимьев присел на край лавки.
— Слыхал, — сказал скучливо Смирной, — монахи в Чудовом балуют?
— Мне недосуг, — ответил Ефимьев, — о монастырских слушать, со своим бы управиться.
— Да-а, — протянул Смирной, — знаю. Дьяконица у тебя, говорят, хворая?
Ефимьев заерзал на лавке. Видя его нетерпение, Смирной сказал тем же невыразительным голосом:
— Да, вот царь велел разобраться с монахами-то. Царево слово… Да… Об Отрепьеве, монахе, не слышал?
Ефимьев даже не ответил.
Смирной поглядел в окно и гадательно сказал:
— В какой бы иной монастырь перевести его, что ли?.. Или как… — Покивал. — Займись… Будет время… Ну иди, иди, голубок. — Вздернул голову. — Да не забывай дело-то важное об отписании в цареву казну имущества помершего… э-э-э… забыл. Ну ладно, вспомню — скажу. Иди.
Ефимьева с лавки как ветром сдуло. На том разговор и прервался.
Вечером, спускаясь по ступенькам приказа, Смирной-Васильев, придержав за рукав дьяка Ефимьева, спросил:
— Так об чем это мы толковали сегодня?
Прищурился на дьяка. Но тут ветер порошинку ему в глаз влепил. Смирной схватился за глаз рукою.
— Э, черт, — помянул всуе нечистого.
Спустя время порошинка та стоила ему жизни. Да порошинка ли? Не слово ли, со стороны сказанное? А может, вовсе и не слово, но кошель, да не пустой? Но вот о слове, о кошеле дьяк в свой смертный час не подумал, а порошинку вспомнил и даже крикнул о том вязавшим ему руки, но они не поверили.
Но все то было еще впереди…
Дьяк поморгал глазом, и боль унялась.
— Так, э-э-э… — начал было он вновь, но тут с патриаршего двора, с куполов церкви Трех Святителей, сорвалась стая воронья и с заполошным криком забилась в тесном небе над Кремлем. И не то что Ефимьев — дьяк своего голоса не услышал да и махнул рукой.
Воронье орало, билось в небе.
Стая же воронья кружила в небе, когда Москва торжественно и пышно встречала польское посольство. На всем пути посольства, как только оно въехало в Москву, стояли пристава, приветствуя послов, кареты поляков окружили богато, по три шубы надевшие московские дворяне на хороших конях, и криков, и лиц, выражавших должную случаю радость, было довольно.
Однако Лев Сапега, сидя в передовой карете, взглянул на кружившее в небе воронье и ощутил в груди недоброе. Погода была ясная, небо отчетливо синее, купола церквей слепили глаза позолотой, но черные лохмотья воронья нехорошо встревожили душу канцлера Великого княжества Литовского. Он, впрочем, подавил в себе это чувство, поправил опоясывавшую его богатую перевязь, горделиво откинулся на подушки и улыбнулся. Улыбками цвели и сидящие в кативших следом каретах кастелян варшавский Станислав Варшидский и писарь Великого княжества Литовского Илья Пелгржимовский. Однако ежели Илья Пелгржимовский, со свойственным ему жизнелюбием, улыбался вполне искренне, а Станислав Варшидский только демонстрировал известную польскую галантность, то приветливая фигура на губах Льва Сапеги была не чем иным, как непременной частью посольского костюма. Мысли канцлера были предельно сосредоточены, а глаза остры. Он подмечал и запоминал то, что многим показалось бы вовсе не имеющим никакого значения ни для него, канцлера и главы посольства, ни для выполняемой им миссии.
Исподволь он приглядывался к москвичам и с неудовольствием отмечал, что лица их сыты, а одет московский люд добро. Приметил он и нарядный вид церквей, раскрашенных и вызолоченных ярко и празднично, как того и требовал православный обычай. На многих улицах увидел Сапега начатые строительством дома, белевшие свежеошкуренным деревом, и вовсе с растущей тревогой отметил бодрый и радостный вид сопровождавших посольский поезд московских дворян.
Он ждал другого.
Опытный политик, Сапега оценил действия царя Бориса, унизившего и ниспровергшего Бельского — о казни воеводы Богдана Сапега знал все — и вместе с тем открыто не озлобившего и не восстановившего против себя московскую знать. И еще с горечью подумал канцлер, что вести в наступательном духе переговоры в городе, где так много радостных лиц и так явны следы благоденствия, дело далеко не простое. Его бы гораздо больше устроило, ежели бы посольство встретили толпы озлобленного, нищего народа и запустевшие улицы. Лев Сапега не раз бывал в Москве и мог с уверенностью сказать, что в столице государства Российского ныне многое свидетельствует о ее преуспеянии. Улыбка канцлера несколько поблекла, но он продолжал улыбаться.
Посольский поезд завернули к открытым воротам. Лев Сапега, приподнявшись в карете, быстрым, но внимательным взглядом окинул отведенный посольству дом. Это была большая рубленая изба в два света, с высокой крышей и хорошим крыльцом, однако без всяких украшений. Стояла она в улице отдельно от других домов и была обнесена высоким забором. Зная, что в посольском деле нет мелочей и редки случайности, Лев Сапега с первого же взгляда оценил и избу, и крепкий забор вокруг нее, и пустынный, без единого деревца, двор. Дом, отведенный посольству, мог быть много лучше, и уж коль отвели этот — значит, не хотели отвести иной, поместительнее и наряднее, и тем определяли свое понимание важности и необходимости предстоящих переговоров для России. Пустынный же двор и высокий забор говорили Льву Сапеге с очевидностью, что присмотр за посольством будет строгим. Улыбка канцлера еще больше потеряла в яркости. А обойдя дом, Лев Сапега вовсе стал строг лицом. Выказывая раздражение, он сказал сопровождавшему его приставу:
— Ежели нас будут держать в такой тесноте, то нам надобно иначе распорядиться и промыслить о себе.
Лицо пристава застыло. Глядя в глаза канцлера, он ответил ровным, но твердым голосом:
— Это слова высокие, и к доброму делу употреблять их непристойно. — Повернулся и, не добавив ничего, вышел.
Лев Сапега сел к столу и, распорядившись, чтобы посольские располагались, как кому удобнее, задумался. И вдруг ему припомнилось воронье, черными лохмотьями кружившее в московском небе. «Да, — решил он, — предчувствие, скорее всего, меня не обмануло». Он поднялся от стола и прошелся по тесной палате. Надо было свести воедино первые впечатления. Понимая, что первые впечатления никогда или почти никогда не дают глубину картины, Лев Сапега все же считал: свежий взгляд позволяет увидеть общую окраску событий. Канцлер резко и раздраженно заговорил с приставом вовсе не потому, что был уязвлен или обижен отведенной посольству скромной избой. Нет! Он прекрасно владел собой, чтобы не выказать раздражения. Сапега намеренно поднял голос и намеренно же сказал именно те слова, которые и произнес. Он ждал ответа, и ответ ему более всего не понравился из того, что было при встрече. Ответ был обдуман, ровен и тверд. Заранее обдуман и произнесен с заранее выверенной силой. Вот это и было главным. А где же растерянность, где испуг царя Бориса, о котором ему сообщали из Москвы? «О грязное племя шпигов, — подумал Лев Сапега, — они всегда приносят то, что от них хотят услышать!» Канцлер сел к столу и пожалел, что в русских избах нет каминов. Открытый огонь, как ничто иное, помогал ему сосредоточиться.
«Итак, твердость, твердость… — подумал канцлер, почти ощутимо почувствовав крепкую руку Бориса. — Твердость…»
Однако дальнейшее свидетельствовало вовсе о другом.
На приеме в честь прибывшего посольства царь Борис и сидевший с ним рядом царевич Федор были сама благосклонность, сама любезность. После коленопреклонения перед царем и царевичем и целования рук высочайших особ думный дьяк Щелкалов провозгласил:
— Великий государь, царь и великий князь Борис Федорович всея Руси самодержец и сын его царевич Федор Борисович жалуют вас, послы, своим обедом!
В застолье царь по-прежнему был бодр, улыбался и взглядывал с лаской на послов. За столами были все знатные роды московские. Лев Сапега оглядывал лица. Бояре, однако, и иные в застолье, вольно и без смущения вздымая кубки и отдавая должное прекрасным блюдам царевой кухни, не спешили обменяться взглядами с польскими гостями. Ни одного прямого взора не уловил Лев Сапега, да так и не разглядел за улыбкой глаз царя Бориса.
Царь тоже оглядывал гостей, по давней выучке не пропуская мимо внимания ни слов, ни жестов. Но мысли его сей миг были заняты иным, нежели мысли Льва Сапеги, прежде всего искавшего союзников в предстоящих переговорах.
Царь Борис знал почти все, что содержал привезенный послами договор. То была заслуга думного дьяка Щелкалова, который ведомыми лишь ему путями добыл в Варшаве эти сведения. Конечно же, здесь не обошлось без русских соболей и соблазняющего мятущиеся, слабые души золота, но то была сторона, не интересующая царя Бориса.
Уния предполагала соединение двух государств, да еще такое соединение, когда, объявив целому свету, должно было сделать двойные короны и одну из них возлагать при коронации послом московским на короля польского, другую послом польским на государя московского. Король польский должен был избираться по совету с государем московским. А ежели бы король Сигизмунд не оставил сына, то Польша и Литва имели право выбрать в короли государя московского, который, утвердив права и вольности их, должен был жить поочередно — два года в Польше и Литве и год в Москве. По смерти государя московского сын его подтверждал этот союз, а ежели у государя московского не осталось бы сына, то король Сигизмунд должен был стать государем московским. Все эти статьи договора, по трезвому и долгому размышлению царя Бориса, навечно бы укрепили Годуновых на российском престоле, и с того часа, как он был бы подписан, роды московские, будь то Романовы или Шуйские, навсегда бы потеряли надежду на трон. Перед любым претендентом на российский престол встали бы два царствующих дома: Сигизмунда и Годунова. А это была неодолимая сила.
Над царским столом вздымался оживленный гул голосов. Слуги подносили все новые и новые блюда.
Мысли Бориса, однако, шли дальше. Царь Борис не был бы царем Борисом, ежели по скудоумию не видел и иного. Да, уния утверждала под ним трон, но были статьи, принижавшие Россию и православную веру. Уния предполагала, что оба государства будут входить во все соглашения, перемирия и союзы не иначе, как посоветовавшись друг с другом. Поляки и литовцы могли выслуживать вотчины на Руси, покупать земли и поместья, брать их в приданое. И вольно же было им на своих землях ставить римские церкви. На Москве и по другим местам государь и великий князь Борис Федорович должен был позволить строить римские церкви для тех поляков и литовцев, кои у него будут в службе.
Думая о России, царь Борис сказал себе: «Той унии не быть». Однако, решил он, следует, обойдя статьи, принижающие Россию и православную веру, установить вечный мир с Польшей. И для того давал этот пышный пир и затевал большую игру, в коей непременно хотел выиграть покой на западных рубежах.
Внесли свечи.
Лица пирующих озарились яркими огнями, и заблистала серебром и золотом царская посуда. Царь Борис не давал угаснуть улыбке на своих губах…
В тот же вечер Борис сказал Щелкалову:
— Унии, как замыслил ее король Сигизмунд, не быть. Но вечный мир с Польшей ты сыскать должен. И стой на том нерушимо.
Думный выслушал царя и неожиданно, припомнив высокомерное лицо канцлера Великого княжества Литовского, позволил себе чуть приметно улыбнуться. «Петух, — подумал он о Льве Сапеге, — петух, и не более». Печатник не увидел в канцлере достойного противника. И в другой раз ошибся.
Борис с удивлением отметил промелькнувшее по лицу думного усмешку, но промолчал.
После разговора с царем думный натянул поводья переговоров до предела.
Послов принял царевич Федор Борисович и объявил:
— Великий государь, царь и великий князь Борис Федорович изволил приказать боярам вести переговоры.
Лицо царевича было торжественно, как и подобало случаю, но, однако, холодно. Недавней любезности не осталось на нем и следа. Печатник накануне просил царевича принять послов строго.
Канцлер Сапега преклонил колено и, глядя снизу вверх в неподвижные глаза царевича Федора, ответил, напротив, мягко:
— Мы этому рады. — Помолчал и вдруг, меняя тон, уже жестко закончил: — Мы и приехали вести переговоры, но не лежать и ничего не делать.
Глаза царевича сузились, но он, видимо, не сочтя нужным отвечать Сапеге, отпустил послов.
Переговоры начались в тот же день.
С первой минуты переговоров Щелкалов заговорил о самом больном для России — о Ливонии. Тоном, не допускающим возражений, он заявил:
— Земля сия искони вечная вотчина российского государя, начиная от великого князя Ярослава, и ей должно быть и ныне под рукой великого государя, царя, великого князя и самодержца российского.
Лев Сапега, готовый к трудным переговорам, все же опешил от такого начала. «Начинается с крика, — подумал, — а чем же кончится? Дракой?» И заговорил велеречиво и любезно о свободной торговле в государствах о беспрепятственном проезде купцов через земли российские и польские, о прибытке великом от того для обеих сторон. Щелкалов смотрел на него не мигая. Он подготовил для Сапеги думного дворянина Татищева, сухонького, злого, объехавшего недавно всю Варшаву. Русские соболя связали Татищева и с друзьями, и с врагами канцлера Великого княжества Литовского, и он знал и побудительные причины, толкавшие поляков на унию, и надежды, возлагавшиеся на союз. Знал Татищев и то, что ждет король Сигизмунд от Льва Сапеги. С пустым кошелем вернуться в Варшаву канцлер не мог. Татищев поднялся, как выброшенный натянутой тетивой.
— О купцах, об их вольном проезде не сейчас след говорить, но, решив главное, — сказал он, — и тебе, Лев, предлагают речь вести об исконной русской земле — Ливонии.
Сапега, не вставая, выкрикнул:
— Мне полномочий не дано о том говорить!
Татищев всем телом подался вперед, губы его сложились презрительно и с насмешкой.
— Ты, Лев, — сказал он, — еще молод, ты говоришь все неправду, ты лжешь!
— Ты сам лжешь! — не сдержался Сапега. — А я все время говорю правду. Не со знаменитыми послами тебе говорить, а с кучерами в конюшне, да и те говорят приличнее, чем ты.
Татищев знал, как добиться своего. Он хотел вывести канцлера из равновесия, обозлить его и, когда тот в гневе перестанет владеть собой, обрушить на него силы внимательно следивших за перепалкой бояр и печатника.
— Что ты тут раскричался? — прервал он посла. — Я всем вам сказал и говорю, еще раз скажу и докажу, что ты говоришь неправду! Ты лжец!
И Татищев таки смутил канцлера. Лев Сапега был сильным и преданным сыном Польши, но он знал, сколь корыстно, алчно и развращенно шляхетство, и сей миг заметался в мыслях: кого купил этот лукавый московский дворянин в Варшаве и сколь далеко проник он в польские тайны? Увидя смущение посла и считая, что настало время уверенно шагнуть к тому, во имя чего и была затеяна вся эта игра, Щелкалов остановил Татищева и заговорил сам, но уже много ровней и спокойней. Он ни словом не обмолвился о Ливонии, а сказал, что и сам считает важнейшим вопрос о свободной торговле, о свободном проезде купцов через земли обоих государств. И тут же начал разговор о союзе оборонительном и наступательном, о выдаче перебежчиков, о вечном мире между государствами.
— Вечный мир, — сказал он, — вот что прежде всего. Все остальное выйдет из этого.
И Лев Сапега, обрадовавшись перемене тона переговоров, утвердительно кивнул головой.
Тут же Щелкалов увертливо пошел назад, но при этом смягчил голос чуть ли не до ласки. Наматывая слово на слово, он заговорил о невозможности согласия российского государя на то, чтобы поляки и литовцы женились в Московском государстве, приобретали земли и строили на них римские церкви.
— Однако, — кивнул он Льву Сапеге, — государь не будет запрещать приезжать полякам и литовцам в Московское государство, жить здесь и оставаться при своей вере.
И в другой раз думный повернул назад:
— О том же, кому и после кого наследовать, говорить нечего, потому как это в руках божьих. А при царском венчании возлагать корону принадлежит духовенству, но не людям светским.
Он поклонился в сторону послов.
— Но прежде — вечный мир! Вот о чем мы должны говорить. Вечный мир!
По-другому заговорил и Лев Сапега. Он не возражал, что статью о вечном мире между государствами следует рассмотреть первоочередно, однако сказал с твердостью:
— Договор есть свод статей, и, доколе мы не договоримся рассматривать его именно как свод статей, речи об успехе быть не может.
На том поляки уперлись крепко.
Щелкалов решил: для первого разговора сказано довольно — и подумал, что надо бы дать послам поразмыслить, посидеть подольше на своем подворье, поглядеть на глухой забор, послушать, как неуютно воет ветер на чужбине, и рассудить в долгие вечера, как и чем встретит их король в Варшаве, коли они приедут ни с чем. Знал думный человека, и ведомо ему было, что страх и в сильных душах живет. Напоследок Щелкалов сказал, будто молотком вколачивая каждому из послов в голову:
— Вечный мир! Все иное — потом.
К следующему разговору Щелкалов подготовил для Льва Сапеги думного дворянина Афанасия Ивановича Власьева.
Думный Власьев тихонько повел речь о недовольстве в австрийской земле королем Сигизмундом. Стелил он мягко, однако и глупому было понятно, что на его постели не выспишься. Из его слов выходило, что король Сигизмунд, сносясь тайно с крымцами, восстановил против себя цесаря Рудольфа и ныне, да и долго впредь, за южные границы Польши зело следует опасаться.
Поляки насторожились. Лев Сапега даже глаз не поднимал на Власьева — знал: прав сей думный московский дворянин, у Польши есть опасность с юга. Крымцы, с коими сносился Сигизмунд, не надежны, как ветер в степи: сегодня в одну сторону ударит, завтра в другую.
С цесарем Рудольфом надо было искать союза, но не с крымцами.
Но Власьев был не последним козырем печатника. Следом за ним поднялся думный дворянин Микулин и заговорил о вызнанном им в Лондоне. Ссылаясь на королеву Елизавету и не преминув заметить о ее любви к великому государю Борису Федоровичу, Микулин сказал, что ныне в Лондоне с настойчивостью говорят о крепнущей шведской опасности на Балтике, а следовательно, о великой опасности для королевства Польского.
И это было правдою и о том Лев Сапега знал. Все свел думный к одному — ни часу не медля заключать вечный мир с Россией.
Поляки все же стояли на своем: вечный мир заключим, но прежде утвердим и иные статьи договора.
Щелкалов приготовил тогда последнее средство к достижению своей цели.
Сидя за глухим забором отведенного им подворья, поляки не знали, что в Москву приехали шведские послы: барон Генрихсон и барон Клаусон. Встретив их с подчеркнутой пышностью, Щелкалов приказал провезти посольский шведский поезд мимо подворья, где под стрелецким караулом сидели поляки.
В один из дней Льва Сапегу разбудили громкие звуки литавр. Польское посольство с недоумением прильнуло к окнам. Улица напротив заполнилась московскими дворянами, гарцующими на лучших конях. И вдруг из-за угла выкатила празднично украшенная карета. Она подвигалась ближе, ближе, и Лев Сапега неожиданно различил опоясывающий передок кареты шведский флаг. А еще через минуту разглядел и лица известных ему баронов Генрихсона и Клаусона. Он понял: в Москву приехало шведское посольство. Это был удар, точно рассчитанный думным. Лев Сапега в ярости заметался по палате. Он знал об отношении к себе короля Сигизмунда, которое никак нельзя было назвать добрым, и сейчас легко представил налитое гневом его лицо. Лев так торопил короля с переговорами, так убеждал, что настало лучшее время для переговоров с москалями, и вот тебе на!
Сапега сел к столу и, сжав кулаки, положил руки перед собой. Надо было вызнать, с чем приехали шведы. Вызнать, чего бы это ни стоило. Но как? Посольское подворье охранялось так крепко, что ни один поляк и шагу не мог ступить за ворота.
Уныние разлилось над посольским подворьем. Лев Сапега, просыпаясь по утрам, поднимался нехотя и нехотя же сходился с послами паном Варшидским и паном Пелгржимовским у стола. Харчи были худые. Посольский приказ, как нарочно, поставлял на подворье полякам так, кое-что: птицу тощую и синюю, муку комковатую и прогорклую, рыбу такую костлявую, что и смотреть на нее было невмочь. Пан Пелгржимовский, каждый раз садясь за стол, рычал от возмущения. Пан Варшидский, изумляясь, как он мог позволить втянуть себя в эту авантюру и согласиться ехать с посольством в проклятую Московию, вздымал брови. Лев Сапега садился за стол и с отвращением жевал жилистое мясо, не говоря ни слова. Глаза его наливались мраком и презрением ко всему и ко всем.
И тут настала русская масленица. Широкая русская масленица с ее обжигающими блинами, топленым, горячим русским маслом, пирогами сладкими, на меду, затирухами, разливным морем густейшей сметаны, рыбными, мясными, ягодными и иными заедками и приправами к блинам.
С искренне русским размахом Посольский приказ вдруг прислал на посольское подворье столько румяных блинов, масла, рыбных и мясных блюд, вина, русской водки, бочонков сбитня и различных медов, что даже пан Пелгржимовский развел руками.
В окнах приунывшей было избы, над крышей которой и дым-то из трубы завивался по-особенному тоскливо и одиноко, заиграли радостные огни праздника. Пан Пелгржимовский хохотал столь оглушительно, что рубленые сосновые стены отзывались звенящим гулом.
С подарками к широкой масленице приехали несколько приказных. Не из самых видных, однако народ все молодой, задорный и не дурак выпить. Через час русские ударились в пляску, удивляя поляков такими коленцами, выходами, прискочками и присядками, что пан Пелгржимовский снял перевязь с огромной саблей и вступил в круг.
Но праздник кончился, а наутро пан Пелгржимовский, стеная и охая, вошел к Льву Сапеге и сообщил такое, что канцлер, воздев руки и призвав в свидетели матку Боску Ченстоховску, проклял и московитов, и их языческий праздник масленицу.
Пан Пелгржимовский сообщил, что в великом подпитии один из приказных проболтался ему об идущих переговорах со шведами. Сказал и то, что дело будто бы сладилось и Карл шведский уступает русскому государю Эстонию с тем условием, чтобы Борис Федорович затеял войну с королем Сигизмундом.
Лев Сапега был вне себя и, даже допуская, что все сказанное за пьяным столом преднамеренная ложь, понял: он проиграл в Москве. «Да все это, — думал он, — может быть и подлинной правдой, выболтанной пьяным московитом». Лев знал о ненависти Карла шведского к королю Сигизмунду.
Некоторое время спустя договор между российским государством и Польшей был подписан. Это было перемирное соглашение на двадцать лет. О других статьях, предлагаемых первоначальным договором, речи не шло. Но на вечный мир поляки так и не согласились. Для думного дьяка Щелкалова это не было поражением, но и не стало победой.
Лев Сапега уехал из Москвы озлобленным до края. Своего он не добился, но все же ему было с чем вернуться в Варшаву и предстать перед королем. В Москве он получил подтверждение, что злое семя высажено на российской земле и надо только выждать время, когда оно взойдет.
После отъезда поляков по Москве заговорили так путано и зло о царе Борисе, что только удивляться можно было, кто нашептал такое в уши московского люда. Одно было ясно: в голове у простого мужика такое и родиться не могло. Мало-помалу прояснилось: слухи ползут из Посольского приказа.
Арсений Дятел, стоя как-то у Боровицких ворот в карауле, увидел проезжавшего в Кремль думного дьяка Щелкалова.
Сыро было на улице, знобко, солнце вставало у горизонта, с Москвы-реки полз туман, и дьяк кутался в шубу, но стрелец разглядел серое лицо думного, уткнутый книзу костистый нос и понял: не только от сырости скукожился дьяк. И хотя на Щелкалова такое было не похоже, у стрельца, однако, в мыслях встало: «А не дьяк ли тем слухам начало? Уж больно согнулся, уж больно нерадостен».
А говорили по Москве так: царь Борис-де чуть вовсе полякам не предался и, больше того, чуть не предал православную веру. Все, все хотел отдать под поляка: и христианские души, и церкви Христовы — и сам перейти — тьфу, тьфу, не приведи господь и сказать — в лютеранскую, богомерзкую веру. Да так бы оно все и сталось, но вот праведный Щелкалов тому стал помехой и воспрепятствовал злому делу.
Карета со Щелкаловым проехала, оставив ровные полосы от колес на влажной пыли, а стрелец все смотрел и смотрел ей вслед. Мысль, запавшая в голову, растревожила и разволновала Дятла.
В тот же день, сменившись с караула, поехал Арсений в Таганскую слободу к тестю. Тот просил помочь по домашним делам. Когда Арсений приехал, тесть был в кузне. Ковал таган. И Дятел, только подойдя к калитке, услышал звонкий голос молота. Упруго, бодря душу, молот бил в наковальню:
Дзынь-бом! Дзынь-бом!..
Арсений прошел через двор, толкнул дверь в кузню. В нос ударил кисловатый запах сгоревших углей, металла, глаза ослепило пламя горна.
Тонкое дело выковать хороший таган из медных ли, из железных ли полос. Но тесть Арсения был мастак. Сей раз выковывал он таган необыкновенно большого размера. Круг был такой, что и двумя руками не охватишь, да еще от него шли лапы, треноги, и тоже немалые, аршина по три в длину. Приморгавшись к полумраку кузни, Арсений разглядел, железного паучища, вывешенного над наковальней на цепях.
Увидя зятя, тесть опустил молот и, приветливо улыбаясь, сказал:
— В самое время поспел, молодец! Что, харчишек принести или за дело возьмемся? Как скажешь?
— Я сыт, — ответил Арсений, — давай прежде за дело возьмемся…
Скинул, не мешкая, стрелецкий кафтан, рубаху и, голый по пояс, с мотающимся на груди крестом, подступил к наковальне.
— Бери клещи, — сказал тесть, — придерживай лапу.
Поднял молот. Стрельнул глазом, приноравливаясь, и пошел садить молотом с оттяжкой, с пристуком, с приговорками. Арсений, изо всех сил стараясь не сплоховать, под команду перехватывал длинные рукояти клещей и нет-нет да и взглядывал на тестя. А тот в свете пылавшего горна виделся хорошо. Вот и немолод был годами, но силу не терял. Молот ходил у него в руках колесом. Лицо и грудь, облитые потом, блестели, а он все бил и бил, вздымая молот через плечо, чуть придерживая его в вершине круга и обрушивая с силой к наковальне. Лицо у него светилось, как ежели бы он не ворочал тяжкий молот, а молился богу.
Закончили они с таганом, когда солнце, перевалив за полдень, уже заметно клонилось долу. Ополоснулись у кадушки, стоявшей тут же, у кузни, под желобом, и сели на завалинку.
— Хорошо, — сказал тесть, вытирая лицо суровым, некрашеного рядна, полотенцем, и повторил: — Хорошо-о-о…
Первая радость для человека — работа. Да еще такая работа, что ладится.
Помолчали.
Арсений заговорил о тревоживших его слухах. Тесть, вольно откинувшись к бревенчатой стене кузни и поглядывая на опускавшееся солнце, молча слушал.
— Вот так говорят, — сказал Арсений, откидывая со лба мокрые волосы, — да и другое шепчут.
Тесть оборотился к нему, поглядел просветленными доброй работой глазами и убежденно ответил:
— Худо все это… Худо, ежели и вправду царь Борис предаться хотел полякам, трон под собой оберегая, но трижды худо, ежели напраслину на него возводят.
— А что в слободе слышно? — спросил Арсений.
— В слободе? — Тесть тронул сильной рукой бороду. — Да то и говорят, что живем мы, слава богу, под царем Борисом тихо. — Он посмотрел сбоку на Арсения. — Ты вот в кое-то время в поход к Цареву-Борисову сходил и опять дома. Разве плохо? — Покивал головой. — От добра добра не ищут… Ну а что стрельцы думают?
— Стрельцы рады. Жалованье нам идет как никогда в срок… Да вот еще, — Арсений вскинул голову к тестю, — царь Борис войско стрелецкое увеличить хочет, и мушкетеров иноземных ныне набрали чуть не вдвое против прежнего…
— Да-а… — протянул тесть. — Шепоты — это худо…
Поднялись.
— Вот что, — сказал тесть, — не кручинься… Обойдется. Люди болтать любят… Иное плохо. Пойдем, покажу.
И тесть повел Арсения за кузню. Заторопился, озаботившись лицом.
От кузни вниз к Яузе спускались поля. Зеленой стеной стоял высокий, по пояс, хлеб. В лучах опускавшегося солнца, в безветрии хлеб был так ярок цветом, стоял так плотно, словно землю застелило единым пластом, а не закрыло множеством отдельно стоящих стеблей.
Тесть наклонился, свалил ладонью хлеб, сказал:
— Смотри, колоса нет, один лист. А? Я такого и не видел. — Поднялся, с тревогой взглянул в глаза Арсению. — Дожди залили, вот лист и гонит. Что же будет? — спросил вовсе озабоченно.
Но Арсений только плечами пожал.
Вот так вот и съездил на Таганку стрелец. Хотел покой обрести, ан того не получилось. Еще больше озаботился, растревожился, разбередил душу. Перед глазами стоял до странности зеленый хлеб и кустились стебли — широкие, в полтора пальца, ни на что не похожие.
Та же беда пригибала голову и Игнатию. Только вот ежели у тестя Дятла была еще надежда на таганы, а у Арсения звенело в кармане царево жалованье, то для Игнатия хлеб был всем. А из земли не хлеб, а трава лезла.
Много болезней, что били хлебную ниву, знали на деревне: и бурую, и желтую, и стеблевую ржавчину, твердую головню, мучнистую росу, спорынью да и другие недуги, — однако знали и то, чем избавиться от беды. Нужда научила. Но тут было что-то неведомое. Старики смотрели на прущую из земли траву, и скорбью наливались их глаза, сутулились спины, беспомощно опускались руки. Было ясно — пришла беда.
Игнатий сидел сбочь поля, переобувал лапти. Подъехал на телеге сосед по деревне. Спросил:
— Ну что? — Голос его был нетверд, но все же в нем прозвучала чуть приметная надежда.
Игнатий взглянул тускло и принялся опять за лапоть.
Сосед не удержался, соскочил с телеги, шагнул на поле. Походил у обугони, кланяясь тут и там хлебу, и оборотил лицо к Игнатию. Губы были плотно сжаты. Долго молчал, наконец, будто с трудом отрывая привязанные невидимой веревкой ноги, шагнул к мужику.
Игнатий высыпал из лаптя набившийся сор, навернул подвертку, надел лапоть. Сосед гнулся над Игнатием тенью.
— Что, — сказал тот, не поднимая головы, — аль думал, над моим полем другое небо? Нет, то же… — Пристукнул ногой в землю. — А как в иных деревнях? Ты, говорили, ездил за реку?
Сосед не ответил. Да оно и спрашивать было ни к чему. И тот, и другой знали, как в иных деревнях.
Сосед постоял подле Игнатия, качнулся было к телеге, но махнул рукой да и сел рядом с мужиком. И будто два пенька приткнулись у края дороги, у обугони поля, и, как пеньки, вросшие в землю корнями, не могли они стронуться с места, сорваться, так как для этого надо было выдрать глубоко зарывшиеся в неподъемные пласты корни, обнажить каждую их связку, разорвать узлы бесчисленных отростков, которые, переплетясь, так вросли в землю, что стали единым с ней целым.
Игнашка наклонился, сам не зная почему, поднял сухую ветку, повертел в пальцах и вдруг увидел ползущую по ней полевую букашку. Ветка была хрупка и невесома, и хрупка и, должно, невесома была и букашка. Но, несмотря на свою малость, она, ловко перебирая лапками, заметно подвигалась вперед. Движение ее было затруднено наростами, выпуклостями, трещинами, сучками, торчавшими, как рогатки, но букашка преодолевала все эти препоны. Игнатий и сосед его внимательно и неотрывно следили, как борется эта чуточка жизни за каждый шаг. Наконец букашка, пробежав по ветке, добралась до ее вершины и остановилась. Дальше была пустота. Игнатий и его сосед, пригнув от напряжения головы, охваченные непонятным чувством, ждали, что будет. И вдруг букашка приподняла жесткие роговые панцири, облегавшие ее, выпустила из-под них крылья и, сорвавшись с ветки, ринулась в небо.
Игнатий и его сосед, видать, от неловкости, что их, мужиков, привлекла такая безделица, не взглянув друг на друга, поднялись. Сосед подошел к телеге и, сунувшись боком на передок, ничего не сказав, поддернул вожжи. Застучав колесами, телега покатила.
Игнашка посмотрел вслед отъехавшему мужику, опустил голову и тут заметил, что он еще сжимает в пальцах сухую ветку. Он поднес ее к глазам, прошел взглядом по всей длине и, словно продолжая путь только что пробежавшей по ней букашки, посмотрел в небо. Затем вдруг бросил ветку и со злостью втоптал, втолок ее в пыль дороги.
Не уродились в том году и овсы. Степан по всем дням ломался на покосе, надо было запасти в достатке хотя бы сена. Выходил на покос по росе, когда травы были мягки и податливы, брался за косу. Привычно правил кремушком хорошо отбитое лезвие, бросая руку сильным движением, так что коса вибрировала и звенела, озирал поле.
Первый гон Степан всегда прокладывал против ветра, чтобы текучие струи, обвевая разгоряченное работой тело, охлаждали и ободряли косаря. Перекрестясь, делал первый взмах, полукругом охватывая впереди себя широкое пространство. Великое дело первый взмах: по нему равняется косарь на весь гон, и по нему же видно, каков мужик в косьбе — слаб или есть в нем сила, ловок или неумел и лучше бы ему лапти плести, чем выходить на луг. И шел, шел, прижимая пятку косы, чтобы выбирало лезвие траву под самый корень и коса выходила на взлет как птица.
Пройдя первый гон, Степан забывал, что в руках у него коса, и острое лезвие уже вроде бы само по себе летало по лугу. Глаза видели, как ложится ряд за рядом трава, но мысли были далеки от хищно взблескивающей, залитой росой косы да и от всех малых и больших забот покоса. Другое тревожило его. И было это другое все тем же хлебом. Как ни в стороне были монастырские выпасы, но и сюда заходили мужики, и слышно было от них одно — хлеб.
Накануне к табунщикам приехал старый монах Пафнутий. Сидели в шалаше. Два прохожих мужика точили все то же: хлеб, хлеб… Пафнутий слушал молча. И вдруг хлопнул ладонью по столу, сказал:
— Э-э-э, мужики, что нам хлеб, были бы пироги!
И хотел было улыбнуться, но в глазах стояло горе…
Беда заходила над Россией широкой, обложной тучей. Не ко времени от дождей начало пучить реки. На Успенье Богородицы на землю лег иней, обильный как снег, и съел и хлеб, и овсы.
Наполненный хлынувшей с верховьев темной, взбаламученной водой, поднялся Днепр. Вода прибывала день ото дня все более и более, и Хортица, уже залитая по низким местам, была как плот, вокруг которого вскипала черная пена. Могучее течение несло, кружа и переворачивая зеленевшие полной листвой деревья, бревна разваленных где-то изб, а то видели в пенных, бугристых струях стремнины арбы, лодки, полотна ворот, иной жалкий человеческий скарб, словно кричавший всем на берегах:
— Помогите-е-е! Беда-а-а!
Но ежели где-нибудь и слышали эти голоса, то только не на Хортице. Здесь никто за плугом не ходил, хлеба не сеял и не собирал. И великая печаль людская — погибший урожай — летела мимо острова.
Кто-то из казачьих атаманов — не то Кирдюг, не то Касьян, а может, Пидсыток, — глядя с высоты обрыва на могучее течение, напиравшее на прибрежные камни, сказал:
— От то могутна сила… Нам бы с тою силой на турка або на поляка навалиться… — Поправил наборным мундштуком люльки пышные усы и захохотал.
Рядом случился Иван-трехпалый. И он поглядел на вскипавшее течение, на мощные струи, в буграх и пене бившие в берег.
Губы Ивану изломала улыбка. Не о поляке, не о турке подумал он, но вспомнил, как грозил в ночи белокаменной. Улыбка все больше кривила его губы. Гадкая улыбка. И даже атаман, взглянув на него и подняв брови, спросил:
— А чего ты, москаль, скрывився?
— А ничего, — ответил Иван. — Так, о своем подумал.
Глава третья
Царь знал о гибели урожая и о том сказал в Думе. Бояре закивали головами:
— Да-да… Ай-яй-яй… Горе, горе…
Лица озабоченно сморщились, губы у многих сложились печально. Более других выразил обеспокоенность Василий Иванович Шуйский. Всплеснул пухлыми руками, рассыпав дорогими камнями колец и перстней, унизывавших пальцы, голубые огни.
Борис, хмурясь, оглядел бояр, сказал строго:
— Приказам, кои споспешествовать могут умалению беды, с сего дня все силы положить на то должно. И, не медля, отписать воеводам, дабы сообщили, какие и где есть хлебные и иные съестные припасы.
Бояре опять закивали. Одобряющий царевы слова шепот прокатился по Грановитой палате. Дьяк, записывающий речи в Думе, проскрипел пером: «Государь указал, и бояре приговорили».
В тот же день царь Борис имел долгий разговор с думным дьяком Щелкаловым. Он повелел думному глаз не спускать с приказов и более других порадеть о хлебе.
Борис знал о слухах, поползших по Москве после отъезда поляков. Известно ему было и то, что слухи идут из Посольского приказа, однако ни прежде, ни сейчас он и слова не сказал о том дьяку, хмуро и отчужденно стоявшему перед царем.
Борис взглянул на дьяка и подумал: «А что за той хмуростью? Вина за неудавшиеся переговоры с поляками и недовольство собой? Иное?» В то, что слухи, пятнающие его, царево, имя, исходят от думного, — не верил. Считал так: «Кто-то облыжно хочет Щелкалова под удар подставить». И узнать, кто сию кашу варит, очень хотел. Но такое было непросто, хотя Семен Никитич упорно копал по Москве и слободам, выколачивая истину кнутом и вымаливая пряником…
— Порадей, порадей, — смягчая голос, сказал Борис Щелкалову.
Думный, поклонившись, вышел.
Крапивное семя по приказам вроде бы зашевелилось. Дьяки округлили глаза со строгостью, писцы и прочий крапивный люд ходить стали бойчее; из Ярославля, знаменитого орешковыми, лучшими на Руси, чернилами, пригнали два воза с огромными бутылями для срочных нужд, и бумаги отпускали приказным, сколько те запрашивали.
Царь Борис, несмотря на крайнюю занятость, почитай, каждый день слушал думного о том, что и как вершится в сем важном деле. Особой тревоги вроде бы ничто не вызывало.
А занят был в ту пору царь Борис встречей шведского принца Густава, наконец пожаловавшего из Риги в Москву. Принц, подобно иным из рода Вазы, оказался человеком поистине громадного роста и могучего телосложения. Говорил он громко, и когда взмахивал огромными руками, колебались огни свечей, однако при всем том оказался он до кротости мягким и приветливым. Он внимательно выслушивал каждого, кто бы к нему ни обращался, и не торопился высказать решение. Царю Борису он понравился в первый же день своей обстоятельностью в суждениях. Однако царь, больше и больше приглядываясь к принцу, вспомнил пастора Губера и его слова: «Я предвижу большие трудности в заключении брачного союза между царевной Ксенией и принцем. Густаву придется отказаться от своей веры, а я даже с великим трудом не могу представить, что он пойдет на это». И именно то, что царю нравилось в принце — его обстоятельность, — по мнению же Бориса, и могло стать главным препятствием к заключению брака. Но царь не терял надежды.
Принца представили царице Марии и, вопреки старому русскому обычаю — не знакомить невесту с женихом до свадьбы, а полностью полагаться на родительский выбор, — свели Густава с царевной Ксенией. Это осталось тайной почти для всех, но царь Борис знал ныне мнение и царицы и царевны. Обе они нашли принца Густава достойным женихом. Со своей стороны принц восхищенно отозвался о царевне.
Решительный разговор между принцем и Борисом состоялся в Царевом саду. Принц шел по дорожке, и выстилавший ее белый, зернистый, речной песок скрипел под каблуками его огромных ботфортов. Густав живо интересовался растениями, восхищался умением московских садовников и сам выказывал большие знания садового дела. Интересовала его и история Московии, и он расспрашивал Бориса о царе Иване Васильевиче, о Царе Федоре Иоанновиче. Постепенно разговор зашел о королевском шведском доме, о будущем Прибалтики. Принц отвечал не торопясь и, чувствовалось, заранее взвешивая каждое слово. Он понимал, что создание из Ливонии самостоятельного королевства — дело сложное, и был предельно осторожен в окончательных выводах. И Борис еще раз порадовался. Понял: ежели этот человек скажет слово, то ему можно верить. Не подумав и не решив, он не станет болтать пустое. И тогда Борис решился спросить впрямую о возможности брачного союза.
Лицо принца Густава стало печальным. Глядя прямо в глаза царя Бориса, он сказал:
— Ваше величество, это самая трудная часть моего визита в Московию. — Принц наморщил лоб и с минуту помедлил, подыскивая слова. Затем продолжил, не отводя взгляда от царева лица: — После свидания с царицей и прекрасной царевной я понял, что меня считают возможным женихом. — Он вскинул массивный подбородок и, выказывая твердость, докончил: — Ваши люди в Риге, возможно торопясь выполнить поручение, не сказали мне об этом… Я ехал в Московию с единой целью — послужить своими знаниями вашему величеству… Меня и царевну Ксению разделяет вера.
Они прошли несколько шагов в молчании.
— Но, — сказал царь Борис, — государственные интересы порой…
— Нет, — проявив неожиданную в нем горячность, возразил принц, — я не думаю, что вы так считаете. Человек не может изменить вере, и особенно человек высокой крови. Не может, — повторил он убежденно.
Они прошли еще несколько шагов. Царь Борис подумал: «Принц Густав — достойнейший уважения человек. Стоит только сожалеть, что он не станет мужем моей дочери».
Песок скрипел под ногами. От Москвы-реки потянуло предвечерней сыростью.
— Ну что ж, — произнес Борис, — я выражаю уважение столь твердой вере… А относительно служения Московии разговор впереди.
И царь протянул руку принцу.
На том всякие разговоры о возможном брачном союзе между царевной Ксенией и шведским принцем Густавом были закончены. Со свойственной ему определенностью царь Борис, решив дело, уже не возвращался к нему. Принцу был дан в удел Углич, и Густав навсегда остался в России. Царь же вновь с головой ушел в многотрудные державные заботы и тяготы. Однако и здесь его ждали только огорчения.
Приказы в Кремле построили новые, развалив старые избы, но ничто не изменилось в исстари заведенном приказном деле. Дьяки, подьячие, повытчики, писцы и иное приказное семя, как и прежде, были неповоротливы и медлительны. Челобитные, бумаги воеводские, бумаги царевы бесконечной рекой текли из приказа в приказ, из повыта в повыт, от дьяка к подьячему, от подьячего к писцу и вновь восходили по той же приказной лестнице до боярина, коего многодумная голова должна была вынести окончательный приговор. На это уходили месяцы и годы. Лишь взятка прибавляла скорости бумагам да подталкивала неспорое приказное перо, но ныне царевым крепким словом не велено было брать взятки, и приказы вовсе заколодило. Исхитрялись, конечно, некоторые с посулом и уже не перли дуром с подарками, но шли к приказному домой и подарочек, как дар богу, вешали непременно к образу. Оно и хорошо получалось: не из рук в руки дано, но иконе представлено. Взыскать не с кого. Спросят, так всегда скажешь: «Я не давал, и он не брал». Руки-то не замараны. И крестным знамением — раз и обмахнулся: «Вот тебе крест, коли не веришь». А против такого кто возразит?
И по-иному, но также с хитростью поступали. Принесет скромный проситель пасхальное, раскрашенное яичко и с целованием приказному в руки. Яичко-то — дело святое. Кто упрекнет? А в яичке — золотой или лал бесценный. Вот тогда уж зашустрят: и дьяк, и подьячий, и писец с гнутой спиной. Да и боярин с таким яичком в кармане веселее пойдет. Точно веселее — то было известно. А так, пустому идти в приказ, с пустым и вернешься. У приказного в лице всегда обида и оскорбленность великая, и здесь же к тебе с вопросом: «Почто пришел? Кто таков? Не велено! Не указано!» Тут уж одно: возьмут сердягу за белы руки да и вышибут вон. И то в Москве, под царевым оком. А ежели, скажем, в Суздале, в Ельце или, того хуже, в стоящем за лесами Пустозерске? А? Нет, брат, в таком разе и близко не подходи. «Что-о-о? — распахнет глаза, разинет алчущий рот приказной. — Челобитна-а-я? Да ты забыл, кто ты есть? Спьяну вломился?» И все, спекся челобитчик. И слезная жалоба его будет похоронена на года. Так, что и не сыскать.
Царь Борис, сам ознакомившись с делами, понял, что воз с места не стронулся. Голод грозил державе и уже замахнулся страшной рукой, а в приказах, в духоте, в кислом запахе постных пирогов только скрипели и скрипели перьями.
Борис говорил со Щелкаловым, и в груди у царя нарастал крик. Думный точил слова:
— Воеводе астраханскому отписано… Воеводе архангельскому повелено… Воеводе владимирскому указано…
Горячая тьма сухого звона завалила уши Бориса, перед глазами поплыли круги. На минуту-другую он перестал и слышать, и видеть думного. Но вот опять в сознание вошел голос:
— …царевым словом повелено…
Борис увидел дьяка, близко к лицу держащего бумагу.
— Все, — сказал царь, прервав думного, — иди.
Без тени растерянности, но так, как ежели бы того только и ждать следовало, дьяк собрал бумаги и поклонился низко царю.
Борис сидел без движения. Он чувствовал себя так, как будто только что забрался на высокую гору. В голове гудело от бурно прилившей крови. Можно было собрать Думу. Можно было закричать с высоты трона в медные лица под высокими шапками, можно было…
В тот день и в тот час царь Борис решил, не щадя, ударить кулаком по боярской макушке.
Лаврентий, как серого кота из рукава, выпустил на московские улицы великую кляузу. И пошла она на мягких лапах, неслышно, хоронясь в тени, проскальзывая в проулки, обтекая заборы, и не было для нее препонов, замков, коими бы путь ей преградило, дверей, чтобы скрыться от нее. Такое на Москве знали — опыт был, Лаврентий ничего нового не выдумал. Тому словечко шепнут настораживающее, этому на ушко скажут такое, что человек заморгает, и первый оглянется испуганно, второй перехватит взгляд и напугается еще больше, а третий и вовсе с дороги свернет да еще и подумает: «Береженого бог бережет. Обойду-ка я стороной этих обоих». Вот и все. Считай, запрыгала, заскакала, заиграла великая кляуза. И тут уж пойдет одно за другим:
— Ты слышал?
— Да быть не может…
— Нет, нет, точно!
И пальцы человек прижмет ко рту, глазами побелеет. А в груди у него: тук-тук, тук-тук… И все напряженнее, все страшнее, до боли в ушах.
А Лаврентий или кто иной из его молодцов того, что спросил, по головке погладят. Хороший, мол, ты, хороший. Давай шевели жабрами. А тот и рад с испугу. Ну и три короба разного наворочает. А его опять ласковой рукой по головке. Глядишь, он именьице получил, домом обзавелся в два света, жена у него гладкая. Дальше — больше, и для такого уже и друг не друг, родственник не родственник, а там и отец не отец и мать не мать. Ему все дозволено: перед этим вперед выскочить, того оговорить, этого обидеть. А ему в уши еще и еще раз подскажут: «Помни: каждый за себя, а за всех лишь бог единый, но до него далеко, ох, далеко-о-о…»
Неведомо кто и как расстарался, но Янко Марков и брат его Полуехтко возвели на князя Ивана Ивановича Шуйского обвинение в ведовском деле. Варят-де у Шуйского злое коренье и замыслили плохое на царя. Дворяне Марковы были близки к Шуйским, много знали о высоком княжеском роде, и власти дали делу ход. Да тут же и вспомнили: «А доказной язык, что у дома княжеского упал? Случайно ли то? Э-ге-ге… Нет, брат, постой». На Знаменке, у подворья Ивана Ивановича, стрельцов поставили, и все — мышеловка захлопнулась. И не только Ивану Ивановичу, но и старшему в роду, Василию Ивановичу, нехорошо стало. «От такого рукой подать и до Болотной площади, — поняли братья, — где Богдана Бельского казнили». Василий Иванович губу прикусил. Задумался. А размыслив, решил: «Москву расшевелить надо. Пускай повсюду заговорят, что царь Борис древний род Шуйских понапрасну извести хочет, а ведовство-де здесь вовсе ни при чем». А люди у князя были, и люди ничем не плоше Лаврентия в таких делах. Знали: коли налима из сети вынимаешь — бери за жабры, а коли ерша — поперек спины руку не клади, уколет. Москва зашумела. Дождавшись, когда речи эти стали слышны явственно, князь Василий Иванович, взяв с собой духовника Ивана Ивановича, сухонького и робкого попишку церкви Николы на Ваганькове, покатил к Семену Никитичу.
У Никольских ворот Кремля стрельцы узнали карету Василия Ивановича, разглядели боярина и сняли шапки. Карета, грузно простучав по переброшенному через ров мосту, вкатила в Кремль, кони небыстро потрусили по Житной улице. По правую руку потянулись дворы Годуновых, а налево Василий Иванович даже и не взглянул. Не хотел видеть поднятые бочонками, полубочонками, теремами затейливые крыши богатого двора Богдана Бельского. Все, как нарочно, сходилось к несчастному Богдану. Носом тыкало боярина в память о нем. А такое никак не хотелось вспоминать князю.
Семен Никитич встретил гостя со скорбью в лице, каждая черточка которого говорила: как, мол, такое случиться могло, что в столь знатном роду и вот на тебе — закавыка? Василий Иванович тоже улыбкой не цвел, однако и уныния особого не показывал. Этим двум, присевшим напротив друг друга, и говорить-то было не надо. Они и без слов понимали все, что каждый скажет или может сказать, о чем следует промолчать, где надо только кивнуть или, напротив, голову вскинуть и застыть якобы в недоумении.
Попик из церкви Николы на Ваганькове по простоте своей заговорил о крепкой вере князя Ивана Ивановича, о высоких душевных его качествах. И, прижимая сухонькие, слабые пальцы к изборожденному морщинами пергаментному лбу, перекрестился. Узкие губы его были и трогательны, и жалостны.
Семен Никитич слушал его молча. Голова крепко стояла на твердой шее. Не обмолвился словом и князь Василий Иванович. Попик, смутившись, умолк.
Семен Никитич взглянул в глаза боярину и понял: Василии Иванович предупреждение на ус намотает. А боярин разглядел в глазах Семена Никитича, что Шуйских не тронут. Слишком родовиты, слишком крепки на московской земле.
На том царев дядька и Василий Иванович разъехались. От дома князя Ивана Ивановича стрельцов убрали. Ну а великая кляуза все яростнее, злее гуляла по московским улицам. Перепархивала из дома в дом, от человека к человеку. Разевала алый клыкастый рот и без стеснения вцеплялась и в того, и в другого. Этому делу повадку дай, и оно само мышцами обрастет, жирок нагуляет и такую силу наберет, что диво.
В один из дней к Семену Никитичу тайно пришел дворовый человек, казначей Александра Никитича Романова, Второй Бартеньев. Поклонился цареву дядьке до полу и с растерянным лицом сказал:
— Готов исполнить волю царскую над господином своим. — И закашлялся, горло ему перехватило сухостью.
Выглядывая из-за плеча гостя, Лаврентий его ободрил:
— Но, но, говори смело.
Второй Бартеньев рассказал, что в казне Александра Никитича припасены отравные корешки для царя.
Лаврентий улыбался.
Семен Никитич, выслушав тайного гостя, перехватил за спиной одну руку другой и сжал до хруста.
— Ступай, — сказал Второму Бартеньеву, — и молчи. Отблагодарим, будешь доволен. Ступай.
Когда гость вышел, царев дядька сел на лавку и задумался.
С Шуйскими пошумели, попугали, да и только. А уж здесь следовало рогатину под медведя подвести и, подняв зверя, полоснуть ножом по брюшине, с тем чтобы все нутро вывалилось. А медведь был матерый — Романовы. Такой зверь любую рогатину одним ударом, как соломину, перешибет — и нож не успеешь выхватить. Семен Никитич ведал, какая это сила. Хозяин из берлоги вылетает, как ядро из пушки. И быстр, и увертлив, что та молния. Глазом не успеешь моргнуть, как он башку сшибет. «Нет, нет, — охолаживал себя царев дядька, — здесь торопливость ни к чему. Берлогу обложить надо так, чтобы зверь точно на охотника выскочил и сам на рогатину сел». Семен Никитич поднялся с лавки и так по палате шагнул, что видно стало, как дрожит и играет в нем каждый мускул, каждая жилка.
Накануне Семен Никитич говорил с Борисом. Перед сном царь задержал его в своих палатах и, сев в любимое кресло у окна, заговорил приглушенным голосом, словно кого-то таясь. Семен Никитич знал, что Борис и с ним, самым близким, никогда не был до конца откровенен. За сказанным царем всегда оставалось недоговоренное. Но в этот раз и голос, и сами слова свидетельствовали, что, бесконечно устав, он говорит, может быть впервые, потаенное.
Царев дядька слушал не дыша, боясь переступить с ноги на ногу и, не дай бог, скрипнуть кожей жестких сапог.
Борис начал с того, что повелел открыть ганзейские торговые конторы в Пскове и Новгороде.
— Дело большое, — сказал царь, — во многих товарах у нас великая нехватка, а ганзейские купцы, открыв конторы, многим тому смогли бы помочь.
Борис вздохнул, перемогая гнев, и, глядя в сгущавшиеся за окном сумерки, рассказал, что ныне воровство открылось. Дело о конторах заволокитили, с купцов взятку потребовали.
— Опять кнут нужен… Или вот здесь, в Кремле, с храмом Святая Святых. Того не довезли, этого не сыскали… Неужто царю по приказам ходить и рвать дьякам бороды? Писцов дубиной охаживать?
Борис откинулся в кресле, закрыл глаза. Помолчав минуту-две, сказал еле слышно:
— Власть на Руси как гнилое рядно. То одна нитка лопнет, то другая, то все вместе порвутся… — И вдруг приподнял голову и, глядя в упор на дядьку, продолжил: — Царь под колокольный звон выходит к народу, шапка на нем Мономахова, бармы… Куда как грозен и властен, народ на колени падает… — И, изменив тон, закончил: — Но все это не так… Конторы, конечно, откроют и во Пскове, и в Новгороде. Дьяков, кои виновны, кнутами выдерут, писцов батожьем отходят… Но все на том же и останется… А кто тормозит, кто делу мешает? Романовы, Черкасские, Шестуновы, Репнины, Сицкие, Карповы? Кто? Или все понемногу? Да сколько же их? И где иных слуг взять?
Семен Никитич ушел от царя растерянный. Одно запомнил царев дядька: все, кого поименно перечислил Борис, были или родственники Романовых, или близкие люди. Еще и так подумал: «Может, других не назвал, забыв в минуту гнева?» Но тут же и решил: «Нет, такого с Борисом не бывает. Он и в гневе все помнит».
Шагая по палате и поигрывая мускулами, Семен Никитич решил: «Коль матерого медведя брать, то брать надо и медвежат». И, более не раздумывая, завился по Москве.
В тот день был он у царя Бориса, у патриарха, во многих боярских домах. О чем говорил? Тайна. Но у многих сердца заледенели. Слова царева дядьки были крепкие.
Ночью, когда Москва спала, из Фроловских ворот с факелами вышло несколько сот стрельцов и, не мешкая, зашагало на Варварку, к романовскому подворью. Стрельцов вел царев окольничий, бывший казанский воевода, лихой, с дерзким лицом Михаила Салтыков. Стрельцы несли с собой лестницы, как ежели бы шли на штурм крепостцы. Из-за крепких романовских ворот спросили:
— Кто такие? Почто ночью на честной двор ломитесь?
Михаила крикнул:
— Давай, ребята! Лестницы вперед!
Бросился первым и первым же влез на ворота, спрыгнул во двор.
Загремели выстрелы.
От дома, казалось, в Михайловы глаза ударило несколько яростных сполохов. «Мимо, мимо, — увертливо мотнувшись в сторону, радостно подумал он, — мимо…» За спиной послышался топот сапог набегающих стрельцов.
Ворота сбили с петель, и двор заполнился людьми.
В тот же час стрельцы вломились в дома Черкасских, к Шестуновым, Репниным, Сицким, Карповым… Романовы и почти вся их родня на Москве были взяты под стражу.
В Кремле, на патриаршем дворе, у церкви Трех Святителей, пылал костер. Золоченые купола отсвечивали багрово-красным. Толпой стояли люди, почитай, вся Дума, свезенная сюда стараниями Семена Никитича. Первым к костру был царь Борис, рядом патриарх Иов, плохо державший в непослушной от дрожи руке рогатый посох. По лицам было видно: ждут. Пламя костра гудело, свивалось огненными сполохами. Все молчали. Но вот по цепи стрельцов, окружавших двор, от одного к другому пошло:
— Везут! Везут!
Лица, освещенные пламенем костра, оборотились в одну сторону. Глаза настороженно впились в темноту. В свет костра въехала телега. На ней, затесненный дюжими стрельцами, старший из Романовых — боярин Федор. С телеги соскочил Михаила Салтыков. Щека у него была в крови, стрелецкий кафтан на груди разорван. Глаза блестели. Оборотился к стрельцам, крикнул:
— Вора к царевым ногам!
Стрельцы столкнули с телеги Федора Никитича и, растянув за рукава надетую на него кое-как шубу, подвели к царю, поставили боярина на колени.
Федор Никитич запрокинулся, взглянул на Бориса. Борода боярина, седая, лопатой от шеи, высвеченная пламенем костра, казалось, горела вокруг лица. Федор Никитич разинул рот, прохрипел:
— Государь! Погибаем мы напрасно, без вины…
Стрельцы все держали его за растянутые рукава. Боярин метнулся из стороны в сторону, взлохмаченная бородатая башка катнулась по воротнику шубы, будто отрубленная.
— …в наговоре от своей же братии погибаем! — И склонился, замолчал.
Из темноты вышел князь Петр Буйносов-Ростовский. Поклонился царю и патриарху, боярам и из-за спины, в светлый круг костра, выставил мешок.
— Государь! — сказал твердо. — Вот отравное коренье, изъятое из казны боярина Романова на его подворье.
Все посунулись вперед. Даже патриарх ткнул посохом и переступил слабыми ногами. Царь Борис поднял руку:
— Стойте! — И, указывая князю Петру на стоящий у костра стол, добавил: — Выложи сюда!
Князь Петр развязал мешок и, торопясь, один за другим стал выкладывать на стол черные гнутые коренья. И хотя вокруг стояло множество народа, стало вдруг так тихо, что каждый услышал, как сухие коренья ударяли о крышку стола и, нужно думать, не одному представилось — стук этот все равно что удары молотка, вгоняющего гвозди в гроб Федора Никитича.
Когда последний корень лег на стол, царь Борис сказал:
— Боярина в застенок!
Стрельцы подхватили Федора Никитича, потащили в темноту. Ноги боярина волоклись как мертвые. И никому в голову не пришло, что злом зла не изживешь. И царь о том не подумал, а должен был. Не приучены были добром недоброе избывать. Топор — вот то было понятно.
Начался сыск.
Семен Никитич в тень ушел. Знал: кровь людьми долго помнится, смыть ее с себя трудно и лучше в таком разе в сторону отойти. Разговоры, конечно, будут о том, кто на этот сыск подвинул, но то разговоры, и только. В словах напутать можно, слова словами и останутся, и цена им невелика. А вот кнут, пыточные клещи и топор — это крепко. Такое не забывается.
Вперед двинули окольничего Михаилу Салтыкова да боярина князя Петра Буйносова-Ростовского.
Михаила Салтыков по глупости в такое дело влез. Уж больно вперед рвался, шел напролом, и ему все едино было, только бы наверх, только бы к власти поближе. Это многих ведет, тропинка известная, соблазн велик. А ответ? «Да будет ли он? — думает такой лихой да бойкий. — Пока до ответа дойдет, я на коня вскачу, а там поглядим. Когда за узду схватишь ретивого, сил достанет на дыбы его поднять».
Князь Петр и сам не заметил, как в сыск встрял. Семен Никитич поначалу только и шепнул:
— Коренье возьми на подворье Романовых, боярин. Царь того не забудет.
Такое было не страшно. Но верно говорят: «Коготок увяз — всей птичке пропасть». Князь Петр, отравное коренье выставив перед всеми на патриаршем дворе, хотел было назад податься, но его придержали.
— Нет, князь, — сказали, — ты уж на опальном дворе романовском хозяином будь… Распорядись… Царево слово исполни…
Душа загорелась у боярина. «Ишь ты, — подумал Буйносов, — это на чьем же дворе я ныне хозяин? На романовском? Так-так…» И шагнул в терема, что на Москве, почитай, самыми высокими были. Потешил самолюбие свое, людскую свою слабость потешил. Вот тут-то его и подвели к тяжелому, из толстенных плах сбитому столу в Пыточной башне.
— Садись. Вот тебе дьяки, вот подьячие… Начинай сыск.
И все. Непослушными губами выговорил князь Петр:
— Сказывай, как против царя умышлял? Кто в сговоре был?
Федор Никитич, стоя на коленях, в рванье, в вонючих тряпках, только щеками задрожал.
— Сказывай, — уже тверже выговорил князь Петр, — а то ведь и до боя дойдет.
Дошло и до боя. Федора Никитича с братьями и племянника их, князя Ивана Борисовича Черкасского, не раз приводили к пытке. Многажды пытали их людей. Потом состоялся боярский приговор. Федора Никитича постригли в монахи и под именем Филарета сослали в Антониев-Сийский монастырь. Жену его, Аксинью Ивановну, также постригли и под именем Марфы сослали в далекий заонежский погост, Александра Никитича — в Усолье-Луду, к Белому морю. Михаила Никитича — в Пермь, Ивана Никитича — в Пелым, Василия Никитича — в Яренск. Других — кто в сыске был — разослали по разным дальним городам. Казалось, вырвали с корнем злые плевелы, что забивали дорогу, которую торил царь Борис. Ан того не случилось. Лишь по сторонам разбросали злые зерна. А зло, хотя бы и за стенами монастырей, за заборами опальных изб, жило и набирало силу. Ярое зло. Да вот и имя Григория Отрепьева в сыске произнесено не было. Не дознались до него. Не то не спросили о таком, не то не ответил о нем Федор Романов.
Монах же сей, почувствовав опасность, из Чудова монастыря ушел. Вот только здесь был, и вдруг не стало. К вечерней службе собралась братия, а Григория нет. Заглянули к нему в келию — нет. Спросили у иеродиакона Глеба, но он руками развел. Так и пропал монах. Вот и не иголка, но не сыскали.
Отрепьев объявился в Галиче. Был он теперь в рваной рясе, в истоптанных сапогах, с тощей котомкой за плечами. Лицо скорбное, голодное, глаза опущены. Покружил монах по городу — видели его на базаре, у одной церкви, у другой, — посидел он на берегу озера, расстелив тряпочку с харчами, и исчез.
Через некоторое время постучался Григорий Отрепьев в ворота Борисоглебского монастыря в Муроме. Было холодно, ветрено, обмерз монах в зимнюю непогодь, притопывал сапогами в ледяную дорогу, дышал паром в сложенные перед ртом ладони. Его пустили в обитель. Он отогрелся в трапезной, серое лицо порозовело, спина расправилась, и стало видно, что человек он молодой, здоровый, а значит, послужить обители может. К тому же сказал монах, что навычен письму, и тем обрадовал игумена, так как в последние годы заплошал монастырь и здесь больше о насущном хлебе думали, нежели о древних бумагах и книгах, ветшавших в забросе. Не раз и не два игумен с досадой всплескивал руками — ах-де, ах, — но и только: в камору, где были сложены книги, и ногой не ступал. Так что монаха, видя, что в сем деле он вельми может быть полезен, и расспрашивать не стали, откуда и как в Муроме оказался.
На другой же день свели его в камору с книгами, сказали:
— Послужи, послужи, дело богоприятное.
Григорий Отрепьев поднял с пыльного пола заплесневевшую от небрежения книгу, с осторожностью перелистнул страницу, побежал глазами по строчкам.
Приведший его в камору монах подумал: «Интерес в нем к книге есть». Отступил к дверям — в каморе было холодно, сыро, — сказал, мягко округляя губы:
— Вот и хорошо, вот и славно. Давай, брат, порадей.
Отрепьев, отрываясь от древних страниц, взглянул на него:
— Чернила мне надобны, бумага, перья.
— Будет, будет, брат, — ответил монах, — все, что надобно, будет. — И вышел.
С того часа Григорий накрепко засел в каморе с книгами. Пробежит, поспешая, по заваленному снегом двору в трапезную, похлебает, что дадут, и опять в камору. Игумен, иногда заглядывая к нему, видел: сидит монах, гнет над книгами спину, свеча перед ним горит, книги по полкам выстраиваются. Игумен радовался: «Старательный, обители полезный человек». Но Григорий его однажды огорчил.
— Вот книги опишу, — сказал, — и уйду.
Игумен кашлянул от досады, спросил:
— Куда же? Да и зачем?
Григорий поднял на него глаза:
— Есть на мне божье поручение, и я его должен исполнить.
Да сказал это так, что игумену вдруг не по себе стало, но расспрашивать почему-то не захотелось.
— Так-так, — только и сказал он да и вышел из каморы. Придя же к себе в келию, игумен постоял в недоумении с минуту, но, так и не поняв причину своего беспокойства, перекрестился на всякий случай и решил, что больше в камору к монаху ходить не следует.
Григорий Отрепьев ушел из Борисоглебского монастыря так же, как из Чудова, — не сказав никому ни слова. Когда пришли к нему в камору, увидели: книги стоят на полках, на столе опись, сделанная четким, хорошим почерком, огарок свечи и перья в чернилах. Из окна тускло сочился свет ненастного дня. Пахло воском и старой бумагой.
Игумен посмотрел в обмерзшее окно, потрогал крест на груди и, сведя седые матерые брови, вспомнил слова монаха. «На мне божье поручение, и я его должен исполнить». И, как и прошлый раз, стало игумену не по себе. Он сам закрыл дверь каморы, запер ее на ключ и на вопрос: «Может, поискать монаха-то, разузнать, где он, что с ним?» — ничего не ответил.
В понедельник второй недели великого поста в Москве, на многолюдном Варварском крестце, монаха Пафнутьева-Боровского монастыря Варлаама остановил другой монах. Назвался Григорием Отрепьевым и спросил, не ходил ли Варлаам в святой город Киев, где многие старцы души спасали. Варлаам ответил, что нет, не ходил, но дорога в Киев ему известна. Так, разговаривая, стояли они на крестце, а погода была куда как нехороша. Лепило снегом, под ногами хлюпала стылая жижа. Варлаам горбился, поднимал плечи, пряча лицо от снега. И вдруг пахнуло на монахов таким сладким духом, что и сытый носом завертит. Григорий оглянулся, увидел дверь фортины — оттуда выходили мужики и клубом бил пар — да и сказал Варлааму:
— Может, зайдем?
Варлаам только слюну сглотнул. Григорий с понятием пошарил в кармане и показал Варлааму серебряные кругляшки, блеснувшие на мокрой от снега ладони, как два глаза.
Шлепая по сырому, монахи перешли Варварку, а через минуту сидели в уголке фортины и перед ними дымился горшок со щами. Кабатчик зажег свечу и отошел к стойке. Монахи, перекрестясь, взялись за ложки. Варлаам ел обстоятельно: зачерпывал хорошо ложкой, нес ее с осторожностью над ломтем хлеба и с удовольствием отправлял за разглаженные усы. За этим занятием он не заметил, как вскинулись глаза нового знакомца и внимательно, разом охватили взглядом массивную руку Варлаама, украшенное крупным носом мясистое лицо, крепкие покатые его плечи. Григорий тут же опустил глаза и в свою очередь зачерпнул из горшка. Но, видно, и одного короткого взгляда ему хватило, чтобы понять: монах балованный, привык шататься меж монастырями, поесть не дурак да и выпить горазд, но не алчен — щи хлебал без жадности. Разглядел Григорий даже и малый шрам над бровью Варлаама и спросил, отчего шрам у того на лице.
Щи дохлебали. Варлаам оправил бороду широкой ладонью и, улыбнувшись новому знакомцу, ответил:
— Э-э-э… В избе лежал на лавке у печи, и на меня горшок свалился. — Засмеялся легко: — Хе-хе-хе…
И такой это был простецкий смех, столько в нем было доброго, что Григорий увидел и ту избу, и монаха на лавке, и черепки битого горшка. Представил, как со сна вскинулся монах, поминая черта, как засуетились хозяева, и понял, что тут и смех был, и шутка, и присказка. И порадовался, что встретил того, кого хотел. Сдвинул горшок к краю стола и сказал, что ищет товарища идти вместе в Киев, а там — бог даст — вместе же идти в святой город Иерусалим ко гробу господню. Варлаам на то помолчал недолго да и, шлепнув ладонью по столу, ответил с легкостью:
— А что? Давай тронем.
И вдруг помрачнел лицом:
— Здесь, по всему судя, голодно будет. Ох, голодно… Сейчас еще кое-как перебиваются старым хлебом, а дальше будет вовсе худо. В Киеве-то небось получше?
— Земли там богатые, — ответил Григорий.
— Вот я и говорю, — подхватил Варлаам, — да вот Киев-то за рубежом, а за рубеж ныне идти трудно.
— Вовсе не трудно, — возразил Григорий. — Государь наш взял мир с королем, и теперь везде просто, застав нет.
— Ну коль так, — ответил Варлаам, — оно и лучше.
Из фортины Варлаам вышел вовсе бодро: поел, согрелся, товарища в дорогу нашел. Что еще нужно? Но на Варварке ветер хлестнул в лицо, забил глаза злым снегом, задрал бороду, уколол знобкой сыростью. Варлаам, боком поворачиваясь к ветру, прокричал Григорию:
— Есть у меня знакомец, чернец Мисаил, так давай и его возьмем! Мастак на любое дело. Мы вместе с ним на подворье у князя Василия Ивановича Шуйского жили.
При упоминании Шуйского лицо Григория Отрепьева напряглось, и это Варлаам заметил.
— А что, — спросил, — аль ты знаешь князя?
— Нет, — ответил с определенностью Григорий, — не знаю.
— Э-э-э, — протянул Варлаам, — да ты, в монастыре-то своем сидя, многое не знаешь. Вон, — Варлаам ткнул пальцем вниз по Варварке, — видишь? Подворье романовское… Здесь такой бой был… Тоже не знаешь?
— Нет, — твердо сказал Григорий и, уводя разговор в сторону, продолжил: — Давай и Мисаила возьмем. Да не будет ли он в дороге помехой?
Варлаам, разом забыв все, что говорил, заторопился:
— Да нет. Он и рыбку поймает, и силки на птицу сплетет. Мастак, одно слово…
— Хорошо, — прервал его Григорий, — коли так, давай за ним зайдем, и в путь. Чего мешкать.
— Так-так, это верно, — ответил Варлаам и, будто прощаясь, оборотился к Варварке. Смотрел долго-долго и, не поворачиваясь к Григорию, сказал: — Чую, худо здесь будет… Ну да ладно — город сей вечен, одолеет и эту невзгоду.
И, словно сила ему была дана оборонить эту землю, перекрестил большим, широким крестом людей, поспешавших по Варварке, дома и церкви… А снег валил все гуще и гуще, крепчал ветер, мела поземка.
Голод ударил с большей силой, чем ждали. В Москве вдвое, а то и втрое люду прибавилось. Поползли нищие.
— Подайте!
— Подайте!!
— Подайте!!!
Народ был все серый, приземистый, с корявыми руками. Земляной народ. На что уж Москва и к рвани, и к уродствам, и к мольбам привычна была, но здесь вовсе страшное явилось. Едва утро поднималось над белокаменной, как улицы запружал поток земляных людей. Шли они по Тверской, по Никитской, по Арбату, по Знаменке; шли по Чертольской, по Покровке, по Солянке; втекали в переулки и тупики, стучали посошками в окна, толкались в ворота подворий, бились в калитки, и над Москвой ни на минуту не смолкал больной, стонущий вой:
— Подайте!
— Подайте!!
— Подайте!!!
На что страшен в ночи тревожный колокольный набат, зовущий на пожар, когда тяжкие медные звуки приводят в трепет и сильных духом. Звенит, вопиет медь, накаляет души. Ан неумолкающий человеческий крик был много страшней:
— Подайте!
— Подайте!!
— Подайте!!!
Он не полыхал, как пламя, то взбрасывающееся вверх, то падающее книзу, но держался на одной ноте, как мычание. В крике том не было даже просьбы — одно выражение бессилия, беспомощности, безнадежности, так как просящие, казалось, уже не надеялись на помощь, не рассчитывали на сострадание, но, единственно, выказывали свою боль.
Но окна были закрыты ставнями, ворота заперты, калитки подперты кольями.
Хлеба не было и у москвичей.
Царь Борис возвращался из Новодевичьего монастыря, где все утро простоял на коленях перед чудотворной иконой Смоленской божьей матери. Царский возок катил по Чертольской. Борис горбился за слюдяным оконцем.
Мороз набирал силу.
На крестце Чертольской и Знаменки, как раз напротив церкви Николы, царь стукнул в оконце. Возок стал. На удивление крестец был безлюден в этот час, а двери церкви заперты. На ступенях паперти дымила пороша. Но за сполохами снега царь разглядел привалившуюся к обветшалой колонне человеческую фигуру в лохмотьях нестерпимо алого цвета. На груди у человека висел пудовый черный железный крест. И эти алые лохмотья и черный крест неожиданно показались царю знакомыми.
Кто-то из окольничих, сопровождавших царский выезд, подскочил к возку. Но Борис уже сам нетерпеливо распахнул дверцу и, торопясь, выпрастывал ноги из закрывавшей их медвежьей косматой полсти. Окольничий посунулся было помочь царю, но Борис оттолкнул его и ступил на снег. Ветер хлестнул царю в лицо, но он, не обращая внимания на злые порывы, сделал шаг и другой к паперти. Поднялся на ступеньку, шагнул на вторую и наклонился над привалившимся к колонне человеком. Тот был недвижим, глаза закрыты, и все же Борис признал его. И признал, скорее, не по лицу, но по алым лохмотьям и черному кресту. Это был юрод, что во время службы в Успенском соборе перед походом на крымцев крикнул Борису: «С победой вернешься, Борис, в Москву, но меч зачем тебе? Меч!» Борис ниже и ниже склонялся к лицу юрода, пока не понял по застывшим его чертам, что тот мертв. И вдруг царь увидел: в глубоких морщинах, в редкой, просвечивающей бороде юрода, в бровях кипит голодная вошь. Борис отшатнулся, отступил, вскинул глаза к небу и выдохнул:
— Господи!..
В тот же день царь Борис повелел открыть кремлевские житницы и раздать хлеб голодным. И он же повелел из царевой казны давать голодным по деньге.
Голод, однако, не уменьшался.
Царь давил на Думу, изо всех сил прижимал крапивное семя, но приказное колесо по-прежнему поворачивалось медленно, со скрипом, едва-едва уступая царевым усилиям. Где-то шли обозы с хлебом, сыскивались хлебные ссыпки, находились скирды, и по два, и по три, и более лет лежавшего в снопах, необмолоченного урожая, но все то было по дальним местам, в бездорожье, в глухомани, в безлюдье. А в Москве по утрам, скрипя полозьями по злому ледяному насту, десятки саней объезжали улицы: и тут и там подбирали сотни застывших трупов.
Люди начали умирать в Новгороде и Казани, Вологде и Курске.
Царь призвал к себе патриарха Иова и просил его повелеть монастырям отворить житницы голодным.
Но и это не уменьшило голода.
Что ни день, вскрывалось воровство. То приказные присваивали деньги, предназначенные к раздаче голодным, то хлеб, царевым иждивением доставленный в Москву, попадал в амбары того или иного купчины и продавался втридорога. Приказных драли кнутами, купцов вешали на воротах амбаров. А воровство все одно росло день ото дня.
Думный дьяк Щелкалов, на лице которого от худобы проступили все кости, в царевых палатах не появлялся. За ним Борис считал вину за медлительность приказов, за нерадивость приказного люда. Печатник не был отстранен от дел царевым словом, но власть как-то сама ушла у него из рук. Как и раньше, с рассветом он приезжал в Кремль, садился в своей каморе за стол под нависавшей над головой тяжкой аркой, перед ним зажигали свечу и прикрывали дверь в камору. И ежели кто заглядывал к думному, то видел огромные, окруженные страшными черными кругами глаза под высоким лбом, землистые, плотно сомкнутые губы, и желание спросить о чем-либо печатника или же заговорить с ним пропадало.
О чем он думал в долгие часы сидения перед свечой? Что ему виделось в прошлом, что в будущем? Огромной, не виданной ни для одного приказного властью обладал этот человек, вершил судьбами людскими, и вот только огонек свечи светил перед его глазами и не слышно было ни просящих, ни требующих, ни приказывающих голосов. А сколько людей ловили взгляд думного, угадывали каждое его движение, сколько людей, даже из тех, что стояли наверху, готовы были услужить ему, упасть к ногам с мольбой! Но все минуло. Так, может, он размышлял над тем, что есть власть? И отвечал: обман, наваждение, сон, который рассеивается с приходом утра, когда солнце, осветив землю, выказывает с ясностью все расстояния и все размеры. Думал, думал и об этом думал.
А однажды вдруг вспомнился ему обсаженный ивами пруд в подмосковном его сельце. В солнечные, погожие дни ивы отражались в поверхности пруда, скользили по ней легкие облака, несомые ветром, и строенная на берегу затейливая беседка с полубочонком золотой крыши поверху плыла по незыблемой глади воды. «Лепота, — многажды думал он, останавливая взгляд на красивом том пруду, — лепота». И вот в один из дней, дабы почистить, пруд спустили, и Щелкалов увидел черную, илистую грязь дна, из которой торчали сгнившие стволы деревьев, неведомо как попавших сюда, лошадиные и коровьи черепа и кости, битые горшки и ведра, какие-то крючья и иной хлам людского быта. В жидкой грязи трепетала, вздымая жабры и пуча глаза, жалкая рыбешка. «А не то ли же человеческая душа? — подумал старый печатник. — Поверху благолепие, но на дно глянешь, и увидится вонючий ил, битые горшки и в жалких лужах жалкая рыбешка. Да только ли черепки и рыбешка? Много чего другого и хуже…» И попытался заглянуть в свою душу.
В тот день видели его в Кремле в последний раз. На крыльцо приказа он вышел, как и обычно, когда приказная шушера разбежалась. Ночной сторож, кланяясь, как и прежде, осветил фонарем ступени. Дьяк неожиданно остановился, постоял и вдруг, сунув руку в карман и достав золотой, бросил его старику со странной улыбкой. И было непонятно, что в той улыбке: благодарность или презрение к этому старику да и ко всему прочему, что он, думный, оставлял за плечами.
Щелкалов спустился с крыльца, сел в карету, и кони тронулись. На другой день, сказавшись больным, он не приехал в Кремль. Позже он в другой раз сказался больным, а там, день за днем, о нем и забыли. Все большую и большую власть забирали Годуновы. После Щелкалова из приказов выбили многих дьяков и подьячих, посадили других, но дело от того не пошло быстрее. По-прежнему, почесываясь, кряхтя и вздыхая, приказные отписывали одни бумаги, переписывали другие; и первые принимались и вторые отправлялись все той же неспешной почтой, которая всегда запаздывала. И, как и раньше, крапивное семя говорило: «Вот бы этой бумаге год назад прийти, тогда-то мы бы наверняка успели, а так что уж…» И разводило руками.
Становилось ясно: выбить одних дьяков и посадить других — значит ничего не изменить. Менять надо было не коней, но весь выезд.
А голод все сильнее брал за горло.
Вокруг Москвы стали объявляться шайки разбойников. Они разбивали хлебные обозы, жгли помещичьи усадьбы, ближе и ближе подходили к самой белокаменной.
Поле Игнатия не уродило и колоса. До холодов он, однако, перебивался то рыбой, то взяв силками зайчика, а как затянуло реку льдом, запуржило, и с этим прибытком все закончилось. Тогда Игнатий снял в сенях со стены косу, приготовленную еще с лета к хлебной косовице, на пороге избы топором обрубил покороче черенок, крепкой бечевкой притянул отточенное до злого блеска полотно в торец, как пику, и, оглядев нехитрый свой боевой снаряд, до времени поставил его в угол. Переобулся, крепче затянул кушак, ворохнул плечами, проверяя, все ли на нем ладно, сел на лавку у дверей и только тогда оглядел избу.
Оглядывать, собственно, было нечего. Не много нажил мужик, хотя и не помнил, когда вот так, без дела, сидел на этой самой лавке и так же, без дела, водил глазами по стенам. С зари до зари был в работе, в поту, и в поле, и во дворе, да и в избе, выстругивая из чурбачка ложку, плетя верши, настраивая силки или трудясь над иной нужной по хозяйству малостью. Однако изба была обихожена в сравнении с тем, какой увидел он ее, вернувшись в деревню после романовской ямы. Печь была выбелена, стол выскоблен до желтизны, и до желтизны же выскоблена была лавка, на которой он сидел. И пахло в избе не затхлой прелью, но теплом протопленной печи. Вот только доброй иконки не было в красном углу. Так прислонена была к стене доска черная, на которой едва угадывалась жухлая краска.
И все же Игнатий медлил подняться с лавки. Какой ни есть твой дом, но он — твой дом. Редкий человек спешит выйти из дома, с которым связывают его годы. Все же что-то остается от человека на стенах, среди которых он дышал, говорил, радовался, страдал, надеялся или огорчался. Наверное, люди еще не знают, что тени, которые они отбрасывают на стены, неизвестным образом остаются, может быть, на них навсегда. А потолок, день за днем вбирающий людские голоса, все тем же неизвестным образом навсегда же запоминает их. Во всяком случае, многие, прежде чем затворить за собой двери, должны совершить усилие, разорвать неведомые нити и только тогда выйти и услышать скрип притворяемых дверей. Да еще и скрип больно кольнет душу.
Игнатий поднялся с лавки, перекрестился на черную доску иконы, взял из угла косу и ступил через порог.
Смеркалось. Воздух был морозен, крепок, глубокие черные тени непроглядными провалами обозначались у амбара, у плетня, у высившейся около избы скирды прошлогодней соломы. Игнатий подпер колом дверь и задами пошел к двору Татарина.
Снег скрипел, визжал под ногами.
Игнатий не опасался, что оставляет за собой глубоко продавленные, приметные следы. Он видел, что метель, уже сдувавшая с сугробов вершины, через самое малое время напрочь закроет их, а к тому же Игнатий не собирался возвращаться в свою избу, но сразу же после того, как свершит задуманное, решил уйти в лес. А там какие следы, какая погоня? В такую пору в лесах, обступавших деревню, и в ясный день да красным летом леший и тот человека не сыщет.
По пути к двору приказчика Игнатий раза два или три останавливался у темневших по задам деревни берез и, ощупывая гладкие, податливо-шелковистые, как бабья кожа, стволы, сорвал несколько лоскутов бересты.
Стемнело, когда наконец Игнатий подошел к двору Татарина. Ни в избе приказчика, ни в избах, где жили кабальные мужики, ни в иных надворных постройках не было видно ни огонька.
Припав к жердинам огорожи, Игнатий присел на сугроб и замер.
Метель набирала силу, и Игнатий с удовлетворением подумал, что уже и теперь пороша затянула его следы, а к утру их и с собаками не сыщешь. Но тут же и иная, тревожная мысль родилась в голове: «В такую непогодь далеко не уйдешь. Да еще завалишься где-нибудь, и все… Конец». И в глубине сознания ворохнулось: «Может, вернуться? Ни к чему все это». Но он одернул себя самыми злыми словами, которые знал, поднялся и полез через жердины. «Хватит ждать, — сказал себе, — хватит, иди».
Проваливаясь чуть не по пояс в снег и разом вспотев под армяком, Игнатий с трудом, но добрался до амбаров и только здесь, сдерживая рвущееся с хрипом из глотки дыхание, словно его кто-нибудь мог услышать в вое разыгравшейся пурги, ткнулся в сугроб. «Только бы собаки не принюхали, — мелькнуло в сознании, — а то беда».
Беспокоился он, однако, напрасно. Ветер был от леса, и собаки не чувствовали человека. Игнатий перемог сбившееся дыхание и неверной рукой зашарил по корявой стене амбара. «Надо бы сенца, — подумал, — так ничего не выйдет. Сенца…» Он оглянулся и увидел скирду, горбившуюся тенью в стороне. Ее заносило снегом. Игнатий поднялся, перебежал к скирде и упал на подавшуюся под тяжестью тела упругую ее боковину. Раскинул ноги. Здесь, за скирдой, ветра вовсе не чувствовалось, и, больше того, от скирды в лицо Игнатию пахнуло парным теплом. «Вот как, — подумал он невольно, — дышит, что те печь». Привычной рукой развалил сено, и парной дух еще больше усилился. Игнатий втиснулся спиной в образовавшуюся ямку и замер.
И тут он почувствовал: его что-то сдерживает совершить задуманное. Он все сделал так, как и решил накануне: не замеченный никем, прошел задами деревни, надрал бересты, перелез через огорожу на двор романовского приказчика, добрался до амбаров, отыскал скирду и теперь оставалось только достать кресало, высечь искру и, запалив бересту, сунуть ее в сено. Ан вот с этим-то он и медлил. Медлил… Игнатий ворохнулся в скирде и, сунув руку за пазуху, вытащил бересту, поднес ее к лицу. Упругие белые кольца бересты круглились перед глазами, и Игнатий представил, как он высечет искру, раздует трут и береста вспыхнет ярким пламенем. Для этого надо было сделать одно движение, но как раз этого-то движения сделать он не смог.
Он опустил руку, сжимавшую бересту, и тяжело отвалился на скирду, теперь уже явственно пахнувшую на него сладким духом донника и пырея. «Что же это я, — подумал он, — а яма романовская? А как били меня, как колодку наколачивали? Нет, запалить их надо, запалить…» И, всколыхнув в себе злое чувство, сунул руку в карман за кресалом, но пальцы будто увязли в складках армяка. И опять пахнуло на него сладким запахом трав. И словно не стало ни темной ночи, ни скирды, ни метельно кружившего перед глазами снега. Ровную, высвеченную ярким солнцем луговину увидел Игнатий, мягко склоняющиеся под хорошим ветром травы и мужиков, идущих по луговине косым рядом. Игнатий поднялся рывком, отшвырнул ставшую жесткой бересту и, не оглядываясь, пошел к огороже.
Неделю Игнатий плутал по лесу, изодрал лапти, ослабел и уже не раз подумал, что ему вовсе пропасть, но неожиданно вышел на землянку.
Деревья расступились, и Игнатий увидел ползущий из сугроба дымок. В первое мгновение он было подумал, что ему это привиделось и только голод и немочь выказывают эту слабую синюю струйку. Остановился, привалившись к березе. С ветвей посыпался на него игольчатый снег, заиграл, заискрился в свете неяркого зимнего дня, скрыл и поляну и дымок над сугробом.
«Ну вот, — проплыло в туманившемся сознании Игнатия, — так и есть… Привиделось». Но вдруг из-за сугроба вышел мужик и, не замечая Игнатия, стал набивать в ведро снег. Игнатий хотел было крикнуть ему, позвать, но только рот раскрыл. Звук из глотки не шел. Игнатий, скользя спиной по стволу березы, стал садиться в снег, и тут мужик оборотил к нему лицо.
Через малое время Игнатий сидел в землянке, у жарко горящего камелька, обжигаясь, торопливо хлебал из кружки кипяток и рассказывал о себе. С десяток мужиков, приткнувшись кто где, слушали его молча, но, когда он рассказал, что так и не смог поджечь двор романовского приказчика, они вдруг захохотали, заперхали застуженными глотками.
— Цыцте, — сказал неожиданно резко один из них.
Смех смолк. Мужик оборотил рябое лицо к Игнатию.
— А ты, паря, — сказал без зла, но твердо, — голову-то за пазуху спрятать хочешь? Но так не бывает, нет, не бывает.
Игнатию сунули краюху хлеба, и он чуть не со стоном впился в нее зубами.
В Москве да и по иным российским городам и весям голод по-прежнему косил людей, но здесь, за Днепром, голода не знали. Благодатное весеннее южное солнце калило купола славной киевской Софии и вливало бурлящую силу в крепконогих, задиристых и громкоголосых жинок, торговавших с возов на Подоле пампушками и рассыпчатой горячей путрей, так намасленной, что по краям деревянной миски, которую подавали покупателю, вскипала янтарно-желтая кайма. Торговали галушками и сливянкой, такой сладкой, что от одного глотка слипались губы.
Сильно оголодавший за долгую дорогу Варлаам был так поражен этим изобилием да и всей южной круговертью необычайно ярких красок, что на лице его появилась несменяемая фигура изумления, будто, войдя в Киев, ахнул он — ого-го-о! — да так и остался с округленным ртом и вздернутыми до необыкновения бровями.
Однако, ежели сказать всю правду, Варлаама удивили не только галушки, бублики, караваи, ярко расшитые жупаны да разноцветные синдячки в головах полногрудых молодиц. Еще более поразило его изменение, произошедшее с попутчиком по долгой дороге — неприметным, сутулым, избегающим чужого взгляда монахом Григорием Отрепьевым. И вовсе не то было странно Варлааму, что Григорий расправил плечи — под моросным дождем да знобким ветром не шибко распрямишься, а по дороге все больше дождичек был да всякая непогодь, вот и гнулся монах, — но то, что всей повадкой своей стал выказывать он нетерпение, непременное желание куда-то идти, будто искал чего-то, не находил и опять спешил по известному только ему следу. И другое приметил Варлаам: ныне здесь, за Днепром, ни он, ни третий их попутчик — Мисаил — были уже не нужны Отрепьеву, более того — мешали ему. И Варлаам как-то о том сказал Григорию. Сидели они на солнышке, на припеке, тепло мягко прогревало ткань истрепанных монашеских ряс.
— Нет, — возразил, не поворачивая головы, Отрепьев, — ошибаешься ты, брат Варлаам. Не помню, говорил ли я тебе, но, еще живя в Чудовом монастыре, сложил я похвалу московским чудотворцам, и патриарх, видя такое мое досужество, взял меня к себе, а потом стал брать в царскую Думу, и вошел я в великую славу. Так чего мне искать? — Да сам же и ответил: — Коли хотел бы я земной славы и богатства, то в Чудовом, при патриархе, и сыскал бы все. Но вот же съехал с Москвы. Мирское мне не нужно. А коли схоронюсь я от вас, то лишь для того, дабы послужить богу в уединенной пещере. Вдали от суеты мне место.
В тот же день ушли монахи из шумного Киева в тихий Острог. А здесь, встав как-то поутру ото сна, Варлаам не нашел Григория. Спросил у Мисаила, но и тот не видел Отрепьева. Варлаам припомнил разговор с монахом в Киеве и, перекрестившись, сказал:
— Ну, знать, сошел в какой-то монастырь… Да…
Однако в душе у Варлаама осталось беспокойное чувство, как ежели бы сделал он что-то не то и не так, и долго-долго еще помнилась ему опущенная голова Отрепьева, когда тот говорил с ним в Киеве. И слова монаха звучали в ушах: «Мирское мне не нужно. А коли схоронюсь я от вас, то лишь для того, дабы послужить богу в уединенной пещере…»
И чем больше думал он об этих словах, тем меньше было в них веры.
Григорий Отрепьев объявился вдруг в Гаще. Потом по иным местам. Повсюду, однако, задерживался он ненадолго. Дошел Отрепьев и до Сечи, но и здесь пробыл недолго. Кружил, кружил по дорогам, словно путая след. И видели его то в мирском платье, то в рясе, то вновь снимал он черные одежды. А поздней осенью, уже в польских пределах, постучался он в дом князя Адама Вишневецкого. Сказался больным и попросил приюта. Бродячий монах, больной… Как не пустить? Наутро монах не смог подняться с топчана и попросил пригласить к нему хозяина, дабы открыть ему великую тайну. Лицо у Григория пылало от жара, глаза горели огнем, говорил он сбивчиво и невнятно.
Князю доложили о странной просьбе прохожего монаха. Вишневецкий оборотил к дворцовому маршалку холеное крупное лицо с вздымавшейся надо лбом львиной седой гривой волос и уставился удивленными глазами.
Маршалок, дальний родственник Вишневецкого, еще смолоду прокутивший свое состояние и с великим трудом устроившийся в услужение к князю, забормотал о необычайных манерах монашка, о поразительных его знаниях и далее еще что-то неразборчивое. Однако, выпалив все это разом, он ни слова не сказал, что монашек только что одарил его горстью золотых. Да еще так одарил, что это могло смутить натуру куда более цельную, нежели пропившийся шляхтич. Когда маршалок вошел в камору к Отрепьеву, тот, мечась в жару, неожиданно отвердел взглядом, приподнялся на топчане, сунул руку в карман заляпанной грязью рясы и, достав горсть золотых, без счета, даже не взглянув на них, швырнул маршалку. Так мог поступить только человек, карманы которого были набиты золотом доверху.
— Тайну поведать хочет сей монах, — пробормотал маршалок. — Тайну…
Пан Вишневецкий с недоумением на лице спустился в камору к монаху.
В каморе было полутемно, в изголовье топчана горела сальная свеча и белел стоящий подле нее кувшин с водой. Как только дверь отворилась, монах приподнял голову, внимательно взглянул на хозяина дома и вдруг голосом, навыкшим повелевать, сказал:
— Благодарю, князь, что ты пришел. Садись, — и показал глазами на лавку, стоящую подле топчана.
И этот голос, столь необычный для человека в изодранном, неряшливом платье, к тому же никак не ожидаемый паном Вишневецким в полутемной и сырой каморе, сразу же обескуражил князя. Он остановился, словно запнувшись. Но монах уже не смотрел на пана Вишневецкого, а перевел глаза на маршалка и так же властно повелел выйти. Маршалок шмыгнул в дверь, как крыса в нору. Жалок всякий шляхтич, не имеющий за душой и злотого, но трижды жалок тот, кто имел, да потерял достаток.
Вишневецкий, еще не опомнившись от первого впечатления, присел на лавку. Монах медленно, как бы с трудом, поднял на него немигающие глаза и, неотрывно глядя в лицо хозяина дома, сказал:
— То, что узнаешь сейчас, — тайна. Я бы не открыл ее, но чувствую, что пришел мой смертный час.
Рука монаха поползла по груди, добралась до ворота и вдруг резко рванула ткань рясы. Все было так необычно, что из неожиданно пересохших губ пана Вишневецкого вырвалось невольное:
— О-о-о…
На обнаженной груди монаха сиял совершенно необыкновенный крест. Пан Вишневецкий был богатейшим человеком Польши, и его трудно было удивить величиной драгоценных камней и искусством ювелирной работы. Он бывал в Риме, Венеции и Париже, славных своими ювелирами, и видел немало драгоценностей, но крест на груди монаха, лежащего на колченогом, продавленном топчане, изумил его. Это была не просто драгоценность, это была царская драгоценность, на создание которой должны были уйти годы и средства большие, коими располагал князь — один из первых людей Речи Посполитой. Вот потому-то у пана Вишневецкого и вырвался удивленный вздох. Но то, что сказал монах далее, было еще более поразительно.
— Царем Борисом, — часто и прерывисто дыша, начал монах, — было замыслено злодейство против наследника российского престола царевича Дмитрия. В Углич, где содержался царевич, были посланы убийцы.
Монах замолчал, задохнувшись. Видно было, что говорит он через силу, перемогая немочь.
Князь от удивления склонился к изголовью. Монах показал глазами на кувшин с водой, и пан Вишневецкий, невольно подчиняясь этому взгляду, торопливо налил в кружку воды и поднес ее к губам монаха. Сделав глоток, монах отстранил слабой рукой кружку и, очевидно почувствовав себя лучше, продолжил необычайный рассказ:
— Младенец был убит. Однако верные люди, ожидая злодейства, произвели подставу еще до того, как был занесен нож. Убили не царевича, но страдальца безвинного. Царевич же был скрыт.
Сказав эти слова, монах откинулся на тощую подушку и замолчал. Кружка, которую все еще держал пан Вишневецкий, задрожала так сильно в его руке, что заколотила днищем о лавку.
— Откроюсь тебе, — неожиданно твердо сказал монах, глядя широко раскрытыми глазами в испятнанный плесенью потолок, — я царевич Дмитрий. Крест же, который ты видишь, возложен был на меня при крещении крестным отцом моим, боярином, князем Федором Ивановичем Мстиславским.
У Вишневецкого спазма сжала горло, он хотел было что-то спросить, но монах продолжил свой рассказ:
— О том знают на Москве несколько верных людей. Здесь же, в польской стороне, известна сия тайна канцлеру Великого княжества Литовского Льву Сапеге. И коль умру я, возьми сей крест, князь, и передай его канцлеру.
Монах закрыл глаза и будто забылся. Руки его протянулись вдоль тела, грудь поднялась и опала.
Пан Вишневецкий от потрясенности услышанным вскочил столь резко, что упала лавка. С грохотом по каменным плитам пола покатилась жестяная кружка.
— Доктора! — крикнул он. — Доктора!
Дверь каморы распахнулась, и на пороге появился маршалок. Он слышал весь разговор пана Вишневецкого с монахом и был потрясен не меньше князя.
Через минуту монах был перенесен в покои пана Вишневецкого, обмыт, переодет в приличествующие случаю одежды и уложен в кровать. Маршалок в княжеской карете срочно отправился за доктором, а к постели больного была приставлена сиделка. Пан Вишневецкий из окна своего кабинета взглядом проводил карету, сел в кресло и глубоко задумался.
Как ни был князь обескуражен случившимся, однако он все же припомнил, что несколько лет назад уже слышал о чудесном спасении несчастного русского царевича. Вспомнил и то, что позже слухи эти как-то сами по себе развеялись. И вот вновь… Князь попытался сосредоточиться, но это никак ему не удавалось. Перед глазами неотступно стояли топчан в сырой каморе, чадящая сальная свеча, запрокинутое лицо монаха… Пан Вишневецкий поднялся из кресла и прошелся по кабинету и раз, и другой. Два имени, названные монахом, всплыли в сознании: боярин Мстиславский и канцлер Сапега. Два могущественнейших лица… Это был убедительный довод. «Да, — подумал Вишневецкий, — и голос монаха… Властный голос… Такому не учат, это приходит с кровью…»
Внизу застучали колеса кареты. Князь шагнул к окну. Из остановившейся кареты вышел доктор Шоммер, маршалок поддержал его под локоть. Князь сомкнул руки перед грудью, с силой переплел пальцы и, хрустя суставами, дважды сказал мысленно: «Надо определить свое отношение к случившемуся». Но и при этом никакой ясности в мыслях не явилось.
Двери распались, вошел доктор. Князь устремился к нему навстречу. И, так и не найдясь, как вести себя в этих необычайных обстоятельствах, пан Вишневецкий торопливо заговорил о необходимости побеспокоиться о здоровье больного, не называя его, однако, ни монахом, ни царевичем, ни как-нибудь по-иному. Доктор Шоммер слушал князя с неподвижным лицом. Тщательно промытые морщины докторского лица были застывшей невозмутимостью. Он молча кивнул и, провожаемый маршалком, направился к больному. Каблуки его безукоризненных башмаков простучали по навощенному полу с немецкой обстоятельностью. И именно этот последовательный, негромкий, но такой четкий, размеренный стук определил мысли князя. Пан Вишневецкий посчитал, что само доброе провидение привело царевича в его имение и он должен первым и во всеуслышание объявить об этом. Вся глупость мира покоится на желании одного стать выше другого. Пан Вишневецкий почему-то решил, что этот монах возведет его по лестнице успеха на высоту, о коей он и мечтать не мог.
Третий год не родила хлеб русская земля, и страданиям не видно было конца. На опустевших московских улицах редко-редко можно было увидеть человека, еще реже тощую клячу, с трудом влачившую телегу, и даже паперти храмов, всегда запруженные калеками и нищими, были безлюдны. Некому было подать милостыню, да некому было, однако, и просить ее. В трех скудельницах, как испуганно шептали по городу, уже захоронили треть московского люда.
Медленно, нехотя всходило солнце, путаясь лучами в зубчатых мерлонах стены белого города, некогда такой нарядной, белоснежной, а ныне облезлой, исхлестанной дождями, землисто-серой, в ржавых пятнах. Некому было приглядеть и за стеной. Да что стена — люди мёрли.
На Пожаре торговые ряды были на замках, а некоторые лавки так и вовсе заколочены. Крест-накрест горбыли, и в них ржавые гвозди, всаженные без всякого бережения по шляпку. А было-то, было… Эх, да что говорить… В иконном ряду, правда, торговали черными иконами такие же страшноглазые, как и их святые на досках, богомазы. В ветошном ряду да нитяном тянули жалкими голосами «купи, купи!» укутанные в рванье бабы. Вот и вся торговля. Дождь хлестал в лужи.
На Москву невесть откуда навалилось воронье. И знать, от великой радости и странно, и страшно удумала эта крылатая пакость кататься по куполам церквей и соборов. Такого раньше не замечали. Растопырится черноклювая поганка, сядет на вершине купола на хвост и катится вниз, как на салазках. Сорвется с края и с гоготом, с клекотом, вовсе вроде бы не вороньим, взмоет вверх, к святым крестам. Диво? Нет, брат, какое уж диво! Действо сатанинское. Люди не знали, что и думать.
Арсений Дятел, глядя с крыльца своей избы на вороньи игрища, затеянные на видневшемся из-за соседних крыш куполе малой церквенки, даже плюнул.
Ныне Арсений собирался в поход. Под Москвой стояло мужичье войско. Это были голодные, сошедшие со своих деревень, так как недостало у мужиков сил терпеть муки. Они разбивали редкие обозы, шедшие на Москву с хлебом из дальних мест, жгли и грабили усадьбы, осаждали монастыри. За Москву ныне и хода не было. До того высылали против них малые отряды стрельцов, но мужики дрались яростно, с отчаянием и побивали стрельцов. Атаманом у них был Хлопко Косолап, как говорили, человек недюжинной силы и дерзости. Ныне привел атаман свое войско в Котлы. От деревеньки этой рукой было подать до белокаменной. Идти против мужиков было ох как непросто, однако знали и то стрельцы, что, ежели Хлопко возьмет Москву, случится страшное. Этого-то и боялись.
Дума постановила направить против Косолапа воеводу Ивана Басманова со многою ратью.
Патриарх повелел всем церквам звонить в колокола. Народ знал: такое к беде. Повелел же патриарх возжечь свечи у святых икон, но свечей не нашли. Церкви стояли неосвещенные, и оттого еще страшнее казался глухой колокольный бой.
Ступени проскрипели под каблуками. Стрелец повернулся и вошел в избу. От печи глянула на него хозяйка. Одни глаза остались у нее на лице, а какая крепкая, румяная, налитая бабьей силой была вовсе недавно. Голодно было в доме у стрельца, хотя вот и жил царевым жалованьем. За эти годы и корову съели, и телушек, и овец и обоих коней свели со двора в обмен на хлеб. Одно утешение было — все остались живы. С печи таращились из-под тулупа на отца мальцы. Редкая семья так-то вот на Москве уцелела. Тесть все же помогал. Старику-то одному немного было надо, вот и подсоблял. Так и ныне принес Арсений с Таганки чуть не половину мешка проса. Не хотел голодными оставлять, как уйдет в поход, ни мальцов, ни жену.
Стрелец сел на лавку. Дошагал-то еле-еле, шатало и его. А надо было поспешать. Царева служба не ждала. На душе у стрельца было неспокойно, нехорошо.
В ночь по Серпуховской дороге вывел воевода Иван Басманов против Косолапа десять стрелецких полков. Когда рассвело, стрельцы заслонили от мужичьего войска выход на широкие выгоны Донского и Даниловского монастырей и обступили Косолапа, оставив за спиной у него Москву-реку да выход березняками на болотные топи. Смел был Косолап и в бою отчаян, да воевода Басманов в военном деле был ему не чета, и, как свалить мужика, знаний ему достало.
Взошло солнце, и стрельцы с позиции подле Серпуховской дороги увидели в отдалении безлистный, стоящий стеной березняк и перед ним серые ряды мужичьего войска. Небо было пронзительно синим, как это бывает только в погожий осенний день, и березы в свете разгорающегося дня сверкали подобно свечам ярого воска. Тишина плыла над березняками, над лугом, и не хотелось верить, что через малое время сойдутся на лугу, на унизанных обильной осенней росой травах, две стены живых людей, дабы убивать друг друга.
Дело, однако, не начиналось.
Медлил воевода Басманов, медлил и Хлопко Косолап. У Ивана Басманова, правда, была надежда, что не выдержит мужик этого грозного противостояния, дрогнет и побежит. У Косолапа же такой надежды не было, ан первым нарушить тишину и он не решался. А скорее, верил, что сильнее будет удар, когда сойдут стрельцы с позиции, блеснет в глаза мужикам боевой металл, и каждый в его войске скажет: ах вот как вы, так нате же! Вот здесь выше взлетит рука с топором, шире развернется плечо, вздымая косу.
Воевода повелел служить молебен перед боем. Попы надели на шеи епитрахили, и стрельцы по одному пошли к кресту.
От Серпуховской дороги видно было, что и в мужичьем войске нашелся попишка. У берез поставили на телегу ведро с водой, и поп кропил головы снявшим шапки мужикам.
Среди других поцеловал крест, дрожащий в слабой руке плачущего попа, и Игнатий. Медь креста показалась ему соленой. Выпрямился, шагнул в сторону, надел шапку и увидел: стрельцы у дороги строились в ряды.
Когда солнце перевалило за полдень, все было кончено. На истоптанной, взрытой, истолченной луговине лежали сотни тел, а так нежно, так бело светившие поутру стволы берез были испятнаны нестерпимо алой кровью.
В сече был убит воевода Иван Басманов, но мужичье войско было разбито и рассеяно по лесам. Много мужиков утонуло в болоте, и только малая часть их, перейдя топи, ушла от погони.
Ушел от погони и Игнатий.
Зима на ноги вставала. На святого Мартына лег на землю снег, и Степан, выйдя поутру из шалаша, даже рукой заслонился от его яркости. А когда переморгал пляшущие в глазах искры и отстранил от лица руку, увидел идущих от леса с десяток мужиков. Вгляделся, но не признал.
Мужики подходили все ближе, и Степан разглядел рваные армяки, голодные лица, топоры за кушаками и сразу же понял, кто это такие. Одного из мужиков, чернобородого, вели под руки. Голова у него свешивалась на грудь, ноги едва переступали.
Мужики подошли, и от них дохнуло угрюмой угрозой голодной, нахолодавшей бездомности. Вдруг, раздвинув передних, подступил к Степану бородатый, приземистый, в нагольном, с короткими ободранными полами тулупчике, крепкий мужичонка и, разинув зубастый рот, выдохнул изумленно:
— Хе, Степан, не признаешь! Ну, паря… — Раскинул руки. Степан, от неожиданности ломая неуверенной улыбкой губы, забормотал:
— Да, я… Э-э-э…
Но тут мужик, и вовсе сбивая Степана с толку, хлопнул его по плечу и, обращаясь одновременно и к нему, и к стоящим за спиной мужикам, заторопился:
— Да нас с ним в подвале мучили, от пытки бежали вместе… — Блеснул глазами. — Запамятовал, Степан, а? Неужто не признаешь? Да я Игнашка! Игнашка — вспомнил?
В памяти Степана забрезжили путаные улицы Москвы, вспомнилась белозубая улыбка Лаврентия, пугающий тихий его голос, и тут же ясно встало перед глазами испуганное лицо Игнатия. Но то был вовсе иной человек, нежели стоящий сейчас перед ним на крепких ногах бородатый мужик с топором за кушаком. Иной… Степан подался вперед. Неломкий, прямой взгляд, четко обозначенные в бороде жесткие губы, выпукло проступающий из-под среза шапки широкий, упрямый лоб… Но все же угадал он по затрепетавшей в углах губ улыбке прежнего Игнатия. Да и голос выдал старого знакомца. Голос, который хотя и меняется со временем, но, наверное, более чем иное в человеке долгие и долгие годы сохраняет неповторимые нотки. Хрипотцу, сиплость, или, напротив, звонкую силу, певучесть, или же какую-то особую округлость звука, что никогда не повторяется в других голосах.
— Игнашка! — удивленно ахнул в свою очередь Степан. — Вот уж не чаял встретить. Ан не пропал?
— Пропадал, пропадал, — ответил Игнашка, — да вот живой.
Мужик, которого поддерживали за руки, вдруг застонал, замычал сквозь зубы.
Степан спохватился.
— Давай в шалаш, — сказал, — давай. — И шагнул первым.
Хлеба у него не было, но он все же накормил мужиков.
— В лесу жить, — улыбнулся, — да голодну быть? Нет, у нас так не бывает.
Заварил в котле грибы, ощипал и запустил туда же тетерку, накрошил сладких трав, и похлебка вышла такая густая и наваристая, что куда уж там. А накормив мужиков, сказал чернобородому, у которого лицо горело нехорошим огнем:
— Давай погляжу, что у тебя.
Тот мотнул головой: нет-де, ничего, — но, не сдержавшись, опять застонал.
Степан показал на топчан:
— Снимай армяк.
Чернобородый был как раз тем мужиком, который сказал когда-то Игнатию: «А ты, паря, голову-то за пазуху спрятать хочешь? Но так не бывает, нет, не бывает». Сам-то он голову не прятал. И вот в сече стрелец достал его острым, и достал крепко.
Когда размотали тряпки, Степан увидел на груди у чернобородого лепешку серой, гнойной коросты. Пахнуло гнилью.
Степан бросил в кипящую воду нож, из-за застрехи шалаша достал пучок сухой травы и, подступив к чернобородому, сказал:
— Ну, мужик, терпи.
Запустил нож под коросту. Из раны, залив Степановы руки, хлынул зеленый гной. Мужик ахнул.
— Терпи, терпи, — говорил Степан, орудуя ножом, — еще бы день, два, и захлебнулся бы ты в гноище, а так ничего, подживет.
Мужик шуршал зубами.
На ране показалась алая кровь.
— Во, — сказал Степан, — теперь добро, омоет рану. Добро, добро, терпи.
Засыпал рану травой, обмотал грудь чистой тряпицей.
— Все, — сказал, — лежи. К вечеру полегчает.
К вечеру мужику и вправду стало легче, и он поднялся с топчана. Жар с лица сошел.
Степан, не жалея съестного припаса, наварил еще котел похлебки. Стукнул ложкой о край.
— Хлебайте, — сказал, — засиживаться вам здесь ни к чему.
Мужики взялись за ложки.
Степан, сам не притрагиваясь к похлебке, подкидывал в костерок чурбачки да поглядывал на мужиков. И один из них, перехватив его взгляд, спросил:
— Что поглядываешь-то, а?
Степан кашлянул, подбросил еще чурбачок в огонь и, выпрямившись, ответил:
— Да вот прикидываю, куда вы теперь-то?
Мужик положил ложку, оглядел сидящих вокруг котла, сказал усмехнувшись:
— А ты как думаешь?
Степан не ответил.
И тогда мужик уже со злом сказал:
— А вот возьмем у тебя лошадей да и погуляем.
Степан долго-долго молчал, и мужики, ожидая ответа, один за другим положили ложки.
Наконец Степан отвел глаза от огня и, твердо и прямо взглянув на того, кто сказал о лошадях, сказал:
— Тут из табуна хотел было взять одну лошадку игумен наш, для баловства, в тройку, так я не дал. — Вздохнул всей грудью. — Для баловства не дал и вам для разбоя не дам.
Мужики у костра вроде бы даже опешили на мгновение, но тут же взорвались голосами:
— Как? Что? Да мы…
— Нет, — прервал голоса Степан, — не дам. На лошадках этих пахать надо, пахать… В следующем году, как старики говорят, земля войдет в силу и ее обиходить придет нужда. — И повторил так твердо, с такой силой, что вокруг костра вновь замолчали: — Не дам лошадей.
Один из мужиков начал подниматься. И тут чернобородый сказал властно:
— Сядь, не ворошись.
Мужики ушли наутро. Степан провожал их, стоя у шалаша. Мужики направлялись на юг, куда бежали почти все, кто остался жив из мужичьего войска Хлопка Косолапа.
Отойдя уже порядочно от ельника, встававшего зеленой стеной на белом снегу, Игнашка махнул Степану рукой. Грустно и вместе с тем с ободрением улыбнулся и махнул же рукой чернобородый. И было у него в лице что-то такое, будто знал он больше, нежели выражал странной этой улыбкой.
Ельник сомкнулся за спинами у мужиков, и острое чувство одиночества кольнуло Степана. «А может, зря, — подумал он, — коней-то я им не дал?» Поднял глаза, словно спрашивая у неба, у вздымавшихся к низким тучам вершин деревьев, прав или не прав он.
Сеялся тихий, хороший снег. А коль на святого Мартына снег, да еще вот такой, безметельный, что укутывает землю мягким, добрым покровом, то зиме быть недолгой, безморозной, обещающей урожай. «Знать, прав я, — уже твердо решил Степан, — прав. По весне-то в поле без лошади не выйдешь».
Глава четвертая
Урожай 1604 года, как немного можно привести тому примеров, был обилен. Хлеба дружно поднялись, вошли в трубку и стали под косу, склоняясь тяжелым, налитым колосом.
В Москве, в Успенском соборе, раззолоченном и освещенном множеством свечей, в сиянии бесценных икон, в присутствии царя и всего высокого люда воздали хвалу господу за обильные хлеба, за спасение русской земли. Голоса хора ликовали, плакал патриарх Иов, слезы текли по лицу царя Бориса, да не было ни одного из молящихся в храме, чье бы горло не сжимала сладкая спазма благодарности за избавление от голодного мора.
В эти же дни отслужили благодарственные молебны и по иным московским храмам, да и не только московским.
В самой захудалой деревеньке, где и храм-то божий не более как кулачком поднимался над провалившимися, осевшими крышами изб, почитай, вовсе опустевших в моровые, страшные, неурожайные годы, — и там возжгли хотя бы малую свечу и вознесли голоса к господу. Не было блистающих риз, золотых или серебряных окладов, не сверкал дорогими украшениями иконостас, но с истовостью обращались к небу лица и слезы дрожали в глазах. Гнулись спины в серых крестьянских армяках, тяжелые, корявые, раздавленные непосильной работой пальцы ложились на изборожденные морщинами лбы, тыкались тупо в изломанные трудом, сутулые плечи. И исхудалый попик в истрепанной, обвисшей рясе дребезжащим голосом возглашал:
— Возблагодарим тебя, господи!
И пели, пели колокола… Надежды, светлые надежды вздымались над русской землей, летели в празднично высокое летнее небо.
В эти дни прискакал в Москву из Архангельска окольничий Михайла Салтыков, забиравший все большую и большую силу при дворе и посланный к морю с особым царевым поручением. Подсох лицом Михаила за дорогу, кожа огрубела от ветра и непогоди, но белой крепкой подковкой выказывались зубы и глаза горели. Привез он весть, что около тридцати иноземных судов — как никогда ранее — пришло в Архангельск, ошвартовалось и купцы выгружают товары.
Стоял перед царем Михаила весело, весь порыв и движение, и от него вроде бы даже не лошадиным потом да дымом дорожных костров напахивало, но свежестью Северного моря. Сказал он также, что пятеро из купцов иноземных вот-вот будут в Москве с челобитной к царю о расширении торговли и с великой просьбой — дать мужиков-лесорубов, ибо на Архангельщине запустело ныне с мужиками и лес валить более некому.
— Просить будут, — сказал, — иноземные и полотно русское, льняное, и воск, и ворвань, и канат пеньковый.
От нетерпения, а может, от радости, что так удачно выполнил царево поручение и приехал с добрыми вестями, Михайла сморщил нос, переступил заляпанными грязью ботфортами, сказал:
— Жажда у них великая к нашим товарам, и надо ждать иных разных предложений от иноземных.
Царь Борис благосклонно протянул Михайле для целования руку.
Пришли хорошие вести и из Новгорода. То уж привез окольничий Семен Сабуров, тот самый, что в сидение Борисово в Новодевичьем монастыре получил от царя перстень с бесценным лалом. Перстень и сейчас сверкал на пальце окольничего. Он сообщил, что конторы ганзейские открыты и в Новгороде, и в Пскове. Купцы, огруженные товарами, с разрешения царева вот-вот пойдут на Астрахань и далее в Персию. Ждать надо их обратно с товарами персидскими. В будущем пошлина с того ожидается для российской державы немалая, да к тому же купцы намерены в случае удачного предприятия просить царя о разрешении открыть конторы и в Астрахани.
Говорил Семен не торопясь, вдумчиво, видно еще по дороге рассудив резоны и выгоды сего дела.
— Купцы-немчины обстоятельны, — сказал, — и по всему видать, не токмо для своего обогащения послужат, но и для державы российской вельми будут полезны.
Более другого обрадовало в эти дни царя Бориса сообщение английского купца Джона Мерика. Мерик, которому Борис в свое время поручил попечение над четырьмя вывезенными в Англию русскими юношами, вновь прибыв в Москву через Нарву и далее псковскими и новгородскими землями, рассказал царю, что сии юноши успешно овладевают иноземным языком и определенными царем науками. Борис был так счастлив известием, что пригласил купца к царскому столу, потчевал его вином и долго расспрашивал о приставленных к российским юношам учителях, о том, как живут россияне в Лондоне и не оставляют ли они православной своей веры. Джон Мерик заверил Бориса, что и учение, и жизнь российских юношей в Англии соблюдаются в полном соответствии с его, царевой, волей.
Пришло письмо от папы Климента VIII, который писал царю Борису о пропуске купцов и миссионеров в Персию, пришло же письмо от герцога Тосканского с согласием прислать, по просьбе царя Бориса, в Московию добрых художников. От всего этого веяло ветром перемен, так ожидаемых царем, но только лишь чуть напахивала эта свежесть. Царь Борис отчетливо сознавал, что три голодных, моровых года с очевидностью выявили косность, неспособность приказной державной громады и к восприятию перемен, и к поддержанию должной власти в государстве Российском. Достаточно было вспомнить недавнюю угрозу самой столице державной, когда под ее стены подошло мужичье войско Хлопка Косолапа, остановленное лишь на расстоянии нескольких часов хода от Кремля. И ежели еще до голода в редком для царя порыве откровения, в разговоре со своим дядькой, он сказал, что нити власти гнилы, то ныне ему и вовсе была видна рутина издревле заведенного порядка. А главное — и это более всего угнетало — царь Борис не видел, не находил людей, которые были бы готовы к переменам и шли бы упорно к русской нови.
Борис перебрал Думу, введя в нее новых людей, но и это не дало желаемого. Царь пожаловал высший чин Василию Голицыну, ввел в Думу Андрея Куракина, Салтыковых, Сабуровых и Вельяминовых, но, выкладывая на державный прилавок свежие яблочки, он видел, что и они заражены старой гнилью. Новые бояре удовлетворенно надвигали на лбы высокие шапки, но все оставалось по-прежнему. Московские державные умы не были готовы вести дела согласно с державными интересами. Неподатливое мышление никак не могло согласиться с тем, что общее благо должно стать сутью и высшей целью всех и каждого.
В тень ушел печатник, думный дьяк Василий Щелкалов, были разгромлены Романовы, напугали Шуйских, но кто встал вокруг Бориса? Патриарх Иов? Он сделал свое в дни избрания Бориса на царство и отошел в сторону: и по слабости душевной, и по скудости ума, и по неприятию нови. Свои, родные по крови? Но они обсели Кремль, как мухи сладкий пирог, и все. В Москве говорили, и о том царю было ведомо: «Ишь в Кремле-то скоро и места никому иному не останется, кроме Годуновых». От Никольских ворот в ряд стояли подворья Григория Васильевича Годунова, Дмитрия Ивановича Годунова, Семена Никитича Годунова, и на царя же были отписаны дворы князей Сицких, Камбулат-Черкасского, боярина Шереметева, Богдана Бельского. И царь Борис никому рта заткнуть не мог, так как это была правда. Вот тебе и родные по крови — помощнички. Тогда кто же? Михайла Салтыков, Семен Сабуров и иже с ними? Но это была еще не сила, вовсе не сила. Иноземные советчики царя? Борис делал все, чтобы шире распахнуть державные ворота для знаний, притекающих из-за рубежа, и расширения торговли с иноземным купечеством, но он же и понимал, что на чужих конях в узкие ворота российской нови не въедешь. Нет, не въедешь… И все чаще и чаще Борису припоминалось его сидение в Новодевичьем монастыре в канун избрания на царство, когда московское боярство предложило ему принять грамоту, коя ограничивала бы его власть и наделила бы их, бояр, новыми правами. И припоминались свои же слова: «Власть не полтина — пополам ее не разделишь». Все то было… Было! Как было же сказано и то, что, коли он по предписанной грамоте крест целовать не будет, чиноначальники восстанут.
У Бориса темнели глаза от гнева.
Ныне царь все реже покидал свои палаты. Искал выход — и не находил его. Тогда, в Новодевичьем, ему казалось, что он перемолчит бояр и будет избран на царство без всяких условий, и он перемолчал и был избран Земским собором, начав новую династию народных избранников. Но вот об этом-то он и не думал. Сами слова — народный избранник — менее всего приходили ему в голову. Всем существом своим ощущая упорство навыков, он и сам был в плену сложившихся удельных привычек и предрассудков. И получалось так, что вроде бы все были за новь — царю никто не смел перечить, — но все же, да и он в том числе, были против, так как каждый тащил за собой неподъемный груз старого. «Да, да, — говорили, — крапивное семя свет застит, да и нам всем поворачиваться надо побойчее… Да…» И глядели на соседа, как он шевелится. И каждый почему-то считал, что именно он, сосед, и сосед соседа должны начать эту новую жизнь, которая бы переделала державу. И каждый же хотел, чтобы ему сам царь сказал — не меньше и не больше, — как жить дальше.
И все же были и люди и обстоятельства, которые позволяли влить свежую кровь в тело державное и направить ее по новому пути, но в самом царе Борисе сильна была стародавняя закваска, и он, как и многие до него — и в России, и в иных землях, — дойдя до перекрестка с камнем, за которым должно было шагнуть в будущее, не нашел для этого сил, но свернул на привычную и пагубную дорогу.
Царь Борис дрогнул.
Молодое дворянство, более других приверженное и способное к переменам, надеялось, что Борис перетрясет устоявшееся местничество и введет их в Думу, поднимет на высшие ступени власти. А иные из них уже и говорили вслед горлатным шапкам:
— Ну, подождите…
И все мнилось, мнилось горячим, что вот-вот рванет ветер, закружит, завертит и сквозняком продует бесконечные приказные переходы, выдует затхлость из старых дворцов и жалкими листочками осенними полетят в метельной круговерти Гостомысловы указы, что запрещали то и возбраняли это. Но царь не спешил двигать вперед молодых. В Думе он отвел им незначительное место. Больше того, когда Полевы и Пушкины заместничались на Москве с великими Салтыковыми, их тут же одернули и жестоко наказали.
Это не прошло незамеченным. «Э-ге-ге, — заговорили на Москве, — Борис-то, царь-то, стародавних побаивается… Ну-ну… Так-так…»
Разговоры те стали началом конца Борисова царствования.
Семен Никитич, что ни день, стал приносить вести, что и здесь и там заговорили о слабости Борисовой власти, что-де разговоров много, а дела чуть, и свершений великих не видно. «Треть русского люда, — говорили, — потеряли под властью Борисовой, а дальше что? Вона Москва-то запустела в голодные годы, а там, гляди, и хуже будет. Нет, братцы, думать надо, думать». И тут, как выстрел в упор, ударила весть: в польской земле объявился законный наследник царского престола царевич Дмитрий.
Монах, объявивший себя царевичем Дмитрием, в имении князя Адама Вишневецкого не засиделся. Болезнь его прошла чудесным образом, и ныне, являя всем своим видом отменное здоровье, он с необыкновенной пышностью и торжеством появлялся то в одном, то в другом дворце знатных панов. О российском царевиче было уже известно и в Варшаве, и в Кракове. И опытный царедворец князь Вишневецкий тут же почувствовал мощную поддержку, которая оказывалась новоявленному царевичу. Он еще не мог понять, откуда она исходит, но то, что царевича ведет сильная рука, стало для него очевидным. Да тайна эта вскоре и раскрылась для Адама Вишневецкого.
В имении князя царевичу был отведен уединенно стоящий в стороне, в глубине парка, охотничий домик, и сам пан Вишневецкий запретил кому-либо, кроме обслуживающих царевича слуг, появляться вблизи этого затейливого строения. О том с многозначительной улыбкой попросил его царевич, и князь, с пониманием кивая головой, заверил его, чтобы он ни в малой степени не беспокоился, — все будет именно так, как и просит высокая персона. О каждом, кто бы ни пожелал побывать у тайного гостя князя, незамедлительно докладывалось пану Вишневецкому, и только с его разрешения и, конечно же, с согласия царевича проситель допускался в охотничий домик. Но однажды князь, прогуливаясь по парку, увидел отъезжающую от покоев царевича карету. Князь твердо знал, что ныне не было никого, кто бы домогался встречи с тайно живущим в его имении гостем, и тем не менее карета катила от охотничьего домика. Когда она поравнялась с прогуливавшимся по аллее паном Вишневецким, он узнал человека, сидящего в карете, и ему тут же стало ясно, почему хозяин имения не был извещен об этом визите.
Князь был вспыльчивым и самолюбивым человеком, и он бы незамедлительно выразил свое неудовольствие, ежели бы в карете сидел даже посланник самого короля. Но здесь было иное, и он промолчал. В посетителе царевича он узнал личного секретаря папского нунция Рангони, а это было много больше, чем любой королевский представитель. Адам Вишневецкий понял, откуда у его тайного гостя столько самоуверенности.
Князь, словно не заметив карету, отвернулся и прежним неторопливым шагом, похрустывая каблуками по зернистому песку аллеи, продолжил прогулку. Следовавший за ним дворцовый маршалок также не изменил лица. Поднявшись на ступеньки широкого подъезда дворца, князь вдруг живо оборотился к маршалку и распорядился, чтобы в цветочной оранжерее, которой славилось имение Вишневецкого, были нарезаны лучшие цветы и немедленно доставлены в охотничий домик.
— Пускай наш гость, — с улыбкой сказал князь, — вдохнет их аромат. Это, надеюсь, укрепит его.
Пан Вишневецкий прошел в кабинет и остановился у горящего камина.
Камин был разожжен перед приходом князя, и огонь едва-едва занимался. Не набравшие силы языки пламени обтекали белевшие берестой поленья, трепетали, то тут, то там въедаясь в живое тело дерева.
Пан Вишневецкий подвинул кресло и, не отводя взгляда от камина, сел и протянул ноги к решетке.
Пламя разгоралось, и, глядя на поднимающиеся языки, пан Вишневецкий попытался соединить в мыслях своего тайного гостя из охотничьего домика, увиденную карету и всесильного в Польше нунция Рангони. И чем больше он вдумывался, тем отчетливее понимал, что ничего не знает: ни о своем таинственном госте, ни о его устремлениях да и о собственном его, князя Вишневецкого, месте во всей этой истории. Были шумные, по польскому обыкновению, застолья, провозглашались многословные здравицы, высказывались хмельные заверения в дружбе и приязни, и все. Князь обратил внимание, что его гость вызвал самый живой интерес у родственника князя, сандомирского воеводы Юрия Мнишека. Сандомирский воевода встречал новоявленного царевича с подчеркнутым гостеприимством, и всякий раз встречи эти обращались широким пиром, когда столы ломились от вин и яств, а гости к утру уже с трудом вспоминали собственные имена. Однако, задумавшись, князь припомнил, что его тайный гость пил мало, в словах был сдержан, но все же проявлял явную приязнь к хозяину дома, Юрию Мнишеку, и особенно был благосклонен к его дочери Марине — девице смазливой, большой любительнице забав и скорой на их выдумку, но при всем том хладнокровной и расчетливой.
Князь улыбнулся: «Расчетливой… Это, пожалуй, у нее от отца». Юрий Мнишек был известен как человек, склонный к интриге, тщеславный, неразборчивый в средствах да к тому же и нечистоплотный в денежных делах. Пан Вишневецкий припомнил, как был повешен по приказу Сигизмунда за расхищение казны королевский казначей и как чудом вывернулся тогда из петли Юрий Мнишек. Да, для князя было ясно, что сандомирский воевода и гроша не выбросит без расчета, а тут такая щедрость… Это было неспроста. Перед мысленным взором князя встали устремленные на царевича пылкие глаза Марины Мнишек, ее пышные, крутящиеся в танце юбки.
— Ну-ну, — сказал пан Вишневецкий, уперев локти в мягкие подлокотники кресла, — ну-ну…
Относительно пана Юрия и его дочери ему было все ясно. Однако требовалось обдумать и другое.
— Рангони, — едва слышно прошептали губы князя, — Рангони…
В дела католической церкви не позволялось заглядывать никому. Нарушение заведенного порядка грозило любому большими неприятностями, и все же князь решился обдумать и это. И первое, что он отметил, было нарушение самой церковью испокон веку установленного ею же правила — дела католической церкви вершились тайно. В этом церковь преуспевала больше, чем кто-либо иной. Учителя ей были не надобны. А тут вот в ясный день и по освещенной солнцем аллее чужого имения катила карета, да не с кем-нибудь, а с личным секретарем самого нунция Рангони. Это, конечно, не могло быть оплошностью или случайностью. Такой шаг был обдуман заранее и совершен с определенной целью. «Какой же целью?» — спросил себя князь. Но не нашел ответа.
У дверей кабинета кашлянули. Пан Вишневецкий повернул свою крупную голову. Склонившийся на пороге маршалок провозгласил:
— Высокий гость просит принять его.
Пан Вишневецкий энергично поднялся с кресла. Новоявленный царевич вошел в кабинет князя улыбаясь. Князь склонил голову и повел рукой. Несмотря на немалый возраст, он был все еще необычайно гибок и изящен. Носок его башмака, украшенный лалом большой ценности, грациозно скользнул по навощенному паркету.
Гость и хозяин сели у камина.
Маршалок подкинул дрова в камин, и поленья весело затрещали на жарких углях.
Князь, выказывая улыбку, спросил, понравились ли его гостю цветы. Но гость, не услышав вопроса, молчал. Пан Вишневецкий подался вперед, на губах его все еще трепетала улыбка.
Гость по-прежнему молчал. У князя от недоумения стала вытягиваться шея. Локоны высокой прически задрожали на висках, и улыбка истаяла на губах. Лицо гостя оставалось неподвижным. В это мгновение, нужно думать, с трудом признали бы в сидящем у камина Григория Отрепьева: и хранитель книг Чудова монастыря иеродиакон Глеб, надевший ему на шею необычайный крест, и угрюмый Анисим, провожавший Отрепьева к подворью Романовых на Варварку, и разбитной Варлаам, переведший его через российские рубежи, как и многие другие, кто знал его прежде. Да и сам пан Вишневецкий, еще недавно подававший воду из жестяной кружки мечущемуся в жару монаху сему в каморе под лестницей своего дворца, едва-едва узнавал его. И виной тому были не нарядный польский костюм, не перстни и кольца, унизавшие его пальцы, не мягкие сапожки на ногах, но весь облик, вдруг изменившийся необычайно. Вот ежели бы чудо вернуло время назад и кто-нибудь из этих людей смог увидеть сего монаха в глухом переходе московского монастыря, у дверей келий иеродиакона Глеба, тогда только он бы узнал. Да и то навряд ли. В глазах монашка в ту минуту неопределенности неожиданно сверкнула упрямая воля, удаль, которая единая делает жизнь людей необыкновенной, но тогда же глаза его выказали и что-то вопрошающее и пугающее одновременно. Ныне тоже была в глазах удаль, но этого пугающего было больше. Много больше. Пан Вишневецкий вдруг почувствовал себя неуютно.
Новоявленный царевич наконец сказал, отчетливо выговаривая каждое слово:
— Я имею известие о необходимости поездки в Краков.
«Вот и выказалась карета, — мгновенно подумал князь, — вот и объявились следы нунция». Он склонил голову.
— Я надеюсь, — продолжил царевич, — на ваше участие в сей поездке, как и на участие любезного пана Мнишека и его дочери Марины.
Пан Вишневецкий поклонился в другой раз.
Царь Борис пожелал осмотреть строительство храма Святая Святых.
Семен Никитич, тут же вспомнив слова царские: «Твое — все знать о строительстве храма», — согнулся и, пряча глаза, заторопился, выговаривая невнятно:
— Государь, морозит, да и метель…
Но Борис его прервал:
— Ничего…
В последнее время царь не вступал в длинные беседы. Говорил коротко, как ежели бы у него сил не хватало на долгие речи. И был нетерпелив. В минуты гнева судорога пробегала по его лицу, взбрасывала бровь, и какая-то жилка билась и дрожала под глазом. Видеть это было неприятно, и минут таких боялись.
Царев дядька начал было вновь:
— Снег, государь…
Поднял глаза на царя и, увидев, что он начал бледнеть, нырнул головой книзу и торопливо вышел.
Над Москвой и вправду пуржило. С низкого неба срывался снежок и кружил в порывах ветра. В кремлевских улицах пороша завивалась хвостами, крутила, играла, колола глаза стоящим в караулах стрельцам и мушкетерам.
Царь вышел на Красное крыльцо.
День только начинался. Метельный, ветреный. Но вдруг над кремлевской стеной, над древними куполами церквей и соборов в прорыве низко нависших туч проглянуло солнце, и Соборная площадь, укрытая снегом, вся в вихрях, заметях и кружении низко катившей пороши, заискрилась бесчисленным множеством ослепительно ярких взблесков. Так бывает, когда неосторожной рукой в ясный день на полянке в лесу тронешь заснеженную ветку, и, обрушившись сверху, снежный поток разом ослепит переливчатой волной света. А здесь уж не ветка была, но сеявшее снег, неохватное небо, и не поляна, но раскинувшаяся широко площадь.
Царь Борис даже заслонился от нестерпимого сияния. Лицо его, бодря, щипнул морозец.
Солнце тут же и ушло за тучу.
Царь отвел руку от лица. По глазам ударила хмурость и неуютность метельной площади. И синие, алые, зеленые шубы обступивших крыльцо окольничих и стольников только подчеркнули бескрасочную однообразность холодного, ветреного зимнего дня.
Борис утопил подбородок в воротник.
— Показывай.
Но показывать-то Семену Никитичу было нечего.
В голодные годы не до храма было, и все, что успели до мора свезти в Кремль для строительства, забыли в небрежении и непригляде. И когда, миновав приказные избы, перешли Соборную площадь, в улице у Водяных ворот, вдоль кремлевской стены до подворья Данилова монастыря вздымались лишь высокие снежные сугробы, укрывавшие остатки леса, бунты железа, разваливающиеся коробья и рваные кули с коваными гвоздями, крючьями и иной необходимой при строительстве мелочью. Горбились укрытые шапками снега уступчатые штабеля пиленого камня.
Семен Никитич голову опустил. Царь знобко повел под шубой плечами и, не сказав ни слова, пошел между сугробами. Лицо его напряглось и вовсе утонуло в высоком воротнике. Окружавшие царя боялись не то чтобы голос подать, но и ступать-то рядом, дабы не потревожить Бориса скрипом хрусткого на морозе снега. А он, как нарочно, был певуч и отзывался на каждый шаг режущим слух, коротким, но острым, казалось, вонзающимся иглой в голову, высоким звуком.
Семен Никитич, поспешая за царем, ступал с осторожностью, едва-едва касаясь узкой тропки носками нарядных сапог.
Ныне ночью Борис, почитай, не спал. Вести о царевиче Дмитрии, объявившемся в польской стороне, подтвердились. И Борис уже знал, кто этот новоявленный царевич.
Как только до Москвы дошли первые тревожные слухи, Семен Никитич провел строгий сыск, и явным стало, что мнимый царевич не кто иной, как монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Тогда же Борис вспомнил, как приходил к нему митрополит Иона со словом на сего монаха, и вспомнил об указе дьяку приказа Большого дворца Смирному-Васильеву сослать монаха в Кириллов монастырь под крепким караулом и содержать там строго.
Смирного-Васильева призвали к царю. Борис спросил дьяка, где монах Отрепьев. Смирной помертвело застыл, лицо его побледнело. Царь в другой раз повторил вопрос, но Смирной убито молчал. Борис тогда же повелел обсчитать казну, числящуюся за дьяком, и на него начли такую недостачу, что и бывалые из приказных поразились. Смирной все одно молчал. Когда его повели на правеж, он вдруг забормотал что-то о порошинке, забившей глаз, о воронье.
— Что? — подступил к нему Лаврентий. Взял дьяка за бороду, вскинул лицо кверху. — О Гришке Отрепьеве сказывай. Ну!
Дьяк закрыл глаза. Его вывели во двор и забили насмерть, но он так и не сказал ни единого слова об Отрепьеве. Борис понял, что за дьяком стоят люди, и люди сильные, ибо тот не побоялся ни мучений, ни даже смерти своей, так как молчанием добывал будущее своего рода. Так он, значит, ждал этого будущего? И знал, кто его строить будет, и те, кто в дальних годах определять его станут, были ему страшны. Но и другая мысль родилась у Бориса. Не страх единый на смерть толкнул Смирного. Нет, не страх! И в другой раз вспомнилось царю Борису: «Чиноначальники восстанут». Так чего же больше было в Смирном: страха или тупого, упрямого сопротивления тому, к чему вел Борис? Задумавшись над этим, царь до боли сжал пальцами виски. Не выдержав, Борис закричал тогда в Думе:
— Мнимый царевич Дмитрий — это ваших рук дело! Ваших! И подставу вы сделали!
Горлатные шапки склонились. У Семена Никитича пальцы на ногах поджались от страшного царева крика. А Дума молчала.
Борис изнеможенно поник на троне. Тем и кончилось…
Борис, увязая в снегу, шел мимо сугробов. Царев дядька жался сбочь. Так дошли они до подворья Данилова монастыря. И все только сугробы и сугробы были и тут и там да торчали из них стволы пихт, ржавые железные полосы, выглядывали разваливающиеся коробья.
Храм Святая Святых был не главной Борисовой заботой, но, наверное, самой сердечной, согревающей душу мечтой. И вот перед глазами только истоптанный снег, сугробы, и все.
Царь остановился. И идущие рядом и позади царя заметили, что он даже вздрогнул, как ежели бы проснулся от испуга. Прямо перед ним из сугроба вздымался полузаметенный поземкой камень. За ним и чуть подалее, в одной стороне и в другой, торчали из снега кресты.
— Что это? — растерянно и изумленно спросил царь Борис.
— Государь, кладбище, — подскочил Семен Никитич. — Данилова монастыря кладбище.
Царь выпростал лицо из воротника шубы и, не мигая, с минуту или более стоял под ветром.
Наконец поднял руку и, ткнув пальцем в черный камень, спросил:
— Что начертано на нем?
Семен Никитич торопливо опустился на колени и руками стал разбрасывать снег, наметенный у камня. Кто-то из окольничих бросился помогать ему. В минуту они разрыли снег до самой земли, но так и не увидели на камне надписи. Замшелая плита была так стара, что время стерло письмена. Семен Никитич растерянно повернулся к царю и, едва шевеля губами, сказал:
— Ничего нет, государь. Мхом затянуло…
— Вижу, — резко ответил Борис и, повернувшись, пошел к Соборной площади.
Поднявшись на Красное крыльцо, Борис неожиданно сказал Семену Никитичу:
— Найди образчик собора, что Думе представляли, и в палаты мои доставь.
Семен Никитич запнулся. О храмине игрушечной думать забыли, и царю не след было вспоминать о ней. Но уж очень Борису захотелось увидеть мечту свою. Вспомнилось: разделанные под зеленую траву доски, вызолоченные купола, высокие порталы, яркие крыльца и шатровые кровли выложенного из малых, в палец, кирпичей сказочного храма.
За час облазили и подвалы, и подклети, и чердаки, и самые дальние каморы, в которые от веку не входили, в Большом дворце, в Грановитой палате, в Столовой избе. Да где только еще не были. И сам же Семен Никитич с рожей, облепленной черной паутиной, нашел наконец под лестницей в углу образчик храма. Как смогли, обмахнули игрушечную храмину тряпками, очищая пыль, и на радостях чуть не бегом внесли в царевы палаты.
Царь сидел у окна в кресле. Храмину поставили перед ним, и тут только царев дядька понял, что зря он нашел храмину и, уж вовсе не подумав, выставил ее перед царем. Сказал бы, нет-де игрушки сей, да и только.
Бровь царя дрогнула и поползла кверху. Царева дядьку мороз продрал по спине.
Храмина стояла перед царем, как обгаженный курятник. Более же всего царя поразили выдавленные слюдяные оконца. Они зияли черными провалами в теле храма, как глаза, вырванные злой рукой.
Царь, странно поднимаясь в кресле, набрал полную грудь воздуха, и даже не крик, но стон вырвался из искаженных судорогой его губ.
Игрушечную храмину, так же бегом, как и внесли, выволокли из царевых покоев. Но Борис этого уже не видел, он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
После дела Смирного, когда царь Борис вглядывался в неколебимо, тупо застывшее лицо дьяка, это был второй удар, тяжело, до самой глубины души потрясший Бориса. Он понял: перед ним стена, глухая, сложенная из вековечных, неподъемных камней. Но тут же ему припомнились слова царя Ивана Васильевича, услышанные еще в отрочестве: «Кулаки разбей, а дверь открой!» Но он чувствовал: у него больше нет сил не только на то, чтобы стучать в стену, но даже поднять руки. И он подумал: «Власть уходит… Утекает, как вода, сквозь пальцы…» И еще подумал, что даже не заметил, когда это началось.
Борис оперся на подлокотники и, поправившись в кресле, устремил взгляд в окно.
За свинцовой решеткой переплета кружил снег. Бесчисленное множество невесомых ледяных пушинок. Они сталкивались, падали, взлетали и опять падали, швыряемые порывами ветра то в одну, то в другую сторону. И кружились, кружились мысли царя.
Борис хотел понять, когда же потекла сквозь его пальцы сила власти. Когда он подсказал своему дядьке разгромить Романовых? Когда на Болоте взошел на помост Богдан Бельский? Или раньше? Когда он, Борис, не помня себя, крикнул люду московскому, что не будет в его царствование ни сирых, ни бедных и он последнюю рубашку отдаст на то? Отчаяние входило в душу Борисову.
За окном кружил и кружил снег. В царевых палатах стояла тишина, и Семен Никитич с боязнью, напряженно вслушивался в эту тишину, ожидая царева зова. Но за дверями не было слышно ни звука.
Весело и шумно было в Кракове. С шелестом кружились шелковые юбки красавиц, пленительно сверкали зовущие глаза, и вино лилось рекой.
Пан Юрий Мнишек шел к намеченной им цели. Незаметно, день за днем, он все дальше и дальше оттеснял от новоявленного царевича пана Вишневецкого и с той же последовательностью делал все, чтобы сблизить объявившегося наследника российского престола со своей дочерью — прелестной, яркоглазой Мариной. Для этого в ход шли пиры и охоты, длительные прогулки в окрестности Кракова и, конечно же, танцы, танцы, танцы… Крутящаяся в вихре музыки панна Марина была сам соблазн, само обворожение…
И Юрий Мнишек преуспел более чем довольно. Это еще не было скреплено на бумаге, но уже стало договором между сандомирским воеводой и мнимым царевичем российским. В случае женитьбы на панне Марине и утверждения на российском престоле царевич обещал Юрию Мнишеку выдать миллион польских злотых, а его дочери — бриллианты и столовое царское серебро. Обворожительной панне в полное владение передавались со всеми жителями Великий Новгород и Псков, а Юрию Мнишеку уступались в потомственное владение княжества Смоленское и Северское. Вот сколько выплясала в свистящем шелесте юбок яркоглазая панна Марина.
В одушевляющие сандомирского воеводу дни между ним и Адамом Вишневецким, уже знавшим о состоявшемся договоре, произошел необычный разговор. Гремела музыка, провозглашались здравицы, и в этом оживленном шуме Вишневецкий, склонившись к пану Мнишеку, рассказал ему притчу древнего мира. В ней говорилось, что философ Диоген Синопский, увидев, как мальчик, склонившись над ручьем, пил воду из горсти, сказал: «О, сей мальчик превзошел и старого философа простотой жизни». И тотчас выбросил из сумы чашу. Сандомирский воевода поднялся из-за стола и захохотал.
— Но это был только Диоген! — вскричал он. — А я Юрий Мнишек!
Известие о состоявшемся договоре между объявившимся наследником российского престола и сандомирским воеводой дошло и до папского нунция Рангони. Да это и понятно: какие секреты могли быть тайной в польской земле для папского нунция? Он был вездесущ.
Рангони выслушал сообщение, не меняя выражения каменно застывшего лица. Презрительная улыбка проступила на его губах, только когда человек, принесший весть, вышел из палат нунция и за ним накрепко притворилась дверь. «Скотская страсть, — подумал Рангони, — этот царевич раб, но не господин. Похоть может затмить разум только ничтожеству».
Однако презрительная улыбка на лице нунция тут же сменилась явно выразившейся радостью, так как именно ничтожество более всего устраивало папского посланника. Рангони медлил до сих пор с действиями относительно новоявленного претендента на российский престол потому, что хотел удостовериться, имеет ли надежду на успех рискованное предприятие с мнимым царевичем в Москве. Ныне он получил подтверждение из России, что объявившийся наследник российского трона будет поддержан в Москве многими сильными людьми. Непросто было выведать такое, но сыны ордена иезуитов достославного Игнатия Лойолы были люди предприимчивые.
Папский нунций был разбужен в полночь. Подсвечник плясал в руках разбудившего нунция слуги, но он наклонился к господину и шепнул ему несколько слов. Рангони мгновенно отдернул полог, укрывавший постель. А через несколько минут с подтянутым, жестким лицом, в котором не было и тени недавнего сна, папский нунций сидел у стола с ярко горевшими свечами и ждал.
За высокими лакированными дверями раздались шаги, затем последовал тихий, вкрадчивый стук. Рангони, колебля свет свечей, поднялся навстречу ночному гостю.
Блеснув темным лаком, дверь отворилась.
При нужде сыны ордена иезуитов выкрали бы секреты и из тайной божественной канцелярии.
Рангони узнал, что хотел, и начал действовать с необычайной настойчивостью.
В тот же день он посетил мнимого царевича.
С первой минуты Григорий Отрепьев произвел на нунция более чем неприятное впечатление. Круглое лицо царевича поразило Рангони примитивностью черт, а его неловкие манеры показались изысканному папскому нунцию смешными. К тому же Григорий Отрепьев был мрачен, задумчив и с трудом поддерживал разговор. Однако все это было для папского нунция далеко не первостепенным в решении партии, которую он пытался сейчас разыграть на польской шахматной доске. После первых же слов, которыми он обменялся с претендентом на российский престол, Рангони подумал, что эта фигура никогда не решит успеха партии, ежели ее не усилить по флангам и с тыла надежной защитой.
Рангони поднял бокал с вином, но, прежде чем сделать глоток, внимательно и изучающе взглянул на Отрепьева. Тот сидел молча, надвинув на глаза брови, и ширококостной рукой простолюдина слегка пощипывал цветок, стоящий в роскошной вазе.
«Да, — подумал Рангони, глядя на эту руку, — история забавнейшая штука. Вполне возможно, что на российский престол сядет человек, предок которого мог быть конюхом». Но папский нунций тут же и отогнал эту мысль от себя. Она была только забавной — могут же и сыны Игнатия Лойолы позволить себе минуту развлечения. Рангони округлил улыбчиво губы, но заговорил жестко и точно. В нескольких словах он набросал перед мнимым царевичем складывающуюся межгосударственную картину, определенно дав понять, что все потуги претендента на российский престол обречены на провал, ежели он не заручится поддержкой римской католической церкви.
Отрепьев по-прежнему пощипывал цветок. Нежнейшие лепестки все заметнее устилали белоснежную скатерть.
Молчание мнимого царевича начало раздражать папского нунция. Видно было, что он ни единым словом не хочет помочь Рангони в сложном разговоре, который тот начал. Тогда папский нунций решился более не усложнять нарисованную картину, а двумя-тремя штрихами обнажить ее суть, учитывая примитивность мышления собеседника. И тут пришло время изумиться Рангони, что, по правде сказать, бывало очень и очень редко.
Отрепьев неожиданно поднял глаза на папского нунция и сказал с твердостью:
— Достаточно. Мне все понятно. Я должен отказаться от греческой церкви и вступить в лоно церкви римской? Так?
У Рангони от неожиданности спазма перехватила дыхание. Но далее он еще больше изумился. Движением, которым простолюдин собирает крошки хлеба со стола, с тем чтобы затем бросить их в рот, Отрепьев начал сметать со скатерти нащипанные им лепестки цветка. И папский нунций понял, что сидящий напротив него человек дает ему время опомниться.
Наконец Отрепьев собрал лепестки и бросил их в вазу. И, в другой раз подняв глаза на папского нунция, сказал:
— Я готов к этому.
Только своевременные многотрудные старания его учителей и многолетняя выучка Рангони позволили ему сдержаться и не раскрыть рот от неожиданности. Папский нунций даже оглянулся, дабы убедиться, что никто не заметил его растерянности.
По-своему поняв это движение, к еще большему удивлению Рангони, Отрепьев сказал:
— Ежели папский нунций опасается, что мы можем быть услышаны нежелательными любопытствующими ушами, я готов вести беседу на греческом или латыни.
«Так кто же разыгрывает партию, — вдруг подумал папский нунций, — я или этот монах?» Прибегая к давнему приему, Рангони и рассыпался в любезностях, дабы выиграть время. И пока его губы выговаривали привычные, годами отточенные слова, он мучительно обдумывал следующий ход. И нашел его. «Надо, — решил нунций, — связать этого человека не пустыми обещаниями за красивым столом, но делом». И это стало, пожалуй, главным долгой беседы.
В следующее воскресенье в присутствии особо доверенных лиц в Мариатском костеле, перед величественным алтарем несравненного Вита Ствоша, претендент на российский царский трон дал торжественную клятву, скрепленную рукоприкладством, что будет послушным сыном апостольского престола.
Когда церковный акт был совершен, мнимый царевич неожиданно подошел к алтарю и надолго задержал взгляд на опущенных руках святой Марии. Великий Ствош создал эти руки как выражение безысходного горя, они падали, стекали книзу от узких запястий к еще более узким кончикам пальцев в страдании и смертной муке. На них видна была каждая жилка, каждый изгиб плоти, каждая морщина, и все это было болью, последним вздохом.
Папский нунций, напрягая зрение, хотел было вглядеться в лицо застывшего у алтаря мнимого царевича, желая прочесть его мысли, но свет свечей колебался, тени бежали по костелу, и Рангони не разглядел лица Отрепьева.
Папский нунций причастил его и миропомазал.
Рангони посчитал: с этого часа главное сделано.
После костела, дав претенденту на российский престол несколько отдохнуть, его повезли в королевский дворец Вавель.
Сигизмунд ждал российского царевича.
Король, встречая гостей, был, как всегда, величествен, и на его губах знаменем светила улыбка, лгавшая, конечно, как могут лгать только знамена. Сигизмунда вдохновляло прежде всего то, что он теперь сможет отомстить царю Борису за его неприязнь и наказать за нежелание помочь ему, Сигизмунду, вернуть шведскую корону, дав пинка под зад злому дяде Карлу, так нелюбезно выставившему племянника из его родового дворца в Стокгольме. Не сомневаясь в правильности действий, Сигизмунд в Посольском зале дворца с потолком, украшенным скульптурными головами, признал Григория Отрепьева царевичем и назначил ему ежегодное содержание в сорок тысяч злотых.
Но далее случилось непредвиденное, чего не ждали ни легкодумный Сигизмунд, ни проницательный, как ему казалось, папский нунций Рангони.
Против решительных действий короля выступили влиятельнейшие люди Польши. И прежде всего коронный канцлер и великий гетман Ян Замойский — человек с изрезанным глубокими морщинами лицом, каждая складка которого говорила о недюжинной судьбе, крутом нраве и властности. В свое время по его предложению и настоянию была введена в Польском государстве вольная элекция, означавшая выборы короля при участии всей шляхты. Он, Ян Замойский, как никто иной, поднял шляхетскую честь, и достаточно было коронному канцлеру произнести одно слово — и поднялась бы вся шляхта. Только этого было довольно, чтобы сильно задуматься королю. Но мало того, великого гетмана поддержал пан Станислав Жолкевский. Пан Станислав после разгрома им казацкой вольницы грозных атаманов Лободы и Наливайко был, наверное, в Польше самым блистательным героем. Каждый юный шляхтич со всей пылкостью молодого сердца мечтал о его лаврах. Но и это было не все. За этими почти всемогущими в Польше фигурами пошли князь Василий Острожский и князь Збаражский, воевода брацлавский.
Ян Замойский, натужно перхая горлом и глядя на короля не допускающими возражения глазами, заговорил так наступательно и властно, что у Сигизмунда налился багровой кровью затылок. В любом ином случае, услышав столь дерзкие, противоречащие его мнению слова, король бы немедленно вскочил с кресла и ахнул своим здоровенным кулаком по столу, но сейчас, как это ни было ему трудно, он, стиснув зубы, сдержался. Вес, значимость коронного канцлера и гетмана — и это понимал Сигизмунд — были так велики в Польше, что даже король должен был выслушивать Яна Замойского до конца.
А гетман говорил о невозможности нарушения заключенного с Московией перемирного соглашения. Он не улыбался, не подыскивал щадящих короля выражений, но обрушивал слова, как удары топора, которым сечет рыцарь обступивших его латников.
Красавец пан Станислав Жолкевский, сидящий рядом с великим гетманом, без тени почтения к королю согласно кивал крупной, горделиво посаженной на плечи головой.
Одобрение было написано и на лицах князя Острожского и князя Збаражского.
— Оскорбление могущественнейшего соседа, — говорил жестко Ян Замойский, — может привести к далеко идущим последствиям.
И Сигизмунд понимал это так: «Ты, король, не поляк. Но мы плоть от плоти и кровь от крови польской земли и не дадим тебе сделать то, что, по нашим понятиям, не угодно родной земле».
— Разве не ясно, — говорил великий гетман, — как жестоко может отомстить царь Борис наступательным союзом со Швецией?
А за этим король слышал: «Тебя выставили из родной Швеции, но ты потеряешь и польскую корону, ежели будешь настаивать на своем». И король сдался.
Еще некоторое время, правда, в королевском дворце Вавеле царила та напряженность, которая присуща обороняющейся крепости, но папскому нунцию Рангони уже стало ясно, что король не пойдет против всемогущих панов, которые при желании легко могли взорвать сейм.
Папский нунций бросился к Льву Сапеге, но тот с присущей ему ловкостью в сторону. Тогда Рангони решил: если наступательный дебют не удался, эндшпиль должен быть таким, когда король падет не под разящими ударами последовательно, грозно и явно наступающих фигур, но в результате многоходового, запутанного миттельшпиля.
После долгих размышлений папский нунций предложил Сигизмунду план действий, которые бы и не поссорили короля со шляхтой, и вместе с тем дали бы возможность свалить царя Бориса. Сигизмунд заколебался.
Рангони со всей ловкостью опытного интригана ударил по королевскому самолюбию.
Сила ордена иезуитов заключалась не в особой одаренности его сынов, но в слабостях людей, в среде которых они действовали. Иезуиты всего лишь последовательно изучали эти слабости и сознательно их использовали. Самолюбие, как отлично знал папский нунций, было свойственно немалому числу людей, но он же знал, что это весьма ранимое чувство в большей степени, чем кому-либо иному, присуще стоящим на вершине власти. Власть сама, как свой неизбежный атрибут, порождает это чувство и просто невозможна без него. Поднимаясь со ступени на ступень над другими людьми, человек, окруженный всеобщим вниманием, а затем и почитанием, более и более возвеличивается не только в чужих, но и в собственных глазах. И когда такой человек наконец говорит: «Мы, король такой-то…» — считай, все кончено. Под горностаевой или иной мантией уже распустился богатейший, с особой силой ласкающий внутренний взор владельца царственных одежд, махровый букет самолюбия.
Рангони, изысканно улыбаясь, ударил прицельно:
— Ваше величество, вы обладаете столь высоким умом, чтобы оставить просто-напросто в стороне надутых польских петухов.
У короля Сигизмунда на лице проступила краска удовлетворения.
— Да, да, — продолжил, улыбаясь, папский нунций, — вам, ваше величество, в отличие от них не нужны призывы и выступления, но достаточно дать только согласие…
Сигизмунд попытался вникнуть в суть велеречивого потока, и тут Рангони, посчитав, что пора тому пришла, выложил главное:
— Не нужно снаряжать коронное войско, не нужно королевских указов, не нужно решений сейма… Вы, ваше величество, — Рангони в этом месте, как благонадежный подданный, уронил голову и прижал трепетную руку к кресту на груди, — даете лишь позволение кому-либо из частных лиц на помощь несчастному российскому царевичу. Пускай это будет, — папский нунций поднял голову, — скажем, пан Юрий Мнишек…
И король позволил.
Это были дни торжества сандомирского воеводы.
Не медля и дня, Юрий Мнишек привез новоявленного царевича в Самбор, взял с него поручную запись, скреплявшую ранее заключенный между ними договор, и начал собирать по всей Польше сволочь, готовую помочь за хорошую плату претенденту на российский престол в его замыслах. И Ян Замойский и Станислав Жолкевский, князь Острожский и князь Збаражский на то промолчали. В конце концов, войско это было личным делом пана Мнишека, но не Польши. Во всяком случае, так они посчитали. И к тому немалые усилия приложил папский нунций.
В эти же дни в Самбор пришло две тысячи казаков из Сечи. Казачьи атаманы сказали:
— Веди нас, царевич, на Москву, мы послужим тебе.
Тогда же к мнимому царевичу, садившемуся на коня у дворца пана Мнишека, подошел один из казаков и, положив трехпалую руку на золоченое стремя, спросил с улыбкой:
— Не узнаешь, царевич? А я ведь тебя на Сечи учил седлу и сабле.
Взглянув на казака с высоты коня, царевич сказал:
— Узнаю… холоп.
И тронул коня.
Однако, хотя тон ответа был ледяным и надменным, глаза претендента на российский престол взглянули на Ивана-трехпалого с одобрением, и тот это понял.
Отъехав несколько шагов от дворца, мнимый царевич повернул лицо к скакавшему сбочь его пану Мнишеку и сказал:
— Сей холоп зол очень. Отметить его надобно. Будет полезен.
Кони прибавили шаг.
Слухи о царевиче, объявившемся в польской стороне, росли, ширились, и стало доподлинно известно, что в Самборе им уже собирается войско. Борис же с действиями медлил. И, не понимая его поведения, задумчивой отрешенности, волновалась вся царева родня. К Борису подступали с вопросами, с предложениями немедленных и решительных мер, но он отмалчивался. Ждали слова властного, сокрушающего движения, в конце концов, всех отрезвляющего окрика, но царь только странно взглядывал, и все. А между тем привычка видеть царя в работе не позволяла понять и ближним, что того Бориса, который перед избранием на высочайший трон в течение нескольких недель собрал стотысячное ополчение и вывел его к Оке, больше нет. Подойдя к самим ступеням трона, Борис был полон надежд и уверенности, что все сделает так, как им задумывалось, и это придавало ему необычайные силы. Впереди виделись светлые лица счастливых людей, крепких в вере и лишенных пороков пьянства и лихоимства, богатая, с широкими чистыми улицами Москва, ломящиеся от товаров торговые ряды, преуспевающие в торговле Псков и Новгород, причальные стенки порта Архангельска со множеством стоящих судов. Многое виделось ему. Университет на Москве и юноши, алчущие знаний. Мудрые советники вокруг трона. Расцветшие ремесла. Оттого он и крикнул московскому люду, возлагая на себя шапку Мономаха: «Не будет в царствовании моем ни голодных, ни сирых, и я последнюю рубашку отдам на то!»
Мечтания, однако, не сбылись. Перед глазами Борисовыми стоял храм Святая Святых. А точнее, то, что должно было стать храмом, а ныне было лишь заснеженным полем, сугробами, заметенными снегом остатками леса, пиленого камня, ржавого железа… Огромными усилиями и лес, и камень, и железо были заготовлены, свезены в Кремль, сложены и, как оказалось, только для того, чтобы все закрыла метельная заметь…
Борис все чаще и чаще вспоминал увиденный когда-то волчий гон. Вожака, летящего по снежному насту, идущую за ним стаю. И вопрос, заданный себе: кто он, царь Борис, — вожак, ведущий стаю, или матерый волк, уходящий от нее? Ответа, как и тогда, в возке на дороге, он не находил. Но не только это угнетало царя.
Рубежи державы были закрыты заставами. Но, несмотря на строгости, через границы на Русь шли письма мнимого царевича Дмитрия, призывавшие подняться против неправедного царя. Их провозили в мешках с хлебом из Литвы, проносили тайными тропами и подбрасывали люду и в Смоленске, и в Новгороде, и в Москве. Да и сам Борис получил письмо от мнимого царевича. «Жаль нам, — писалось в письме, — что ты душу свою, по образу божию сотворенную, так осквернил и в упорстве своем гибель ей готовишь: разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, будучи нашим подданным, довольствоваться тем, что господь бог дал, но ты, в противовес воле божьей, украл у нас государство…»
— Хватит, — сказал Борис читавшему письмо дьяку.
В тот же день царь повелел привезти во дворец мать покойного царевича Дмитрия, — царицу Марфу.
Ее привезли к ночи. В Борисовых палатах бывшую царицу ждали патриарх Иов, царь Борис, царица Мария.
Царица Марфа, одетая во все черное, ступила через порог. Патриарх шатко пошел ей навстречу, протянул руку для целования. Рука Иова дрожала.
— Скажи, — молвил патриарх, — видела ли ты, как захоронен был царевич Дмитрий?
Царь Борис и царица Мария ждали ответа. Бывшая царица так долго молчала, что Мария, качнувшись, оперлась рукой на стоявший позади нее столец со свечами. Царица Марфа глянула на нее из-под черного платка и сказала:
— Люди, которых уже нет на свете, — она передохнула, — говорили о спасении сына и отвозе его за рубеж.
Царь Борис не двинулся с места. Иов, прижав руку к кресту на груди, сказал:
— Вот крест, так скажи перед ним не то, что говорено тебе было, но то — единое, — что видела сама.
Марфа склонила голову. И тут царица Мария, схватив подсвечник с горящими свечами, подступила к Марфе, крикнула:
— Я выжгу тебе глаза, коль они и так слепы! Говори, видела ли ты могилу и гроб с царевичем, видела ли, как зарыли его?
Марфа вскинула голову. Царица Мария твердой рукой приблизила подсвечник к ее лицу. Пламя свечей билось и рвалось на стороны. И тут Борис выступил вперед и заслонил бывшую царицу.
— Все, — сказал, — все!
В Польшу были отписаны письма панам радным, королю Сигизмунду, польскому духовенству о том, что объявившийся в их стороне царевич не кто иной, как самозванец, вор и расстрига, бывший монах Чудова монастыря Гришка Отрепьев. Письма требовали, чтобы король велел казнить Отрепьева и его советчиков.
Польская сторона с ответами не спешила.
Из Москвы в Варшаву и в Краков были посланы люди, но и это не остановило приготовлений в Самборе.
Борис понимал, что скапливающееся у южных границ державных войско не орда крымская, не отряды польского или шведского короля, но сила вовсе иная. Против крымского хана, польского и шведского королей он, государь российский, мог выставить достаточно войска, но как противостоять этой беде — не знал. Шел на Россию не Гришка Отрепьев — вор и расстрига, — но те, что были против российской нови. Минутами в эти дни в голове Борисовой была такая буря, что думалось царю: «Сойду с ума!» Все было зыбко, все неверно. Но пока жив человек — есть и надежда.
С Варварки на Пожар въехала не по-российски высокая, на хороших колесах карета и остановилась, как ежели бы возница не знал, куда направить ее дальше. Ременные крепкие вожжи натянутыми струнами повисли над тяжелыми крупами коней.
Но это было только мгновение.
За слюдяным оконцем кареты мелькнула тень, чья-то нетерпеливая рука стукнула в передок, и уверенный голос сказал:
— К Никольским воротам!
Вожжи дрогнули, и кони покатили карету мимо Средних и Верхних рядов площадного торжища. И тут видно стало и по запыленной карете, и по немалым сундукам, притороченным в ее задке, да и по коням, захлестанным по репицы хвостов ошметьями грязи, что позади у них дорога со многими верстами. Однако кони шли хорошо. Копыта ставили твердо, напрягая узлы мышц, мощно влегали в хомуты, и каждому, кто бы ни взглянул на этот поезд, в ум входило: таких коней да и в такую карету по-пустому не запрягают и в дальнюю дорогу не гонят.
Так оно и было.
Стуча колесами по мостовинам, карета свернула к Никольским воротам, но ее остановили, и по тому, как заступили дорогу стрельцы, как подскочил к карете стрелецкий десятник — высокий, широкоплечий дядя, — явно стало, что в Кремле тревожно. Да не только это свидетельствовало, что здесь ныне беспокойно, но и множество других примет. Ров перед Кремлем, всегда заросший лопухами, обмелевший, сейчас был полон воды, берега его, выказывая следы работы, чернели свежевскопанной землей, да и все иное у кремлевских ворот говорило с очевидностью: здесь дремать забыли и смотрят окрест с настороженностью. Раскаты были подновлены, заплесневевшие от долгого небрежения пушки начищены до блеска, осадная решетка, кованная из толстенных железных полос, отсвечивала синими клепками, наложенными, может, вчера, в крайности, позавчера.
Стрелецкий десятник решительно подступил к карете, но тут дверца ее отворилась, и из кареты выглянул думный дьяк Посольского приказа Афанасий Власьев. Приветливое обычно, гладкое, холеное лицо его было возбуждено, глаза под красными от бессонницы веками злы. Широко разевая рот, что было на него вовсе не похоже, дьяк крикнул:
— Повелением царским медиум из Риги доставлен!
Взмахнул раздраженно рукой: кто-де смеет дорогу загораживать?
Стрелецкий десятник, никак не ждавший грозного окрика, остановился.
Дьяк уставился на него.
Десятник мгновение молчал и вдруг, распалясь не то от этого крика, не то от чрезмерного служебного рвения, налился гневной краской и голосом негромким, но твердым сказал, глядя в глаза дьяку:
— Чего орешь? Велено все кареты осматривать. Медиум… Какой такой медиум? Ишь ты… — И подступил вплотную. Потянул на себя дверку.
Теперь пришел черед изумиться думному. Сильной рукой распахнув дверцу настежь, десятник сунул здоровенную башку внутрь кареты. На него пахнуло непривычным мускусным духом, и, недовольно морща нос и щурясь, стрелец разглядел завалившегося на спинку глубокого сиденья, укутанного в нерусский, складчатый, непомерно широкий плащ темноликого человека. Тот глянул на него прозрачными, до странного неподвижными глазами. И этот взгляд, словно упершаяся в грудь рука, разом остановил десятника и охладил его гнев. Стрелец перевел сбившееся вдруг дыхание и неуклюже, тесня плечами Власьева, подался назад из кареты.
— Так, — сказал с невольно выказываемым удивлением, — ну-ну, медиум…
Перед стрельцом все еще стояло темное лицо и на нем два неподвижных глаза, как провалы в неведомое. Власьев уже без крика пояснил:
— Велено доставить в царские покои. Поднимите решетку.
Колом торчавшая борода его легла на грудь. На губах обозначилась улыбка. Успокоился думный.
Десятник отступил от кареты. Воротная решетка с режущим слух скрипом медленно поползла кверху. Карета вкатилась под своды башни. Стрелецкий десятник, являя всем видом озабоченность и недоумение, смотрел и смотрел ей вслед. Да, ныне на Москве фигура эта — недоумения и озабоченности, — почитай, свойственна была не только десятнику, стоявшему со стрелецким нарядом у кремлевских ворот, но и многим иным выше его. Разговоры в эти дни были разные, а еще больше было молчания, которое красноречивее слов. Так-то двое, поглядев друг на друга, покашляют в кулаки, и непокой, тревога, неуютность сильнее прежнего войдут в души обоих. В глазах, в дышащих вопросом зрачках одно: «О чем говорить? Ан не видишь, сам враскорячку…» И в другой раз мужики покашляют: «Кхе, кхе…»
Причины волнениям тем были. Ох были…
Стрелецкий десятник поправил кушак, крикнул на верх башни, чтобы опустили за каретой решетку. Увидев, как блеснули, выходя из-за карниза, кованые ее острия, сопнул носом, собрал ноги, расставленные циркулем, и, положив руку на бороду, отступил с проезжей дороги в тень стены. В глазах было прежнее недоумение.
Думный дьяк Афанасий Власьев, небывало сорвавшись у кремлевских ворот на крик, сейчас молчал и только плотнее сжимал и без того узкие, почитай, и вовсе не существующие на лице, бесцветные губы. Карета, миновав въездную площадь, уже катила мимо подворья Симонова монастыря, хрустя по желтому с ракушечником песку, которым со времени царствования Федора Иоанновича засыпали кремлевские улицы, дабы, как сказано было в царском указе, «приветчиво глазу сталось». Однако дьяку в сей миг было не до лепоты кремлевских улиц, хотя они и вправду бодрили и радовали глаз.
Две недели назад Афанасия Власьева вызвали в верхние палаты. Он поспешил на зов, соображая, на что вдруг потребовался. В царских палатах дьяк был не в первый раз. Многажды и до того призывали его наверх. Такая у него была служба — Посольский приказ. А этот приказ других царю ближе. Власьев вошел и склонился в поклоне, но еще до того, как глаза опустил, успел оглядеть царевы палаты. Взгляд охватил и оставил в памяти сидящего, опершись на руку, царя Бориса; горящие свечи в тяжелых подсвечниках; привычно стоящего по левую руку царева кресла боярина Семена Никитича; ковер с необыкновенно вытканными по алому полю зелеными травами. И память подтвердила: все, как и прежде, — но въедливое сознание, неведомым образом перебрав знакомые приметы, вдруг подсказало: «Ан не все по-прежнему. Есть и иное». И вроде бы даже явственный голос шепнул на ухо посольскому: «Есть, есть иное». Но Афанасий Власьев головы не поднял: научен был не являть любопытство, где не должно.
Мягкие сапожки царя с изукрашенными передками и точеными каблуками тонули в высоком ворсе ковра. Дьяк приметил: носок одного сапожка приподнимается и пристукивает неслышно. Власьев молчал, склонив голову. Ждал. У дьяка — а ждать приучен был и умел — в груди нехорошо стало, словно в предчувствии недоброго.
Царь, промедлив много больше обычного, сказал:
— Слухом пользуюсь что в Риге объявился медиум, который по расположению небесных тел и иным приметам чудесным образом угадывает будущее.
Афанасий Власьев, ловя царевы слова, не отводил глаз от неслышно пристукивающего носка затейливо изукрашенного сапожка. А мысли дьяка, будто стремительная вода, натолкнувшаяся на камень, бугрились, вскипали, ударялись в одно, все в одно и то же: что иное, отличное от прежнего, явилось в царевых покоях? Многодумен был Афанасий Власьев и опытен — вперед заглядывал.
— Так вот, — сказал царь Борис, — повелеваю, отложив дела, немедленно отправиться тебе в Ригу и медиума того, не мешкая, в Москву доставить.
И тут камень, преграждавший течение мыслей дьяка, рухнул. «Какие слухи? — подумал он. — Какие гадания? Да точно ли я разобрал слова царские?»
Но царь Борис повторил, уже с раздражением:
— Часа не медли! Спешно, в Ригу…
Перед Афанасием Власьевым словно бы окно растворилось, и он увидел то, что и минуту назад не мог разглядеть.
По службе в Посольском приказе, как немногие иные на Москве, Афанасий Власьев знал, что ныне на южных рубежах державных стоит войско мнимого царевича Дмитрия. Знал, сколько сил накоплено Григорием Отрепьевым, кто дал на войско золото самозванцу, и больше того ведомы были дьяку сроки, намеченные мнимым царевичем для перехода российских рубежей. Да и не только это знал Афанасий Власьев. Многажды бывал дьяк с посольскими делами в землях Речи Посполитой, бывал и на южных украйнах российских и видел, и думал не раз, что здесь только искре упасть — и поднимется весь край в дыму и огне смуты. Годами на южных пределах российских скапливался воровской, беглый, шатающийся меж дворов люд, и было племя то — дикое, неуемное, не верящее ни в бога ни в черта, — как сухой хворост, что, вспыхнув, займется неудержимым палом. О таком страшно было и мыслить.
И вот теперь к опасной черте южных российских пределов поднесли пылающий фитиль. «В Ригу», «слух», «медиум», «не мешкая»… Слова эти, словно подхваченные эхом, дважды и трижды прозвучали в сознании Афанасия Власьева. «До слухов ли ныне, — подумал дьяк, — до гаданий ли?» И тут только окончательно понял, что всколыхнуло и обеспокоило его сознание, когда он вступил в царские палаты. Да, все было по-прежнему: и царь в кресле, и дядька его Семен Никитич подле царева места, и древние, по преданию, вывезенные из Царьграда, кованные из серебра подсвечники, — ан было и иное. И это иное разгадал и приметил верткий, пытливый, изощренный мозг посольского. Вот и глаз он не поднял, а увидел: может, и невидимая прочим, но объявившаяся дьяку легла на все, что было здесь, и даже пропитала самый воздух тревога, ожидание опасного и боязнь его. И носок царского сапожка, плясавший на высоком ворсе ковра, и голос царя с неожиданно явившимися трепетными нотками, и настороженные, с прищуром всматривающиеся глаза царева дядьки выказывали — здесь ждут, и ждут с опаской, следующей минуты, да еще и не знают, что принесет будущая эта минута.
Афанасий Власьев поклонился и вышел. Спускаясь по ступеням дворца и шагая через Соборную площадь к приказу, дьяк, верный привычке додумывать родившуюся мысль до конца, обмозговал примеченное в царевых палатах. И хотя поспешал веление царское исполнить, ан скривил блеклые губы. «Нет покоя на Москве, — подумал, — так нет же покоя и в высоких палатах». И другое ему в ум вошло: «Не бывает, видать, так, чтобы внизу сопли на кулак мотали, а вверху плясали. И наоборот. А коли и случается такое, то пляске той недолго быть». Однако и в мыслях душой покривил. Много, много знал дьяк да и сам руку приложил к тому, что Москву расколыхало. Но молчал. Петлял, словно заяц. Боялся? А что ж не бояться? В таком разе многие и сильнее душой пугались.
В тот же день думный дьяк Посольского приказа Афанасий Власьев погнал коней в Ригу.
Вот так, и не иначе. Опасное, опасное сгущалось над Москвой, пригибало головы людям, и не тот, так иной уже слышал: «Подождите, подождите… Будут пироги со всячиной, что, откусив, не прожуешь».
Афанасий Власьев с нелегкой этой думой и собирался в поход да с тем же и уехал. И все глядел в оконце кареты да морщил кожу у глаз.
Ныне с гудящей от усталости головой возвратился он из дальней поездки. За весь долгий путь и часа спокойного не было, ну да такое посольскому было привычно.
Медиум, крепкий, на голову выше дьяка, осанистый мужик с удивительными, казалось, заглядывающими в саму душу глазами, что-то пробормотал недовольное, кутаясь в плащ. Власьев, не отвечая, думал о своем.
Карета въехала на задний царский двор и, хрустя по песку, остановилась подле церкви Екатерины. Власьев, глянув на медиума — у того тонкие, костлявые пальцы на груди придерживали края плаща, — вылез из кареты. У дверей притвора, кланяясь, стоял церковный попишка. Поглядывал с боязнью: знал, кого привезет дьяк, и, видать, шибко опасался.
Власьев оборотился к карете, сказал по-славянски, смягчая жесткие немецкие слова:
— Прошу, господин. Здесь остановимся.
Немец, заслоняя узкую дверку, весь в черном и в черной же шляпе, вышагнул из кареты. Попишка церкви Екатерины еще больше голову в плечи вобрал: вовсе забоялся. И то было понятно: уж больно необычный гость объявился на церковном дворе. Может, такого и не было здесь никогда.
По лепному карнизу церкви похаживали сизые голуби, раздували зобы, ворковали. Немец глянул на голубей и, согнувшись, ступил через порог притвора. Высокая его шляпа коснулась низкой притолоки.
Над Москвой только что пролился дождь — летний, спорый, хлынувший да разом же и иссякший, — и задний царский двор и тут и там заблестел нахлестанными вмиг лужами. В зыбкой их ряби отражались стены царева дворца, маковки церкви Екатерины, затейливые купола царицыной дворцовой половины. И стены дворца, и кресты православные, и цветные купола царицыной половины недобро колыхались в зеркале луж, покачивались, колебались, словно мираж неверный.
Не прошло и четверти часа, как, обиходив гостя, думный дьяк Власьев открыл дверь притвора и зашагал к царскому дворцу. Лицо думного было хмуро.
На царском крыльце его встретил боярин Семен Никитич и даже не спросил о Борисовом поручении, но только лицом потянулся.
— Все, как велено, все, как велено, — торопливо выдохнул Власьев, — только что подъехали…
Семен Никитич повернулся и, минуя расступившихся мушкетеров караула, вошел во дворец. Власьев заторопился следом.
Войдя в палаты и словно обретя под крепкими их сводами твердость, царев дядька указал дьяку на лавку, спросил:
— Что надобно для гадания?
Власьев тут же ответил, как заранее обдуманное:
— Сей медиум не гадает, но предсказывает по известным ему приметам и знакам.
Семен Никитич морщинами собрал лоб.
— И к разговору с царем готов, — торопясь, закончил думный и сомкнул губы.
Царев дядька, словно ожидая еще каких-то слов, мгновение смотрел на него, шаря глазами по лицу, но, ничего не дождавшись, отвернулся, и тогда в углах узких губ Афанасия Власьева что-то изменилось, сдвинулось, заколебалось. Но Семен Никитич перемены той не увидел.
За окном дворца потемнело, и дождевые капли тяжело защелкали в свинцовые листы, выстилавшие оконные отливы. Били, стучали, будто торопя кого-то.
В тот же вечер медиума тайным переходом проводили в царские палаты. Кремль спал, и лишь редкие огоньки виднелись в оконцах тут и там да светили кое-где негасимые лампады у надворотных икон. Туман с заречных лугов тек по кремлевским улицам. В лунном свете мерцали золотом кресты церквей и соборов. Воздух был холоден и влажен.
Медиум попросил три свечи и, поставив их на стол, сел так, что колеблющееся пламя отделило его от царя Бориса, боярина Семена Никитича и думного дьяка Власьева. Крупная голова медиума, крутые плечи, укутанные в ткань плаща, четко рисовались на фоне затененного ночной чернотой окна. Царь ждал.
Медиум молчал и минуту, и другую, и третью. Царь Борис почувствовал, как волнение входит в него. Медиум по-прежнему молчал. Невольно, подчиняясь тревожному чувству, царь Борис, сжав подлокотники кресла, подался вперед, разглядывая высвеченное пламенем свечей лицо необычного гостя. Мясистое, с тяжелыми надбровьями, глубокими, словно резанными злым ножом, морщинами, ниспадавшими от крыльев носа, оно одновременно и раздражало Бориса и притягивало к себе. Так разверзшаяся бездна под ногами пугает и манит остановившегося перед ней человека. «Стой! Стой!» — кричит живое в нем, но другой голос тут же толкает: «Ступи, ступи еще шаг и познаешь неведомое!»
Медиум все молчал.
Борис разглядел низкий, покатый его лоб, от которого веяло недоброй силой, опущенные припухшие веки. И вдруг они дрогнули и начали подниматься. Медленно-медленно, как ежели бы преодолевали огромную тяжесть. В какое-то мгновение веки медиума, показалось царю Борису, словно ослабнув в борении, замерли, и царь услышал, как передохнул, будто всхлипнул, Семен Никитич. Власьев переступил с ноги на ногу. Велико было напряжение, овладевшее всеми в царевой палате. Так и не открыв глаз, с полуопущенными веками, медиум начал говорить. Власьев поспешил с переводом.
Голос медиума был резок, слова вырывались из чуть приоткрытых губ с поражавшим слух свистом.
— Он говорит, — начал дьяк, — о звездах, объявившихся над российской землей. Говорит и о том, что всю дорогу сюда, в Москву, следил за звездным небом и звезды пугают его. Сии знамения вещи. Указующий их перст направлен в сердце державы российской.
Царь Борис слушал, не отводя глаз от медиума. По лицу ночного гостя пробегали странные судороги, но, может быть, это колеблющийся свет свечей изменял его черты?
— Он говорит… — начал дьяк и вдруг запнулся.
Борис искоса глянул на Власьева и угадал, что тот не то сильно поражен услышанным, не то затруднился с подыскиванием нужных слов.
— Ну, ну, — поторопил царь, до боли в пальцах сжимая подлокотники кресла.
Дьяк кашлянул и не без растерянности продолжил:
— Он говорит, на южных пределах российских видит черную тучу, что грозит не только русским дальним землям, но и самой Москве… Видит поднятые сабли, разъяренные лица, конницу, идущую стеной… И среди прочих, что угрожают российским пределам, видит особо опасное лицо. Оно дерзко, оно изломано злой улыбкой…
Это гадание, вовсе не похожее на вещания волхвов, было, скорее, доносом человека, до мелочей осведомленного о происходящем на державных границах. Медиум из Риги не только сказал о польском воинстве, готовящемся к походу на Москву, но и сообщил о спешащих ему на помощь казаках из степей. И даже сказал, что нет им числа, так как он видит все больше и больше всадников, скачущих по пыльным шляхам. И вдруг, вскинув руку и распахнув глаза, воскликнул:
— И дальше вижу, скачут они по степи, и вот еще, и еще! Они все сломят, все сожгут, истопчут на своем пути. Нет от них спасения! Бойся этого, царь Борис! Бойся!
Однако медиум не сказал главного.
За месяц до выезда в Москву ночного гостя царя Бориса посетил в Риге видный служитель ордена иезуитов. Медиум был известен в городе как знаток лекарственных трав и составитель гороскопов; горожане кланялись ему не без почтения и скрытой робости перед его таинственными знаниями, но все же посещение служителя могущественнейшего ордена было для медиума событием заметным и даже больше: как ничто иное, возвышало его в глазах славной Риги. Здесь хорошо знали: тот, кто дружбу водит со служителями грозного ордена Игнатия Лойолы, близко стоит и к власть предержащим. Такому и рыцарь, и чванливый барон поклонятся. Рига эдакий сладкий пирог у моря! И кто только не открывал на нее рта! Жители Риги многое видели и знали многое.
Приметная карета простояла у дверей дома медиума близ церкви Иоанна три четверти часа. Это означало, что орден три четверти часа времени одного из своих сыновей отдал медиуму, а братья иезуиты попусту минуты не тратили. Было чему изумиться добрым соседям медиума. Но все же больше иных изумился необычному визитеру сам хозяин дома у церкви Иоанна. Служитель ордена не вел разговоров о чудодейственных свойствах трав, их способности врачевать безнадежные недуги или о сложностях составления гороскопов, раскрывающих необычайные тайны. Нет… Его интересовало другое.
У служителя ордена были тонкие, сухие пальцы, свидетельствующие о немощи тела, и жесткие кустистые брови, с очевидностью говорящие о твердости и силе характера. Он был последователен в том, что говорил, и было ясно — он добьется своего, чего бы это ни стоило.
— Через месяц, а может, чуть больше, — сказал он со значением, будто минуты вечности, пропустив меж пальцев крупные зерна четок, — в двери дома сего постучится гость из Москвы и попросит о гадании для московского царя Бориса.
Хозяин дома у церкви Иоанна от удивления поднял брови.
— Да, да, — подтвердил служитель ордена, — московского царя Бориса. И должно царю Борису в гадании том сообщить о тех страшных испытаниях, кои предстоят ему.
Хозяин дома от неожиданности с натугой кашлянул, прочищая горло.
Гость, по-своему истолковав это, утопил руку в складках плаща и выложил перед окончательно растерявшимся гадателем немалый кошель, недвусмысленно звякнувший металлом.
— Святая церковь не забудет об оказанной услуге. А это, — он указал на кошель, — лишь толика нашей благодарности.
Он наклонился и, приблизив лицо к хозяину дома, неторопливо и подробно обсказал, что именно должен тот сообщить московскому царю в своем гадании. У медиума, хотя он повидал немало и всякого, похолодели руки.
— Сие, — сказал служитель ордена, — повеление главного лица.
В голосе его объявилась жесткая нота.
Главным лицом был папский нунций Рангони.
Служитель ордена говорил так напористо и с такой убеждающей силой, будто за ним стояла великая правда, но не было правды, напротив, был преднамеренный обман, продуманный, выверенный изворотливым умом как раз того главного лица, о котором гость упомянул из желания подтвердить истинность своих слов.
Рангони, всегда считая, что злая ложь сильнее открыто обнаженного меча, решил — прежде чем ступит на российскую землю копыто коня Григория Отрепьева — породить в Борисовом окружении, да и в сознании самого царя Бориса, неверие, шатание, страх. Рангони верил, что молоток лжи разваливает крепостные ворота вернее стенобитных машин. Примеров тому было множество. И вот тогда-то и было задумано это гадание. Известными только папскому нунцию путями через польские и российские рубежи в Москву дошла весть о необычайных способностях медиума из Риги предсказывать будущее, и известные же только Рангони люди донесли это до слуха царя Бориса. И вот медиум сидел перед царем. Распахнутые его глаза были чисты, как родниковая вода. Они взглядывали с неподдельной открытостью, как глаза младенца. Им невозможно было не верить.
— И дальние и ближние, — говорил он Борису, — предадут тебя, царь, и ты страшись того.
Папский нунций знал, как направить разговор в царских палатах. Истинное и ложное были точно соразмерены в рассказе медиума. Да, войска стояли у рубежей российских — это мог проверить Борис и убедиться в справедливости слов медиума. Да, казаки притекали на подмогу мнимому царевичу, и о том были вести у царя. Да, зло и глумливо взглядывал через российские рубежи мнимый царевич, но вот измены и предательства могли лишь ожидать Бориса. Неверие, шатание, смута еще должны были прорасти злым цветом, но, коль в гадании очевидным было первое, верным становилось и второе. Слова медиума должны были ударить в сердце Бориса, как нож свинобоя: неотразимо, рассчитанно, точно. И медиум достиг своего.
Борис откинулся в кресле и надолго остановил взгляд на лице Власьева. Веко у царя судорожно подергивалось.
Медиум еще что-то говорил, вздымая руки и колебля пламя свечей, но царь не вслушивался в его слова, как не вслушивался и в слова дьяка. Он видел, как шевелились его губы, но смысл слов не доходил до Бориса. Да царя больше не интересовали эти слова. А веко Борисово все подрагивало и подергивалось, как крыло раненой птицы.
Лица Власьева было почти не видно — он стоял в тени, — но все же царю достало света разглядеть его черты. Борис увидел и понял, как напряжен дьяк, как вдумывается в каждое произносимое слово, волнуется и боится своих слов. «А отчего бы боязнь такая? — подумал Борис. — Отчего волнение?» Власьев, углом глаза перехватив внимательный взгляд царя, вовсе сбился и замолчал. Растерянность мелькнула на его лице. Царь тут же встал с кресла и порывисто шагнул за свет свечей к окну. Повернулся и увидел три лица, обращенных к нему. И одно было в них — смятение. «Вот как, — подумал Борис, — вот, значит, как…» И с очевидностью ему стали понятны и ложность гадания, и дороги, коими оно пришло к нему. Давнее воспоминание встало в царевой памяти.
Много лет назад, будучи окольничим при царе Иване Васильевиче, во время охоты Борис нечаянно развалил близ царева шатра гнилой пень и увидел среди трухлявой гнили белые кожистые клубки. «Гадючье гнездо разворошил, — сказал Иван Васильевич и добавил, мгновение помедлив: — Теперь топчи! — Повторил властно: — Топчи!» Повинуясь цареву слову, окольничий Борис ударил каблуком в белые клубки. Размозжил их, размазал по гнили. «Все, — сказал Иван Васильевич, — теперь иди спать. Иди». И рукой за плечо тронул.
Ночью окольничий Борис проснулся от жгуче ожегшего холода. Вскинулся и в свете неверного пламени свечи увидел: черной полосой по постели метнулось тело змеи. Промедли он мгновение, и гадюка, пришедшая на сохранившийся на сапогах запах раздавленных яиц, впилась бы в него.
На рассвете Иван Васильевич, как до того никогда не бывало, заглянул в шатер окольничего. И Борис, увидев странную улыбку на его лице, понял: царь знал, что гадюка придет на запах разоренного гнезда. «Ну-ну, — сказал Иван Васильевич, вглядываясь в поднявшегося навстречу окольничего, — ну-ну… Живой…»
И много было в том слове. Ох много…
Пламя свечей трепетало, тени бежали по стенам. Три лица были обращены к царю Борису, три пары глаз вглядывались в него, и, поочередно взглянув в каждое лицо, он подумал: «Один я, вовсе один!» И в другой раз, как в ту памятную ночь в царевом охотничьем стане, почувствовал, как что-то жгуче-холодное ожгло ему спину.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Глава первая
День разгорался как сырое полено. Но высветилась соломенная крыша хаты, обозначилась замшелая хребтина амбара, и из предутренней мглы несмело высунулся корявый, кривой палец колодезного журавля. Сыро было, промозгло, и в тишине падали тяжелые капли. Тук! И смолкнут. Опять: тук! И затихнут. Темно. Глухо. Тупо. Вдруг за едва различимой огорожей ударил перепел: «Пить-пить! Пить-пить!» Как живым дохнуло. От этого голоска день вроде бы приободрился и небо пролило на землю столько света, что увиделся весь двор.
Божья благодать — рассвет. Ан в этом разе, наверное, лучше бы не выказывать солнышку из темени ночной то, что видеть и ему, красному, и людям нехорошо. Ну да об том не след судить человеку.
Посреди двора, в арбе, на соломе, широко раскинув руки, разметав ноги в нестерпимо красных, измазанных дегтем, шароварах, лежал казак. На голове мерлушковая богатая папаха, надвинутая на пол-лица, на руке, на сыромятном ремешке, плеть. И по тому, как грузно он лежит, как сдвинулась на глаза сизая с подпалинами папаха, как затекла до синевы, опухла охваченная сыромятной петлей рука с плетью, сказать можно было с первого взгляда: пьян казачина, и пьян тяжко. Грудь казака вздымалась толчками, и дыхание рвалось из-под обсосанных усов с хриплым стоном. Заплеванная борода торчала косым клином.
«Ну и что, — скажет иной, — невидаль — пьяный казак? Да племя это, почитай, трезвым не бывает. Вот диво из див — коли казак, да не пьян».
Что ж, оно так. Да только от казака в арбе не сивухой единой попахивало, но разбоем.
День разгорался. И в голове арбы объявились наваленные без ума и приязни, горой, пестрые тряпки, ковры. Посвечивали, видать оборванные с иконы, бармы хорошего металла. Тарелки и блюда тоже из металла, и, знать, не в лавке у купца за честные деньги взятые. Иная домашняя утварь. И горшок, и ухват, бочонок для соления — все, что попало под пьяную руку и углядели глаза, для которых чужое, будь малостью пустяковой, непременно должно быть сцапано и запихано в мешок.
Да не одно это разбоем дышало.
Под колесами арбы, и тут и там, по двору желтело рассыпанное, каблуками втолченное в навоз, в осеннюю грязь жито. Хорошее жито, зерно к зерну, из того, что хозяин себе, в куске хлеба отказывая, оставляет на весну, на посев, держа надежду на добрый урожай. А тут на тебе — в грязь его, под каблуки. Беда-а-а… В распахнутых настежь дверях амбара тоже жито. Выше порога. Знать, отсюда волокли и сыпали, как никогда не рассыплет тот, кто землю под него пахал, жал в поте лица, молотил, вздымая тяжкий цеп, на плечах таскал в тугих кулях да и схоронил в амбаре до весны. Здесь умельцы были, что не сеют, не жнут, а чужой кусок кладут в рот. И эти же, знать, умельцы пробили бычьи пузыри в окнах хаты, дверь сорвали, висевшую теперь косо, страшно, будто говоря: «Что же вы, люди? Аль креста на вас нет?»
Небо разъяснилось больше, и за огорожей объявился соседний двор. Но туда и вовсе заглядывать не хотелось. Черными, обгорелыми стропилами обозначился амбар, припавшая на угол хата… Только и оставалось перекреститься да попросить у господа за грехи людские: «Прости, ибо не ведают, что творят».
Небо высвечивалось ярче и ярче, и объявился взгляду весь Монастыревский острог — российская крепостца близ польских рубежей. Невысокая, из бревен стена, церковь Всех Святых, воеводский в два света дом и избы, избы, мазаные хаты под соломой. Небогатый городок, однако все же российская прирубежная застава. Над избами острога не поднимался дым, как это должно на рассвете. Знать, хозяйки не спешили ставить хлеба. Не до того было. Хмурое-хмурое вставало утро, без праздничной зари у горизонта, что радует глаз в ранний час, дабы придать человеку силы на весь предстоящий день. Худо начинался день. Ох, худо…
Воевода Монастыревского острога был заперт в подклети своего же воеводского дома. Руки у него завернуты за спину и крепко окручены веревкой. И хотя веревка до боли врезалась в тело, мысли его были не о том. Воевода, правду сказать, был не из бойких. Еще при царе Федоре Иоанновиче жаловали его в стольника, и то было великой честью. Однако честь честью, а кормиться с чего? За стольником числились две деревеньки, но деревеньки плохонькие. Половина мужиков в бегах, а остальные лебедой пробивались до весны. Крепких дворов, почитай, не было. Какое там — помещика кормить! При царе Борисе от великой скудости просил стольник кормления для направить его куда ни есть в воеводы. Просил слезно и сам, просила и родня многочисленная. Его посадили на Монастыревский острог.
Со стоном воевода повернулся на бок. Он, как втолкнули в камору, упал вниз лицом да так и лежал. Уж больно горько было, обидно, да и оробел.
— У-у-у… — выползло из разбитого рта. — У-у-у…
В каморе оказался воевода так.
Накануне прикатил к Монастыревскому острогу купчишка из местных, не задерживаясь в воротах, оттолкнул загородившего дорогу стрельца и погнал тележку к воеводскому дому.
— Эй! Эй! Дядя! — крикнул было вслед стрелец, но из-под колес тележки только пыль взметнулась.
В улицах на тележку оглядывались: что-де, мол, так спешно? Но купчишка нахлестывал со всей руки одетого в пену коня и по сторонам не смотрел.
Воевода к тому часу проснулся, но еще не вставал. Монастыревский острог — не Москва, можно было себя и понежить. Воевода, как сытый кот, щурился из-под перины на солнышко в окне. И вдруг шум в доме случился. Голоса громкие раздались. «С чего бы это? — подумал воевода. — Ишь раскричались». Он недовольно собрал жирные складки на лбу. На местных-то харчах отъелся. Гладкий был. Полюбился ему хохляцкий хлебосольный стол. Едва глаза разлепив, подумывал: «С чего бы начать: то ли с вареников в сметане, а может, с гуся жареного и непременно с гречневой кашей и добрыми грибами? Поросенок молочный с хреном тоже хорош, — прикидывал. — Или попробовать сомовины жирной?» А голоса за дверью все громче раздавались. Чуть ли не в крик уже. «Кого там разбирает? — ворохнулась ленивая мысль у воеводы. — Пугнуть, что ли?»
Кряхтя, воевода поднялся с постели, накинул домашний тулупчик беличий. Любил мягонькое, дабы тело не тревожило. Набычился лицом и вышел из горницы. Навстречу ему бросился купчишка, которого дворня не допускала беспокоить спящего барина. У купчишки зубы стучали, а глаза, казалось, из орбит выпрыгнут. Он шагнул к воеводе, выдохнул:
— Казачье войско в пяти верстах. Идут на острог!
У воеводы не от слов, которые он услышал да не сразу уразумел, но от страха, написанного на лице у купчишки, мелко-мелко задрожало в груди и пошло к низу живота холодной, ледяной волной. Он вскинул пухлые руки к лицу, как ежели бы заслонялся от чего. Глаза воеводы испуганно расширились. В голове все еще вертелось: «Вареники… вареники… Гусь с кашей… Сомовина…» И вдруг понял он — кончилось сладкое житье, пришла беда.
О том, что на рубежах неспокойно, знали. Знали и то, что на польской стороне войско разбойное собирает объявившийся вдруг царевич Дмитрий. Разговоров всяких было много. Говорили так: вор — мнимый царевич, тать. О том из Москвы писали, но слышал воевода и тайные шепоты: мол-де, придет царевич и рассчитается за мужиков с боярами, с самим царем Борисом, что отнял у них Юрьев день — день свободного выхода от помещика. Тех, кто так говорил, строго велено было Москвой хватать и, заковав в железа, доставлять в белокаменную за крепким караулом. И хватали. В Монастыревском остроге — слава господу! — крикунов дерзких не случилось, но воевода ведал, что среди стрельцов есть шептуны. Боязно было, конечно, слышать те разговоры, опасался воевода, ан надежду имел: беда обойдет. Известно, русский человек мечтаниями живет: авось да небось… И вот на тебе: войско в пяти верстах. Воевода сомлел. Рот у него раскрылся, и он стал хватать воздух трясущимися губами: ап! Ап! Купчишка, на что сам был напуган, изумился такому и, обхватив воеводу за плечи, начал дуть ему в лицо, тормошить, приговаривая:
— Батюшка! Батюшка! Что с тобой? Опомнись!
Дворня стояла вокруг, в стороны руки раскинув. У баб глаза круглились.
Невесть с чего все обошлось. Бывает и так. Человек-то странен до необыкновенного. Воевода рот прикрыл, трясение членов у него прекратилось, и он даже с бодростью вышел к собравшимся у воеводского дома стрельцам. На крыльце, правда, его шатнуло, но он поправился и довольно внятно крикнул:
— Стрельцы! Ворог у крепости! Послужим батюшке царю!
Хотел было еще что-то сказать, но, знать, сил на большее не хватило. Оперся рукой о стену.
Стрельцы промолчали. Но воевода на то внимания не обратил. А зря. Кормления для посажен был на острог и о том только дума у него была, как у большинства российских начальников, сидящих на больших и малых городах. Служить не умел, да и не учен был тому.
По крепости сказали: «Садимся в осаду!» Ободрившийся воевода опоясался широким поясом с саблей и пошел по стенам, расставляя стрельцов.
На воротной башне воевода задержался.
Дул пронзительный ветер. Вот-вот с серого, затянутого тучами неба готов был сорваться дождь. Воевода взглядом прошелся по дороге, выбегавшей из-под башни. Дорога, изрезанная на ломти колеями, уходила в поля. Терялась в поднимавшемся у горизонта перелеске. Воеводе стало зябко, рыхлое лицо обтянулось, у рта проступили горькие морщины: от перелеска должна была прийти опасность. И вдруг вспомнил Москву, и тяжкий гул колоколов первопрестольной почудился ему. Увиделось: Кремль, площадь перед царевым дворцом, заполненная народом. В мыслях встало — царь Федор Иоаннович на смертном одре, выход в Новодевичьем монастыре к московским людям царя Бориса… И людские голоса, голоса, лица, бабы, мужики, девки, мальчонка какой-то вспомнился в заячьем треухе, и впереди всех патриарх Иов с посохом в старческой дряхлой руке… И вроде бы молитву запели — древнюю молитву, хватающую строгими словами и странной мелодией за самую душу… Пальцы воеводы вцепились в щелястый брус стены так, что под ногтями побелело. Не великого ума был дворянин, ленив, нелюбознателен, ан вошла в него прежде не испытываемая тревога — не за себя только, но за державу, так как уразумел воевода, что из-за перелеска не ему грозят, но России лютыми годами. И оробел еще больше. Тут вспомнилось: «Промолчали стрельцы-то, как я о вороге говорил, промолчали…» Он начал оглядываться. Стрельцы горбились, головы опускали, отворачивали глаза. Да и в острожских жителях приметил вдруг воевода незнакомую раньше угрюмость. То бабы были бойкие, крикливые, с румянцем задорным в лице. А в сей миг сникли. Платками до бровей закутались, плечи опустили. И мужики туда же: губы прикусаны, в лицах серое. «А ходят-то, ходят как, — подумал воевода, — ноги словно перебитые. Ослабели? От чего? Вон двое ухватили бревно, а оно вроде бы к земле примерзло». И голову сам нагнул.
Мужики и вправду были здесь балованные. Прижмут такого, а он — фить! В степь — воровать. Вольные земли рядом. Рукой подать. «Что делать-то? — забилось в сознании воеводы. — Подлый народ, воровства ждать надо непременно. Воровства… Что делать?..» Так и метался он в мыслях, пока не явились перед крепостью казаки. Видя, как те пляшут на конях у стен, воевода выхватил саблю и собрался было вновь призвать стрельцов — послужим-де царю, — но на него кто-то накинул сзади веревку и крикнул:
— Вяжи его, братцы! Вяжи!
Воеводу свалили и начали охаживать пинками.
Вот так: в осаде-то острогу и часа не случилось быть. Какой там часа? С воеводой управились, а в другую минуту воровские руки, торопясь, открыли ворота.
Давно примечено в русском человеке, что для него всегда царь плохой, да и вся власть негодна. Земля хороша, плоды на ней разные произрастают, реками Россия не обижена, рыбы в водах жирные есть, скот на лугах выгуливается добрый, птица с пером, с яйцом на диво; и богатеть бы русскому мужику, жить в удовольствие, но разговор один: царь с властями мешают. И обязательно услышишь: а он сам-то, мужик, все умеет — вспашет, посеет, сожнет и к тому делу всякие приспособления придумает и сработает. Руки золотые! Спору нет — она, власть, конечно, не мед, да только и так можно сказать: да хорош ли мужик? Но нет, редко кто на Руси рот откроет — я не гож! Гордыня глотку перехватывает. При крайности согласится — да, сосед мой, тот ленив. Но чтобы себя пальцем в грудь ткнуть — такого не бывает. А скорее, даже не сосед, а царь. Тот уж непременно из самых что ни есть последних.
Оттого и на воеводу кинулись, окрутили веревкой — да старались потуже узлами затягивать, позлее. У бедняги губы отвисли, щеки мотались. Он таращил блеклые глаза да охал. Вот и спеленали его. А что будет через час — ни стрельцам, ни острожским жителям не пришло взять в голову. Воевода провякал было: пожалеете, да поздно будет. Но его мужик с кривым глазом только зло пнул в бок.
— Молчи, — оскалился, — молчи!
Воевода поник головой.
Казаки вошли в крепость на сытых конях. Веселые. Как иначе: острог без боя взяли. И катила казачья вольница волна за волной. С конских копыт летели ошметья грязи. Вот тут-то, глядя на такое казачье многолюдство, острожские жители, да и стрельцы за шапки взялись: «Ого, дядя, с этими орлами не забалуешь». А еще и по-другому не тот, так другой подумал: «Тряхнут они острог, тряхнут… Пыль пойдет… Со стен-то с ними лучше было разговаривать…»
Однако думать об том было поздно.
Строй казаков, оружие и иная справа говорили — это не ватажка степная, а войско, сбитое накрепко, всерьез. Вот так! Подумай… Но русский мужик, известно, задним умом крепок.
Впереди казачьего войска атаман. И хотя имя у него было Белешко, как стало известно острожскому люду, однако точнее сталось, ежели бы его Темным звали. Крепкая зашеина у атамана, неслабые плечи, опускающиеся покато, и неслабая рука, придерживающая коня.
К атаману подвели воеводу. Белешко глянул сверху, и ничто в лице атамана не изменилось, ни одна жесткая складка не двинулась, бровь не шелохнулась, но стоящие вокруг поняли — этот одно может сказать: «Повесить!» Иных слов у такого нет. Вот тут-то многим и подумалось: «Темен, ох, темен… Какого мы дурака сваляли, ворота открыв?.. Будет худо».
Атаманский жеребец — необыкновенно желтого цвета, с пролысиной во лбу, но хороших статей — переступил с ноги на ногу, и в тишине, повиснувшей над площадью, тонко-тонко звякнули стальные удила.
Воевода лежал серым мешком у копыт атаманова коня. Круглился живот воеводы, по-неживому торчали ноги в казанских сапогах. Смотреть на него было больно. Он, видать, уже был готов к смерти. Но воеводу не повесили. Известно стало, что не атаман Белешко жизнями людскими распоряжаться будет. Придет иной. Царевич Дмитрий. Он решит судьбу воеводы. И велено было запереть воеводу в камору. Стрельцам же и острожским жителям по домам расходиться и ждать царевича. Он свое царское слово скажет.
Атаман приподнялся на стременах, глянул на толпу, стоявшую разинув рты, и засмеялся. Многие рты закрыли, и в другой раз в головы вошло: «Темен атаман, ох, темен… Непременно быть беде».
Воеводу сволокли в подклеть и пошли прочь с площади, каждый хозяин к своему дому, но оказалось, что уже не они хозяева домам и пожиткам своим. В хатах иные владельцы объявились. Тут-то и началось веселое житье, сказалась казацкая натура, разгулялись души, привычные к вольной жизни. Птичье перо полетело над острогом, заверещали в предсмертной муке поросята, завыли бабы, и не одному мужику между глаз влетел крепкий казачий кулак, да то еще половина беды — кулак, могло быть и хуже. Страшным запахом сивухи потянуло на улицах острога. Смертью пахнет самогон. Смертью… Булькало жаркое варево в многоведерных чугунах, куда валили петуха и куру, шматы сала и бараний бок, ибо казаку все едино, абы только погуще да пожирнее было. Ночью в трех-четырех местах занялся огонь. Но ночь была без ветра, шел дождь, пожара большого не случилось. Крик, конечно, поднялся, на огонь побежал народ, и не без того, что потоптали иных. Гудели, гудели колокола. Пономарь церкви Всех Святых, выдирая руки из плечей, садил и садил двухпудовым языком в медь.
Но сейчас, ранним утром, тишина стояла над острогом. Ни единого голоса не услышал воевода. Он подполз к стене, привалился битым боком к крепким доскам. И застыл. Ждал. Сказано было: придет царевич, его слово все решит. «А что решит? — пришло в голову воеводы. — Все решено. Острог сдан, и его, воеводы, в том вина великая. Москва такого не прощает. Тати по российской земле гуляют… Тати… Что дальше?» Воевода застонал сквозь стиснутые до хруста зубы. И как тогда, когда смотрел со стены острога вдаль, на перелесок, в мыслях прошло: «Лютое время наступает… Лютое…» И он даже стонать перестал…
…О беде на западных рубежах российских Москва еще не ведала. Над белокаменной догорала осень. Падал желтый лист, и лужи после выпадавших ночами тихих дождей по утрам, под ясным небом, были до удивления сини.
Царь Борис в один из этих дней пожелал побывать в своем старом кремлевском дворце, о котором не вспоминал много лет. Сказал он о том вдруг.
Семен Никитич дыхание задержал, но, найдясь, заторопился:
— Государь, дорожки в саду не разметены небось… А?
Борис головы к нему не повернул.
Спешно, бегом, только каблуки в пол — бух! бух! бух! — Красное крыльцо покрыли ковром, разогнали приказной люд, что без дела по Соборной площади шлялся, как из-под земли вынырнув, застыли по дороге к Борисову двору мушкетеры.
Семен Никитич облегченно вздохнул — все устроилось. Радость его, однако, была преждевременной.
Царь Борис, сойдя с Красного крыльца, глянул на мушкетеров, торчащих черными болванами по площади, и поморщился. Недобрая морщина на лбу у него обозначилась. А ведомо было Семену Никитичу, что беспокоить царя не след. Оно и так радости и в Кремле, и в Москве, да и по всей российской земле недоставало. Радость?.. О том забыли и думать. Одно беспокойство, тревога, надсад.
Царь Борис поднял глаза на дядьку и, показав взглядом на мушкетеров, сказал, не размыкая губ:
— Убери.
И пошел через площадь мимо деревянной колоколенки древней, срубленной, как говорили, еще великим князем московским Иваном Васильевичем в честь присоединения к Москве Тверского великого княжества, мимо церквей Рождества Христова, Соловецких Чудотворцев к Борисову двору. Шел, руки за спину заложив, опустив голову и упираясь подбородком в шитый жемчугом воротник. Лицо у него было нехорошее. На празднике такие лица не бывают.
День был добр… Такой день, который от накопленной за лето силы, от неистребимой могучести земли дается в остатнюю теплую пору на радость людям, чтобы благодатное солнышко согрело человека, обласкало его, смягчило душу и он во вьюжное, злое зимнее время, вспоминая эту ласку, улыбнулся, обрывая с бороды льдистую намерзь.
Борис сделал шаг, другой, третий, и видно стало, что ногу ставит он, как царю не должно. Слишком тяжел был шаг. Так идут, когда на плечи давит груз неподъемный. Оно конечно, царь много несет на себе, однако известно, что людям ту ношу видеть не след. В царе надобно народу зреть силу, радость, по-бедительность, так как многое в жизни народа от царя зависит. Не все. Все то — богово. Но, однако, столько, чтобы людям сытыми быть и жить без страха.
У церкви Соловецких Чудотворцев царь Борис поднял взгляд на купола. Золоченые кресты и шапки куполов горели под солнцем, слепили глаза, но царь, словно не замечая этого, стоял и стоял, не отводя взора и думая о чем-то своем. Перекрестился. Но истовости не было ни в лице Бориса, ни в движении руки. Пальцы слабо коснулись лба, и рука опустилась.
Перед ним торопливо раскрыли ворота Царева-Борисова двора.
Семен Никитич неотступно шел следом за царем. Ему надо было многое сказать, но он выжидал удобную минуту. Робел. Из Курска прискакал гонец с тревожными вестями, из Смоленска сообщали недоброе. Да и здесь, в Москве, было куда уж хуже. Недобрые признаки объявлялись. Тучи наволакивались по всему небу над Русью, и он, Семен Никитич, об том ведал. Мужики шалили, казаки на границах волновались, на Волге тати разбивали царевы караваны… Семен Никитич чугунел лицом, зубы сцеплял. Сегодня ночью здесь в Москве, на Солянке, в собственном доме был схвачен дворянин Василий Смирнов и гость его, меньшой Булгаков. Известно стало, что пили они вино с вечера без меры, а охмелев, чаши поднимали за здоровье царевича Дмитрия. Поутру в застенке, вытрезвленные под кнутом, оба воровство признали, но Василий Смирнов, во зле, опять же сказал:
— Здоровье царевичу Дмитрию! Здоровье!
Кровью харкал. Поносные слова говорил. Рвался на дыбе так, что веревка звенела, и в другой, и в третий раз сказал:
— Здоровье царевичу, а вы будьте прокляты! Дна у вас нет. Народу вы не любы…
Палач ступил на бревно, подвешенное к ногам Смирнова, тот вытянулся, закинув голову. Но зубы были сцеплены непримиримо.
Меньшой Булгаков тоже волком выказал себя. Иначе не назовешь. «Как с ними быть? — хотел спросить Семен Никитич. — Что делать?» Но вопросы в глотке застревали, когда взглядывал он в лицо царя.
…Борис шагал по дорожкам сада.
Давно он сажал этот сад. Почитай, двадцать лет назад, едва провозгласили его правителем при Федоре Иоанновиче. С любовью сажал, с надеждой на долгое цветение. Заматерел сад за годы да уже и никнуть стал. Многие приметы то выдавали. Корявость объявилась в благородных стволах. Да вот же подлесок густой — рябинки, осинки хилые, ни к чему не пригодные березки — набирали силу, стеной вставали, ходу от них не было в саду. И вдруг мысль пришла Борису в голову. «Многие сады расцветали в Кремле Московском, да многие же и гибли». У царя Бориса углы губ поднялись в усмешке. «Может, земля здесь не та, — подумал он, — чтобы сады цвели вечно?» Но вопрос задал, а отвечать не захотел.
Глянул на дворец.
Темной громадой вздымался старый Борисов дворец. Крепкие стены, тяжелая крыша, в глубоких амбразурах окна и, как нездоровая чернота под глазами, свинцовые отливы по низу оконных проемов.
Царь даже остановился, оглядывая дворец. Вскинул голову. Медленно-медленно вел глазами по крыше, по стенам, словно кирпичи считал.
Но Борис кирпичей не считал.
Крыша дворца — лемех лиственничный, которому стоять сотни лет, — была сплошь покрыта опавшим листом, старым от прошлых многих лет, слежавшимся темным от времени, однако ущерба или изъяна какого, несмотря на этот недогляд, на крыше не обнаруживалось. На стенах красного кирпича так же, как и лемех лиственничный, сработанный на долгие годы, объявилась замшелость. Сырой мох серо-зеленого цвета, бархатно блестя под солнцем, въедался в камень, но Борис знал, что это не вредит стенам, они крепки, могучи и не пропустят сырости. Однако царь об том сейчас не думал, хотя и отметил взглядом и опавшую листву на крыше, и пятна мха на стенах. Мысли его были о другом. Смягчившись лицом, он подумал, что был счастлив в этом дворце. Счастлив, как бывает счастлив только молодой человек, которому все удается. А в те годы ему удавалось все, в нем играла сила, и он вдруг на мгновение, как прежде, ощутил в себе тепло молодой, бурлящей крови. Это было как жаркий ветер, дохнувший в лицо. И наверное — да он и сам того не сознавал, — дабы продлить мгновение ощущаемой в теле силы, шагнул вперед, протянул руку и коснулся стены дворца. Бориса обожгло холодом. Царь резко отдернул руку и отступил назад, как ежели бы его ударили.
Семен Никитич обеспокоенно спросил:
— Что, государь? Аль неладно чего?
Широкой ладонью, срывая мох, провел по стене.
— Мужиков сей миг призовем…
Царь, не отвечая, пошел в глубину сада по шуршащей под ногами листве. Что мужиков можно призвать — он знал. Знал, что можно убрать опавшую листву с крыши и светлым песочком из Москвы-реки очистить стены так, что красное тело кирпича выявит ядреную сердцевину, горящую жаром дубовых углей, на которых их обжигали. Но только все то было не нужно. Видел: дворец построен крепко. Это было явно. Стоять может долго. Так долго, что и заглянуть в его будущее трудно. И подумалось Борису, что вот себя-то он укрепить так, как укрепил эти камни, не смог. А ту теплую, бурлящую, молодую кровь, что на мгновение вновь заиграла в нем, не вернуть. «Ничто не повторяется, — до боли закусывая губу и отворачивая лицо от дядьки, подумал он, — ничто!» И вспомнилось из Иоанна Богослова: «И отрет бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И Борис повторил про себя еще раз: «…Прежнее прошло… Прежнее прошло…» Даже сказал вслух:
— Прежнее прошло…
— Что? — подступил к нему дядька. — Государь, что?
И только тогда Борис оборотил к нему лицо.
Семен Никитич за последнее время изменился. То жилистый был мужик, подбористый, на крепких ногах, быстрый в движениях, налитой силой, которая с очевидностью говорит — с таким шутить — как овце к волку в гости ходить. Его слово — и в поле столбы вроют, перекладину положат, веревочку опустят, и ты уже пляши на ней, коли охотка к тому есть. Ныне сталось иное. Нездоровая кожа лица у Семена Никитича одрябла. Брюхо объявилось. Рыхлое, словно мешок под грудь подвесили. Ноги ослабли, и он уж не играл походочкой бойкой. То, было, на каблук крепко ступит, да тут же нога на носок мягко перекатится и опять каблуком — стук! Как гвоздь вколотил. Того теперь не было. Ступал неслышно царев дядька. А говорят так: на человека с ног смотри — они и о душе, и о здоровье все скажут. И еще привычка у Семена Никитича была — похохатывать. Эдак сквозь зубы пустит короткое: «Ха-ха…» А глаза страшные. Ныне он не похохатывал.
Царь Борис на мгновение задержал взгляд на дядькином лице, отвернулся, но молчать не стал, сказал:
— Вижу, нетерпение жжет. — Кашлянул не то с досадой, не то в раздумье и наконец разрешил: — Говори.
Семен Никитич заторопился с рассказом о Василии Смирнове и Меньшом Булгакове.
Борис слушал с ничего не выражавшим лицом, взгляд у него был слюдяной, невидящий. А Семен Никитич говорил, говорил, губы в бороде двигались, изгибаясь, и, глядя на эти губы, на окружавший их волос, царь Борис подумал: «Бороденка-то у него просвечивает, худая бороденка, мужичья». Царев дядька называл имена, говорил о дыбе, о словах поносных… Борис слушал и сознанием отмечал и имена, и слова, за которые языки резали, но все это проходило, не затрагивая его, не вызывая ни возмущения, ни гнева, ни раздражения. Это были только отдельные слова и отдельные имена, никак не складывающиеся в единую картину со своей окраской и настроением. Он услышал: «Здоровье царевичу Дмитрию!» Здравица эта неожиданно вспыхнула, как искра в сером потоке торопливого, сбивчивого голоса Семена Никитича. Что-то просветилось вроде бы, но искра тут же и погасла, так и не разбудив Бориса. И опять косноязычно забубнил голос: бу-бу-бу… «Силы у него нет в голосе, — подумал неожиданно Борис. — Звук пустой один… Силы нет…» Да и сказал себе: «И у меня ее нет… Нет…» И только в это мгновение понял, зачем приходил на старый Царев-Борисов двор. Здесь, в этих стенах, среди посаженных им деревьев, на дорожках, посыпанных зернистым речным песком, у него была и сила, и кулаки, и крепкие зубы, чтобы бороться за себя. Была разящая отвага. Зоркость. Хитрость. Ловкость, позволявшая всех обойти, обскакать, перемочь. Было всесокрушающее отчаяние. «Почему же это ушло? — подумал он. — Почему?»
Ответить он не успел. Царь увидел, как в ворота Царева-Борисова двора вбежала толпа людей. Их словно гнал ветер. Впереди толпы он угадал Василия Шуйского. Короткая фигура, широкие плечи, спотыкающаяся походка. Боярин, как ворон крыльями, размахивал руками. Через минуту, подступив к царю, не по чину, без поклона, без кивка, срывающимся голосом боярин Василий выдохнул:
— Гонец из Чернигова! Вор взял приступом Монастыревский острог!
У боярина зубы открылись, борода повисла, как неживая, но взгляд, взгляд — ах, темная душа! — взгляд был тяжел, упрям, глаза смотрели не мигая. Чувствовал, а может, и знал боярин Василий, что наступает его — князя Шуйского — время.
Король Сигизмунд принимал папского нунция Рангони в Посольском зале краковского Вавеля[29]. Сигизмунд был взбешен, и Рангони прилагал усилия, дабы смягчить короля. Короли, однако, всегда упрямы. Нунций видел, что Сигизмунд готов вспылить, подняться из-за стола и выйти из зала. А это могло породить большие трудности для нунция. Всегда собранный, Рангони в эти минуты более обычного сдержал чувства.
Крупное лицо короля выражало одно — презрение. Рангони при всей неприязни к этому ничтожеству — а иначе, в мыслях, он не называл Сигизмунда — такого себе не разрешал, а, напротив, всем видом, тщательно выбираемыми словами и жестами подчеркивал уважение к коронованной особе. Однако от неприязни к королю у него холодели губы. Но подобного рода отношения среди тех, кто высоко забрался по ступеням лестницы власть придержащих, — дело обычное. Удивление могло вызвать, ежели бы это было иначе. На вершинах власти редко присутствуют чувства согласия. А в нынешнем случае были еще и особые причины для взаимного раздражения.
Разговор нет-нет да и смолкал, и тогда слышно было, как потрескивают свечи да сечет в окна резкий ветер со снегом. От звуков этих становилось зябко и неуютно.
Король и папский нунций обсуждали первые шаги царевича Дмитрия по российской земле. И у Сигизмунда, и у Рангони были осведомители при самозванце, внимательно следившие за событиями.
Король, сидя напротив нунция, грыз ноготь. Усы его топорщились, нижняя губа выпячивалась. Лицо Рангони было точно сонное.
Осведомитель Сигизмунда, ротмистр Борша, возглавлявший отряд шляхты в воинстве мнимого царевича, сообщал в тайной записке, что он разочарован в претенденте на российский престол. Ротмистр Борша — гуляка и воин, исколесивший Европу и служивший наемником при всех королевских дворах, — не стеснялся в выражениях. И ежели он впрямую не называл царевича Дмитрия трусом, то без сомнения отказывал ему в решительности. С насмешкой он рассказывал, что царевич, отрядив отряд казаков для взятия Монастыревского острога, сам пошел к крепостце кружным путем и настолько углубился в лесные чащобы, что едва не заблудился. Издеваясь над воинскими талантами претендента на российский престол, ротмистр писал, что солдаты, сопровождавшие царевича во время маневра по лесам и болотам, нашли в лесу множество вкусных ягод. Это было уже слишком. За строчками стояло: польские денежки тратятся на прогулки в лес для сбора ягод. Вот так… Прочтя это, король, как ему показалось, въяве увидел меднокрасную рожу ротмистра Борша, рыжие полуметровые его усы и сузившиеся в насмешке глаза.
В гневе король отпихнул от себя лежащую перед ним на столе бумагу, исписанную корявыми, неловкими буквами осведомителя. Да, конечно, бумагу можно было отпихнуть или, скомкав, швырнуть в камин, но дело от того не менялось.
Борша не щадил и последовавшего вслед за царевичем воеводу Юрия Мнишека. Король с очевидностью понял из записки, что этот жалкий и льстивый человечишка, ввязавший его, Сигизмунда, в сомнительное предприятие с царевичем Дмитрием, перейдя российские рубежи, так трусил попасть в плен, что растерял остатки здравого смысла. Воевода должен был укреплять и вдохновлять царевича в решительных действиях, но он, как шлюха-маркитантка, тащился в обозе.
Король покрутил головой, как ежели бы воротник стал ему нестерпимо тесен, сквозь зубы выдавил мучительно-стонущий звук и отвернул лицо от нунция. И эту постную физиономию он был не в силах видеть.
Слуга внес поднос с вином и закусками. Бесшумно расставил яства на столе. Разлил вино.
Король нетерпеливо взял в руки бокал, сделал жадный глоток. Как ни горяч и безрассуден был Сигизмунд, но он понял, что затея с царевичем Дмитрием может обернуться для него великим несчастьем. Королю вспомнились слова коронного канцлера и великого гетмана Яна Замойского. «Разве не ясно, — сказал он в разговоре с королем, — как жестоко может отомстить царь Борис наступательным союзом со Швецией?» И Сигизмунд с ужасом подумал: «А ежели действительно царь Борис ответит на шаг через границу, вдохновляемый его, Сигизмунда, волей, союзом со Швецией, и герцог Карл, который того только и ждет, ударит с севера?» Сигизмунд в другой раз выпустил сквозь стиснутые зубы мучительно-стонущий звук. Синие мешки под глазами короля еще больше потемнели.
Нунций Рангони, услышав этот стонущий звук, угадал, что в сознании Сигизмунда замаячило жесткое лицо его дяди из Стокгольма. Только мысль о герцоге Карле могла так сильно огорчить короля. Нунций подумал — мысль эта, безусловно, не лишена оснований, как не лишены оснований и ею порожденные страхи короля. Попасть в клещи между царем Борисом и своими родичами из Стокгольма для Сигизмунда было более чем опасно. И не просто опасно, но, наверное, смертельно опасно. Не надо было обладать даром провидца, чтобы увидеть, как завертится Сигизмунд, ежели только шведские войска подойдут к северным границам Польши.
Нунций вспомнил, как во время прогулки по парку под Варшавой был свидетелем того, как один из слуг вилами запорол неожиданно вылезшую на дорожку змею. Рангони с трудом удержал улыбку. «Да, — подумал он, перемогая невольное движение губ, — герцог Карл — ужас короля. Страшное наваждение». Однако ему, нунцию Рангони, шведы ничем не грозили. Королевская корона была на голове Сигизмунда, но никак не на его, Рангони, голове. Митру нунция ударом из Стокгольма не сбивают. За ней стоит папа римский, а папе все равно, кто сидит на престоле в Варшаве: Карл или Сигизмунд. Важно другое: католический крест над столицей королевства. А он, Рангони, и имел заботу о кресте католическом и его победном продвижении на восток.
Папский нунций сложил губы в пристойную разговору фигуру — в ней удивительно сочетались раздумье, горечь, надежда, — заговорил с кроткой печалью. Он соглашался с ротмистром Боршем в том, что царевичу Дмитрию не хватает уверенности.
Руки Рангони вспорхнули над столом.
— А как иначе? — воскликнул он, глядя на раздувавшего ноздри короля. — Многие, начиная великие дела, не были тверды в поступи. Однако, вдохновляемые именем господа, набирались мужества и свершали поступки, достойные восхищения.
Руки нунция вновь ровно и покойно легли на стол.
Он согласился с тем, что воеводе Юрию Мнишеку надо быть целеустремленнее. Ему, несомненно, выпала славная миссия укреплять царевича в стремлении к российскому престолу, а он выказывает слабость. Но одно то, что именно он, а не кто другой, последовал за царевичем, достойно похвал.
— Польская земля не обделена рыцарями, — с жаром продолжал нунций, — а все же Юрий Мнишек шагнул за царевичем.
Нунций умел говорить вдохновенно. Лицо его побледнело. Он заговорил о величии латинского креста и божьем проведении.
— Римская католическая церковь, — голос Рангони набрал силу, — оценит усилия каждого, кто вдохновенно трудится во имя господа нашего Езуса Христа. Слово папы римского, благословляющее короля Польши, — могучая поддержка в делах не только духовных, но и мирских.
Рангони знал, о чем сказать, и Сигизмунд с интересом взглянул на нунция. «А что, — подумал король, — в словах этого разряженного святоши есть истина. Папа римский — мощный союзник. Этот и герцога Карла остановит. С ним враждовать трудно».
Король перестал сопеть, и Рангони отметил это. Гнев и милость королей надо угадывать мгновенно тем, кто хочет распоряжаться судьбами народов. И чтобы еще более убедить Сигизмунда, нунций резко повернул разговор.
— Ротмистр Борша — славный воин, — сказал Рангони, — он умеет крепко держать шпагу в руке. Но…
Рангони доверительно наклонился к королю и, как человек, который может мыслить высоко, улыбнулся ему с почтением, которое выказывают только еще более наделенному способностями измерять человеческие судьбы и угадывать закрытое от простых смертных.
— Во-ин, — повторил он, растягивая это слово, — и только. Ему не дано заглянуть в сущность происходящего.
Теперь король слушал Рангони с заметным вниманием.
Нунций откинулся на спинку высокого стула и с выпрямленной спиной, будто с кафедры собора, продолжил:
— Рядом с царевичем Дмитрием стоят братья святого ордена иезуитов. Их глаза острее, нежели шпага офицера Борша. И то, что сообщают они, — на губах нунция появилась и истаяла усмешка, — важнее известий о мимолетной растерянности — назовем это так — царевича и воеводы.
Он помолчал минуту, желая подчеркнуть и выделить в разговоре то, что собирался сказать далее.
— Чернь за рубежами российскими, — наконец продолжил он, — встречает царевича Дмитрия как избавителя от угнетений царя Бориса. И не сабли казаков, не доблесть шляхты, идущей за царевичем, отворили ворота первой встретившейся на его пути российской крепости, но руки черни. — Нунций заговорил жестко: — Не мне рассказывать королю, какая сила — костер, зажженный чернью. Кто сможет противостоять этой силе? Братья иезуиты сообщают, что чернь Монастыревского острога связала своего воеводу. Чернь, ее гнев против царя Бориса — вот главное оружие царевича.
Под лепным потолком Посольского зала голос его прозвучал с какой-то особой, грозной силой.
— Чернь, — повторил нунций, — чернь! — Словно хотел вколотить это слово в сознание короля.
Сигизмунд покашлял, прочищая горло, взялся рукой за квадратный подбородок. «Вот так, — подумал он. — Ну-ну… Что же, этот святоша не так уж и глуп. Монастыревский острог пал и вправду без выстрела». Король прочистил горло с большей уверенностью.
Нунций сделал еще шаг вперед. Рангони испросил аудиенцию у Сигизмунда не для того, чтобы вдохнуть в этот винный бочонок без дна надежду. Нет, у него была другая задача.
— В сейме, — сказал он, — немало крикунов. Они воспользуются любым предлогом, дабы поднять визг и опорочить задуманное нами. Я призываю вас, ваше величество, сказать властное слово в сейме.
Король поднялся от стола и прошелся по Посольскому залу. Папский нунций не отводил от короля взгляда.
— Милосердие божье неисчерпаемо, — наконец сказал он. — Слово короля остановит заблуждающихся.
Сигизмунд прошагал мимо длинного стола, за которым сидел нунций. Едва слышно брякавшие огромные звездчатые шпоры на его тупоносых шведских ботфортах неожиданно обрели голос и зазвучали заметнее. Он прошелся в другой раз, и хотя лицо его было еще опущено и опасно темнели под глазами тени, но шпоры уже гремели вовсю.
Рангони удовлетворенно улыбнулся.
Гришку Отрепьева одевали для выхода к острожскому люду. Да не Гришку Отрепьева, беглого монаха, одевали, но царевича Дмитрия.
— То очень важно, — с затаенной тревогой сказал воевода Юрий Мнишек. — В Московии при выходе государя соблюдается древний чин византийских императоров. Народ тому навычен… Царь для люда московского — живой бог!
Он воздел палец кверху, хотел улыбнуться, но губы не складывались в улыбку, и видно было, что воевода возбужден, все дрожит в нем — и хочет он скрыть это, да не может.
На грубом еловом столе, стоящем посреди палаты, лежали золоченый шлем невоенного вида с яркими перьями, которые только подчеркивали непригодность сего головного убора для боя, красные кожаные перчатки с широкими раструбами и еще какие-то вовсе не российские предметы, которые были бы нелепы не только на царевиче, но и на любом русском человеке. Однако Мнишек сам выбрал эти вещи, дабы украсить, утвердить, как ему представлялось, Григория Отрепьева в его подставе царевича Дмитрия. Облачившись в эти одежды, думалось воеводе, Григорий Отрепьев предстанет перед российским людом таким, каким и хотели бы видеть истинного наследника российского престола.
Царевичу подали соболью шубу. Мех шелково тек в руках, светился медовым цветом. В палате светлее стало, как развернули ее. Но Юрию Мнишеку одной шубы на царевиче показалось недостаточным для полной пышности. Криков ликующих ожидал он от люда острожского, перед которым должен был предстать царевич. Радости, переполняющей сердца. Трепета жаждал, ибо знал, что с древнейших времен и у всех народов стоящие на вершине власти всеми силами добивались ликования, радости и трепета у народов своих, объявляясь перед ними, и оттого выходы обставлялись обдуманно, намеренно, обсуждено многажды. Ликование, радость и трепет людской — бурливое, пьяное вино — затмевали беды и несчастья, и под крики восторга не думали люди о несправедливости, о пустом желудке, рвани на плечах, о болезнях и обидах. В головы ударял обманный хмель надежды, и стоящий над ними казался избавителем от страшного, что окружало их, и они готовы были идти в любую даль, в которую бы он ни позвал.
Юрий Мнишек отступил чуть в сторону — воображением он был не обделен — и мысленно одел на мнимого Дмитрия бармы, шапку Мономаха, дал в руки скипетр и державу. Шапка Мономаха, скипетр и держава мечтой горели в его голове. Не раз представлялось: вот царь всея Руси и он, всесильный воевода, рядом. Поляк лукавый вперед подался, вглядываясь в мнимого царевича, и показалось ему и впрямь: на голове Гришки Отрепьева шапка темного соболя и золото блестит в руках. И так стало воеводе не по себе от видения этого, что сердце — не то от страха, не то от странной, отчаянной радости.
Он прикрыл глаза ладонью.
— Езус и Мария, — прошептали лиловатые губы много пожившего человека, — помогите, наставьте…
Мысли мнимого царевича в эти минуты были о другом. Он послушно поворачивался, уступая рукам услужающих, но не думал о том, что надевают на него, а даже не замечал этого.
За окнами дома раздавались голоса, слышалось конское ржание, скрипы телег, шаги многих людей — тот сложный, состоящий из многих нот гул, который возникает при большом скоплении народа. Юрий Мнишек повелел собрать весь монастыревский люд да еще приказал привести и казаков, и шляхту. Отрепьев вслушивался в нарастающие голоса людей и хотел угадать их настроение. Но при всем напряжении не мог выделить из множества звуков слова, которые бы свидетельствовали о радости или, напротив, возмущении собиравшихся у дома толп. И Отрепьев все вслушивался, вслушивался, хмурил лицо. И казалось, что он улавливает то злобные возгласы, то крики восторга.
Страх сковывал мнимого царевича.
Он принимал поздравления многих польских панов знатных, и они кланялись ему; юбки Марины Мнишек вертелись перед ним; он выдерживал упорный, испытывающий, ничего доброго не обещающий взгляд нунция Рангони; король Сигизмунд благословлял его, и он выходил на широкий подъем краковского дворца Юрия Мнишека перед ватагами казаков, бросавших кверху шапки и клявшихся вернуть ему отчий престол. Но все это было иное, нежели то, что ждало через минуты, когда он должен был предстать перед людом первой захваченной российской крепостцы. Здесь, и именно здесь, а не там, в Самборе и Кракове, должно было определиться, какой будет его дорога по российской земле. Здесь… Оттого-то страх сковывал мнимого царевича. И злобные возгласы, которые, казалось ему, он слышал за стенами дома, подстегивал как раз этот обжигающий страх, а крики ликования — необозримое, жадное, преступное тщеславие, вторгнутое в его душу злой волей неведомых ему людей.
В неясном гуле за стенами дома, однако, не было ни злобы, ни ликования, как он это понимал. В голосе толпы были свои краски, но Отрепьев их не распознавал. Это московскому родовому боярину было по силам, но не ему — монаху. На Москве голоса различали. Бывало, говорили: «Голос у народа — ал!» И ворота в Кремль затворяли, боясь беды. Известно верхним было: от такого голоса до боя, когда головы с плеч полетят, — шаг всего. И стрельцы на стены вставали, надвинув шапки на брови. К большому колоколу на Иване Великом крепили веревку, дабы медным голосом колокола одних призвать на помощь, других напугать. Ведали голоса на Москве. Говорили и малиновый звон и зеленый шум… Да, на Москве многое ведали.
Голоса и звуки движения многолюдных собраний, сливаясь в мощный поток, всегда выражают настроение большинства составляющих их людей. В случае с толпами у воеводского дома слияния такого, которое было родило единый поток, не было. Голоса казаков говорили одно, шляхты — выражали другое, разнородного люда монастыревского — третье. В гуле, порождаемом казачьими отрядами, проступали ноты буйно, пьяно, разгульно проведенной ночи. В менее заметных голосах шляхты звучали не радость первой победы и казачье ликование гулянкой по этому поводу, но настороженное ожидание того, что последует завтра. Голоса монастыревского люда были и вовсе неопределенны. Здесь раздавались жалобы на разграбивших их дворы; стоны побитых пьяными казаками; разочарование в разгоревшейся было мечте обрести справедливого, доброго, всепрощающего царевича; и лишь едва-едва пробивалась надежда на счастливое разрешение случившегося. А все вместе это звучало как не сладившийся оркестр, который не то сыграет ожидаемую песню, не то вовсе рассыплет звуки и люди его тут же разойдутся по сторонам. Но для того чтобы это понять, надо было иметь в душе много больше, чем имел беглый монах Гришка Отрепьев. В нем горели его, Гришкина, судьба, его, Гришкино, дело, и потому он искал в голосах одно — за него вставали толпы или против. Об их судьбе — всех собравшихся людей вместе и каждого в отдельности — он не думал, да и не мог думать. Ни к чему такое ему было, не готов он был к такому.
Мнимому царевичу подали красные кожаные перчатки. Он помял их в руках без всякого интереса, на лице проступало, что он был в мыслях, далеких от палаты, в которой его одевали, от Юрия Мнишека и тем более от поданных перчаток. Он надел их с безразличием, как надел и шлем, и сапоги, и шубу.
В гуле за стенами дома ощутимо пробивалось нетерпение. И Мнишек, понимая, что промедление опасно, поторопил мнимого царевича.
Двери воеводского дома широко растворились, и на крыльцо вышли гайдуки Юрия Мнишека в синих жупанах и с саблями наголо у плеч. Они остановились на ступенях и оборотили лица ко входу. Тут же выступили из дома Юрий Мнишек, атаман Белешко, польские офицеры и тоже остановились на крыльце. Лицо Мнишека было бледнее обычного, выдавая волнение. Атаман Белешко стоял с видом человека, который с утра выпил добрую чарку горилки, закусил изрядным боком барана, а теперь вышел поглядеть: «Чего там хлопцы сробыли?» Офицеры взглядывали с истинно шляхетским гонором. Толпа вплотную придвинулась к крыльцу. Голоса смолкли… День был ясен, свеж, и ежели бы только не напахивало в этой свежести горьковатым запахом недалекого пожарища, то непременно быть бы этому дню одним из счастливейших. Дымок же горький тревожил души, волновал, предупреждал.
Глаза людей были прикованы к темному дверному проему. Прошла минута, другая… Площадь перед воеводским домом молчала. И тишина пригнула людям головы с гораздо большей властностью, чем какие-либо слова, ежели бы они и были сказаны.
Вдруг в тишине раздались звуки быстрых шагов. Каблуки били в пол с нарастающей силой. И сразу же стоящие у дома увидели: в дверном проеме объявилась фигура человека в медового цвета шубе, в золоченом шлеме. Разбрасывая полы, из-под шубы вылетали красные сапоги. Стремительность, твердость, решительность — вот что врезалось в сознание стоящих на крыльце да и тех, кто стоял близко к дому. Что-то пестрое, яркое замельтешило перед глазами, и слух поразили резкие звуки. Но ежели бы эти люди имели время поразмыслить, ежели бы они внимательнее всмотрелись в то, что поразило их зрение, вслушались в ударившие в уши звуки, то у них сложилось бы вовсе иное мнение.
Шаг мнимого царевича был стремителен, каблуки били в щелястые доски крыльца столь громко, что это услышал и крайний в толпе, но все же это не был шаг уверенного человека. Слишком громки были каблуки и слишком стремительна была походка. Так бросаются вперед от отчаяния, так торопятся, когда иного не дано.
Следующее мгновение подтвердило это с очевидностью.
Мнимый царевич остановился у края крыльца, как у обрыва. Он даже качнулся вперед — Юрий Мнишек слабо ахнул — и стал, расставив руки нелепо и растерянно. В позе был только страх.
У воеводы Мнишека дух перехватило. «Сейчас, — мелькнула мысль, — крикнут в толпе: „Братцы, да это ряженый! Ряженый, аль не видите?“ — и все смешается». И он, к ужасу, только теперь понял, как смешны петушиные перья на несуразном шлеме, покрывавшем голову мнимого царевича, не к месту шуба, не российского, а какого-то не то немецкого, не то венгерского кроя, несообразны красные сапоги на высоких посеребренных каблуках.
Мнишек растерянно оглянулся.
У казачьего атамана Белешко глаза не выражали ничего, кроме удовольствия от выпитой чарки горилки.
Лица польских офицеров по-прежнему хранили шляхетскую невозмутимость.
Толпа молчала.
Боковым зрением воевода Мнишек углядел стоящего напротив крыльца какого-то мужичонку. Тот растерянно, с испугом таращился на мнимого царевича. В глазах сквозило недоумение. Срывая голос, воевода Мнишек закричал:
— Слава! Слава! Слава!
И услышал, как мощно, по-бычьему, загудел проснувшийся от хмельно-сытого томления атаман Белешко:
— Сла-а-ва! Сла-а-а-ва! Сла-а-а-а-ва!
Воевода глянул на него с надеждой. Увидел: у атамана краска в лице проступила, жилы надулись на лбу от натуги.
Вяло растянули в приветственном крике блеклые губы польские офицеры.
И тут с пьяной неудержимостью грянули на площади казаки:
— Слава! Слава! Слава!
И польское послышалось:
— Виват! Виват! Виват!
Мужичонка, которого заприметил воевода в толпе, оглянулся вокруг, по-сорочьи вертя головой, и разинул рот в крике. Вся толпа заволновалась и ответила своим:
— Слава! Слава! Слава!
Но это величание — а голоса на площади гремели, как разгорающийся костер, — казалось, не было услышано мнимым царевичем. Он как стал несуразно, так и стоял. Мнишек сделал было к нему шаг, но в это время в подклети сильно хлопнула дверь и казаки вытолкнули из нее воеводу Монастыревского острога. С заломленными за спину руками, с всклокоченной, ничем не покрытой головой, с почерневшим от страха лицом, он был вовсе не к месту в минуту, когда площадь славила явленного ей царевича. И Мнишек хотел крикнуть казакам, чтобы они убрали воеводу, затолкали опять в подклеть, но было поздно. Толпа увидела воеводу. Юрий Мнишек опустил вскинувшуюся для приказа руку.
Казаки толкнули воеводу к крыльцу, и он, не удержавшись на ногах, упал на колени.
Голоса на площади погасли, словно плеснули на занимавшийся огонь воду.
— Не суди! — задушенно крикнул воевода с колен. — Помилуй!
Вопль этот был так жалок, болезнен и мучителен, что пронзил душу каждого стоящего на площади.
Случилось так, что крики толпы, славившей мнимого царевича, вроде бы им не услышались. Он стоял перед людом острожским, казаками, поляками, вызывавшим недоумение пугалом деревянным. Но вот голос измученного острожского воеводы и разбудил его, и подсказал решение, которое заставило во все глаза смотревших на него людей забыть нелепый золоченый его шлем, шубу невесть с чьего плеча, растерянность, написанную на лице, и поверить, что перед ними истинный царевич.
Отрепьев неожиданно ожил, шагнул по ступеням к воеводе, обхватил за плечи и поднял на ноги.
— Не моли о пощаде, — услышали на площади, — не моли… Ты прощен, прощен…
Площадь облегченно вздохнула единой грудью и взорвалась криками:
— Слава! Слава! Слава!
Милость, как ничто иное, радует и подкупает людей. Хотя бы и милость обманная и порождающая обманные же надежды. А впрочем, надежды все обманны. Надежды — всегда ложь.
В тот же день воевода Юрий Мнишек по указу мнимого царевича разыскал среди казаков Ивана-трехпалого.
— Сей беглый московский человек, — сказал Отрепьев, — делу нашему большой помощью может стать. В Чернигов его пошлешь с наказом. В Чернигов!
— Какой Иван? — переспросил атаман Белешко ротмистра Борша.
Тот пояснил.
— А… — протянул атаман с ленцой, которая выказывала, что казачине некуда да и незачем торопиться, — так то москаль… Шукай вон в той хате, — ткнул пальцем и отвернулся, показывая поляку широкую спину и могучую зашеину.
У ротмистра глаза нехорошо скосились. Казак для него был как для быка красная тряпка. От досады и раздражения он придавил коня шпорой. Тот бешено всхрапнул, и только крепко натянутые поводья удержали коня от того, чтобы вскинуться на дыбы.
Белешко, однако, и головы не повернул.
У хаты, на которую указал атаман, топтались казаки, дымил костер и подле него, распятая на рожне, запекалась свиная туша, показывая облитый жиром золотой бок. Тянуло жареным мясом и острым, удушливым запахом самогона. Высокая, сложенная из соломы крыша хаты тяжко нависла над заполненным неведомыми ей людьми двором и, казалось, хмурилась недоуменно, словно говоря, что и острые запахи, и пляшущее пламя костра, и возбужденная казачья разноголосица были для нее и чужды, и опасны, и враждебны.
Борша придержал коня.
Иван-трехпалый встретил поляка с хмельной радостью.
— Царевич повелел! — вскричал, как ежели бы только того и ждал: — Сей миг! У нас все разом! — Покачнулся на нетвердых ногах, ухватился за плетень: — Иду, иду!
Поляк брезгливо собрал губы.
Иван утвердился на ногах, вскинул пунцовое от хмеля лицо.
— А может, пан офицер, — воскликнул он с задором, — хочет горилки? У нас добрая горилка!
Ворот у него был распахнут, на шее мотался крест. Чувствовалось, что пьян он не первый день и, как это бывает в таком случае, словоохотлив без меры.
— Добрая, добрая горилка, — повторил и, не дожидаясь ответа, оборотился к топтавшимся у хаты казакам: — Горилки пану офицеру!
Борша в другое время, не раздумывая, плетью бы проучил холопа, но за москалем послал пан Мнишек и откуда было знать, как он отнесется к тому, ежели огреть плетью наглого мужика.
— Нет, — сказал Борша и отвел рукой ковш, — нет!
Иван поднял брови, взглянул на офицера. И Борша увидел: превозмогая хмель, мужик что-то соображает. Лицо москаля изменилось, улыбка с него сошла. Может, угадал презрение в глазах у поляка, может, что иное подумал, но только Иван сунул ковш с горилкой казаку, выхватил у него из руки принесенный для закуски огурец и, в другой раз оборотившись к высившемуся на коне офицеру, сказал коротко:
— Идем.
Повернулся и зашагал вдоль улицы, так твердо держась на ногах, будто бы это не он вовсе минуту назад обнимал плетень.
Борша тронул коня.
Иван с хрустом грыз огурец, а в мыслях у него было: «Зачем я царевичу понадобился?» И тревожно ему стало, и вместе с тем подмывала лихость. Ощущение это было не выразить словами, но оно разом вошло в него, отрезвив и ободрив. Путана, разбойна, вся на случае была его жизнь, и он знал: когда входил в него этот знобящий, беспокойный холодок — надо ожидать всякого и быть ко всякому готовым. Пьяная бойкость, что толкнула его ответить офицеру у плетня — царевич повелел, ну так у нас все разом, — ушла, и он собрался в тугой кулак, готовый броситься в любую сторону, с которой объявится опасность. Однако шел он, похрустывая огурцом, ничем не выдавая произошедшей в нем перемены. И улыбка вновь растягивала ему губы, щурила глаза.
У воеводского дома их ждал гайдук пана Мнишека. Он оглядел Ивана с головы до ног, постно сложил губы, сказал невыразительно:
— Пан ждет. Идем.
Толкнул дверь. Она подалась со скрипом. Поляк моргнул белесыми ресницами.
Мнишеку, только по неведомому счастью избежавшему петли, когда Сигизмунд повелел повесить королевского казначея и назначить расследование о разграблении государственной казны, приходилось встречаться с разным народцем. Видел он вселенских бродяг, много других лихих людей, и Иван-трехпалый не вызвал у него и малейшего удивления.
Иван, войдя в палату, шапки не сорвал и поклона не махнул, а, пристукнув окованными каблуками, вольно сел на лавку, расставил колени и оборотился лицом к пану. В глазах было одно: мы — вот на — всей душой, а ты, пан, что скажешь? Дерзкий у него был взгляд, не холопий. Сидевший рядом с Мнишеком монах-иезуит сильно поразился тому, но вида не подал. Промолчал и Мнишек. Знал и готов был к этому: разное увидеть придется, а такое уж — куда ни шло. Всему время приходит — когда-то и холопа одернуть можно будет. Станется на то и час, и место.
Мнишек начал разговор издалека. Бывал ли Иван в Чернигове, знает ли тамошних жителей, есть ли у него знакомцы в городе и какие это люди?
Иван слушал молча. Соображал: к чему разговор и чем он закончится? И Мнишек, глядя на него, понял: правду сказал мнимый царевич — мужик не прост. Да, такой человек ему и был нужен.
— Ну, — поторопил, — ты, говорили, не из робких, что же молчишь?
— Хе! — хмыкнул Иван-трехпалый. — Какие люди, пытаешь? Как и у всех — в носу две дырки… В доме — Илья, а в людях — свинья… Слыхал такое, пан? Да еще и хрюкает… — Но смял смех и сказал уже твердо: — Бывал я в Чернигове. Знать, конечно, иных знаю. А воевода тамошний — князь Татев.
Иван стянул с головы шапку: жарко стало мужику — в палатах было натоплено — и на пана глазами стрельнул. Губы зло изогнулись. Хотел, видно, выругаться, но сдержался. Сказал только:
— Пороть воевода горазд. Это точно.
И все же зло вылезло из него наружу.
— Лют, — сказал, — кровь любит. У него каты людей на торгах дерут, так юшка красная, как из свиней, брызжет… А где по-иному, пан, может, скажешь?
Вольный человек и говорил вольно.
Мнишек руку на холеные усы положил.
Помолчали.
За окном — слышно было, — сильно пустив коней, проскакало несколько человек. Кто-то крикнул неразборчивое. Заиграл польский военный рожок. Тревожные звуки лагеря словно подтолкнули Мнишека. Пан качнулся на лавке и, прижимаясь пухлой грудью к краю стола, заговорил мягко, как Иван и не ждал:
— Красно солнышко приходит к вам, ворочается царевич Дмитрий Иванович. Злых накажет, добрых поднимет.
Иван слушал, опустив лицо. Потом сказал:
— Царевича знаю по Сечи. Не раз коня подавал и вываживал его же коня. Знаю.
Но вот добр ли царевич или нет — не сказал. Поднял глаза от щелястого пола на пана Мнишека. И тут солнечный луч лицо его высветил. И только тогда Мнишек увидел, что глаза у него прозрачные, беспокойные, опасные. Иван сказал:
— Ты говори, пан, что надобно, а я соображу — смогу ли в том быть помощником али нет.
Пан пожевал губами. Видать, не ожидал того, что не он, а холоп вопросы задавать будет.
Неподвижно сидевший подле Мнишека монах-иезуит потянул из стола свернутую трубочкой грамоту. Со свитка свисала красная, на шнуре, печать. Спросил вкрадчиво:
— Читать научен?
— Куда мне? — ответил зло Иван, обращая лицо к монаху. «А эта ворона, — подумал, — зачем здесь?»
— То ничего, — сказал монах, не замечая недоброго в голосе Ивана, — человек прочтет тебе грамотку многажды, а ты запомни и люду черниговскому те слова перескажи. Да и самую грамотку отдай.
Взглянул на Ивана. Темные глаза монаха смотрели упорно, изучающе. Губы были сложены твердо. Рука, державшая свиток, хотя и была тонка и бледна, но, видать, не слаба. Пальцы сжимали свиток цепко. Красная печать на шнурке качнулась маятником, но тут же и застыла без движения.
— Да, да, — заторопился Мнишек. — В Чернигов хотим тебя послать. Царевич повелел. Служба твоя не забудется. Пройдешь в город и на торгу грамотку объявишь. А? — вытянул шею, ожидая ответа.
Иван лавкой заскрипел. Перебросил из руки в руку казачью папаху и, будто только что увидев, оглядел Мнишека, перевел глаза на монаха и тоже оглядел. «Мягко стелют, — подумал, — мягко… Служба не забудется… Да за такое воевода черниговский на куски разорвет. Здесь петлей не отделаешься. Непременно на куски растащут… Ах, пан, пан лукавый…» Но вслух того не сказал. Однако в глазах у него такое объявилось, что Мнишек из стола достал изрядный кошель. Понимал, что и почем стоит. В кошеле звякнуло. Иван, однако, и бровью не повел. Пан сунул кошель через стол. Но Иван не поторопился руку к кошелю протянуть. В мыслях у него встало: «Вот, значит, зачем позвали. Лихо, лихо задумали…» У Мнишека лицо напряглось, и Иван это увидел, но и тогда не поторопился. Мнишек подтолкнул кошель ближе к Ивану, сказал:
— Это тебе, коли понадобится в Чернигове. В кружало кого позвать или как по-иному… А награда впереди.
И в другой раз Иван заскрипел лавкой. Вот и навычен был к лихому делу, ан в петлю голову совать не торопился. А здесь, угадывал, паленым напахивало.
Мнишек ждал.
Холодно, не мигая, смотрели глаза монаха. Черные, в одну линию брови над ними, хмурились.
И тут Иван увидел — глазастый, известно, был — паучьи тенёта в углу оконца, как раз над головой пана Мнишека. Вгляделся и узрел: мушка малая в паутине бьется, а из норки уже и паучишка выглядывает. У Ивана губы искривились. В мыслях прошло: «Ну-ну, пан… Кто паучок-то здесь, а кто мушка? Поглядим…» И засмеялся тихо:
— Хе-хе…
Встал разом с лавки, взял кошель, подкинул на ладони.
— «Коли понадобится»! — повторил за паном с усмешкой. — Оно ясно… Понадобится, — сказал с определенностью. — Ладно. Схожу в Чернигов, — показал желтые зубы, — в Пятницкой церкви свечу поставить… А?.. Чернигов Пятницкой церковью славен…
В Кремль бояре съезжались в спешке, как ежели бы пожар случился. Семен Никитич по Москве скороходов разогнал, но, однако, не велел говорить, по какой причине собирает Думу. Сказано было только: царь повелел — и ты явись без промедления. Но все одно, тревожная весть о переходе мнимым царевичем рубежей российских и без слов Семена Никитича дошла, почитай, до каждого в Москве.
— А что удивительного, — сказал верный подручный царева дядьки Лаврентий, — на Пожаре гукни в рядах — и громче колокола ударит.
Так оно и сталось. А радетели тому нашлись. Царев скороход в калитку стучал, а в боярском доме уже знали, с чем пришел. Угадал Лаврентий, что зашептали по Москве, ан было бы толку поболее, коли он или иной из подручных Семена Никитича, кому деньги немалые за то платил, еще бы и вызнали, кто слух пустил. А так — что уж! — оно и бабки в белокаменной гадать умели и точно угадывали.
В Москве в ту пору началась метель. То дни стояли ясные, солнечные, паутина летела, но невесть откуда наволокло тучи, и повалил снег, да густой, хлопьями, такой снег, что разом город накрыл. Ветер ударил, и закружили, завертели снежные сполохи, да так, что боярин с крыльца сходил, а ни коней, ни возка не разобрать в снежной заволоке. Но слово царское было сказано, и хочешь не хочешь, а поезжай. И не одному мужику в затылок влетел злой боярский кулак. Оно известно: на Руси за все мужик в ответе. Ну да в этом разе и говорить о том было нечего. Боярин выходил из дома, а мужик уже видел — влетит, точно. У боярина брови косой тучей нависли, зубы стиснуты, кулаки вперед торчат.
По Волхонке, по Варварке чуть не вперегонки поспешали возки и колымаги, стуча колесами по бревенчатым мостовым. Московская мостовая, известно, валкая, и при таком ходе седоки хватались на ухабах за стены возков. Ушибались, поминая всуе и бога, и черта. Боярские поезда заворачивали на Пожар к Никольским воротам, так как сказано было, что по опасному времени иные ворота в Кремль затворены. А снег кружил, кружил, посвистывал ветер, и вот не хотел бы того сказать, ан все одно в голову входило: нет тишины, люди, нет! Знать, забыл народ присказку, что деды сложили: «Кто живет тихо, тот не увидит лиха». Все поспешали, поспешали, и недосуг было вспомнить в сутолоке, что в Святом писании утверждено: «Не торопи время…»
Беспокойство в сей час случилось не только на Москве, но и в самом Кремле. Царь Борис, повелев собрать бояр, сказал, чтобы к выходу были готовы царица Мария и дети царские — царевич Федор и царевна Ксения. То было необычно. Большой выход? Такое случалось только по великим праздникам. А тут что? Как сие понимать? И разговоры, разговоры пошли гулять по кремлевским переходам и лесенкам. Русский человек всегда ждет, что его ежели не с одной стороны, то обязательно с другой оплеухой оглоушат и перемена всякая ему опасным грозит. Так приучен. То из старины пришло, и неведомо, когда забудется.
Царица Мария пожелала увидеть царя. Вошла в его палаты. Поклонилась большим поклоном. Сказала:
— Здравствуй, батюшка.
Борис шагнул к ней навстречу.
Семен Никитич, не оставлявший царя и на минуту, посчитал за лучшее выйти и осторожно — не дай бог, каблуком стукнуть — выпятился из палаты вон.
Прикрыл дверь.
Палец к губам прижал.
Бояре съезжались. Возки гнали по Никольской, опасливо косясь на опальный, стоявший в небрежении двор Богдана Бельского, раскатывались по Соборной площади и подлетали к Грановитой палате. Мужики осаживали коней.
Старого Михайлу Катырева-Ростовского расколыхало, затолкало за дорогу, и он едва ноги из возка выпростал. Подскочили холопы. Боярин укрепился на ногах, и тут обнаружилось, что в скачке вылетел у него воск, которым он залеплял дыры меж выпавших зубов. Сморщился Михайла, сплюснул лицо и зашамкал, отплевывая восковое крошево. Его держали под руки.
Подкатили боярин Василий Шуйский с братьями — Дмитрием, Александром и Иваном. Каждый в своем возке, со своими сурначами, трубниками и литаврщиками. Не к месту были трубы-то, литавры. Но вот уж кто-кто, а этот боярин знал, что делал. Шуйский без ума и шагу не ступал. Значит, задумано так было и смысл боярин в том видел. К возку Шуйского бросилось с десяток холопов. Но боярин сам, чертом, вылез из возка.
— Прочь, прочь, холопы! — воскликнул и ступил на землю твердо.
Братья следом выпростались на снег, и Шуйские, ватажкой, как на приступ, вступили на Красное крыльцо.
Стрельцы, иноземные мушкетеры, челядь дворцовая глядели на них во все глаза.
Боярин Василий шел выпятив живот. Желтое рыхлое лицо неподвижно, губы плотно сжаты, глаза устремлены вперед. Лицо — что наглухо закрытые дубовые ворота. Стучи, бейся в них, а не отворятся.
Стрелец Арсений Дятел, выбившийся к этому времени в пятидесятники, вперед выступил, вглядываясь в боярина. Многажды видел он старшего из Шуйских. В шаге зрел, когда царь Федор Иоаннович преставился и Москва шумела в ожидании нового царя. Видел во время провозглашения царем Бориса. Рядом стоял, когда возвратилась московская рать из похода против крымской орды, и еще, и еще служба стрелецкая выводила его на боярина Василия, и знакома была Арсению Дятлу каждая черта княжеского лица. Понимал стрелец, как и многие в белокаменной, что Василий Шуйский, ежели не голова боярству, то корень крепкий на Москве. Тот корень, который тронь — и зашумит, раскачается ветвями все боярское дерево. И хотел стрелец в сей миг — а о том, что Монастыревский острог пал, было ему ведомо — разглядеть, что там на лице боярина Василия выказывается. И хотя захлопнулись створки ворот дубовых и закрыл за ними боярин тайные думы от любопытных взглядов, ан стрельцу хватило и того, чтобы понять — в сей опасный миг боярин Василий в сторону отодвинулся. Особняком стал и ждет. И закрытые ворота о многом говорят.
Стрелец крякнул с досадой и отодвинулся за спины мушкетеров.
К Красному крыльцу подкатил Федор Иванович Мстиславский. Боярин горой шагнул из возка и, придавливая ступени тяжелыми ногами, вошел в палату. Горлатная шапка вздымалась над ним трубой. А что там, под шапкой, никто не разглядел. Торчала борода, густые брови нависали, и все.
Ждали патриарха.
Снег валил и валил, да все гуще, обильнее, будто всю Москву хотел закрыть. А может, другое за этим стояло: по мягкому-то снежку неслышно подойти можно, за стеной белой подкрасться невидимо. А? Эка, угляди, что там, в пляшущих сполохах, в снежном кружении?
Челядь дворцовая стыла на ступенях.
Иов, подъехав, перекрестил всех, и настороженные люди у Красного крыльца — хотя вот и снег глаза застил — увидели, что вознесенная в крестном знамении рука патриарха задрожала. А из глубоко запавших глаз полыхнула такая мука, что стало страшно. У Арсения Дятла в груди запекло.
Патриарха подхватили под руки, возвели на крыльцо, и те, что поддерживали его, почувствовали: Иов трепещет, слаб, едва ступает. И еще боязнее людям стало, тревожнее.
Грановитая палата гудела от голосов. Непривычно было такое. Здесь на месте, самом высоком в державе, надлежало с достоинством, мудро и немногословно вершить государское дело, но не вопить, как в торговых рядах на Пожаре. А вот же тебе — шум, разноголосица, толкотня. В палате так надышали, что по стенам поползли капли. Трещали и гасли свечи. Было не разобрать, кто и о чем кричит. Все же проступало за словами — напуганы бояре, и напуганы зело. Однако иные говорили смело: «Что вор Гришка? Что его войско? Муха. И ее прихлопнуть — плюнуть!» Но таких голосов было немного.
Шум неприличный рос, и тут из перехода от Шатерной палаты выступили рынды[30] с серебряными топориками. Голоса смолкли. Как обрезало их. Взоры обратились к входившей в палату царской семье. Темновато было в палате — не то свечей мало зажгли, не то снег верхние окна забил, — ан разглядели думные: царь, войдя, глазами палату разом окинул и, показалось, каждому в лицо заглянул. Да так, что многим, кричавшим с особым задором, захотелось назад отступить, спрятаться за спины. И оттого движение в палате случилось, хотя ни один и шагу не посмел сделать. Но все же колыхнулись собравшиеся думные и вновь замерли. Странное это было движение. Словно волна по палате прокатилась, да только вот объявилось в ней примечательное: ежели думные были волной, а царь берегом, то волне бы к берегу и стремиться, а тут иное вышло. Волна-то от берега откатилась, а назад не прихлынула.
Так и стояли думные, и еще большая тишина сгустилась меж ставшими вдруг до удивления тесными стенами палаты.
Царь Борис, в нерешительности или раздумье задержав на мгновение шаг, качнулся и подошел под благословение патриарха. Склонился над рукой Иова. Из-под парчи проступили у царя лопатки. Худ был. Не дороден. И здесь как-то уж очень это обозначилось. В цареву спину десятки глаз впились. За царями на Руси каждый свое примечает и каждый же всему свое толкование дает. И когда один говорит: «То добре», иной скажет: «Нет, такое не годится». Царю слово молвить, чтобы всем угодить, редко удается. А царю Борису в сей миг, видно, все одно было, кто и что скажет. Другое заботило, а иначе бы он спиной — в такое-то время и спиной! — не повернулся. Он всегда каждый шаг выверял, но здесь промашка вышла. Склонились над рукой патриарха царица и царские дети. И тут все услышали, как Иов всхлипнул. Слабо, по-детски. Но перемог, видно, себя, смолк. Ан всхлип этот болезненной нотой вспорхнул над головами и словно повис в воздухе — не то укором, не то угрозой, а быть может, предостережением. Каждый понимал по-своему. Но и так можно было об том сказать: патриарх укорял напуганных, грозил легкодумным и предостерегал всех, угадывая, что время пришло думать не о своем, но государском. Царь опустился на трон и взмахнул рукой думному дворянину Игнатию Татищеву. Тот выступил вперед и, близко поднеся к лицу, начал читать наспех составленную грамоту о воровском нарушении рубежей российских, о взятии вором Отрепьевым Монастыревского острога.
Все время, пока читал дьяк грамоту, со своей лавки внимательно вглядывался в царя боярин Василий.
Борис, однако, неосторожных шагов более не делал. Лицо его было бесстрастно. Руки покойно лежали на подлокотниках трона, ноги упирались в подставленную скамеечку. И как ни опытен был боярин Шуйский, но ничто ему не сказало о царевых думах. А боярин многое хотел увидеть и многое вызнать. Ан вот нет. Не пришлось.
Шуйский перевел глаза на царицу. И здесь преуспел. Даже усмешка в глазах промелькнула, недобрый огонек в глубине их зажегся, но да тут же и погас. Понимал боярин: не время и не место выказывать свое.
А лицо царицы было скорбно, и об том говорили непривычно сжатые губы, морщины у рта, которые раньше не примечались. И особенно руки поразили боярина. Царица, держа на коленях знакомые Шуйскому четки, вслед за словами думного дворянина, все читавшего и читавшего грамоту, толчками, неровно, с какой-то непонятной поспешностью переводила янтарные зерна. Бледные, тонкие пальцы схватывали желтые камушки и перебрасывали, перебрасывали по шелковому шнуру. И опять схватывали и проталкивали вперед. Движению этому, казалось, не было конца. Что взволновало ее, всегда уверенную и властную дочь Малюты Скуратова? Кровь-то у царицы была на густом замешена. Отца царицы Марии трудно было разволновать — он сам кого хочешь растревожить мог. А вот царицыны пальцы летели, летели, перебирая желтый янтарь. У боярина в мыслях поговорочка выскочила: «Где пичужка ни летала, а наших рук не миновала». Боярин сказал про себя: «Так-так, однако…»
Взглянул на детей царских.
Лицо царевича Федора было оживленно, и он с интересом скользил взглядом по палате. Ничто не выдавало в нем тревоги и озабоченности. Это было здоровое, молодое лицо счастливо рожденного в царской семье дитяти. Ему только что минуло шестнадцать лет, и он был выражением беззаботности, легкости, жизнерадостности прекрасных юных годков. Написанная на лице царевича молодая безмятежность тоже вызвала в мыслях боярина удовлетворение: «Так-так…»
На красивом лице царевны Ксении боярин Василий и взгляда не задержал. Ксения, конечно, была царская дочь, но все одно — девка. Чего здесь вглядываться, чего искать? С этой стороны ничто боярину не грозило, да и грозить не могло.
Дворянин все бубнил и бубнил, и Дума слушала его, задержав дыхание, но боярин Василий слов тех не улавливал. Знал, что будет сказано, да и мысли свои занимали. Доволен остался наблюдениями за царской семьей и расслабился, обмяк, а то все пружиной злой в нем было скручено. Боярин отпахнул полу шубы, сел на лавке вольно, развалисто, тешась тайной радостью. И в мечтаниях не заметил, как закончил чтение думный, как заговорили бояре.
И тут ударил его жесткий голос царя.
— Боярина Василия, — сказал Борис, — к народу след выслать. Пусть скажет люду московскому с Лобного места о смерти царевича Дмитрия в Угличе.
Царь Борис упер взгляд в боярина Василия. Шуйский полу шубы потянул на себя, поправился на лавке. И холодок опахнул его. Плечи вздернул боярин. Не ожидал, ох, не ожидал такого поворота и съежился под царевым взглядом. Показалось боярину на миг, что Борис в мысли его проник и сейчас об том Думе скажет.
Но царь заговорил о другом:
— Он, боярин Василий, розыск в Угличе вел и царевича по православному обычаю в могилу опускал. Так пускай же он об том расскажет.
Все взоры обратились к Шуйскому. И разное в глазах было. Не просто такое — перед людом московским на Пожаре с Лобного места говорить. В случае этом, бывало, и за шубу с каменной громады стаскивали под кулаки, под топтунки. А там уж что? Ярость людская страшна. Вот это-то и увидел боярин Василий в обращенных к нему взглядах. И другое узрел: с насмешкой, с тайной, недоброй мыслью смотрели иные, что-де, мол, боярин, знаем — хитер ты, хитер, ан и на тебя нашли укорот. Шуйский взглядом метнулся по палате, отыскивая верхнего в Думе, Федора Ивановича Мстиславского. И увидел: Федор Иванович лицо отворотил. Понял Шуйский — как сказал Борис, так и будет. Приговорят бояре ему, Василию, перед народом предстать. А мысль дальше шла. Соображать быстро боярин умел. Выступлением этим перед людом московским Борис накрепко его к себе привяжет, противопоставив мнимому царевичу. Накрепко! Ибо весть о сем выходе на Пожар до польских рубежей тут же долетит. И боярин Василий растопырился: что сказать, как быть?
Ущучил его царь Борис.
Дума сказала — боярину Василию перед людом московским предстать.
Тогда же решено было — без промедления послать навстречу вору стрельцов. Во главе рати поставлен был любимец царя Бориса, окольничий Петр Басманов.
В эти предзимние дни в Дмитрове объявился стрелецкий пятидесятник Арсений Дятел. Прискакал он из Москвы по плохой дороге, по грязям, и сразу же поспешил в Борисоглебский монастырь. Горя нетерпением, обсказал, что прискакал для закупки коней по цареву повелению. Игумен обрадованно засуетился — уразумел, что деньгу урвать можно, распорядился подать сулею[31] с монастырской славной настойкой и прочее, что к сулее полагается. Заулыбался приветливо, заквохтал, что та курица, собирая цыплят.
Арсений, приморившись с дороги и оголодав изрядно, от угощения не отказался. Сел к столу. Игумен сказал должные к трапезе слова, с одушевлением потер ладонь о ладонь и разлил винцо.
Настойка загорелась пунцовым в хорошем стекле.
— Кони у нас есть, — сказал игумен, — поможем. Кони добрые. Доволен будешь.
Пятидесятник, не отвечая, вытянул стаканчик винца, медленно, как пьют с большой усталости, и принялся за мясо. Жевал тяжело, желваки над скулами пухли. Игумен разглядел: лицо у стрельца хмурое, серое. «Что так?» — подумал и хотел было продолжить разговор, но видно было, что Дятел его не слушает, и он замолчал, с досадой сложил сочные губы.
Гость доел мясо. Игумен поторопился с сулеёй, но, выпив и второй стаканчик, стрелецкий пятидесятник не стал разговорчивее, а, подперев голову кулаком — кулак у него, заметил монастырский, здоровый, тот кулак, что, ежели в лоб влетит, долго шишку обминать будешь, — уставился в узкое, забранное решеткой оконце. А там и глядеть-то было не на что. За окном бежала дорога, залитая дождем и изрытая глубокими колеями. Тут и там белели пятна тающего, неустоявшегося снега да гнулись под холодным ветром редкие березы, свистели голыми, безлистыми ветвями. По дороге тащилась телега с впряженной в оглобли жалкой лошаденкой. Ветер, поддувая, задирал ей тощую гривку. Стояло то безрадостное предзимнее время, когда только выглянешь за дверь — и зябко станет, ноги сами завернут к печи, к теплу. Проклятое время, самая что ни есть тоска. Арсений Дятел в стол руки упер, поднялся со скамьи, сказал:
— Ну, отец игумен, пора. Показывай коней.
— Ах и ах, — всплеснул руками монастырский, — какая сейчас дорога? Погодить бы…
Но стрелец взглянул с недобрым недоумением.
Игумен еще больше заохал. По другому времени да с более веселым человеком монастырский с радостью бы коляску заложил и покатил по зеленым рощам, по мягоньким лесным дорожкам, а сейчас сумно стало от одной мысли — тащиться по грязям.
— Вовсе я обезножел, — сказал слабым голосом, — но коли такая спешка — пошлю-ка я с тобой монаха Пафнутия. Он у нас лошадками занимается и толк в них знает.
Дятел промолчал. Ему, видно, все едино было — кто с ним поедет. Не угрел его винцом отец игумен.
Охая и приседая под недобрым взглядом, игумен проводил стрельца во двор. На каждой ступеньке лестницы за поясницу хватался, к перильцам припадал, всем видом на случай, выказывая, что радеет, несмотря на болезнь, по цареву делу.
Монах Пафнутий подобрал рясу и взобрался в седло. Плюхнулся мешком.
— Поехали, — сказал сырым голосом и каблуком толкнул коня в бок.
Дятел тронулся следом. За ними потянулся по грязи пяток стрельцов. Кони, со всхлипом ставя копыта в разбитые колеи, шли шагом. На крыльце монастырском, придерживая развевающуюся на ветру рясу, стоял игумен. Глядел вслед бестревожными глазами.
Всю дорогу монах молчал, только поглядывал на пятидесятника, на его стрельцов. С деревьев, когда углублялись в лес, срывались тяжелые капли, обдавая верхоконных холодными потоками. Скучная была дорога, какой разговор. Однако Пафнутий — а примечать он, известно, в людях многое умел — сказал себе, приглядевшись к Арсению Дятлу: «Э-ге… Дума какая-то его гложет… А мужик-то здоровенный, крепкий и судьбой, видать, не обиженный, но вот гложет его что-то, непременно гложет». Но об том промолчал. И, еще раз глянув в сторону пятидесятника, подобрал поводья нахолодавшей рукой. Знобко, знобко в лесу было, неуютно. Кони, громко хлюпая, все тянули и тянули копыта из грязи, и звук этот, сырой и вязкий, головы пригибал, и по спинам ощутимо сквознячком потягивало.
На отару Степана вышли они вдруг. Лес расступился неожиданно, и взору явилось распахнутое до окоема поле. Припорошенное снегом, но все еще богатое хотя и пожухлыми, потерявшими цвет травами, оно раскрывалось так широко и мощно, что невольно каждый из выехавших из леса всадников вздохнул полной грудью. Да иначе и быть не могло — такой простор открылся, такое раздолье ударило в лица вольным, валом катящим навстречу, свежим пахучим ветром. И тут же они увидели, как из-за холма, вздымавшегося по правую руку от них, вышел косяк лошадей.
Пафнутий оживился, привстал на стременах и, указывая плетью, вскричал:
— Гляди, гляди! Идут, идут, милые!
И столько объявилось в нем задора, что не узнать было в этом человеке понурого монаха, скособочившись, молчком торчавшего в седле долгую дорогу.
— Идут, идут! — кричал он неведомо кому. — Ах, лихие, ах, милые мои!
А кони и впрямь шли лихо. Не так, чтобы шибко поспешая, но все же резво, легко и вместе с тем сильно наступая сбитой громадой косяка. И, словно подтверждая и подчеркивая эту силу, ветер донес до стоящих на опушке мощный, упругий гул бьющих в подмерзающую землю копыт.
Вожак, высокий в холке, темный, со светлым ремнем по спине, вдруг увидел всадников и стал. И разом замер косяк.
Из-за холма выехал всадник.
— Степан, — оборачиваясь к пятидесятнику с неугасшим на лице оживлением, сказал монах, — лучший отарщик. И кони у него лучшие. Какие кони, а?!
И стало видно, что не так уж монах и стар, а ежели и стар, то за долгие годы, прожитые на этом свете, набрал он силы, как многолетнее дерево, которое встретишь иной раз и подивишься ему — вот и коряво, и сучкасто, и изъедено ветрами и иными невзгодами до трещин на коре, ан стоит, и стоит так прочно на земле, что многим моложе его в лесу никогда так не стоять.
Подскакал Степан, стянул шапку с головы.
— Показывай, господину пятидесятнику коньков своих, — сказал ему приветливо Пафнутий. — На цареву службу пойдут. Ты уж расстарайся. Честь большая.
Оставшееся до темноты время отбирали лошадей. А когда стемнело в степи, прошли к стоящим у леса шалашам и разожгли костер. Степан, не мешкая, приготовил толокняную, приправленную салом кашу, похлебали ее вкруг, и стрельцы улеглись вповалку на лапнике в шалаше. Умаялись, знать. Степан потоптался вокруг них и вернулся к костру.
Стрелецкий пятидесятник и Пафнутий, сидя у огня, негромко разговаривали. Да больше говорил стрелец, а Пафнутий слушал да кивал головой. Вот ведь как случилось — игумен и с сулеей, но слова не вытянул из гостя, а этот за толокняной кашей разговорил. А может, приглянулся он стрельцу? Уж больно домашняя была у него рожа, несуетные глаза, которые в чужую душу не спешат заглянуть.
Степан приткнулся с краю. Подбросил в костер сучьев. Стрелец глянул на него искоса, но речи не прервал. И Степан услышал слова дерзкие, такие слова, за которые многим можно было заплатить, а то и жизнью рассчитаться. Насторожился.
О воре Гришке Отрепьеве Степан знал. Об том грамотку цареву в монастыре игумен перед братией читал, и он там был. А тут услышал, что вор-то уже российский городок взял и Москве грозит. «Эх ты, — подумал, — вот как оно получается… Вот тебе и вор».
Стрелец рассказывал, как люду московскому боярин Шуйский, выйдя на Лобное место на Пожаре, объявил о том, что своими глазами зрел захоронение истинного царевича Дмитрия в Угличе. И на том крест целовал.
А было это так. Ударили колокола на Москве, и народ хлынул на Пожар. Собрались от мала до велика. Толчея. Гвалт. Бабы, конечно, в крик. И вдруг на народ от Никольских ворот стрельцы поперли, расчищая дорогу. За ними бояре, иной царев люд и впереди — Василий Шуйский.
Боярин шел тяжело, опустив лицо. Так шел, будто на веревке тащили, а он упирался. И стрельцы вроде бы не дорогу ему освобождали, но вели к Лобному месту, как на казнь ведут.
— И многие смутились, — сказал Дятел, — глядя на то, как шел боярин. Оно и слепой видел — не своей волей идет князь, но по принуждению. Спотыкается.
Василий Шуйский подошел к Лобному месту и остановился, словно в стену уперся. Народ рты раскрыл. Показалось, что в сей миг повернется боярин и, так и не поставив ноги на каменные ступени, назад побежит, заслонив лицо в стыде, что взял на себя сей не праведный труд.
— И еще больше смутились люди, — поднял взгляд от костра стрелец и взглянул на Пафнутия, — да и как не смутиться? К народу вышел боярин, а ноги-то у него не идут. Слово сказать хочет, а оно, видно, поперек глотки у него стоит. Как поверить такому?
Среди люда царева, что вышел на Пожар вместе с князем, зашептались. Одно, другое слово было сказано, на лицах растерянность объявилась.
К Шуйскому подступил царев дядька Семен Никитич. Боярин Василий оборотился, к нему и, сморщившись, как в плаче, взбежал по ступеням на Лобное место.
— Так коня, — сказал стрелец, — ножом подколют, он и кинется, хотя бы и в пропасть.
Боярин Василий оглядывал колышущийся людской разлив, пока ему не закричали:
— Ну, говори! Говори! Чего там…
— Ай язык отнялся?
— Да он, братцы, онемел! Аль не видите?
В толпе засмеялись, и тут и там.
Князь, казалось, этого ждал. Чтобы в смехе, в хохоте толпы, в шутках, что людей веселят, и рассказать об Угличе, об истинном царевиче тоже вроде бы в шутку, для забавы. И скороговоркой, глотая слова, заторопился. Все сказал: и о ноже, на который царевич приткнулся, о том, как мертвое тело обмывали, и о похоронах. Даже о камне, которым могилу привалили. Но как сказал? На лицах слушавшего московского люда даже не любопытство, а какое-то смешливое изумление явилось: хорошо-де говоришь, хорошо, но да и мы не дураки, понимаем, что и к чему. Да и тебя видим, глаза есть… А что иное тебе говорить? Сзади-то вон сколько царевого народу. Тут и соловьем запоешь…
— А под конец, — сказал стрелец, — боярин крест из-за ворота выхватил и крикнул, что-де целует его в подтверждение слов своих. Да только вот все увидели ясно, что крест он сквозь пальцы пропустил и поцеловал цепочку.
Пафнутий от костра откачнулся, впился взглядом в лицо стрельца.
— Да, — повторил тот, — не крест боярин целовал, не крест…
— Ну, — помолчав, сказал Пафнутий, — теперь жди на Москве свары.
Нахмурился. Глаза, сузившись, уставились на огонь. Что он там увидел — неведомо. Может, кривлявшегося на народе боярина Шуйского? Может, что иное — пострашней? Но только морщины у него возле рта залегли. Знал монах Москву и людей московских знал, да и ведомо ему было — попусту слово не слетит и синица не пискнет.
— Да-а-а… — протянул. — Да-а…
Стрелец ворошил прутиком угли в костре, но отшвырнул прутик с сердцем.
— Вот то-то, — выдохнул, — вот то-то и оно…
Улеглись они в шалаше, когда над лесом стала крепкая ночь. Обиходив гостей, Степан сел к костру чинить хомут. Протыкал шильцем сопревшую кожу, протаскивал дратву и опять шильце стремил, морщась от дыма костра. Хомут нужен был ему непременно к утру. Он торопился.
Тучи над степью меж тем разнесло, и с чистого неба глянули на землю ясные и яркие, как это бывает только в такие вот предзимние дни, звезды, обещавшие к утру непременный мороз. Степан, отрываясь от работы, поднял лицо и, увидев эти звезды, надолго задержал на них взгляд. Костер уже почти погас, и звезды объявились еще ярче и ясней, и Степан, оглядывая небо, подумал: «Господи, да когда же покой-то будет? Господи…» Но тут же заспешил, подбросил в костер сучья и взялся за шило…
…По петлистой дорожке, подсушенной нежданным в эту пору солнышком, катила телега с брошенными поперек мешками с житом, торчавшими из соломы кувшинами, видать тоже со съестным и приготовленным для базара. Это по нынешним-то опасным временам на базар? В Чернигов? «Ну, дурья башка, — сказал бы иной, — куда прешь? Ныне дома сидеть надо». Да и заворотил бы хозяина, похлопав по плечу. «Еще и спасибо за то скажешь. Езжай, езжай к родной хате. С базаром успеется». Ан телега катила. И не такая уж дурная башка правила в Чернигов. В передке телеги сидел Иван-трехпалый, а рядом с Иваном — Игнатий. Из подмосковной романовской деревеньки. Тот самый, что когда-то с ним на Москве в застенке у бояр Романовых сидел. Так случилось. Вновь встретились. Игнатий, уйдя с мужиками, после того как Хлопка Косолапа разбили, подался на юг, в степь. А куда было подаваться? И вот здесь Ивана встретил. Теперь катили они в Чернигов. В мешке с житом лежала схороненная тайная грамота, переданная Ивану монахом-иезуитом. Дело это было опасное, и Иван, хмурясь, понимал — в таком разе шутить — ни-ни. Вот и снарядил тележку, как на базар. Жита наложил, сала, колбас в кувшинах, залитых жиром. Добро-то в чужом доме брал и не пожалел, навалил горой. Правда, за дорогу раз только они натолкнулись на стрелецкую заставу, и это Ивану надежду подавало. От стрельцов он отговорился. Мастак был на то — шутка у него к случаю нашлась, да он бы и сплясал, но своего добился.
— Не я еду, — сказал стрельцам, — нужда везет. — Спрыгнул с телеги, рассыпал слова: — Стужа да нужа да царская служба — нет их хуже.
— Вот то-то, что служба, — сказал один из стрельцов, — не велено пропускать по дорогам. А нам-то что? По мне, так хотя бы и в Москву поезжай.
Иван лицо смял.
— Эх, стрельцы! — крикнул. — Все мы доброхоты, а в нужде помочь никому нет охоты.
Стрельцы смутились. Иван одному сунул калач, другому колбасы круг, и обошлось. Пропустили. Но Иван-трехпалый соображал, что ни калачами, ни колбасами не обойдешься, ежели за них возьмутся крепко. А что так может статься — догадывался. Воевода черниговский, князь Татев, был крутой, стрельцов в кулаке держал, и службу они несли у него строго. И вот хмурился, хмурился Иван, ан надумал, как черниговскую заставу обскакать. Такому ухарю известно — бог не поможет, так дьявол подсобит.
Не доезжая города версты три, Иван остановил лошадь и, растолкав уснувшего Игнатия, спрыгнул на землю.
Игнашка со сна вытаращился:
— Ты что?
— Слазь, — сказал коротко Иван.
Игнашка сполз с телеги.
Иван выхватил из-за голенища нож и, слова не говоря, всадил в мешок с житом. Рядно затрещало. Широким ручьем брызнуло желтое зерно.
Игнатий закричал:
— Что ты?!
Подумал, что мужик с ума спятил. Кинулся к Ивану, перехватил руку. Но тот оттолкнул его и ударил батогом по горшкам.
— Дура, — крикнул, — так надо!
Колбасы вываливались из черепков жирными кругами, закатывались в солому. Иван поднял горшок с маслом и тоже саданул об телегу. Масло плеснуло жарким огнем, разлилось по соломе, по мешкам.
Игнатий смотрел оторопело, ничего не понимая. Иван к нему шагнул, ухватил за армяк у ворота и рывком разодрал чуть не до пояса. Сорвал с растерявшегося вконец мужика шапку, швырнул в пыль и начал топтать. Игнашка только охнул на то. А Иван сдернул с себя армяк и, разодрав у рукавов и на спине, вбил каблуками в пыль. Истоптал и папаху. Затем, криво улыбаясь, торопливо одел все это и, оглядев себя, засмеялся:
— Вот теперь добре.
Кинул оторопело таращившемуся Игнашке истоптанную шапку, сказал:
— Одевай. — Прыгнул в телегу. Оглянулся на Игнатия, цыкнул: — Что стоишь? Садись!
Игнатий повалился в телегу.
Оставшиеся три версты до Чернигова Иван гнал лошадь так, что она из оглобель вырывалась. Не жалел животину. Жег и жег кнутом. На пыльной костлявой спине полосы ложились. Одуревшая от такого боя лошадь, вихляясь в оглоблях, несла телегу, не разбирая дороги.
Так, с маху, они и подкатили к воротам Чернигова. Навстречу бросились стрельцы.
Иван с трудом осадил лошадь. Стрельцы подбежали к телеге.
Игнатий, одурев от скачки, тер рукавом запорошенные глаза. А Иван, словно лишившись речи, мычал да башкой мотал. Наконец сказал стрельцам, что вез товар на базар — показал рукой на мешки и поколотые кувшины, — да разбили их неведомые люди. Едва-де сами, рассказывал, ушли. Губы у него тряслись.
— Стрельцы! — закричал вдруг. — Кто разбивает нас и калечит? Чем детишек кормить? Беда, стрельцы, беда!
Игнатий с изумлением увидел, что лицо Ивана залито слезами.
— Беда, — кричал Трехпалый, — беда!
Бился головой о грядушку телеги.
Стрельцы и сами видели, что беда с мужиком случилась.
Из соломы проглядывали шматы доброго сала, колбасы, рваные мешки с житом просыпали последние зерна, жирно блестели черепки побитых горшков. Справный хозяин ехал на базар, но да вот не доехал. Понимали стрельцы — разорить мужика легко, ну а как подняться ему? Топтались вокруг телеги. Оглядывали битые черепки, пустые мешки.
— Однако, — сказал старший из стрельцов, — кто же это озорует?
А озорство-то въяве объявлялось, и стрельцы начали успокаивать Ивана.
— Ничего, наживешь. Сам-то жив остался, и то слава господу.
Один из стрельцов, видать самый жалостливый, ведро воды притащил. Ивану слил на руки, он лицо ополоснул и вроде бы отдышался. Перестал голосить.
— Вы уж, братцы, — сказал, стряхивая капли с рук, — пропустите меня в город без докуки, расторгую, что осталось.
А видно было, что торговать ему нечем. Да, однако, подумали стрельцы, мужик не в себе уже. Пускай его, решили, едет. Авось и вправду какую ни есть копейку получит. Все подмога после такого разбоя.
— Ладно, — сказали, — поезжай.
И пропустили без препятствий. Иван вожжи подхватил. Когда телега миновала ворота и въехала на улицу, Иван, вывернувшись змеей, оборотился к Игнатию.
— Что, — вскричал, — ловко?
Глаза у него горели. Вот это и была его минуточка. Весь он себя выказал.
Игнатий только башкой мотнул — опомниться никак не мог.
— А ты, — воскликнул Иван, — видать, молоко еще пить не отучился! — И хлестнул едва волочившую ноги лошаденку.
На базаре Иван направил телегу в самую гущу народа. Бросил вожжи, вскочил на ноги и, раздирая на груди и так рваный армяк, закричал:
— Глядите, люди, что с нами сделали!
Народ попер к телеге. Отдавливали друг другу ноги. Наваливались на спины. Известно — где крик, туда и бегут. Нажали так, что иных и топтать начали.
— Разбили нас, — вопил Иван, — неведомые тати! За что — не знаем. Товар, что в Чернигов на базар везли, пограбили. Нас били и убивали до смерти. Глядите, глядите!
И рвал, рвал армяк. Ивана шатало, будто бы он и на ногах-то уже стоять не мог.
Народ дивился. Мужик-то на телеге хорошей, с лошаденкой справной, и товар у него явно был. Вон мешки с житом, черепки от горшков, сало в соломе проглядывает, колбаса. За что же такое лихо хорошему человеку?
— И с вами такое будет! — не унимался Иван. На шее у него веревками свивались жилы. — Всех разорят.
Толпа и вовсе заволновалась. Разные голоса заговорили:
— У нас зорить горазды…
— Это первое дело…
— Никуда от этого не денешься…
А Иван и другое закричал:
— Помянете голодные годы, да поздно будет. Под царем Борисом половина России, почитай, перемерла. И теперь зорят! Нет пощады от бояр московских!
Игнатий, перепугавшись этих слов, оглядываться стал. «Как бы стрельцы, — подумал, — не услышали. Конец нам будет». Глянул в сторону, а они — вот они, клюквенные кафтаны горят в толпе. «Ну, конец!» — мелькнуло в голове. Однако стрельцы и с места не стронулись.
Иван и вовсе опасное закричал:
— Погубит, погубит царь Борис всех! В землю вколотит! К Чернигову царевич Дмитрий идет. Вот истинный царь! Бейте воевод! Царевич Дмитрий вас на то благословляет!
Жилистый, верткий, сорвался с телеги — перед ним люди в стороны раздались — и в два прыжка подскочил к стоящему посреди базара столбу, на который грамоты царские вешали. Неведомо откуда в руках у него обнаружился свиток с красной печатью на шнурке.
Лицом, что и смотреть-то на него было боязно, оборотился к людям:
— Вот вам слово от царевича Дмитрия!
И грамоту к столбу прилепил. Все ахнули: оно и впрямь царская грамота — желтая бумага с письменами и под ней печать.
Баба какая-то лукошко с грибами сушеными в руках держала — так уронила. Грибы рассыпались.
— А-а-а!.. — затянула баба дурным голосом.
Другая, что стояла рядом, за голову взялась.
Народ хлынул к столбу. А Иван как сквозь землю ушел. Игнатий глазами метнулся — нет Ивана. Видит: к телеге простоволосый нищий в дранье с батожком идет. Тычет им в землю, как слепой. Подошел, прыгнул на телегу и строго так:
— Гони, ворона, в переулок! Гони!
Игнатий оборотился, а на него Ивановы глаза, белые от бешенства, смотрят в упор.
— Что рот разинул? — крикнул Иван. — Гони!
Игнатий хлестнул лошадь. Увидел, однако, что у столба, на который Иван грамоту пришпилил, народ волной ходил, и крик услышал.
Крику того только и надобно было в Чернигове. Монашек тихий, что рядом с паном Мнишеком сидел да подсунул Ивану-трехпалому грамотку мнимого царевича, знал: здесь искру бросить — и, как пересохшая солома, займется огнем город. Какой-то усатый дядька из плетня кол начал выворачивать, другой выдрал оглоблю из телеги, и вот уже волна покатилась от базара к воеводскому дому. На колокольнях тревожно заголосила медь. Над базаром, поднятая сотнями ног, взметнулась столбом пыль.
Неустойчиво, шатко стояла Борисова власть на южных пределах. Вольно, по-разбойному дышала на остроги и редкие городки широченная степь, что была дика и неуемна и помнила и половецких лихих воинов в кожаных, до глаз, шлемах, татарские лавы, и топот и визг коней, сходящихся в кровавой сече. Многих и многих больших и малых батек и атаманов помнила. Бурливая, горячая кровь не остыла здесь в жилах у людей, и каждая обида, притеснение, хотя бы и малое, выказываемая спесь — панская ли, российская ли, дворянская — вздымали такой вихрь возмущения, что его и остановить было нельзя.
— Браты! — выскакивал перед толпой изрубленный татарской ли, польской ли шашкой казак. — Доколе нам допускать мучения на русской земле? Доколе терпеть православным?
— Довольно!.. — одним вздохом ответила толпа, и не было ей удержу.
Воевода, князь Татев, услышав колокольный бой, бросился собирать стрельцов, но уже посад бушевал от поднявшегося люда. Кое-где занялись пожары. На улицах понесло горьким дымом. Князь — дворянин не из трусливых — остановился посреди воеводского двора. Вокруг роились гудящей толпой стрельцы. В растворенные ворота влетели на разгоряченных конях второй воевода, Шаховской, и князь Воронцов-Вельяминов. Шаховской соскочил с коня, но и слова сказать не смог. Из дома его выбили — едва ноги унес. Щеки у него тряслись, глаза лезли на лоб. Голова была повязана окровавленной тряпкой. Кто-то достал его камнем. Воевода рукой на него махнул. Князь Воронцов-Вельяминов сказал твердо:
— Посад не удержать. Всем в замок надо. Отобьемся. Веди, воевода, стрельцов в замок.
Воевода выдохнул:
— Эх! — Хлестнул плетью по сапогу и, по-волчьи всем телом, крутнувшись на каблуках, оборотился к стрельцам. И такая ярость была написана у него на лице, что стоявшие ближе к нему назад подались.
— В замок! — крикнул воевода с натугой. — В замок!
Оглянулся на свой дом и вмиг уразумел: часа не пройдет — и дом, и все, что нажито годами, дымом возьмется. И в другой раз хлестнул плетью по сапогу.
— Эх! — крякнул с бессильным отчаянием.
А дым уже резал глаза, надсадно ревели колокола, и воевода явственно различил яростные крики толпы.
По улице валом катил народ с базара: кто бежал с дубиной, да такой, что гвозданет по башке — и нет человека, другой с колом, и тоже немалым, опасным не менее, а кое-кто и с шашкой. Рев, рвущийся из глоток, нарастал.
Воронцов-Вельяминов все же успел сколотить стрелецкий отряд и ударить по толпе огненным залпом. Напиравший на воеводский дом народ рассеялся. Кое-кто упал. Завыли раненые. Огрызаясь залпами, стрельцы отступили к замку и затворили ворота. Со стены замка воевода Татев увидел, как запылал его дом. Дым вскинулся над крышей шапкой, и в следующее мгновение выбросились языки пламени. Воевода замычал, кинулся к пушке, выхватил у пушкаря запальный факел. Бомба разорвалась среди толпившихся у рва. Вспучилась земля. Кто-то закричал нехорошо. Воевода подбежал ко второй пушке. С запальной полки вспыхнувший порох плеснул пламенем ему в лицо. Опалил бороду. Но Татев того даже и не заметил. Ударил в другой раз. Но ясно было и воеводе Татеву, и другим, что посад сдали и это грозит плохим.
Петр Басманов поглядывал из возка, морщился досадливо. А снег валил и валил, сек дождь, слепя и коней, и людей, размывал дорогу так, что день-другой — и стрельцы будут по брюхо в воде. В вое ветра Петр Басманов слышал, как окружавшие возок стрельцы выдирают ноги из грязи, глухо матерятся, недобрым словом поминая проклятую службу.
Воевода кутался в шубу, подгибал ноги. Знал — остановиться надо, дать роздых стрельцам, но не мог. Поспешать, поспешать должен был. «Поспешать», — сказал сквозь зубы. Лицо у воеводы узкое, темное, глаза в провалах, и из глубины их выглядывают горящие зрачки. Лихорадило Петра Федоровича, озноб полз по спине. Неуютство, ах неуютство походное… Но досаждали не озноб, не снег, не даже размывавший дорогу секущий дождь — не давали покоя мысли. Ветер навалился на кожаный верх с такой силой, что возок, показалось, торчмя поставит, сыпануло, как дробью, дождем. Петр Федорович поплотнее закутался в шубу, вовсе нахмурился. Прикрыл глаза.
Подумать воеводе было о чем.
Накануне похода зван был Басманов царем Борисом. Великая то была честь, и воевода летел в Кремль, как на крыльях.
Сказать ведь только: «Царь зовет!»
У кого дух не захватит? Знал: такое вмиг по Москве разлетится и многие облизнутся завистливо… Вот то-то.
Царь принял Басманова в опочивальне, где принимал самых ближних, что стояли рядом, достигших вершины власти. Семен Никитич подвел Басманова к дверям и, застыв лицом, сказал одними губами:
— Иди, — и приотворил дверь.
Басманов вступил в царские покои. Сделал шаг и остановился. Вдохнул пахнущий чем-то необыкновенным воздух и застыл растерянно.
В царской опочивальне было полутемно, неярко светила лампада в углу. И уже хотел было воевода назад отступить, когда услышал Борисов голос:
— Пройди сюда.
Оборотился на голос, увидел: царь сидит в кресле у окна.
Не чувствуя ног на мягком ковре, воевода приблизился, поклонился.
Борис молчал.
Так продолжалось минуту, другую. Наконец царь сказал:
— Садись, — и, приподняв руку с подлокотника кресла, указал на стоящую чуть поодаль лавку.
Это была вовсе неслыханная милость. Воевода задержал дыхание. Но царь повторил с раздражением:
— Садись!
Басманов оторопело сел.
И вновь Борис надолго замолчал, только глядел упорно и настойчиво на воеводу. Вызнать ли что хотел, убедить ли в чем — воеводе было не ведомо.
Вдруг взгляд царя смягчился, и Борис спросил:
— Знаешь ли ты, воевода, какой груз на твои плечи возложен? — И, не дав времени ответить, сам же сказал: — Спасение отечества.
Слова эти упали, как тяжкие глыбы.
— Вор Гришка Отрепьев разорение несет люду российскому и поругание вере православной. Великое возложено на тебя — державе и вере послужить, не жалея живота.
Царь Борис переплел пальцы и опустил лицо.
— Послужу, великий государь, послужу, — торопливо, на одном дыхании ответил воевода.
Царь вновь поднял глаза. И уже не упорствовали те глаза, не вызнавали, но несли в себе что-то вовсе иное. Может быть, сомнение, может, совета просили или делились тем, что от других было сокрыто. Никогда Петр Басманов — любимец царский — такого не видел в глазах Борисовых.
Волнение, которого не испытывал ранее, охватило воеводу. Мыслей не было, только настороженность, беспокойство, немочь телесная вошли в него, и он замер в ожидании.
— Говорят, — медленно выговорил царь, — Борис-де народ обеднил, но вот же не сказывают, что обогатил державу. — И дальше продолжил с отчетливо звенящей в голосе болезненной и горькой нотой: — Говорят, что ныне не до чести дворянству — исхудали вконец, живут, как мужики, но никому не придет в голову вспомнить, что державой подняты Елец-крепость, Белгород, Оскол, огораживающие ее от татарских набегов. Не сказывают о Верхотурье, Сургуте, Нарыме, что в сибирских землях поднялись. Великими трудами и великими же тратами сие достигнуто. И выбор здесь один: державе крепкой быть — так быть же тощему животу у людей ее. Иного не дано.
Борис напрягся, сжал подлокотники кресла, и — не понял и не увидел того воевода Басманов — захотелось ему, а вернее, к самому горлу царскому подступило желание высказать сидящему перед ним то больное, что горело в нем жестокой обидой, досадой, гневом и не могло никак пролиться. Видел царь Борис, что и обида, и досада, и гнев его, даже выплеснутые наружу, ничего уже не изменят да и не могут изменить. И все же он не сдержался и начал было:
— Пахать не научились, ковыряют землю, как тысячу лет назад. Да что земля… Печь сложить в избе не умеют да и не хотят. Прокисли в приказном болоте. Новины, новины, кричат, царь Борис вводит. Такого не бывало при отцах наших, и нам не надобно… Новины…
И тут голос Бориса пресекся. Он увидел: воевода смотрит на него круглыми, ничего не понимающими, испуганными глазами, которые обессиливали Бориса. Всюду, куда бы ни обратился, он встречал этот взгляд. Страх, страх кричал в нем или серое, понурое, униженное непонимание. Он вглядывался в бояр в Грановитой палате — и те клонили головы, он всматривался в толпы московского люда — и они безмолвно никли перед ним, как трава под косой, он смотрел в глаза ближних — и даже те избегали его взгляда.
Царь Борис передохнул, опустил лицо и так сидел долго с поникшей головой. «Отчего такое? — в нем. — Почему?» Но он не находил ответа. И опять спрашивал, как спросил себя об этом же и сейчас. Как спрашивал вчера, позавчера… Ищущий взгляд, приниженный, задавленный, ускользающий тотчас, как только он, царь, устремлял свои глаза в эти неверные глаза. «Почему?» — спрашивал Борис и у икон, но иконы молчали.
Как до изнеможения уставший человек, Борис медленно-медленно поднял голову и сказал без всякого выражения воеводе Басманову:
— Награжден будешь безмерно, коли отечеству достойно послужишь. Безмерно… — И, помолчав, добавил: — Иди. Да поможет тебе бог.
Возок тряхнуло, и опять забарабанил по кожаному верху стихший было дождь. Воевода заворочался и, переваливаясь телом вперед, в который уже раз заглянул в слюдяное оконце. Увидел: тенями, клонясь под секущими струями дождя, бредут стрельцы, блестит залитая водой дорога и впереди, за обочиной, желтая, испятнанная снегом, унылая, пустынная степь. Ветер в степи гнул, шатал, рвал редкие кусты.
Воевода откачнулся от оконца, ушел в глубь возка. И опять невеселые мысли навалились на него, согнули плечи. Ежели воевода в Кремль на зов царский коней торопил, да и все казалось тогда, что шаг у них небыстрый, то возвращался он без спешки. И озабоченность, недоумение, растерянность проглядывали в его лице. Во двор въехали, Басманов дверцу возка толкнул и, рукой отведя подскочившего холопа, вылез и пошел по ступеням крыльца.
Высокое крыльцо было в родовом его доме. Еще деды строили. Перила широкие, шатром над крыльцом крыша, и видно было с крыльца далеко. Все подворье, постройки многочисленные, сараи, амбары, сад и еще дальше — дома соседских подворий, церковные маковки и многочисленные кресты. Взглядом с крыльца многое можно было окинуть. И воевода остановился на крыльце, ухватившись за перила, повел глазами по открывавшейся отсюда Москве. Смотрел внимательно, с интересом, как будто бы не знаком ему был многажды виденный город. Старые церкви, древние колокольни и колоколенки, замшелые крыши домов, провалы улиц меж ними. И саднящая душу докука просыпалась в нем. От прежней радости, что первым воеводой поставлен в отправляющейся к рубежам державы рати, патриархом благословлен и царем принят, не осталось и следа. Избыла из него эта радость, как вода из худой бочки. Протекла в неведомую щель, и опустел сосуд. Ни капли в нем не осталось еще вчера, еще поутру, еще час назад звучно плескавшейся влаги. И хмуро, с неясным вопросом заглядывал в лицо его город. Горбились крыши, недоуменно тянулись к небу колокольни, и малолюдьем настораживали видимые воеводе улицы. «Так что же случилось? — спрашивал себя Басманов. — Отчего такая нуда на душе?» И не находил ответа. Ответ был где-то в глубине сознания. Что-то там, в темноте, в суете мыслей, не давая покоя, брезжило, но еще не готово было выйти на свет и объявиться в осознаваемой яви.
А случилось вот что — обеспокоил и даже напугал воеводу царь Борис. С младых ногтей учен был Басманов, что царь и милует, и одаривает, и казнит. Царская улыбка — великая честь и великая же милость. Царский гнев — великое испытание. О том говорили, и в то сами верили, и тому же и учили и отцы, и деды, и прадеды. На том стояла земля российская. И милость царскую надо было принимать с благодарностью, а гнев терпеть со смирением. И объявись царь Борис воеводе с улыбкой — Басманов бы на колени упал и молитву господу вознес за милость несказанную. Объявись с гневом — так же бы склонился, смиренно подогнув колени и моля господа умерить царский гнев. А коль был бы царь неумолим — и это бы принял. Но в царе Борисе не увидел он ни милости, ни всесокрушающего гнева. Вот в чем была причина тревоги воеводы. Вот что грызло его душу. Беспокоило, не выходя наружу очевидной мыслью. Воевода не напрасно вглядывался в московские дома и древние церкви, в провалы улиц. Там был ответ. Вот только надо было услышать его в неслышных голосах, различить в тайных движениях, разобрать в размытых, неясных чертах плохо видимого воеводе в улицах люда. Но он, хотя и напрягал зрение, ничего не разобрал. А ответ все-таки был. Был в самом укладе московской жизни, в привычках, обиходе, в сложившихся обычаях, в языке, которым начинал лепетать едва выучившийся на первых годках ребенок. В крови, которую передавал отец сыну. «Новое надобно!» — кричал и молил царь Борис, и, может быть, того же нового просили привычки, обиход, обычаи, язык, кровь и поднимались, не желая укладываться в прежнее русло, бунтуя и все же не находя сил выйти из прежних берегов.
Воевода повернулся и вошел в дом.
В этот же вечер на подворье Басманова случилось и другое.
Старый холоп, принимая шубу, неожиданно сказал воеводе, что в дом постучался в отсутствии барина странник, просящий Христовым именем. Его пустили, и сей миг сидит он на кухне с дворней и странные ведет речи. Старому промолчать бы, ан нет вот — брякнул непрошеное. Басманов с удивлением на смелые речи оборотился к холопу. Тот стоял дурак дураком и моргал глазами. Басманов хотел было его прибить, но рука отчего-то не поднялась. Воевода ухватил себя за подбородок, помял вялыми пальцами, и вдруг ему захотелось увидеть странника. Показалось — вот этот-то прохожий, святой человек и прояснит мысли, скажет успокаивающее слово. Уж больно совпало как-то разом: необычные царские речи, тревожные мысли и объявившийся в доме странник.
— Откуда он? — спросил воевода.
— Божьим именем идет из дальних деревень, — заторопился холоп, — не то из-под Ельца, не то из-под Белгорода — поклониться московским святым иконам. Ветхий человек.
— Позови его, — сказал воевода, — проводи ко мне в палату.
Странник оказался не так уж и ветх. Воевода издали услышал, как мужик этот тяжело поднимается по лесенке и ступени под ним скрипят. Войдя в палату, мужик губы выпятил несообразно в рыжей бороденке и оборотился к иконам. Закрестился часто-часто — рука так и летала ото лба к плечам, тыкалась в серый армяк.
Воевода, сидя на лавке подле дышавшей жаром печи, смотрел, выжидая.
Странник к иконам шагнул, поднял руку и заскользил пальцами по окладам. Забормотал невнятное, забулькал горлом. И вдруг явственно воевода разобрал в этом бормотании:
— Увидел, — сказал мужик, — увидел… Скорбь великая, мука мученическая…
Воевода с лавки начал привставать, и тут мужик к нему оборотился.
— Не седлай коня, — сказал твердо, как ежели бы и не он минуту назад бормотал косноязычное… — Иконы плачут…
Из-под косматых бровей вынырнули даже до странного белые, без зрачков, глаза и уперлись в воеводу. Прижали к лавке. И в другой раз странник сказал:
— Не седлай коня!
И тут воевода увидел лапти мужика, крепко стоявшие на желтых промытых половицах. Лапти были липовые, ловкие, недавно надеванные. И мысль неожиданно поразила воеводу: «Так он же из Ельца идет. Как же лапти-то не истоптал?» И воевода, поднимая взгляд от лаптей, оглядел порты мужика, армяк. «Непогодь на дворе, грязи великие, — подумал оторопело, — а на нем ни пятнышка, ни пылинки… Как это может быть?»
Сорвался с лавки, крикнул:
— Вон! Вон!
Застучал каблуками в пол:
— Вон!
Мужика холопы подхватили под руки, поволокли. А воевода все стучал каблуками в разгорающемся гневе. Наконец рухнул на лавку.
Тогда же он понял: напугал его царь Борис, и напугал слабостью своей, сомнениями. Понял и другое: кто-то на Москве — и, видать, не из трусливых — мужика этого, якобы странника из Ельца, к нему, воеводе Басманову, подослал с предупреждением.
Воевода завозился в возке. Никак не мог найти покойного места. За слюдяным оконцем уже стояла чернота, а дождь все сек и сек в кожаный верх. И вдруг в шуме ветра и дробных звуках дождя воевода разобрал торопливые шаги, в оконце ударил пляшущий свет факела, и чья-то рука зашарила по возку, отыскивая дверцу. Дернула. Дверца отворилась.
— Воевода, — сказал голос из темноты, — вор Чернигов взял.
— Как? — вскричал воевода. — Как взял?
И полез из возка. Хватался рукой за ремень над дверцей и, не находя его, опять хватался:
Так же, словно колом по голове, ударили князя Татева слова стрельца Федьки Ярицы. Князь вылез из порохового погреба, где осматривал боевой припас, и увидел: посреди крепостного двора плотная толпа стрельцов, на телеге в рост торчит Федька Ярица. Длинный непомерно, с угластыми плечами и башкой котлом.
— Стрельцы! — кричал он, раздувая горло. — Животы положить хотите? Казаков тьма под крепость подвалила. А за кого вам головы терять? За царя Бориса?
Борода его свирепо торчала колом.
Федьку Ярицу воевода знал. Плохой был стрелец, крикун, пьяница. Пригнали его в Чернигов после розыска по воровству Богдана Бельского в Царево-Борисовой крепости. Многих стрельцов тогда, стоявших в Цареве-Борисове, разослали по дальным рубежам. Подальше от Москвы, чтобы не болтали и не смущали московский люд. Известно, зла в стрельцах было много, и рассудили царевы советчики — послать их подальше, там остынут, а потом видно будет. Вот и Федьку в Чернигов сунули.
— Запустошил русскую землю царь Борис-то… — раздирал рот Федька, мотал космами невесть когда стриженной головы. — В скудельницах под Москвой бессчетно костей лежит… Службой нас, стрельцов, замучил… Замордовал!
— Ах, вор! — выдохнул князь Татев и с исказившимся лицом, выхватив саблю, бросился к Федьке.
Стрельцы раздались в стороны. Князь, бешено расширив глаза, подскочил к телеге, хотел было саблей Федьку достать, но тот ногой саблю у него выбил и кинулся сверху на плечи. Ловкий был, вывертливый; и куда уж рыхлому князю с этим, из одних жил сплетенным, мужиком, было тягаться. Федька насел на него, свалил, придавил к земле. Мосластые руки стрельца потянулись к жирному горлу воеводы. Князь все же, взъярясь, поднялся, обхватил Федьку поперек живота и, наверное, от великой обиды, от невиданного унижения, согнул бы, но его ударили по затылку, и он повалился. Разбросал руки. Стрельцы сгрудились над ним. Федька сгоряча — грудь у него ходуном ходила — пнул воеводу в мягкий бок, плюнул.
— Пес, — сказал, — вот пес! — Крутнул свернутой шеей. — Связать его, стрельцы, да в погреб. Царевичу выдадим.
Князя — мешком — поволокли в погреб. Тут же связали второго воеводу, Шаховского, — этот и саблю выхватить не успел, — и Воронцова-Вельяминова. Всех троих заперли в погребе. Поставили стражу. Воронцов-Вельяминов, когда подступили к нему стрельцы, насмерть застрелил одного и отбивался так зло, что едва с ним справились. Выдирался из-под груды тел, его валили снова, но он опять поднимался. Федька Ярица петлей его захлестнул, и только тогда, полузадушенного, свалили окончательно. Вот каким бесстрашным и яростным оказался дворянин.
Он же, Воронцов-Вельяминов, на другой день, не убоявшись, сказал мнимому царевичу:
— Государем тебя признать? — Выкинул вперед руку, и все увидели сложенные в позорную фигуру три пальца. — Вот, выкуси, расстрига ты, попеныш, собака! — замотал лицом. — У-ух!..
Стоял он посреди крепостного двора с непокрытой головой, в разорванном кафтане, с голой шеей, на которой отчетливо угадывались следы веревки, и ясно было каждому, что ежели бы не казаки, обступившие тесно, то бросился бы он к царевичу и задушил голыми руками.
У мнимого царевича багровые пятна на лице вспыхнули. И ему, знать, кровь в голову ударила. Но он сдерживал себя. Губы закусил. Видать, догадывался, что кровь не водица, прольешь — не вернешь, и цветы на ней растут страшные, пагубные, такие, что всем цветам цветочки, но да вот только пчелка с них мед не берет.
Но Воронцов-Вельяминов тоже не от дури горячей кричал, не оттого, что голову зашибли, а так хотел и обдумал то, хотя и угадывал, чем это грозит, но все одно на своем стоял. По-другому не мог.
— Пес! — рвался дворянин из казачьих рук. — Придет твой час! Слезами кровавыми заплачешь! Быть тебе, собаке, на сворке! Быть!
И такая уверенность была в его словах, такая сила, как ежели бы угадывал он будущее. Вперед заглядывал. Да оно и впрямь сама правда говорила его изломанными в ярости губами.
А ничто так больно не бьет, как правда.
Казаки головы опустили. Не одному, так другому в словах этих страшное объявилось, и оттого головы поникли. Знали — за воровство Москва не щадит. Это в запале, сгоряча можно, конечно, и на воеводу кинуться, вспомнив обиды, саблю поднять. Русский человек, коли шлея под хвост попадет, многое натворить может, а когда задумается, вчерашнее, что так легко деялось, иным для него оборачивается. И здесь мужик начинает упираться. А Воронцов-Вельяминов все бил и бил в самую точку:
— Людей, лукавый, смутил и за то ответишь! Ох ответишь! Да и вы, слепцы, — оглянулся вокруг, — перед царем в ответе будете!
От этих речей стрельцы и казаки и вовсе приуныли. И мнимый царевич это увидел. Мысли его заметались. Но размышлять времени не было: над крепостной площадью, показалось ему, сам воздух уплотнился, навалился тяжестью на головы, на плечи стоящих, и вспышкой в сознании Отрепьева блеснуло: «Бей!»
Он взмахнул рукой.
Атаман Белешко кинулся с крыльца, потянул из ножен шашку. И пока он тянул шашку, обнажая слепящее лезвие, мнимый царевич уразумел: не дворянин, рвавшийся из рук казаков, был ему страшен, но сами казаки, ибо были они и его опорой, и его же смертной опасностью. И не дерзкие слова дворянина, но опущенные казачьи головы напугали его и подняли в страшном приказе руку.
Белешко подступил к Воронцову-Вельяминову и вскинул саблю. Брызнула кровь, алым растеклась по прибитой до каменной твердости крепостной площади. Слепила глаза, распяливала ужасом рты, перехватывала глотки. И князь Татев попятился, попятился от бьющегося на земле тела, закрестился непослушными, отказывавшимися складываться в троеперстие пальцами, забормотал что-то и все тыкал, тыкал в грудь растопыренной горстью.
Не давая никому опомниться, пан Мнишек закричал:
— Воевода! Присягай твоему государю!
Татев с ужасом на лице оборотился к нему.
— Присягай! — в другой раз крикнул пан Мнишек.
Чутьем угадал: сейчас не сломят воеводу — хуже будет. И пан видел, как напряглись, дохнули опасным стрельцы, как угрюмо нахмурились казаки. Не крепок — куда там! — был и поляк. Знал, что земля, на которой стоит, хотя и окраинная, но уже российская. И церквенка, что выказывалась из-за крепостной стены, вздымала крест не католический, но православный, и люди, вкруг стоящие, не на его языке говорили и думали, знать, не по его. Защемило в груди у пана, заиграл страх. Понял вдруг, что в миг все перевернуться может. И оглянулся, словно искал — куда спрятаться. А прятаться-то было некуда. И, как в Монастыревском остроге, когда впервые являли российскому люду мнимого царевича, мелькнуло в голове: «Сей миг сорвутся и стрельцы, и казаки, пойдут стеной. И не устоять перед ними. Сомнут, истопчут».
Тот же страх сковал и мнимого царевича. Знал он, видел, как ревет толпа, когда неудержима ее ярость. Вспомнил, как в Москве у Лобного места вора били. Как катались яростные тела по пыли, как взлетали кулаки. И глаза вора того вспомнил, протянутые руки. Увидел: вор подкатился к нему под ноги, ухватился за рясу, взмолился: «Оборони!.. Защити!..»
Мнимый царевич, как взнузданный, вскинул голову. Ему показалось: толпа казаков и стрельцов качнулась, кто-то ступил вперед и сейчас все они разом бросятся к крыльцу, на котором он стоял с Мнишеком.
Воевода Татев рухнул на колени и протянул руки к мнимому царевичу.
— Присягаю! — крикнул.
И на колени же повалился князь Шаховской.
В этот же вечер Мнишек сказал Отрепьеву:
— Прошу ясновельможного пана одному к стрельцам и казакам не выходить.
У мнимого царевича рука, сжимавшая витую ножку кубка, задрожала. Он оттолкнул кубок, расплескав вино.
— Да, да, — сказал Мнишек, — сие опасно. Надежной защитой ясновельможному пану может быть только польское рыцарство. И я осмелюсь советовать — выходить пану к люду только в окружении рыцарей.
Мнимый царевич поднялся из-за стола. Прошел по палате.
Вытирая губы салфеткой, Мнишек внимательно посмотрел на него.
Отрепьев остановился у окна. Плечи его были высоко подняты, спина напряжена. Не оборачиваясь, он сказал:
— Я на своей земле. Мне некого бояться.
Голос его готов был сорваться в крик.
— Оно так, оно так, ясновельможный пан, — ответил, помедлив Мнишек, — однако же лучше всегда иметь подле себя надежных людей.
И если бы мнимый царевич в эту минуту обернулся, он бы увидел на лице Мнишека улыбку, которая без сомнения говорила, что он, Отрепьев, для этого вольно сидящего за столом пана только игрушка, нелепый фигляр, с которым свел случай в полной недобрых приключений Мнишековой жизни.
Но царевич не обернулся. Мысли его были заняты иным. Он понимал, что не сабля, не отчаянный штурм открыли перед ним ворота и Монастыревского острога, и Чернигова, но люди этих городов. Ни казаки, ни польские рыцари не выказали пока воинской доблести, но лишь только шли за ним. «Так отчего же этот пан столь вольно сидит за столом, — подумал он, — да еще и пугает меня. Привязывает к своим рыцарям? Такое не позволительно, и должно пресечь эти речи, дабы неповадно было впредь так говорить».
Он повернулся к Мнишеку и сказал властно:
— На этой земле, исконной отчине моей, народ мой встречает меня с радостью и ликованием.
Но Мнишек, услыхав эти резкие слова и взглянув в побледневшее лицо Отрепьева, бровью не дрогнул. Как сидел развалясь, так и сидел. Больше того — потянулся к блюду и, долго высматривая, взял кусок мяса, положил на тарелку. Спокойно отпив глоток вина, будто он сидел не за столом российского царевича, а на пирушке в шинке, сказал:
— Ясновельможный пан может гневаться… На то его воля. Я сказал, что думаю.
И опять вытер рот.
Мнимый царевич ждал в напряжении.
— И в Монастыревском остроге, о котором соизволили вспомнить, — Мнишек поклонился Отрепьеву, — и сегодня в крепости я видел на лице ясновельможного пана не высокое и благородное волнение государя, являющегося своему народу, но… страх.
Глаза Мнишека вонзились в лицо мнимому царевичу.
— Страх! — ударил он голосом и, тут же смягчая тон, с должным почтением продолжил: — Но сие разумно. Толпа всегда опасна.
Отрепьев растерялся. Понял: Мнишек видит гораздо больше, чем он мог предположить. Пережитое сегодня на крепостном дворе еще и сейчас трепетало в нем, в глазах стояли мрачно опущенные головы стрельцов и казаков, плечи ощущали давление неожиданно и странно уплотнившегося и отяжелевшего над крепостью воздуха.
Отрепьев сел на прежнее место и протянул руку к кубку.
Мнишек, перегибаясь через стол, наполнил кубок вином.
— Ясновельможный пан, — сказал он, — не должен предаваться страстям.
Голос его был само миролюбие, ласка и почтительность, но при всем том Мнишек не отказал себе в удовольствии капнуть в этот мед ложку иронии. Да это было не удовольствие, но обдуманное действие. Он давал понять Отрепьеву, что не следует зарываться в игре в царевича, так как он, Мнишек, знает и его силу, и его слабость.
Отрепьев понял это и даже глаз не поднял от стола. Взял кубок и выпил залпом.
Пан Мнишек удовлетворенно откинулся на спинку стула.
В дверь стукнули и в палату, цепляясь саблей за притолоку, вступил ротмистр Борша. Сказал, обращаясь не то к мнимому царевичу, не то к Мнишеку:
— Казаки посад грабят. То опасно, так как может привести к возмущению черниговского люда.
Мнимый царевич со стуком опустил кубок на стол. Лицо его вспыхнуло. Он решительно поднялся, воскликнул:
— Коня! Коня мне!
Поднялся и Мнишек.
— Ясновельможному пану, — заторопился, — не след вмешиваться в это.
Но в Отрепьеве заговорило сдерживаемое раздражение. Лицо его изменилось. Задавленность и угрюмость только что были в нем, но вдруг в чертах проступила такая всепобеждающая уверенность, глаза осветились такой силой, что Мнишек невольно отступил назад. Ему показалось, что не с этим человеком он говорил минуту назад, а вовсе с иным.
Коня подали. Мнимый царевич, с трудом попадая в темноте ногой в стремя, вспрыгнул в седло и поднял коня на дыбы. Поскакал на улицу. За ним с факелами поскакали рыцари Борша.
Пан Мнишек остался на крыльце. Поднял руку ко лбу и отер его. Сказал, ни к кому не обращаясь:
— Н-да…
И еще раз медленно провел рукой по лбу. На лице его были растерянность и удивление.
На посаде поднималось багровое зарево пожара.
Воевода Басманов, узнав о падении Чернигова, спешно развернул отряд и, хотя непогода усилилась, повел его к Новгороду-Северскому.
Он рассчитал так: отступив, отряд сядет за стены крепости и, укрепив ее, встанет заслоном на пути вора.
Басманов вылез из возка и пошел по грязи со стрельцами. Идти было трудно. И ветер, и дождь, и снег, казалось, намеренно сдерживают каждый шаг, но воевода понимал, что теперь важен даже выигранный час, и упорно шел впереди стрельцов. Воротил лицо от ветра, вжимал голову в плечи, но шагал и шагал, бодря стрельцов.
Шубу его уже через полчаса облепило ледяной коркой, воротник стоял колом, сапоги промокли, но он по-прежнему шел впереди стрельцов, и видно было по его решительному шагу, что он готов идти так еще много часов. Стрельцы, поглядывая на воеводу, поспешали, и уже не слышно было ворчливых разговоров, но только дыхание хрипло рвалось изо ртов.
В Новгород-Северский они пришли ночью. Город спал, однако Басманов, подняв с лежанки местного воеводу, велел ударить в колокола и созвать народ. Кто-то из стрельцов, не отыскав пономаря, забрался на колокольню и ухватился за веревку.
Бом! Бом! Бом! — тревожно полетело над городом.
Люди выскакивали из домов на улицы, как на пожар.
Басманов пытал местного воеводу о боевом запасе, о надежности стен крепости.
Тот робел. Знал: Басманов — любимец царя, с таким, соображал, надо быть настороже. Худо, ежели не так что скажешь. Отвечал невнятно. Басманов хмурился, и это еще в большую неловкость повергало местного воеводу. Он косился на богатую шубу Басманова, на саблю, обложенную серебром, каких здесь и не видели. Ерзал на лавке, ежился.
— Что ж, стены, — отвечал, — стены ничего, батюшка, стоят. Есть гнильца, конечно, в иных плахах, но стоят. И припас есть: и пороховой, и свинцовый для пулек. Ядра еще в прошлом годе завезены.
Басманов торопил его с ответами. Воевода понемногу в толк взял, что навета на него в Москву не писано и Басманов со стрельцами не по его душу в Новгороде-Северском объявился, к грозному ответу перед Москвой не потянут, и успокоился. Заговорил посмелей.
Народ меж тем собрался у воеводского дома, и Басманов, выйдя вместе с воеводой к разбуженному среди ночи и взволнованному люду, объявил:
— Вор идет на город с казаками! И они, — прокричал, — казаки, прельщены вором и, забыв крестное целование, изменой ему служат. Нет заботы у них о гибели царства и святой церкви!
Толпа заволновалась.
Но Басманов, не дав никому одуматься, потребовал, чтобы годные к работе без промедления шли на крепостные стены и, кто в плотничьем деле мастер, тут же бы принялись чинить ветхое и для боя негодное, а иные копали бы рвы, укрепляли крепостные раскаты. Распорядился стрельцам московским разобрать весь люд на десятки и приступить к делу. Стрельцы с факелами пошли отбирать народ. Вся площадь высветилась чадящими языками пламени, зашумели голоса, и показалось, что город и не спал вовсе, а только и ждал команды московского воеводы. Странного, правда, в том ничего не было. Почитай, у всех порубежных городков всегда была тревожная, неспокойная жизнь, которая вот так вот, в любую минуту, могла круто измениться.
Едва солнце поднялось, люд новгородский, как мухи, облепил крепостные стены. Столько напора проявил Басманов! Даже чернецов из монастыря на работу выгнал. Сказал строго игумену:
— Кто от работы уклонится — батоги. И без пощады!
Тот за щеки взялся, затоптался, как гусь на молодом ледке, но возражать московскому воеводе не посмел. Уж больно наряден был московский гость, грозен да и говорил так уверенно, что за ним, и без упоминания царского имени, чувствовалось, стоит сила державная. Какой здесь спор! Потянулись монахи, тряся рясами, к крепостным стенам. Лица унылы, однако взялись за работу.
Стучали топоры, визжали пилы, и, меся грязь, черниговский люд вгрызался в землю, отрывая обрушившийся, запущенный крепостной ров. Басманов сомнения, смущавшие от Москвы, отбросил и поспевал повсюду. То на стене его видели, где он указывал, как новые плахи класть, то во рву обнаруживался и крепким словом подгонял мужиков, то скакал к раскатам, и уже и там раздавался его голос. Местный воевода не знал, как за ним и поспевать. Охал только: «Ох, батюшка, да ох, батюшка!.. Куда поспешать так? Успеется!» Но Басманов цыкнул на него, и тот, присмирев, уже молча, с мученической улыбкой семенил за ним, удивляясь безмерно московской прыти. «Вот они, — думал, — царские-то любимцы какие. Трудная жизнь. За царскую-то любовь плата большая. Не приведи, господь, и помилуй».
Видя, что от такого помощника проку нет, Басманов подступил к воеводе и сказал, глядя в упор круглыми и яростными глазами:
— Вот что, воевода…
Тот, вымотавшись в непривычной гонке, еле на ногах стоял, но всем лицом ловил Басмановы слова.
— Здесь нам двоим делать нечего. Поезжай-ка ты окрест, по малым крепостцам, и гони сюда царским словом всех, какие там ни есть, стрельцов и дворян.
— Батюшка! — всплеснул руками воевода. — Да сумею ли я?
Басманов взял воеводу за грудки, тряхнул так, что у того зубы щелкнули и голова замоталась, сказал:
— Сумеешь. А не сумеешь — царский тебе строгий суд! Воевода от рождения ничего страшнее не слышал. У него челюсть отвалилась, но он придержал ее рукой, сел в возок.
Вслед ему Басманов крикнул:
— В два дня обернись, да гляди мне! — Кулаком погрозил.
Два дня Басманов и на час на лавку не прилег и другим не дал. А стрельцы, не говоря уж о городском люде, валились мешками там же, где и работали, но он — нет. По ночам велел костры палить, водой отливать тех, кто на ногах не стоял. И все гнал и гнал:
— Быстрей, быстрей!
Ругатель был, распалялся, лицо чернело, ходил по стенам — и от него отшатывались. Вроде бы и не в себе уже был человек. Двужильный.
Костры полыхали во рву и у стен; люди, замерзая, жались к огню. Но Басманов и от костров иных, больно задерживающихся у жаркого пламени, отгонял. Кричал свое:
— Быстрей, быстрей!
Многие сомневаться стали: «Пошто такая гонка?»
— Вор придет, — отвечал на то Басманов, — увидите. За добрыми стенами-то способнее будет, стены-то оборонять.
И люд с тем соглашался.
К исходу второго дня Басманов кое-как добрался на плохих ногах до воеводского дома. Ему подали миску с лапшой. Он поглядел тупо, взял ложку. Голова сама собой клонилась, ныряла к миске, но Басманов упрямо вздергивал ее, тянулся ложкой. Жирная обжигающая лапша все же взбадривала, горячая волна разливалась по саднящему телу. Наконец он положил ложку, поднял красное, вареное от усталости лицо.
В дверях стоял местный воевода.
— А-а-а… — протянул, еле-еле ворочая языком, Басманов, — обернулся-таки. Ну, показывай, кого привел.
Воевода, весь забросанный ошметьями грязи и, видно, смирившийся со своей незадавшейся долей, ни слова не ответив, повел Басманова на крыльцо. Басманов шел, спотыкаясь о пороги.
— Кто такие пороги, — выругался, — нагородил?
Воевода только взглянул на него.
На площади под непрекращающимся снегом с дождем стояло с полтысячи казаков да мужиков еще столько же, набранных в спешке воеводой по деревням. Ближе к крыльцу на конях и на телегах — понял Басманов по оружию — дворянства сотня. И даже усталость с него слетела, как ежели бы он чарку водки хватил двойной крепости. Изумленно повернулся к стоявшему поникше воеводе.
— Ну, — вскричал радостно, — порадел ты, порадел! Ах, молодца! — обхватил воеводу за плечи и, заглядывая в лицо, в другой раз вскричал: — Молодца!
Притиснул к груди. Одушевился безмерно и крепость разом обрел.
Однако вот одушевления и крепости в эти дни Москве недоставало. Нахохленной стояла белокаменная — сумно на улицах, пустынно на площадях. Над городом волоклись рваные тучи, кропили землю холодной моросью. Воронье и то приуныло. По утрам с хриплыми криками слетало с бесчисленных кремлевских церквей, взбрасывалось к низкому небу черным скопом и уходило за Москву-реку. По вечерам возвращалось тем же порядком. Казалось, палку кинь — и зашибешь одним разом с полдюжины длинноклювых. Но да кому палку ту хотелось поднимать? Садилось воронье на кресты, на древние башни и, поорав по-пустому на голодное брюхо, замолкало до утра.
Думный дворянин Игнатий Татищев, заступивший место печатника, как ушел в тень знаменитый дьяк Щелкалов, сидя в приказе у жарко пылавшей печи, покряхтел, пошелестел лежащими перед ним бумагами и надумал войти к царю с предложением.
В палате было сумрачно. Оконца едва пропускали тусклый свет. Игнатий крикнул, чтобы принесли свечи. Свечи принесли в тяжелом медном шандале, поставили на стол.
— Ступай, — ворчливо сказал Игнатий гнувшемуся приказному. Пожевал губами. Свечи, разгораясь, тянули желтые языки пламени. Печатник уставился неподвижными глазами на трепетные огоньки и надолго задумался.
Был думный дворянин на Пожаре, когда, юродствуя, со злой улыбкой, шутовским голосом боярин Василий Шуйский объявлял московскому люду о смерти царевича Дмитрия, и не понравился ему боярин. Шибко не понравился. Игнатий тогда в бок ткнул царева дядьку Семена Никитича и головой кивнул на ломавшегося на Лобном месте князя. У царева дядьки и так глаза таращились, а посмотрев на Татищева и услышав его жаркий шепот: «Что же это, а?» — он еще и более вытаращился, но слова не сказал. И печатник понял: юлит, ужом вертится самый ближний царю Борису человек. «Перед боярином Шуйским, — решил печатник, — знать, и этот робеет. А ныне князь Дмитрий Шуйский, младший брат Василия, послан с ратью под Брянск. А оно-то одно — что Дмитрий, что Василий. Какая же он голова рати, ежели старший, что хороводит в роду, на Пожаре перед московским людом дурака валял? Видно, в какую сторону они смотрят». Знал Игнатий и о другом. Большую рать собирали для посылки на встречу вора и во главу ее прочили первого в Думе боярина, князя Федора Ивановича Мстиславского.
Свечи оплывали, капли воска сползали на медь шандала. Игнатий протянул руку, пальцем потрогал теплый воск. Мягкая светлая капля легко подалась под рукой. «Да, — подумал печатник, — боярин Федор… Будет ли он стоек?» И засомневался. Помнил, помнил, как кипели бояре, когда умер царь Федор Иоаннович, и Москва, в ожидании нового царя, шумела. Князь Мстиславский в поддержку Бориса тогда и словом не обмолвился. Какое там! Поддержка… Ведомо было Игнатию, что первый в Думе боярин в те дни сам о троне думал и высоко в мыслях залетал. Так будет ли он ныне опорой?
Кашлянул думный тяжело, прочистил горло, головой крутанул. И не хотел, да сказал себе: «Нет, здесь царю Борису заступника не сыскать». Тут-то и родилась мысль, которую он захотел донести до царя.
Думный дворянин Татищев высоко сидел на вершине приказной державной лестницы и с вершины этой далеко умел видеть. Он не только матушку-Москву оглядывал, иные города и села российские обозревал, но и за рубежи державы, как она ни обширна была и ни распространялась во все стороны на тысячи и тысячи верст, умел заглядывать. И сейчас в польскую сторону посмотрел. Оттуда, оттуда горький дым наносило. Оттуда, оттуда показывались пугающие языки пожара. И подумал Игнатий: «А не след ли тот пожар не в российских пределах гасить, ставя рати против вора, но там же, в Варшаве, в Кракове?» Но еще и дальше думный заглянул — в Стокгольм. Вот и не сидел с королем Сигизмундом и нунцием Рангони в Посольском зале Вавельского замка, а мысли короля прочел. «Да, — решил, — оно надежнее будет оттуда дубиной шибануть, вернее». А решив так, поднялся от стола, прошел в приказ.
Приказные, скособочив шеи, гнулись за длинными столами над бумагами, скрипели перьями. С неодобрением посмотрел думный на приказных. Знал — племя это криводушное и пакостное. Вот сидят тихи, головы постным маслом помазаны, сутулые плечи гнут — куда как, кажется, бессловесны и безобидны. А такой вот тихоня закавыку в бумаге поставит столь хитромудрую, что ты потом хотя и молись, и крестись, и лоб разбей — ан ничего из того не выйдет, пока этот самый радетель ее не исправит. А за исправление, понятно, рубаху снимет. Рать эта всю Русь держала в перепачканных чернилами руках. И как еще держала! Никакими цепями так не удержать. Ан вот и без приказных было нельзя. Вона страна-то какая! А людей в ней пересчитать, а налог на них наложить, взыскать, учесть, обсчитать… Э-э-э… Одно и было только — рукой на приказных махнуть.
Игнатий строго глазами повел. К нему подскочил на кривых ногах повытчик[32]. На носу, что торчал пипочкой, очки колесами, и он их на печатника безмолвно уставил.
— Зайди ко мне, — сказал Игнатий и велел и иных позвать, кого задумал втравить в замышленное дело.
Минуты не прошло — в палате печатника стало тесно. Приказные, известно, на зов начальственный откликаются сразу и ног, поспешая его выполнить, не жалеют.
Приказные сели в рядок на лавку и застыли, как и подобает перед очами власть придержащего.
Печатник их удивил. Казалось, ни с того ни с сего стал расспрашивать о купцах краковских и варшавских. У кого и когда покупки делались по дворцовой или иной нужде, кто из польских купцов в Москве бывал или в иных российских городах. И то спросил, у кого из них наши люди бывали и по каким надобностям. Потом о Стокгольме заговорил и все тоже о купечестве.
Приказные отвечали, выказывая друг перед другом свои знакомства, но ни один в толк не мог взять — к чему бы все это печатнику. А он свое:
— Так, так… А в Риге знакомцы какие у вас есть?
И об рижских купцах все выведал. Вызнал и то, как на негоциантов в сих городах выйти можно и сколь много времени на то потребуется.
Оказалось, что людей, с коими приказные дело имели, достаточно и времени, хотя на западных рубежах державных было неспокойно, не так уж много и надо, дабы с ними связаться. По лицу печатника приказные приметили, что разговором он остался доволен. То хмурый был — не подступись, а тут вроде бы и улыбку на губах его можно было угадать. Глаза подобрели. Наконец, видать, выспросив, в чем нужда у него была, печатник хлопнул ладонями об стол и сказал с начальственной определенностью:
— Ступайте.
Приказные выпятились из палаты.
Игнатий, оставшись один, рассеянно походил по скрипучим половицам и, странно было даже на то смотреть, губами все время играл: то по-одному их сложит, то по-другому, то вытянет в нитку, то округлит. И брови то взлетали у него кверху, то опускались, то хмурились или, наоборот, выражали благодушие и покой.
А странного ничего в том не было. Игнатий обдумывал ходы, коими хотел хвост польскому королю и панам его вельможным прищемить. И явственно представлял, как слова, доведенные из Москвы в Варшаву и Краков, восприниматься тем или иным лицом в сих городах будут. Вот оттого-то недоумение, изумление, хмурость, гнев или иные чувства, которые этим людям пережить придется, и отражались в движениях его губ и бровей. Так и виделось ему, как распахнет глаза и вскинет брови славный Сигизмунд, как нахмурится нунций и вознегодует лукавый канцлер Сапега.
Приказные услышали, как из-за дверей палаты просочился в приказ под низкий арочный потолок весьма восприимчивый к звукам едкий смешок:
— Хе-хе-хе!..
И многие насторожились чутким приказным ухом, улавливая тот смешок. Вспомнили — было время, и так-то вот, нет-нет и достославный дьяк Щелкалов посмеивался, а после того многие поротые зады чесали. Было такое, было. Приказные приуныли.
Не мешкая более, печатник напросился к царю Борису. Игнатий не стал говорить в высоких палатах о своих сомнениях в крепости Шуйских, первого боярина в Думе Федора Ивановича Мстиславского. Знал и верил, что для того, дабы похвалить одно, не обязательно хулить другое, да и иная мысль у него была обо всем этом. В изменчивой и сложной дворцовой жизни правилом для него было: хочешь дело делать — предлагай, а то, что иные говорят, — пущай их. О разумности сказанного тобой или кем иным судить царю, и ему же молвить последнее слово.
Царь Борис слушал думного дворянина, поглядывая в окно. Но Игнатий видел, что глаза царские следят за небыстрыми тучами, волокущимися над Москвой, оглядывают кресты кремлевских церквей, однако слушает его Борис внимательно. И соображал: что там, в царских мыслях?
Борис же, вникая в слова печатника, думал, что у дьяка Щелкалова преемник достойный. И с этим слугой ему, Борису, повезло. То, что предлагает думный дворянин, зело дельно. Свою роль сыграет и испугает короля Сигизмунда. Но и иные мысли в голове царской были. Может, он один сейчас в державе понимал, что ныне ему не Сигизмунд, не его советчики страшны, не даже дерзкий, направляемый неведомыми руками Гришка Отрепьев — вор, но вовсе иное. И вот это-то иное и не давало покоя. Имя, имя он хотел назвать — и не мог. В сознании бились обиды на то, что хотел на Руси создать, но не создал. Виделись люди, которых хотел видеть деятельными и верными, но не увидел; мучительно угадывалась дорога, по которой хотел пойти, но не пошел. И эта унижающая толкотня мыслей, ежедневная и ежечасная раздвоенность сильнее, чем Сигизмунд, его советчики. Гришка — вор и бояре обессиливали и угнетали его. Понимал царь Борис, что и Сигизмунд, и советчики его, Гришка — вор, бояре московские видят каждый свое и каждый по-своему, но видят траву, ее стебли, а он силился оглядеть все поле. Но вот это-то и не давалось, хотя он и чувствовал его дыхание, говорящее явственно, что оно родит ветер, под ударами которого трудно будет устоять. Он ощущал уже, как колеблется под ногами земля, различал встревоженные голоса полевых тварей, хотя пахари все еще шли по полю и налегали на сохи.
Борис отвернулся от окна, вгляделся в лицо думного дворянина и сказал себе: «Да, этот умнее и дальновиднее других». И тут же вспомнил дядьку своего, Семена Никитича, который наверняка торчал где-то у дверей высокой царской палаты и ждал, чем кончится встреча царя с печатником. Ждал царского слова. Этот, стоящий перед царем, говорил тихим голосом и телом был хил и немощен. Тот громыхал горлом, был силен, но вот только и гром голоса, и сила его властью царя Бориса были даны и с потерей этой власти убывали, как уже и заметил сам царь Борис.
— Добре, — сказал царь думному, — делай свое.
Но и понял, что и этот, хотя и лучший из его слуг, но так же, как и иные, в поле различает только траву, может, еще деревце, что стоит на ближних холмах, а даль и для него закрыта.
Печатник склонился в низком поклоне. И когда дверь за ним притворилась, царь остался в покоях один.
Глава вторая
Мнишек вошел, широко улыбаясь и с удовольствием разглаживая роскошные усы — гордость и честь уважающего себя пана. А он-то умел себя уважать, хотя немало людей в Польше считало, что уважения он никакого не заслужил.
Да это известно — человек всегда домогается того, чего ему недостает. А люди — что же, люди многое говорят. Это им вольно.
Отрепьев встретил его стоя.
— Ясновельможный пан! — воскликнул Мнишек открыто и с выраженным удовольствием, глядя в лицо мнимого царевича, как будто не помнил неприятный разговор, состоявшийся между ними. — Письмо из Кракова от панны Марины!
И это — «панна Марина!» — он произнес с ударением, как ежели бы большой подарок преподносил.
У Отрепьева, встретившего Мнишека с холодным напряжением в глазах, разгладились на лице морщины. Он шагнул навстречу Мнишеку.
— Да, да, — продолжил Мнишек с той же приподнятостью в голосе и, несколько поклонившись, вытащил из-за спины конверт, приятно сложил губы и подал конверт мнимому царевичу. Тот — слишком торопливо для особ царского рода — взял письмо и, отойдя к окну, развернул и поднес к глазам. Пан остался посреди палаты, с прежним радушием поглядывая на мнимого царевича.
Мнишеку те, кто его знал, во многом отказывали, но в одном ему никак нельзя было отказать — в наблюдательности. Замечать мелочи, которые проходят мимо внимания многих людей, Мнишека научила жизнь. Он годы провел при дворе. Известно, ко двору представляют — и король милостиво дает целовать представленному руку, а далее от многого зависит, будет ли эта рука так же милостива и благосклонна для придворного.
Широкие подъезды украшают королевские дворцы, роскошные залы распахивают перед вошедшим ряды великолепных окон, ослепляют бесчисленные зеркала, хрусталь сверкающих люстр, но помнить надобно придворному, что соединяют блистательные апартаменты коридоры — ломаные и узкие, а в них — двери тайных покоев. И не дай бог, не в ту дверь заглянуть. Здесь-то и учатся наблюдательности. И есть способные к тому люди. Ох способные… А Мнишек всегда был среди тех, кто способности являл необыкновенные. И сейчас он отметил, с какой торопливой поспешностью взял письмо мнимый царевич, как нетерпеливо развернул его и побежал глазами по строчкам. «Это хорошо, — подумал с удовлетворением пан Мнишек, — очень хорошо…» И надолго задержал на лице улыбку.
Накануне, во время разговора с мнимым царевичем, он позволил себе вольность и был за то немедленно наказан. Стоя на крыльце и провожая взглядом мнимого царевича, Мнишек сказал себе многократно: «Осторожность и еще раз осторожность!» Он никак не мог отделаться от удивления, поразившего его, когда мнимый царевич поднялся от стола и на лице его неожиданно явились никогда не виданные Мнишеком в Отрепьеве сила и всепобеждающая уверенность. «Такое в человеке, — подумал он тогда же, — будь он и мнимым царевичем, холопом последним — опасно!». Сейчас он увидел слабость, и злая радость возликовала в нем. Дворцовые коридоры вспомнились Мнишеку, потайные двери, роскошные апартаменты, улыбки, свет люстр, прижатые к устам пальцы… Он получил в свое время пинок в зад, и многие двери захлопнулись перед ним, а ничто так не ранит человека, не томит, не сокрушает, как захлопнувшиеся двери, в которые он когда-то входил свободно. Это горит в нем негасимым огнем, и он и ногти, и зубы выкажет, дабы вернуть прошлое. Мнимый царевич был для Мнишека ключом, которым он надеялся открыть вход в потерянный рай. Отрепьев, забыв о Мнишеке, читал письмо из Кракова. Глаза бежали по строчкам, но видел он не одни буквы, но саму обворожительную панну Марину, ее многообещающие глаза, обворожительный рот. Ему помнилось каждое движение панны Марины, летящие в танце ножки и, конечно, ее слова, слова, которые она выговаривала со столь необычно звучащими интонациями, что у него кружилась голова.
Отрепьев немало ночей провел в сырых и холодных монастырских келиях, и как ни смиряла суровая служба плоть человеческую, но в тишине ночной юная кровь рождала вопреки монастырским запретам неясные, сладостные образы. И панна Марина с некоторых пор представлялась ему той пленительной грезой, которую рождала юная кровь. Это была сладостная мука, не оставлявшая его ни на минуту. Женщины вдохновляли поэтов и живописцев на прекрасные стихи и потрясающие полотна, но и не кто иной, как женщины, подвигали слабые души на величайшие преступления. Еще в Кракове мнимый царевич пообещал панне Марине царские бриллианты и столовое серебро, Великий Новгород и Псков со всеми жителями. Он мог пообещать и больше. Сейчас для панны ему нужна была победа. Победа над лежащим перед ним городом.
Отрепьев сложил письмо и опустил за обшлаг рукава. Оборотился к Мнишеку.
— Мы атакуем Новгород-Северский, — сказал он с твердостью. — Сегодня, сейчас же!
Мнишек отступил на шаг и склонился в поклоне:
— Как скажет ясновельможный пан. Рыцари к штурму готовы.
Отрепьев торопился положить к ногам возлюбленной панны Марины еще один российский город.
Через час хрипло прокричала труба и казаки атамана Белешко с гиканьем и свистом бросили коней вперед.
Мнимый царевич, пан Мнишек, придерживающий рукой в алой перчатке срываемую ветром шляпу, атаман Белешко, как всегда невозмутимо взирающий на происходящее вокруг, увидели, как сотни коней, взрывая копытами влажную землю, плотной, сбитой стеной пошли к крепости. Мнимый царевич до боли сжал руку на эфесе шпаги. Пан Мнишек зашептал молитву, Отрепьев услышал: «Езус и Мария…» Другие слова заглушил донесшийся до холма, на котором они стояли, глухой топот копыт. Атаман Белешко издал непонятный горловой звук и далеко сплюнул.
Отрепьев опустил глаза и уже не смотрел на уходивших в степь казаков. Ему стало страшно. Мучительно напрягаясь, он ждал. Ему нужна была победа, обязательно победа, только победа!
У края холма Отрепьев увидел запутавшийся в жестких стеблях, колючий, узластый, плотно стянутый шар перекати-поля. Шар рвался под ветром, бился, но никак не мог преодолеть вставшую перед ним стеной упрямую бровку седого бурьяна. Шар мотало из стороны в сторону, подбрасывало и вновь прибивало к земле. Мнимому царевичу надо было на чем-то сосредоточиться, направить на какой-то предмет внимание. Уж слишком он был возбужден, встревожен, напряжен. И Отрепьев неожиданно подумал: «Вот ежели перекати-поле пробьет стену бурьяна — все будет хорошо». И не отводил глаз от бьющегося в сети жестких стеблей серого пыльного шара.
Мнишек продолжал молиться.
Третий на холме, атаман Белешко, нет-нет да взглядывал и на одного, и на другого и коротко сопел сквозь усы. Про себя он называл этих двух не «царевич Дмитрий» и «воевода Мнишек», но «паненок» и «пан». Они ему были не в радость, но и не в печаль, а только людьми, с которыми свела забубённая степная дорога. Он водил казаков на польские местечки, громил костелы и с той же удалью штурмовал российские крепостцы и остроги. Под его рукой были казаки и кони, а и казаки, и кони для того и существовали в его понятии, чтобы лететь по степи, вздымать сабли и с выстрелами, свистом и криками вламываться в городки и веси. Знал он и то, что не поведи он казаков в степь, они соберутся на круг и единым духом отнимут у него знак его власти — пернач, сместят с атаманства и тут же поставят другого, который крикнет нужное им: «По коням!»
Главной задачей атамана было почувствовать, когда отъевшиеся и отдохнувшие от похода казаки, их кони, весь многочисленный, многотележный, катящий за ними табор, состоящий из горластых баб, сопливых ребятишек, стариков, торговцев горилкой и перекупщиков добытого в бою товара, будет готов к новому походу. Угадать этот день точно и тогда только выйти из своего шатра, засунуть за широкий пояс атаманский пернач и сказать:
— А не пора ли, хлопцы, коней седлать? Трошки засиделись мы…
Пестрый казачий народ в этом случае взрывался голосами, начиналась необыкновенная суета, телеги разворачивались от дымящихся костров, в них сваливался нехитрый казачий скарб, седлались кони, и было совершенно очевидно, что всем им безразлично, в какую сторону поведет их атаман.
Белешко засопел сильнее прежнего. Он увидел, что дело у крепости не заладилось, но паненок и пан стояли неподвижно. И тогда атаман, выждав еще минуту, всем телом толкнул коня и внамет, высоко держа поводья, тяжело поскакал с холма.
Воевода Басманов увидел, как плотной стеной казаки пошли к крепости, и немало тому удивился. Конники крепостей не берут, и воевода, выглядывая из-за зубца, все высматривал и высматривал, крутя головой, откуда и сколько выйдет безлошадных мужиков, которые только и были опасны в приступе. Но уже вихрем налетели свист и крики атакующих, плотно ударил в уши грохот копыт, но безлошадных мужиков Басманов так и не увидел. И успокоился. То волнение трепетало в груди и губы холодели в ожидании приступа, а тут это разом ушло, и он даже сказал с радостной лихостью: «Ну, дети… Это игрища — на конях скакать».
Шагнул из-за зубца, махнул пушкарям.
Рявкнули две пушки, тут же еще две и еще.
Воевода увидел, что первые же ядра ударили в гущу наступающих. Вскинулись на дыбы кони, покатились им под ноги всадники.
— Эка! — крикнул в пушечном грохоте старик, новгородский воевода. — Что, не нравится, воры?
Казаки смешались.
Пушкари ударили еще и еще. Стену заволокло дымом.
— Батюшка! — ухватил Басманова за рукав новгородский воевода. — Как пушкари? Молодцы!
И Басманову захотелось обнять старика, поразившего в первый день немощностью и растерянностью, ан вот нет, какая уж немощность и растерянность. Он и дворян привел, собрав в спешке, и казаков, и мужиков, да вот же, оказывается, на печи здесь не спал и пушкарей добрых обучил. Но сделать этого Басманов не успел. Снизу вновь валом накатился грохот копыт, Басманов метнулся к бойнице. Воевода новгородский тут же объявился рядом.
— Волки, волки, ну точно волки идут, — заговорил, задыхаясь. — Гляди, гляди…
Страха в его голосе не было.
Басманов увидел: широким клином на крепостцу шла новая казачья волна. Отчетливо были видны люди, лошади, даже лица были различимы. Впереди скакал казак на рыжем, как огонь, жеребце, скакал тяжело, но с уверенностью можно было сказать — этот не свернет.
— Видишь, видишь, батюшка! — прокричал над ухом старик воевода. — Этот и есть у них атаман. Вредный мужик. Белешко ему, вору, имя.
И тут Басманов увидел, что казаки скачут к крепости с лестницами, по двое взявшись за концы. Лестницы не были приторочены к седлам, а поддерживались только руками и оттого не мешали ходу лавы.
— Ну, теперь держись! — вскричал старик воевода. — К стрельцам надо поспешить. Будет потеха!
Казаки пошли на стену. Подскакивали ко рву, не мешкая перебирались через воду, ставили лестницы, да так споро, что тому удивляться только и было можно, шли на стену. Басманов увидел разинутые рты, выхаркивающие ругательства, торчащие бороды и бешеные, налитые ужасом и отвагой глаза.
Стрельцы сбивали казаков с лестниц, но напор атакующих был так силен, лезли они так густо, что вот-вот, казалось, защитники крепости не выдержат и казачья волна перехлестнет через гребень стены. Настала та решительная минута, когда неверный шаг, колебание, испуг всего лишь одного защитника приносят поражение или победу. Да оно так бывает и в любом деле — через вершину перешагнет тот лишь, кто пересилит себя, когда уж и сил-то нет. И вот кажется — рухнет человек, ан он выдюживает. Вот этот-то и победит.
Воевода Басманов увидел: по лестнице, медведем, пер атаман Белешко. Хватался большой, сильной рукой за перекладины и мощно, словно это не требовало усилий, выбрасывал тело вверх. Над стеной выросла его голова, показались широкие, даже до удивления, могучие, вроде бы сразу заслонившие половину неба, плечи. Басманов выхватил у стоящего рядом стрельца бердыш и бросился на атамана. Но Белешко, ступив одной ногой на стену, качнулся в сторону и саблей отбил обрушившийся на него удар. Ан не сплоховал и Басманов — перехватил бердыш и тупым концом ударил атамана в лицо. Тот ахнул и начал валиться со стены. На лице его мелькнуло изумление. Басманов рубанул атамана по голове. Это и решило исход штурма. Напор атакующих разом угас, и стрельцы, одушевившись, уже теснили, сбивали со стены последних, самых горячих и отчаянных.
Басманов глянул вниз, меж зубцов. Двое казаков, подхватив атамана, волокли его за ров. Он мотал головой, хотел встать на ноги, но, видимо, сил уже не хватало и он валился на землю. Казаки вновь подхватывали его под руки. Тут и там лежали убитые люди, кони, темнела и дымилась взрытая ядрами земля, ров был полузавален тюками соломы и хвороста. Но главным все же было то, что все, кого увидел Басманов, шли, ползли, вели коней или волоклись, поддерживаемые, как и их атаман, под руки, от крепостных стен прочь, и поспешали сделать это побыстрее. Басманов понял: приступ отбит. Казаки были дерзки и сильны в первые минуты осады. Шли мощной волной на крепостцы, но ежели встречали дружный отпор — откатывались и уже никакая сила не могла их заставить вновь броситься на стены. По внутреннему складу их войско было готово налететь без страха на городок или крепостцу, с первого удара опрокинуть защитников и броситься грабить все, что ни попадало под руку, но к долгой и упорной осаде они были неспособны. Налетали из степи лавой да и уходили в степь.
Басманов опустился на невесть кем брошенное бревно, тут только почувствовав, сколь сильно обессилело тело, как звенит в ушах шумно приливаемая к голове и все еще не успокаивающаяся кровь. Минуту или две он сидел недвижно и только после того оглянулся.
У пушек привалились к лафетам пушкари, еще дальше сидели и лежали стрельцы, скованные той же самой усталостью, которая заставила и Басманова опуститься на бревно. Однако, скорее, это было не усталостью, но тем внутренним испытываемым вот в такие минуты опустошением, вызванным чуждым человеческому существу действием — убивать одному другого.
Басманов хотел было поднять руку и стереть с лица пороховую копоть, но рука не поднялась. И он только откинулся назад, прижался спиной к стене и вновь застыл недвижно. Он не испытывал радости победы, горечи разочарования, ему хотелось только вот так сидеть и сидеть недвижно, ощущая благодать внезапно наступившей тишины.
Неожиданно он почувствовал, как плеча коснулась чья-то рука. Он открыл глаза.
— Батюшка, слава господу богу, живой, — сказал, вглядываясь ему в лицо, новгородский воевода. — А я уж плохое подумал. Водицы испей. — Он обратился к стоявшему за ним стрельцу и, приняв из его рук ковш, передал Басманову. — Испей, испей… По себе знаю — сей миг водица — самое что ни на есть лучшее.
Басманов слабой рукой взял ковш и припал к краю. Вода влилась в него свежей, бодрящей струей, и тогда он, обливая грудь, начал пить большими, жадными глотками.
— Вот, вот, — ободрил воевода-старик, — пей, пей. То добре.
Когда Басманов поднялся на ноги и, поддерживаемый воеводой, глянул со стены в степь, тот сказал, успокаивая:
— Э-э-э… батюшка. Не беспокойся — воры не скоро объявятся. Это уж я знаю. Который год на рубежах сижу… Волк, коли в овчарне вилами прижали, на старое место не спешит. Помнит долго. Пойдем, пойдем, батюшка.
И подумал: «Царским любимцем лестно быть, но и порадеть для того надо немало». Видел, хорошо видел, как Басманов атамана Белешко со стены сбил. И еще подумал, что такое не каждому под силу.
Он помог Басманову сойти со ступенек.
В тот же день в Москву был послан гонец с вестью, что у Новгорода-Северского вор побит, и побит крепко.
Мнимого царевича сняли с коня чуть живого. Увидев, как откатываются от крепостцы казаки и уходят в степь, он вдруг закричал невнятное и, развернув коня, поскакал прочь с холма. Пан Мнишек, перепугавшись не менее мнимого царевича, бросился было за ним и тут увидел стоящих в строю польских рыцарей. Ротмистр Борша и с ним еще офицер подскакали к Мнишеку.
— Царевич! Царевич! — вскричал Мнишек и указал офицерам на уходившего наметом в степь Отрепьева.
Офицеры поскакали следом. Мнимый царевич бил и бил коня каблуками, бросив поводья и заваливаясь на сторону. Офицеры едва догнали его, и ротмистр Борша, перегнувшись через шею коня царевича, с трудом подхватил поводья. Отрепьев брызгал слюной, оглядывался испуганно и все норовил скакать дальше, но коня уже остановили. Борша вздернул гордый шляхетский подбородок, и на его лице объявилась злая улыбка. Но все же он, а не кто иной, поддерживая мнимого царевича в седле, довел его коня до ворот, из которых царевич так нетерпеливо выскакал два часа назад в неуемной жажде победы во имя прекрасной панны Марины.
Царевича сняли с коня, бегом внесли в хату, положили на застланную коврами лавку. Пан Мнишек растерянно склонился над ним. Ротмистр Борша остался в дверях. И когда пан Мнишек поднял глаза и увидел его лицо, то понял: ничего доброго ныне ждать нельзя.
Казаки, отступив от крепости, сбились в обозе вокруг телег, и тут и там раздались голоса:
— Чего мы здесь, хлопцы, потеряли?..
— Нас бьют, а паны рыцари за спинами нашими ховаются…
Крикуны раздирали свитки, оземь швыряли папахи. Заголосили, запричитали бабы, и шум, и разноголосица вскинулись к небу в едином призыве:
— В Сечь, хлопцы, в Сечь!
Иван-трехпалый объявился в самой гуще крикунов. Он ужом вертелся меж телег, лез в толпу и кричал больше других. Игнашка, окончательно приставший к Трехпалому, едва поспевал за ним, больше всего опасаясь затеряться в этой круговерти. Чувствовал он себя здесь все же чужаком, хотя и хлебал из общего котла, а сегодня ходил на приступ Новгорода-Северского. Иван поутру привел ему невесть откуда взятого коня с седлом, дал пику с остро заточенным наконечником и сказал:
— Показачишься… Э-э-э… Мало ли кто из наших в казаки уходил…
Себя Иван, наверное, давно считал казаком. Да и для всех вокруг он уже был своим, сечевиком, и его даже выделяли среди многих за острое слово, за лихость, сквозившую в каждом движении, за злую силу, которая так и выказывалась в глазах.
Игнатию было, конечно, далеко до Ивана-трехпалого, однако и он был уже совсем не тот мужичок серый, что на коленях стоял перед романовским приказчиком Татарином. Вовсе не тот. Ныне бы рука у него не дрогнула боярский овин поджечь. Да и не тот уж он был, каким прибился к войску Хлопка Косолапа и с дубиной на Москву шел. Тогда не он шел, но лапти его шагали, а он лишь за ними поспешал. Ныне было иное. Нет-нет да выглядывала из Игнашки ивановская злость. Да и видом своим выказывал он, что уже не мужик-сермяга перед тобой, но калач тертый. Подбористый, рукастый и в шаге скорый. Не волк, нет, волчонок, но зубы у него есть. Вот так-то, люди русские. Все к себе, к себе гребем, все отнять и у ближнего, и у дальнего хотим, рот разеваем: «Мне! Мне!» А об том недосуг подумать: отнять-то, может, и отнимем, но как бы от того не потерять большее. Его бы, Игнашку, ласково за руку повести, ему бы кусок от себя дать, словом добрым согреть, но нет — стриги его, как овцу, мордуй, наваливай на хребет ему больше и больше. Выдюжит, считали, выстоит, а нам копеечка с того. Но вот и получили. Ныне Иван-трехпалый научил его не копеечку взять, а по башке садануть дубиной. А после того, как шибанут тебя со всей руки, копеечка та пригодится ли? Навряд. К савану, известно, карманов не пришивают.
Иван-трехпалый, пробившись сквозь толпу, оттолкнул плечом дюжего дядьку с вислыми усами, вспрыгнул на телегу. Закричал громче, чем другие кричали:
— Пулек стрелецких испугались? Пуп затрещал?
Ему-то, Ивану, ни к чему было в Сечь. До Москвы дорваться хотелось. Он белокаменной кулаком грозил. И то помнил.
— Слабо вас побили. Еще надо бы поучить. Жареный петух в зад вас не клевал! — И понес московскими разными простыми словами.
— Во балабонит! — сказал с восхищением стоявший рядом с Игнашкой усатый дядька, которого Иван спихнул с телеги. — Як пономарь!
Но вокруг раздались дружные голоса:
— В Сечь! В Сечь!..
Какие-то руки ухватили за ногу Ивана-трехпалого и стащили с телеги. С разных сторон опять закричали:
— В Сечь! В Сечь!..
— Трошки подождем!
— Побачимо, як оно повернэтся…
И вновь:
— В Сечь! В Сечь!..
В криках и шуме никто не приметил, как стоящий в самой гуще монашек-иезуит потихоньку стал отступать из толпы, отступать, а выйдя на свободное место, зашагал и вовсе быстро к панскому дому. Только подол летел по пыли.
Нунций Рангони знал, кого посылать, дабы исполнилось дело, за которым мнился католический крест над Москвой. Эка — сказочная Москва, необъятные просторы за ней, и над всем этим простертая папская рука. Ради такого многим должно было пожертвовать, и он послал лучшего из лучших ордена Игнатия Лойолы. Монашек был хотя и молод, но сразу сообразил, стоя в ревущей толпе, что уйдут казаки — и конец мнимому царевичу. Понял: казаков надо остановить. А братья ордена умели настоять на своем. Иниго Лопес де Рекальдо, святой Игнатий, черный генерал, отдал много лет труду «Духовные упражнения», завещанному ордену на вечные времена, в котором говорилось, что нет запрещенных средств в достижении цели. Все годится для братьев ордена: вероломство, коварство, обман, интрига, использование исповеди, убийство и заговоры, дабы только укреплялась и цвела папская власть.
Монашек вошел в покои пана Мнишека с застывшим лицом. Движения его были четки и точны. Без приглашения сел к столу и в упор, немигающими глазами, взглянул на Мнишека.
Пан Мнишек, еще не оправившийся от потрясения неудавшегося штурма, тряся вялыми щеками, как подгулявший шляхтич, хвативший лишний кубок житной водки, заперхал горлом, захрипел, ругая грязную холопскую, казачью сволочь.
— Пся крев! — рвалось из его ломающихся губ. — Пся крев…
Монах смотрел на пана холодными глазами, понимая, что его слова и проклятья не стоят и гроша, как не стоят гроша все проклятья, кем и когда бы они ни произносились. Они только свидетельство слабости. Сильные не проклинают и не брызжут слюной, потрясая воздух ненужными словами. Сильные делают свое молча. Но он не прервал Мнишека, а дал выговориться до конца. Это было даже забавно: вздымающаяся в гневе жирная грудь, взлетающие над головой руки, трясущиеся щеки… «Да, — подумал монах, — этому пану не крепости штурмовать, а под пьяную мазурку поднимать кубки да орать здравицы за таких же, как он, вояк дворцовых ристалищ». Однако балаган, как назвал про себя монах бурное, красочное и экспансивное выступление пана Мнишека, надо было кончать. И жестко, как это могли только хорошо тому выученные братья иезуиты, сказал:
— Пан Мнишек!
Вот и всего-то, что он произнес, но как произнес! В интонации, в четко выговоренной каждой букве, в непередаваемо властной уверенности звука было так много победительного, что Мнишек, словно натолкнувшись на стену, смолк.
Через малое время из панского дома четверо мнишековских гайдуков вынесли на носилках атамана Белешко.
Атаман лежал на ярком ковре, как раненый, но не сломленный лев. До самой груди он был прикрыт золототканой парчой, на которой тяжело, неколебимо покоились крупные мосластые руки, властно сжимавшие знак власти — пернач. Голова атамана была приподнята подушками так, чтобы всем было видно лицо.
Монах-иезуит рассчитал точно. Всякий в шумевшей толпе, кто взглянул бы в лицо атамана, замолчал тотчас, устыдившись и слов своих, и мелочности рождавших их мыслей, да и самого себя, дергающегося, раскинув руки, на телеге или на винном бочонке, поставленном торчмя.
Лицо атамана прорезали глубокие, как сабельный след, морщины, волной спадали мощные полуседые усы, хмуро и мрачно нависали над полузакрытыми глазами упрямые кустистые брови. Однако были же здесь и иные лица — иссеченные морщинами, украшенные не менее пышными усами, густыми бровями, прикрывавшими глаза, как козырьки. Вон сколько казаков вокруг стояло, и на каждом лице было написано свое и вовсе не простое. Их жизнь пестовала жесткими руками и жесткой же рукой на лицах писала знаки. Нет, не усы, не кустистые брови, не сабельно сеченные морщины выделяли лицо атамана, но то выражение силы, дерзости, своенравности, несокрушимой мощи и гордой неуемности, что проглядывало из всех его черт. Это была сила, дерзость, своенравность мощи и гордой неуемности самой степи, породившей этого казачину и капля за каплей перелившей в него свою мятежную душу.
Толпа смолкла.
Носилки с атаманом Мнишековы гайдуки с бережением поставили на телегу и отступили в сторону. Сотни глаз в молчании обратились к атаману. Молчал и атаман. Так продолжалось долго. И минуту, и две, и три… Лицо атамана было неподвижно, но, однако, чувствовалось, что он не уснул, не забылся в боли от раны, а видит окружавших его людей и внимательно прислушивается к ним. О том говорили глаза, тяжело устремленные на толпу из-под полуопущенных век. Какие думы рождались в его изуродованной ударом бердыша голове, никому не было ведомо. Но многие в толпе, глядя на своего атамана, вспомнили, как ходили под его водительством в степь, слышали свист сабель, видели огонь и дым пожарищ, товарищей, которых уже не было на белом свете. Смерть, вид умирающего человека и самые грубые души заставляют содрогнуться и, оглядываясь вокруг, спросить в тоске: «А что же я, кто я и что там для меня впереди уготовано?»
Казачья жизнь была коротка. Редкий казак доживал до седой чуприны. Сегодня пляшет хлопец в обступившем его кругу таких же, как он, молодых и здоровых, летят над головой вскинутые руки, блестят глаза, и счастливо цветет на лице белозубая улыбка, а завтра падет он под сабельным ударом, и хорошо, ежели остановится после сечи казачья вольница и плясуна того, по христианскому обычаю, опустят в землю, помолившись, поставят в голову ему крест. Чаще бывало, уходя от преследования, бросали казаки погибших, и лежали те вдоль дорог, в буераках, под холмами, всеми забытые, непогребенные, пока не растаскивали их звери или птицы. Было, было о чем подумать казакам, стоящим вокруг атамана…
Срываясь неловкой ногой с колеса, полез на телегу пан Мнишек. Утвердился, взобравшись, и неожиданно громко — а, скорее, выделила и подчеркнула силу голоса тишина, стоявшая над толпой, — закричал:
— Панове казаки! Как же оставить вам неотмщенным изрубленного атамана?
Пан взмахнул рукой в сторону крепости.
— Там враги ваши! Это они срубили достохвального рыцаря…
Казаки стояли, опустив головы. Лица были хмуры. И только одно лицо не хмурилось в толпе. Лицо тихого иезуита-монашка. Напротив, он с живым интересом поглядывал на витийствовавшего на телеге пана Мнишека и, чувствовалось, не без удовлетворения воспринимал его слова. «Однако, — думал монах, — этот разряженный пан не так уж и плох. Видимо, ошибался я, принимая его за безвольную куклу. Ах, сколько честолюбия в нем, сколько жажды успеха, коли полез он на эту телегу».
— Рыцари! — кричал пан Мнишек. — Честь ваша, ваша слава…
Монашек улыбнулся. «Прав, — подумал, — святой Игнатий, учитель ордена, сказав, что мерзостен человек и слова его ложны. О каком рыцарстве вопиет этот пан, о какой чести?» Он-то знал, что привело пана Мнишека в российские пределы, как знал и прошлую его жизнь и представлял себе его будущее, ежели пану удастся осуществить задуманное. Для монашка не было в том тайны.
Монашек переплел пальцы и до боли сжал их.
В толпе между тем уже изменилось настроение. И кто-то сказал:
— А что, хлопцы, отомстим за атамана?
Другой, срывая голос, заорал:
— Хай живе батько Белешко!
И волной заходили по толпе голоса:
— Отомстим!.. Хай живе!..
Как трудно угадать, куда направится огненный пал, гонимый ветром по степи, так же трудно предвидеть и настроение казачьей толпы. Оно всегда непредсказуемо, вольно и свободно, как огненные языки, пожирающие многоверстные пространства немеренных степных просторов. Еще минуты назад кричавшие: «В Сечь! В Сечь!» — с такой же страстью и убежденностью закричали:
— Отомстим! Отомстим!..
Пан Мнишек мог быть доволен. Однако он не знал, что его ждет неожиданность.
Светало.
Причетник[33] краковского Мариатского собора приотворил тяжелую дверь главного входа в храм и выступил на заметенные снегом ступени. Причетник был стар, и открывать собор задолго до первой мессы было ему нелегко, однако к службе он относился добросовестно, и еще ни разу не случилось, чтобы он проспал или замешкался в выполнении этой обязанности. За вытертую до блеска тысячами рук и знакомую до малейшего изгиба медную рукоять дверей он всегда брался в одну и ту же минуту. Дверь, уступая, шла на хорошо смазанных петлях, пока не раздавался сухой щелчок и тяжелое полотно, задержанное защелкой, останавливалось, прочно закрепившись на весь долгий день.
Справившись с дверью, причетник, как всегда, смахнул снег со ступеней и вынес из темной глубины храма лестницу. Старательно, как это делают только старые люди, трудно переставляя непослушные ноги с перекладины на перекладину, поднялся к висевшему над входом медному фонарю и погасил свечу. Затем убрал лестницу и, шаркая подошвами, вошел в огромный зал собора. Остановился, обвел неторопливыми глазами едва освещенные ряды скамей, украшенные росписью стены и надолго задержал взгляд на фигуре Христа, вознесенного над залом. Причетник не помнил, сколько лет вот так вот по утрам останавливался посреди храма и подолгу смотрел на распятого на кресте сына божьего. Время притупило взгляд старика, и он больше не замечал боли в раскинутых руках Христовых, в мучительном изломе тела, однако верил, что это утреннее свидание с сыном божьим дает ему силы еще на один день жизни.
Старик причетник потянул непослушную руку ко лбу и в это время услышал, как у собора сильно застучали по мостовой колеса. Он повернулся и поспешил к дверям.
Когда причетник вышел на ступени, у собора стояла большая, богато остекленная карета. Гайдук в синем, опушенном мехом жупане с поклоном распахивал ее дверцу.
Карета была незнакома старику и незнакомым показался ему вышагнувший из нее сухой горбоносый человек в богатой шубе. Поднявшись по ступеням, он прошел в собор.
Гайдук остался у кареты и стоял, тараща глаза и алея крепкими щеками, разогретыми морозцем. Старик невольно отметил живой блеск его глаз, задор молодого лица, как отметил и немалые коробы, привязанные в задке кареты. Они без сомнения свидетельствовали, что хозяин ее собрался в дальнюю дорогу. Постояв еще с минуту на ступенях, причетник вошел в собор и увидел, что неожиданный ранний посетитель сидит на скамье близ входа с молитвенно склоненной головой.
Причетник отступил в тень стены и остановился. Он решил так: добрый католик собрался в дальнюю дорогу, а перед тем, как пуститься в путь, пришел в храм вознести молитву господу. И в этом он не ошибался. Ошибся он в том, что принял раннего посетителя за незнакомца. Он знал этого молящегося, однако никогда не видел его одиноко входящим в храм. Тот многажды бывал здесь, но бывал всегда в блестящей королевской свите, так как молитвенно застывший в пустынном зале собора человек был знатным вельможей Львом Сапегой.
Лев Сапега, наверное лучший знаток в Польше российских дел, в Кракове оказался не случайно. Многие обстоятельства привели его в этот город. Королевская резиденция в связи с закреплением унии между Польшей и Литвой давно была перенесена из Кракова в Варшаву, но древняя столица Польши не утратила своего значения. Здесь, и только здесь, в многочисленных старых дворцах польской знати, по-прежнему определялся политический курс страны. В Кракове не говорили громко, однако и тихий этот голос был слышен в Варшаве, которую многие презрительно называли деревней. Статус истинной столицы ей нужно было еще завоевать. Так вот именно из славного Кракова Лев Сапега и услышал голоса, насторожившие его. А голоса слушать он умел.
Московский думный дьяк Игнатий Татищев, поговорив с царем Борисом, заставил-таки кое-кого в Польше задуматься о разумности Сигизмундовых начинаний с царевичем Дмитрием. Пути дьяка Игнатия в Польшу были тайными, однако не тайным, но явным объявился вдруг в Кракове разговор, что-де неплохо в Московии посадить царя, который бы выглядывал из-под руки короля польского, но как бы из того конфуза не получилось. Дальше больше: заговорили, что делом тем неверным Польшу подвести можно к суровым испытаниям. Тут-то и названо было имя Льва Сапеги. И сказано было твердо: он, Лев, вечный ненавистник Московии, вместе с лукавым иезуитом нунцием Рангони, ищущим только интересы папы, толкнули на то легкодумного Сигизмунда. Политическая жизнь — игра, в которой проигрывают раз. Отыграться за этим столом дают редко, а может, и вовсе не дают. Лев это знал и поспешил в Краков. «Королей прощают, — подумал он, садясь в карету, — но никогда не прощают тех, кто сдавал им карты в политической игре». Больше иного Льва Сапегу насторожило известие, что в Кракове по тайному сговору съехались многие влиятельные лица Польши, а среди них Станислав Варшидский, коштелян варшавский, и Илья Пелгржимовский, писарь Великого княжества Литовского, с которыми недавно Лев Сапега был в Москве с посольством. А эти люди знали много о нем. Подтолкнуло в дорогу Сапегу еще и то, что предстояло зимнее заседание сейма, а это означало — голоса, пока еще глухо раздающиеся в старой столице Польши, могут загреметь во всю силу в сейме в Варшаве. А какими они будут? Нет, коней надо было закладывать, и закладывать срочно. Так Лев Сапега оказался в Кракове. В какие двери стучаться, он знал, и открывались они перед ним, великим канцлером литовским, легко, однако двери-то вот открывались, но души человеческие… С этим было сложнее. Впрочем, какие души у власть придержащих? Душе в этих людях места мало. Здесь есть интересы, выгоды, роли. И как ни осторожен, дальновиден и опытен был Лев Сапега, но многого не вызнал. Говорили, да, говорили — опасное-де предприятие с царевичем Дмитрием и многим грозить может, подумать-де, подумать надо, поостеречься… Да, говорили, сейм будет, будет, и паны свое скажут, но да вот что скажут, оставалось туманным. Лев Сапега маялся в разговорах, однако главного узнать не мог. И только пан Пелгржимовский — обжора и выпивоха, — съев и выпив столько, что хватило бы с лихвой на добрый десяток неслабых шляхтичей, сказал:
— Тебе, Лев, ответ держать, коли дело с царевичем Дмитрием провалится, так как ты тому потатчик не из последних.
Вот так вот, и не иначе.
Сидели они за столом. Сказав сии слова, пан Пелгржимовский беспечально ухватил добрую ножку индюшки и впился в нее до завидного белыми, крепкими зубами. Лев Сапега губу прикусил. Пан Пелгржимовский хрустел костями. Славно это у него получалось. Ах славно… Сказал вот и закусывает. Святая простота… Но только глаз отчего-то пан Пелгржимовский после сказанного на Льва Сапегу не поднял. Жевал, жевал, из кубка отхлебнул и опять за индюшку принялся. «Нет, — подумал, не отводя взгляда от пана Пелгржимовского Лев Сапега, — какая уж простота… Здесь другое. Сказаны эти слова мне в предупреждение. А зачем? Да и кто предупреждает меня?»
Было над чем задуматься.
Пан Пелгржимовский доел индюшку, поднял кубок с вином и, протянув его навстречу кубку Льва Сапеги, сильно ударил стеклом в стекло. Звон этот тревожным колоколом отдался в груди литовского канцлера.
В тот же день Лев Сапега написал письмо Юрию Мнишеку.
Тени от пламени свечи шатались по стенам, плясали, вызывая беспокойство, скрипело перо. Лев не раз вставал от стола, ходил по палате. Трудно было ему писать пану Мнишеку, но канцлер литовский понимал, что иного выхода нет. Горела у него в груди ненависть к московитам, вставали в памяти обиды, понесенные от Москвы, однако вновь и вновь слышал он сказанное паном Пелгржимовским: «Тебе, Лев, ответ держать, коли дело с царевичем Дмитрием провалится…»
Письмо получилось длинное, путаное, такое, что не сразу поймешь. Лев сообщал о разговорах тревожных в Кракове, о том, что упоминаются в них имена и его, Льва, и Юрия Мнишека, говорят о предстоящем сейме, и неведомо-де, что на нем будет сказано. Но как ни мудрило перо на бумаге, однако все же вывело слова, из которых явственно можно было понять: он, Лев, из игры с царевичем Дмитрием выходит.
Сапега написал это, раздраженно поднялся от стола, пробежал по палате и остановился у окна. Рука застыла на холодном мраморе широкого подоконника. Пальцы были сжаты в тугой кулак. И вдруг рука поднялась и с яростью ударила по мрамору.
— Э-э-э!.. — гневливо вырвалось из горла Сапеги.
Но силы не было в том ударе. Лев подошел к столу и подписал письмо. Вот оно как бывает: страстно хотел Лев Сапега насолить Московии, отомстить за обиды, ан когда самого прижали, когда личная судьба могла пострадать, назад сдал. Пороху не хватило. Много, много слов говорил канцлер литовский о державных интересах, но пальцы-то, пальцы — все одно и у него к себе гнулись.
…Старик причетник увидел, как тяжело поднялся со скамьи ранний посетитель собора и, не глядя по сторонам, пошел к выходу. Шел он медленно, лицо было опущено. Немало разного люда повидал причетник в соборе. Видел людей, которые с радостью приходили в храм, видел переполненных неутешным горем, а сей миг подумал: «Что-то трудное случилось с этим паном, что-то сломалось в нем». Склонился в поклоне.
Лев Сапега спустился по ступеням, гайдук прикрыл за ним дверь кареты, кони тронулись и пошли шагом.
Ан вот не шагом, но вскачь гнал коней верный подручный царева дядьки Лаврентий.
Семен Никитич призвал его и, насупившись — да, в эти дни на лице царева дядьки улыбки цветущей никто не примечал, — сказал:
— Вот что, голубок, поезжай-ка ты в Белгород, Курск, Смоленск, в северскую землю, да понюхай, что там и как…
Поднял тяжелый взгляд на Лаврентия.
— Понял?
Лаврентий в кулак кашлянул. Подумал: «А что не понять? Мне и нюхать не надо, и ездить ни к чему. Оно и так все ясно». Однако, ничего этого не сказав, склонился покорно.
В тот же час он выехал из Москвы. Мороз уже укрепил грязи, снежок лег, и по такой-то дороге, да на конях из царской конюшни, и этому ухарю — милое дело.
— Эй! Кто там за вожжи держится? Гони веселей! Не жалей кнута!
Кони летели как птицы.
Известно, что для такого слуги, как Лаврентий, барин всегда дурак, хотя слуга такой много ниже других перед ним гнется, ан на этот раз Семен Никитич Лаврентия истинно глупостью удивил. Лаврентий на людях только ёрничал, сыпал слова да прибаутки, а один на один с собой был тих. И сейчас, ввалившись в возок и крикнув вознице, поскучнел лицом, задумался, — и крепко. Даже глаза ввалились. Так задумываются, когда о большом мысли в голове встанут.
Вспомнил он, как дворян Василия Смирнова и Меньшого Булгакова пытали. Лютовал Семен Никитич, ох, лютовал. Палили и Смирнова, и Булгакова, как кабанов, драли кнутом, железом жгли. Речи дерзкие о царевиче Дмитрии Семен Никитич простить им не мог. Но слово-то на них, дворян этих, он, Лаврентий, сказал, а такое, что Семен Никитич от них услышал, по всей Москве трезвонили. Лаврентий в этих бедолаг пальцем ткнул по случаю. Мог и по иному дому ударить, да этот ближе пришелся, но, скорее, время приспело на кого-то указать и крикнуть: «Ату его! Ату!»
Вот и попали в пыточный застенок соколики. Но вполне могла и любая другая птица залететь. Оно, как понимал Лаврентий, всему время приходит — и миру, и войне, и застенку. Вот только угадать это надо, а такое не каждому дается. Царев дядька Семен Никитич знал, что по всей Руси неспокойно, ан слова дворян, взятых в застенок, его ошеломили. Лаврентий, напротив, нисколько тому не удивился. Смотрел, как пена кровавая пузырями на губах у Меньшого Булгакова закипает, и других слов из крови этой не ждал.
…Возок побрасывало на ухабах, в передок дробно били комья снега, набрасываемые копытами коней. Хорошо, ходко шла тройка. «Н-да лети так и дальше, — подумал Лаврентий. — Мне бы вот всю дорожку свою так промахнуть… Чтобы лётом и без пенька под полозья». За бороду пятерней ухватил, сжал цепко. В городах, на которые указал ему Семен Никитич, по воеводским домам Лаврентий не засиживался, а больше среди подлого народа вертелся. В церкви ходил, по торжищам шлялся, в кабаках посиживал. Оденет полушубочек, кушаком подпояшется неброским, шапчонку поплоше водрузит на голову — и шасть на улицу. Такого не выделишь среди других. Знал он, что бывают времена, когда власть предержащие народ, как жеребца, на дыбы поднимают и ведут, как взнузданного. Но ведал и то, что есть денечки, когда людей не обратать недоуздочком, хомут не набросить и тележка державная катит так, как только бог ведает. Было, было в Москве такое, когда народ Кремлю кулаком грозил и не у одного из кремлевских жителей в портках сырость обнаруживалась. И чувствовал, чувствовал, что эдакое время приспевает. Уж слишком напутали сидящие наверху, наблудили, наворочали разного, что и сами не разберут, и людям не укажут, а дорожка державная ветвится, ветвится, и глядишь — вон одна тропочка по правую руку легла, другая влево потянула, третья вовсе в овраг метит, а четвертая не поймет и черт куда повела.
В Курске ходил Лаврентий по базару среди возов, шутки с бабами шутил, с мужиками собачился беззлобно, а потом в кружало завернул. Кабачишка был старый, с одетым в плесень, низким сводом, с тяжелой стойкой, но здесь было тепло от жарко горевшей печи и народу набилось много. Кто чаек пристойно пил, говоря о делах торговых, а кто и водочку души для. Лаврентий присел не то чтобы с краю, но и не так, чтобы всем на глаза выпереться. Ему принесли штоф. Он стаканчик хорошо выпил, закусил забористой, с хренком капустой и, стаканчик из рук не выпуская, прислушался к голосам.
Говорили о разном. И о том, что цены на базаре кусаются. И о том, что мужики торговые хлебушек в амбарах придерживают. Да и о том, что не случайно это и ждать надо еще и худшего. Все это Лаврентий многажды слышал и оставлял без внимания. Случилось в кабаке иное, что в память запало и заставило задуматься крепко.
К стойке подошел мужик. И не из голи кабацкой, но чувствовалось — и по одеже, и по тому, как он стоял перед кабатчиком, — человек самостоятельный. О чем они заспорили, Лаврентий не понял, но увидел вдруг, что кабатчик, сильно осерчав и изменившись в лице, кивнул базарному ярыге, что обязательно в такой торговый день сидит в кабаке для порядка. Ярыга к мужику бросился. Схватил за шиворот. Но не тут-то было. Мужик развернулся и крепким кулаком ахнул ярыге в скулу. Тот покатился под стойку. Весь люд поднялся на ноги. Ярыга заверещал, как заяц, и тут в дверь кабака второй из земских радетелей порядка влетел. Вдвоем они пошли на мужика. Ан вот тут-то и началось то, от чего Лаврентий подался в угол, дабы по случаю по башке не получить.
Ярыга коленки подогнул, плечи опустил, чтобы на мужика прыгнуть, ступил ногой вперед, раз, два… Но его вовсе неожиданно один из стоящих в стороне крепко за руку взял и голосом спокойным, да таким, что каждый услышал отчетливо, сказал:
— Не замай.
И другого радетеля порядка за плечо придержали:
— Постой, дядя.
И так это случилось тихо, без крика, драки, что только диву даться. Однако ярыги остановились, и кабатчик за стойкой сник. Поняли, знать: баловать не надо, когда так говорят, — шуток не будет, но голову свернут.
В следующую минуту в кабаке все стало, как и до того было. Народ за столы сел и, чаек прихлебывая, заговорил неспешно о делах будничных, а кто и за водочку принялся. Ярыги топтались у дверей.
Пустяк? Однако Лаврентий, взяв штоф, набултыхал полный стакан и выплеснул горькую в глотку с омерзением. И второй стакан набултыхал без всякого удовольствия. Знал голубок: коли русский человек власти перестает бояться — быть лиху. И здесь воочию увидел — страху в народе нет. Да и большее ясно стало. Ярыга, что у дверей стоял, обвел кабак взглядом, кровавую юшку под носом вытер да и вышел. Знать, уже он забоялся.
Сейчас, качаясь в возке, Лаврентий все вспоминал, вспоминал лицо того ярыги. Прищуренные злые глазки, широкие скулы, ярость в стиснутых зубах, кровь по всей роже… Но главным было в лице не это, а растерянность, бессилие. Минуту назад ярыга мог подойти к любому в кабаке и крикнуть: «Вяжи его!» И повязали бы. А вот теперь нет. Большая, лапистая пятерня ярыги поднялась к лицу, стерла кровь. Все. Ушла власть. Ушла! Почему? Ответа Лаврентий не находил. Однако неуютно ему стало. А мысли, натыкаясь и натыкаясь на это разбитое лицо, шли дальше.
За время поездки говорил он не с одним воеводой и не с двумя. Ехал Лаврентий по поручению царева дядьки, и принимали его, как это на Руси бывает в таком разе, широко… Угощали. Ласкали, и даже без меры. Но говорили невнятное. Больше слышал он бормотание. Однако в словах, глухих и окольных, разобрал все же — раньше о том ведал, да не в такой яви, — не победил царь Борис ни Шуйских, ни Мстиславского, ни Романовых, хотя и прибил род этот, почитай, до корня, разослав и малых, и старых по разным городам и весям, монастырям и острогам, а там, вдали от Москвы, кого из них дымом удавили, кого ножом приткнули. Прочих, в живых оставленных, держали на коленях и строго. Ан все одно не одолел. Лаврентий отчетливо представил царя Бориса, мысленно вновь натолкнувшись на ярыжку, стоящего у дверей в кабаке. Лицо царя, в отличие от лица побитого служителя власти, было тонко, благородно продолговато, и большие глаза распахивались на нем. «А Романовы-то, Романовы, — вспомнилось, — помиравшие в чадном дыму? Сонными приткнутые ножами к лежакам? Да только ли Романовы? Хе-хе…» И, вглядевшись, в больших царевых глазах различил Лаврентий колючие зрачки ярыги, в мягких округлостях обозначались угластые его скулы и даже в царственно величественной и великодушной улыбке угадалась ярость крепко сцепленных ярыгиных зубов. И кровь, кровь он на лице Бориса увидел, и растерянность, бессилие на нем проступили. Рука царева к лицу потянулась. Тонкие длинные пальцы, узкая ладонь… «А Богдан Бельский, — подумал Лаврентий, — казнь его на Болоте, выдранная борода, летящая по ветру?..» И под бледной кожей царской руки выказалась Лаврентию лапистость ярыгиной пятерни. Это было настолько неожиданно, что Лаврентий даже головой тряхнул, отгоняя видение, как дурной сон. И сказал себе: «В сторону надо подаваться. При этой власти я наблудил достаточно и ответ за то спросят». А отвечать не хотелось.
Тройку он больше не погонял.
Арсений Дятел коней из Дмитрова пригнал. Сдал их с рук на руки и пошел в полковничью избу. Обил на крыльце веничком снег с сапог, распахнул забухшую дверь.
Полковник Василий Васильевич сидел за столом боком. Рядом — пятидесятник Сенька Пень и еще двое. В избе пахло водкой. Арсений поздоровался.
— Молодца, — сказал Василий Васильевич странным голосом. — Мне передали — коней добрых привел. Да зря торопился…
Взглянул со значением на Сеньку Пня. У того губы под усами растянулись в кривой улыбке. Двое сидевших молча тоже заулыбались.
Арсений Дятел внимательно оглядел компанию. Почувствовал: у них разговор, а он тому помеха.
— Да ты садись, — сказал Василий Васильевич, — выпить хочешь?
И не успел Арсений ответить, Сенька наклонился и вымахнул из-под стола четверть. Дятел увидел — на столе чарочки оловянные, блюдо с мочеными яблоками и капустой.
Сенька нацедил всем по чарке и четверть опять сунул под стол.
— Ну, — сказал Василий Васильевич, — давай с дороги.
И глянул поверх стаканчика на Дятла так, что тот в другой раз подумал: «Разговор у них был. Точно».
Арсений чарку выпил и, захватив капустки, бросил в рот. Василий Васильевич сказал:
— В поход идти приказ получен.
Арсений взглянул на него, спросил:
— Когда?
— Так, что когда? Ты бы спросил — куда? — сказал Василий Васильевич и опять посмотрел на Сеньку Пня.
Недосказанность была за его словами. Так случается, когда двое разговаривают об известном им, а третий только глазами хлопает.
Арсений молча посмотрел на Василия Васильевича, потом перевел глаза на его гостей и затем вновь на полковника взглянул.
— Василий Васильевич, — сказал, — вижу, у вас здесь все оговорено… Так вы, мужики, за дурака меня не держите. Хочется — выкладывайте, не хочется — сам догадаюсь. Титьку-то мамкину давно бросил.
Полковник замигал, словно в глаза песочком бросили, плечами суетливо повел, и ёрническое выражение его лица разом переменилось.
— Да что ты, Арсений! — сказал. — Я к тебе всей душой… Да и что у нас оговорено может быть? Так вот сошлись да выпили.
Арсений, выслушав его, еще захватил капустки.
Полковник поторопил Сеньку Пня:
— Ну, что тянешь? Давай еще по чарке!
Голос у него теперь вовсе иным стал — недовольным, раздраженным, да и сел он всей грудью к столу, словно защитить себя в чем-то хотел, и лицом к опасному оборотился.
Пень достал четверть, потянулся к Арсению, но тот руку на чарку положил, сказал:
— Нет. Устал я с дороги. Пойду. — И поднялся. — Благодарствую за хлеб, за соль.
За столом молчали.
Арсений повернулся и шагнул к дверям. Но когда поворачивался, к дверям шел, за скобу взялся — чувствовал упертые в спину взгляды.
Во дворе на снегу горел костер и вокруг него толкались стрельцы. Зубоскалили. Слышен был смех. Арсений увидел за спинами стрельцов старого дружка своего с большой серьгой в ухе. Да и тот заметил Арсения и тут же, протолкавшись через толпу, пошел навстречу. Лицо стрельца морщилось от смеха, в ухе поблескивала серьга.
Стрелец рассказал Дятлу, что объявлен поход к западным пределам, а во главе рати поставлен первый в Думе боярин, Федор Иванович Мстиславский.
— Вот, значится, что случилось, — ответил на то Арсений и вспомнил, как князь, молча и ни на кого не глядя, поднимался на крыльцо Грановитой палаты, когда впервые стало известно о переходе вором державных рубежей.
— Только волынка идет, — сказал стрелец с серьгой, — неделю в поход собираемся. То говорили, лошадей нет, хомутов недостаток, а сейчас вроде бы сани оказались побиты… — Он поднял глаза на Дятла. — А я так думаю, Арсений, это Василий Васильевич волынит и с ним вот Сенька Пень да иные.
И как только он назвал это имя, Сенька Пень, словно услышав, на крыльце объявился. Увидел Арсения Дятла и, махнув рукой, крикнул:
— Арсений, полковник тебе за службу добрую два дня отпуску дает. — Пьяно засмеялся: — Кати к бабе под бок!
Видать, они компанией уже крепко успели хватить из четверти.
Сенька крутнулся на крыльце и ушел в избу, так дверью хлопнув, что с карниза посыпались сосульки.
— Вот, — сказал на то стрелец с серьгой, — пьяный же, видишь! И по все дни так, как поход объявили.
Что пятидесятник пьян, Арсений и сам видел, но вот отчего полковник, а с ним дружки его, почитай, на глазах у всех пьют, когда царево слово о походе сказано, — понять пока не мог.
— Ладно, — сказал, тронув стрельца с серьгой за плечо, — я пойду. — Улыбнулся. — Два дня, слышал, мне отвалили. А ты заходи. Поговорим.
Повернулся и зашагал по истолченному снегу.
Дома Арсений не задержался. Уж слишком обеспокоили известие о предстоящем походе, встреча в полковничьей избе да и то, что рассказал старый стрелец с серьгой. Поговорил с женой, потрепал по головам детишек и заспешил на Таганку, к тестю.
— Что так? — спросила Дарья с удивлением. — Едва через порог переступил…
Но Арсений объяснять не стал — не хотел до времени тревожить, сказал:
— Ничего, ничего… Я мигом — туда и обратно.
И хотя в душе было нехорошо, улыбнулся ободряюще.
Заложил в саночки жеребца и тронул со двора. Да оно только так говорится — тронул… Взял в руки вожжи и, почувствовав трепет и силу огромного ладного тела, норовистую прыть жеребца, вылетел из ворот вихрем.
Жеребец пошел махом.
Ах, славное дело саночки — отрада мужику! Не розвальни-волокуши, что скрипят и нудят на дороге в унылом, бесконечном обозе, или тяжелые, как тоска, крестьянские дровни, но легкие пошевни или маленькие, игрушкой, козыречки, которые мастер работает из выдержанной годами липы, стягивает грушевыми винтами и украшает медью или серебром, чтобы в глазах у тебя искры замелькали, ежели увидишь такие сани в ходу.
Сани у Арсения были хороши. И вот тревожно ему было, беспокойно, но от легкого их бега забрезжила в душе радость.
От стрелецкой слободы, что в начале Тверской у Моисеевского монастыря, взял он по левую руку — «Гись! Гись!» — махнул через Неглинский мост на Пожар. На въезде открылась перед ним громада Казанского собора. Чудной, дивной красоты каменное кружево. Высокие порталы. Строгий чугун ограды. Несказанно величественные купола. А все вместе это давало ощущение небывалой мощи, говорившей властно: «Помолись господу за то, что он дал человеку сотворить эдакую красоту».
Арсений переложил вожжи в одну руку, другую поднес ко лбу. Перекрестился. И — «Гись! Гись!» — лётом пошел через Пожар.
В глаза бросились красная кремлевская стена на белом камне и опушенная поверху белым же снегом. Золото Покровского собора. Разновеликое его многоглавие. Ветер резал стрельцу лицо, напряженные руки в трепете вожжей ловили каждый шаг наметом шедшего жеребца, но достигла его мысль: «Хорошо, ах, хорошо!» — и стынущие на ветру губы стрельца сами выговорили:
— Лепота, лепота!..
Ветер заглушил, смял слова, отбросил в сторону.
Не знал о том стрелец Арсений Дятел, что в последний раз вот так вот пролетел по Москве и в последний же раз увидел то, о чем губы выговорили невольно — «лепота». Не подумал, что быть его Дарье вдовой, детям сиротами и больше — хлебать им из безмерной чаши до дна вместе с другими русскими людьми того лиха, что шло на Россию.
Жеребец свернул на Варварку. Тем же ходом вышел к Варварским воротам, а здесь до Таганской слободы было рукой подать.
За дорогу — на ходу-то и мысли бойчее — стрелец многое обдумал. Проник в разговор, который вел Василий Васильевич с приятелями. Уразумел: он-то, полковник, в дружках у старшего Шуйского был. Вместе водку пили и, знать, вместе о будущем мороковали. Вот так.
С тестем Арсений говорил долго. Сидели за столом, опустив головы. А и в той, и в другой голове было: «Ах, Россия! Россия несчастная…» Более другого на Москве боялись, что верхние раздерутся. А здесь к этому шло. И об ином и тот и другой, может, разными мыслями, но думал: каждому, кто наверху сидит, большой кусок от российского пирога отрезается. Такой кусок, что ни ему, сильному, не прожевать, но и всему его роду не одолеть. Однако он все тянет и тянет руку еще больше от пирога отхватить. Еще… А зачем? Отчего такое? И вот неглупые были мужики, а мысль не родили — может, пора руку-то над пирогом придержать? Все жалеем Россию, жалеем, слезы по ней точим… Жалеть-то, наверное, хватит. И ручонку бойкую, над пирогом занесенную жадно… Вот то самое! А?
Пан Мнишек смаковал чудное токайское вино, большим любителем которого был давно. Только виноград, произрастающий на венгерских просторах, мог дать столь божественный сок. Токайское вино обжигало огнем, пьянило ароматом, кружило голову так, что человек, отведавший хотя бы и глоток, чувствовал себя небожителем.
Пан Мнишек слегка пригублял золотистый напиток и замирал надолго. И никаких слов. Токай был выше речей.
Одно огорчало пана Мнишека в эти минуты — винца столь достохвального в обозе, который он вел за собой, оставалось всего ничего. Три полубочонка. А без этого напитка жизнь пану была не в жизнь. Три полубочонка… Пан морщился от этой печальной мысли. Иных забот у него не было.
С казаками, что так разбушевались не ко времени, уладилось. Успокоились казачки. Правда, мстя за неудачу в штурме Новгорода-Северского, разграбили они, почитай, все окрестности. Налютовались так, как и в чужой стороне грех лютовать. Народ расходился врозь — куда глаза глядят. Но в том большой беды пан Мнишек не видел. Казаки, они и есть казаки, считал, а поселянин для того и существует, чтобы его не один, так другой грабил.
Мнимый царевич прибодрился, и произошедшее под стенами Новгорода-Северского уже не казалось ему столь мрачным. Не без совета монашка-иезуита приспособился он ныне ездить по церквам окрест ставшего лагерем буйного его воинства. И — чинный, благостный, в богатых одеждах — стоял службы подолгу. Кланялся низко, молился истово, с почтением подходил под благословение священников.
К изумлению суетного пана Мнишека, произвело это и на воинство, и на местный люд впечатление удивительное. Не много времени прошло, а вокруг заговорили:
— То истинный царевич…
— Смотри, как богу служит…
— Защитником нам, сирым, станет, коль богобоязнен…
Вначале старухи о том зашептали, уроды, дураки и дурки всякие, которых, известно, при каждой церкви немало, затем бабы заговорили, уже погромче, а там, глядишь ты, и мужики туда же. Стоит такой облом стоеросовый и в затылке чешет: «Н-да, оно верно… Коли бога боится, смотри, и нас пожалеет…» За ним другой: «Точно… Эх, ребята, надо нам на энту сторону переваливать… Один хрен, какой царь. Лишь бы мир был. Мочи больше нет тяготу эту терпеть…»
На измученных лицах проступала надежда.
Пан Мнишек как-то раз сам пошел посмотреть мнимого царевича в церкви.
Церквенка была не богата. Без знаменитых икон и золота на стенах, с попом, одетым в ветхую рясу. Но народу набилось в церковь много, стояли и на паперти, и по всему церковному двору.
Мнимый царевич стоял, вытянувшись струной, как ежели бы слова молитвы, выпеваемые хором, пронзили его до глубины души. Лицо было отрешенным. Попишка размахивал кадилом, попыхивавшим синим дымком, и взглядывал на царевича растерянно. А тот истово подносил пальцы ко лбу, крестился, а в один миг, будто бы забывшись, подтянул в пении молитвы, явно выговаривая святые слова. Попишка моргнул простоватыми белесыми ресницами, и рука его с кадилом заходила быстрей.
«Да, — подумал пан Мнишек, — слуги нунция Рангони не глупы».
Еще большее впечатление на пана Мнишека произвел выход мнимого царевича из церкви.
По окончании долгой службы мнимый царевич вышел на паперть и остановился. В храме, при свете свечей, Мнишек не разглядел достаточно его лицо, а тут увидел — оно было залито слезами. Глаза светились чудно. Но особенно поразили пана Мнишека движения мнимого царевича. Они были неторопны, плавны, необыкновенно величественны.
Мнимый царевич взял с поднесенного ему блюда горсть монет, но не швырнул их в окружившую паперть толпу, не бросил под ноги людей, а с осторожностью, с состраданием вложил в каждую тянущуюся к нему руку. Он не подавал золото сирым, но принимал от них благость страдания. Это было необыкновенно. И сам пан Мнишек вдруг засомневался: да правда ли перед ним вор, расстрига Гришка Отрепьев, но не истинный царевич? Так неожиданно раскрылось лицо стоящего на паперти человека в златотканых одеждах, так искренни, так милостивы были его глаза, так царственна благословляющая толпу поднятая рука. И пан нисколько не удивился вспыхнувшему над головами собравшихся у церкви возгласу:
— Слава! Слава! Слава!..
Было от чего благодушествовать пану Мнишеку. Попивать винцо. Ароматный токай. И тут случилось то, чего он меньше всего ожидал. Пану подали письмо от Льва Сапеги.
Не почувствовав грозящей ему опасности от хрустнувшей в пальцах бумаги, пан Мнишек поднял размягченное славным токайским вином лицо к доставившему письмо офицеру и легкомысленно стал расспрашивать о погоде в Кракове, о зимних празднествах, которыми славился город. Расчувствовавшись, пан Мнишек пригласил офицера к столу и, как ни жаль было любимого вина, — но минута слабости есть минута слабости, — налил ему бокал.
Когда офицер вышел, пан Мнишек развернул письмо все с тем же благодушием в лице. Но по мере того как он вчитывался в строки, улыбка его съеживалась и съеживалась, пока губы не застыли в жалкой, растерянной гримасе.
Это был удар, который сначала ошеломил пана, потом испугал, затем вызвал вспышку гнева и позже привел в панический ужас. Причем всю эту гамму чувств Мнишек пережил в короткий промежуток времени. Прочтя первые строки письма, он выпрямился на стуле, затем привстал и уже дальнейшее, что сообщал Лев Сапега, читал стоя, и пальцы его, едва удерживающие столь грозное письмо, мелко-мелко дрожали. Дочитав письмо, ошеломленный пан бросился на стул, склонился до колен и закрыл лицо руками. Это был уже испуг. Так просидел он минуту, другую, и вдруг гнев, бешеный гнев родился в нем. Пан Мнишек вскочил со стула, оттолкнул стол и воздел руки со сжатыми кулаками кверху. И тут он услышал звон разбивающегося хрустального графина с драгоценным токайским вином. Пан опустил руки и оторопело взглянул на пол. Графин с любимым напитком, когда пан Мнишек оттолкнул стол, подался к краю, покачнулся и рухнул. Пан увидел осколки хрусталя и на них, сверкающей росой, последние капли токая. Пана охватил ужас.
Мысли пана Мнишека, вызвавшие столь бурные телодвижения, развивались так. Он презираем королем, к нему не только не пылают любовью многие знатные и вельможные паны Польши, но наверняка испытывают чувство известной неприязни. Однако он начал дело с мнимым царевичем, и хотя вызвал тем еще большее раздражение, все же к нему стали присматриваться с интересом. Кто знал, чем все это могло кончиться? И вот в Краков съехались многие люди лучших фамилий не только из Польши, но и из княжества Литовского. Это его ошеломило. Их мнение по поводу его предприятия с мнимым царевичем едино. «Твердо, — писал Лев Сапега, — называется имя Мнишека, как человека, который может привести Польшу к суровым испытаниям». Здесь уж пан Мнишек испугался. И наконец, последнее: Лев Сапега, великий канцлер, железный человек Польши, выходит из игры! Пан Мнишек впал в панику.
Это был крах. Дело мнимого царевича должно было увенчать его, пана Мнишека, жизнь славой и богатством. Он бросил на это все, что мог: как пес мотался по Польше, собирая всякий сброд под знамя царевича, растратил последние остатки золота, в конце концов, он швырнул, как козырную карту, на стол этой рискованной игры дочь. Панну Марину.
Панна Марина ненавидела Отрепьева. Он был и оставался для нее жалким монахом. Она говорила, что у нее вызывают омерзение его короткие, толстые пальцы, простонародное лицо. С содроганием панна Марина сказала отцу:
— Это бородавка, — она в раздражении тыкала себя душистым пальчиком куда-то под глаз, — бородавка жабы!
Но он, пан Мнишек, распалил ее воображение картинами богатства, которое ожидает в случае успеха, он говорил, что она будет первой дамой великой России. Да что первой дамой — царицей! И слова сделали свое: панна Марина танцевала, танцевала, танцевала, и ее глаза горели обещаниями неземных блаженств, а рука, положенная на плечо мнимого царевича, была сама нега.
— Богатство, богатство, слава!.. — в бессильной ярости сказал пан Мнишек. — Слава…
Письмо Льва Сапеги ставило на всем этом крест.
«А почему, собственно, крест? — вдруг спросил себя пан Мнишек. — Что, Лев Сапега ведет мое воинство или он выкопал из своего тайника бочонок золота и передал мне? Нет! Не-ет…» Пан забегал по палате. И в третий, в четвертый, в пятый раз сказал это яростное «нет!». Но, как ни разжигал он свою ярость, пламя не вспыхивало. Это был костер на снегу, и, чуть занимался огонек, поленья падали, и в бессильном шипении жалкие язычки пламени гасли. Из-под сложенных сучьев, поленьев, веточек растекалась черная, грязная лужа. Пан Мнишек знал: Лев Сапега давал ему больше, чем войско, чем золото. Он давал политическое влияние. В Польше можно было ссориться с королем. В этом был даже смысл. Человек, ссорящийся с королем, имел какую-то притягательную силу. Но в Польше нельзя было ссориться с панством. Можно было вызывать неприязнь у одних, недовольство у других, ан обязательно иметь за спиной, в союзниках, третьих. Это было сложное равновесие. Сохранять его было необыкновенно трудно, только оно и позволяло удерживаться на уровне верхних. Он, пан Мнишек, однажды нарушил это равновесие и был отлучен от королевского дворца. Годы унижений, задавленных в себе обид, годы и тайных, и явных интриг трудно, по самой малости, поднимали его чашу кверху, а теперь все могло рухнуть в одночасье.
«Черт с ним, с золотом, — с несвойственной широтой подумал пан Мнишек, — в конце концов, стерпит плюху (он чуть было не сказал „грязная девка“, ан тут же остановился) моя дочь, но я-то как? Я? С чем я останусь?»
Пан Мнишек решил: он должен вернуться в Польшу, должен выступить в сейме, а там как бог даст.
Теперь надо было сказать о неожиданном решении мнимому царевичу и польскому офицерству, а это представлялось пану Мнишеку вовсе не легким предприятием. Он понимал, каким жалким фигляром он — он, который повел их в этот поход, — будет выглядеть в их глазах. Сколь мелка будет его фигура.
— Уф!.. — выдохнул пан Мнишек и закрутил головой от едва сдерживаемой внутренней боли.
Мнимый царевич неожиданно для пана это известие воспринял совершенно спокойно. С бестрепетным лицом выслушал бормотания Мнишека и, казалось, утомившись от его слов, спросил:
— Так когда же пан Мнишек предполагает выехать в Варшаву?
Пан Мнишек, пораженный этим безразличием, вскинул голову и взглянул на мнимого царевича, ожидая подвоха. Но лицо мнимого царевича было спокойно, даже задумчиво. И пан Мнишек не разгадал этого спокойствия. Секрет же поведения Отрепьева был в том, что он с час назад вернулся из очередного путешествия в близлежащую церковь. В ушах его стояли восторженные возгласы толпы, и разве он мог за столь бурными проявлениями радости разобрать жалкое бормотание пана Мнишека?
Польское офицерство восприняло новость с угрюмым молчанием. Лицо ротмистра Борша — он ближе иных стоял в конном строю к пану Мнишеку — с очевидностью говорило, что иного от пана Мнишека он и не ждал. Пан Мнишек только глянул на него и отвернулся. Однако ни в тот день, ни на следующий Юрий Мнишек не уехал. Он еще на что-то надеялся.
Лаврентий вернулся в Москву, когда стрелецкая рать во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским наконец выступила к западным рубежам.
Лаврентий увидел хмурые лица стрельцов, бесконечный обоз, пушки, тяжело прыгающие по бревенчатым московским мостовым. Голоса, крики, ржание лошадей, плач баб вздымались над улицами глухим, слитным, болезненным гулом, отдававшимся в груди нездоровым дрожанием. Казалось, на улицах ревет и стонет невероятно огромный бык, чувствующий, что в следующее мгновение в лоб ему влетит оглушающая кувалда. И он упирается, рвется на цепях, с губ его брызжет бешеная пена, а из глубины утробы выдирается, как прощание с жизнью, мучительное «у-у-у…».
Лаврентий не захотел смотреть на уходившее из Москвы воинство. Он приотворил дверцу возка и крикнул мужику на облучке:
— Сворачивай в проулок! Объедем стороной!
Мужик развернул лошадей, и возок покатил по мягкому снежку.
За поездку Лаврентий многое вызнал грозного, а здесь увидел угрюмо шагавших стрельцов да ревущих, цепляющихся за них баб — знать, только очнулись. Ему же ведомо было, что вору предался Путивль. О таком не то сказать — думать было страшно. Путивль с каменной крепостью считали неприступной твердыней на черниговской земле, и вот те на — сдался на милость вора. Когда об том Лаврентию целовальник из кабака, стоящего на семи ветрах дорог, говорил, у него губы дрожали. А дядя был не из робких. Кабаки на дорогах трусливые не держат. Знал Лаврентий и другое; кабатчику такому раньше попа все известно, и понял — то не пустой брех. Говорили, говорили — остановлен вор у Новгорода-Северского, а тут на — скушай! «И случилось это, — сказал кабатчик, — вдруг».
Да и то было не все.
Беды мешок приволок с собой Лаврентий в Москву. Руку только в него запусти, вытащи без выбора — и каждый по горло сыт будет.
Известно стало Лаврентию, что двух воевод путивльских, что не захотели вору предаться, связали и в соломенных кулях мнимому царевичу представили. Боярина Мишку Салтыкова, привязав к бороде веревку, тако же приволокли к вору. Во как лихо!
И другое, да и похлеще, было в мешке.
Лаврентию, откровенно сказать, не очень-то хотелось беды эти на стол Семену Никитичу вываливать. Понимал — время, ох время лютое идет. А ты язык высунешь. Ну, а ежели по нему топором с досады? Быть такое может? Вполне. «Подумать надо, — соображал молодец, — подумать, о чем вякать, а о чем промолчать. Умный молчит, когда дурак кричит». А сей миг, слышал, крику вокруг было много.
Новость же в мешке была такая, что только руками развести, ну а после того неведомо, как и поступить.
В войско с государевым денежным жалованьем был послан дьяк Богдан Сутупов. Дьяка Богдана Лаврентий хорошо знал. Тихий был, тихий дьяк. Все по стеночке в Дворцовом приказе ходил и голосом себя никогда не выдавал. Эдакая мышка серая, шасть — и его уже не видно. Правда, известно было Лаврентию и то, что мышь эта на посул жадна необыкновенно. Однако о том иные не догадывались, а он, Лаврентий, помалкивал. И вот Богдан, дьяк почтенный, казну цареву не войску на рубежах российских передал, но вручил в руки вору.
Возок въехал на Варварку. Раскачиваясь, ревели колокола церквей, провожая уходивших из белокаменной воинов. На звон колокольный Москва всегда была щедра.
Что уж? Сади в тугую медь. Пущай она вопит, пущай душа страждет! Слава царю! Слава батюшке!
А может, лучше бы колоколам московским по нынешнему-то времени караул кричать, а не славу? Но нет, того медные языки еще не научились. Оно и звоном распоряжались сильные, верхние, что за власть хватались, а на войну-то шли серые, такие уж серые… И им, серым, умирать было на войне.
Там, откуда Лаврентий приехал, и куда, спотыкаясь, стрельцы шагали, горьким дымом несло и уже умирали. По разбитым дорогам текла бесконечная вереница людей, уходя от лиха. Стон стоял над дорогами северщины.
На перекрестке, в забытой богом деревеньке, в оконце возка Лаврентий увидел, как мордастый мужик тянул в овин ошалевшую девку. Она упиралась, рот был распялен в крике. Возок подъехал вплотную к этим двум на дороге.
— Молчи, — гудел мужик, нависая над девкой, — я тебе сарафан куплю.
Здесь каждый свое урывал, и что уж этот, мордастый, красный от водки? По всей дороге, едва остановится возок, к Лаврентию тянулись руки:
— Помоги, барин, неделю не жравши!..
— Кусочек, хлебца кусочек!..
— Пожалей. Христа ради!..
Запавшие глаза, черные рты… Обступали толпой. За полы цеплялись, но у Лаврентия не забалуешь. Рука, известно, у него была тяжелая.
Возок вкатил в Кремль. Теперь Лаврентия ждал разговор с Семеном Никитичем. Лаврентий выпростался из возка, постоял минуту. Туго, вязко гудела медь колоколов. Пригибала головы. На Житной улице кремлевской, где стоял двор Семена Никитича, не было видно ни души. Снег, снег и безлюдье. Лаврентий неожиданно наклонился, схватил горсть снега, стиснул в комок. Мужик, топтавшийся вокруг заиндевевших лошадей, взглянул с удивлением. Лаврентий поднес сахарной белизны комочек ко рту, куснул крепкими зубами и, отбросив снежок в сторону, засмеялся. Да так, что мужик, вытаращившийся было на него, заспешил оправить на лошадях ременную справу. Лаврентий повернулся и бойко побежал по ступеням высокого крыльца. Теперь он знал, что и как сказать благодетелю своему Семену Никитичу.
Царева дядьку Лаврентий не пожалел. Да жалеть-то он и не умел, а в этом разе еще и так решил: здесь чем больнее ударишь, тем безопаснее. Испугавшись, и царев дядька посмирнее будет, опору станет искать, а он, Лаврентий, костылек ему для уверенности подаст. Вот как рассчитал и в лоб, словами, какие пострашнее, рассказал и о сдаче Путивля, и о воеводах, которых в соломенных кулях на милость вора приволокли, о Мишке Салтыкове.
— Кровью, — сказал, — Мишка-то умылся. Кровью.
Семен Никитич слушал, и лицо его заливала бледность.
Видя такое, Лаврентий шагнул к поставцу, взял чашу немалую и опрокинул в нее стоявший тут же штоф. Налил до краев. Подал цареву дядьке. Тот пил, булькал, как малое дитя. Лаврентий смотрел на него сквозь зло смеженные веки и думал: «Да, худы дела царя Бориса, коль самые ближние так слабы». И вдруг поймал себя на мысли, что впервые о царе Борисе говорит, хотя бы вот и про себя, тайно, но как о человеке, который стоит от него в стороне. Да еще так, как ежели бы он, Лаврентий, на одном берегу, а царь Борис — на ином, противоположном. И дядька царев с ним же по ту, противоположную сторону. «Вот так-так, — сказал мысленно Лаврентий. — Ну, значит, меня на то бог подвинул…» И, уже вовсе желая добить Семена Никитича, вывалил ему новости о дьяке Богдане Сутупове.
Тут Семен Никитич и чашу от себя отставил.
— Да ты врешь! — сказал. — Врешь!
Вскочил, схватил Лаврентия за ворот:
— В застенок тебя, в железа!
Но Лаврентий даже руки не поднял, чтобы защититься. Знал: на крик такой криком же отвечать — пустое. Но только голову уронил, как ежели бы подрубили ее, и тихо-тихо молвил:
— Ты меня знаешь… Я бы промолчал, коли сомневался в правде… Промолчал… А вот же — сказал…
У царева дядьки руки обмякли. Он отпустил Лаврентия, отступил назад и сел на лавку.
— Как же это? — спросил. — Как же такое могло случиться?
Плечи у него опали, руки обвисли, голова опустилась. Лаврентий взглянул на него, и в другой раз в мысли ему вошло: «На другом они для меня берегу — и царев дядька, и сам царь Борис. На другом».
Размышляя в дорожном возке во время своей поездки по северщине, он только прикидывал, как быть ему с властью нынешней, и хотя тогда же решил, что-де в сторону надо подаваться, но кровью своей такого еще не почувствовал. А сей миг это вошло в него окончательно. Да, Лаврентию предать было все одно что вошь продать: и в пазухе не свербит, да и прибыток есть.
Известия, что Лаврентий привез, через два дня до Москвы дошли. Прискакал гонец от Петра Басманова, прискакал же гонец от Дмитрия Шуйского. И Семену Никитичу ничего не оставалось, как идти к царю Борису со страшными вестями.
Два дня маялся царев дядька, не надеясь и надеясь все же, что сказанное Лаврентием не подтвердится, ан вот нет, подтвердилось. Как сказать об том царю Борису, он не знал. Но больше тянуть было нельзя.
Семен Никитич вошел в Борисовы палаты, склонился в поклоне. Разгибался долго-долго, так долго, что царь Борис догадался — пришел он с плохим. Сказал:
— Говори…
Одними губами, без голоса — так, видно, взволновала его тревога, дышащая от согбенной фигуры дядьки.
И, услышав это задушенное «говори», Семен Никитич вдруг вспомнил, как вот так же, стоя здесь, в царевых палатах, много лет назад слышал он иной голос царев. Принес он в тот день весть царю Борису, полученную счастливо от крымского купца, что орда из Крыма на Москву не пойдет. И тогда царь Борис сказал полным голосом, резко:
— О том я знаю и ты. Все! Иным знать не след. Пущай каждый ведает — орда идет на Москву!
Семен Никитич возразил было:
— Как же…
Поднял глаза на царя, но жесток и холоден был взгляд Борисов.
— Так надо, — сказал твердо царь.
А сей миг Семен Никитич услышал едва различимое «говори» на одном дыхании, с хрипом.
«Так что же случилось? — ударило до боли в голову. Кровь, жаркой волной стуча в виски, оглушала, застила зрение, но все одно дядька царев и в другой, и в третий раз спросил себя: — Что же случилось?» Понимал тогда, семь лет назад, великий грех лжи брал на себя царь Борис, обманывая Москву и весь российский народ. Большое ополчение собрал ложью, вызывал людей из дальних городов и деревень, отрывал их от земли в страдную весеннюю пору, но был при том тверд и решителен, смел и дерзок. Вона голос-то как звучал. Сказал что отрубил. А лгал!
«Да только ли эта страшная ложь стояла в ту пору за ним?» — подумал Семен Никитич. Он-то, дядька царев, все, что было за Борисом, ведал. Это для иных тайны на Руси еще оставались, но не для него. И об Угличе он знал правду. Об убиении царевича. На Борисе была та кровь. На Борисе! И еще больше знал: Богдан Бельский и царь Борис повинны в смерти царя Ивана Васильевича. Их это рук дело. Страшное дело, но их преступный сговор и преступное же деяние. Однако кто мог противостоять в ту пору Борису по решительности, уверенности походки, по смелости слов и действий! А ведь такой груз лежал на его плечах! Любой бы согнулся, сломался — не перед людьми, так перед богом. Ан стоял царь Борис нерушимо и без трепета сметал со своего пути могучих Романовых и хитромудрых Шуйских. Иных — многих! — ломал без пощады. Роды, корнями уходившие в саму толщу московской земли, были что хворост в его руках. Хрясь! — через колено, и только щепки летели. Так как же ныне понимать это задыхающееся «говори»? Чуть ли не шепотом вымолвленное, полное страха и растерянности?
И вот много видел страшного и знал тайного царев дядька, может быть, больше, чем кто иной на Руси, но, однако, не понимал — ложь и смерти, стоящие за царем Борисом, не простились ему, как не прощаются они никому. Как не мог, а может, и не хотел уразуметь того, что с царя тройной, а скорее, и многократно больший спрос, нежели с серого человека, так как царь людьми поставлен над всеми и для людей же.
Оторопь взяла за глотку царева дядьку. «Так как же дальше жить? Что делать? — подумал он. — Вор-то, вор Гришка Отрепьев идет, идет…» И тут же мысль прояснилась: «А царь Борис-то один!» И он, к ужасу своему, увидел, что вокруг царя — а об том раньше подумать не пришлось — людей не остается. То тесно было в царевом дворце от многих — и знатных, и сильных, — ан не то теперь. Иноземные гости каблуками уверенно стучали, патриарх Иов из дворца, почитай, не выходил, но где они ныне? «Пусто вон, — дядька глазами повел, — никого…» Настороженный слух уловил протяжный, тоскливый вой ветра над крышей, и мысль тут же отозвалась: «Ветер только гуляет. Ветер». Сжался, как от удара. Но тяжесть груза лжи и крови на царевых плечах так и не уразумел. Пока не уразумел. Знал — за власть платят и изменами, и убийствами тайными и явными; знал — нет греха, который бы не взял на себя человек в жажде власти, но не подумал и в этот страшный миг, что есть же за содеянное и расплата. И не от глупости недодумал такое. Нет… Человек никогда не хочет согласиться с тем, что он сам виновник своих бед и что он, он, и только он сам злой враг свой. И себя, только себя обвинять ему след во всем, что с ним случилось. Он скажет — ты, он, они виновны, но не я. Так и Семен Никитич о расплате и мысли не допустил, так как расплачиваться сам должен был. Не один царь Борис шел по лестнице власти, а и он, Семен Никитич, рядом. Он с царем из одной чашки хлебал. Его туда, в чашку, царь Борис, в затылок упирая, не окунал. Он сам к ней тянулся. Да еще как тянулся. Других локтями отталкивал. А здесь вот на — расплата! Оттого-то и недодумал, что царь Борис уже платил за свое, произнося это задыхающееся «говори». А он, Семен Никитич, слушая царский задавленный голос, платил за свое…
Но да это было только начало страшного. Главное, то, чего испугаться и вправду придется, было впереди.
— Мишку Салтыкова, — как эхо повторил за ним царь Борис, — веревкой за бороду и к вору? — Так, как ежели бы это было главным из всего услышанного. — За бороду…
А о Путивле не спросил, о потере жалованья для войска не сказал. Забегал, забегал по палате, мелко и дробно стуча каблуками, оглядываясь и сутуля плечи. Семен Никитич следил за царем взглядом и не узнавал его. Лицо царя совершенно изменилось. Оно, казалось, сжалось в кулачок, глаза ушли вглубь, рот запал. Но более другого Семена Никитича поразили руки Борисовы. Они висели плетьми и мотались от плеча, как перебитые.
— Государь, — сказал Семен Никитич, — государь…
Борис, словно споткнувшись, остановился посреди палаты и оборотился к дядьке. Медленно поднял руку к лицу. Пальцы его дрожали. Черты лица, однако, опять изменились. Стали четче, жестче, глаза набрали силу. Едва размыкая губы, царь Борис сказал:
— Прельщенных вором карать след! Карать! И карать же всех, кто службы не служит, не заботясь о гибели царства!
Кровью кровь омыть, обидой обиду отмстить — не царское дело, но Борис о том не помыслил. И словами о каре положил начало большой крови, которая, пролившись, захлестнуть должна была и его, царя Бориса, да и весь род Годуновых.
Семен Никитич склонил голову. Он явно услышал в словах царских: «Топор возьми в руки! Топор!» А топор для Москвы был не внове. Эка… Чем удивили белокаменную… Вона на церкви ворона сидит. Клюв желтый выставила. На запах мертвечины глазик приоткрыла, и он живым блеснул. Ну-ну… А оно бы лаской царю-то Борису к народу оборотиться, но нет. Той повадки на Руси не было. Было другое. Коли царям худо приходилось — одно знали: топор, и… Дьяк царев раскорякой на смертный помост поднимался и, хрустя царевой бумагой с печатью на шнуре, распахивая зевластый, жаждущий рот, выдыхал зло:
— Руби!
И подал топор. Хрясь! И голова прочь.
По разбитой дороге не шло — волочилось стрелецкое войско. Тысяч тридцать конных и пеших, тысяч пять саней. Валил снег. Как вышли из Москвы, было безморозно, но вот же и мороз ударил, да такой, что и крепкие мужики согнулись. Ан остановиться, обогреться в деревнях каких или по бедности и безлюдству окрест у костров начальные люди не позволяли. Иди — и весь сказ! Ноги тупо ударяли в разъезженные колеи, срывались на наледи, скользили. Хотя бы и на карачках ползи. Некоторые не выдерживали, садились в льдистое крошево тут же, на дорогу, и ты бей его, волоки — не идет!
И тогда заговорили все разом: «Хватит, станем лагерем, хотя бы и в поле. Сил нет!»
Увидели — по обочине летит кожаный черный возок. Три резвых жеребца катят его так, что только вихрь снежный сзади клубится. Сбочь возка верхоконные и тоже на конях немореных.
Сотник Васька Тестов, широкий, большой, с бабьим, вечно обиженным лицом, шагающий валко рядом с Арсением Дятлом, ткнул того в бок. Прохрипел простуженным горлом:
— Глянь, Арсений!
Дятел оборотился и увидел возок. Возок махом проскочил мимо. Однако Арсений за слюдяным оконцем все же разглядел воротник шубы выше головы и из-за отвернутого его края набыченный глаз, смотрящий прямо и строго. Понял: князь Федор Иванович Мстиславский.
Васька закашлялся, согнулся пополам, но все одно сказал:
— Ишь, летит… Ему-то ноги не ломать.
Зашагали дальше. Васька все хрипел, кашлял. Арсений поскользнулся, чуть не упал. Снег усилился. Однако вскоре вышел привал.
Голова ползшего по заснеженной дороге стрелецкого войска вступила в деревню, и тут закричали:
— Стой, стой!
И это протяжное, болезненное, выдирающееся из обветренных губ «стой, стой!» покатилось от одного к другому, все дальше и дальше, за деревню, в поле, останавливая и людей, и коней. Услышавший команду, казалось, потеряв последние силы, приваливался к саням ли, к заиндевелому ли боку лошади, садился в сугроб на обочине и, обирая сосульки с обмерзшей бороды, хрипел:
— Ну, браты, все… Дошагали… Шабаш…
Но, передохнув чуток, не тот, так другой из стрельцов начинал оглядываться, а кое-кто уже и поднимался с сугробов. Войско начало разваливаться, расползаться по сторонам от дороги.
Арсению Дятлу и его сотне выпало счастье остановиться подле изб, торчащих из сугробов соломенными крышами. Минуты не прошло, как избы были забиты набежавшими стрельцами, и когда Арсений, рванув с отчаянием дверь, вступил в парное тепло, то, показалось, ему здесь и ногу поставить негде. Однако место все же отыскалось. Как это и бывает у русских людей, хотя бы и втиснутых сверх всякой меры в самое малое пространство, но кто-то подвинулся, иной притиснулся к стенке, третий подобрал ноги, четвертый сказал соседу: «Но, но, сдай назад» — и место вроде бы само собой образовалось.
— Садись, — сказал ближний к Арсению стрелец, задирая к Дятлу бороду.
Но Арсений, вбирая всем телом сладостное тепло, постоял с минуту молча у дверей и, тяжело оторвав плечо от притолоки, ответил:
— Нет, пойду… — Отвердевшие в тепле губы не слушались, и он вовсе косноязычно добавил: — Отдыхайте, ребята. Отдыхайте…
И вышел.
Двора он не узнал. Заметенный до крыш метелью, заваленный сугробами так, что Арсений едва пробился к избе, когда стрельцов остановила команда к привалу, сейчас двор был вытоптан сотнями ног, усеян клочками брошенного сена, завален хворостом обрушенного, растасканного по сучкам на костры плетня. У колодца, вздергивая журавль и гремя бадьей, топтались на обледенелом снегу стрельцы. Ворота хлева в глубине двора были распахнуты настежь. И едва Арсений выступил на крыльцо, оттуда раздался срывающийся крик.
Гремя каблуками по обмерзшим ступеням, Арсений бросился к хлеву.
В воротах увидел Ваську Тестова. В темноте хлева копошились какие-то фигуры и оттуда же, из темноты, рвался высокий, стонущий голос:
— Милостивцы, милостивцы! Да как же это?.. Милостивцы…
Васька Тестов, вытирая рукавом ободранное до крови лицо и зло косоротясь, сказал:
— Вот мужик, черт! В кровь рожу исцарапал…
Арсений шагнул в темноту хлева. В грудь ему толкнулась комолым лбом корова, которую незнакомый Дятлу стрелец тянул за веревку.
— Стой, — сказал Арсений, — стой!
И, вырвав веревку из рук стрельца, увидел стоящего на коленях посреди хлева мужика.
— Милостивцы! — вопил тот, заламывая руки. — Да без коровенки нам распропасть!..
Арсений, навалившись плечом, завернул корову в хлев, подтолкнул к мужику.
— Хватит выть! — крикнул.
Мужик смолк.
И тут Арсения за рукав рванул Васька Тестов, развернул лицом к себе.
— Ты что? — вытаращил глаза, выставил бороду. — Да стрельцы неделю, почитай, горячего не жрали! Захолодали все! А?..
— Дура! — крикнул на то Арсений. — Ярку вон, — ткнул пальцем за загородку, где толкались овцы, — возьмите, а что же вы под корень мужика сечете? Корову у него тащите?
— Да этих, — Тестов махнул головой в сторону мужика, — велено разбивать всех. Они с вором заодно. Аль это тебе не ведомо?
— Корову не дам, — шагнул на Тестова Дятел, — не дам!
И так глянул на Тестова, так напер грудью, что тот отступил.
— Ладно, — сказал Васька, — ладно, но смотри, Арсений!
Повернулся к оторопело топтавшемуся в воротах хлева стрельцу:
— Ярку возьми!
Тот шагнул в хлев и через минуту выволок на снег упиравшуюся ярку, потащил ее к дымившему чуть поодаль костру, над которым уже был навешен черный, закопченный котел.
Ожесточение, овладевшее Арсением, когда он чуть ли не за грудки схватился с Васькой Тестовым, прошло, и он даже с неловкостью взглянул на сотника. Тот стоял, словно еще готовый к драке. Вечно обиженное выражение его лица только усилилось, углы губ обвисли.
— Ладно, — сказал Арсений, — что уж…
Дятел сам знал, что стрельцы неделю, а то и больше, не ели и горячая похлебка ох как была нужна! А Васька-то, Васька о том как раз и заботу имел.
— Ладно, — в другой раз примирительно повторил Дятел, — ярки на всех хватит.
Тестов в ответ только хрустнул снегом, придавленным каблуком. И тут Арсений затылком почувствовал недобрый взгляд. Оглянулся. В воротах хлева стоял давешний мужик, у которого стрельцы отнимали корову. Стоял он в одной посконной рубахе распояской, с раздернутым воротом, в посконных же портах, и оттого, видно, что жал мороз и вокруг было бело от снега, показалось Арсению, что мужик стоит голым. На Дятла, однако, он уже не смотрел. Глаза мужика были устремлены на стрельцов, обступивших ярку. И взгляд этот был так упорен, что Арсений и сам оборотился к стрельцам у костра. Там, у костра, стрелец, приволокший ярку, закинул на нее ногу, зажал овцу между колен и, вытащив из-за спины кинжал, притиснул лезвие к горлу ярки и резко, сильно полоснул по выгнутой дугой шее. И будто стон услышал Арсений за плечами и вновь оборотился к мужику, стоящему в воротах хлева. Да, лучше бы Дятел к нему не оборачивался. Лицо мужика совершенно изменилось. От прежней растерянности, униженности и отчаяния на нем не осталось и следа. Нет. Сей миг лицо выражало одно — ненависть. Об этом говорили широко и яростно распахнутые глаза, отчетливо проступившие под скулами желваки, раздувшиеся крылья носа, выдохнувшие тот мучительный стон, который и заставил обернуться Арсения к мужику. Дятел понял, что этот, как показалось ему, голым стоящий на снегу мужик, ежели бы мог, то вилами бы запорол вломившихся в его двор людей.
Арсений отвернулся, взял за рукав Ваську Тестова, сказал:
— Пойдем, пойдем!
И потащил к костру. Но еще долго, уже сидя у жаркого пламени и хлебая горячее варево, он все видел яростные, налитые ненавистью глаза мужика.
Едва развиднелось, стрельцов подняли. Нестерпимо алая заря, какая бывает только в морозные и ясные утра, поднималась у окоема. Колола глаза необычной яркостью. Отворачивая лица от слепящего света, стрельцы выбрались на дорогу и под крики и ржание коней, под скрип полозьев тронулись в путь.
Арсений, по-прежнему шагая рядом с Васькой Тестовым, оглядывался по сторонам. И, пока шли деревней, все видел и по одну, и по другую руку обрушенные, изломанные плетни, истоптанные дворы, настежь распахнутые ворота, развороченные ометы с растасканным сеном. И хмуро, казалось Арсению, ненавистно, как мужик у хлева, взглядывали на стрельцов горбящиеся крыши изб.
Неожиданно за спиной у Арсения кто-то сказал бойким, беззаботным голосом:
— Глянь, запалили все-таки, не удержались.
Дятел оборотился и увидел: посреди деревни факелом встает пламя над одной из изб. И смутное поднялось у него в душе. Беспокойное…
Смутно, да по-другому и по причине иной, было и в душе у князя Федора Ивановича Мстиславского.
Стоял он эту ночь в той же деревне, откуда выходили сейчас сотни одного из полков большой рати, которую вел князь к южным пределам. И возможно, выйдя на скрипливое от мороза крыльцо, князь видел и Арсения Дятла, и Ваську Тестова, да не выделил и не разглядел их в колышущейся на дороге серой ленте, состоящей из множества лиц, саней, храпящих коней, возов с сеном и иным нужным в походе припасом. Да он и не знал в лица этих стрельцов, так как ни к чему такое ему было. Князь Мстиславский считал войско не по людям, но по полкам и ратям и в лица знал не людей, но полки, различая их по воинской справе, количеству приданных пушек да, может быть, по лихости и другим особым чертам, свойственным возглавлявшим их полковникам и воеводам. Каждый всему и по-своему счет ведет. Даже и деньгам, ибо один на гроши их считает, другой на копейки, третий на рубли, а иной — и на тысячи. Ну да Федор Иванович на крыльцо вышел не стрельцов разглядывать или считать, но едино для того, чтобы морозного воздуха глотнуть.
Поповский дом, в котором он ночевал, натопили, радея для князя, столь жарко, что он — огромный ростом и грузный чрезмерно — почувствовал к утру тяжелую ломоту в затылке.
Сейчас, когда на ветерке мороз вползал в рукава шубы, забирался за ворот, колюче щипал лицо, князь ощущал, как успокаивается ломота и в груди, под сердцем, рождается легкость.
Так стоял он долго, до тех пор, пока не почувствовал озноба, и только тогда, еще раз равнодушно пройдя взглядом по серой ленте на дороге, повернулся и вошел в дом. Проскрипел по половицам и сел на подставленную ему лавку. Опустил лицо.
Он, Федор Иванович Мстиславский, был одним из родовитейших на Москве, ибо вел род от великого князя Гедиминаса. Однако был он ветвью последней на славном этом древе, от которой больше ни одной веточки не росло. И в том была его великая печаль и великая же дума.
Большой дом стоял у князя на Москве, крытый темно-серебристым свинцовым листом, но то было малой частью несметного его богатства. Деревнями и землями был богат Мстиславский и многими-многими людьми, их населяющими. Так богат, что знал: Дворцовый приказ, обсчитывающий и распоряжающийся царевой казной, давно и пристально приглядывается к княжеским владениями. А царь Борис не позволил ему жениться, дабы не объявились у Мстиславского наследники и богатства его по смерти не ушли в чьи-то руки, но отписаны были в Дворцовый приказ. Вот так было на Москве, и переступить через это царское повеление князь не мог.
Смута же была в душе князя оттого, что, ставя его во главе войска, царь Борис подал ему надежду — в случае успеха ратного дела он выдаст за него свою Ксению, с Казанью и северской землей в приданое. И даже не брак, который мог состояться, но только лишь предложение это многое меняло в сложившемся на Москве положении князя Мстиславского. Одно было — князь, обиженный царем Борисом, да так, что рода продолжить не мог; и вовсе другое — он же, Мстиславский, но возможный зять царев.
Не мешая князевым думам, услужающие люди накрыли на стол. Федор Иванович поднялся во весь огромный рост и с истовым лицом перекрестился на иконы в углу. Сел.
Ему подали кубок. Он принял его тяжелой рукой, поднес ко рту, но сделал лишь глоток, поставил кубок на стол, да так и застыл с рукой на витой и высокой ножке серебряного с чернением кубка.
Многое надо было князю обдумать и многое решить.
Первый боярин в Думе, воевода, водивший рать московскую в ливонские земли на шведа, Федор Иванович был многоопытен и знал, что иным на Москве и в мысли не входило. Знал и то, что на Руси сильными людьми всегда много карт разыгрывалось, и карт разных. То повадка была старая, великокняжеская, шедшая от тех времен, когда каждый из князей на отчем княжестве сидел и своего добивался. Ломали ту повадку, рубили с кровью, с мясом, ан нет — то, что от веку было, не просто изживалось. Все одно себя выказывало — не в том, так в ином. Гордыня, лютая гордыня поднимала роды, толкала их вперед других выскочить.
Князь усмехнулся, отрываясь от мыслей о древних родах и, подумав, что куда там роды древние — проще на бабу русскую взглянуть: потерпит она, коли иная Евина дочка, бабьей статью более наделенная и нарядом лучшим украшенная, на дорожке узкой ей встретится? Нет, подумал, не потерпит. Столкнет.
Сморщил губы.
Уверен был князь и в том, что дело царевича Дмитрия не случайно возникло, не вдруг и не по глупой затее пустого человека, но обмыслено гораздо и с коварством. «Ковы, ковы куются делом сим, — подумал князь, — путы железные».
Ему, первому на Москве боярину, давно и прочно стоящему на вершине власти, была понятна давняя мечта российская — пробиться к Балтике. Да он и сам войска водил воевать море и знал, сколько жизней русских за эту мечту положено. На юге воевать море — надежды не было. Там Крымское ханство стояло прочно. А на Балтике, где вечно дрались за жирный кусок и ганзейцы, и литовцы, и шведы, и поляки, в чужой сваре можно было и России свое ухватить. Но понимал он и то, что сколь мощно и сильно напирала Москва на столь желанные для нее прибалтийские земли, столь же упорно и с неменьшей силой оттесняли ее те же ганзейцы, литовцы, шведы и поляки. Но это была только одна сторона представлявшейся ему игры.
Была и другая.
Не прыток был князь в речах в Думе, но разумом и памятью господь его не обидел. Сидел он на лавке перед царем и боярами в Грановитой палате, занавесив глаза густыми бровями, однако все видел, в каждое слово вникал, подмечал многое, чего другие пропускали в многоречивых излияниях, в спорах бездельных, в препирательствах пустячных. Глыбами откладывались в памяти князя и слова, и дела. И не случайно, подняв кубок с вином, подумал он, как прытка московская баба, как непримиримы московские древние роды. Отхлебнув из кубка в другой раз, он соединил в единое целое упорное и мощное желание прибалтийских держав оттеснить Россию от прибалтийских земель и московскую свару боярскую. А посредине поставил дело царевича Дмитрия, решив без сомнения, что двумя сторонами оно рождено и двумя же сторонами поддерживается. «А где же мое место? — спросил себя князь. — Где? Вот тебе и зять царев, — подумал. — И лестно ли такое предложение Борисово? Как бы между глыб этих не зашибло!»
Отодвинул блюдо с мясом. Отставил кубок. Поднялся. Ему подали шубу. Князь оборотился к иконам и, как давно не бывало с ним, слово за словом, отчетливо выговаривая, прочел «Отче наш». Вышел на крыльцо. Пора было в путь, но князь отчего-то еще задержался на крыльце.
Стрелецкие сотни прошли, и дорога перед поповским домом была безлюдна. Да не видно было ни одного человека и по всей деревне. И ежели поутру Федор Иванович и не приглядывался, что это за деревня и какова дорога, то сей миг внимательно огляделся вокруг. И приметил и хмурость избяных крыш, и распахнутые ворота дворов, и заваленные, растасканные на костры плетни. Разоренной, разграбленной увиделась деревня. Но больше поразила князя дорога. Была она разбита, разъезжена, завалена навозом, испятнавшим недавнюю белизну ее желтыми, грязными струпьями. Вылезая горбатой хребтиной из не тронутых сапогами и полозьями саней обочин, дорога представилась князю не летящей вдаль снежной стрелой, но некой тропой безобразной, на которой и конь ноги изломает, и возок побьется. «Да и куда она ведет?» — подумал князь. Лоб наморщил под шапкой высокой, но ответа не нашел.
В эти дни, когда великая рать под водительством князя Мстиславского по российскому обычаю, неспешно продвигалась к западным пределам в Дмитров, к игумену Борисоглебского монастыря пришло патриаршее повеление — всенародно предать с амвона монастырского собора анафеме вора и изменника Гришку Отрепьева.
Игумен прочел патриаршее повеление, и у него руки задрожали, в ногах ощутил он слабость и присел на стульчик. Уж больно страшные слова были начертаны в переданной ему бумаге. В глаза игуменовы так и бросились строчки: «…крестное целование и клятву преступивший… народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший… души купно с телесы множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское злоумышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец да будет проклят! Анафема!» Игумену даже нехорошо сделалось после таких слов. Он задышал часто, чувствуя в груди колотье и ломоту в висках. Но худо-бедно, ан отсиделся игумен на стульчике подле оконца и стал прикидывать, что и к чему. Известно — был он хитромудр. В послании же патриаршем слова вколачивали, как гвозди в гроб.
Святой отец в оконце глянул. Оконце перекрещивала черная решетка, и по решетке, припорошенной снежком, прыгала малая птаха синица. Суетилась, неслышно разевая клювик, подергивала хвостиком и, как шильцем, клювиком своим — а он-то всего с полноготка — туда и сюда потыкивала. Мушку искала, козявку, кроху какую ни есть малую. «Ищешь? — подумал игумен. — Ишь ты, птаха божья… Знать, жить хочешь…» А видел: холодно синице и ветер ей перышки топорщит.
Задумался.
Русь, известно, слухами живет. Экие, казалось бы, неоглядные земли, дальние дороги, куда уж там преодолеть пути эти бесконечные и слово от одного к другому передать. Но нет. Катили, катили по российским дорогам обозы, чертили снежок полозья, и коники били копытами в звонкую наледь, оставляя за собой долгие версты. А с обозами-то, с обозами летели по российской земле слухи. Встретит мужик мужика на широком дорожном разъезде да и крикнет:
— Э-ге-ге! Здорово живешь!
Пересядет к попутчику в сани. А там слово за словом да и вывалит, что в дороге услышал, как грибы из кузова.
— Вот так-так!.. — разинет рот слушающий его человек. — А нам, дуракам, не ведомо.
Другому их передаст. Тот — третьему, и, глядишь, новость в день-другой в такие дали докатится, что и понять трудно. Так вот и к игумену Борисоглебского монастыря через многих людей дошло, что вор Гришка Отрепьев, о котором он грозную бумагу от патриарха получил, вроде бы и не вор, но человек богобоязненный и к церкви приверженный.
Игумен в мыслях раскорячился.
Мужики, пройдя по долгим дорогам, рассказывали, что новоявленный царевич службы стоит во все дни, чин церковный блюдет, благость на нищих и убогих изливает, богу-вседержителю молится трепетно, изнуряя себя в тех молитвах, даже и чрезмерно.
И другое слухи донесли.
Войско, рассказали игумену, у царевича несметное. Больше того, говорили, что города он не воюет, но они сами открывают перед ним ворота. Народ вяжет воевод и выдает царевичу. Такое еще сильнее ввело игумена в смущение. Он попросил принести известной монастырской настоечки.
Настоечку принесли. А по монастырю среди братии пошел разговор, что игумену бумага прислана от патриарха, а он в ней сомневается.
В это-то время, когда игумен настоечку попивал, дабы мысли пришли в порядок, а братия волновалась, исходя душевными силами в тревожных разговорах, привел в монастырь обоз из пяти саней Степан. Нужда у него объявилась в сене. Снега были высокие, морозы, и сена выходило на лошадок его много больше обычного, а в монастыре, известно, и сена, да и овса запас был немалый.
Введя обоз в монастырский двор и обиходив лошадок, Степан толкнулся к монаху Пафнутию.
Пафнутий встретил его странно. Снулый был какой-то, сумной. Брови надвинул, буркнул:
— Не до тебя.
Степан покорно повернулся, пошел к лошадям. Потоптался вокруг саней, поглядел на церковные кресты, еще потоптался. А мороз жал на плечи, и чувствовалось, что к вечеру еще похолодает.
Ближняя к Степану лошадка, понуро опустив голову, помаргивала обмерзшими ресницами, ознобливо подергивала кожей. Иней одевал разгоряченных дорогой лошадей больше и больше. Степан голицей[34] провел по усам, по бороде, поднял голову и недобро посмотрел на окно Пафнутьевой келии. За решеткой не видно было никакого движения. По двору же монастырскому братия так и шастала. То один монах пробежит, придерживая рясу и скользя худыми подошвами по наледи, то другой. И лица, заметил Степан, у монахов озабоченные. «Что это они, — подумал, — аль угорели?»
На крыльцо вышел Пафнутий. Взглянул на Степана, сказал:
— Иди в собор. Велено всем собраться.
Отец игумен, выпив настоечки, все же решил: «Приказ патриарший строгий. Ослушаешься — и худо будет». Поднялся от стола и, охая и держась за поясницу, походил по палате. Приседал при каждом шаге, кренился в стороны, будто его ноги и вовсе не держали, постанывал, покряхтывал натужно. В мыслях было: «Ах, царевич, царевич богобоязненный… Ах, города, ворота перед ним открывающие… Ах, воеводы, связанные и на милость царевичу выданные…» Но тут же и другое объявилось в голове: «Иов-то, может быть, и недоглядит за непорядком по слабости и забывчивости, но вот слуги его ничего не забывают. И народ это суровый. Ослушаться нельзя. До царевича далеко, а у этих молодцов руки длинные и цепкие. Нет, повеление патриаршее исполнять надобно».
Пафнутий со Степаном в храм вошли, а он уже был народом заполнен. И тут Степан услышал страшные слова. По бумаге читанные отцом игуменом, они еще в четверть силы звучали. А здесь, под высокими сводами, гулко чувствующими и слабый шепот, в огне свечей, освещавших храм текучим, колеблющимся светом, под взглядами святых, смотревших с окон распахнутыми строгими глазами, слова ударили в полную силу.
— …крестное целование и клятву преступивший… — поднялось под купол собора и грянуло, многократно увеличившись в звуке на головы.
У Степана даже скулы напряглись болезненно. А уже другие слова обрушились на него:
— …души купно с телесы христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший…
Степану представилось что-то красное, кровавое, дикое. Свет свечей ударил по глазам и еще больше удивил пугающие краски, замельтешившие в глубине сознания. Он опасливо оглянулся.
Братия стояла, опустив лица. Степан увидел: запавшие в неверном свете свечей глаза, тенями прорезанные по лицам морщины, черные пальцы, прижимавшиеся ко лбам. И представилось ему, что на Русь идет что-то страшное. То, что не пощадит святых церквей, разрушит города, веси, изломает даже и саму землю с ее полями и лесами, выплеснет реки и озера.
И тут он вспомнил увиденный им однажды вихрь, катившийся воронкой по степи. Вихрь падал в травы сверху из черной тучи и, раскачиваясь и клонясь, двигался по степи. В те минуты табун Степанов, сбившись плотно тело к телу, застыл в напряжении, и он, табунщик, понял, что нельзя в сей миг позволить сорваться лошадям с места. Одна лошадь сделает шаг — и тогда, ломая ноги и калеча друг друга, табун покатится по степи в бешеной скачке, которая навряд ли кого-либо из лошадей оставит в живых. Степан шагнул к жеребцу и обхватил его за шею. «Стой, стой, милый! — закричал в ухо, перекрывая вой ветра. — Стой…»
— …крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, — обрушивалось с высоких сводов, — да будет проклят!
И упало последнее, убивающее:
— Анафема!
Лошадей в страшный вихрь табунщик удержал. После службы в соборе Степан подошел к монаху Пафнутию и, не поднимая лица, сказал:
— За сеном я приехал.
Пафнутий поглядел на него долгим-долгим взглядом. Глаза у монаха страдали.
— Правильно, — сказал он, — правильно, сынок. Будет тебе сено. Будет.
Пан Юрий Мнишек больше и больше удивлялся, глядя на мнимого царевича. Этот человек был непостижим для его ума. В мнимом царевиче все было противоречиво. Потерпев поражение при штурме Новгорода-Северского, он впал в черную меланхолию, но уже через неделю, услышав громкие крики толпы, приветствовавшей его после службы в захудалой деревенской церквушке, гордо поднял голову и, казалось, перестал замечать и пана Мнишека, да и все польское рыцарство, которое только несколько дней назад униженно умолял не покидать его и спасти от казавшихся ему вокруг врагов.
Одна нелепость дополнялась другой.
Отрепьев, во время скитаний по Польше мывший посуду в кухне у захудалого пана Габриэля Хойского, воспринял сдачу сильнейшей крепости Путивля как нечто обычное и даже долженствующее. Это было невероятно.
Пан Мнишек и мнимый царевич сидели за столом, когда гонец привез неожиданную весть. Отрепьев выслушал посланца путивлян, не выразив ни удивления, ни радости, и со спокойным лицом продолжал ужин. Он даже не взглянул на пана Мнишека, который в ту минуту от изумления чуть не подавился глотком вина.
Но через несколько дней, получив очередной отказ от воеводы Петра Басманова сдать Новгород-Северский, уже разбитый до обвала земляного, мнимый царевич впал в такую растерянность и такое отчаяние, что его едва усадили в седло.
С паном Мнишеком они стояли на холме, значительно отдаленном от Новгород-Северской крепости, но и с этого расстояния было видно, что города, почитай, нет. Есть дымящиеся развалины, и еще день-два — и защитникам крепости нечего будет оборонять, однако у мнимого царевича так тряслись руки, что он едва-едва удерживал поводья коня.
И тем более удивило пана Мнишека равнодушие, с которым мнимый царевич воспринял известие о переходе на его сторону Комарицкой волости. Комарицкие люди приехали в лагерь мнимого царевича с объявлением о подданстве и двух связанных воевод приволокли, но мнимый царевич даже отказался выйти на крыльцо и встретить их, сказавшись больным. Так же, без проявления каких-либо чувств, он принял весть о том, что ему поддалась волость Кромы. Но впал в буйство и ярость после того, как увидел собранные в дорогу сундуки Мнишека. Вскочив в палаты пана Мнишека, он бешено, с пеной на губах, закричал, что это предательство, хотя в свое время, выслушав робкое заявление Мнишека об отъезде, едва разомкнув презрительно сложенные губы, спросил равнодушно: «Когда пан предполагает выехать в Варшаву?»
И все. А сейчас он тряс головой и по-подлому громко, не считаясь с тем, что его слышат жадные на чужие слова уши, орал на Мнишека, как на последнего холопа. Пан должен был пригласить для его успокоения личного посланца панского нунция и еще двух иезуитов, Чижовского и Лавицкого.
Иезуиты говорили с мнимым царевичем больше часа. Когда пан Мнишек вошел в палату к мнимому царевичу, тот сидел у окна и на лице его была такая усталость, будто он прошел многоверстный путь и наконец присел в изнеможении. Лицо с запавшими щеками, с явно проступившими синяками под глазами, по-восковому светилось. Руки тяжело и безвольно лежали на лавке. Мнимый царевич вяло поднялся навстречу Мнишеку и обнял его. Пробормотал невнятное и опять сел на лавку. Больше Мнишек не добился от него ни слова.
Помимо этих странностей мнимого царевича, путающего большое, что могло влиять на ход происходящих событий, и малое, которое ни в коей мере не меняло ничего, пана Мнишека беспокоили и другие тревожные обстоятельства.
В лагерь мнимого царевича с каждым днем все прибывал и прибывал вставший на его сторону люд. И первое время это радовало и обнадеживало Мнишека. Как же иначе: с каждым прибывшим — будь то казак или мужик — увеличивалась сила мнимого царевича. Но пан Мнишек, однажды проезжая по лагерю, обратил внимание на то, что лиц польских среди множества прибывающих мужиков и казаков почти не видно. И это его неприятно поразило.
С ним произошло то же, что происходит с хозяином, который ждет по весне, как вешние воды заполнят пруд посреди его угодий. Хозяин насыпает валы, которые бы сдерживали воды, укрепляет берега и с радостью встречает первые весенние потоки. Его радует, как, растопленные солнцем, снега дают первые воды, он счастлив, услышав звон и гулкий шум струй — залог будущего урожая. Но вот пруд заполняется. В водах уже чувствуется глубина и сила, они так полно подперли берега, так широка их гладь, что это несказанно веселит глаз. И вдруг хозяин видит: воды продолжают прибывать, и он с ужасом понимает, что еще немного, чуть-чуть — и вешнее половодье сровняется с подпирающими его валами, а там и пойдет через верх. Тогда конец пруду: воды размоют, развалят, растащат, сметут берега.
В смущении вернулся пан Мнишек в свои палаты. По дороге к дому он все оглядывался и оглядывался с высоты седла, отыскивая польские лица, но в глаза бросались казачьи косматые папахи, серые кожухи, свитки, армяки, треухи да московитские кафтаны. И неосознанная тревога обожгла его. В задумчивости он слез с коня, отдал поводья холопам и прошел в палату. Постоял у теплой печи, погрел руки о беленый ее бок, потер ладонь о ладонь, стирая известь, шагнул к окну… Ему вспомнился Краков, король, благословляющий мнимого царевича, длинные столы, накрытые сверкающей посудой, радостные лица. И музыка, музыка услышалась, увиделись летящие в танце платья, щелкающие шпоры изящных кавалеров. «Да, — раздумчиво прошло в мыслях, — это было другое, вовсе другое». И тут же в голове встал вопрос: «Так что же так обеспокоило?» Вешнее половодье, заполняющее пруд, еще не виделось ему. Он, может быть, где-то в глубине сознания едва-едва услышал шум вод, но не понял, чем это может грозить. Была только тревога. Не больше. И было стоящее перед глазами невольное противопоставление: роскошного Кракова и толпы презренной черни лагеря мнимого царевича. И все-таки уже и это — едва услышанные признаки весеннего половодья и противопоставление Кракова и лагеря мнимого царевича — его напугало. «Но почему? — спрашивал пан Мнишек себя. — Почему?»
Ответ, конечно, был. Но пан Мнишек или не хотел его найти, или не мог. Это было сложнее, чем закрутить дворцовую интригу, на которые он был большой мастер. Здесь надо было заглянуть поглубже в свою душу и четко определить — кто он, пан Мнишек, и чего он, в конце концов, добивается, переступив рубежи российские с войском мнимого царевича? Но вот на это-то пана Мнишека и недоставало.
Пан все еще размышлял о неожиданно возникшей тревоге, когда в палату вошел ротмистр Борша. Лицо ротмистра было необычно возбужденно. Срывающимся голосом он сообщил, что в семи верстах от лагеря встала московская рать.
О движении к Новгороду-Северскому стрелецкого войска знали в лагере мнимого царевича. По всему пути князя Мстиславского у Мнишека были добровольные осведомители, и все же, как всегда бывает в таких случаях, весть о том, что рать подошла, явилась неожиданностью.
Подавшись вперед, Мнишек с минуту молча смотрел на ротмистра, словно не понял до конца сказанного. Молчал и ротмистр.
— Езус и Мария… — выдавил из перехваченного спазмой горла Мнишек. Но тут же заговорил тверже: — Офицеров ко мне, атаманов казачьих… — Спросил: — Кто обнаружил московскую рать?
Ротмистр сказал, что он сам был в передовом отряде и сам же видел рать.
— Стоят за рекой, — пояснил, — жгут костры. Обозов не видно.
С ботфортов офицера сползал на пол тающий снег. Мнишек увидел натекшую лужицу и наконец-то, окончательно справившись с перехватившим горло неудобством, повторил:
— Офицеров ко мне.
Борша повернулся на непослушных ногах.
Пан Мнишек как стоял посреди палаты, так и остался стоять. Только лицо опустил долу. Губы его хотели сложиться в какую-то определенную фигуру, но только двигались непрестанно, как ежели бы он откусил чего-то терпкого, жгучего и никак не мог освободиться от неприятного ощущения. И вдруг он сказал:
— Вот как оно бывает. — И повторил: — Как бывает…
Минуты разговора с ротмистром стоили ему многого. Это был даже не испуг. Нет. Едва он услышал о московской рати, как его пронзила острая до боли мысль: «Почему я не уехал, как только решил оставить войско мнимого царевича?» И Мнишек увидел катящийся по дороге возок и себя в уютной его тесноте. «Все было бы позади, — подумал он, — позади». И ему захотелось закричать громко и отчаянно. Но на него упорно смотрели глаза офицера, и он задавил в себе крик. И тут же увидел Краков, как он видел недавно, размышляя о презренной черни лагеря мнимого царевича. Краков с королевскими приемами, со столами, великолепно накрытыми, с летящими по сверкающим полам подолами платьев обворожительных красавиц. Одно лицо приблизилось вплотную к нему, и он отчетливо различил — это было лицо дочери, панны Марины. Блестели ее зубы. Сверкали глаза. Она смеялась. Но в смехе не было радости. В нем был яд.
За ротмистром отчетливо хлопнула дверь.
Пан Мнишек справился с непослушными губами и в третий раз сказал:
— Как бывает… О-о-о!..
Шагнул к окну и крепко оперся на щелястый подоконник. Ему вдруг захотелось с силой распахнуть раму. Он вскинул руку и тут только увидел, что крестовый переплет рамы неразъемен, затянут бычьим пузырем, едва пропускающим свет, и он, пан Мнишек, может только, как пьяный, загулявший казак, проткнуть пузырь кулаком. «Грязная хата, — подумал он с яростью и отчаянием, — нора…» Подумал так, как ежели бы хата с ее слепыми оконцами была виновата в том, что он оказался здесь и она же призвала его сюда из далекого сейчас для него Кракова.
После разговора с офицерами и казачьей старшиной мнимый царевич и пан Мнишек в окружении полуроты польских гусар выехали к тому месту, где передовой отряд ротмистра Борши увидел стрелецкую рать за рекой.
Лежал глубокий снег, и кони шли тяжело. Отряд подвигался медленно. Но все же через полчаса на запотевших конях они преодолели тревожные семь верст и с осторожностью, хоронясь за густым ельником, вышли к реке.
Пан Мнишек отогнул мохнатую, провисшую под снегом ветвь и оглядел противоположный берег. По всей пойме дымили костры и видны были двигающиеся меж ними темные фигурки людей. Мнишек начал было считать дымные шапки костров, но сбился да и сказал себе: «Что это я? Оно и так видно, что это основная рать». Повел глазами по пойме, по искрившемуся снегу, и вдруг бесконечное белое поле показалось ему черным. Он прикрыл глаза, отпустил пригнутую ветвь, посыпавшую снежным дождем, провел ладонью по смеженным векам. И, вновь открыв глаза, оглянулся на стоявшего рядом мнимого царевича. Тот неотрывно смотрел за реку. Губы его шевелились. «Что с ним? — подумал пан Мнишек. — Молитву читает?» Да тут же и отказался от этой мысли. Уж слишком жестко было выражение лица мнимого царевича, слишком резко прорезались у его рта морщины. «С таким лицом, — подумал Мнишек, — молитвы не читают». И он отвернулся от мнимого царевича — так нехорошо было его лицо. Вновь отогнул ветвь ели и посмотрел на реку. «Здесь, — решил, — на этом льду и на этой пойме и сойдутся два войска». По заснеженному льду катила поземка, вихрилась, играла, закручивалась сполохами. И вновь чернота закрыла Мнишеку глаза. «Да что же это?» — подумал он оторопело, прижал ладонь к глазам. И тут услышал резко сказанное мнимым царевичем:
— Смотри, пан, смотри! Что ладошкой прикрылся?
Пан Мнишек мгновенно опустил ладонь. Но мнимый царевич на него не глядел. Глаза его были устремлены за реку, а губы все так же шептали неведомое Мнишеку и так же жестко, нехорошо прорезались у рта морщины.
Давно замечено: когда сходятся две рати, последние сажени, разделяющие их, преодолеваются и одной, и другой стороной, может быть, с большим трудом, чем затрачен ими на весь путь, который они прошли до того навстречу друг другу. Кажется, что там — две сотни или сотня шагов. Экое дело… Версты пройдены! И какие версты: по грязям, по снегам, в дожди, в стужу… А тут всего-то ничего. Вона — руку протянуть. Ан нет.
Шаг, другой, третий…
Набрана полная грудь воздуха, подняты секиры, взлетели сабли, и…
Еще шаг, другой… Но вот эти-то шаги не саженями мерить надо, но силой души человеческой, ибо с каждым шагом таким, нужно думать, часть ее убывает.
Арсений Дятел шагал тяжело, продавливая снег, подавшись вперед грудью и опустив секиру так низко, что край лезвия порол с шипящим хищным звуком тонкую корку наледи. Но Дятел не слышал этого резкого, короткого, знобящего «сы-сы-сы» и опять — «сы-сы-сы», так как все существо его: воля, сила, слух, зрение — было собрано в одно движение, влито в один поступок, устремлено на одно действие — шаг навстречу тем, кто шел на него с другой стороны. Он уже видел не только серую на белом снегу, сплошную, неотвратимо надвигающуюся стену, клубящийся над ней маревом пар — распахнутые рты выталкивали толчками жаркое дыхание, — но и различал лица. И острым глазом бойца, побывавшего не в одной сече, определил, с кем из этой грозной стены он обменяется первыми ударами. Это был высокий мужик с покато опускающимися плечами, которые знающему человеку говорили с очевидностью — в них есть крепость и сила, есть жилистая ловкость и увертливость, достаточные, чтобы и обрушить мощный удар, и принять ответный напор. Шагая навстречу Дятлу, он — это было видно по нацеленному и жестко устремленному вперед взгляду — тоже определился, с кем сведет его первая минута сечи и натужно, медленно-медленно пригибал шею. Шаг, еще шаг… Еще…
Весь многоверстный поход Дятел многажды мыслями обращался к Москве, к своему подворью, видел в думах детишек своих и Дарью, вспоминал последний разговор с тестем и по-разному перекладывал его, и так и эдак, обмозговывая сказанные тогда слова. Вспоминал встречу с полковником Василием Васильевичем в полковой избе, поганый хохоток Сеньки Пня… И опять к разговору с тестем обращался. Слов тогда сказано было немного, но и из немногих этих слов складывалось определенно: оборонить, оборонить Москву надобно, иначе будет худо.
«Свара, свара боярская на Москве поднимется», — сказал тесть и замолчал, но за этим увиделись и дымы, и пожары, и ревущие, пьяные толпы, вой бабий услышался.
Знали и тесть, и Арсений, что такое свара. И вот шагал по длинной дороге многоверстного похода Дятел, а в груди словно колокол тяжелым языком: «Оборонить! Оборонить!» И еще, и еще раз тем же медным голосом: «Оборонить!»
И думать надо, не только в его груди ревел этот колокол, но звал и других, как ревел и звал он в иных походах и иных русских людей оборонить русскую землю, так как никто, кроме них, мужиков, оборонить ее не мог. И вставали мужики и шли в сечу, дабы не растащили их отчину, не опоганили ее святынь, не надругались над ее душой. И гибли без упрека и сожаления, так как жизнь бы была им не в жизнь без земли этой, святынь и души.
Снег хрустнул под сапогом, и Дятел вскинул секиру.
Когда две рати сходились, как две грозные стены, в пойме неведомой малой речушки, князь Федор Иванович Мстиславский шагнул из своего шатра, поставленного на опушке густого соснового бора в версте от места битвы.
Ковровый шатер ярким пятном рисовался на белом снегу, на тяжелой зелени хвои. Персидские мастера ткали ковры княжеского шатра, и краски его были красками далекой южной стороны, согретой солнцем и расцвеченной бликами голубого теплого моря. На заснеженной опушке, среди строгих сосновых стволов, шатер пылал сказочным костром, разложенным неведомой рукой.
Да хорош был и князь в легких латах италийской работы, в золоченом шлеме. Ему подали коня, и князь, сунув ногу в стремя, сильно кинул тело на широкую его спину. Тяжел был Федор Иванович, так тяжел, что мощный жеребец на крепких ногах нутром загудел, приняв на себя князя. Федор Иванович разобрал поводья и глянул на золотой стяг, полоскавшийся на высоком древке впереди шатра. Ветер развернул стяг, и глазам предстал тканный по золотому полю серебром Георгий Победоносец, ущемляющий копьем змия. Князь плотно сжал губы и тронул шпорой теплый бок жеребца.
Дороден, величествен был князь, красив, наряден его воинский доспех, да вот только лицо Федора Ивановича желтым отдавало, и желтизна та говорила, что плоха была его ночь перед битвой. Плоха…
Оно так и было: уснул князь только под утро, а так покоя ему не давали шум ветра, тяжелый гул соснового бора, хрусткие шаги по снегу стражи, что стояла вокруг шатра. Задремлет князь, а ветер вдруг:
У-у-у — тревожно, опасно мутя душу.
Смежит усталые веки, а бор:
Ш-ш-ш, — словно предупредить хочет о страшном.
Забудется князь в дремоте, а шаги стражи:
Хр-хр-хр…
Вскинется Федор Иванович на лавке: «Что это? Кто идет? Зачем?» И уже не заснуть. Сон отлетел.
Но не одни звуки тревожные беспокоили князя. В иную ночь тот же ветер убаюкал бы его, шум бора успокоил, а шаги, что уж шаги — стерегут, так спи без забот. Иное волновало Федора Ивановича.
В походе на крыльце поповского дома в деревеньке случайной задумался князь Мстиславский — куда дорога ведет, по которой ему выпала доля с ратью стрелецкой шагать, да не ответил. Так вот и сейчас, в ночь перед битвой, не знал он ответа и мысли не давали покоя. Слышал, слышал он — уши были у него в полка́х, как без того, — говорили воеводы, что трудно-де с природным царевичем воевать. Руки не поднимаются на сечу. Разговор тот князь узнал, и человека, что донес, отпустил, вознаградив. Ничего не сказал, махнул только рукой: ступай-де, ступай. И замкнулся. Промолчал. Ему бы с гневом воевод призвать, и разговор их изменой объявить. Он-то, Федор Иванович Мстиславский, знал твердо, что не природный царевич противостоит им, но вор, монах беглый. Шушера пустая. Известно ему было дознание боярина Василия Шуйского по убиенному в Угличе природному Дмитрию, и не верил, никак не верил князь, что допреж Страшного суда покойники из могил встают. Ан вот не возмутился, не тряхнул воевод. Так где уж уснуть было спокойно? А на сечу-то идут уверенно, когда душа крепка. Коли же в мыслях шаток — лучше не выходи в поле оружным. «Кулаком, — говорят, — и камень дробят, а растопыренной пятерней лишь тесто творят». Вот и случилось то, чего никак не ждали. Когда в пойме и на льду речушки неведомой сходились без выстрелов, молча, передовые отряды, польские гусарские роты стремительно врезались в полк правой руки стрелецкого войска. Смяли его, и рота лихого рубаки капитана Доморацкого, вырвавшись вперед, по опушке соснового бора на рысях вышла к стану князя.
Это произошло так неожиданно, что никто опомниться не успел.
А гусары уже валили княжеский шатер, рубили древко боевого стяга. Федор Иванович развернул жеребца, поднял на дыбы, толкнул навстречу гусарам. Жеребец, хрипя и тяжело выдирая ноги из снега, пошел по опушке. За князем бросилось с полсотни стрельцов.
На пойме уже рубились. Арсений Дятел свалил мужика, что первым вышел на него. Ловок был мужик и силен — в том Арсений не ошибся, прикидывая издали, на что он способен, — но стрельца московского обороть не сумел. Мощно взлетела секира кверху, и быть бы стрельцу неминуемо срубленным ею, однако прянул Дятел в сторону — и удар прошел мимо. Мужик перехватил рукоять и уже с другого плеча обрушил секиру на голову Дятла, но стрелец и тут извернулся. И не рассчитал мужик — топор его вперед повел. Дятлу открылся мужичий загривок. Стрелец ударил коротко.
Белым-белым был снег поймы до того, как сошлись на нем в сече люди, но вот уже и расписали его красным. И не трудно было письмена те прочесть, да страшно. Русские люди рубили русских же людей, валили с горловым хрипом, со злым криком выхаркивая в надсаде слова боли, ужаса и отчаяния смертного. Валили тех самых мужиков, которых так и не хватало земле и в ком великая у нее была нужда. А отчего такое? Зачем письмом красным — по белому снегу? И какую правду поведать могли эти письмена? Может, лишь ту, что стоящий на берегу, за елочками, всадник, зябко кутающийся в шубу, монах беглый, с бледным невыразительным лицом и болезненно запавшими глазами, власти возжаждал и в гордыне неуемной возмечтал над другими подняться. А иной, стоящий не здесь, не рядом, но издалека, из Москвы, руку распростер над войском стрелецким и вперед его толкнул, дабы ту власть не уступить.
Дятел сплеча рубанул второго, третьего. И надо же было случиться, что в круговерти сечи набежали на него Иван-трехпалый и Игнашка. И Иван-то, силу Арсения разом угадав — научен тому был жизнью, — в сторону кинулся и под топор стрельца Игнашку подставил. Удар был страшен. Игнашка ткнулся головой в снег.
А на опушке у сбитого боевого стяга капитан гусарский, молодой и горячий Доморацкий, дотянулся-таки до князя Мстиславского и раз, и другой ударил его саблей по голове. И лечь бы навсегда Федору Ивановичу, боярину московскому, здесь, на опушке соснового бора у неведомой речушки, да спас италийской работы боевой шлем. Соскользнула сабля, не достала до живого. Но все-таки сбил князя капитан с коня. И хотя набежали стрельцы на опушку бора и начали теснить гусар, но уже покатилось от одного к другому:
— Князя убили, убили!..
И от полка к полку пошло:
— Стяг боевой сбит!
Многажды случалось такое, когда среди войска закричат вдруг — погибаем-де, погибаем, ломят нас, спасайся, братцы, — и все, для них дело проиграно. Так и в этом разе произошло. Не было еще ни победы, ни поражения, но голоса дурные разом стрельцов обессилили. В минуту эту опасную перед полками вылететь бы на бойком коне лихому воеводе да крикнуть так, чтобы все услышали слова, которые сердца зажигают, но в Борисовом войске воеводы такого не нашлось. Стрельцы попятились.
Арсений Дятел, почувствовав за спиной пустоту, оглянулся — и тут же острие пики пробило ему грудь. Он рухнул навзничь, тяжело продавив снег.
Через час сеча затихла по всем полкам. Стрельцы отступили, уступив поле сражения воинству мнимого царевича. Начиналась пурга. Заиграла пороша, занося тела павших. Катил снег, катил, закрывая мертвых от глаз живых. И среди них, кому не судьба была выйти из сечи своими ногами, лежали, почитай, рядом двое: Арсений, стрелец московский, и Игнашка, хлебороб, которому так и не выпало счастье вырастить хлеб на своем поле. Пороша заносила их, наметая над ними один на двоих сугроб. Выл ветер, и в голосе его можно было угадать безнадежное да и безответное: «Почему? По-че-му-у-у?..»
В лагере мнимого царевича могли радоваться победе, но радости не было. На другой день после битвы в палаты к мнимому царевичу пришли польские офицеры. Пришли гурьбой. Лица офицеров были злы, голоса полны решимости. Пан Мнишек, сладко улыбаясь, приказал подать вина, но один из ротмистров, отведя рукой поднос с бокалами, торопливо принесенный холопом, сказал, что они пришли не для разговоров за бокалом вина, а требуют, и немедленно, причитающиеся им за поход деньги.
Усы офицера торчали под костистым носом неровной щеткой.
— Панове… — начал было мнимый царевич, однако офицер взглянул на него с таким нескрываемым гневом и презрением, что слова застряли у мнимого царевича в горле. Лицо его вспыхнуло.
Мнишек, видя это и зная, как Отрепьев бывает несдержан, бросился между ними и заговорил торопливо и даже пришептывая от волнения. Слова его были все же только словами и никак не могли быть превращены в золото. Офицеры слушали, угрюмо сутулясь.
Мнимый царевич отступил в глубь палаты и стоял, опустив лицо. Он знал, что деньги, переданные дьяком Сутуповым, давно истрачены и казна пуста.
Офицер, который и начал разговор, с прежней решительностью прервал пана Мнишека, сказал, обращаясь только к мнимому царевичу:
— Не дашь денег — тогда мы все уйдем в Польшу.
И сказал так твердо, что сомнений не осталось — за словами последуют действия.
Больше никто не произнес ни звука. Офицеры вышли.
Бокалы с вином тонко вызванивали на подносе в дрожащих руках холопа.
Мнимый царевич опустился на лавку. После победы он никак не ждал такого поворота и растерялся. Пан Мнишек, беспрестанно покашливая, ходил по палате. Мысленно поминая матку Боску Ченстаховску, Езуса и Марию, он уже в который раз упрекал себя за то, что не уехал из лагеря мнимого царевича. Но отъезд в Польшу означал бы отказ от недавних горячих мечтаний, от замков, которые так ярко рисовались в его мозгу, и он не мог, никак не мог перечеркнуть все это разом. Изворотливый мозг пана подсказал решение, которое показалось ему спасительным.
Оставив в палатах мнимого царевича с его невеселыми мыслями, пан Мнишек призвал к себе монашка, представлявшего в польском войске всесильного нунция Рангони, иезуитов Чижевского и Лавицкого, на способности которых найти выход, даже из самого безнадежного положения, сильно надеялся. Но еще до того, как он встретился с иезуитами, пан Мнишек, памятуя старую, как мир, истину — разделяй и властвуй, — из последних своих запасов повелел тайно выдать деньги одной из польских гусарских рот. Но пана Мнишека на этот раз его изворотливость подвела. Иезуиты согласились с паном, что надо любой ценой удержать польское рыцарство от отъезда в Польшу, но вот само рыцарство, узнав, что гусарская рота ротмистра Фредрова получила золото, бросилась грабить обозы мнимого царевича.
Лагерь загудел тревожными голосами. Где-то ударил барабан, раздались выстрелы. Казаки, торопясь, в круг составляли щетинившиеся оглоблями сани, садились за них в осаду. Никто не понимал: московская ли рать, оправившись от поражения, внезапно навалилась или какой иной ворог напал на лагерь? Словно желая усилить неразбериху, с низкого неба сорвался снегопад. Густой, с ветром. В снежных сполохах трудно было разобрать, что за люди и всадники мечутся по лагерю. А барабан все бил и бил, непонятно кого созывая тревожным грохотом.
Мнимый царевич в окружении двух десятков верных гусар ротмистра Борша прискакал в обоз. Сотни саней с продовольствием, с водкой, оружием, прочим снаряжением, которое с немалым трудом и на свои злотые пан Мнишек собрал перед походом и что удалось мнимому царевичу захватить в сдавшихся на его милость городках и крепостцах, были перевернуты, разбиты и разграблены. В снег были втоптаны штуки сукна, бараньи кожухи и шубы, валялись ядра, черной, угольной пылью рассыпан порох для пушек.
У первых же саней мнимый царевич увидел, как с десяток поляков, выбив у бочки с водкой дно, пили здесь же, вставив в разбитый передок саней пылающий факел. Ветер рвал пламя, нес черный, сажный дым. Рядом офицер тащил из других саней ворох тряпья. Из-под руки у него торчала штука сукна. Тесня офицера конем, мнимый царевич закричал было, что он никак не ждал от поляков воровства, а считал их рыцарями, но ветер забил ему рот снегом. От бочки с водкой шагнул к мнимому царевичу другой офицер. Схватил коня за повод и раздельно, твердо, будто и не был пьян, выкрикнул:
— А, царевич?.. Ей-ей, быть тебе, собаке, на колу!
Подавшись вперед на седле, мнимый царевич ударил его кулаком в лицо. И сей же миг на Отрепьева навалилось с десяток поляков, выскочивших из-за саней. Начали рвать с него соболью шубу.
Мнимого царевича у пьяных солдат, уже без шубы, отбили гусары Борша. И те же гусары оттеснили грабителей от обозов, хотя спасти удалось немногое.
Мнимый царевич вернулся в свои палаты в разорванном платье, без шпаги, выкрикивая проклятья. К нему бросился пан Мнишек, заверяя, что грабили обозы случайные люди, а польское рыцарство по-прежнему верно царевичу. Но пан Мнишек, как всегда, лукавил. Он понял и твердо решил, что ему и дня нельзя оставаться в лагере мнимого царевича. Пана напугал не столько грабеж обозов, сколько открыто проявившаяся в эти часы враждебность казаков. Он бросился было вслед за царевичем и увидел, как казаки сели в осаду за составленные по всему лагерю в круги сани. Разглядел их лица и придержал коня. Уразумел наконец пан, что так обеспокоило его недавно, когда он разглядывал толпы прибывающего в лагерь мнимого царевича люда. Казачьи косматые папахи, серые кожухи, свитки, армяки, треухи да московитские кафтаны вновь стали перед глазами, и с очевидностью ему стало ясно, что этот серый, напугавший его поток в один миг может захлестнуть горстку польского воинства. Но царевичу он говорил другое. Не скупясь на обещания, он заверял его, что немедленно, завтра же, отправившись в Польшу, наберет верное и мощное войско. Он приведет под знамя царевича смелейших рыцарей.
— Есть люди, — говорил пан Мнишек, — есть такие люди…
Вошел ротмистр Борша, принес мнимому царевичу соболью шубу.
— Ну вот, вот, — заторопился пан Мнишек, — дюжина пьяных солдат — это еще не рыцарство.
Ротмистр Борша, однако, словом не обмолвился, что у поляков шубу выкупили казаки. А пан Мнишек все говорил и говорил, что он имеет ободряющие вести из Кракова.
Мнимый царевич, не мигая, смотрел на огоньки свечей. Лицо его казалось неживым. В нем все застыло. Вдруг губы его разомкнулись, выказав мелкие, но крепкие зубы, и он, странно растягивая рот, сказал:
— Я буду на Москве. Буду!
Кому он это сказал? Пану Мнишеку? Ротмистру Борша, который все еще стоял в дверях? Себе? Пан Мнишек не понял. А мнимый царевич еще раз повторил:
— Буду!
В лагерь мнимого царевича мужик из соседней деревни привез раненого Игнашку. Ехал мимо поля, где накануне было сражение, и увидел, что один из снежных холмиков шевелится. Остановился, разгреб снег, а там человек. Чуть живой, ан все же живой… И ради Христового имени поднял его на телегу и привез в лагерь. На Игнашку глянул кто-то из казаков да и сказал:
— То Ивана-трехпалого ищите. Вместе они были.
Ивана-трехпалого нашли. Он признал Игнашку, переложил в свои сани, подоткнул под голову сенца. Игнашка умирал. Иван дал ему напиться из кружки. Хлебнув воды, Игнашка вдруг заговорил:
— Иван, Иван… Знаю я царевича, видел его на подворье боярина Романова…
Жизнь уходила из Игнашкиного тела, он напрягался, хрипел, но все же договорил:
— То не царевич, но монах черный, видел я его, видел… Видел…
Иван опасливо оглянулся: не слышит ли кто речи страшные?
— Ты что, — сказал, — очумел? Какой монах?
— Нет, нет, — ответил с уверенностью Игнашка, — точно видел. Монах это.
Иван выпрямился над умирающим, глаза налились злым. Он схватил потник в передке саней и набросил на лицо Игнатия. Через минуту тот вытянулся и замер. Вот как сходились дороги в стыдном этом деле. И неведомо было, кому в нем судьба жизнь обещала, а кому грозила смертью. Скорее же, так — света в окошке здесь ни перед кем не видно было. Так, мигала где-то далеко-далеко неверная свеча, а и погасла враз.
Глава третья
Сейм бушевал второй день. Король холодными глазами оглядывал лица разгоряченных спорами, препирательствами и взаимными упреками панов, но было трудно понять, о чем он думает. Ах, эти шведские глаза рода Вазы… Они порой казались синими, как море в ранние утренние часы, то вдруг темнели или становились прозрачными, но всегда оставались враждебными. В их страшноватые глубины никому не хотелось заглядывать.
Впрочем, Сигизмунд за последнее время заметно изменился. Походка его стала не так тверда, движения утратили ту резкость, с которой он однажды схватил за горло своего казначея, а голос, некогда гремевший под сводами королевского дворца хриплой военной трубой, смягчился. Хотя трудно было сказать, что он уподобился сладкозвучной валторне, однако звуки его уже не вызывали у дворцового маршалка прежнего дрожания во всех членах.
Причин для этих изменений было немало, однако окружение короля, не вникая в суть произошедшего, довольствовалось и тем, что вероятность получить неожиданный пинок в зад тяжелым шведским ботфортом заметно поубавилась. Одно это вносило в жизнь придворных известное облегчение.
Но сейм не был королевским дворцом. Здесь заседали паны, которые имели больше золотой посуды, чем короли Польши, и уж, во всяком случае, могли выставить войско, которое и не мечталось королю Сигизмунду. Казна его, как и всегда, была пуста. И хотя король всегда король, но в польском сейме и каждый пан был паном.
Молчание короля объяснялось тем, что некоторые его тайны стали достоянием сейма. Так, известно стало, что король не только благословил мнимого царевича, но и связал себя с ним обязательством о передаче под власть польской короны в случае успеха похода северских российских городов. А это уже не было легкомысленной забавой или королевской шалостью. Нет! Король имел право на вольность — принимать или не принимать в своем дворце новоявленного российского царевича, но не имел права подвергать Польшу возможности войны с мощным российским соседом. Подобного рода обязательства неизбежно вели к войне, и именно об этом шла речь в сейме.
Коронный канцлер Ян Замойский — человек, противостоять которому было трудно даже королю, — поднявшись с кресла, хрипло, со злобой и иронией, с очевидной язвительностью пролаял:
— Тот, кто выдает себя за сына царя Ивана, говорит, что вместо него погубили кого-то другого — лжец. Помилуй бог, это комедия Плавта или Теренция, что ли? Вероятное ли дело — велеть кого-то убить, а потом не посмотреть, тот ли убит. Ежели так, то можно было подготовить для этого козла или барана.
Сейм ответил на это хохотом.
Глаза Сигизмунда стали темными, как море в бурю. И все же он даже не шевельнулся в кресле. Только поднял глаза и тяжело взглянул на канцлера.
Голос Яна Замойского нисколько не дрогнул. Канцлер был не из тех придворных панов, которых мог бы смутить подобный взгляд. Он тряхнул головой и продолжил свою речь все с той же иронией в голосе. Теперь канцлер напал на Юрия Мнишека. Ежели королевская особа была все же щадима канцлером в тех пределах, которых Ян Замойский придерживался, то пана Мнишека он размазал, словно коровью лепешку о стену. Канцлер обвинил Мнишека во всех смертных грехах: в алчности, забвении интересов Польши, в подталкивании короля к неверным шагам. Сидящий на заседании сейма Юрий Мнишек темнел лицом и готовил в мыслях резкий ответ, но его окончательно сокрушил выступивший вслед за Замойским Лев Сапега. Речь его была не столь ярка, как выступление Замойского, но произвела не меньшее, ежели не большее впечатление на панов сейма. Лев Сапега начал с рассказа о своих письмах Юрию Мнишеку, в которых предупреждал того о нежелательности участия польского пана в этом сомнительном деле. Литовский канцлер не скрывал ненависти к России, однако высказал и свое понимание предпринятого Юрием Мнишеком похода. Больше всего панов сейма насторожило заявление Льва Сапеги, что бездумными действиями воевода Мнишек возбудил восстание черни по восточным границам Речи Посполитой. Он высказал опасение, что волнения низкого люда могут переметнуться через пограничные рубежи.
Пан Мнишек осел в кресле и не нашел что ответить на речь Льва Сапеги.
Но и это было еще не все.
Перед панами сейма поднялся князь Василий Острожский и потребовал, чтобы сейм наказал виновных в преступном походе.
Здесь уже не выдержал король Сигизмунд и заерзал в кресле. «Виновные… — пронеслось в его голове. — Но кто виновен? Я? Пан Мнишек?» Ботфорты короля гневно звякнули шпорами. Положение спасло то, что вопрос о наказании виновных больше не поднимался. Однако и без того было ясно, что надежды и планы военной партии при королевском дворе рухнули до основания. Мнение сейма было более чем определенно.
Согнув голову и вцепившись руками в рукоятки кресла, пан Мнишек с содроганием подумал, что самым тяжелым испытанием для него будет разговор с кредиторами, которые ссудили его золотом на поход мнимого царевича. Он даже не представлял, как после сказанного в сейме ему встретиться с ними.
Сейм отшумел, однако, как снежная буря, и паны разъехались по своим замкам, оставив короля один на один со своими мыслями. А мысли эти были нелегки. Да, так оно всегда и бывает. Ветер, снежные сполохи, вой сквозняков в трубах, грохот черепицы под ударами мощных порывов — и вдруг тишина, настораживающее безмолвие, в котором слышен каждый шаг в отдаленных покоях, скрип саней за окном, и человек, еще наполненный до краев недавними голосами, затихает сам, и душа его настораживается. Правда, Сигизмунд не был столь тонкой натурой, чтобы сердцем отделить и противопоставить друг другу гремящее торжество жизни, прочитываемое иными в безумствах бури, и уныние умирания в безмолвии истощившего себя порыва. Ему ближе было томление духа, наступающее неизбежно после шумного пира. Были сотни гостей, гремящая музыка, возбужденные голоса сливались в мощный хор, сверкали глаза, бриллиантовую россыпь радуг излучали из хрусталя люстр тысячи свечей, и вздымались, вздымались кубки в возгласах безудержного ликования. И вот все кончилось. Глазам предстали залитые вином столы, разбитые бокалы, измятые цветы… И в голове только шум, шум… Кружение…
Нет, это было невыносимо.
Король повелел пожарче разжечь камин.
За окном угасал день. Плоская заречная равнина открылась глазам короля с протянувшимися по ней тенями сумерек. Он поморщился. Тоска, тоска вползала в сердце короля. Сигизмунд услышал, как слуга с осторожностью укладывает поленья в камин, различил негромкое потрескивание разгорающегося пламени, но даже и эти всегда бодрящие его звуки не вывели короля из состояния подавленности. Он следил за сгущающимися тенями в полях.
Неожиданно, нарушив устоявшуюся тишину королевских покоев, где-то в переходах дворца раздались шаги. Сигизмунд невольно прислушался и понял: это дворцовый маршалок спешит с каким-то сообщением. Скрипнула дверь, и король почувствовал, что маршалок застыл у него за спиной, выжидая минуту, когда можно будет подать голос.
— Да, — позволил Сигизмунд, с болезненной ноткой в голосе, — я слушаю.
— Ваше величество, — нерешительно начал маршалок, зная настроение короля, и сообщил, что во дворец прибыл нунций Рангони.
Минута молчания казалась бесконечной.
Король все же повернулся от окна на две четверти оборота и, четко обозначив на фоне угасающего неба круто выходящий вперед подбородок, сказал:
— Проси.
Нунций Рангони прибыл во дворец врачевать королевские раны. А он это умел. Правда, нунций не пользовался благовонными восточными маслами, смягчающими живые ткани и снимающими боль, корпией или бинтами. У него были иные средства. Да и раны короля не нуждались в маслах, корпии и бинтах. Было уязвлено королевское самолюбие. Нунций прекрасно знал: сей недуг можно вылечить, лишь осторожной рукой извлекая из ран губительные стрелы и направив их в другую мишень. В этом случае нанесенные в сейме королю удары, смягчив их маслом лести, нунций отвел на пана Мнишека. И сделал это искусно. Бледность короля даже сменилась некой живой краской. Справившись с этим, Рангони с той же осторожностью приступил к врачеванию королевского честолюбия, понимая, что здесь есть единственное, безошибочное и чудодейственное лекарство — неуемное восхваление королевских достоинств.
Расположившись с королем у камина, нунций Рангони — с непередаваемыми интонациями в голосе — воспел поведение короля в сейме. Он отметил его великолепную сдержанность, глубокое, хотя и молчаливое, понимание пустоты и никчемности бурных речей панов сейма, достоинство, с которым король выслушивал этих крикливых его слуг. И здесь папский нунций добился многого. В потухших глазах короля появился блеск, и он с явным интересом обратил их на пылающие поленья в камине.
Глубокомысленно, вслед за королем посмотрев на бушующее пламя, нунций незамедлительно приступил к врачеванию главного ущерба, нанесенного королю в сейме. Как известно, Сигизмунд, не склонный к размышлениям, был всегда устремлен на поставленную им перед собой цель. Такой целью некогда был его дядя, Карл, осмелившийся отнять у него шведскую корону. Сигизмунд не знал покоя, постоянно видя в мечтах, как польские подданные, пролив кровь, приведут Карла связанным и бросят на колени к его ногам. Но в этом Сигизмунд не преуспел, и его устремленность с тем же накалом обратилась к иной цели. Московия с ее сказочными богатствами засверкала перед королевским взором, а мнимый царевич Дмитрий стал шпагой, которой он захотел завоевать эту сказку. Но сейм и в этом подбил ему крылья. Казалось, все пошло прахом. Выступление канцлера Замойского… Требование Острожского… Руины, вокруг были одни руины… Король сник. Но вот как раз этого позволить ему папский нунций не мог.
Выказывая необыкновенную осведомленность, он доверительно сообщил королю о все прибывающих и прибывающих в лагерь царевича казачьих силах. Рассказал о предполагавшихся переговорах царевича с крымскими татарами, которые якобы склоняются к совместному походу на Москву.
— А потом, — раскинул руки нунций, — так ли уж виновен достопочтенный пан Юрий Мнишек? Нет и нет. Он сделал, что мог, и надо помочь ему собрать новые силы.
В свете камина Рангони покосился на короля. Ему показалось, что Сигизмунд выпрямился в кресле и свободно вдохнул воздух широкой грудью.
Страшное слово «топор» на Москве было сказано. Да, знали, знали на Руси, и поговорку о том сложили, что-де не соха царю оброк платит, но топор; ан каждый раз слово это, короткое и тупое, все одно пугало.
Перво-наперво хватать начали пришлых на Москву. И пристава сразу же за грудки брали:
— Кто таков? Меж двор шатаешься?
Мужик и рта открыть не успеет, а его уж забьют словами:
— Откуда? С подметным письмом от вора? Где оно?
Мужик забожится, закрестится:
— Да я… Да мы… Господи, помилуй…
Но господь, может быть, и миловал, ан пристава молча за пазуху руки совали, обшаривали мужика, и неважно, найдут ли что или нет, а приговор готов:
— В застенок.
И поволокут беднягу. А кто в застенок вошел, известно, на своих ногах оттуда не выйдет.
Мимо пыточной кремлевской башни люди уже и ходить-то боялись. Больно страшно кричали пытаемые. Оторопь брала от криков тех. Как же надо человека умучить, чтобы с криком из него жизнь уходила. А слышалось в голосах, что так оно и есть. И москвичи головы нагнули. Но надобно знать, что на Руси, коли головы гнут, не обязательно такое о страхе говорит. Нет. Вовсе не обязательно.
Власть-то любит, коли человек нараспашку — вот-де я какой! Такого еще по плечу похлопают — давай-де, давай, шагай и дальше так. А когда голову опустил? Глаз не видно. Это опасным грозит. И Семен Никитич силу набрал. На Болоте, где казни вершились, столб врыли, на столбе спицы железные укрепили и на них вбивали головы казненных. Во как! Поддерни портки, дядя, да побыстрее мимо, а то как бы и твоей голове на спицах не очутиться… Но то, что на Москве деялось, было половиной беды. Беда упала на северщину.
Потерпев поражение под Новгород-Северским, российское войско, собрав силы, в другой раз ударило на мнимого царевича и разбило наголову. С остатками поляков и малой частью казаков Отрепьев бежал в Путивль.
Сражение кончилось. В плен была взята не одна тысяча поляков, стрельцов, примкнувших к вору, казаков, комаричей. Они стояли угрюмой толпой.
Федор Иванович Мстиславский, в окружении воевод, подъехал к ним, остановился. Мужики, заносимые снегом, стояли молча. Серые армяки, бороды, темными полосами рты на бледных после боя лицах. Кое-кто стоял без шапок. Ветер шевелил волосы.
Жеребец под князем переступил с ноги на ногу, и острая боль недавней раны пронзила Федору Ивановичу голову. Он болезненно сморщился, поднес руку к виску. Боль отпустила. Князь различил особняком стоящих среди мужиков поляков в гусарских доломанах с откидными рукавами. И опять серые лица мужиков увиделись Мстиславскому. Хмурые лица, ничего доброго не ожидавшие, но да и не обещавшие. Князь глаза сузил. Много, много видел он таких лиц за свою жизнь. Видел с Красного крыльца в Кремле или, выходя следом за царем по праву первого боярина с папертей святых храмов; видел из окна кареты, проезжая по Москве, или вот так же, как ныне, с высоты седла, оглядывая проходивших мимо ратников, которых сам вел в поход. Те же это были лица, все те же… С глубоко резанными морщинами, голодно выступающими скулами, упрямо сомкнутыми ртами. А в голову князю не пришло, что видел-то он их с высоты своего рода и места в державе, и оттого, быть может, никогда улыбок на них не разглядел, голубого цвета глаз не разобрал, мягкости черт не угадал. Как не пришло ему в голову и то, что с расстояния чина боярина, первого в Думе, отделявшего его от них, не слышал он ни мужичьих голосов, ни жалоб, ни стонов, прислушавшись к которым, может быть, увидел бы и лица те по-иному.
О том он не подумал.
Жеребец, не то замерзая, не то в нетерпении скачки, в другой раз переступил с ноги на ногу на хрустком снегу. И неловкое это движение жеребца, взвизг снега под его копытами вновь болью пронзили княжескую голову.
Властной рукой Мстиславский взял на себя поводья. К нему приблизились воеводы Дмитрий Шуйский и Василий Голицын. Не поворачивая головы, князь что-то коротко и зло сказал им и, развернув коня, поскакал к своему стану.
Тотчас по его отъезде поляков отделили от казаков, стрельцов и мужиков и увели по заснеженной дороге в глубь леса. Полякам князь даровал жизнь. Об иных же сказал:
— Смерть.
Вот оно, царское слово. Далеко ведь сказано-то было. В Москве. В тиши палат каменных, да и негромко, а как по Руси разнеслось?..
Тысячи мужиков русских легли на снег. Э-хе-хе… Перекреститься лишь, а? Перекреститься…
Но и это было не все. Слово царское, загремев, долго не утихает на Руси, а все перекатывается, перекатывается, как гром, дальше и дальше летит.
Казнив тех, кто оружно против московского войска выступил, взялись за иных, хотя бы и не державших его в руках. В вину вменялось им то, что они присягнули царевичу Дмитрию. А так как волость Комарицкая вся царевичу присягнула, то весь же ее люд подлежал казни.
Сидя в своем шатре, Федор Иванович Мстиславский рассудил:
— Стрельцы московские не надежны в том деле…
Воеводы стоя ждали его слова. И он сказал так:
— Татар касимовских, считай, полтыщи у нас. Комарицкую волость, яко воровскую, отдать им на разграбление.
Кое-кому из воевод стало не по себе, ибо понятно было: эти не пожалеют не токмо мужей, но и жен, и беззлобивых младенцев. Да так оно и сталось: Комарицкую волость выбили от человека до скота.
Но да не только эти вороны людей рвали. Нашлись умельцы и среди московских стрельцов. Сенька Пень, качаясь на нетвердых, пьяных ногах, сказал, подойдя к стрельцам, сидевшим у костра:
— Во, саблю иступил… Мужики, комаричи, костяной народ… — И вытянул до половины из ножен саблю.
Старый дружок Арсения Дятла, стрелец с серьгой в ухе, не поворотив к нему лица, ответил:
— Бога побойся. Чем хвастаешь? — Добавил: — Что-то в сече не видно было тебя.
Но Сенька Пень вдвинул саблю в ножны, выругался похабно и пошел меж костров, шатаясь.
Комарицкая волость лежала мертвым телом. Поутру, в рань, едва только рассвело, Федор Иванович, в окружении воевод, выскакал на коне на высоко поднимавшийся над окрестностями холм. Глазам открылась широкая даль. И по одну руку, и по другую видны были дымы догорающих деревень. Мстиславский уперся руками в обитую алым бархатом луку седла и долго оглядывал окоем. Над головами стоящих на холме летело воронье. Орало. Видать, радовалось: мертвечины, мертвечины-то подвалили ему эти, гарцевавшие на кониках, куда как с добром. Воронью за то спеть бы им по-соловьиному. От благодарной утробы. Но воронью не дано соловьями петь, и, знать, вот так, хриплым горлом, благодарность свою оно выказывало. И дымы ли эти — оно и боярину дым пожарищ, глаза ест, — или крики воронья, угрюмая хмурость, что напахнула в лица стоящих на холме, а может, все вместе — и дымы, и крики, и хмурость, — но только что-то тревожное родило в мыслях Федора Ивановича: «Надо отходить. Отходить непременно, иначе будет худо».
В тот же день, совещаясь с воеводами, Мстиславский сказал:
— Впереди у нас Путивль с вором за каменными стенами. По одну руку Кромы с предавшимися ему казаками, стрельцами и мужиками. По другую — Чернигов. И там воры.
Мстиславский обвел глазами воевод. Те молчали.
— Мы, — сказал Федор Иванович, — в мешке.
На это никто возразить не мог. Оно так и было. И, выждав малое время, князь определил:
— Надо отходить.
И опять промолчали воеводы. А Федор Иванович сказал не всю правду. Да он даже половины ее не сказал. Правда была в том, что сомнения, бередившие душу боярина с того дня, как он вышел с войском из Москвы, не только не рассеялись, но, напротив, усилились, несмотря на одержанную победу.
Причины тому были.
Сразу же после того, как князь был ранен поляками, царь Борис прислал к нему чашника Вельяминова-Зернова. С ним прибыли для лечения княжеских ран иноземный медиум и двое аптекарей. Больше того, чашник Вельяминов, войдя к раненому воеводе, обратился с речью, которой Федор Иванович никак не мог ожидать.
— Государь и сын его жалуют тебя, — сказал Вельяминов, — велели тебе челом ударить. Да жалуют и тем, что велели о здоровье спросить.
Князь растерянно слушал торжественные слова, значение которых он, давний боярин, отчетливо понимал.
— Ты то сделал, — продолжал чашник, — Федор Иванович, помня господа и крестное целование, что пролил кровь свою за бога, пречистую богородицу, за великих чудотворцев, за святые божьи церкви, за всех православных христиан, и ежели, даст бог, службу свою довершишь и увидишь образ спасов, пречистые богородицы и великих чудотворцев, и царские очи, то тебя за твою прямую службу пожалуют великим царским жалованием, чего у тебя и на уме нет.
Думный Федор Иванович Мстиславский знал: такие слова передают только воеводе, одержавшему невиданную победу. Он же не только победы не одержал, но был смят и согнан с поля, на котором сражался. Ан вот же он слышал их. И кланялся, кланялся ему гость из Москвы. И как ни слаб был в ту минуту Федор Иванович, но сил достало уразуметь: «Растерян, напуган царь Борис, коль слова незаслуженные шлет. Растерян… Так чего же ждать от слабого царя?» И речь, которая должна была ободрить князя, лишь смутила его, всколыхнула сомнения. И в который раз подумал он: «Как быть? Между глыбами стою, зашибут. Ох зашибут!»
Откинулся на подушки в изнеможении, но сказал чашнику, что страдает от полученных ран. А страдал-то от душевной сумятицы.
Да и иные мысли тревожили князя. Ведомо было, что, утомившись походом, многие дворяне без спроса у воевод уходят из войска по домам. «Да так ли это? — засомневался князь, услышав об усталости. — Поход-то был не долог. Отчего утомление сие?» И так как сам в сомнении был постоянном, то и ответил: «Устают души». И, вспомнив и одного, и другого, об ком сказали, что отъехал-де по делам домашним, мысленно определил: «А дворяне-то те неглупые люди. Ни того, ни другого дураком назвать не могу. Да и не слабы они телом, чтобы об усталости говорить. Сильные мужики. Здесь иное». И спросил себя: «А я почто голову вперед высовываю?»
Случилось еще и то, что застава стрелецкая взяла на дороге казака. В том ничего особого не было — люда разного по дорогам шаталось много. Хватали таких беглых да, и не спрашивая, кто, откуда и почему на дороге оказался, вешали. А этого спросили. И казак, видать смерти убоявшись, сказал, что он послан царевичем Дмитрием в донские пределы, дабы призвать вольных людей царевичу на подмогу. За казака взялись покрепче, и он на пытке показал, что таких посланцев много, и на Дон, и в Сечь, и по другим местам. И показал еще, что посланы они созывать людей к Путивлю в войско царевича.
Казака приволокли к воеводе. Из саней, полуживого после пытки, бросили к ногам. Федор Иванович увидел, что казачишка слабенький, такой слово тайное хранить не умеет и, по всей видимости, показал правду. И, глядя на лежащего мешком пленника, сказал себе: «Наше войско слабеет, а вор новые силы поджидает. Этого вот поймали, но другие-то дойдут и, думать надо, приведут за собой кто знает сколько ворья». Было, было, над чем размыслить.
Вот он и сказал воеводам:
— Отходить надо.
И так как князю никто не возразил, а может, и не хотел возражать, потому что в головах воеводских те же мысли, что и у Мстиславского бродили, то решено было единодушно: отойти. И войско московское попятилось по разбитым вконец дорогам, словно калека, припадающий на обе ноги.
…Мнимый царевич, узнав, что войско московское отходит от Рыльска, немало тому удивился. Да вначале и не поверил, переспросил:
— Как отходит?
Ему ответили, что уползает всей громадой: конной, пешей и с обозами. Это было как диво. Положение мнимого царевича было более чем худо. Большая часть поляков ушла с Юрием Мнишеком, казаки, оставшиеся в его лагере, были ненадежны. Да и осталось-то их горсть. Казалось, в сей миг ударь московская рать — и конец царевичу, и он, понимая это, собирался бежать в Польшу. А тут на тебе — войско московское отошло.
Царевич повелел служить благодарственный молебен. В Путивле ударили в колокола. Медные голоса заговорили над городом:
Бом! Бом! Бом! Поднимались выше тоном:
Динь! Динь!
И решительно, мощно, невесть чему радуясь:
Бом!
А радоваться, правду сказать, было нечему. Плакать следовало, но все одно:
Бом!
Мнимый царевич слушал трезвон, сидя с гетманом Дворжецким, выбранным шляхтой вместо отъехавшего в Польшу Юрия Мнишека. Тут же за столом были иезуиты Чижовский и Лавицкий и тихий монашек, представлявший нунция Рангони.
— Хорошо звонят на Путивле, — сказал мнимый царевич и, неожиданно собрав морщины у глаз, обратился к Дворжецкому: — Пан гетман, распорядись, дабы выкатили из обоза три бочки водки городу.
Дворжецкий удивленно вскинул на мнимого царевича глаза.
— Радость так радость! — одушевляясь, сказал мнимый царевич.
— О-о-о! — поддержал тихий монашек. — Разумно. Нет лучшего средства для завоевания приязни русского человека, чем колокольный звон и водка.
Мнимый царевич оборотился к нему, оглядел монашка и сказал:
— Нет, пан не прав… Есть и еще средство.
Водку путивлянам выставили. А через час, когда черпала жаждущих горячего напитка по дну бочек скребли, мнимый царевич в окружении польских рыцарей выехал на коне из своего двора.
Конь под ним был бел, как сметана. Царевича же, напротив, обрядили во все черное. Ветер отдувал за его спиной черный плащ, гнул на шляпе черное перо.
Наряд сей мрачный понадобился Отрепьеву для того, что повелел он православным священникам Путивля выйти на поле перед крепостью и отслужить молебен по убиенным во время штурма. И пожелал во время службы сей быть среди молящихся. Вот и плащ черный, и перо, как вороново крыло. Народ, особенно из тех, что забавлялись возле бочек с водкой, повалил следом.
Священники с иконами и хоругвями торжественно, соблюдая строгий чин, вышли из крепости. Истовые лица, скорбь в глазах. Бог витал в молитве над головами людей.
Снег был крепок, тверд под ногой, стелился ровно, бело, и казалось, нет конца полю. А на поле-то этом вовсе недавно падали люди, кропя его кровью и в последней муке охватывая землю трепетными руками. Да, были среди них и те молодые, что и пожить-то не успели и не поняли — какая она есть, эта земля. Мачеха ли жестокая, мать ли ласковая? Теперь им этого было не узнать.
Алые хоругви кострами горели над головами молящихся. Мрачно смотрели глаза святых с темных икон.
Царевича кобылка, легкая, подбористая, с осторожностью ставила копыта в снег. Тонкие, точеные бабки, неширокая грудь, на выгнутой шее высоко поднятая узкая голова. Розовые ноздри клубками выбрасывали голубой парок. Отрепьев стыл на ее белой спине черным столбом. Глаза мнимого царевича были широко распахнуты, на лице не двигался ни один мускул, ни одна морщинка.
Голоса молящихся вздымались к небу все жарче, истовее, исступленнее. Трудно человек живет, и на дороге своей бьет ноги, треплет тело, ушибает душу, и когда до молитвы дойдет, то выльет в ней всю жалобу свою за тяжко пройденную дорогу, горечь, что изо дня в день горло жжет, трепет надежды на лучшие версты, которые якобы еще впереди.
Кто-то в толпе, разгорясь душой, глянул на царевича и вдруг увидел — из широко распахнутого глаза на застывшую в молении щеку сползла слеза. Локтем толкнул соседа:
— Гляди.
И другой обернулся, за ним еще один и еще… Обомлели — лицо царевича было залито слезами. Потрясенный вздох прошел по толпе. И в этом вздохе было — вот он, царь сострадающий, милостивый, желанный, царь — надежда!
Когда молящиеся вернулись в крепость, то всем миром прихлынули к дому царевича.
Отрепьев — молча, все с тем же, что и прежде на поле, застывшим лицом, сошел с коня. Остановился. К ногам его бросилось несколько человек. Тянули руки. Но он, не сказав ни слова, повернулся и медленно пошел по ступенькам крыльца. Увидел: на крыльце, сбоку, хоронясь незаметной тенью, стоит тихий монашек и глядит упорно. Мнимый царевич, не задержавшись, прошел мимо. Двери за ним притворились. Отрепьев вошел в палату. Оглянулся. Монашек стоял за спиной, у притолоки. Губы мнимого царевича дрогнули. И негромко, так, что мог услышать только монах безмолвный, сказал:
— Понял? Колокольный звон, водка… А надобны еще и слезы.
— Виват, — так же негромко ответил монашек, — виват!
И много было в этом негромком голосе.
Удача, казалось, вновь споспешествует мнимому царевичу. Однако он понимал, что оставшиеся при нем поляки да малое число казаков не та сила, чтобы воевать московскую рать.
Отрепьев вспомнил пана Мнишека, его обещания перед отъездом в Польшу. И решился написать письмо королю Сигизмунду. Но писать от своего имени Отрепьев не стал, понимал — пустое. Прошелся по палате, закусив губу, посмотрел в окно, припомнил могучую фигуру короля, его настороженный взгляд. Он робел перед Сигизмундом, да оно и понятно.
Снег лепил в оконце, накапливался у верхнего края и, огрузнув, сползал сырыми потеками. Зима переламывалась на тепло. «Тепло, тепло», — подумал Отрепьев, и мысль к нему пришла, что с теплом ободрится московское дворянское ополчение и войско Мстиславского может усилиться. «Письмо надо писать, — решил Отрепьев, — не от себя, но от люда северского».
Мнимый царевич призвал к себе Сулеша Булгакова — человека незначительного, из путивльских детей боярских, однако предавшегося ему полностью. Сулеш, не выслужив ни богатства, ни чина на царской службе, подбил мятеж в Путивле, и он же самолично Мишке Салтыкову веревку к бороде привязал и так, на веревке, велел представить мнимому царевичу. Ему, Булгакову, ныне терять было нечего. Прощения у царя Бориса вымолить он не мог, хотя бы и слезами кровавыми. Для него оставалось царевичу служить. «Коли передние колеса лошадь в гору вывезла, — говорили, — задние сами побегут». А он, Булгаков, не то что передние колеса перекатил через горку, но и под телегу плечо подставил, вперед подавая. Знай кати во весь опор.
Булгаков к мнимому царевичу в палату вскочил как встрепанный. Сломал пополам тело в поклоне. Понимал — на службе новой ему ныне лоб расшибать надо.
Тогда и было сочинено письмо, как указано в бумаге сей: «Из Путивля лета 7113 месяца января 21 дня»[35]. В послании этом говорилось: «…жители земли северской и иных замков, которые государю Дмитрию Ивановичу поклонились… убогие сироты и природные холопы государя Дмитрия Ивановича… просим с плачем, покорностью и унижением, дабы король смилостивился над нами и убогие службы наши под ноги Вашего королевского величества отдаем…»
— Скачи в Варшаву, — сказал Сулешу Булгакову мнимый царевич, — в ноги падай, но письмо в руки королевского величества передай. Помощником тебе пан Мнишек.
Булгаков затрепетал, услышав имена тех, с кем ему предстояло встретиться. Припал к руке царевича.
В тот же час из Путивля в раскрывшиеся ворота выскакали с полдюжины всадников и, не жалея коней, погнали по льдистой дороге. Первым скакал Сулеш Булгаков. На боку у него была сумка, которую беречь ему повелели больше жизни.
Но это было не все из того, чем умножить надеялся мнимый царевич свое воинство. Послал он и на Дон, и в Сечь людей — звать казаков. К Сечи повел станицу Иван-трехпалый, больше и больше входивший в силу при мнимом царевиче, после того как смутил черниговцев. Этот землю рыл шибче Сулеша Булгакова, и на него сильно надеялся Отрепьев.
— Будут, будут казачки, — сказал Иван-трехпалый и, выезжая из ворот путивльских, так свистнул в два пальца, как только в лесу свистят. А он-то, известно, в лесу тому и учился.
Стрельцы, стоящие в воротах, хотя и предались мнимому царевичу, а головы нагнули. Уж больно диким пахнуло от свиста того, страшным.
— Тать, ах, тать! — сказал один из них, боязливо глянув на Ивана, выскакивавшего из ворот. И чуть было другие слова с губ у него не сорвались: «Так кому же мы служим?» Ан увидел, что другой, его же полку, глянул на него косо, и он словами этими подавился.
Да так же вот, не сказав правда, но написав слово, писец Разрядного приказа, плешивый, подслеповатый, век, почитай, просидевший над хитромудрыми бумагами, головой затряс и опасливо, беспокойно вокруг огляделся. На лице объявилась растерянность. Сухоньким пальчиком, перемазанным орешковыми чернилами, к лиловым губам притронулся. Палец дрожал. Взглянул на написанное, и видно стало, что не по себе человеку. А казалось, чего уж — дали бумагу, так ты перебели буква за буквой в разрядную толстую книгу, и все. Не твоя печаль, что там и как обсказано. Ан нет… Забилось, видать, сердчишко у приказного. Перо писец отложил и слезящимися глазами уставился на свечу. Зрачки расплылись во весь глаз.
В бумаге было сказано: «…города смутились… целовали крест вору… воевод к нему в Путивль отвели: из Белгорода князя Бориса Михайловича Лыкова да голов из Царева Новаго города князя Бориса Петровича Татева да князя Дмитрия Васильевича Туренева…»
Годы просидел писец в Разрядном приказе, но такого переписывать не приходилось. И вот своды были низкие в приказе, на голову давили, стены тесно обступали, оконце копотью свечной забрано, и казалось, мысли-то в неуютстве этом давно одеревенеть должны были, но нет. За словами страшными увидел он толпы людей, мотающиеся колокола, яростно вскинутые руки, распахнутые в крике рты. Понял — идет лихо.
Сальная свеча коптила, фитилек нависал грибом. Писец хмыкнул, несмело глаза поднял.
Из угла, с высокого стула, недовольно глядел повытчик: что-де, мол, перо опустил? Ленишься? В царевом деле промедленье чинишь?
Писец слюну проглотил. Взялся за перо. Скукожился. Грудью на край стола навалился. Но перо не шло, цеплялось за бумагу, а мысли пугали все больше. «Как же это? — спрашивал, обомлев, писец. — Города… Города ведь… Народу тьма… Что будет?» И видел коней скачущих, слышал их дикое ржание, острия пик блестели в глазах. Знал: мужик как полено сырое — разгорается долго, но коли возьмется огнем, его уже не загасишь. Писец худыми лопатками повел, заелозил на скамье — страшно, ох страшно стало.
Но представленное писцом московским в провонявшем свечным салом приказе было лишь слабой тенью того, что и вправду случилось.
За смелость и мужество, проявленные при защите Новгорода-Северского, царь Борис вызвал воеводу Петра Басманова в Москву. Победителю был устроен торжественный въезд в белокаменную, гремели колокола, церкви были растворены, он получил боярство, богатое поместье, множество подарков и немало золота. Милостями же и золотом был пожалован и Федор Иванович Мстиславский с воеводами за одержанную победу над вором при Добрыничах. Сказочные, невиданные деньги — восемьдесят тысяч рублей — были розданы войску. Воеводы и войско могли ликовать, но, однако, и воеводы, и войско видели уже, что их победы не ослабляли, но усиливали вора. Слух о жестокостях в Комарицкой волости черной вестью летел от городка к городку, от крепостцы к крепостце. И многажды было сказано:
— Будь проклят царь Борис!
Но было сказано и другое:
— Да здравствует царевич Дмитрий!
Мертвые, говорят, молчат. Ан не так случилось. Мужики-комаричи, раскачиваясь на скрипучих веревках по деревьям, так крикнули, что услышали те голоса и в Осколе, и в Валуйках, и в Воронеже, и в Борисовограде, и в Белгороде. И крепости Оскол, Валуйки, Воронеж, Борисовогород, Белгород мнимому царевичу поклонились, крест поцеловали. А из Москвы летело все одно: «Топор!»
Федор Иванович Мстиславский двинул рать под Кромы. Возок боярина шатало на ухабах. Кони шли шагом. Рядом с Федором Ивановичем, сидевшим широко, теснился думный дьяк Афанасий Власьев. Шмыгал носом. Дьяк был прислан из Москвы пенять[36] и расспрашивать, для чего от Рыльска рать отошла и как далее намерена воевать вора. И Мстиславский взял дьяка в свой возок не без корысти. Известно было — дьяк сей хитер, аки бес, служит в Посольском приказе и к царю близок. Федор Иванович надеялся в дороге расспросить его, как и что деется в белокаменной. Но разговора не получалось. Одно дьяк сказал, кутаясь в шубу — простудился в дороге и хворь его донимала, — в Москве люто. За одно слово о воре людей на дыбе ломают, секут нещадно, под лед в Москву-реку спускают. Говорил и покашливал надсадно, и не понять было, отчего покашливание: то ли и вправду хворь одолевала, то ли лютость царева в смущенье вводила. Федор Иванович в упор на дьяка глядел, но проникнуть в его мысли не мог. Лицо Афанасия было серо, скучно. Ни сожаления, ни досады али иного какого чувства в нем не проглядывало. Федор Иванович кряхтел, отворачивал лицо от дьяка, смотрел в оконце. О лютости он и сам знал. Эко дело — лютость на Москве? Оно и здесь было не слабже. Людишек вешать руки у многих уставали. Его другое тревожило: как царь Борис? Но спросить прямо об том боярин опасался. Ходил вокруг да около, но да и дьяк топтался на месте, жевал пустые слова. Толковали, как глухой с немым. Федор Иванович даже глаз прищурил, как ежели бы подмигнуть хотел и тем настороженность думного унять, но и из того ничего не вышло. Сказано людьми: «Не шепчи глухому, не мигай слепому». Не получалось разговора. Нет. Да разговор меж ними и получиться не мог, так как оба о своем думали и свое же искали.
Мстиславский понимал: в Москве в царских палатах недоброе о нем уже сказано, коли думного этого прислали пенять ему, воеводе, об отходе рати от Рыльска. Ласкательные слова царевы о подарках и вознаграждениях безмерных, высказанные накануне похода, забыть следовало. Ныне было иное. А то, что от царевой ласки до царева гнева шаг всего, он, Мстиславский, знал хорошо. И все прежние опасения и заботы трудные, многажды одолевавшие во время похода, поднимались в нем злой, беспокойной волной.
Афанасий Власьев, человек посольский, об ином думал. Известны ему были усилия печатника Игнатия Татищева — возмутить в Литве и Польше противостояние королю Сигизмунду. Знал он, что на то и золота немало пошло, ан видел въяве — пустое это. «Золото, — думал Власьев, — Сигизмунду руки, может, и связало, но мнимому царевичу заметного вреда не принесло». Ныне не в Варшаве и не в Кракове с вором надо бороться, но здесь, на земле российской. Игнатий Татищев опоздал со своей игрой. Он, дьяк Власьев, прискакав из Москвы к Мстиславскому, дотошно, как только дьяки московские умели, и одного, и другого воеводу расспросил, как и кто рати московской противостоит. А воевод московских собралось здесь много, почитай, весь цвет: и Шереметев, и Шуйские, и Мстиславский вот, что рядом с ним в возке вздыхал трудно, кряхтел да ищуще поглядывал на него, дьяка. Заметил, враз заметил Власьев взгляд боярский, да только не поспешил на него ответить. И ясно дьяку стало: польские козыри ныне в игре не главные. Куда там! Поляков-то, оставшихся при воре, была малая кучка. На них и рать не след собирать. Ныне, соображал думный, главным козырем стал мужик. Договориться с панами польскими хотя и трудно, но царь Борис мог, а с мужиком…
Возок качался, качался на разъезженной дороге да и стал. Федор Иванович заворчал недовольно, толкнул дверцу. Выпростался из возка и думный.
Глаза ослепило яркое солнце, сверкающий снег уходившей вдаль дороги. Но думный проморгался, увидел — путь возку перекрыл сугроб. Стрельцы, сопровождавшие воеводу, топтались на снегу, торили дорогу. Дьяк выпростал руку из рукава, отогнул высокий ворот, стоявший выше головы, услышал, как пищат снегири на обступивших дорогу деревьях. Хорошо было на воле. Воздух свеж. Дьяк вдохнул морозец полной грудью, оглянулся. С высокой сосны алогрудые птицы сыпали снег голубой. Думный повел глазами и увидел: ниже снегирей, горевших под солнцем маками, на толстом суку висели три мужика. Обмерзшие, заиндевевшие. Два бородатых, матерых, и третий, косо свесивший безбородую отроческую голову. Ветер чуть раскачивал их, а снегири, пища и радуясь божьему солнышку, все сыпали и сыпали на них искристый снег. Впереди закричали:
— Давай, давай, гони!
Воевода Мстиславский, ухватившись мясистой рукой за кожаный верх, боком полез в возок. Сел на место и думный. Кто-то из стрельцов прикрыл дверцы, и возок, дернувшись, покатил дальше. Федор Иванович завозился, разминая задом подушки, но успокоился, утопил голову в воротнике и молча прикрыл глаза. Ни слова не сказал и дьяк, глянул только на воеводу и, подумав, что мысли того нелегки, так же зарыл лицо в мех. С версту проехали, и думный сказал себе: «Трудно царю Борису с мужиком договориться, а, скорее, такого и быть не может».
…Иван-трехпалый вошел в палаты к мнимому царевичу, сорвал шапку и низко поклонился. Баранья папаха мела по полу. Во как кланяться научился! Да он, правду сказать, не только этому научился. Пришел Иван с вестью важной: двенадцать тысяч казаков поспешало в Путивль. Это была сила. Знать, не напрасно при отъезде из Путивля Иван в воротах по-разбойничьи свистнул. Свое он сделал.
Мнимый царевич сказал Ивану милостивое слово, позволил руку поцеловать. Трехпалый склонился к руке и задом, задом выпятился из покоев.
Ныне все менялось в окружении мнимого царевича. А как иначе — под рукой у него, как рубежи российские перешел, была одна крепостца — Монастыревский острог, а теперь более десятка городов поклонилось. Ежели по землям мерить — почитай, половина Польши. Вот так. И уж ему свой двор приличествовало иметь.
Первый чин боярский дали князю Мосальскому, и тот принял его с благодарностью. Князь никогда не был среди первостатейной знати московской, а тут на тебе — ближний боярин. Голова у него закружилась, и счастьем показалось боярскую шапку одеть. А из чьих рук? О том князь не думал. Покрасоваться, покрасоваться главным сталось. Наперед выйти. То сбоку, сзади топтался, никем не замечаемый, взглядом царским обойденный, судьбой не выделенный и сразу, вдруг, в первый ряд. Загорелось жаркое в груди у князя.
Дьяка Богдана Сутупова, передавшего вору казну, что полагалась рати Борисовой, наделили чином канцлера и назвали главным дьяком и хранителем печати. Дьяк пузо вперед выставил и заходил средь люда новоявленного царского двора важно. Эко — канцлер! На Москве ему такое и в горячечном сне явиться не могло. Да и других, переметнувшихся на его сторону, мнимый царевич возвел в высокие звания. Вот радости-то было!
Тихий монашек, ставленник нунция Рангони, наблюдая за ближними людьми мнимого царевича, улыбался. Честолюбие, знал он, надежная пружина, захлопывавшая множество мышеловок. А то, что получивших чины высокие Отрепьев в мышеловку загнал, было очевидно. Им вокруг его трона стоять надо насмерть, так как Москва чины эти навсегда запомнила.
Монашек кашлянул негромко, и глаза опустил. Ежели до правды доискиваться, то он, монах, и подсказал Отрепьеву — пора-де, мол, двором обзавестись, сие предаст и силы, и значимости. А еще ближе к правде — мысль эту высказал в письме к монашку его покровитель, нунций Рангони. Этот знал, как сети плетут, из которых не уйдешь. Вот и сплел такую сеть для окружавших мнимого царевича. Но да нунций не только это подсказал. Было и другое.
В один из дней казаки, обступив заслоном, пригнали в город закрытый кожаный возок. И прямо на площадь, к собору. Кони казачьи были взмылены, возок в наледи — знать, гнали издалека.
Ударили в колокола.
Время было сумное, всякий человек в Путивле худого ждал, и люди повалили на площадь. Казаки, не сходя с коней, грудились вокруг возка, близко никого не подпускали, однако кто-то из шибко глазастых разглядел за слюдяным оконцем, что в возке человек.
— Глазищи-то, глазищи-то какие!.. — шепнула тревожно какая-то баба, тыкая пальцем в возок. — Ах, страсть! Зыркает!..
Толпа заволновалась. Заходила, как рыба в садке. И одни, переступая по истолченному снегу, приближались к возку, вглядываясь в темные оконца, другие, те, в ком не хватало смелости на это движение, тянули головы из-за их спин и с осторожностью и опаской, но тоже пытались рассмотреть, кого это привезли казаки. Голоса невнятные, как гудение шмеля, сильнее и сильнее росли над толпой, и уже стало вполне различимо, как заговорили и там и тут:
— Точно, мужик…
— А бородища-то, бородища…
И вдруг голоса смолкли. На площадь вступили польские гусары в лазоревых доломанах, за ними увиделись темные шубы приближенных мнимого царевича, а там и объявился в алом, знакомом многим плаще. Среди лазоревых доломанов, темных шуб на белом снегу алость одежды мнимого царевича была так нестерпимо ярка, что резала глаза.
Толпа у собора упала на колени.
Мнимый царевич шел по хрусткой наледи с бережением, ставил ногу с осторожностью, как это делают люди, знающие, что каждое их движение наблюдается окружающими и оценивается в пользу или ущерб складывающегося мнения. Высокие каблуки его сапог продавливали снег, но он от того не валился вбок или назад, а ступал ровно и твердо, как ежели бы шел по гладкому. Взгляд его был устремлен на толпу, на высившихся на конях казаков, на обледенелый возок, черным горбом дыбившийся посредине площади.
Толпа молчала.
Мнимый царевич и окружавшие его люди подступили к стоявшим на коленях и остановились. Тут и вовсе каждый дыхание задержал. В головах прошло: что-то будет?
Оскальзываясь на наледи, вперед вышагнул главный дьяк Сутупов и, утвердившись на кривых татарских ногах, вытянул из рукава свиток. Развернул, но прежде чем слово сказать, оглядел толпу тяжелыми глазами и махнул рукой старшему из казаков.
Тот слетел с коня, ступил к возку, распахнул дверцу и просунулся длинным телом в темную глубину кожаного короба.
Дьяк с бумагой в вытянутой руке ждал. Стоял пнем. И вдруг все услышали, как в возке забормотали невнятно, косноязычно:
— Но… у… а… ы-ы-ы…
Толпа впилась глазами в возок. Казак отступил от дверцы. В руках у него была цепь. Добрая цепь, крепкая. Упираясь ногами в санный полоз, он сильно потянул за нее, и тут же из возка полез головой вперед человек. Да человека, правду сказать, никто не увидел — увидели лишь что-то рыжее, косматое, прущее из темноты короба. А казак все тянул и тянул цепь, от натуги наливаясь краской в лице.
— Ы-ы-ы… — утробно гудел тот, кто никак не хотел выходить из возка, но, видать, уступая казаку, вдруг выкинул из-за дверцы красную босую ногу и ступил на снег.
Ближние к возку люди подались назад.
Тот, что разом вымахнул из возка, качнулся, но, ухватившись рукой за верх короба, стал твердо: космы рыжие, бледное плоское лицо, рвань одежды, цепь на голой шее.
Сотни глаз уперлись в него.
И только тогда дьяк Сутупов крикнул:
— Глядите, люди честного города Путивля! Перед вами — вор и клятвопреступник, беглый монах Чудова монастыря Гришка Отрепьев!
Площадь удивленно ахнула. И звук этот, вырвавшись из многих грудей, сорвал с купола собора воронье. Перекрывая вороньи тревожные голоса, тужась, дьяк Сутупов забубнил по бумаге о том, что царь Борис, стремясь облыжно опорочить истинного наследника российского престола царевича Дмитрия Ивановича, в бумагах своих, рассылаемых по русской земле, называет его облыжно Гришкой Отрепьевым и тем души православных смущает.
Площадь слушала, затаив дыхание. Рыжий от возка щурился на народ.
Дьяк Сутупов взмахнул рукой и закричал еще громче и надсаднее, что повелением царевича Дмитрия Ивановича вор сей, Гришка Отрепьев, верными людьми изловлен.
Вскинул голову и, выставив палец, указал на рыжего у возка:
— Вот он!
Все оборотили головы к рыжему. Он стоял, как зазябший петух, поджав одну ногу. Снежок, знать, обжигал босые красные лапы. Кособочился рыжий, но люди разглядели: сквозь прорехи в рвани его проглядывало тело — розовое, сытое. И так подумалось: «Ежели это бродяга, то отчего бы ему жирок нагулять? Знать, точно, вор!»
Толпа зашумела.
Сутупов крикнул:
— Сказывай честному народу без обману — кто ты есть?
Рыжий у возка стал на обе ноги, обвел людей взглядом и пробурчал невнятное.
И тут выступил вперед мнимый царевич. Все увидели: лицо у него дрожит, губы прыгают. Он сказал гневно:
— Говори явственно!
Рыжий посмотрел на народ, на мнимого царевича, ответил:
— Гришка Отрепьев. Монах. Расстрига.
Упал на колени, протянул руки к мнимому царевичу, завопил:
— Прости, царевич, прости, милостивец! По скудости ума то, по злой воле царя Бориса! Прости!..
— В железа его, — сказал мнимый царевич, — в темницу!
Казаки подхватили рыжего, но он растопырился, уперся и, разевая рот, все вопил свое. Ему дали по шее, затолкали в возок, кони тут же тронулись.
Объявление в Путивле истинного вора Гришки Отрепьева, о чем сообщалось в письмах мнимого царевича, разосланных и по российской земле и отосланных в земли польские, многих изумило. Особое впечатление произвело это известие в российских землях, так как, предуведомляя известие о поимке вора, царевич Дмитрий всему люду российскому, без различия чина и состояния, обещал:
«…пожаловать по своему царскому милосердному обычаю и наипаче свыше, и в чести держати, и все православное христианство в тишине, и в покое, и во благоденственном житии учинить».
Читали такое на торжищах по российским городам и руками всплескивали:
— Вот он, царь-милостивец!
Заволновался Курск. Народ связал воевод и представил в Путивль. Тогда же из Курска в Путивль курянами же была привезена святая икона божьей матери. При встрече ее у Путивля был устроен по воле мнимого царевича крестный ход, он сам шел с молящимися и тогда же похотел, чтобы икону святую поместили в его покоях. И сказано было многажды видевшими мнимого царевича в ту минуту:
— Благодать сошла на святую Русь. Желанный царь грядет!
Тихий монашек-иезуит скосоротился, когда святую икону вносили в покои мнимого царевича. Он, и только он, знал, что объявленный в Путивле Гришкой Отрепьевым есть бродяга Леонид, отысканный его людьми и ими же наученный. А Путивль ликовал. Звонили колокола.
Расстояние от Путивля до Москвы и расстояние от Путивля до Варшавы разные, однако весть об объявлении народу путивльскому Гришки Отрепьева пришла и в белокаменную, и в столицу Речи Посполитой, почитай, в одно время.
Подручный царева дядьки Лаврентий, нет-нет, а захаживал в фортину на Варварке разговоры послушать. Где еще, как не здесь, узнаешь, что на Москве думают. У пьяного, известно, душа нагишом ходит. В фортине за годы многое изменилось, да и кабатчик был не тот, что прежде Лаврентия встречал. Старого-то, известно, Иван-трехпалый на лавку засапожником уложил. Ныне сынок его хозяйничал в фортине. Но, сказать надо, отцу он не уступал ни в разворотливости торговой, ни в знании людей. Лаврентия он за версту видел, хотя подручный Семена Никитича вовсе в ином виде теперь в фортине объявлялся. Входил тихохонько, садился с краешку стола и голосом скромным просил что попроще и незаметнее. Да и одевался Лаврентий ныне в серую сермягу, шапчонка на нем была драная. Такой в глаза не бросался ни видом, ни кабацким ухарством, присущим многим русским людям. Бывает ведь как: за душой у мужика копейка, но во хмелю он ее непременно ребром ставит — на, мол, от широты моей! А широта-то, может, и есть в нем — коли у пьяного наружу вылазит, — да только в трезвой жизни нищ мужик этот, гол и от нищеты и голости в хмельном угаре забыть о том хочет. А шуму наделает, гвалту — куда с добром! Не то был Лаврентий в кабаке. Сидел тихо. Выпьет стаканчик — и молчит. Выпьет другой — и глаза смежит. Выпьет третий — и головой на стол приляжет. И опять же скромненько. А перед ним полштофа и стаканчик чуть початый. Кто его осудит? Отдыхает мужик, отдыхает… Так пущай… Сидящие вокруг, может, и глянут на такого, но да и о своем заговорят.
А ему-то, Лаврентию, того и надо. Он еще в мыслях и поощрит: «Говорите, голубки, говорите». Но ухо насторожит.
Так и в этот раз случилось. Отворив в фортину дверь Лаврентий, с порога носом поводил, хороший запах напитка известного с явным удовольствием вдыхая, и, как человек добропорядочный, размякнув лицом, посунулся на лавку к столу, где сидели мужики из торговых рядов с Пожара. Попросил четверть штофа и щей. На него покосились, но он стаканчик с бережением за зубы опрокинул и взялся за ложку. О нем и забыли.
Щи Лаврентий хлебал не спеша, степенно, без жадности, но видно было, что и не без удовольствия, как человек, намаявшийся за долгий день, да вот едва-едва добравшийся наконец до стола.
Соседи за столом головами сблизились, как это бывает у людей, отведавших горячего напитка, и заговорили торопясь. Известно, за кабацким столом мало слушают — каждому свое высказать хочется.
Лаврентий до времени, однако, голосов этих не замечал. С осторожностью налил второй стаканчик и тем же порядком, без спешки — боже избавь! — плеснул в рот. Дохлебал щи, царапая ложкой по дну, и третий стаканчик налил. Посидел, уперев взгляд в крышку стола, поводил глазами по фортине, глотнул из стаканчика самую малость, и голову уютно на край стола уложил, принакрывшись шапкой.
Один из соседей глянул на него понимающе да и отвернулся. Чего уж там — утомился мужик.
Подошел кабатчик, переставил штоф, дабы гость не столкнул его ненароком, чуть поправил притомленного на лавке да и свечу перед ним погасил. На губах у кабатчика улыбка объявилась, и было в ней одно: «Нет перед богом праведника, все грешны». Отошел к стойке на мягких ногах.
Мужики за столом заговорили явственнее. Сидевший с краю, что взглянул на Лаврентия с пониманием, сказал:
— Болтаете… А есть такое, что и молвить страшно.
— Ну, ну! — подбодрили его.
Мужик кашлянул. Поводил плечами, преодолевая робость, и начал несмело:
— Купца Дерюгина Романа знаете, из села Красного?
— Ну!
— Что ну? Так вот, ездил он в Путивль за польским товаром…
— Так…
— А ты не погоняй.
Мужик еще покашлял. Чувствовалось — не по себе человеку, но все же продолжил:
— Так вот…
И мужик, запинаясь, рассказал, как объявлен был в Путивле Гришка Отрепьев.
— Дерюгин-то, Роман, сам при том был…
Слушавшие изумленно молчали. Да изумились не только они. Лаврентий, на что жох был, и то опешил. Чуть было не поднялся с лавки. Такого никак не ждал.
Мужики замолчали надолго. Здесь уж точно по поговорке вышло: «Не дело плясать, когда пора гроб тесать».
Лаврентий, не поднимая головы, жестким ногтем поцарапал по столу:
Скр-р-р… Скр-р-р…
В миг подскочил кабатчик.
— Свечу зажги, — трезвым голосом сказал Лаврентий.
Свеча осветила лица.
— Всем по чарке, — медленно выговорил подручный царева дядьки и обвел сидящих за столом внимательными глазами. И видно, столько было в его взгляде, что ни один из мужиков не то чтобы слово молвил, но и не двинулся, не шелохнулся.
Дрожащей рукой кабатчик разлил водку.
Лаврентий соображал: «Этих курят повязать… А зачем? Варварка — место людное… Шум… Разговоры… Они слыхали, а Роман Дерюгин видел — его брать надо…»
— Пейте, голуби, — сказал, — пейте. — Ткнул пальцем в кабатчика: — Он угощает. Пейте.
Один из мужиков несмело поднял под жестким взглядом Лаврентия стаканчик. И, как тяжесть великую, подняли стаканчики и другие.
— Пейте, — повторил Лаврентий.
В голове у него прошло: «Нет, этих вязать ни к чему. О них попозже след побеспокоиться… Сейчас Дерюгина надо взять».
Глянул на кабатчика и губы растянул в улыбке.
— Это дружки мои, — сказал, — дорогие. Вина для них не жалей. Пущай вдоволь пьют сладкую. А я по делу. Мигом ворочусь. Озаботься, чтобы не скучали. Да меня ждите.
Встал и пошел к дверям.
Романа Дерюгина в Кремль приволокли и в застенок. Бросили у дыбы. Он руками в кирпичи уперся, привстал на колени, и заметно сделалось, что мужчина это дюжий, с лицом упрямым и злым.
Дерюгин сплюнул кровавый сгусток и только тогда глянул на сидевшего на лавке Семена Никитича. Затряс лохматой головой. Жаловался: за что мучения, за что бой? А может, злобу выказывал?
Того было не понять.
Семен Никитич молчал, ждал царя Бориса.
У дыбы переступил с ноги на ногу кат. Вздохнул всем брюхом, как лошадь.
Семен Никитич прислушался: показалось, что на ступеньках шаги прозвучали, и поднялся было, но все смолкло. Царев дядька плечи опустил, задумался. Знал: село Красное — воровское, купцы тамошние из копейки полтину выколачивают, и народ это крутой, жесткий. А сей миг видел, что Дерюгин как раз из этих. «Ладно, — подумал, — испытаем…»
Кат вновь переступил с ноги на ногу. Семен Никитич глянул на него неодобрительно и тут впрямь услышал, как на ступеньках зазвучали шаги.
Первым скатился по кирпичам Лаврентий. Стал у входа. За ним выступили из темного прохода два мушкетера и тоже встали молча, столбами. Железные их шлемы посвечивали тускло.
Семен Никитич приподнялся, без спешки шагнул к Дерюгину, опустил на плечо руку, уперся взглядом в темный проход.
Царь Борис вошел неслышно на мягких подошвах, вплыл тенью под своды.
Семен Никитич склонил голову. Царь Борис шагнул к лавке и сел.
Семен Никитич почувствовал, как Дерюгин поднимается под рукой, и с силой надавил на заворошившегося мужика.
Сухо стукнули в кирпич коленки.
— Государь, — сказал ровно царев дядька, — воровство открылось…
— Молчи… — выдохнул едва слышно царь.
Семен Никитич понял, что Борису все известно. Догадался — Лаврентий обсказал. Вгляделся в царское лицо. У Бориса скулы проступили под кожей, но больше другого поразила Семена Никитича рука царская, положенная на горло. Рука лежала неподвижно, как мертвая. Длинные пальцы темнели на светлой коже узлом. Видел, видел царев дядька здесь же, в застенке, как рвут на себе рубаху, в ярости заверяя о невинности или проклиная за безвинно причиненную боль; видел, как руки стягивают ворот, моля о пощаде; но и в ярости, и в мольбе было движение, действие, была сила или бессилие, а здесь все выглядело по-иному. Рука удавкой лежала на горле. Семен Никитич сказал себе: «Так сыскивать за воровство не приходят. Так со своей души сыскивают». Сказал, да и испугался: «О чем я? Царь, царь передо мной… Он вины вчиняет…» Но не объявилось в нем мысли, что царь сам себя судить может и это много страшнее иного суда.
Семен Никитич, поворачиваясь всем телом, повел взглядом по подвалу.
Пятном у стены белело лицо Лаврентия.
Неподвижны, отчужденны были квадратные лица немчинов-мушкетеров.
Тихо, мертво было в подвале.
Неправильно поняв его движение, кат, шаркая подошвами, достал с полки свечечку, зажег от фонаря и укрепил на кирпиче подле дыбы. Неяркое пламя высветило лицо царя Бориса, и еще отчетливее выступили из сумрака пальцы положенной на горло царской руки.
…Известие из Путивля об объявлении народу Гришки Отрепьева поразило Бориса.
Услышав об этом, он оторопело переспросил Лаврентия:
— Какого Гришки Отрепьева?
Нездоровое, серое лицо царя потемнело еще больше. Он вздернул, перемогаясь, головой и выкрикнул:
— А мнимый царевич — не Гришка Отрепьев?
Лаврентий молчал.
— Кого они объявили? — в другой раз выкрикнул царь и подался вперед.
Руки Борисовы, сжимавшие подлокотники кресла, остались позади, навстречу Лаврентию выдалось лицо с распахнувшимися глазами, шея, вынырнувшая из шитого жемчугом ворота, грудь в коробе топорщившейся одежды. И с очевидностью объявилось, как изможденно царское лицо, как худа шея, узка и слаба грудь.
— Отрепьева, — растерянно повторил Лаврентий, — Отрепьева…
В неуверенности, с которой он выговорил это имя, было — он и сам теперь не все понимает в том, что случилось в Путивле.
Борис мотнул головой, словно отгоняя наваждение или дурной сон, откинулся на спинку кресла. Передохнул. Прикрыл глаза и так застыл, столь надолго, что Лаврентия затрясло странной, никогда не испытываемой дрожью. Вначале ослабли и задрожали ноги, затем слабость поднялась до груди, и сердце, показалось ему, запрыгало и затрепетало за ребрами так, что подумалось: «Сейчас упаду».
Царь Борис не открывал глаз.
Лаврентий не смел пошевельнуться.
В тишине стало слышно, как стучат, отсчитывая мгновения, высокие — башней — часы, недавно поставленные в Борисовых палатах.
Лаврентий вперил взгляд в циферблат и явственно разглядел, как сдвинулась и подалась вперед черная стрелка на раззолоченном диске.
Борис по-прежнему сидел, не открывая глаз. Тук-тук, — стучал маятник. И Лаврентию вдруг захотелось протянуть через палату руку и подвинуть стрелку вперед, чтобы оставить позади мгновение тягостного молчания царя и своей трусливой, неудержимой дрожи. Но он не осмелился не только сдвинуться с места, но шевельнуть пальцем.
Тук-тук, тук-тук, — стучали часы, и звук этот все больше и больше заполнял царевы палаты. Бил, вламывался в виски жестокими ударами. В нарастающей, рвущей барабанные перепонки боли Лаврентий подумал, подгоняя маятник: «Скорее, скорее, скорее!» И тут ему показалось, что, вслед за оглушающими ударами, голова царя клонится и раскачивается. Да так оно и было. С закрытыми глазами Борис вслушивался в удары маятника, но в отличие от Лаврентия не гнал время вперед, а всей душой желал и молил, чтобы оно обратилось вспять. Мысленно царь раскручивал стрелку на диске циферблата и возвращал ее назад, к тому времени, когда он, царь Борис, шагнул в день коронации из храма в Кремле, и гудящий колокол выдохнул ему в лицо: «Весь путь твой к трону — ложь неправедность, преступление! Ты от великой гордыни, в алчном властолюбии опоил дурным зельем Грозного-царя! Ты вложил нож в руку убийцы царевича Дмитрия! Ты обманул Москву ордою и свалил себе под ноги! Ложь! Ложь! Ложь!» Царь Борис не только услышал этот голос за стуком маятника, но и увидел себя на ступенях храма. Увидел, как шагнул вперед, ухватился рукой за ворот рубахи и, рвя ее у горла, выкрикнул: «Отче, великий патриарх Иов, и ты, люд московский! Бог мне свидетель, что не будет в царствовании моем ни голодных, ни сирых. Отдам и сию последнюю на то!»
И опять солгал.
Тук-тук, тук-тук, — стучали часы.
Борис, ежели бы мог, отдал сейчас многое, только бы не было этой лжи. Ан человеку — будь он и царем — не дано повернуть время вспять. Молил же о невозвратимом царь Борис потому, что, услышав о случившемся в Путивле, вдруг с ошеломляющей ясностью понял: ложь путивльская — продолжение его, Борисовой, лжи.
И в сознании царя даже слова встали: «Как рожено, так и хожено».
Борис сорвался с кресла, шагнул к Лаврентию, сказал:
— Идем!
И заторопился вон из дворца.
…Семен Никитич не отрываясь смотрел на царя и не узнавал его. Когда Борис вошел в подвал и сел на лавку, царева дядьку смутила рука Борисова, удавкой лежащая на горле, а сей миг в мотающемся свете зажженной катом свечи он разглядел и другое. Изменилось лицо царское. На лавке, опустив плечи, сидел вовсе иной человек, чем тот, которого он видел раньше. По-прежнему высок был Борисов лоб, темны и выразительны глаза, узки скулы, тверд подбородок, неподвижны лежащие уверенно губы, но эти знакомые, легко узнаваемые черты были освещены такой напряженной душевной работой, что весь рисунок царского лица совершенно переменился. Царев дядька видел Бориса и в гневе, и в радости, наблюдал тихое удовлетворение в царских чертах, недовольство, озабоченность, задумчивость, уверенность, но сейчас ни одно из этих чувств лицо царское не выражало. Но может быть, напротив — в нем были и гнев, и неудовольство, и озабоченность, и задумчивость, и даже радость, удовлетворение и уверенность?
Царев дядька откачнулся к стене, раздернул ворот и, совсем как Борис, положил руку на обнажившееся горло.
А с царем Борисом, когда он сказал себе: «Как рожено, так и хожено», произошло то, что происходит с человеком, который долгие годы ищет ответ на мучающий вопрос и, наконец, находит его. Изумленно взлетают вверх брови, распахиваются глаза — и искаженный болью рот выдавливает:
— Вот оно! Вот!
«Ложь!» — мысленно выкрикнул царь Борис и со щемящей болью и яростной радостью начал наматывать на этот стержень годы своего несчастного царствования, так как потребность отыскать причину того, что происходит вокруг, есть первая потребность человека, дающаяся при рождении. Да, может быть, еще и так даже, что человек только потому человек, что ищет причину и разгадывает ее в страданиях.
Или не разгадывает…
«Ложь», — сказал царь Борис и, как на веретено, накрутил на открывающуюся ему причину бед и несчастий гнилую нить боярства. И, уже не жалея и не щадя себя, сказал и большее: «Лгал я — так лгали же и они». И увидел Мстиславского, Романовых, теснившихся плечо к плечу, Шуйских, толпящихся тут же во главе со старшим широкоскулым Василием. Они стояли на самой высокой ступени власти державной и не желали уступать эту вершину никому. Для них был только один путь — еще шагом выше, но на той высоте был трон, и на нем он — царь Борис.
Мысль Борисова бурлила, вытягивая все новые и новые нити страшной пряжи. Он надеялся в устремлениях к российской нови на близких по крови. Но их хватило — и об этом он уже не раз говорил — лишь на то, чтобы обсесть Кремль, как сладкий пирог.
Царь двинул вперед молодых дворян, ан они тут же заместничались со старыми московскими родами, и их целью стало урвать для себя побольше, пожирнее, послаще. Царские помыслы не стали их желаниями, требованиями и убеждениями, а он, царь Борис, верил, что они-то как раз первыми пойдут к столь желанной для него нови, ан и тут обманулся.
Царь объявил: мздоимство есть главный враг державный, и приказал без жалости наказывать мздоимцев, хотя бы и высокого рода, звания и чина они были. Но как раньше говорили в народе, так и продолжали говорить: «Где сила не пройдет, там взятка просунется». «Впали мы в пьянство великое, в блуд, в лихвы, в неправды, во всякие злые дела…» — сказано было в царской грамоте и повелено закрыть вольные питейные дома. Корчемников же призывали заняться честным трудом хлебопашцев или жить иным способом, но только не торговлей вином. Ан пьянство не переводилось на Руси.
Борис от щемящей в груди боли выдохнул непонятное, клокочущее, бессильное:
— У-у-у…
Теперь уже и Роман Дерюгин во все глаза смотрел на царя. Рожа у купца была в крови, ворот кафтана дран, руки за спину заведены и стянуты веревкой, ан глаза были с живым блеском. Знать, не только Семен Никитич, но и он почувствовал: что-то неладное происходит с Борисом. В гудящей от недавнего боя голове купца встало: «Пошто молчит? Зачем пришел?» И вот шибко напугался он, когда увидел входившего в застенок царя, а сейчас, вглядевшись в его лицо, понял: бояться нечего — боя от царя Бориса не будет.
А Борис, казалось, и вовсе забыл, что пришел в застенок, где дыба, кат и купец, которого привели для пытки. Дерюгин уразумел, что и дыбу, и ката царь не видит и он, купец, ни к чему Борису, как ни к чему царю слова его, хотя бы и под пыткой сказанные. Но дядька царев этого не понял. Он был на одно нацелен: на силу. И вот хотя и к стене откачнулся, разглядев необычное на лице царском, ан тут же опомятовал и подался вперед.
— Государь! — сказал.
Но глаза царские упрямо смотрели на пляшущий под сквозняком язычок свечного огонька. Не хотел, не мог Борис встречаться взглядом со своим дядькой, который не менее, ежели не более, чем те, о ком он сейчас думал, был его стыдом и ложью. Болезненно напрягаясь, однако не меняя положения на лавке, с прежним лицом, царь Борис, не размыкая губ, сказал себе: «Кляуза, кляуза великая!» И содрогнулся от нестерпимого страха, так как, наверное, это было самым тяжким грехом, взваленным на его плечи. Кляуза — серая, катящаяся дымом невидимым, тенью безликой, от которой и на самых быстрых ногах не убежать, за крепкой дверью не скрыться. Та кляуза, что людей на Москве развела, заставила детей на отцов доносить, жену — на мужа, мать — на сына. И выпустил ее на московские улицы, как кота из-за пазухи, царев дядька, Семен Никитич.
— У-у-у… — в другой раз выползло из тесно сжатых губ Борисовых, и он, подняв руки, сомкнул на затылке сжатые кулаки.
Дерюгин привстал на колени, потянулся к царю. Лицо сморщилось. Знать, боль цареву почувствовал. Вот и сам был бит, и бит жестоко, а понял: человеку, что на лавке перед ним сидит, сейчас больнее, чем ему, брошенному на кирпичи у дыбы.
Русский все же был мужик, на боль отзывчивый.
Немчины-мушкетеры стояли безучастно, да и у Лаврентия, и у дядьки царева в лицах ничего не изменилось. Эти многое видели, им и царская боль была нипочем.
Кулаки Бориса сорвались от затылка, ударили по коленям.
— Ложь! Ложь! Ложь! — выкрикнул высоким голосом царь Борис и уже с хрипом, задавленно и обреченно, повторил, словно ставя последнюю точку: — Ложь!
Тяжко было ему это сказать, даже трудно взвесить такую тяжесть. Он годам своего царствования приговор выносил. Ан сказал! И был прав, но ровно на столько, на сколько и не прав.
Человеку от гордыни неуемной свойственно переоценивать себя, как свойственно же ему в покаянии разорвать ворот, расхристаться и, выказывая тайное свое, нищее, гадкое, крикнуть на весь мир: «Вот он я срамной и жалкий! Презирайте! Плюйте на меня! Забрасывайте каменьями!»
А может быть, и покаяние от гордыни человеческой? Так как никому из людей — даже и царю — не дано взять на себя ответ ни за счастье людское, ни за людские беды. Счастье и беды народные есть сопряжение, сочетание, взаимозависимость тысяч и тысяч судеб людских. И может, желанную Борисом новь мусором дворовым, который запрещено было указом за ворота выбрасывать, мужик московский завалил да еще и сказал:
— Э-ге!.. Это что же, ведро помоев не волен хозяин выплеснуть под свой забор? А бабе битый горшок за город тащить? Ну нет… Балует царь…
Ну а тут же еще и Романовы, которые с Варварки свое выглядывали. Иван-трехпалый с засапожником за голенищем. Игнашка, лишенный желанной землицы и в крепость взятый. Ясноглазая панна Марина в обольстительном шелесте шелковых юбок. Безумные глаза Гришки Отрепьева. Жадные руки Сигизмунда, тянущиеся от западных рубежей российских.
Вон сколько лиц! И какие лица! Лютой завистью налитый глаз Федора Романова. Тяжелые надбровья и медленно-медленно опускающиеся веки боярина Мстиславского. Злая улыбка, ломающая резные губы Лаврентия… А характеры какие? О таких говорят: «О него нож точи — и искры сыпаться будут». Так какому царю да и как на Руси счастье людское строить?
Царь Борис поднялся с лавки, слова не сказав, пошел из застенка. Семен Никитич шагнул было за ним, но остановился. Мушкетеры-немчины, с неживыми лицами, повернулись, и — чек! чек! чек! — железными гвоздями каблуки ботфортов простучали по кирпичам и смолкли. Семен Никитич оборотился к Дерюгину. Посмотрел внимательно. В глазах царева дядьки высветилось: «Этот такое видел, что зреть ему никак не след». Ну, да Дерюгин и сам понял, что из подвала не выйти своими ногами и даже не шелохнулся, услышав сказанное Лаврентию царевым дядькой:
— Этого в мешок — и в воду.
Вот так весть из Путивля на Москве откликнулась. Весть… Какая уж весть, коли и себе не принять, и куму не снесть…
По-иному встретили сообщение в Варшаве.
Над столицей Речи Посполитой разгорался морозный солнечный денек, радующий души, угнетенные зимним ненастьем. Неделя за неделей хмурится небо, низко волокутся тучи, цепляясь за кресты костелов, и вот на — брызнет яркое солнце, морозец, зажжет алым щеки паненок, и даже старый пан, огрузнувший от сидения за столом, выйдет на крыльцо дома и, огладив пышные усы, крякнет:
— Кхе!
Да и каблуком, серебряной подковкой стукнет в крепкие доски.
В такой вот денек, когда, казалось, для всей Варшавы праздник выпал, пришла в столицу весть из Путивля. Но солнышко солнышком, праздник праздником, ан не для всех он лучезарно светился.
Пан Мнишек в день этот хороший прилива бодрости не ощутил. Какая бодрость, когда платить надо за безумные траты? Сидел в корчме на выезде из Варшавы, принимал тайных гостей по вечерам да соображал мучительно, как вырваться из долгового капкана. Гости бормотали несвязное, и чувствовалось: каждый из них хорошо понимает — пан Мнишек увяз в долгах крепко, и, нужно думать, надолго. Да и сам Мнишек, вспоминая тяжелое лицо коронного канцлера Яна Замойского, злые глаза Льва Сапеги, речи в сейме, ежился зябко, покряхтывал надсадно, но не мог сообразить, что делать. Было ясно: после того, что произошло в сейме, и ломаного гроша ему не получить в Польше. Неожиданно, как это и бывает в жизни, на лице пана объявились явные признаки старости: усы, когда-то торчавшие пиками, обвисли, под глазами очертились темные круги, да и сами глаза потускнели — а глядели-то вовсе недавно чертом, — выцвели и уже не вперивались в лица собеседников с настойчивым требованием, но склонялись долу. И ежели верить утверждению, что глаза человеческие есть душа, выведенная наружу, то душа пана Мнишека, утратив столь свойственную ей раньше уверенность, ныне находилась в трепете и сомнениях.
Пан подошел к окну. В ворота корчмы въезжала карета. Высокие колеса, с хрустом продавив искрящийся под солнцем голубой ледок, остановились. Но из кареты никто не поспешил выйти. С передка спрыгнул гайдук, вошел в корчму. «Кого это принесло?» — с раздражением подумал пан Мнишек. Определенно — настроение его было вовсе худо, так как он даже и не заметил лучезарного солнышка над Варшавой. Но вот слух его уловил, что внизу, в зале, где подавали гостям пылающий перцем бигос и чесночные рубцы — гордость хозяина корчмы, — раздались громкие голоса, а минуту спустя застонала под чьими-то тяжелыми башмаками ведущая из зала в палаты пана Мнишека лестница.
Ступени скрипели отвратительно. Это было какое-то сочетание терзающих слух звуков:
Скр… хр… хр…
Казалось, что это сооружение создано не для удобства постояльцев корчмы, но для их испытания на крепость. Лестница угрожала, жаловалась, издевалась. Именно по таким ступеням, каждая из которых имела собственный голос, и должны были подниматься кредиторы к безнадежным должникам.
Скр… хр… хр…
Пан Мнишек болезненно сморщился. Не мог предположить, что сей миг шабаш дьявольских звуков следует воспринимать как божественную музыку, так как скрипы и шумы лестницы извещали о приближающемся его спасении.
Голос хозяина сказал из-за двери:
— Пан Мнишек, к вам гость.
Не ожидая ничего хорошего, пан ответил:
— Входите.
Вот так пришло к Юрию Мнишеку известие из Путивля, сильно взволновавшее в Москве царя Бориса.
Однако в Варшаве о произошедшем в Путивле стало известно на сутки раньше. И хотя сутки не великий срок, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы неожиданная весть постучалась во многие двери — отнюдь не самые бедные в столице Речи Посполитой — и, больше того, поднялась по ступеням королевского дворца. Бойкому распространению, казалось бы, не столь уж и важного для Варшавы известия способствовали многие обстоятельства, но прежде всего то, что первый человек, который получил их, был нунций Рангони. И нунций оценил их по достоинству, учтя ущемленную гордость короля, горячность коронного канцлера Яна Замойского во время выступления в сейме, желчь Льва Сапеги, когда тот говорил об участии пана Мнишека в рискованном предприятии с новоявленным царевичем Дмитрием и многое другое, что придало особый смысл сообщению из Путивля.
Первым, кому нунций предложил приготовленное им блюдо, был писарь Великого княжества Литовского пан Пелгржимовский. Выбор этот был не случаен. Среди прочих слабостей Пелгржимовского Рангони особенно ценил шляхетскую гордыню пана. Сей достославный муж хотел знать высшие секреты Речи Посполитой и, чтобы поддерживать уверенность в окружающих, что ему, и только ему, известно недоступное другим, рассказывал и ближним, и дальним все вызнанное.
Несмотря на ранний утренний час, Рангони застал пана Пелгржимовского за пиршественным столом с дюжиной мало известных нунцию панов. В зале с зажженными, не взирая на бившее в окно солнце, свечами царило веселье.
Со строгим лицом, в котором так и читалось, что он приехал к пану для тайной беседы, нунций удалился в личные апартаменты писаря Великого княжества Литовского и, не давая пану опомниться от неожиданности визита, заявил:
— Наконец-то пойман, опознан и предъявлен народу в Путивле беглый монах Григорий Отрепьев. Ныне нет сомнения в том, что царевич Дмитрий подлинный наследник московского престола.
У Пелгржимовского вытянулось лицо и отвалилась челюсть.
— О-о-о! — протянул пан и растянул этот звук еще и более: — О-о-о-о-о…
Рангони был вполне удовлетворен произведенным впечатлением.
Выходя из дома пана Пелгржимовского, нунций легко предположил, что писарь Великого княжества Литовского уже бежит на цыпочках к гостям, чтобы сообщить об услышанной новости.
Рангони тихо рассмеялся.
Следующий визит Рангони нанес коронному канцлеру Яну Замойскому. Здесь все было много сложнее, однако нунций привык ко всякому. Плеснув алым подолом сутаны в голубые глаза Замойского, нунций прошел к строгому письменному столу канцлера и скромно сел в кресло, выразив лицом решительную необходимость в получении совета от человека, наделенного государственной мудростью. Первая фраза, сказанная Рангони, была такой же, как и произнесенная им в доме Пелгржимовского:
— Наконец-то пойман, опознан и предъявлен народу в Путивле беглый монах Григорий Отрепьев. Ныне нет сомнения в том, что царевич Дмитрий — подлинный наследник московского престола.
Но слова, хотя и были теми же, однако звучали они по-иному. В апартаментах пана Пелгржимовского это было ошеломляющим известием, больше — утверждением, здесь, в кабинете канцлера, державным сообщением, которое могло повлиять на судьбы государства. Голос нунция не только спрашивал, не только искал совета, но даже выражал растерянность высокого представителя папы в Польше.
У канцлера Яна Замойского, не в пример пану Пелгржимовскому, не отвалилась челюсть. Он только вскинул холодно голубые, много повидавшие глаза на гостя, но папский нунций принял и выдержал этот взгляд.
Канцлер опустил глаза и устремил их в крышку стола. Нунций понял, что первая атака удалась, но не возликовал. Нет. Он слишком хорошо знал, с кем имеет дело. С большой осторожностью он заговорил о некоторых выступлениях на недавнем сейме. И здесь, как и следовало ожидать, в голосе его объявилось сожаление.
— Да, — сказал он, — король должен был услышать озабоченность высокородных панов, пекущихся всем сердцем об интересах Речи Посполитой, однако вот как оказал себя случай.
Папский нунций сложил ладони и прижал к груди.
— Если господь хочет наказать, он делает нас и слепыми и глухими… Но помазаннику божьему, — нунций передохнул, — путь указывает провидение… Мы только слуги короля, как и слуги божьи.
Канцлер молчал. Он угадывал, что с известиями из Путивля все не просто, но понимал он и то, что весть произведет немалое впечатление на короля и панов радных, и пытался сообразить свое положение. Решил он так: «Пока следует молчать, а далее будет видно». И Рангони угадал это решение канцлера. Оно его устраивало. Даже больше чем устраивало.
Папский нунций раскланялся.
Двумя часами позже он посетил Льва Сапегу, сумев смутить даже и эту искушенную в интригах душу. И только тогда отправился в королевский дворец.
Король Сигизмунд вышел к папскому нунцию с изумленно раскинутыми руками.
— Мне сообщили, — сказал он, — э-э-э…
— Да, да, — остановил его нунций, — я поражен даром предвидения, которым наделен король Польши. Сейм может только сожалеть о своей близорукости. Сегодня же я напишу письмо папе…
Дальнейший разговор Сигизмунд и нунций вели, прогуливаясь бок о бок по зимнему саду королевского дворца. Голоса их были приглушены.
И вот, уже после этой доверительной беседы, в корчме у Юрия Мнишека объявился неожиданный гость, от которого он не только узнал о случившемся в Путивле, но и услышал о приглашении к всесильному папскому нунцию. Пан Мнишек возликовал. Приглашение к Рангони означало одно — победу! Он широко распахнул дверь и окрепшим голосом крикнул хозяину корчмы:
— Карету, карету, и немедля!
Как ни странно, но усы его вроде бы вновь поднялись и, ежели еще не торчали из-под носа пиками, то, во всяком случае, это уже не было старым мочалом, невесть для чего навешенным на панское лицо.
…Федор Иванович грузно сидел на лавке, расставив толстые колени и опустив голову. И было не понять — дремлет ли боярин или, слушая голоса сидящих вкруг стола воевод, обдумывает говоренное и свое ищет. На него поглядывали вопросительно, но он взглядов не замечал, был неподвижен и безучастен.
Лицо князя было рыхло, чувствовалось, что он не оправился от раны, полученной под Новгород-Северским, хотя поутру доктор, присланный царем, снял с головы князя повязку и, улыбаясь и бодро выказывая до удивления белые зубы, сказал:
— Теперь князь здорофф…
Отступил на шаг, хлопнул в ладоши, что должно было, по его мнению, означать сердечный праздник.
Такое проявление чувств Мстиславского вовсе не обрадовало. Он посмотрел тяжелыми глазами на вертлявого немчина и ничего не ответил. Да, боярин, известно, никогда не был разговорчив, однако ныне слова от него добиться удавалось и вовсе редко. Молчал он, по обыкновению, и теперь, сидя под черной, закопченной иконой перед воеводами.
Воеводы горячились. Да оно было отчего горячиться. Войско царево расселось под Кромами, как баба непутевая. Известно, есть такие — сядет копной, губы распустит, сидит клуша клушей да еще и вякает. Истинно — свинья в сарафане. Так и здесь вышло: стан растянулся верст на пять, нор накопали вдоль и поперек, лес свалили невесть для чего, крест-накрест наездили дороги, завалив их всяким дрязгом, и сидели в грязище по пузо. Диву можно было даться — откуда взялось столько битых телег, ломаных саней, лошадиной дохлятины. Благо, морозы держались, а так бы задохнуться в вонище. У избы Мстиславского из смерзшегося сугроба скалила зубы околевшая кобыленка. На сбитом копыте, торчащем из желтого от мочи снега, сидела ворона, разевала клюв.
Младший из Шуйских, Дмитрий, кивнув на ворону, сказал:
— То вместо стяга. — И засмеялся, блестя глазами.
Старший, Василий, зло толкнул его в спину:
— Не болтай что непопадя, — и ощерился.
Младший торопливо застучал каблуками по ступенькам крыльца.
Ну, да падаль, воронье — к этому привыкли. Беспокоило воевод иное.
Громаду людскую в зиму — морозы надавливали — в поход вывели. А их кормить, поить надо. Окрест же все было пограблено, а обозы со съестным шли издалека, тонули в снегах по бездорожью. В пути ломались и люди, и кони. Эка… Дотащи-ка хлебушек, мясо, иное прочее, что человеку надобно, из Москвы до Кром. То-то… Но да и не без воровства, конечно, обходилось. Такое известно. Купчишки, что обозы сколачивали, руки на том грели, да и приказные московские от них не отставали. Придет обоз с мукой, а она в комках, хотя бы и топором руби. Мясо — морду отвернешь от вонищи. Стрельцы купчишек били, били и приказных, что приходили с обозами, но толку от того было чуть. Вот воеводы и лаялись. Кому жрать гнилое хочется?
Бом-бом… у-у-у… — гудели голоса в ушах у Федора Ивановича. Слов боярин не улавливал, да и не нужны были ему эти слова. Вчера лаялись воеводы, позавчера, третьего дня… Чего уж речи их разбирать. Лай и есть лай. Однако Федор Иванович не спал, хотя мысли шли в голове у него туго, мутно, но на то были причины.
Думал он о разном.
Печь, стоящая враскоряку, на половину избы, подванивала угаром. Боярин носом чувствовал кислое и жалел, что нет печуры, которую ему много лет назад в Таганской слободе сковали. Таскал он ту печуру за собой повсюду. «Ах, — вздыхал, — хороша была, хороша…» Он и в этот поход взял ее, да вывалили печуру на дороге из саней и разбили. «Разбойники, — думал боярин, — тати». Носом пошмыгал. Определенно печь пованивала. «А от печуры-то, — подумал, — угару не было. Тати, как есть тати». И еще раз сильно потянул носом.
У-у-у… — не смолкали голоса. Среди иных выделился особенно настырный, напористый, режущий слух. Федор Иванович угадал: «Шереметев… ишь разоряется. А чего шумит? Пустомеля…» Голос Шереметева все зудел, зудел… «Аника-воин», — думал презрительно боярин. Поднял голову, мазнул взглядом.
У Шереметева потное лицо — в избе до нестерпимого натопили, — запавшие глаза, кривой, на сторону рот. Ни красы, ни силы в лице. Да, Шереметевы все были срамны лицами, но сидел воевода ровно, уверенно, уперевшись грудью в стол, локти торчали углами. Говорил зло, как камнями бил.
Федор Иванович вновь голову опустил, словно утомившись от одного взгляда.
Шереметеву, ежели правду говорить, меньше иных след было шуметь. Он первым под Кромы пришел и стал под стенами. Да толку-то от его стояния не было, хотя крепость обороняло душ с двести во главе с Григорием Акинфиевым. У Шереметева же под рукой были мортиры сильного боя и пушка сильного же боя «Лев Слободской». Ему бы ударить посмелей — и конец Акинфиеву, вору, но где там…
Боярин Мстиславский хмыкнул. В голове прошло: «Кур тебе щупать, а не крепости воевать».
С Шереметева-то и начались несчастья под Кромами. В крепость пропустил воевода казачьего атамана Карелу с полутысячей дончаков, и они ухватились за стены крепко. «Довоевался, — подумал Федор Иванович, — а ныне вот мясца требует, квасу… Конской мочи тебе жбан, да и то честь велика».
Мысль о моче в жбане, поднесенном дворянину, да не просто дворянину, а цареву окольничему, взбодрила Федора Ивановича, ну да жар избяной свое сделал — и боярин склонил безучастно голову.
Голоса все гудели.
Князь привалился к стене и почувствовал лопатками, как свербит спина под шубой. Родилась мысль: «Которую неделю в походе, а в баньке ни разу не был. Эх, господи…» И вспомнил московскую баньку. Показалось, под шубой сильнее засвербило. Перед глазами стало: скобленные добела полы, липовый полок, венички духовитые, свисающие с потолка. И живым дохнуло только оттого, что представил, как вступает он в баньку по влажным, теплым под ногами струганым досочкам, садится с облегчением на лавку, а от каменки так и наносит, так и наносит жаром…
Колыша обширным чревом, князь вздохнул, с трудом выныривая из банных мечтаний. Оглядел избу: черный от сажи потолок, бревенчатые стены с торчащими клочками мха из щелей. Больно стало, досадно. А о том не подумал, что иные-то живут еще хуже. Ему повезло — приткнулся в избе, чудом оставшейся целой, вокруг-то избы пожгли. А зачем? «Ах, дурость, — подумал, — дурость беспросветная». Забыл, что сам велел комаричей жечь да еще напустил на них татар касимовских, не надеясь на лютость стрельцов.
Забубнил Дмитрий Шуйский. У этого голос был густой, вяз в ушах. Да пой он соловьем — и тогда Федор Иванович слушать бы его не стал. «Ворона, — подумал боярин, — ишь каркает… Туда же… Ворона…»
Дмитрий Шуйский командовал полком правой руки под Новгород-Северским. Его полк попятился под ударами польских рот и пропустил к главной ставке капитана Доморацкого с гусарами, который и порубил князя. Так разве мог боярин Мстиславский при такой обиде слушать Дмитрия Шуйского? Бабьи щеки Федора Ивановича затряслись, едва он голос его разобрал. Мстиславский не полк бы ему правой руки дал, а прочь из избы пинком выбил, да только рядом с Дмитрием сидел, как гвоздем прибитый к лавке, старший, Василий, и в узких злых глазах его светило предостерегающее: «Не замай!» Лицо у него было мрачно. Этот в разговор не встревал. Рот только у него нехорошо двигался, губы то складывались твердо, то кривились, ползли на сторону и опять складывались твердо. Молча соображал Василий: «Ишь воители собрались… Что ждать-то от таких?»
Дела под Кромами и вправду были худы. Крепость стояла на холме так, что обрушить на нее всю громаду войска воевода Мстиславский не мог. Кромы можно было воевать по узкой тропе малыми силами, а это не приносило успеха. Федор Иванович бросал на крепость отряд за отрядом, но казаки, сидящие за дубовыми стенами, отбивались. По приказу Мстиславского по снегу, надсаживаясь, стрельцы подтащили тяжелые мортиры, проволокли сквозь камыши пушку «Лев Слободской» и, не жалея пороха, ударили по городу жестоким ядерным боем.
Федор Иванович с воеводами, подъехав на тонувших в снегу конях к пушкарям, остановились близь зевластой, ухавшей так, что звенело в ушах пушки «Лев Слободской». Пушка ахала надсадно, лафет, зарываясь в снег, откатывался, и каленое ядро черным мячиком, уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, летело к крепости. Хрипя и ругаясь, пушкари наваливались на лафет, толкали вперед, забивали в ствол картузы с порохом, вкатывали ядро, подносили фитиль. Пушка, казалось, приседала на литых колесах и, выплевывая белый дым, с грохотом выплескивала полотнище слепящего огня.
Через пять часов ядерного боя дубовые стены крепости занялись огнем. Надворотная башня, сложенная теремом, задымилась, но дым спал, и голубоватое пламя — так горит только дуб — ровно и сильно охватило стены. Жар дубовых плах был так велик, что по направлению ветра на холме начал оседать и таять снег. Обнажились проплешины черной земли.
Боярин Василий, нетерпеливо поддернув за уздцы свою кобылку, сказал возбужденно:
— Ну, теперь время!
Федор Иванович, не отвечая, покосился на него. Обидный то был взгляд, едкий. Боярин Василий, сгоряча, не подумав, в другой раз сказал:
— Что медлим? Сей миг ударить — и конец ворам.
Федор Иванович развернул коня и только тогда ответил, как отвечают несмышленому дитяти:
— Жар велик — к крепости не подойдешь. Завтра, на рассвете, будем воевать Кромы.
Пустил сильно жеребца, как ежели бы и говорить было не о чем. Высоко выбрасывая ноги, хрипя, с трудом высигивая из сугроба, жеребец пошел по полю.
Боярин Василий поперхнулся, губу закусил, перемогая обиду.
Крепостные стены пылали всю ночь. Страшный то был костер, горевший в безветрии на высоком холме. Языки пламени вскидывались высоко, и по холму метались черные тени, и из огня, и из черных теней всю же ночь голосили колокола городских церквей. Было в этих голосах столько жалобы, что нехорошо становилось в душах у стрельцов, обтекавших заставами широкий холм. К плачу на Руси привычны — жизнь русскому человеку редко улыбку дарит, больше слезы. Но все одно: лилось неумолчное из пламени на холме «Бом! Бом! Бом!» — и зябко становилось и одному, и другому, и третьему. Понимали — там, в пламени, христианские души и думали: а за что им такая мука? В ночи тишина особенно чутка, и ухо улавливало каждый оттенок рожденных медью звуков, чувствовало их глубину, лад, проникающий в такие тайные глубины человека, что он не может не отозваться и не откликнуться на их зов.
К рассвету голоса колоколов, стали смолкать, как стоны тяжело раненного. Тише, тише жалоба, тише… Стрельцы понимали — падают колокола. Подгорят поддерживающие балки — и в искрах и пламени рухнет божий язык. Так выпадали голоса из скорбной песни над холмом. Один, другой, еще один… Пока все не смолкли. Стрельцы крестились: «Господи, прости и помилуй… Господи…»
По морозцу, по легкому снежку, что хрустит бодро под копытами коней, с рассветом выехали к холму воеводы. Федор Иванович, выпивший поутру тройной перцовой и закусивший хорошо, за ним иные. Рядом с главным воеводой — боярин Василий. Лицо хмуро. Вчерашнюю обиду не мог прожевать. Насупленные брови, глаза щелками. А может, колокольный звон из Кром спать не давал? Вот и потемнел лицом боярин. Нет. Но спал он и вправду плохо, однако колокола боярина не беспокоили. Другое глаза смежить мешало. Ну, да то глубоко было спрятано.
Ударили мортиры и пушки. Стрельцы, оскальзываясь, падая и поднимаясь, пошли к крепости. Федор Иванович видел, как бегут вверх по холму кажущиеся издалека маленькими, с палец, фигурки, карабкаются на обгорелые стены, на кучи черного пепла. Скрипя седлом, князь руками уперся в высокую, по-татарски, луку, приподнялся на стременах и потянулся тяжелым телом вперед. Хотел получше разглядеть: что там, на холме? Стрельцы переваливали через валы, скрывались из виду. И вдруг князь увидел дымки выстрелов. Их относило ветром, но все же разглядеть можно было, как густа пальба. Князь замер, приподнявшись над седлом. Он не понял — как, почитай, дотла сгоревшая крепость, где, казалось, ни одного защитника в живых не осталось, смогла встретить таким огнем осаждавших. А дымы выстрелов вспыхивали и вспыхивали за черными грудами сгоревших стен, и подгоняемые ими стрельцы начали перекатываться назад через валы.
Не прекращаясь и на час, осада продолжалась до полудня, а когда солнце начало клониться долу, к воеводам, по-прежнему стоявшим подле пушкарей, подскакал на хромающей лошаденке стрелецкий сотник. Тегиляй был на нем разорван, колпак на голове сбит на сторону. Он соскочил с коня, подступил к Мстиславскому.
— Князь! — выкрикнул. — Сил нет… Люди гибнут…
Рука сотника шарила по тегиляю у распахнутого ворота, цеплялась за гайтан.
Мстиславский молча смотрел на стрельца. Сотник, ища защиты, оборотился к боярину Шуйскому.
— Людей жалко, боярин!
Произошло неожиданное. Боярин Василий выпростал ногу из стремени и изо всей силы ударил носком в лицо сотника. Тот ахнул и повалился в снег.
— Дурак, — сказал Шуйский, — людей на Руси никогда не жалели.
Да так сказал, что даже Федор Иванович под шубой подобрался, словно услыхал голос уже не боярина Василия, а царя Василия Шуйского. Озноб его будто ожег. Он резко повернулся в седле — жеребца под ним даже шатнуло, — взглянул на боярина Василия. Вот так же, много лет назад, ознобом странным ожгло Семена Сабурова, услыхавшего голос правителя Бориса в тайных покоях Новодевичьего монастыря, и Семен склонился к руке Борисовой, почувствовав, что перед ним уже не правитель, а царь. Во как голоса себя выказывают и вот как люди их слышать могут! Видать, время Василия Шуйского подходило, и Федор Иванович, князь, стук маятника, отсчитывающего часы судеб людских, угадал.
Сотник рукой зажал перебитую переносицу. Из-под руки ползла кровь.
— Иди, — сказал Федор Иванович, — иди. Ты все слышал.
Сотник поднялся на карачки, качнулся, но встал на ноги… Крепость, однако, не взяли ни в тот день, ни через неделю, ни через две. И лаялись, лаялись воеводы.
Стуча каблуками, толпясь перед узкой и низкой дверью, воеводы вышли из избы. Князь поднял голову и в который раз потянул, принюхиваясь, носом. Кислым так и резануло. «Тати, ох тати», — опять, вспомнив свою печуру, подумал Федор Иванович, и сердце, показалось ему, так и защемило от досады, что страдать приходится. Взглянул на черную доску иконы в углу и руку потянул ко лбу. Князь, как въявь, услышал слова Василия Шуйского: «Дурак, людей на Руси никогда не жалели». Сел на лавку. Думать надо было князю, думать и решать. «А что решать-то? — прошло в голове. — Что?»
Противоречиво, неясно, лукаво было в царевом стане под Кромами. Путано, как путано сталось и по всей русской земле. Царевы люди уже и за Москву боялись выходить. И страх напал. А на Руси, известно, один испугается — и тут же у соседей ноги хрупкими станут. А у каждого из этих храбрецов еще соседи — ну и пошло, и поехало, как это водится. Дворяне сидели на земле тесно. Здесь поместье, за леском иное, за речкой третье. Царь Борис землей не больно оделял. А за лесок-то, за речку только шумнуть. Ау-де, ау… Боязно… И все. Всполошились людишки. В Москву потянулись обозы дворянские — садиться в осаду за каменные стены. Стон стоял над дорогами. Да и ничего удивительного в том не было. Хорошо ли, худо ли, но столько лет и при Федоре Ивановиче, и при царе Борисе сидели в тиши деревенской, и на же вот — подниматься домами и по грязям, в непогодь весеннюю, тащиться неведомо куда. Да тут еще снега осели, ну и вовсе шагу не сделать. Каждую версту брали приступом. Так уж не стон — вой поднимался над обозами, где на телегах, в санях — коробья, сундуки, узлы неподъемные, невесть какие тюки с пожитками, накопленными годами. Впереди обоза дворянин в терлике[37] ли, в коротком кафтане ли, в ферязи ли, но — неизменно — по брови грязью заляпан и зол до беспамятства от растерянности и бессилия. И он жжет ногайкой холопов без жалости, ну и давка, конечно, трещат оси, в глаза лезут оглобли, лошади грызутся, на дыбы встают…
Ан вот это — давка, непогодь, грязь — половиной беды было. Дворянство российское, как татарин из Крыма нажимал, всегда к Москве бежало, на стены ее полагаясь. Бежало и в зимнюю стужу, и весенней порой, летом ли, в осеннюю ли непогодь. Такое не раз бывало, но стона, воя, что стоял над дорогами, сей миг не родило. Конечно, и в прошлом, как от татарина бежали, трещали оси телег, был плач, плеть ходила по головам холопьим, ан у каждой беды есть свой голос, и нынешний скорбный стон объявлялся по-особому — такое в нем сказывалось, что оторопь брала. Да, конечно, всякая беда по-своему кричит.
Это был вопль отчаяния.
Ко всякому навычны русские люди, но вот себя потерять им страшно, да и никак нельзя. А здесь в мятущихся звуках, в разноголосой их перекличке объявился аккорд, вопивший над дорогами о растерянности, непонимании, душевной боли.
От кого бежим? — спрашивали голоса. — Что, татарин вышел из-за Перекопа и идет на Русь? Так нет же. Новый Хлопко Косолап державу шатает? И этого нет. От царевича бежим, который через западные рубежи переступил? Так вор, сказано, он, а ежели так — разве на Москве нет Разбойного приказа? Стрельцов послать — хлеб не даром они едят — и вора по башке прибить. Вот и все! Мало ли воров на Руси случалось, а беды не знали. Но так вот не вор он, в иных голосах звучало, но наследник престола. Ан тут же выплескивалось: как так, а царь Борис? Где воровство и где истина? Отказаться от того, кому присягали и поверить в того, кого не ведаем? Э-э-э… Воз заворотить — и то место и время надобны, но у воза-то и всего что четыре колеса да две оглобли. А кто считал, на скольких колесах человеческая душа по свету катит и за какие оглобли ее, страждущую, к богу ведут? Путано, сумно было в головах. Это хорошо, когда в поле выйдешь, ладонь козырьком поставишь, от ослепляющего солнышка заслоняясь, и гляди, гляди вдаль. Дорога, уходящая к окоему перед тобой, пшеница ли, рожь ли под ветром колышется, или разнотравье размахнулось от края до края — все разглядит внимательный и тропу через поле глазом наметит.
Ан не то в жизни.
Перед этими, что по дорогам к Москве тащились, сорванные с насиженных мест, туман стоял, да какой туман! В шаге ничего не разглядишь. К лицу липнет, влагой взор застит, холодом обволакивает, леденит лоб. Крикни в таком тумане: «Эй! Кто там, впереди?» А голос увязнет в клубящейся сырости — и нет ответа. Повернется человек торопливо и в другую сторону: «Кто? Что? Как?» И опять нет ответа. Руки протянет, но они только пустоту схватят. Пальцы сомкнутся, а в них — ничего. И неуютно станет и смелому, и отчаянному, да и такому, которому, кажется, все трын-трава.
Шли, шли обозы, волочились люди, не ведая еще, что время грядет, когда человек окажет себя хуже лесного зверя, не знающего сытости. Ну да, может, в том неведении было спасение? Тучи нависали над землей, хмурилось небо… Тоска… И все телеги, колеса, утопающие в грязи… А из-под рогожи на одной из телег глаза детские, невинные, и в них мольба и вопрос.
У дороги церквенка стояла, старая, по колено в землю вросла. Говорили, что ее еще царь Иван Васильевич ставил, да не тот, кому прозвище Грозный, а бывший допрежде его. Крест над церквенкой черный, облезший, но все одно — крест. Ветер попу бороду на сторону сбивал, трепал подол рясы. Поп крестил проходящих мимо. Вздымал руку и творил трясущимися пальцами крестное знамение. И вдруг увидел детские невинные глаза, выглядывающие из-под рогожи. Губы смялись у попа в бороде, рука задрожала и опустилась. А еще крепкий был по виду человек, матерый, и лицо — как из камня резанное. Но вот заплакал… Знать, в сердце ударило: коль дитя невинное так вопрошает, не в кого верить, не на что надеяться.
Ан весело, бурливо было в Путивле. Есть особый дух воровского стана: здесь каждому — все чужое, но и каждому — все свое, да к тому же ничто не дорого и ничего не жаль. На улицах Путивля, затесненных обозами, людных, чувствовалось это в пестроте казацких папах, сермяг, польских белых и синих жупанов. В громких голосах, в кострах, пылавших и тут и там, будто не город это вовсе, над которым кресты православные подняты, а место случайное, степное, куда съехались невесть откуда неведомые люди, как неведомо и то, когда они уйдут, оставив после себя нагорелые кострища да ископыченную, испоганенную землю. А еще и вот как получалось: в Москву-то и обозы хлебные не шли — купчишки опасались в белокаменной объявляться, а сюда, в Путивль, казалось, вперегонки обозы гнали. Везли польские товары. Из Киева поспешали с мукой и зерном. Из Литвы наезжали на крепких, на хорошем железном ходу фурах. Торговали с возов, ставили кибитки из войлока ли, плетенные ли из прутьев с натрушенным поверху сеном, из полотна ли, и, глядишь, было место пусто, а уже купец сладким голосом зазывает: «Заходи, заходи, у нас товар без обмана!» Рядом лопочет литвин и грудастая жинка из Киева трещит языком, уперев в необъятные бока могучие кулачищи. Хороводит ярмарка. Голосиста, щедра и на товар, и на слово бойкое, на присказку заковыристую.
Шумно, оживленно было в доме на путивльской площади, где стоял мнимый царевич. Здесь со столов вино не убывало, шагали размашисто, смело стучали каблуки. Да многоголосо было и возле дома. У коновязи, врытой недавно против крыльца и еще белевшей свежей, только что ошкуренной древесиной, грызлись кони, по-весеннему весело всхрапывая и вскидывая задами. Толклись люди, пришедшие из дальних мест с челобитными, и путивльские, ожидавшие выхода царевича. В голосе толпы чувствовались те особенные, яркие краски порыва и подъема, которые обязательно сопровождают всякое преуспевающее дело. Есть дома, люди, семьи, наделенные удачей, и дома эти, люди и семьи окружаются вовсе не званными гостями, что идут и идут и просто и естественно заполняют комнаты счастливого дома, и всем кажется — так должно, а по-иному и быть не может.
Случилось такое и в Путивле.
Это трудно объяснялось, хотя одно сказать все-таки было можно. Пришел царевич, и много городов и деревень пожгли, разграбили, людей полегло немало, ан и эдакое сталось — тяжкие государевы подати по северской земле с минувшей осени не собирались, а по весне казаки южных степных городков государеву же десятинную пашню не пахали. И людишки заговорили: «Вот она, воля! Так и впредь будет. Всё — попил царь Борис нашу кровушку». Но одно это всего не объясняло. Скорее, вольная кровь сказалась: и день, да мой! Пожар. Пламя до небес. Искры летят. Коники скачут и душа ярится! Хотя и такое навряд ли.
Протопоп путивльский вышел на паперть собора, протянул трепетные ладони к народу:
— Умерьтесь! Бог накажет…
И все видели бескровное его лицо, изможденное молитвами. Голос слышали, рвущийся от страдания. Но протопопа взяли под руки, ввели в храм и двери за ним притворили.
Мнимый царевич, как и окружавшие его люди, сам был возбужден и полон хмельной удали. Но, несмотря на удаль, он, как и иные подле него, не мог объяснить произошедшую в Путивле смену настроений.
В сей миг мнимого царевича одевали к выходу на площадь — принимать челобитные и выслушивать жалобы. Ныне выходил к люду царевич, ведомый под руки новоявленными боярами, и каждый день говорил медленноречиво, ласково, всем видом являя заботу о народе, вере, чине государевом. Слушали его, затаив дыхание.
Царевичу подали красные сапоги, которые он впервые надел в Монастыревском остроге, шубу, бывшую на его плечах тогда же, шлем с перьями. И вот диво — у Юрия Мнишека, увидевшего царевича в этих одеждах в Монастыревском остроге, дыхание перехватило, и он подумал, что крикнут «ряженый» — и толпа сметет и царевича, и стоящих рядом; а ныне те же сапоги, шуба чуждого для русского глаза покроя, нелепые перья на шлеме и впрямь выглядели царскими одеждами. А может, это солнышко, бившее в окна, так их высвечивало и золотило?
Мнимому царевичу подали зеркало. Он поправил волосы у висков и повернулся к своим боярам. Лицо его было спокойно. Но и это спокойствие не объясняло уверенности, которая объявилась в Путивле.
Кромы продолжали противостоять цареву войску, но ведомо было Отрепьеву, что атаману Кареле трудно приходится. В Путивль приходил человек и передавал, что казаки держатся из последних сил и нет у них ни порохового, ни провиантского запаса. Карела говорил, что сдаст крепость, ежели царевич не поможет. Отрепьев отрядил в Кромы всех, кого имел под рукой в Путивле. Во главе отряда поставил сотника Беззубцева, а в помощники ему дал Ивана-трехпалого. Знал: этим терять нечего — в Москве для них давно плаха поставлена и топор наточен. Удивительно, но сотник путивльский в Кромы, осажденные многотысячным царским войском, когда, казалось, туда и птице не пролететь, прошел и обозы провел с провиантом и порохом. Удача обрадовала Отрепьева и людей его, однако и она не могла быть причиной смены настроения, которая произошла в Путивле. Сотник Беззубцев не сокрушил московскую рать, не побил стоящих вокруг Кром стрельцов, но лишь хитростью прорвался к осажденным. Он укрепил атамана Карелу, но только и всего. Да и укрепил-то в осажденной крепости. Правда, казаки наутро, как обоз провиантский к ним пришел, на развороченном валу поставили бочку с горилкой и пили на виду московской рати за здоровье воеводы, князя и боярина Мстиславского. Кобылий хвост на шесте укрепили и в насмешку выставили на видном месте. Плясали. Кривлялись на валу, однако то было лишь ухарство казачье, и не больше. Кромы были тесно зажаты царевой ратью, а Путивль, отрядив отряд с Беззубцевым к атаману Кареле, вовсе остался без защитников. И ежели бы воевода Мстиславский был порасторопней, то, послав хотя бы полк стрелецкий, взял и город без труда, и царевича прихлопнул разом.
Но такого не случилось.
Войско московское неподвижной, угрюмой колодой обложило Кромы и с места не сдвинулось.
Весть о посрамлении царева воеводы как на крыльях разнесли не только окрест, но и до Курска довели, до Царева-Борисова города, Смоленска, иных крепостиц и городков.
Ну, да позубоскалили и замолчали.
Пан Юрий Мнишек прислал письмо из Варшавы. В нем было много слов, пышных и многообещающих, но все это были только слова. Хотя и говорилось в письме, что ныне он, пан Мнишек, поддерживается сильной рукой, но сказано о поддержке было неясно.
Говорилось в письме и о панне Марине. Здесь пан Мнишек дал волю перу и пространно живописал о ее золотом сердце. Когда мнимый царевич читал эти строки, у него порозовело лицо. О субсидиях же и воинской помощи Мнишек писал невнятно.
Мнимому царевичу подали шпагу. Теперь и впрямь все было готово к выходу. Офицеры растворили дверь палаты. Отрепьев сложил в улыбку губы и шагнул через порог. Как только он объявился на крыльце, площадь огласилась криками:
— Слава! Слава! Слава!
Отрепьев полуприкрыл глаза. Он не понимал, что его надежда, оружие, успех и есть эта толпа, а стоящий против крыльца дядька в сермяге, такой же серой, как и земля, которую он пахал всю жизнь, его главный маршал.
Но след было Гришке Отрепьеву пошире раскрыть глаза.
Разбитые чоботы дядьки крепко стояли на земле. Свидетельствуя, что его трудно сбить с ног. На плече лежала дубина, да такая суковатая и тяжелая, что с уверенностью можно было сказать — она доведет Отрепьева до Москвы и на троне утвердит. Но тут-то и нужно было вглядеться получше и задуматься: а так ли надобны ему Москва и трон, так как эта дубина не только могла подсадить мнимого царевича на место, самое высокое на Руси, ан и сбить с вершины. Однако он этого не разглядел. Глаза Гришки Отрепьева как были полуприкрыты, да так и остались. Губы, губы только растянулись в еще более широкой улыбке.
Народ закричал громче.
Крику в эти дни было много и на Москве. Видать, такие времена для державы российской наступали, когда без крику не обойтись. Оно и у держав всякие бывают годы. И тихие случаются, сытные, когда люди, как у Христа за пазухой, живут в благоденствии, но бывает, однако, и вот так — с шумом, криком, голодным брюхом, а то и с кровью.
Кто даст ответ: отчего такое?
Текла, текла река, хотя и перекатиста, но светла, ан на тебе: жгутами свернулись струи в бешеном напоре — и уже кипит стремнина в неудержимом беге, волны бьют в берега, подмывают, обваливают недавно сдерживающие их пределы, мутнеют воды и с еще большим злом и напором крушат некогда нерушимые преграды, пробивая новое русло. А оно, глядишь, и в старом-то вроде не было тесно, воды шли покойно, плавно, безбурно, но нет — вскипает волна и со всею силой падает на берег.
Удар, еще удар, еще… Пенные брызги летят, и обрушиваются глыбы, сползает берег в возмущенный поток.
А что, в новом русле покойнее будет водам?
О том река знает, но голос ее — мощный, ревущий, стонущий — не понятен смертным.
На Москве не было человека, который бы не слышал гула, накатывающегося на белокаменную с западных и южных пределов. Да что гул? Москву захлестнул поток обозов из Курска, Белгорода, Ельца, Ливен, Царева-Борисова… Поначалу для них беспрепятственно открыли городские ворота, но потом увидели — конца и края морю этому нет и белокаменной всех не принять.
Хлеб на Москве вздорожал.
На Сенном рынке за воз прелой соломы просили втрое, вчетверо противу прежнего.
Народ начал роптать, и тогда городские ворота закрыли да и помалу попробовали выбивать пришедших из Москвы. Но беспокойства и неурядицы тем только прибавили. А как иначе? Вон стрельцы бердышами баб, детишек гонят. Рев на улицах. Москвичи, из тех кто посмирнее, дворы закрывали наглухо, как в осаде. Стоит домишка на улице, небогат, неказист, но ощетинился — не подходи! Хозяева говорили:
— Э-э-э… Знаем, видели, ощиплют, что гусей. А как жить дальше?
— Нет уж, ребята, вы мимо, мимо идите… Христос подаст.
И калитку хлоп — и на запор. Так надежней.
Мрачно, насупленно возвышался над городом Кремль. Хода никому в твердыню цареву не было, и царя Бориса, не в пример прошлому времени, народ московский не видел. Стены Кремлевские вроде бы потемнели, и славный их кирпич, выказывавший в дни хорошие ярый, жаркий цвет доброго обжига, как лицо человеческое в невзгоду, являл ныне серую хмурость. Башни огрузли, и Кремль, казалось, отделился от москвичей — не только налитым до краев холодной, черной водой рвом, но и грозной стеной царева отчуждения. Ильинка, Варварка, Пожар, Болото кипели от наехавшего и московского люда. Здесь были растерянность, боль, неуютство, а там, в твердыне царевой, стояла тишина — голоса не доносилось из-за Кремлевской стены, будто все вымерло, застыло в странном, непонятном, страшном сне.
А оно и впрямь в Кремле запустело. И не то что перед Грановитой палатой, царским дворцом, на Соборной, где царю и ближним его пристало бывать, но и на Ивановской площади, всегда тесной от приказных, безлюдье и ветер, морщащий нахлюпанные дождем лужи. Пробежит поспешно человечишка из крапивного семени, прикрываясь рогожкой, и опять ветер, ветер да рябые лужи. Оловянно блестела вода, и холодно и сумно становилось на душе. А еще неуютнее было в кривых кремлевских улицах и переулках опальных дворов. Ветер гудел среди углов, не согретых людским теплом. Гулял по крышам, путаясь среди ветшающих бочек и полубочек теремков, посаженных над входами, переходами и прирубами. Стучал оконцами, которые забыла закрыть хозяйская рука. Барабанил в забитые двери. Печален покинутый дом. Людьми он строен и для людей, ан вот их-то не стало, и угрюмость, тревога написаны на стенах покинутого дома, тоскующего по своим хозяевам. А мест порожних и опальных в Кремле становилось все больше. И холодны, пустотой пугающи были глаза стрельцов, торчащих одиноко у Красного царева крыльца, на Никольском крестце, да и тут и там на Никольской улице, на Троицкой, на Спасской. И видно было: знобко им под холодным ветром, ежились стрельцы, но велено — так стой!
Царь Борис из палат царских не выходил. Царица Мария говорили патриарху Иову с беспокойством о здоровье царском. Плакала. Иов слушал ее молча, кивал головой. Да было не понять — не то от слабости голова патриаршая трясется, не то сочувствует он царице и ободряет ее. Но царица и сама видела, что стар патриарх, и все же просила укрепить царя и наставить.
Иов поднял глаза на царицу, смотрел долго. На лице патриарха лежали тени. Губы были бледны. В глазах его царица прочла: «В чем укрепить, в чем наставить?» Царица заплакала еще горше.
Патриарх у царя побывал. Вступил в палату и остановился. Борис подошел под благословение.
Лицо царя, хотя и нездоровое — под глазами обозначалась синева, — было твердо. Сжатые плотно губы говорили: этот человек уже решил для себя все.
Да оно так и было.
Царь Борис больше не спрашивал, почему не удалось ничего из задуманного и кто виноват в том. Не жалел жарких своих прошлых мечтаний и не обвинял никого в неудачах. Он уже нашел ответ и сказал с определенностью: «Не удалось!» И все. И теперь ни к чему было возвращаться в прошлое, ворошить в памяти сказанные когда-то слова, вновь шагать по пройденным дорогам, распутывать узлы старых споров, недомолвок, лукавых высказываний, различать шепоты, слышанные за спиной. Все это ушло для него вдаль, и сказанные в прошлом слова, пройденные дороги, споры, недомолвки, лукавства были уже даже не его, а чьей-то другой жизни словами, дорогами, спорами и лукавствами. Как сгоревшие поленья в костре, все подернулось серым пеплом, скрывшим яркость и жар углей.
Царь неожиданно подступил вплотную к патриарху, и на странно изменившемся его лице появилось живое. Глаза заблестели от волнения.
— Великий отче… — начал он неуверенно и набравшим силу голосом закончил: — Ответь мне, сподоблюсь ли вечного блаженства на том свете?
У Иова изумленно взлетели веки. Он хотел что-то сказать, но слабые губы только прошамкали невнятное.
— Великий отче! — воззвал Борис с надеждой.
Иов опустил голову и опять забормотал что-то невнятное. Царь Борис отступил на шаг, и лицо его болезненно задрожало.
Иов так ничего и не ответил Борису.
Заданный вопрос, однако, волновал царя, и он спросил о том же пастора Губера, с которым последнее время встречался почти каждый день.
За пастором на Кукуй из Кремля посылалась добрая карета, и москвичи, когда она выезжала из Никольских ворот на Пожар, уже знали, куда и зачем карета сия катит.
— Глянь, — толкал в бок какой-нибудь дядя соседа, — опять за немчином от царя направились.
Люди таращились вслед карете, и нехорошее было во взглядах.
— Знать, своих ему мало… Немчина подавай…
— Н-да-а-а…
С пастором Губером приезжал доктор Крамер, и они подолгу говорили с царем. Бориса интересовало разное, но больше он просил рассказывать о том, как живут в иных странах, и слушал внимательно.
На беседы эти приглашал Борис царевича Федора и бывал недоволен, ежели царевича отвлекали дела. Борис говорил так: «Один сын — все равно что ни одного сына» — и постоянно хотел видеть его подле себя.
Сидя напротив пастора и любезно улыбающегося доктора Крамера, царь Борис слушал рассказы с прояснившимся лицом, но порой черты царского лица тяжелели, хмурились, царь опускал глаза и, подолгу не поднимая взгляда, упорно, настойчиво смотрел на свои руки. В одну из таких минут пастор Губер вспомнил первую встречу с царем Борисом. Тогда свезенных в Москву из российских городов немцев и литвин нежданно-негаданно пригласили в Кремль и царь дал им обед в Грановитой палате. Многое изумило во время необычайного этого обеда пастора Губера, но более другого запомнилось, как царь Борис, воодушевленно говоря, что он университет в Москве хочет видеть и алчущих знаний юношей, вот так же опустил глаза и долго рассматривал руки. В ту минуту, потрясенный желанием царствующей особы просветить свой народ, пастор Губер подумал, что царь Борис задался вопросом: «А хватит ли у меня сил на сие великое дело?» И тогда же, увидев вновь обращенное к гостям лицо столь удивившего его царя, подумал: «Да, он решил, что сил достанет». Глаза Бориса сияли. Ныне же случилось иное. Когда царь Борис наконец поднял взгляд на пастора, гость прочел в нем такую грусть и муку, что его пронзило острой болью жалости к этому необыкновенному человеку.
В одну из встреч царь Борис и спросил пастора Губера:
— Сподоблюсь ли вечного блаженства на том свете?
Пастор Губер задохнулся от неожиданности, но он был книжником, читателем историй народов и подумал: «Какую же драму несет в себе этот человек, ежели обращается с таким вопросом?»
Царь Борис, однако, только мгновение ждал ответа и отвернулся.
На следующий день царь все же вновь послал карету за пастором.
Когда она выезжала из Никольских ворот, уже не дядька из рядов, но один из стрельцов, стоящих в карауле, сказал:
— Опять за немчином поехали!.. Ну и ну… Негоже так-то православному царю…
— Молчи, — сказал другой, — ежели на дыбу не хочешь.
Стрелец замолчал, как запнулся.
А на дыбу-то попадали многие. Ярыги так и шустрили по улицам. Здесь уж Семен Никитич своего не спускал, хотя царь редко призывал его в свои палаты. Царев дядька часами торчал у царевых дверей. А дел у него было много, и дела все путаные, Сыскного приказа. Но даже в те редкие минуты, когда он представал перед царевыми очами, Борис слушал вполуха, будто Семен Никитич не о людях говорил, а о щеглах, сетью словленных в подмосковной царевой вотчине.
О войске же, стоящем под Кромами, Борис, казалось, и вовсе забыл. Все бумаги отписывал воеводе Федору Ивановичу Мстиславскому печатник Татищев. И медленно, как за уздцы плохую лошаденку, тянуло их через приказы крапивное семя. Ну, да с этими все было ясно — здесь никогда не торопились. А надо было остеречься царю Борису.
Под Кромами вершилось худое.
Печатник Игнатий Татищев получил неожиданную весть из Польши. Какими дорогами она до Москвы дошла — ведомо было только печатнику. Известно: приказ его, Посольский, многих людей за пределами российскими кормил и с того сам кормился, только не золотом или мехами, но товаром не менее ценным — сведениями тайными.
Так и на этот раз сталось.
Игнатий бумагу прочел и зло, так, что хрустнуло в кулаке, сжал ее, однако, помыслив, положил на стол и тщательно разгладил свиток хрупкой ладонью. Посидел, глядя по привычке на шаткий язычок свечи прищуренными глазами да и поднялся от стола.
Через некоторое время он объявился у царева дядьки. Вошел, приткнулся на лавку и голосом, выдающим волнение, сказал без околичностей:
— Беда.
Такого, чтобы печатник разволновался, никогда не наблюдалось. Был он всегда ровен, нетороплив и в суждениях осторожен. И вдруг такое:
— Беда.
Царев дядька от удивления из-за стола приподнялся.
Из польской бумаги стало известно, что присягнувшие мнимому царевичу князья Борис Петрович Татев и Борис Михайлович Лыков тайно, через виленского епископа Войну, ведут переговоры, умышляющие воровство против царя Бориса, с братьями-князьями Голицыными, которые возглавляют в царевом войске передовой полк.
Услышав это, Семен Никитич кулак всадил в стол.
— Ах, воры, — воскликнул, — воры!
Забегал по палате, не в силах удержать гнев и досаду.
Еще за год-два до объявления у границ державных мнимого царевича Семен Никитич получил донос, что князь Лыков, сходясь с Голицыными да с князем Борисом Татевым, про царя Бориса рассуждает и умышляет всякое зло. Тогда же Семен Никитич бросился к царю.
— Взять их в железа, — сказал, — пытать. Воровство объявится.
Царь Борис, однако, его удержал.
— Нет, — ответил, — негоже такое.
А сказал Борис так только потому, что Голицыны, хотя были и знатного литовского великокняжеского рода и местничаться могли и с Федором Ивановичем Мстиславским, и с Шуйскими, однако силу растеряли и опасности для трона не представляли.
Царь повторил твердо:
— Нет.
Дело заглохло, ан вот как себя показали Лыков да Татев и князья Голицыны.
«Я здесь мышей ловлю, — сказал себе царев дядька, — вешая на столбах лазутчиков Гришкиных да шептунов московских, а волки-то там, в царевом войске!»
Так или почти так подумал и печатник да и, уперев кулак в стол, положил на него многодумную голову и внимательно уставился на царева дядьку.
А волки и вправду были в царевом войске под Кромами.
Братья Голицыны — ах, хитромудрые князья земли российской — в сваре, закипевшей на Москве после смерти Федора Ивановича, как и Шуйские, Романовы, Мстиславский, на трон заглядывали, но да тогда их сразу по носу щелкнули, и они ушли в тень. Но мысль-то, мысль о троне в головах горячих осталась. И сейчас, когда держава вновь зашаталась, честолюбивое вспыхнуло с новой силой в сердцах.
Конь всхрапнул настороженно, повел головой. Старший из Голицыных, князь Василий, похлопал успокаивающе черного как смоль жеребца по шее, чуть придавил теплые бока шпорами. Жеребец, опасливо приседая на задние ноги, съехал с берега в темную ото льда и тающего снега воду, вздохнул, как простонал, и поплыл, высоко поднимая голову. За князем в ручей спустилось еще трое, на таких же черных, как и его жеребец, конях. Со времени Грозного-царя передовой полк сидел на конях черной масти.
Через минуту-другую жеребец встал на твердое дно и, торопливо, махом — вода, видать, жгла — в несколько прыжков выскочил на высокий берег. Князь, даже не оглянувшись — уверен, знать, был, что спутники не отстанут, — пустил жеребца вдоль густого ельника к видневшейся вдали просеке. Жеребец пошел сильным ходом. Ветви — и одна, и другая — хлестнули князя Василия по лицу, но он жеребца не сдержал и головы не наклонил. Утопая на всю бабку в тающем, податливом снегу, жеребец вымахнул к просеке. Князь натянул поводья. Повернулся к скакавшим следом, вскинул руку. Те начали осаживать коней и, остановившись, но не спешиваясь, ввели коней в ельник и застыли в ожидании.
Светало. В просеке, затененной высокими деревьями, был тот сырой зеленый сумрак, который даже и после того, как взойдет солнце, стоит в еловом лесу. Но ветер, ровно и глухо гудевший меж высокими вершинами елей, развалил густой их шатер, и в просеке просветлело так, что лицо князя отчетливо выступило из сумрака. Высокий лоб, выглядывающий из-под бобровой шапки, четко рисованные губы, узкие скулы, хорошо очерченный подбородок — все выказывало, что слабости князь не допустит, ежели ему придется переступить даже через то, что для иного могло бы стать непреодолимой преградой. И только рука князя, лежащая на луке седла, не по-мужски узкокостная и нервная, говорила, что не хватает в нем силы. Той силы, которая, питая и поддерживая волю и целеустремленность, позволяет человеку совершить задуманное. Ну, да об том судить трудно, так как давно сказано: «Которая рука крест кладет, та и нож точит».
Ветер смягчился, и вновь спустившийся зеленый сумрак затенил просеку, однако можно было приметить, что князь в ожидании, и в ожидании напряженном и волнующем его.
За день до этого странного похода Василия Голицына в ельник, отстоящий от стана российского войска на добрых два десятка верст, видели его у главного воеводы Федора Ивановича Мстиславского. Но да что в этом удивительного — один воевода к другому прискакал? Ан удивительное было. Ну хотя бы то, что у Мстиславского князь Василий бывал только тогда, когда его непременно призывали. А тут явился незваным. Другое — прискакал он с пустяковой просьбой, на разрешение которой не след и свое время, и силы коня тратить. Было и третье — прежде чем объявиться у избы, где стоял Федор Иванович, князь Василий, почитай, весь российский боевой стан обскакал, да притом все приглядывался, приглядывался окрест.
Зимой, когда холода держались и снег, хотя и худо-бедно, но прикрывал разбитые дороги, канавы, нарытые вдоль и поперек землянки, сваленный невесть для чего лес, — в стане как-никак, но еще был какой-то порядок. Ныне, когда подули южные ветры и снег начал оседать и таять, неразбериха и неустроенность вылезли наружу. Стан по колена утопал в грязи. Тут и там объявились залитые водой ямины, дико, нелепо торчащие корни поваленных деревьев. Землянки заливало талыми потоками. Негде было ни костра разжечь, ни обсушиться. О горячем хлёбове стрельцы давно забыли. Многие начали маяться животами. Князь Василий видел: у стрельцов темные лица, клочковатые бороденки, патлы нечесаных волос из-под войлочных колпаков. Тегиляи — рвань. Но более другого о бедственном положении стана сказала князю Василию повозка, которую он встретил на подъезде к избе главного воеводы.
По разбитой, иссеченной колеями дороге тащились две исхудавшие, вислоухие лошаденки с ободранными хвостами. Вел их на вожжах, ступая по краю дороги и перепрыгивая через колдобины и водомоины, посошный мужик в сбитом на затылок колпаке. За повозкой мрачно, не выбирая дороги, шагал поп в замызганной грязью рясе.
Князь Василий, не поняв, что это за повозка и чем она нагружена, остановился.
Поп поднял страдающие глаза и суровым голосом сказал:
— Отойди, князь, негоже путь последний заграждать.
Тогда только князь Василий вгляделся в повозку и увидел — из-под накиданных кое-как рогожек торчат ноги. Синие, с желтыми пятками, с корявыми ногтями.
Стуча в колеях, вихляясь, повозка прокатила мимо.
В тот день Василий Голицын сказал себе: «Лукавит князь Федор Иванович. Лукавит. И зло лукавит». Он не верил, что не в силах главный воевода встряхнуть стан, подчинить своей воле, взнуздать, как жеребца, повести по той дороге, где бы он и ног не ломал и воз вывез. «Не может? — спросил себя да тут же и ответил, памятуя крутой нрав князя Федора, первого боярина в царевой Думе: — Нет, не хочет!» А это — понимал князь Василий — разное. «А почему не хочет?» — спрашивал. Тут надо было думать, и думать крепко. Одно князь сказал с твердостью: «Сие не на пользу царю Борису». И другая мысль напросилась: «А кому на пользу? Царевичу Дмитрию?» И ответил с уверенностью, что не дурак первый в Думе боярин Федор. Это голь, толпы холопьи могли верить в царевича, поднявшегося из-под могильной плиты. Он, Федор Иванович Мстиславский, лучше других знал, что шельмует, глумится над Россией, в одежды царевича рядится монах беглый, вор Гришка Отрепьев. «Чего же тогда ищет князь Мстиславский?» — спрашивал Василий Голицын. И после раздумий сказал: «Свалить Годуновых. Свару на Руси затеять и в ней свое сыскать».
Этот ответ, как никакой иной, устраивал Василия Голицына.
«Будет свара, — подумал он. — А кто сверху сядет — увидим».
В конце просеки мелькнула тень. Князь Василий вздернул поводья, но не тронул жеребца с места, а, напротив, придавив бок шпорой, сказал:
— Стой, стой, не балуй.
Василий Голицын ждал в ельнике князя Бориса Михайловича Лыкова. У виленского епископа Войны был младший брат Василий. Он начал разговор, и условлено было во время встречи у Войны, что на Василия выйдет здесь, в ельнике, Борис Лыков. Однако и поопасаться было след, как бы не князь Борис выскакал из-за стеной стоящего леса, а слуги царя Бориса. И такое могло случиться.
Лицо князя Василия напряглось так, что все косточки на нем проступили. Знал он, знал, чем могла закончиться эта встреча, ежели он из ельника да прямо в Сыскной приказ попадет. Князь передохнул, оглянулся на своих спутников. Те недвижно стыли на ветру. Жеребец под князем, чувствуя волнение хозяина, нетерпеливо переступил на снегу. Под копытом что-то треснуло, жеребец опасливо вскинул голову. И в это же мгновение князь Василий увидел въехавшего в просеку всадника. До боли напрягая глаза, вгляделся, узнал — Лыков.
Ветер вновь ударил по вершинам высоких елей. Загудел тревожно. Князь Василий почему-то вспомнил поговорку: «В березняке — веселиться, в кедраче — молиться, в ельнике — давиться». Но слова эти только всплыли в сознании да тут же и ушли. Князь тронул жеребца навстречу Лыкову.
В тайной бумаге, полученной печатником Игнатием Татищевым, было сказано, что заговорщики согласились на том, что престол российский займет царевич Дмитрий. Однако он не будет жаловать боярского чина иноземцам и не назначит их в боярскую Думу. Царь волен принимать иноземцев на службу ко двору и волен же дать им право приобретать земли и другую собственность в Российском государстве. Иноземцы могут строить себе костелы на русской земле.
Печатник смотрел на дышащее возмущением лицо царева дядьки, видел, как разливаются по нему красные пятна гнева, но думал не о нем. Он, Игнатий Татищев, исколесивший многие страны, хорошо знающий царев двор, московский люд и боярство, уже понял, что царь Борис проиграл… Вор, монах беглый, клятвопреступник, лжец Гришка Отрепьев возмутил чернь и столкнулся со знатью державной. Против такой связки царю Борису было не устоять. Это был конец.
Лицо печатника задрожало.
Царь Борис умер внезапно. Встал от обеденного стола — и у него хлынула изо рта кровь. Призвали немецких врачей с Кукуя, но было поздно. Царь умирал. Кровь унять не могли. Борис дрожал всеми членами. На вопрос — как распорядится он державой? — Борис ответил почти так же, как на смертном одре ответил Федор Иванович:
— Как богу и народу угодно.
Его причастили и постригли. Царь Борис закрыл глаза. У него отнялся язык. Он умер молча.
На трон российский сел Гришка Отрепьев. Годуновых предали все — Мстиславский, Шуйские, Басманов… Патриарх Иов поднял было голос, но его взяли в храме во время молитвы, вытащили на площадь за растянутые рукава, бросили в телегу без бережения и увезли в дальний монастырь. Царицу Марию и Федора Годунова задушили. Царевну Ксению оставили в живых, предназначая в наложницы Гришке. В Москве началось такое, что не приведи господь. Объявились страшные люди. Скакали на бешеных конях, грабили, жгли, оскверняли храмы святые. Иван-трехпалый гулял по Москве. Он-таки достиг обидчика своего Лаврентия и приткнул ножом. Царева дядьку — Семена Никитича — повезли в ссылку, но не довезли. Пристава удавили по дороге. Смута страшными, черными крыльями накрывала Москву, да и всю державу российскую…
Раздвинув орешник, задом, на непаханое поле выперся мужик. Он что-то тащил, напрягаясь, через заросль. Оказалось, соху. Соха цепляла за корневища. Но мужик справился и, по-прежнему не разгибаясь, с опущенным вниз лицом, палочкой очистил от налипшей земли палицу, с беспокойством обтрогал корявыми пальцами и только тогда выпрямился, оборотился к встающему из-за окоема солнцу. И объявилось — Степан. Хмур, правда, был он, черен лицом, но да ежели знать, как жизнь с ним обходилась, странного в этом ничего не было. Борисоглебский монастырь сожгли прохожие, да что монастырь — Дмитров сожгли и все окрест разорили. Людей побили множество. Степан в живых остался чудом.
Почернеешь…
Мужик постоял, посвистал тихо. Из орешника вышла лошадка. Последняя из монастырских табунов — иных увели. Степан обгладил ее, оправил мочальную справу, поставил соху и, перекрестившись и сказав: «Господи, помоги и помилуй», налег на чапыги плуга, пошел по полю.
Все на Руси надо было начинать вновь, с борозды.