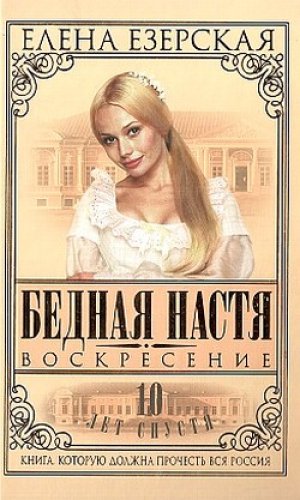
ЧАСТЬ 1
ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Глава 1
Тревожная весть
Кивнув служанке — «Я выпью кофе в библиотеке», Анна бросила взгляд на столик для почты и вздрогнула: на серебряном круглом блюде с причудливым чеканным узором, напоминавшим рисунок на персидских коврах — райский павлин среди гранатовых деревьев, ее ждало письмо. Мгновение поколебавшись, Анна решила все же взять его с собой, чтобы прочитать в библиотеке, но вдруг остановилась и невольно отвела протянутую было за конвертом руку — безотчетное смятение возобладало в ее душе над здравым смыслом. Надеюсь, нет — умоляю, пусть будет оно не от Михаила, подумала, точнее, попросила Анна у небес.
Прошло почти два года со дня отъезда князя, и поначалу их переписка следовала обычным формальностям, каковые призваны соблюдать стороны, в силу своего родства объединенные утратой близких и неизбежными обязательствами по отношению к детям. Первое письмо пришло от Репнина по осени: перед тем, как ступить на палубу корабля, отправлявшегося вдоль тихоокеанского побережья к Камчатке — по пути следования возглавляемой им инспекции восточных и американских земель, князь успел набросать коротенькое послание, в котором с вполне объяснимой сдержанностью вежливо просил Анну не оставлять заботами его сыновей и быть им матерью. Выражение «быть матерью», разумеется, носило фигуральный характер — Репнин, полагая, что Анне не известна последняя просьба Лизы, исполнение ее завещания отложил до лучших времен, ибо пока еще сердце его наполнено было печалью, а круговорот, каковой совершила судьба, снова сведя их с Анной, явился неожиданным и фатальным.
Репнин и прежде не любил перемены: необыкновенное и волшебное существовало только в его воображении, в реальной жизни все должно быть по-другому — просто, понятно и развиваться постепенно. Князь обожал эту длительность перехода от внутренней вибрации, от предчувствия к физическому ощущению, как он сам говорил — узнаванию кожей, но лишь в ее словесном выражении, подбирая сочетания для более благозвучной рифмы или наполняя содержание мимолетного эссе сентиментальными описаниями и поэтическими метафорами. Подобно большинству пиитов, не отмеченных печатью гениальности, но стремящихся к воплощению ее в самом себе, хотя бы по внешним приметам — в облике, манере говорить, Михаил, тем не менее, был далек от парадоксальности и по сути своей всегда оставался типичным обывателем. И потому переживал сейчас тяжелые времена.
Все случилось так стремительно — трагический уход Лизы, с которой впечатлительный и эмоциональный Репнин обрел душевный покой и жизненное равновесие, излом политических и придворных интриг, обративший его в изгнание, новая служба и, главное, неутихающее беспокойство мыслей, вызванное завещанием жены, — что сказать: Михаил был им потрясен, значит не сказать ничего. Предсмертное письмо Лизы, с которым Репнин никогда не расставался, взволновало и растревожило князя сильнее, чем он мог ожидать. И тогда оказалось, что прошлое не только не умирало, а все это время жило в его душе и сердце и теперь переродилось для воскресения с новой силой, и мощь этого чувства серьезно испугала Репнина.
Натура поэтическая, он был склонен к мистике и неизбежно в совпадениях обстоятельств видел тайные знаки судьбы, и потому неудивительно, что произошедшие с ним перемены заставили Михаила по-новому взглянуть на давние отношения с Анной и задуматься о справедливости древней мудрости о никем и ничем неугасимой первой любви. Лизу Репнин любил искренне и, как казалось ему, глубоко, но того волнения, той ревности, тех мучений и сомнений, что владели им, когда все существо его пылало чувством к Анне, между ними не было. И князь порою замечал, что испытывает неловкость перед милой и преданной ему Лизой за размеренность и повседневность их брака. Их совместная жизнь была лишена того напряжения страсти, что прежде превращала его восхищение Анной в восторг, его благоговение перед нею — в священный трепет. А ее доверие к Михаилу укрощало дозволенность, перерождая потребность близости в желание не столько обладать, сколько поклоняться.
И вот они опять связаны — и сильнее, чем прежде, ибо отныне их отношения скреплены для Репнина были клятвою, данною им жене перед ее могилою в Двугорском, когда, оставшись на фамильном кладбище Долгоруких один, князь припал к холодному мрамору обелиска и зарыдал, впервые за много лет открыв свое сердце для столь бурного проявления эмоций. Так плакал он лишь тогда, когда прозрел и понял, что Анна любит Владимира. Князь будто прощался, как и много лет назад, с юношескими надеждами, понимая, что молодость прошла безвозвратно вместе с ее мечтами и безусловной верой в возвышенные и романтические чувства. Так прощался он и с иллюзиями, что женитьба на Лизе принесет ему полное и вечное умиротворение, ибо надеялся прожить с нею в горе и радости, пока смерть не разлучит их в старости — тихой и счастливой.
Но более невыносимым для Репнина было осознание того, что лучшей кандидатуры в приемные матери для его осиротевших без материнской ласки детей кроме Анны не было. И князь испугался, что ясность этой мысли прорвется даже через владевшую им скорбь, и потому в своих первых письмах к Анне старался не только подбирать слова, но и сдерживать самый ритм фраз, каковые могли бы выдать его истинные чувства и его готовность исполнить завещание Лизы. Для первого послания Репнин выдержал паузу, а потом с регулярностью, за которой читалась формальность обязательного, принялся писать ей, деловито осведомляясь о здоровье и учебных успехах мальчиков, желая благоденствия всем родным и близким и уповая на сердобольную натуру баронессы, каковая не позволит ей оставить его семью без внимания.
Анна отвечала ему скоро, и тон ее писем всегда был ровен, а слог благозвучен. Репнин понимал, что она стремится успокоить его, но невольно подпадал под обаяние этих строк и с каждым посланием становился все свободнее от прежних страхов. И оттого его собственные послания со временем стали теплее, все меньше и меньше напоминая официальные циркуляры и постепенно превращаясь из сообщений о перемене места в путевые заметки, наполненные живым юмором при описании равно как собственного служебного рвения, так и нелепого чрезмерного усердия нижних чинов перед государевым ревизором. В этих новых письмах появились и литературные зарисовки пейзажей неповторимой по своей красоте дальневосточной природы, пробудившей в Репнине давно дремавший поэтический дар, а потом естественно и неизбежно в них появилась и сердечная лирика.
Поначалу это были излияния души, только что пережившей утрату близкого существа. Но Репнин, скорее, не вспоминал Лизу — он живописал ее портрет, в словах и интонациях, создавая в своем воображении образ идеальной возлюбленной и совершенной супруги. Анна с пониманием вторила ему, подчеркивая те свойства характера сестры, которыми и сама всегда восхищалась, — целеустремленность, настойчивость, романтическую пылкость и самоотверженность. За давностью лет и под впечатлением трагических обстоятельств ее ухода Лиза представала в изображении мужа и сестры фигурой куда более возвышенной, чем была на самом деле. И неудивительно, что, в конце концов, Репнина потянуло к той, что продолжала оставаться реальной в реальной жизни. И однажды он открылся Анне, рассказав о завещании Лизы и желании его супруги соединить их после ее смерти.
Судя по тону письма, Репнин волновался, будет ли правильно понят: чуткий музыкальный слух Анны уловил рваный, встревоженный ритм этого признания, но в действительности она была счастлива, что князь решился-таки сделать его. Анну, с которой Лиза много раньше взяла слово стать женой Михаила, беспокоило то, что груз ответственности за выполнение этого обещания лежит единственно на ней. С одной стороны, она была рада, что, как ей казалось, никто более в эту тайну не посвящен, и намеревалась даже унести ее с собою, когда ей и самой придет срок уходить. С другой — Анна не могла исключить того, что Лиза вспомнила о взятом ею с сестры слове, когда писала прощальное письмо Репнину. И потому в молчании князя, с которым он осторожно обходил эту тему в своих письмах ей, Анне чудилась опасность — быть может, Репнин, всегда отличавшийся склонностью к мелодраме, вообразил, что Анна вознамерилась воспользоваться случаем и приобрести нового мужа «взамен» погибшего.
Подобная расчетливость не считалась в те годы чем-то предосудительным, и Анна боялась, что отдаление между нею и Репниным, укрепившееся за долгие годы разлуки, изменило не только его взгляд на их общее прошлое, но и на нее саму. Кто знает, действительно ли он простил Анну или затаил обиду: порой она думала, что стремление Репнина по возможности избегать слишком частого пересечения их путей вызвано не столько стремлением не беспокоить Лизу призраками прошлого, а желанием бежать, оберегая собственную душу от чувства, когда-то перевернувшего ее и оставившего в ней неизгладимый след. Однако признание, прозвучавшее в письме князя, успокоило Анну — Репнин писал, что более всего опасался потревожить ее верность памяти Корфа, объяснял, что не хотел торопиться, давая возможность им обоим заново привыкнуть друг к другу и осознать неизбежность предначертанного Лизой — а быть может, и самой судьбою! — объединения их семей.
Прочитав это письмо, Анна вздохнула с облегчением, но ответила на него не сразу. Разумеется, она понимала правильность решения Лизы, заботившейся не только о будущем своих детей, но и о них — Михаиле и Анне. Новый брак избавил бы их обоих от многих проблем, в том числе и от косых взглядов. В свете второе замужество для женщины, потерявшей супруга, считалось более естественным, нежели оставаться одной, даже если и вдовою. И тем более, женитьба была необходима для Репнина — семья являлась для дворянина столь же обязательным условием карьеры, как и военная служба. Однако неизбежность этого брака, очевидная для многих, пугала Анну своей неотвратимостью, и она стала искать утешения в советах и в разговорах с ближними.
И первой, с кем Анна поделилась своими сомнениями, была Варвара — старая нянька и поверенная во всех ее делах еще с юности. Ей Анна не только рассказала о клятве, данной Лизе, и предложении Репнина выйти за него замуж, но и впервые открыла тайну своего последнего свидания с княгиней Долгорукой. Узнав о заклятии, которым связала Мария Алексеевна Анну и Корфа, Варвара тихонько запричитала: «Свят, свят!», и, перекрестившись изрядно, заметно опечалилась. Набожная Варвара, тем не менее, как и все простые люди, верила в заговоры и цыган и немедленно вспомнила еще несколько случаев, когда чьи-то судьбы были сглажены, а сердца — зачарованы и разбиты. Вздыхая и охая, Варвара посетовала на то, что тетка Анны — Сычиха — ушла в монастырь и отреклась от прежнего дара, хотя вряд ли она помогла бы ее любимице в полной мере: цыганское заклятие могла снять только цыганка, а лучше всего — именно та, что колдовала по просьбе Долгорукой. Но, напугав Анну, как когда-то в детстве рассказывала сказки на ночь, — сначала застращав, а потом посмеявшись над нелепыми страхами, — Варвара велела Анне предложение Михаила принять: снимешь старое кольцо — старая печаль уйдет, а новое наденешь — новая жизнь начнется, убеждала нянька, кивая головой.
Анна слушала ее с благодарностью, но вполуха — мысли о Долгорукой растревожили ее. Мария Алексеевна, перенеся на Анну всю силу своей ненависти, испытываемой княгиней к ее отцу — своему мужу — и матери-крепостной, и впрямь стала злым гением бедной Насти, ее демоном, «дамой пик». Княгиня повсюду преследовала Анну в молодости, не отпуская и потом: едва не погубила Ванечку и не лишила имения. А теперь вот еще и это!.. Похоже, Варвара отнеслась к рассказу Анны о проклятии Долгорукой серьезно, и, если старуха была права, то свадьба с Репниным — не только логически обоснованный в глазах и мнении света здравомыслящий поступок, но и единственное спасение от кошмара заклятия и избавление от зловещей тени коварной княгини.
О предложении Михаила Анна написала и Наташе — расставшись с наследником и заторопившись со свадьбой, она немедленно уехала из Петербурга в имение мужа в Галичине, правда, виделась с ним редко: генерал командовал корпусом на южном фронте — первая Крымская война к тому времени вступила в свою решающую фазу, когда сделалось очевидным тяжелое положение русской армии, увязнувшей в героической, но гибельной обороне Севастополя. (Акмолинский, как говорят, был с красавицей-женой предупредителен, а сына ее почитал за родного.) Наташа, не утратившая живого интереса к делам государства и исполненная патриотических настроений, к сообщению Анны отнеслась довольно сдержанно и отвечала ей между прочим, вскользь упомянув в завершении своего многостраничного послания, посвященного размышлениям о войне и положении дел в России, что считает Анну существом, наделенным всеми теми качествами, каковые помогут ей, не преступая добродетели, найти верное решение, одинаково удовлетворяющее все стороны.
Приняв решение уйти от Александра, Наташа старалась изжить из своего сердца любые отголоски не только чувственности, но и чувства вообще. Ее супруг — человек, несомненно, достойный, но намного старше — не мог пробудить в еще молодой и энергичной женщине, кому на роду было написано блистать и покорять, той страсти, что укрепилась между нею и Александром в последние несколько лет. Оставив наследника, Наташа намеренно умертвила свою плоть, но немедленно попала под влияние силы, что является оборотной стороною медали, на которой золотыми вензелями начертано слово «Любовь». Превратившись в графиню Акмолинскую, Наташа приобрела свойства, типичные для кумушек-домоседок: она научилась брюзжанию и стала истинной пуританкой, считающей, что чувства лишь вредят женщине — внушают нелепые надежды и калечат жизнь. И потому к письму Анны Наташа отнеслась если не с небрежением, то с равнодушием — быть может, и намеренным, но слишком очевидным.
Анна знала — при дворе ходили упорные слухи, что наследник буквально разрывается между двумя фронтами (император назначил сына главнокомандующим гвардейским и гренадерским корпусами, вследствие чего Александр отвечал и за участие гвардии в крымской кампании, и за защиту балтийского побережья от Выборга до Невы) из желания оказаться вблизи Натали Репниной, но разговоры эти были безосновательны. Неугомонная в развлечениях и спорах, Наташа была непреклонна в принятых ею решениях. Да, Александр писал ей, но она сообщалась с ним так же сухо и доброжелательно, как ответила сейчас и Анне, скрываясь за холодностью тона и уклончивостью фраз, так что в порыве отчаяния наследник принужден был воззвать к недавней возлюбленной — «сердце мое разрывается от одиночества и горя», — но призыв этот не был должным образом оценен: Наташа не вернулась.
Это примирило бывшую фрейлину с ее госпожой, и Мария даже отправила как-то Наташе письмо с выражением искренней озабоченности о здоровье ее супруга, находившегося в самом центре военных действий. Репнина ответила вежливым пожеланием Ее высочеству благополучия — Мария опять ждала ребенка: она только что родила дочь, названную ее именем, и вот снова (спустя восемь месяцев!) в семье наследника ожидалось пополнение. Опытный придворный врач говорил, что на этот раз у Марии родится мальчик, и уже придумано для него было имя — сына намеревались крестить Сергеем.
То памятное письмо к Репниной было благородным и вполне искренним жестом доброй воли той, кто справедливо чувствовала себя обманутой — и как подруга, и как госпожа. Но, с другой стороны, Мария считала своим долгом объявить, что полагает слухи о поездках наследника на юг, дабы увидеться с Репниной под предлогом военной инспекции, оскорбительными, тем более, в такие тревожные и тяжелые для страны годы. В действительности жертва Наташи оказалась не напрасной, а война завершила освобождение Александра из-под гнета очередной любви. Целиком поглощенный государственными и семейными заботами, постепенно вытеснившими из души и сердца наследника образ прекрасной беглянки, Александр не то, чтобы забыл свое, еще недавно столь пылкое чувство, но удалил его в самые заветные уголки памяти, сохраняя чудесные воспоминания о Натали и продолжая жить без нее.
Размышления об участи княжны на какое-то время отвлекли Анну от ее собственных раздумий о предложении Михаила, и теперь, каждый раз спускаясь утром из своей комнаты в Зимнем в апартаменты Ее высочества, она думала — как могло случиться, что этот путь стал для Репниной крестным ходом? Как могла она, благоразумная и благородная, допустить, чтобы мукою для нее оказались встречи с той, кому княжна преданно служила многие годы? И кто виноват, что разрушена была самая завидная при дворе наследника дружба, — влюбчивый характер Александра, слабость душевной обороны Натали или причина в своенравном и искусительном чувстве, которое не знает сословных различий и правил?
Любовь? Что она — дар или испытание? Собственный жизненный опыт убеждал Анну в последнем — мир воцарился в ее душе и в семье, когда улеглись все волнения страсти. Но значит ли нынешнее спокойствие Репниной, что она излечилась, и сможет ли ее пример остановить Александра и навсегда вернуть его в лоно семьи? Анна знала: при всей своей внешней схожести с отцом, не симпатизировавшим впечатлительным натурам и не склонным к иным отношениям вне брака, кроме как необязательным, наследник был добр и жаждал постоянства — во всем, в том числе и в личных привязанностях.
Мария, однажды заметив сосредоточенность баронессы на своих мыслях, спросила, что тревожит ее верную фрейлину, и Анна вынуждена была укрыться от опасных расспросов, рассказав Ее высочеству о письме князя Репнина. И Мария оказалась единственной, кто заговорил с Анной о главном — о ее собственных чувствах, а не о логике и житейской необходимости.
— Полагаю, вы боитесь не того, чтобы вполне соблюсти общественные законы и приличия, — задумчиво промолвила Мария, внимательно выслушав Анну. — Мне представляется, что ваше волнение вызвано иной причиной: вас беспокоит, не окажется ли новый брак не просто формальным решением, а станет новым чувством — против того, что вы испытывали к вашему погибшему супругу, — и не слишком ли мало времени прошло, чтобы этому чувству прорасти и утвердиться.
Анна побледнела — чем больше она узнавала Марию, тем сильнее восхищалась ее проницательностью. И хотя между ними была разница почти в десять лет, Анна преклонялась перед умом и образованностью Ее высочества, но прежде всего почитала ее способность глубоко проникать в самые сокровенные мысли и поступки, казалось бы, на первый взгляд, необъяснимые и случайные, и находить для их объяснения и выражения единственно верные и точные слова.
С тех пор, как Мария приблизила Анну к себе, сделав своей камер-фрейлиной, они много времени стали проводить вместе — Анна сопутствовала ей в дни беременности и присутствовала при родах, сопровождала в неутомимых поездках с благотворительностью: Мария, следуя примеру Александры Федоровны, покровительствовала больницам и приютам, богадельням и нескольким благотворительным обществам, навещала с визитами гимназии и институты, в том числе и Смольный. И глядя, как Мария преодолевает прежний, юношеский, страх перед ответственностью роли будущей императрицы и едва поспевая в поездках за своей госпожой, Анна удивлялась — откуда в этой хрупкой, болезненной молодой женщине столько мужества и выдержки, помогавшей ей преодолевать и свою немощь (чахотка неумолимо овладевала слабым телом бывшей немецкой принцессы), и свое одиночество.
При ближайшем рассмотрении Мария оказалась существом, обладающим не единственно лишь тонкой душевной организацией, но и весьма требовательной в общении. Многим она казалась слабой и нерешительной, ее обществом часто тяготились и упрекали супругу наследника в чрезмерной гордости, но очень скоро Анна поняла, что причина склонности Марии к уединению — не в недостатках, а достоинствах ее натуры, главным из которых Анна почитала избирательность в дружбе. Мария не торопилась окружать себя большим количеством пустых и громкозвучных компаний, предоставляя свободное от семейных и государственных забот время встречам со своим духовником и разговорам с немногими приближенными к ней фрейлинами, к числу которых — самых доверительных — принадлежала и Анна.
Именно это, вполне осознанное стремление ограничить общение узким кругом избранных лиц вызывало негодование некоторых придворных, и Анна, как-то услышав фразу одного весьма влиятельного вельможи из окружения императора о том, что он сожалеет о будущем страны, на троне которой окажется столь анемичное и бесцветное создание, которое даже не способно долго удерживать вниманием нить разговора, не удержалась и вступилась за свою госпожу. «А вы не подумали, Борис Николаевич, о том, что, быть может, это просто вы настолько неинтересны Ее высочеству, что ей беседовать с вами тяжело и утомительно?» — спросила она и испытующе взглянула на говорившего. Царедворец тогда нахмурился, бросив на Анну гневный и весьма выразительный, негодующий ее вмешательством взгляд, но промолчал — сей господин и впрямь был известен своей бестактностью, и порой за исходящим из его уст словесным потоком забывался и сам предмет обсуждения, и тем более, сникал и стушевывался, независимо от ранга, его собеседник.
Анна не нашлась тогда, что ответить Марии на предположение о характере ее сомнений в ответе князю Репнину, но не признать справедливость слов Ее высочества она не могла. Доверительность отношений, вновь возникшая между нею и Михаилом, пусть даже в своем эпистолярном обличии, вернула Анну во времена далекие, но не забытые. И она в который раз вынуждена была признать, что чувства эфемерные, платонические имеют над людскими душами власть куда более существенную, чем те, что основаны на простых и понятных желаниях и говорящие на языке не флюидов, а плоти.
— Мне почему-то представляется, что однажды вы непременно захотите ощутить то, чего волею обстоятельств в свое время избегли, — завершила свою мысль Мария, расставаясь со своей фрейлиной: «До завтра!». Она со слов самой Анны наслышана была о ее мытарствах, начиная со дня памятного выступления на балу у Оболенского, и теперь увидела в происходящем между баронессой и князем Репниным не простое продолжение незавершенной когда-то любовной истории, а библейское возвращение на круги своя.
— Однако считается, что нельзя дважды вступить в одни воды, — с сомнением покачала головою Анна.
— Можно, если эти воды — божественные, — улыбнулась Мария, и Анна вздрогнула: она никогда не думала о своих отношениях с Репниным с этой стороны, потому как искреннее полагала, что ее предначертание — Владимир Корф. А может быть Мария права, и он был лишь испытанием, в то время как увлечение Михаилом являлось посланием небес — светлым, прозрачным и незамутненным реалиями земного бытия? И не станет ли это чувство ее возвращением к жизни, ее спасением от дурного глаза и истомившей душу печали об утраченной любви?.. Вернувшись домой и находясь под сильным впечатлением от разговора с Ее высочеством, Анна тотчас же села за ответ Репнину, в котором, поблагодарив Михаила за откровенность, признавалась в том, что Лиза взяла подобную клятву и с нее, и в завершении однозначно дала понять князю, что готова на еще одну попытку стать счастливой, а утром слуга отнес конверт, адресованный Репнину, на почту.
Однако через несколько дней Анна одумалась и от сделанного ужаснулась — как будто и не сама сочиняла отправленное письмо, и слова ей неведомо кто нашептал. Не то, чтобы Анна испугалась собственной откровенности — накануне ночью ей явился Владимир и, ничего не говоря, посмотрел на нее с такою укоризною, что Анна едва не разрыдалась во сне, а, проснувшись, долго не могла успокоиться. Но вернуть письмо уже не представлялось возможным, и Анна на несколько месяцев замерла в тревожном ожидании следующего послания князя. И теперь ею уже владело не стремление начать новую жизнь, а чувство вины перед памятью Владимира, которое росло в душе Анны с каждым днем, приближавшим получение ею ответа от Репнина.
Варвара, заметив, как побледнела и осунулась ее любимица, немедленно принялась ее пытать, что да почему, и, в конце концов, Анна поведала старой няньке и про разговор с Ее высочеством, и о явлении Владимира. Но, к удивлению Анны, Варвара истолковала сон по-своему:
— Ты, — сказала она, хмурясь сердито и назидательно, — не того боишься, Анечка. Твой враг — заклятие окаянной княгини. Владимира твоего уж нет, а то, что является тебе, так это значит — тянет и тебя с собою на дно, чтобы злодейство Марьи Алексеевны исполнилось. Она ведь не вашу свадьбу расстроить хотела, а вас обоих погубить, чтобы отомстить и супругу своему, твоему батюшке, а также и другу его верному, барону Ивану Ивановичу, упокой Господи их души!.. И коли ты не к сердцу своему, а к страхам прислушиваться станешь, ошибок много совершишь и ей осуществить задуманное поможешь. Только тебе в прошлом увязать не резон, тебе дальше жить следует, чтобы круг этот порочный разорвать и обрести свободу от заклятия. А чтобы мужа своего погибшего не пугаться до смерти, ты с ним заговори — да не сердито, а ласково, и проси, чтоб тебя благословил и не мешал, ради своей любви к тебе и ради деточек ваших. Но уж если по правде все говорить да по-нашему, по-простому на сон твой посмотреть, так это все к новостям — известие тебя ожидает. Скорое.
Анна вздохнула — если бы все так просто! Но Варвару послушалась, и с того дня стало ей и дышать легче, и сны уже не были больше такими тревожными. До нынешнего утра, когда, позавтракав, как обычно, легкой булочкой с джемом — привычка, привезенная ею из Франции, Анна попросила служанку (из новеньких, девушка приходилась Никите двоюродной сестрой: в благодарность за помощь в деле с самозванцем Анна выкупила ее у соседей, Завалишиных, которым Дарью в отместку Никите продала еще много лет назад Долгорукая) принести себе кофе в библиотеку, и, проходя мимо столика для писем, увидела только что принесенное письмо.
Странно, подумала Анна, когда первое волнение улеглось, и она разглядела надпись на конверте, почерк — не Михаила. Почерк вообще не был Анне знаком, и тревога, смешанная с любопытством, все же победила возникшее было сомнение — читать или не читать послание неизвестного ей корреспондента. Но когда она вскрыла конверт, то из него выпал еще один, надписанный рукою Санникова, и к которому был английскою булавкою прикреплен сложенный вдвое листок. Почерк на листке оказался тот же, что и на первом конверте, и выдавал в его обладателе не только недостаток образования, но и простоту происхождения — послание было составлено с усердием человека, редко прибегавшего к эпистолярному жанру, а буквы выводились его автором так ровно и бережно, как будто не только сам процесс, но и бумага, а также перо и чернила являлись для корреспондента величайшей ценностью.
«Ваше сиятельство, — прочитала Анна, — обеспокоить вас велит мне сострадание к тому, кто лежит в нашей больнице с сомнительными надеждами на выздоровление. Господин ученый был подобран в лесу близ сибирского тракта без дорожных вещей и документов и состоянием очень плох. А в сознание пришел и вовсе недавно, а то все бредил — однако же мысли его нам неведомы. Но днями очнулся и назвался Павлом Васильевичем Санниковым и просил написать вам как можно более срочно и дал для вас листки в конверте, каковые зашиты оказались у него за подкладкою сюртука, благодарение Господу, что одежду его сжигать не решились — мало ли как болезнь обернуться могла, думали — вдруг выйдет надобность опознавать. А так как нашелец наш теперь не безымянный и говорит, что вы — его надежда и благодетельница, сообщаю, что Павел Васильевич жив и поправляется. За сим остаюсь с нижайшим поклоном и почитанием Авдотья Тихоновна Щербатова, медсестра уездной Каменногорской больницы».
А Варвара-то оказалась права, отметила про себя Анна, закончив чтение, вот оно известие! Скорое, да только воистину тревожное.
Писем от Санникова, равно как и от младшей своей сестры Сони, коей Павел Васильевич вот уже много лет был верным пажом и обожателем, Анна не получала давно. Последний раз Санников присылал ей оказией свой дневник, который вел с того дня, как они вместе с Соней сошли на берег в Константинополе и повстречались в русской миссии с Анной.
Следуя, подобно Санчо-Пансе, за своей неутомимой спутницей, всегда полной устремлений узнать и запечатлеть в своих этюдах решительно все на белом свете, Санников создавал очаровательные эссе, в которых дух и обстоятельства авантюры и флирта, присущей темпераментной Соне, соседствовали с тонкими и детальными наблюдениями за жизнью различных экзотических мест на земле. И хотя резкие повороты в судьбе и географии путешествий сестры немного пугали Анну, в целом она читала дневники Санникова с наслаждением — и потому, что написаны они были легко и увлекательно, и потому, что беспокоиться за сестру, рядом с которой находился столь бескорыстно преданный ей человек, стоило лишь как за героиню плутовского романа: все равно заранее было известно, что выйдет она из любых испытаний победительницей.
Разумеется, Анну не могла не смущать та бесцеремонность, с которою Соня превратила очарованного ею молодого литератора в наперсника своих приключений, но Санников обычно выглядел таким счастливым в ее обществе и так явно сквозило в его записях восхищение объектом своего поклонения, что Анна поняла: просто этот человек умеет любить и главное — ждать, и надеялась, что однажды неугомонный темперамент сестры смягчится, и Соня сможет не только искать взглядом по сторонам в поисках необычного, а обратит, наконец, взор к ближнему своему и увидит рядом с собою любящее сердце и чистую душу.
Из дневника, присланного пару месяцев назад Санниковым, Анна узнала, что, вкусив все прелести паломнической жизни, Соня заскучала. Вдоволь насладившись возвышенными красотами Елеонской горы, сосен Синая и развалин старого Иерусалима и запечатлев их в своих картинах в водяной краске и маслом, Соня заторопилась домой. Усидчивая по природе лишь за мольбертом, она скоро утомлялась от долгих бесед о духовном и не могла долго поститься и соблюдать правила, которых от нее требовала роль паломницы. И потому, когда на горизонте Святых земель появились корабли французской эскадры, Соня благоразумно обратилась к Санникову с просьбой поторопиться с отъездом, что и было сделано им незамедлительно. И вскоре они уже плыли в Константинополь, где, дождавшись отбытия российского военного крейсера, взошли на его палубу, чтобы отправиться в Севастополь.
Соня любила Крым: его воздух казался ей целительнее французской и итальянской Ривьеры, а пейзажи — привлекательнее. В Крыму она чувствовала себя одновременно и дома, и в путешествии, ибо жемчужина русского юга не переставала удивлять ее открытиями — так много в Крыму было редких мест по красоте и соцветию красок. И когда корабль вошел в бухту Севастополя, Соня сентиментально прослезилась, положив голову на плечо Санникову, и Павел Васильевич какое-то время боялся пошевелиться, чтобы не упустить такое редкое мгновение счастливого единения со своей избранницей.
А потом началась осада. И Соня, несмотря на все уговоры своего спутника, отказалась уезжать, пока еще путь в Россию оставался свободен. По своему обыкновению она устремилась в самую гущу событий, разрываясь между полевым госпиталем, благотворительностью и зарисовками, из которых складывалась эпическая, но вместе с тем трагическая картина подвига русских солдат. Соня отдала все свои вещи обласканным ею семьям защитников крепости и сделалась самой заботливой сестрой милосердия в гарнизоне. Она с упоением принялась содействовать хирургам, и Санников не успевал порою уследить за ее тонкой фигуркой в длинном суконном платье с белым передником и белым платком с красным крестом на голове. И дабы не терять ее совершенно из виду, он и сам напросился помогать в госпиталь, согласившись носить раненых и убирать за ними.
Однако осада затягивалась, а приключение все больше перерастало в испытание. И хотя Соня не намерена была сдаваться, ее организм оказался неприспособленным для столь серьезных переживаний, и вскоре она слегла, а Санников превратился кроме всего прочего в сиделку, опекая и выхаживая ее. А когда в обороне противника образовалась брешь, пробитая упорными атаками из крепости, Санников вместе с Соней в числе других мирных жителей, были вывезены и тайными тропами переправлены в горы, откуда проводник вывел их к позициям русских войск за Херсонесом. Соня была плоха, но, хотя с трудом перенесла тяжелый переход, все беспокоилась, не пропала ли ее папка с рисунками, и умоляла своего спутника стать их душеприказчиком. Санников на эти слова внимания не обращал — не позволял Соне думать о худшем, не отходя от носилок ни на минуту и подбадривая ее.
Можно представить его потрясение, когда, едва оправившись от болезни, Соня вышла из Одесского госпиталя со словами — так куда мы поедем теперь? Санников, и сам едва державшийся на ногах, устало принялся уговаривать Соню к возвращению в Петербург, но она была непреклонна — ей опять хотелось на передовую. И первое, что сделала Соня после излечения, — устроила выставку и аукцион своих севастопольских зарисовок, передав впоследствии деньги, вырученные за экспозицию и проданные работы, семьям севастопольских беженцев, вывезенных вместе с нею и Санниковым. И лишь нервический обморок, приключившийся с ее верным телохранителем по причине крайней истощенности, на время остановил Соню — она вдруг поняла, что может потерять Санникова, и с усердием стала бороться за его жизнь. Разумеется, это еще не означало признания в любви, и, тем не менее, на краткий миг Павел Васильевич стал самым счастливым человеком на свете — дорогая его сердцу молодая женщина поила больного куриным бульоном, пичкала лекарственными порошками и меняла на голове холодную повязку. Увы! Идиллия была недолговечна: так как всё, что Соня совершала вне рисования, она делала с размахом, то вскоре Санников предпочел сказаться здоровым и возненавидел болезнь, чтобы не испытать ненависти к своему ангелу милосердия.
И все же передышка пошла ему на пользу — пока он поправлялся, Санников не только отдохнул и посвежел, но и написал тот самый дневник, который вскоре был отправлен им Анне. Прочитав его, Анна вздохнула — горестно за всех страдальцев Севастополя, облегченно за сестру: она была жива и в надежных руках. А потом опять долго не было писем — последняя весточка неожиданно пришла от Сони, что несколько насторожило Анну: писать сестра любила только маслом. В своем послании Соня сообщала, что встретила удивительного человека, голландского ботаника, который заворожил ее рассказами про тайны уральских гор, и она решила присоединиться к его экспедиции. Правда, в последних строках следовала приписка — Павел Васильевич тоже едет с нами, и взволновавшаяся было Анна успокоилась. И вот этот конверт!
Из листочков, которые лежали в письме Санникова, Анна поняла, что они вырваны были из его нового дневника, и, разглядывая неровные края бумаг, она сделала вывод, что тетрадь из рук Павла Васильевича, вероятно, вырвали, случайно оставив в намертво зажатом кулаке несколько фрагментов текста, которые он позже, по-видимому, успел разгладить и сложить в конверт, который, как потом заметила Анна, тоже был вырван из дневника Санникова, но, возможно, ранее: записей на нем не было, и сделал это, скорее всего, сам Павел Васильевич.
Составить полную картину произошедшего из попавших в руки Анны обрывков дневника было трудно. В одном фрагменте текста было что-то про ученого аптекаря Ван Хельсинга, искавшего в горах соцветия редких трав, прославленных в народной медицине своими исключительными целебными свойствами. В другом было дано описание какого-то места в горах — по ходу изложения Санников все удивлялся, откуда и чем питает свои воды роскошное озеро в горной котловине. Еще там попадалось упоминание старого скита и изумление прекрасным состоянием икон — точно кто-то берег их и следил, чтобы свечи не гасли, и это в непроходимой тайге?!
А вот сейчас Анна разволновалась по-настоящему. Как могло случиться, что Санников был найден в лесу один, и куда исчезла Соня? И что это была за экспедиция в такое время?! Война отнимала у страны все финансовые и человеческие ресурсы, а какой-то ботаник отправляется в горы за цветами для аптекарей? Вряд ли это могло быть военным заказом — спасти Россию могли не лекарства, а мир.
Анна не раз говорила об этом с Марией, хотя ей больше приходилось слушать, ибо она не была столь детально осведомлена, как была посвящена во все события Ее высочество. У Марии имелся свой взгляд на войну, и когда Анна с гордостью рассказала ей, какой овацией встретила публика в зале реплику героя из драмы Озерова «Дмитрий Донской», показанной днями в Александринском театре, — «Лучше погибнуть в бою, чем признать позорный мир!», Ее высочество лишь грустно улыбнулась и промолвила:
— Иной раз лучше позорный мир, чем полное уничтожение.
— Но имеет ли кто-либо право обрекать на позор народ, не спросив у него прежде, готов ли он к такой жертве ради спасения чести? — воскликнула Анна, удивленная пораженческими настроениями своей госпожи.
— Наша беда заключается в том, — вздохнула Мария, уже давно и в вере своей, и душою ставшая русской — даже более русской, нежели иные, исконные, — что мы вынуждены молчать. Мы не можем сказать народу, что эта война началась совершенно глупо, бесцеремонным захватом Дунайских княжеств. Что велась она вопреки здравому смыслу, что страна была не готова к ней, не имея достаточного количества оружия и боеприпасов, что у нас плохо организовано управление на всех уровнях и слишком мало порядка. Что наши финансы на исходе и что наша внешняя политика уже давно проводится в неверном направлении, и что все это привело нас в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся…
Сохранив откровения Марии в тайне, Анна, тем не менее, преисполнилась тогда великой печали, запомнив сказанные Ее высочеством слова, — они были полны горечи и столь глубокого сожаления, что заставили Анну смотреть на происходящее и думать о нем иначе. И вот в такое-то время — ботаническая прогулка? Это было совершенно несвоевременно, и, следовательно, — в высшей степени подозрительно. И потому назавтра же Анна отправилась навести справки об этой странной экспедиции.
Она надеялась найти ответ в Университете, но там ничего не слышали ни о Ван Хельсинге, ни о поисках целебных трав в уральских горах. Декан посоветовал Анне обратиться в Департамент землепользования, но и там на расспросы Анны лишь развели руками. Разочарование ждало Анну и в Русском географическом обществе. Сообщение Анны о неизвестной экспедиции вызвало крайнее удивление чиновников, категорически отрицавших не только факт подобного предприятия, но самую возможность его проведения в военное время. Впрочем, высказал свое предположение один из сотрудников Общества, вполне вероятно, что поездка составлена и оплачена могла быть кем-то из иностранцев, содействующих развитию науки в России, и порекомендовал продолжить розыски по линии Министерства иностранных дел… Уходя, Анна почувствовала на себе сочувственные взгляды чиновников и поняла, что они посчитали ее за сумасшедшую, однако мысль об иностранном ведомстве показалась ей интересной. И Анна написала министру Титову, с которым познакомилась в Константинополе, с просьбой принять ее. Ответ последовал на следующий день — Владимир Петрович приносил извинения, что ввиду своей исключительной занятости государственными делами не может выслушать баронессу в личном порядке у себя дома, и просил Анну завтра приехать в ведомство Нессельроде. Встречавший ее чиновник с предупредительной вежливостью проводил гостью министра в его кабинет, и Титов с искренней сердечностью вышел ей из-за стола навстречу и, поцеловав руку, предложил сесть.
Какое-то время они вспоминали недавние события, разгоревшиеся вокруг похищения Вифлеемской звезды, потом Титов осведомился о ее службе при дворе, проявив при этом замечательную осведомленность, и, лишь еще раз сделав круг словесных реверансов в сторону своей гостьи, спросил, по какому вопросу баронесса решила обратиться к нему, а, узнав, в чем дело, тотчас же вызвал звонком помощника и велел ему выяснить, сможет ли сейчас принять Анну его коллега по департаменту.
— В ведении полковника — все иностранные лица, приезжающие в страну для осуществления научной деятельности, — пояснил Титов, — уверен, Сергей Игнатьевич окажет вам всемерное содействие в этом вопросе.
Однако вопрос, заданный Анной, коллегу Титова не только не удивил, а насторожил. Она не увидела этого на лице полковника Велехова — гладко выбритом и непроницаемом, не услышала в интонациях голоса — ровного и бесцветного, но каким-то шестым чувством поняла — что-то случилось, и от того серьезно встревожилась. А когда чиновник осторожно принялся расспрашивать ее о подробностях полученной ею информации — когда, при каких обстоятельствах и из чьих рук, — Анна не просто укрепилась во мнении, что здесь не все чисто, а уверилась, что обратилась точно и пришла по адресу. И, тем не менее, заинтересованно расспросив Анну и получив ответы на все свои вопросы, полковник развел руками — это какое-то недоразумение, и вряд ли мы способны вам помочь. Никакого Ван Хельсинга среди иностранцев, пересекавших российскую границу за последние несколько лет, зарегистрировано не было, сказал Анне полковник, даже не потрудившись хотя бы для видимости свериться с официальными документами. Нет, он просто объявил — такой фигуры в природе не существует, а что касается присланных ей фрагментов из дневника, то вряд ли их можно считать сколько-нибудь серьезным доказательством.
— Подозреваю, что господин Санников, будучи известным литератором, работал над созданием нового романа, — успокаивающе улыбнулся Анне полковник Велехов, — в будущем, уверен, он займет достойное место в нашей литературной табели о рангах. И сюжет, который вы мне поведали, представляется интересным своевременностью — мы все так устали от военных сводок, что авантюрная повесть о приключениях пропавшей в тайге, почти в джунглях, экспедиции может отвлечь читателей от обсуждения ужасов сражений и созерцания наших военных неудач.
— Вы полагаете, Сергей Игнатьевич, что за написание авантюрного романа убивают? — с неподдельной наивностью спросила Анна.
— Вполне возможно, господин литератор стал жертвой разбойного нападения, — пожал плечами чиновник и сочувственно спросил. — Разве положение господина Санникова совсем уже плохо?
— По крайней мере, так мне сообщили из уездной больницы, где сейчас и находится Павел Васильевич, — не удержалась от нотки упрека Анна.
— Вот видите, господин Санников не одинок — он в руках наших славных эскулапов, — снова добродушно улыбнулся ее собеседник. — Полагаю, вам следует хорошенько отдохнуть и дождаться возвращения, как вашего подопечного, так и вашей сестры. Уверен, в самое ближайшее время все разрешится, и вы поймете, что волновались напрасно…
Однако посещение высокого кабинета не только не вразумило и не успокоило Анну, а, наоборот, заставило принять немедленное решение, и она, в тот же день появившись во дворце, поведала странную историю исчезновения Сони ее высочеству и умолила Марию отпустить ее на поиски пропавшей сестры. Мария не только приняла близко к сердцу рассказ Анны, но и добилась от Александра бумаги из канцелярии, которая указывала станционным смотрителям содействовать перемещениям ее обладателя, а уездным чиновникам — оказывать всемерную помощь, ибо все, что делает податель сего документа, делается им во славу и на благо государства.
Самым сложным оказалось убедить детей, что этот отъезд — ненадолго, но здесь Анне, как всегда пришли на помощь Татьяна с Никитой, забрав всех с собою в Двугорское. Никита, правда, хотел ехать с Анной, но она отказалась — там, в Каменногорске ее ждал Санников, а лучшего провожатого и попутчика стоит ли желать? Варвара тоже сердилась, говорила — может, стоит написать князю Репнину, пусть он вернется и поедет вместе с ней. Ох, и умная же ты, Варвара, улыбалась Анна, обнимая старую няньку на прощание. И младенцу видна твоя военная хитрость — дождаться суженого, чтобы потом еще больше сблизиться с ним за время поисков! Нет, не получится твое сватовство — князь далеко, а Соня в опасности — здесь и сейчас. И Анне надо торопиться ей на выручку.
Ночь перед отъездом выдалась бессонная. С одной стороны, Анна измучилась думами о детях, опять переживающих отъезд матери, с другой — кто еще, кроме нее способен был защитить сестру от опасности, в которую она попала. И, наконец, существенным представлялось Анне еще одно важное соображение — она уезжала из Петербурга, не дождавшись письма от Михаила и не чувствуя за собою в том никакой вины: менее всего она желала бы сейчас получить от него весточку или, что еще хуже, встретиться с ним. Анна не исключала и того, что Репнин, получив ее согласие, мог решиться приехать за нею немедленно или назначить дату ее приезда к нему. Но Анна ничего не хотела решать — она была еще не готова к тем переменам, что могло внести в ее жизнь предложение Репнина. И потому отъезд был скорее похож на бегство, и лишь одна Варвара, кажется, о том догадалась.
Ночь, и без того по-летнему краткая, на сей раз как будто и не собиралась уходить. Анна уже несколько раз принималась засыпать, но все крутилась с боку на бок под одеялом, испытав волнение, сравнимое с давним ощущением, пришедшим к ней, когда она отправлялась на поиски Владимира. Анна не знала, что ее ждет, но чувствовала — жизнь приготовила для нее очередное испытание, и Анна была благодарна судьбе за него. Она хотела выиграть время и потратить его на размышление о правильности своего поступка — Анна думала лишь о своем письме Михаилу: уж лучше отправиться, на поиски пропавшей экспедиции, чем держать ответ перед Репниным, которому она так неосмотрительно сказала «да».
Однако боевой дух Анны задет был случайной сценою, произошедшей между нею и станционным смотрителем в последнюю пересадку перед сибирским трактом. Документ из канцелярии наследника, предъявленный Анной, произвел на почтового чиновника должное впечатление, и за нею оставлено было место в ближайшей карете, отправляющейся в искомом направлении. Но, провожая Анну к экипажу и помогая ей подняться по ступенькам в салон, смотритель вдруг тихо сказал:
— Не ездили бы туда вы, ваше сиятельство.
— Что-что? — не сразу поняла Анна и с удивлением взглянула на смотрителя, пытаясь понять — с нею ли он говорит, и не ослышалась ли она. — Отчего вы знаете, куда я еду?
— Этого я не знаю, — еще тише промолвил смотритель, пряча от Анны глаза.
— А что вы знаете? — нахмурилась Анна, и сердце ее сжалось от недоброго предчувствия.
— Только то, что велено, — пожал плечами смотритель и повторил, — велено сказать вам, чтобы никуда не ездили и возвращались домой.
— Кем велено? — растерялась Анна.
— Не велено говорить…
Глава 2
Таежные тайны
— Вам кого? — глядя на Анну по-взрослому исподлобья, спросил белобрысый мальчишка лет двенадцати. Его веснушчатая любопытная физиономия просунулась в приоткрывшийся во двор проем двери после того, как она трижды с силой постучала тяжелым металлическим кольцом замка, с внешней стороны высоких деревянных ворот служившим одновременно дверной ручкой и колокольчиком при входе.
— Здесь живет Авдотья Тихоновна Щербатова? — спросила Анна, стараясь улыбаться как можно дружелюбнее и расположить к себе тем самым подростка, который явно хотел казаться старше своих лет и оттого старался хмуриться и нагонял на лицо мужскую суровость.
— А то, — кивнул мальчик, отталкивая ногой мохнатого двухмесячного щенка, беззаботно прыгавшего вокруг него и норовившего уцепиться мелкими крепкими зубками за штаны своего хозяина; недовольный, что им пренебрегают, щенок время от времени прикладывался покусать носки хромовых сапог мальчика или принимался тереться спинкой об их шершавую поверхность. — Вы к мамке чего ли? Так она к брандмейстерше Пичугиной пошла за травным настоем. Ждать станете или дорогу показать?
— Я бы подождала, — улыбнулась Анна, оглядываясь на стоявшего за ее спиной возчика в поисках помощи, и тот, неодобрительно покряхтев, выступил вперед.
— Вы, ваше сиятельство, не обессудьте — мы здесь живем дружно, да только места-то у нас все больше казенные, рядом тракт этапный, так что и беглецы бывают, и стреляют иногда, вот и сторожимся порой. А ты, малой, дверь зачем городишь? — сердито спросил он подростка. — Не видишь, ее сиятельство издалека, из самого Петербурга пожаловали, мать твою видеть хотят. Давай, отворяй ворота, прояви гостеприимство.
— Из Петербурга? — мальчик недоверчиво посмотрел на нежданную гостью, уж больно одета она была скромно, как будто и не важная персона, но потом взглянул на возчика и, поймав его сердитый жест, — мужик пригрозил ему сложенным вдвое кнутом, широко распахнул дверь перед Анной. — Чего уж там, проходите, только я правду говорю — ушла мамка.
— А когда вернется, не сказала? — кивнула Анна, проходя во двор и немедленно попадая в игру, затеянную неугомонным щенком, на что возчик, перепуганный, как бы пес не попортил ее сиятельству платье, бросился щенка отгонять. Но не тут-то было, пес немедленно переключился на нового игрока, и сцена эта смотрелась со стороны столь потешно и мило, что Анна невольно рассмеялась — характерным, серебристым смехом. И тотчас же к ней через открытое окно прорвался знакомый голос — в глубине проема в комнате Анна разглядела лицо Санникова.
— Анастасия Петровна! Голубушка!.. Николай, как же так, почему ты стоишь, веди гостью в дом и поскорее!
— Да сейчас мы, сейчас, — мальчик недовольно свел брови и насупился, проходя вперед и указывая Анне дорогу по деревянным мосткам, проложенным через двор к дому.
— Так мне двигаться, — остановил Анну возчик, — или подождать?
— Подождите, уважаемый, — попросила Анна, подавая возчику деньги, — пока я не знаю, поеду дальше или останусь здесь.
При этих словах мальчишка обернулся от крыльца, и по тому, как тревожно расширились зрачки его глаз, Анна поняла, что мальчик ревнует, — похоже, Павел Васильевич пришелся в этой семье по душе, и подросток боялся, что Санников когда-нибудь покинет их. Анна подумала — какой же светлый человек Павел Васильевич, у него поистине редкий дар внушать доверие даже совершенно незнакомым людям (а главное — он никогда не обманывал этого доверия!) — и, вздохнув, поднялась в дом следом за мальчиком. Возчик же, поклонившись барыне, вышел за ворота, с трудом отбившись от жизнерадостного щенка, норовившего прошмыгнуть меж его сапог на улицу.
— Анастасия Петровна! — Санников не без напряжения потянулся руками к своей гостье со стула, поставленного, по-видимому, ради него у окна, — Анна заметила, что стол был сдвинут в угол, а Санников, укутанный в набивное лоскутное одеяло, сидел, опираясь локтями на низкий подоконник. — Вы уж простите, что я так вот сижу здесь, дышу свежим воздухом.
— Павел Васильевич, дорогой, — Анна заторопилась ему навстречу, ободряюще пожимая приветственно протянутые к ней ладони, — не спешите, не вставайте, а воздух — он просто необходим, вам сил надо набираться. Я знаю.
— Николай, — Санников с благодарностью кивнул Анне и обратился к мальчику, — познакомьтесь — баронесса Анастасия Петровна Корф. Я был бы счастлив называть ее своим другом, но это слишком большая честь, которую, как мне кажется, я еще не заслужил.
— Что вы, Павел Васильевич, — не без мягкого упрека покачала головою Анна, — и уже давно…
— Нет-нет, — прервал ее Санников, — я не достоин вашей дружбы, я виноват перед вами — не уберег Софью Петровну, не уберег.
— Что вы хотите этим сказать? — побледнела Анна, и Санников, спохватившись, стал ей немедленно объяснять:
— Разминулись мы с нею, и сам не пойму, как это случилось. Вы только плохого не думайте — я всего лишь не могу сказать вам, где она сейчас, а возможности искать Софью Петровну у меня не было.
— Я знаю — на вас напали, — кивнула Анна, облегченно переводя дыхание, — она едва не лишилась чувств, принимая слова Санникова слишком прямо. Анна хотела было продолжить расспросы, но вдруг дверь в горницу опять растворилась и на пороге появилась высокая статная женщина с русой косой и заметными зелеными глазами и уважительно поклонилась своей гостье.
— С приездом, ваше сиятельство! Не удивляйтесь, это мне возчик Тимофеев сказал, что вы приехали. Давайте знакомиться, Авдотья Щербатова, это я писала вам, — женщина заговорила низким, грудным голосом, и тотчас же Анна почувствовала, как волнение оставляет ее, — все в облике хозяйки дома внушало спокойствие и уверенность, и она немедленно взяла власть в комнате в свои руки, — надеюсь, дорога не слишком утомила вас? А стоять ни к чему — дню еще долго идти, садитесь, садитесь, вот здесь у стола. Николай, так-то ты гостей привечаешь? Почему кипятку не согрел, чаем людей не угощаешь? А вы, Павел Васильевич, сильно-то не раскрывайтесь, ветерок сегодня прохладный — вам простудиться не резон.
Слушая Авдотью, Анна невольно разулыбалась — чем-то эта женщина неуловимо напомнила ей Варвару: та тоже умела разом и детей успокоить, и тревоги усмирить, и настроение поднять. И вот уже мальчик принялся стучать крышками и ведрами в кухонном закутке, а Санников шутливо поднял вверх руки, показывая — сдаюсь, сдаюсь на милость победителя.
— Вы простите, что я приехала без предупреждения, — начала было Анна, но Авдотья отмахнулась:
— А мы вас все равно ждали, я уверена была — если письмо до адресата дойдет, значит скоро и сама баронесса нас навестит. Только вы не сказали, ваше сиятельство, остановились-то где?
— В том-то и беда, — развела руками Анна. Дорога на самом деле выдалась не из легких, и хотя Анна, пользуясь своею грамотой из канцелярии Александра, добралась почтовыми до уездного центра по российским меркам довольно быстро — за месяц, но неожиданно столкнулась в Каменногорске с препятствием. Оказалось, что в единственной трехэтажной гостинице города, примыкавшей к зданию городского клуба, не было мест. Извинявшемуся перед нею в самых изысканных выражениях клерку Анна не поверила, но потом вышедший к высокой гостье хозяин объяснил — в городе открывается осенняя ярмарка, и в Каменногорск со всей губернии съезжаются купцы. Но все бы еще ничего, да устроители ярмарки — Сибирское торговое общество — пригласили на эти дни в уезд знаменитого иностранного мага, и потому посмотреть на него народу собралось невидимо, и все билеты на представления раскуплены. Хозяин — дородный с окладистой, но ухоженной бородою человек — предложил Анне помочь подыскать для нее квартиру, а пока уговорил оставить вещи в гостинице и вознамерился проводить ее в ресторацию при городском клубе, но Анна от обеда отказалась: пока для нее подыскивалось жилье, она решила навестить Авдотью Щербатову и, попросив клерка распорядиться хранением ее багажа и найти для нее извозчика, отправилась в нанятой пролетке в уездную больницу. Там ей объяснили, где живет медсестра, и возчик, со знанием дела хмыкнув в ус, повез Анну, куда сказано.
— Вот что, — решительно заявила Авдотья, выслушав горестное повествование своей столичной гостьи, — не надо вам возвращаться в гостиницу. Дом у нас, конечно, небольшой, но уж как-нибудь поместимся, в обиде никто не останется — ни Павел Васильевич, ни вы, а нам и подавно веселее будет.
— Но, — попыталась возразить ей Анна, — мне не хотелось бы стеснять вас, к тому же я не могу с уверенностью сказать, сколько пробуду здесь.
— Живите столько, сколько потребуется, я для вас свою комнату отведу, а мы с Николенькой вместе на печке поживем, — кивнула женщина. — И отказа не приму, обижусь. А вот и чай! Спасибо, сынок, сейчас я еще варенье на стол поставлю, а ты пока до возчика добеги — скажи, пусть возвращается в гостиницу да ее сиятельства вещи сюда привезет.
Подкрепив гостью чаем с вареньем, Авдотья велела сыну садиться в горнице за уроки — больно много книг велено прочесть ему было за лето, а сама принялась хлопотать по хозяйству и с обедом. Анна же помогла Санникову вернуться в комнату, где он жил вот уже недели две, — Павел Васильевич шел медленно, опираясь на ее руку, и Анна с горечью почувствовала, насколько он еще слаб. Поправив под его спиною подушки повыше, чтобы сиделось удобнее, Анна и сама присела на край кровати со словами — «не томите, Павел Васильевич, рассказывайте». Санников вздохнул и начал свое печальное повествование…
В какой-то момент ему показалось, что Соня готова вернуться в Петербург: они выехали из Одессы на перекладных и последнюю большую остановку сделали в Москве, где их принял давний университетский знакомый Санникова — Матвей Кулебяка. Правда, теперь он носил звучное сценическое имя Максим Собянин — у приятеля Санникова еще в годы учебы обнаружился красивый сочный бас, и он с удовольствием пел для коллег на вечеринках и по праздникам в церковном хоре Исакия, как называли меж собою студенты главный столичный храм. А как-то раз Кулебяку пригласили спеть в любительской опере, где его исполнение партии Дона Базилио в «Севильском цирюльнике» произвело столь неизгладимое впечатление на публику, что самодеятельный спектакль отрецензировала «Северная пчела», и Матвей немедленно вообразил себя звездою. Однако чопорная и регламентированная столичная богема не торопилась принять в свои ряды нового волонтера, и Кулебяка уехал поступать в Московскую консерваторию, по выпуску которой держал экзамен в репертуарной опере московского Большого театра и был по результатам конкурса принят в труппу стажером со сценическим псевдонимом Максим Собянин. Успех, как это обычно и бывает, пришел к начинающему певцу по случаю — в последние дни перед премьерой нового спектакля заболел солист основного состава, и на следующее утро после премьеры Максим проснулся знаменитым. Ему посвятили свои восторженные отклики «Пантеон русских и зарубежных театров», «Литературная газета» (эту статью написал о друге Санников), «Московский вестник» и все та же «Северная пчела». Под занавес сезона из Большого петербургского — Мариинки — Максиму пришло приглашение на прослушивание, но, удовлетворившись самим фактом выступления на сцене театра, когда-то обидевшего его своим невниманием, новоиспеченный премьер вернулся в Москву, где отныне жил постоянно, но не часто, потому как уезжал на гастроли и по России и за рубеж — Максима Собянина охотно звали и в Париж, и в Вену, а незадолго до войны он вернулся из концертного тура по Италии, где его голос был оценен по достоинству и сразу несколько ведущих педагогов бельканто вызвались наставлять его. Максим, так он просил теперь называть его повсеместно и даже друзей, подучиться вокалу согласился, но прожил в Италии недолго — как истинный патриот и православный христианин он почувствовал себя оскорбленным за предательское поведение Европы по отношению к России в ее споре с османами и вернулся на родину. И сейчас много разъезжал по стране с благотворительными концертами, собирая деньги для нужд русской армии.
Санникову повезло — во время их приезда в Москву его друг был дома: Собянин снимал в самом центре в здании по Тверскому тракту роскошную квартиру, а отдыхать после спектаклей и гастролей отправлялся в Алексеевское, где купил небольшое поместье — доходное и в хорошем состоянии. А потому широким жестом предложил бывшему соученику место жительства на выбор, но Соня всегда боялась глухих мест — она обожала городскую суету с ее премьерами, приемами и вернисажами, и Максим любезно отвел им две комнаты в своей квартире. Надеюсь, мой зычный глас не будет для ушей милой дамы слишком обременительным, улыбнулся он, галантно целуя Соне ручку, — несмотря на свою славу и признание, Максим продолжал постоянные занятия, начиная день с распевки и повторения исполняемых им партий. На что княжна с очаровательной улыбкой ответила — по мне лучше гаммы с утра, чем деревенская скука. Собянин рассмеялся и подмигнул Санникову: Максим нисколько со времен учебы не утратил ни своего добродушия, ни прямоты суждений. Позже на ушко он искренне поздравил Санникова с женитьбой и был страшно удивлен, что Павел и княжна — только друзья, давние и хорошие — но друзья. Полагаю, причина тому — не твое скромное происхождение? — спросил он Санникова, и друг покачал головой — если бы!
Увы, Соня, высоко ценившая его преданность и безусловность своих желаний для Санникова, увлекалась всегда другими и каждый раз, замечая грустный взгляд, который тот бросал на ее очередной предмет обожания, говорила своему верному спутнику: ах, Павел Васильевич, да перестаньте же вы бояться призраков — все это так несерьезно, просто мне необходимо кем-то восхищаться, но быть постоянной в своей привязанности, как вы, я не могу — мне всегда нужны новые впечатления. Санников, конечно, ей не поверил и не без обиды намекнул, что, возможно, причина в другом — в разнице их положения в обществе. Соня посчитала его слова за оскорбление и неделю дулась на Санникова и с ним не разговаривала, но потом простила и, горестно вздохнув, призналась: милый вы мой, Павел Васильевич, дело не в вас, я и сама не знаю, в чем дело; возможно, я просто не выросла до серьезных отношений, но, если вы настроены решительно, не торопите меня, подождите, возможно, однажды наступит такой день, когда я приду к вам и скажу — я устала от ожидания воплощения несбыточных мечтаний о прекрасной и необыкновенной любви, я поняла, что такой любви не существует, и я согласна отдать руку и сердце тому, кто, пусть и не вдохновляя меня на сумасбродства и подвиги, служит мне бескорыстно и преданно, и всегда будет служить.
Сказав это, Соня припала к груди Санникова и разрыдалась. Павел Васильевич, осторожно поцеловав ее в макушку, долго гладил, словно маленькую, по голове и все говорил — разумеется, я подожду, вы только не беспокойтесь, Софья Петровна, по моему поводу, я умею быть терпеливым, и когда-нибудь у нас с вами все будет хорошо. Но думал Санников иначе — человек тонкий и чуткий, он прекрасно понимал, что день, о котором говорит Соня, настанет или слишком поздно, или не настанет никогда. В глубине души он опасался, что именно тогда, когда Соня окончательно отчается и перестанет верить в сказки, появится тот, кто не просто покорит ее воображение, но и уведет за собой, быть может, безвозвратно. Но все равно бросить Соню было выше его сил, и Санников продолжал следовать за нею повсюду — беречь и охранять. Для кого, стало ясно в Москве.
В неделю до намеченного ими отъезда в Петербург Собянин пригласил их в театр. Для него спектакль не был премьерой, но в тот день в Большом пел заезжий голландский тенор — на гастролера собиралась вся московская знать и богемная публика. Санников идти отказался — в его голове созрел замысел романа, и он не хотел прерывать работу над ним. Настоящую литературу он писал не часто — его главными жанрами были эссе и критические статьи, но как-то ночью — самое любимое время для творческих размышлений! — ему перед сном, в тумане полудремы привиделся вдруг сюжет о молодом писателе, который волею обстоятельств оказывается втянутым в семейную интригу некоего графа или князя, разыскивающего свою сбежавшую от его дурного нрава дочь, потому как — игрок, а деньги, причитающееся внучке от дедушки-миллионера, без нее получить он не может. Разумеется, идея еще была сыра, но, тем не менее, Санников не хотел ради веселого времяпровождения в компании всегда шумных поклонников Собянина упустить нить повествования, каковое при тщательной разработке могло стать уж если не шедевром, то, непременно, — бестселлером. И Санников остался в тот вечер дома. А назавтра его слух уловил в заобеденной болтовне поздно вставшей Сони новое имя — Ван Хельсинг.
Павел Васильевич тотчас же почувствовал опасность — Соня и говорила, и восхищалась новым знакомым совершенно иначе, чем своими прежними обожателями, да и по мимолетному замечанию очередной кумир мало походил на ее предыдущих поклонников. А главное — Соня категорически заявила, что намерена задержаться в Москве еще на какое-то время, и единственная определенность, которую услышал в интонациях ее голоса Санников, означала только то, что их отъезд и его направление отныне целиком и полностью зависит от сроков и географии перемещений господина Ван Хельсинга. Кто он такой? — спросил Санников у своего друга, и тот удивленно пожал плечами — понятия не имею: на вечеринке, устроенной в честь голландского солиста, было много малознакомых ему людей, в том числе и со стороны гастролера. Прием удался — Собянина просили петь на бис, не реже, чем его иностранного коллегу, и какой-то ювелир, выходец из Голландии, но уже давно живущий в России, преподнес им по памятному портсигару с алмазной осыпью. Но какой-то Ван Хельсинг, — смущенно развел руками Максим, — не помню, Павел, убей Бог, не помню!
Между тем Соня, почувствовав настороженность в расспросах Санникова, затаилась, что еще больше укрепило в нем мысль — что-то в истории этого нового знакомства неладно. И когда в очередной раз Соня засобиралась на прощальный концерт голландского тенора в Московском музыкальном обществе, Санников самым решительным тоном заявил о своем праве сопровождать ее. Соня, искоса поглядывая на не без иронии наблюдавшего за этой сценой Собянина и дабы избежать дальнейшего скандала, вынуждена была согласиться и кивнула — хорошо, после чего они все вместе отправились на концерт. И уже, поднимаясь по широкой лестнице в фойе главного зала консерватории, Санников почувствовал, что невольно волнение Сони передается и ему: она явно кого-то ждала и искала взглядом, как будто невзначай рассматривая собравшуюся публику.
После концерта избранные, а в их числе и гости Собянина, были званы в банкетный зал, где уже собралось довольно много приглашенных. Соня немедленно растворилась в толпе, переходя от группы к группе и явно продолжая свои поиски. И Санников, пытаясь угадать, кого она ищет, принялся расспрашивать Собянина о тех, кто привлек его внимание — тех, к кому подходила Соня, но он все время ошибался: два лица, отмеченные проявленным к ним Соней интересом, оказались репортерами, еще один — критиком, а другой — консерваторским педагогом и по совместительству чиновником Музыкального общества. Наконец, в ответ на следующий вопрос Санникова об очередном незнакомце в группе окружавших гастролера людей Собянин пожал плечами и сказал — наверное, кто-то из голландцев. Молодой человек был очень красив — черные волнистые волосы, обрамлявшие белое лицо, на котором картинно выделялись дюреровские тонкие усики и гладкая острая бородка, и Санников вздохнул с облегчением: незнакомец был слишком похож на все прежние привязанности Сони и вряд ли мог представлять для него серьезную угрозу. Но потом мимоходом выяснилось, что молодой человек — сын того самого ювелира, одарившего Собянина портсигаром, а Ван Хельсингом звали невысокого белокурого мужчину, все время стоявшего к Санникову спиной. И когда, дабы рассмотреть его, Павел Васильевич, обошел группу голландцев и разглядел-таки человека, которому принадлежало столь надоевшее за эти дни имя, Санников понял — все, вот и сказке конец.
Ван Хельсинг не блистал красотой — его внешность была ничем не примечательна, за исключением разве что удивительной синевы зрачков, которую он старательно прятал, часто опуская взгляд, чтобы не беспокоить собеседника его проницательностью. Говорил он негромко, но по тому, с какой непринужденностью этот человек переходил с родного языка на русский, а потом на французский и немецкий, при этом не бравируя, но явно демонстрируя свое знание итальянского, Санников оценил образованность незнакомца и его умение легко находить темы для общения с самыми разными людьми. Но вместе с тем он заметил, что Ван Хельсинг ни в одной группе приглашенных долго не задерживался, входя в каждый новый круг естественно и исчезая из него без последствий для разговора. Его волнение Санников, осторожно и издалека наблюдавший за голландцем, заметил лишь однажды и сразу же догадался — Ван Хельсинг увидел Соню и заторопился уйти. Такой поворот событий Санникова удивил — он знал: обычно за княжной вереницею ходили поклонники, но чтобы тот, кому она уделила внимание, бежал от нее?
И здесь Санников заметил, что уловка голландца не удалась, — их с Соней пути пересеклись, и Ван Хельсинг вынужден был приветствовать княжну. После чего они уединились в одной из ниш в коридоре перед залом, где присели на банкетку: по ходу голландец остановил проходившего мимо официанта с шампанским и, сняв с подноса для Сони фужер, подал ей его, а потом они стали разговаривать.
Санников, покрывшийся румянцем от неприятного ощущения непривычной ему роли соглядатая, посматривал на них из-за колонны при входе в зал и с каждой минутой проникался все большим негодованием. Со стороны общение Сони с голландцем напоминало знаменитую пушкинскую сцену первого объяснения Татьяны и Онегина, и к моменту ее завершения Санников преисполнился к голландцу столь сильного негодования, что с трудом удерживался от вмешательства в его разговор с Софьей Петровной. А когда тот, оставив побледневшую Соню в одиночестве и с глазами полными слез, поднялся и направился к выходу, Санников бросился следом, и, опередив его, сбегая по лестнице, вышел вперед.
— Послушайте, — воскликнул Санников, преградив голландцу путь, — хотя мы и не знакомы, но мне известно ваше имя, господин Ван Хельсинг, и я намерен, представившись вам — Павел Васильевич Санников, литератор — добиться от вас объяснения, что за отношения связывают вас и княжну Долгорукую, и почему вы позволяете оставлять ее в слезах и отчаянии?
— Вы сказали, ваше имя — господин Санников? — улыбнулся голландец, ни на секунду не утративший самообладания. — Однако я не понимаю, почему оно дает вам право вмешиваться?
— Это право дано мне семьей княжны, которую я поклялся им оберегать, — не без гордости объявил Санников.
— Так вы — дуэнья? — усмехнулся голландец.
— Так вы пытаетесь меня оскорбить? — побледнел Санников, но голландец немедленно и вполне решительно остановил его:
— Нет-нет, вам не удастся спровоцировать меня! — покачал он головой. — Княжна — вполне самостоятельная молодая женщина и может сама отвечать за свои поступки.
— Хотите сказать, что не вы, а она преследует вас? — нахмурился Санников.
— Преследует? — снова улыбнулся Ван Хельсинг. — О нет! Но отчасти вы правы — Софья Петровна выказала мне определенные знаки внимания, которые я не могу ввиду целого ряда обстоятельства принять. А потому я счел своим долгом сказать ей об этом, и, переговорив с княжной, вы сможете в том убедиться.
— Значит, у вас нет намерения вскружить ей голову? — с присущей ему прямотой спросил Санников.
— Единственное мое желание — избежать этого, — кивнул Ван Хельсинг и добавил: — И я буду вам невероятно признателен, если вы со своей стороны объясните княжне мою позицию. Я не хотел бы умалить ее самолюбия, но для всех было бы лучше, если бы она полагала, что на самом деле я просто не считаю ее привлекательной для себя — ни для случайной связи, ни для более долгих и прочных отношений.
— Вы считаете, так просто убедить влюбленную женщину, что она отвергнута? — с сомнением покачал головой Санников: голландец не развеял его подозрений — он даже и представить себе не мог, что Соня кому-то могла быть неинтересна!
— Я сделал все, что мог, — равнодушно пожал плечами Ван Хельсинг. — Однако я вижу, что ваши чувства к княжне — глубокие и искренние, так убедите же ее очнуться от романтических грез, скажите, что я уехал сегодня, вернулся в Голландию тотчас же после банкета. Уверен, она скоро переменит свое настроение и благополучно забудет и меня, и эту случайную встречу.
— Так вы не любите ее? — с надеждой в голосе спросил Санников и понял, что ошибся — голландец вдруг поднял на него свои изумительные синие глаза и тихо сказал:
— Послушайте, господин Санников, судя по всему, вы знаете княжну много лет и прекрасно понимаете, насколько она — удивительное и прелестное существо. Да вы, как я вижу, и сами попали под власть ее обаяния, но в ближайшее время мне предстоит довольно опасная экспедиция, и я не хотел бы обременять себя новыми знакомствами, а тем паче — личными обязательствами.
— Вы не даете Софье Петровне надежду, потому что сами боитесь надеяться? — понял Санников, и от признания, невольно сделанного Ван Хельсингом, у него закружилась голова — похоже, между Соней и голландцем возникли непрошенные и совершенно несвоевременные чувства. Чувства, которые разрушили его мечты о собственном возможном будущем с… Однако голландец не стал отвечать на этот вопрос и лишь повторил:
— Так вы обещаете убедить княжну в моем полном к ней равнодушии?
— Обещаю, — прошептал Санников, ощущая всю безнадежность и этого обещания, и намерений голландца отстраниться от фатального чувства.
Расставшись с Ван Хельсингом, Санников вернулся к беззвучно рыдавшей Соне, увез домой и беседовал с ней до рассвета, поведав и о своем разговоре с голландцем, и о том, что тот навсегда уехал из России. Собянин, вернувшийся с банкета засветло, застал в гостиной картину в высшей степени сентиментальную — Соня с просветленным взглядом плакала на плече у Санникова, а тот успокаивал ее нежными поцелуями, едва касаясь губами ее тонких, трепетных пальчиков. Вот и славно, ухмыльнулся Собянин, отправляясь спать. Однако сказка продолжалась недолго — отдохнувшая за неделю в загородном поместье артиста Соня согласилась, наконец, ехать в Петербург и на первой же станции припала к окну с возгласом — это он!
Соня утверждала, что видела своего возлюбленного в выезжавшей им навстречу почтовой карете, но, разумеется, слушать ее никто не стал, и карета на станцию не вернулась. За всех досталось Санникову, и, в конце концов, под давлением он вынужден был признаться, что солгал по просьбе голландца — да, Ван Хельсинг не собирался покидать Россию, но куда лежал его путь, Санников не знал. Зато об этом теперь знала Соня, влюбив в себя за полдня, проведенные на станции в ожидании кареты из Петербурга сына смотрителя — скромного и впечатлительного гимназиста: она уговорила юношу позволить ей на секундочку взглянуть на проездные записи его отца, после чего заявила, что возвращается в Москву, и Санникову ничего не оставалось, как последовать за нею. В Москве они пересели в карету, отправлявшуюся в направлении сибирского тракта, и через два месяца оказались в Каменногорске.
Ван Хельсинг, то работавший с картами в губернском земельном архиве, то уезжавший в горы, снимал комнату в доме на окраине города. Его хозяин про возвращение жильца ничего определенного сказать не мог, но обещал, что, едва тот появится, немедленно сообщит в гостиницу, где остановились Санников с Соней — отправит за ее сиятельством старшего сына. А пока можно было гулять по городу, казалось, тихому и живущему вольно и несуетно.
Каменногорск располагался под горой на берегу реки, надвое делившей старый скальный массив. По ту сторону, через переправу располагались дома ссыльных поселенцев и острог, в котором содержались сосланные и останавливались на передышку идущие по этапу. Сам же город лежал в стороне от тракта — так решили заложившие его Перминовы, владельцы самых больших рудных шахт и заводов, на своем берегу создавшие маленькую копию родного замоскворецкого быта. Вдоль главной улицы нового города приглашенный ими архитектор отстроил красивые двухэтажные дома с куполами и мезонинами, балюстрадами и балконами, колоннами и лепниной при входе. Со временем в центре появился еще один дом — торговое собрание, названное городским клубом, где находилась библиотека, был устроен зрительный зал наподобие московского Малого театра и отведено место под курительный салон и ресторацию. К городскому клубу, высившемуся на этаж перед другими домами, позднее пристроили гостиницу, которая никогда не пустовала, — место это было проезжее, купеческое, да и регулярные ярмарки, то пушные, то по древесине, привлекали в Каменногорск предпринимателей разного толка и кошелька. Служивые люди строили дома либо по откосу реки, либо под самой горой за протокой, отделявшей центральную часть города; здесь дома были попроще, одноэтажные, среди них — много деревянных, но все они отличались добротностью, имели хороший двор и забор из теса, просмоленный и крепкий. В таком жила и Авдотья Щербатова, в таком снимал комнату Ван Хельсинг.
Нельзя сказать, что появление Сони его обрадовало, но какой разговор состоялся между ним и княжной, Санников не знал — получив от прибежавшего в гостиницу мальчишки известие о возвращении голландца, Соня тотчас же наняла извозчика и отправилась на окраину города одна, пронзив перед уходом Санникова таким остужающим взглядом, что он понял: спорить и убеждать ее дозволить отправиться с нею бессмысленно.
Так продолжалось недели две. Утром Соня после завтрака уезжала к голландцу и возвращалась вечером, молчаливая и сосредоточенная. Санников видел, что она устает, но чем была вызвана эта усталость, не знал, и потому, не выдержав неизвестности и измучавшись ревностью, потихоньку проследил за Соней и выяснил, что она каждый день уезжает куда-то вместе с Ван Хельсингом, сопровождая его. Приплатив немного сыну хозяина дома, комнату в котором снимал голландец, Санников узнал, что тот считается ученым-ботаником и разъезжает по горам в поисках каких-то лекарственных трав, а Соня с некоторых пор сопутствует ему.
Возможно, осознав, что просто так не удастся избежать ее общества, голландец решил взять Соню измором, выматывая тяжелыми поездками в горы, но, судя по всему, экспедиции не только не разлучили их, но сблизили еще больше прежнего. И однажды Соня окончательно переехала к голландцу — по-видимому, чувство, которое Ван Хельсинг испытывал к княжне, оказалось сильнее обстоятельств, прежде заставлявших его сторониться этой любви.
Смириться с потерей Санникову было нелегко, но все же он вскоре взял себя в руки, излив бумаге и свою тоску по утраченным иллюзиям, и восхищение силой настоящего ответного чувства, каковое, и Санникову пришлось еще раз признать это, Соня никогда не испытывала к нему. Но, тем не менее, привязанность Павла Васильевича к княжне была так велика, а свой долг перед баронессой Анастасией Петровной он справедливо полагал до конца не исполненным, что Санников, позволив влюбленным какое-то время наслаждаться обществом друг друга, вновь появился на их горизонте, напросившись сопровождать в поездках в горы. С минуту поколебавшись, Ван Хельсинг, поймав умоляющий взгляд Сони, которая чувствовала свою вину перед Санниковым и не хотела усугублять ее отказом, с обреченным видом согласился, и теперь они вместе путешествовали по красивейшим окрестностям Каменногорска.
Места эти действительно волновали и радовали взор, и Санников время от времени принимался либо зарисовывать их, делая карандашные наброски, либо подробнейшим образом описывал в своем дневнике, с которым никогда не расставался.
— Что это вы делаете? — как-то спросил его Ван Хельсинг, и Санников уловил в голосе голландца серьезную озабоченность.
— Веду путевые заметки, — удивился его вопросу Санников, вспомнивший, однако, что никогда не видел, чтобы Ван Хельсинг вел какие-то записи. Боже, да ведь и Соня уже давно не бралась за кисть! — вдруг подумалось тогда Санникову.
— Вы настолько не полагаетесь на свою память? — поддел его голландец.
— У меня хорошая память, но дневник — вернее, — парировал Павел Васильевич.
— Никогда не передоверяйте свою память бумаге, — тихо, но со значением сказал Ван Хельсинг. — Однажды она станет значить больше вас самого, и еще неизвестно, что окажется ценнее — жизнь человека или его дневник.
Отнести слова голландца к шутливым Санникову не позволила интонация, которую он уловил в голосе Ван Хельсинга, но предположить, что вскоре они станут пророческими, не мог: на другой день после этого разговора Санников возвращался вечером в коляске от голландца, как вдруг что-то маленькое (кошка или собака) бросилось через дорогу — лошадь тотчас же испуганно вздыбилась. Возчик стал было ее укрощать, но лошадь спуталась ногами и рухнула на передние колени, едва не перевернув коляску. Возница чертыхнулся и спрыгнул, чтобы помочь своей кормилице, и в этот момент кто-то из-за поднятого верха коляски вскочил на сиденье рядом с Санниковым. Получив неожиданный и сильный удар в бок, Санников упал, а человек, обрушившийся на него, быстро пошарив у Санникова за пазухой, нашел во внутреннем кармане сюртука его дневник. Но Павел Васильевич уже пришел в себя и что было силы вцепился в кожаную тетрадь, пытаясь вырвать ее из рук похитителя. Однако в ответ он получил еще один удар, на сей раз лишивший его сознания. Пришел в себя Павел Васильевич от холода воды, что плеснул ему в лицо возчик. Он тоже потирал на затылке шишку — неизвестный, которого возчик не успел разглядеть, напал и на него, когда, заслышав в коляске шум борьбы, бросился к своему пассажиру на выручку. Но, конечно, ничего толкового возчик рассказать не мог — так что из всех доказательств нападения у Санникова остался синяк на лице да вырванные из украденного неизвестным дневника фрагменты записей. Полицмейстер, узнав о том, что при нападении похищен дневник, над рассказом Санникова только посмеялся, высказав предположение, что грабитель, наверное, из беглых — два дня назад как раз из острога пришло предупреждение, — принял кожаный переплет дневника за бумажник. Полицмейстер пообещал в случае обнаружения беглецов внимательно осмотреть их вещи — глядишь, тетрадка и отыщется.
Ван Хельсинг же, узнав об этом случае, не стал вдаваться в затеянные Санниковым рассуждения на тему, кому могли понадобиться его путевые заметки, и велел Павлу Васильевичу немедленно уезжать и Соню взять с собой. Соня, делавшая при этом Санникову холодные припарки к синяку, решительно сказала: никуда я не поеду, я остаюсь с тобой, а дальше — будь, что будет. Последний раз Санников видел их на следующий день, когда они опять отправились до рассвета за образцами растений в горы.
— Последний раз? — вздрогнула Анна. — Когда это случилось?
— Несколько месяцев назад, — кивнул Санников. — Я пытался их искать, мне помогали в том и полиция, и казаки, но Соня и голландец, как сквозь землю провалились. И тогда я решил пройти по их следам, восстановив обычный маршрут голландца по памяти и по обрывкам записей, оставшихся от похищенного дневника, которые я надежно спрятал за подкладкой сюртука.
— Но как вы оказались в больнице? — растерялась Анна.
— Я не знаю, — смущенно развел руками Санников. — Помню только, что очнулся уже в палате и увидел склонившееся над собою чудное, милое, простое женское лицо.
Это была сестра милосердия Авдотья Щербатова. Уже позднее, когда, проявив к нему сострадание, Авдотья забрала Санникова к себе, он узнал, что молодая женщина вдовствует третий год. Ее отец был артельщиком и погиб при сплаве леса, а мать она и не помнила, потому как та умерла, когда Авдотья была еще маленькой. Муж был намного старше Авдотьи и происходил из ссыльных поселенцев — дворянин, лишенный титула и всех сословных привилегий за участие в декабрьском бунте двадцать пятого года против государя-императора, когда был еще совсем юным поручиком. Николай Петрович Щербатов, князь, потомственный дворянин, долгое время сидел в остроге в Сибири, но после знаменитого путешествия цесаревича Александра Николаевича по России, когда тот, познакомившись с «декабристами», счел необходимым просить отца о послаблении для них, и, желая поддержать благородный порыв наследника, Николай согласился смягчить для некоторых условия наказания. Так Щербатов в числе других был переведен в губернию поближе, откуда ему легче стало сообщаться с родственниками, не отвернувшимися от него, — Щербатов был в семье единственным сыном. С Авдотьей Щербатов познакомился там же, в больнице, где устроен был служить регистратором, и вскоре они обвенчались, как положено, но прожили вместе недолго — годы, проведенные в кандалах в сибирских рудниках, сделали свое разрушительное дело. Правда, Николай Петрович успел все же увидеть и поднять на ноги сына, нареченного в честь него Николенькой, но тому едва исполнилось восемь, как супруг Авдотьи скончался. Родственники князя написали Авдотье с просьбой отправить к ним мальчика — младшая сестра поручика была бездетной и хотела Николеньку усыновить, чтобы вместе с ним продолжился княжеский род. Но Авдотья убоялась навсегда потерять сына, хотя ей и обещано было место подле мальчика в имении. Однако Санников, услышав от самой Авдотьи эту историю, принялся ее уговаривать — занимаясь с Николенькой уроками по вечерам, он обнаружил у мальчика отменные способности к точным наукам и считал, что было бы несправедливым лишать мальчика возможности стать образованным человеком, быть может, известным ученым. Авдотья от таких разговоров поначалу плакала, но потом все же отписала родственникам мужа и теперь ждала ответа с их стороны. А пока выхаживала Санникова и все чаще замечала за собой, что иной раз при нем смущается и краснеет: то ей покажется, что платок с головы сбился, то привидится, что манеры у нее не господские. В общем, все свидетельства ее симпатии к Санникову были налицо, но Павел Васильевич не торопился свою хозяйку разочаровывать. Потому как и сам впервые с тех пор, как полгода назад от безнадежности чувств плакал над портретом Сонечки — самой же ею ему и подаренной собственноручно нарисованной эмалью камеей, — Санников вновь испытал возвышенное стремление и романтический всплеск чувств…
— И что же нам теперь делать? — вздохнула Анна, выслушав рассказ Санникова, когда Авдотья пришла звать их к обеду. — Я бы хотела немедленно отправиться искать Соню, но где мы должны ее искать? Неужели вы и в самом деле ничего не помните, Павел Васильевич?
— Только то, что было до нападения на меня, — виновато промолвил Санников, — но мы можем попытаться разузнать все, если отправимся на то место, где меня нашли. Возможно, я и сам вспомню что-то.
— Но вы еще больны, — Анна с надеждой перевела взгляд на Авдотью, и та кивнула:
— Если вы в тайгу собираетесь, так не думайте, что затея эта быстро у вас получится. Для того вам надо будет провожатого найти, подводу купить, лошадей, провизии, да и охрана вам не помешает, места у нас иные — такая глухомань, все, что угодно случиться может. Вот видите, как Павел Васильевич пострадали. Так что считайте — день за днем, а неделя-другая точно выйдет. Думаю, к тому времени Павел Васильевич поднимется, он уже и сейчас хорошо на поправку идет.
— Не боитесь меня отпускать? — улыбнулся Санников.
— А мужика держать — только калечить, — махнула рукою Авдотья. — Все равно ведь по-своему сделаете!
— Что же, — подытожила Анна, — так и поступим. Пока вы за здоровьем Павла Васильевича надзираете, я снаряжением экспедиции займусь, справки наведу, а потом, Бог даст, тронемся.
Однако сказать оказалось легче, чем сделать. Растревоженная рассказом Санникова, Анна принялась поначалу ходить по инстанциям, выясняя, где и кто нашел Павла Васильевича, и почему по горячим следам не было сделано розыска без вести пропавших Сони и голландского ботаника. И хотя повсюду Анна предъявляла имевшуюся у нее грамоту от Александра, вели себя чиновники — и гражданские, и военные — одинаково сочувствовали, но помочь не обещали — охали, ахали и руками разводили. А потом начались у Анны коллизии с поиском провианта в дорогу — один за одним под разными предлогами купцы отказывались продавать ей товар, а уж о лошадях и подводе и тем более мечтать было нечего. Анна словно ходила по заколдованному кругу и не могла понять, что же такого случилось в тайге под Каменногорском, что ни полицмейстер, ни градоначальник, ни начальник военного гарнизона, ни председатель уездного дворянства не стремятся ей содействовать вопреки указанию канцелярии наследника, а, наоборот, стараются обо всем умолчать и ее до расследования не допустить.
Авдотья, правда, Анну уговаривала злого умысла в действиях, к примеру, купцов не усматривать — горы, куда, по словам Санникова, ездили Соня с голландцем, издавна считались в уезде странными и опасными. Про окружавшие их леса ходили дурные слухи — будто люди там пропадали в бездонных пещерах без следа и навеки. Санников, слушая эти леденящие душу истории, называл их легендами, полагая, что в горах может с древних времен скрываться какое-то племя. Он читал о таких случаях в географических журналах; правда, касались они сельвы Южной Америки, но кто знает, а вдруг и меж Уральских хребтов прячутся ушедшие от цивилизации люди, которые не хотят, чтобы об их существовании узнали и потому держат у себя случайно натолкнувшихся на них путешественников из соображений безопасности. Такие объяснения Анна, конечно, считала вполне правдоподобными, но все же думала, что истинная причина исчезновения Сони и ее возлюбленного в другом.
И вскоре она получила тому неожиданное подтверждение — уже на третий день своих походов по торговым лавкам и кабинетам Анна стала замечать, что повсюду следует за нею и нечаянно присутствует при разговоре один и тот же человек. Лица его Анна не видела, ибо незнакомец старательно скрывал его — то отвернется, то поднимет воротник, то спрячется за угол, но фигуру следившего за нею человека узнавала повсюду. И однажды Анна упросила Авдотью отпустить с нею Николеньку, с которым договорилась — как подаст она сигнал, указав на одного человека, мальчик должен был незаметно за ним пойти и узнать, где живет и кто такой. Последнее Николаю разведать не удалось, но дом, в котором скрылся следивший за Анной незнакомец, мальчик указал — в этом доме на время ярмарки остановился приехавший на гастроли в губернию известный маг и чародей Людвиг Ван Вирт. Голландец! — вздрогнула Анна.
В Петербурге ей не удалось лично познакомиться с магом, но о его участии в своей судьбе Анна знала от Лизы и Натали. Разумеется, она была признательна Ван Вирту за помощь — без него вряд ли тайна похищения Анны и подмена ее на несчастную сумасшедшую открылась бы, но какую роль в деле исчезновения ее сестры играл он сейчас? И не был ли его приезд связан с таинственной экспедицией голландского ботаника, о которой никто не слышал ни в научных кругах, ни в чиновных департаментах? И Анна, вернувшись в дом Авдотьи, велела возчику ждать и потом быстро переоделась для выхода.
Маг жил по соседству с уездным градоначальником в самом центре города — против аптечного дома, в одноэтажном здании, примыкавшем к первому городскому скверу. Вообще-то, это был особняк сына градоначальника, служившего сейчас в инженерных войсках, но для столь знаменитого гостя чиновник решил сделать красивый жест, временно выселив к себе семью своего отпрыска — жену с ее родителями и двоих детей — и предоставив этот прекрасный дом в полное распоряжение Людвига Ван Вирта вместе со слугами.
Маг встретил Анну с любезностью — едва услышав от мажордома ее имя, поспешил навстречу и поцеловал руку.
— Рад познакомиться с вами, баронесса, — тепло улыбнулся маг. — Правда, когда я последний раз видел вас, вы пребывали в весьма странном состоянии.
— Потому что это была не я, — в тон ему улыбнулась Анна.
— Физически — да, — лукаво склонил голову маг, — но и ваше астральное тело пребывало в заточении. Однако теперь я вижу — вы полностью освободились ото всех оков.
— Не без вашего участия, господин Ван Вирт, — кивнула Анна. — И я рада представившейся возможности лично выразить вам свою благодарность.
— Как давно вы здесь? — спросил маг, жестом предлагая ей присесть и велев мажордому, чтобы подали кофе. — Удивительно, что мы до сих пор не встретились.
— А я прежде и не искала этой встречи, — сказала Анна.
— Что же изменилось? — любезно поинтересовался маг. — Вы решили, наконец, посетить один из моих сеансов?
— Нет, я хотела бы увидеть человека, который живет в вашем доме, — промолвила Анна и дала довольно подробное описание того, кто вот уже несколько дней следил за нею.
— Надеюсь, вы хотите сказать, что искали меня, — снова улыбнулся маг, однако на сей раз куда более настороженно. И Анна вдруг поняла, что Ван Вирт говорит серьезно, — данное ею описание вполне могло подходить и ему.
— Скорее всего, это был кто-то очень похожий на вас или — ваше астральное тело, — попыталась отшутиться Анна.
— В таком случае вам тем более необходимо прийти на мое выступление сегодня, быть может, я смогу избавить вас от видений, — маг непроницаемым взглядом буквально пронизал ее.
— Думаю, — резко сказала Анна, теперь она уже не сомневалась — все неспроста: и ее соглядатай, и этот разговор, — я нуждаюсь в помощи совершенно иного рода.
— Какой же именно? — холодно сощурился маг.
— Я хочу, чтобы мне не препятствовали в поисках пропавшей сестры, — твердым тоном решительно произнесла Анна.
— У вас пропала сестра? Насколько я помню, ее звали Елизавета Петровна? — поинтересовался маг.
— Лиза умерла два года назад, — вздохнула Анна. — Я говорю о своей младшей сестре — княжне Софье Долгорукой, которая полгода назад уехала в горы вместе со своим женихом, господином Ван Хельсингом, и пропала.
— Ваша сестра была обручена? — искренне удивился маг, и Анна поняла — он знает голландца, но впервые слышит о том, что у молодого человека была возлюбленная; однако маг быстро взял себя в руки и добавил: — Сочувствую вашему горю. Если желаете, я могу попытаться сегодня вечером на сеансе связаться с нею или ее женихом…
В этот момент в гостиную вернулся мажордом, неся на серебряном блюде две серебряные турки и такие же чашечки для кофе. Поставив поднос на столик для фруктов, он перелил из турок еще дымящийся напиток в изящные чашечки и подал их сначала гостье, а потом магу. И когда он наклонился к Анне из-за спины, протягивая ей чашечку, Анна увидела пересекающий запястье характерный шрам, открывшийся под натянувшимся рукавом ливреи, — именно такой Анна случайно увидела на руке следившего за ней человека, когда, пытаясь скрыть от нее свое лицо, он поправлял воротник. Анна вздрогнула и в упор посмотрела на мага, но тот или словно не видел ничего, или проявлял чудеса выдержки.
— Итак, мы остановились на том, — сказал маг, когда мажордом вышел из гостиной, — что сегодня же вечером я свяжусь с помощью астральных сил с вашей сестрой и ее женихом…
— Лучше свяжитесь с теми, кто его знает, — прервала политесы мага Анна, — и скажите им, что я так просто этого не оставлю. Я не допущу, чтобы Соне позволили пропасть без вести — одной или вместе с тем, кого она любила.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — сухо сказал маг, вдруг вставая и давая Анне понять, что разговор окончен. — Прощайте, баронесса, и надеюсь, в следующий раз мы встретимся при менее печальных обстоятельствах.
Если маг хотел убедить ее, что к событиям, случившимся с Соней, не причастен, то ему это удалось с точностью до наоборот. И, уходя от него, Анна уже не сомневалась — маг замешан, замешан во всей этой истории от начала и до конца. Но кто же все-таки следил за нею?
Между тем мажордом проводил посетительницу к выходу и, когда наклонился, открывая ей дверь, Анна услышала — «говорили же вам, чтобы вы никуда не ездили и возвращались домой».
Глава 3
Сеанс разоблачения магии
Поглощенная раздумьями о разговоре с магом, Анна не сразу уловила смысл сказанного мажордомом, а когда очнулась, то обнаружила, что стоит на улице одна перед закрытой дверью, и возчик, чуть склоняясь с козел в бок, терпеливо и внимательно наблюдает за нею, ожидая дальнейших указаний. В первое мгновение, едва взглянув в его сторону, Анна сделала было шаг к коляске, но потом остановилась. Она вдруг осознала, что произошло: ее преследователь, явившийся при их беседе с магом в облике слуги, подтвердил правильность догадки — Ван Вирт был замешан в этом деле, он все знал, знал с самого начала и, быть может, даже препятствовал в продолжение ее поисков. И негодование овладело ею — словно спохватившись, Анна бросилась обратно в дом.
— А где тот, другой? — растерянно спросила Анна вежливо встретившего ее мажордома — вышедший навстречу слуга был одет в уже знакомую Анне ливрею, но это был не знакомый ей прежде человек.
— Простите, ваше сиятельство? — слуга выглядел непонимающим и искренне удивленным.
— Мажордом, — попыталась объяснить Анна, — я только что говорила с ним… Он сказал, что я…
— Вы, должно быть, ошиблись, — с сочувствием покачал головою незнакомец, так и не дождавшись, когда Анна завершит свою фразу — она с минуту молчала, не зная, стоит ли продолжать объяснения. — Я служу в доме его сиятельства, господина градоначальника уже много лет, и один выполняю обязанности мажордома.
— Но тот человек, — Анна в полнейшем недоумении взглянула ему в лицо, — он же не привиделся мне! Он подавал кофе…
— Возможно, вы говорите о помощнике господина Ван Вирта, — задумчиво предположил вежливый мажордом.
— Вот как? А где я могу его увидеть? — обрадовалась было Анна.
— Увы, он еще утром уехал выполнять поручения господина мага и пока не возвращался, — развел руками мажордом.
— Но этого не может быть! — воскликнула Анна и спохватилась — если здесь был заговор, то вряд ли ей стоило искать среди исполнителей правду. — Сообщите господину Ван Вирту, что мне тотчас же необходимо снова увидеться с ним!
— Но господин маг только что велел больше никого не принимать, — покачал головою мажордом. — У него вечером важное представление, и господин Ван Вирт закрылся у себя в покоях, чтобы отдохнуть перед сеансом. Он сказал, что должен сосредоточиться.
— Ах, вот оно что! — «понимающе» кивнула Анна. — Что же, пусть отдыхает, не стану ему мешать. Надеюсь, мне удастся увидеться с господином магом чуть позже.
Из дома, где жил Ван Вирт, Анна направилась к градоначальнику, и тот был несказанно рад в качестве сатисфакции за чинимые им препятствия Анне в розысках ее сестры пригласить баронессу в свою ложу на вечернем представлении. Анна чувствовала, что градоначальник испытывает смущение за те правила игры, которых он принужден был придерживаться по отношению к ней, но все же простила его — устанавливались они не этим пожилым, круглолицым лысеющим полковником, страдающим одышкой от чрезмерного веса и служебных забот, значительно превосходящих его незначительные умственные способности. Градоначальник был скорее мил и куда более прост в общении, чем знаменитый маг, и потому с готовностью и с чувством душевного облегчения исполнил ее просьбу посетить сеанс заезжего чародея, видя в том искупление своей невольной вины перед столь важной персоной. И был, кроме всего прочего, настолько любезен, что прислал за Анной коляску со своим кучером, и вечером она вместе с Санниковым отправилась в театр.
Павел Васильевич с каждым днем чувствовал себя много лучше, чему, конечно, способствовали и лекарства, но, быть может, в первую очередь, забота его хозяйки. И, наблюдая за тем, как осторожно, но трепетно развиваются их отношения, Анна впервые подумала, что судьбу не обманешь. Следуя за Соней, Санников, похоже, нашел и свое счастье. Разумеется, Анна была рада, что у сестры есть такой верный помощник, спутник во всех ее приключениях и поездках, но, с другой стороны, она прекрасно понимала, что Санников и сам нуждается в подобной опеке. Все эти годы Павел Васильевич, посвятив себя Соне, оставлял в стороне собственный талант, свое творчество, каковое, несомненно, должно было принести ему в будущем настоящее признание и литературный успех. Анна верила, что сумасбродная Соня могла вскружить голову и повести за собой, но стоил ли того отказ Санникова от самого себя, так уж ли обязательна была эта жертва по сравнению с тем, чего Павел Васильевич мог достичь, если бы на месте ее сестры оказался он сам? И сейчас, когда неутомимая и нежная Авдотья заботливо оберегала и выхаживала его, Санников прямо на глазах выздоравливал, и главное, что отметила Анна, — душевно. Освобождаясь от привязанности к Соне, он открывал сердце новому, более благотворному чувству.
Анна вздохнула: она вот уже не первый раз замечала за собой, что наблюдения за тем, как развиваются отношения между близкими ей людьми, примеривает на себя. И в действительности, все ее рассуждения об этом — продолжение поиска ответа на так и оставшийся нерешенным вопрос: правильно ли она поступила, ответив согласием на предложение князя Репнина стать его женой. Анна и сама не понимала, чем вызваны ее сомнения: ей трудно было обвинить Михаила в поспешности и в произволе — идея соединить их принадлежала Лизе, которая, быть может, не случайно пришла к этой мысли, правомерность и возможность которой Анна видела и сама. Но что-то все-таки мешало ей смириться с неизбежностью ее исполнения. Была ли в том виновна ее любовь к Владимиру? Но жизнь за эти годы отдалила его образ от Анны; она уже не так часто и одержимо, как ранее, вспоминала погибшего супруга, и являлся Владимир ей во снах много реже прежнего. И, тем не менее, мысли о нем продолжали тревожить ее, как, наверное, надежда гнала и Санникова вслед за Соней, куда бы и за кем бы она ни отправилась. Однако вот и он, похоже, нашел утешение от утомительной дороги в бесконечное когда-нибудь. И не станет ли и для Анны то памятное письмо Михаила спасительной рукой, протянутой через пропасть прошлого к новым берегам и к новой жизни?
— Вы так и не сказали мне, что намерены предпринять, — заговорщицким тоном сказал Санников, когда они уже подъезжали к городскому общественному собранию, в здании которого и располагался театральный зал.
— Вся беда, Павел Васильевич, в том, — пожала плечами Анна, — что я не знаю, что точно буду делать.
— Я полагал, у вас есть план, — промолвил Санников.
Анна уловила нотки разочарования в его голосе и поспешила объясниться:
— Увы, я должна открыться вам, что на сей раз действовала импульсивно, повинуясь лишь безотчетному чувству, которое вызывает во мне столь намеренное сопротивление моему участию в разрешении загадки исчезновения сестры, — призналась Анна. — Мне трудно объяснить, что еще, кроме желания лишний раз напомнить о себе господину Ван Вирту, влечет меня на этот сеанс. Быть может, я хочу доказать, что не собираюсь так просто сдаваться, а быть может, чего-то жду — какого-то знака или признания. Однако в любом случае в моем поступке сейчас куда больше эмоций, нежели здравого смысла.
— Как бабочка к огню… — прошептал Санников и вдруг добавил, — знаете, Анастасия Петровна, мне как-то довелось прочитать об одной разновидности мотылька, обитающего в сельве Амазонки. Ему поклоняются индейцы и называют раскрывающим тайны. Когда такой мотылек приближается к костру и сгорает в нем, тому, кто видел превращение в прах его хрупких крыльев, открывается истина.
— Надеюсь, наша судьба будет более благоприятной, — улыбнулась Анна, и Санников вздрогнул:
— Кажется, я сказал глупость.
— Нет, вы всего лишь подтвердили мои опасения за судьбу нашего предприятия, но, тем не менее, я собираюсь найти выход из этого лабиринта и разыскать Соню. Кстати, — Анна улыбнулась, как будто ее озарила догадка, — те фрагменты дневника, что я вернула вам, они у вас с собой?
— Вы правы, отныне я не расстаюсь с ними, — кивнул Санников и вздрогнул, — уж не хотите ли вы сказать, что собираетесь показать их Людвигу Ван Вирту?
— Не я — вы, Павел Васильевич, — сказала Анна. — Я для господина мага, равно как и для тех, кто связан с тайной пропавшей экспедиции, — персона весьма нежелательная. Вас же он никогда прежде не видел. Насколько я могу судить, вы незнакомы с магом, а он знает о вас лишь понаслышке и в связи с этим делом. И потому нет никаких противопоказаний к вашему участию в сеансе.
— А вдруг маг не замешан в том памятном нападении на меня? — предположил Санников.
— Если так, то он тем более заинтересован, чтобы прочесть вашу рукопись, — задумалась Анна. — И по тому, как он станет трактовать попавшие в его распоряжение фрагменты записей, мы поймем, что он знает и чего хочет знать. Вы явитесь для него простым зрителем из зала, уверена — Ван Вирт поначалу ничего не заподозрит, и потому неизбежно выдаст себя.
— Но тогда он поймет, что мы догадываемся о его роли в этой истории, — с сомнением произнес Санников. — Стоит ли провоцировать его, и готовы вы ли мы сами к последствиям наших действий? Поймите меня правильно — я боюсь не за нас, а за судьбу и жизнь Сони: возможно ли, что такой поступок повредит ей?
— Ей может повредить только одно — наше бездействие, — решительным тоном промолвила Анна. — Я же считаю, что, вызвав огонь на себя, мы заставим виновных в исчезновении Сони открыться. Возможно, они даже перейдут в наступление, но, поверьте, это — единственный способ продвинуться в разрешении загадки этой странной экспедиции. Если вы полагаете, что я настолько безрассудна, что собираюсь бравировать своим бесстрашием, то по-настоящему ошибаетесь — мне есть, кого и что терять. Но, с другой стороны, лишь заставив противника снять маску, можно увидеть его настоящее лицо и понять его истинные намерения.
В театре меж тем все было готово к выступлению мага. Публика, разгоряченная слухами и шампанским, подносимым в качестве презента устроителями ярмарки, с трудом терпела показываемый для разогрева водевильчик. И хотя артисты старались, по всему было видно, что и они не меньше зрителей заинтригованы приезжей знаменитостью. Недовольна была, похоже, только исполнительница главной женской роли первая артистка Любавина: несмотря на то, что аншлаг в зале обеспечен был, в первую очередь, последующим за водевилем сеансом магии, она заметно ждала триумфа и аплодисментов и оттого старалась сверх всякой меры — плакала, точно кукольная Коломбина, заламывала руки, как какая-нибудь Евриклея из древнегреческой пьесы, и время от времени посылала горячие взоры в ложу, рядом с директорской, где сидел ее давний обожатель и меценат купец Скобликов.
Сюжета пьесы Анна не запомнила — скорее всего, это был переделанный местной труппой под себя водевиль господина Томского о любви юной дочери артиста и молодого гусара, которой препятствует злой отец-антрепренер, обманом заставляющий несчастного поручика стрелять в него. В финале, разумеется, все разрешалось к общему благополучию — злодей-отец, едва не переиграв сам себя, оказывается на больничной койке, а молодые ухаживают за ним и вымаливают-таки благословение.
Анна уже давно не была в провинциальном театре и искренне порадовалась за артистов: талантами земля русская никогда не оскудеет. И даже в простеньком водевиле, где для неискушенного зрителя довольно было веселых куплетов и счастливого конца, мелькали искорки подлинного драматического дара. Особо на себя ее внимание обратила комическая пара молодых — друг гусара, поверенный во всех его делах, и артистка труппы, которой руководит отец героини, мечтающая о первых ролях и большой славе. Анна могла только догадываться, что связывало этих артистов вне сцены, но они как-то, будто мимоходом, сыграли историю о том, как любовь заставляет убежденного холостяка и своенравную карьеристку забыть о своих амбициях во имя самого прекрасного, что может быть на земле, — во имя любви. И их финальный дуэт о будущей семейной жизни в окружении десятка детишек и выводка лошадей был исполнен с такой нежностью, что тронул Анну, и она, вдруг на мгновение забыв о цели своего прихода в театр, громко и искренне зааплодировала очаровавшей ее паре.
От сцены Анну отвлек градоначальник, представивший столичной гостье (Санникова по ее просьбе и для пущей убедительности ее плана усадили в партере) мужчину из соседней ложи, поднявшегося со своего места, чтобы поздороваться в антракте с только что приехавшей супругой, дочерьми и невесткой градоначальника.
— Хочу познакомить вас, ваше сиятельство, — Дмитрий Игнатьевич Маркелов, управляющий всеми заводами Перминовых в наших краях, — сказал градоначальник, вдруг проявляя незнакомые прежде Анне признаки благоговения и страха. — Человек уважаемый и весьма влиятельный. Баронесса Анастасия Петровна Корф, камер-фрейлина ее высочества Марии Александровны…
— Весьма приятно, — Маркелов церемонно поцеловал Анне руку и потом довольно деланно подивился. — Что ищет персона вашего ранга в нашей тьмутаракани?
Он был высок ростом и крупного телосложения, и оттого в одетом для вечера по столичной моде фраке с пластроном и черных брюках смотрелся весьма неуклюже, о чем, видимо, знал и что заставляло его держаться с еще большим высокомерием в окружении неотразимых во все времена мундиров военных и простоватых, но удобных сюртуков купцов. И хотя на общем фоне вид господина Маркелова казался отчасти вызывающим, Анна поняла, что предназначен он не только для привлечения внимания дам, но, прежде всего, чтобы утвердиться в равенстве с гастролером, о котором ходила слава человека модного, наделенного тонким вкусом и отменным чувством стиля. Похоже, Маркелова серьезно волновал приезд знаменитого мага, который своим появлением мог, пусть даже на короткое время, отнять у него ту значительность, что придавал ему статус всесильного управляющего горнодобывающей империи Перминовых.
— Я очень интересуюсь местным фольклором, — как можно более искренне улыбнулась Маркелову Анна, стараясь казаться совсем уж беззаботной. — Сказки, легенды.
— Преданья старины глубокой, — поспешил вставить свое слово градоначальник, еще не заподозрив, но почувствовав неладное.
— Но почему же только старины глубокой, — с самым невинным видом промолвила Анна. — Я с удовольствием слушаю рассказы и о нынешних.
— И что же интересного вам удалось записать? — голос Маркелова выражал крайнюю любезность, а глаза вдруг заблестели холодом стали. — Поведайте нам.
— Их так много! — поначалу развела руками Анна, но потом как будто что-то вспомнила. — Впрочем, сейчас мелькнула одна история. Говорят, в ваших горах есть лес, где таинственным образом пропадают люди — входят в него и уже не возвращаются.
— Эка невидаль! — жестко рассмеялся управляющий, нехорошим взглядом одаривая градоначальника, который немедленно покрылся испариной. — У нас здесь все-таки тайга, где есть и топи болотные, и провалы горные. В таких лесах опытный охотник иной раз плутает, так что это и не сказка даже, а самая что ни на есть быль. А если кто и не возвращается, так значит — просто не знает пути, куда шел.
— Или знает слишком много, — прошептала Анна, оглядываясь на сцену — по центру рампы из кулис выпростался распорядитель вечера и с заметным волнением громко объявил долгожданного гостя. И разом забыв о новом собеседнике, Анна всем существом устремилась к открывавшемуся занавесу, не заметив, как Маркелов смерил ее опасным взглядом и что-то неодобрительно промычал, сделав в сторону градоначальника странный резкий жест, отчего тот и вовсе замер — и телом, и дыханием. Но тут с галерки раздались авансирующие аплодисменты, и все участники разговора принуждены были занять свои места. Представление начиналось — кулисы разошлись, но сцена еще долго оставалась неосвещенной.
Умелый артист, Ван Вирт выждал значительную паузу, прежде чем появился в круге света в самом центре сцены — публика уже начала волноваться и оглядываться: по рядам пошел слух, что маг сидит в зале, и поднимется из партера, нет-нет, слетит с балкона второго яруса подобно птице. Дамы принялись, трепеща, порхать веерами, купцы загудели, а группа гимназических преподавателей стали понимающе переглядываться — дескать, видели мы таких магов. Анна и сама почувствовала напряжение — ей захотелось сказать, чтобы кто-нибудь бежал, наконец, за сцену, вывел этого самоуверенного лицедея и прекратил сию тягостную и тревожную муку ожидания. Но Ван Вирт появился лишь тогда, когда зрительское смятение достигло предела, — словно соткался из воздуха, распахнув свой широкий черный плащ. Обманщик, ах, какой виртуозный обманщик, подумала Анна: она знала этот старый театральный прием — черное на черном создавало эффект невидимости, так в операх к героям обычно приходил посланник Ада. Никакой мистики — сплошной театр.
Увидев мага, зал замолчал, предвкушая обещанное зрелище, и Людвиг Ван Вирт не замедлил оправдать ожидания заждавшейся публики. Для начала он показал несколько знакомых Анне, но всегда эффектных фокусов с исчезновением предметов и волшебным полетом смычка, который никто не держал в руках. Потом состоялся сеанс угадывания карт и цифр, задуманных какими-то людьми, сидящими в зале. И лишь после того, как степень доверия к его фокусам, проделанным, надо отметить, с высшей виртуозностью и изяществом, возросла до восторженной, маг перешел к главной части своей программы — гипнозу и спиритизму. Для чего он стал вызывать на сцену разных людей из партера и из лож близ сцены, откуда можно было просто переступить через барьер, и, повергая волонтеров в транс, добиваться от них невероятных поступков и слов. Среди самых сильных ощущений вечера были дородная почтмейстерша, вставшая на пуанты, и купец из Оренбурга, который вдруг заговорил по-французски, да так, что и Анна подивилась, ощутив сильный внутренний трепет, — подстроить такое было невозможно. Господи, подумала она, как он это делает? Ну не может же Ван Вирт и в самом деле быть волшебником?
А потом она узнала поднятую из партера руку — это был Санников. Он попросил мага рассказать, что случилось с теми людьми, от которых он, якобы, получил недавно письмо, и помочь ему связаться с ними посредством астральной энергии. Судя по всему, Ван Вирт отнесся к этой просьбе снисходительно и заулыбался, словно сделать это было для него проще простого, и когда Санников поднялся на сцену с конвертом (в письме лежали обрывки из его пропавшего дневника), маг спокойно прикоснулся к его ладони — Павел Васильевич, сказавшись журналистом, ни за что не захотел ни на секунду выпускать свою драгоценность из рук. Но то, что случилось далее, потрясло и самого Санникова, и внимательно наблюдавшую за этой сценой Анну.
Ван Вирт как будто видел насквозь. Едва дотронувшись до конверта, он побледнел — решается, что сказать, поняла Анна. Потом маг туманным взором обвел притихший зрительный зал и сказал глухим и тяжелым голосом, как будто вещал из преисподней:
— Жаль, что вы не успели подружиться с ним.
Санников вздрогнул и прошептал — а она? — но в немыслимой тишине зала шепот его отозвался вскриком, и Анна почувствовала, что сердце ее сейчас вырвется наружу от тревоги и боли.
— Для вас здесь нет будущего, — так же тихо, как прозвучал вопрос, ответил маг. — Но это не значит, что будущего нет у нее.
— Слава Богу! — выдохнул побледневший Санников и почти силой вырвал руку с конвертом из ладоней Ван Вирта. Глядя на это, Анна едва не лишилась чувств и совершенно не обратила внимание на зорко во время последнего испытания мага наблюдавшего за нею Перминовского управляющего.
Однако сцена не оставила у зрителей сомнений — маг угадал содержание письма, и вид потрясенного Санникова, шатаясь уходившего в кулисы, вдохновил публику: из зала потянулись вверх руки. Кто-то еще стал проситься к магу с предметами, принадлежащими родным и близким. Один купец хотел знать, не изменяет ли ему любовница, другой — чист ли на руку его деловой партнер, а вдова брандмейстера умолял хотя бы на миг свести ее с почившим в бозе мужем. И по мере обнародования истины и «воскрешения» голосов умерших оживление в зале нарастало, и сеанс затянулся глубоко за полночь.
— Вы поедете с нами? — спросил Анну градоначальник, когда маг все же завершил свое выступление. — Мы уговорили господина Ван Вирта составить спиритический круг в узкой компании. Моя супруга хотела пообщаться со своею матушкой и нашим первенцем — он умер еще во младенчестве.
— Благодарю, — отказалась Анна. — Я слишком устала. Быть может, в другой раз.
— Но завтра рано утром господин маг уезжает, — с каким-то не очень понятным ей тайным смыслом заметил стоявший рядом Маркелов и немедленно вскинул голову, пытаясь разглядеть того, кто подавал Анне знаки из-за спин выходящих из других лож в фойе бельэтажа зрителей.
— Возможно, мне повезет, и я увижу господина Ван Вирта в Петербурге, — со слабой улыбкой объяснила Анна, прощаясь со всеми и направляясь к махавшему ей Санникову.
— Петербург далеко, — почему-то сказал Маркелов, но у Анны не было времени оценить его намек — она уже торопилась к выходу.
Коляска, выделенная ей градоначальником, быстро доставила их к дому Авдотьи Щербатовой — время было уже позднее, и возчик торопился отвезти пассажиров, которые, к его великому удивлению, всю дорогу пребывали в занятном молчании — взволнованном и немного печальном.
— Вы не думаете, что мы все-таки ошиблись, — не то спросил, не то сказал Санников, подавая Анне руку, чтобы помочь сойти из коляски, когда они подъехали к знакомому дому на окраине Каменногорска.
— Вы о судьбе Сони? — не сразу поняла Анна, осторожно ступая на мостки деревянного тротуара — возчик с козел светил им снятым с коляски свечным фонарем, высоко поднимая его над головою.
— Нет, я о Ван Вирте, — пояснил Санников, громко стуча кольцом воротного замка. — Я видел его глаза — он был искренне потрясен тем, что узнал.
— А, быть может, его испугало то, что теперь и мы знаем о его роли в этом деле, — с сомнением произнесла Анна: для себя она так до сих пор и не решила — друг Людвиг Ван Вирт или враг? Его недавнее участие в ее судьбе говорило в пользу первого, их утренний разговор и поведение его слуги заставляло поверить в возможность последнего.
— Не знаю, — покачал головою Санников. — Мне кажется, я запутался, совершенно запутался.
— И в том вы, Павел Васильевич, не одиноки, — вздохнула Анна, невольно вздрагивая от скрипа петель на воротах. Авдотья, со свечой появившаяся в проеме двери, сонно кивнула им — жестом давая понять: проходите, давно уж пора.
— Извините, что мы так задержались, — смущенно кивнул хозяйке Санников, но она только махнула рукою:
— Ничего, если станете есть, я разогрею — ужин для вас на печи. А нет — так завтра поговорим. Я, пока вы по театрам ходили, Николая в Спешнево посылала к знакомому отца, он обещал помочь и с подводою, и провиантом.
Однако поблагодарить Авдотью за заботу Анна с Санниковым не успели. Утром, едва они поднялись и сели к завтраку, в дом пожаловали два урядника, которые решительно оттерли в сторону хозяйку, вздумавшую было возмущаться вторжением стражей порядка на ее двор, и предъявили Анне немедленное предписание покинуть город — для ее же блага, как было сказано в приказе, подписанном градоначальником.
Онемев от неожиданности, Анна настолько растерялась, что не смогла сопротивляться, безропотно позволив усадить себя в стоявшую неподалеку черную крытую карету. Туда же препроводили и Санникова. Потом на их глазах два казака, которые должны были нарядом ехать с ними, вынесли из дома так и оставшейся стоять с раскрытым ртом Авдотьи их вещи, и карета тронулась, увозя Анну и Санникова из города. Очнулась Анна только тогда, когда они уже довольно далеко отъехали по тракту в сторону Москвы и раздались первые выстрелы.
— Он стреляет в своих! — воскликнул Санников, выглянув в окно кареты, и немедленно отпрянул вглубь, увлекая за собою и Анну, но, видя, что она ничего не понимает, быстро зашептал: — Один из казаков, он застрелил своего напарника и того, кто ехал на козлах. Нам надо скрыться! Это подстроено! Нас хотят убить…
Однако они не успели больше сдвинуться с места — казак, о котором говорил Санников, ворвался в салон кареты и набросился на них. Павел Васильевич успел заслонить собою Анну, и удар кулака пришелся ему в лицо. Но, несмотря на свою слабость, еще ощутимую после болезни, Санников оказал казаку сопротивление, давая Анне возможность нащупать ручку дверцы и выскочить на дорогу. Бегите, услышала она доносившийся из кареты голос Санникова, ради Бога, бегите, Анастасия Петровна! Но сделать ей удалось немного — когда Анне показалось, что она уже поднялась по откосу наверх, чтобы скрыться в лесу, ее настиг все тот же казак и потянул за собою по насыпи назад к тракту. Последнее, что Анна увидела, был ползущий им навстречу Санников с окровавленной головою и сверкающая острием клинка сабля, занесенная над ее собственной. А потом она опять услышала выстрелы.
— Как вы себя чувствуете? — раздался где-то очень близко с нею знакомый голос — вот только кому он принадлежал? — Не торопитесь, не торопитесь вставать, у вас отныне есть время, много времени — вряд ли вас кто-то хватится теперь.
— А почему кто-то должен будет меня искать?.. — хотела было спросить Анна, мучительно вспоминая, где она слышала эти бархатные интонации, и замерла, разглядев, наконец, прояснившимся взором говорившего — это был Людвиг Ван Вирт.
— Что это значит, сударь? — воскликнула Анна, решительно поднимаясь со скамьи, на которой лежала, и бегло осматривая убогую избушку, где сейчас находилась.
— Голова кружится? — понимающе кивнул маг, подавая ей руку. — Потерпите, это скоро пройдет. Вы испытали сильнейшее волнение, но это несчастье поправимое. А вот Павлу Васильевичу — ведь это учитель вашего сына, господин Санников, литератор, не так ли? — повезло меньше. Ему разбили лицо и нанесли несколько ударов по голове, но, думаю, время излечит и эти раны.
— Послушайте!.. — начала было Анна, но сделанное усилие оказалось значительным, и только участие мага позволило ей избежать падения.
— Вам все-таки лучше присесть, — улыбнулся Ван Вирт, и Анна смутилась — его сердечность никак не вязалась с обликом опасного противника, который все еще казался ей единственно верным.
— А где Павел Васильевич? — спросила Анна, позволяя магу усадить себя на скамью.
— Я дал ему снотворное, он спит в бане, — пояснил Ван Вирт и, поймав удивленный взгляд Анны, снова невольно улыбнулся. — Это — охотничья избушка, здесь нет отдельных комнат, а ваш друг нуждается в отдыхе. А так как печь здесь общая и уже растоплена, то господину Санникову будет тепло и спокойно, как будто он лежит в отдельной палате.
— Но как получилось… — Анна подняла на мага удивленные глаза.
— Что мы все оказались здесь? — продолжил ее мысль маг. — Я готов рассказать, если вы обещаете слушать. Но сначала выпейте этот чай и не смотрите на меня с таким подозрением, это всего лишь ромашка, она позволит вам успокоиться.
— Хорошо, — кивнула Анна, принимая из его рук горячую металлическую кружку. — Я вся — внимание.
— Полагаю, — промолвил маг, присаживаясь на скамью рядом с ней, — вы уже догадались, что советы, даваемые вам оставить это темное дело, звучали не напрасно, однако вы пренебрегли ими.
— Я считала, что все, кто советуют мне остановиться, хотят помешать мне узнать правду об исчезновении моей сестры, — негодующе сказала Анна.
— И вы, разумеется, не подумали, что сделано это может быть и ради вашего блага тоже, — вздохнул маг.
— Так это вы попытались выслать меня из города? — воскликнула Анна, покрываясь румянцем праведного гнева.
— Я пытался спасти вас, — возразил ей Ван Вирт. — И лишь подтолкнул градоначальника к принятию решения, которое назрело прежде и без моего на то участия.
— Но кто же тогда был тот казак, что хотел убить нас? — растерялась Анна: тон мага не оставлял сомнений — он говорил правду.
— Скорее всего, его наняли Перминовы, — сказал Ван Вирт.
— Маркелов! — догадалась Анна. — Этот управляющий! Он сразу показался мне подозрительным.
— Похоже, что так, — кивнул ее собеседник. — Судя по тем сведениям, которыми я располагаю, это очень опасный и жестокий человек.
— Однако вы еще не объяснили мне, как все это связано с исчезновением моей сестры, — нахмурилась Анна.
— Что же… — Ван Вирт встал и принялся расхаживать по горнице, поведав одну из самых удивительных историй, что ей довелось когда-либо слышать в своей жизни…
После того, как маг, благодаря содействию княжны Репниной, познакомился с наследником, Людвиг Ван Вирт стал негласным советником Александра. И хотя Николай возражал против этого общения, Его высочество добился для голландца права посещения дворца для оказания трону некоторых важных услуг, что немного удивило слушавшую мага Анну. Она знала, что Александр Николаевич не был излишне склонен к мистике и колдовству, но Ван Вирт пояснил — речь шла о помощи совершенно иного рода. Обладая поистине уникальным даром погружения в мысли практически любого человека, маг стал исполнять для Александра весьма щепетильные задачи, связанные с получением информации о недавних союзниках русского трона и его нынешних врагах. А так как Ван Вирт в силу своей профессии мог свободно перемещаться по городам и странам, и был вхож в самые высокие сферы, то помогать Александру, собирая информацию на спиритических сеансах, не представляло для мага особой трудности.
— Почему, однако, я проникся такой заботой о нуждах России? — предугадал Ван Вирт новый вопрос Анны. — Мой дар дал мне понимание неповторимой роли вашей державы как главного гаранта равновесия в мировой политике. Именно Россия с ее бескрайними просторами, на которых рассеивается любой бунт, с ее бездонной глубиной души, которая как в океане гасит любые всплески и возмущения опасных энергетических волн, является для меня символом величия духовного над суетным. И когда эта истина открылась мне, я решил служить вашей стране и ее суверенам. И, поверьте, я не веду двойной игры и не замышляю недоброго, а после знакомства с супругою наследника, которая произвела на меня неизгладимое впечатление своей возвышенностью и величием духа, я и подавно уверовал в святость своей миссии и никогда ее не предам…
Ван Вирту, как он говорил, удалось сделать немало, но однажды один из поклонников его таланта дал знать магу, что его заподозрили в симпатиях к России, и он вынужден был вернуться из Европы в Петербург, где решил уединиться и отдохнуть, для чего Александр предложил ему свое имение в Мураново. Однако маг не успел в полной мере насладиться чистотой пейзанского воздуха и красотою вида за окном — вскоре его снова вызвали ко двору, а Александр поставил перед магом новую задачу.
— Вы, наверное, наслышаны о Перминовых, — Ван Вирт испытующе взглянул на Анну, и она кивнула. — Древний род, большая история, много власти и богатство, сравнимое с государевым. Получив в разработку весь Урал, они стали со временем государством в государстве, где их воля абсолютна, а их приобретения неограниченны. Разумеется, поначалу Перминовы царскую казну не обижали, но постепенно до Петербурга стали доходить слухи, что новое поколение заводчиков уже не так откровенно со своими благодетелями в вопросе обнародования своих доходов. Третье отделение получало много сообщений, что Перминовы, прикрываясь неурожаем, значительно занижали количество людей, занятых на рудниках, говоря о море и болезнях, а на самом деле переводили крепостных на секретные месторождения в горах, где эти люди исчезали без следа, равно, как и случайные вольные люди — сплавщики, охотники, по несчастью прикоснувшиеся к тайне подземных рудников семьи Перминовых.
— Так вот оно что! — невольно вздрогнула Анна, ощущая, как комок рыданий подкатывает к ее горлу, и с трудом сдерживая подступающие слезы.
— Теперь вы понимаете, — с удовлетворением отметил Ван Вирт, — что, скорее всего, послужило причиною исчезновения вашей сестры. Мне очень жаль, что она оказалась случайною жертвою в этой войне.
— Случайною? — тихим эхом откликнулась Анна. — Соня всегда была человеком самостоятельным, и она ступила на этот путь, даже и не зная всего, о чем вы мне только что рассказали, думаю, вполне сознательно. Ибо вела ее любовь — да-да, княжна Долгорукая без памяти влюблена в некоего господина Ван Хельсинга, представившегося ей ботаником, но, как я теперь понимаю, у него тоже была в этих горах своя миссия.
— Я не был лично знаком с господином Ван Хельсингом, — признался маг, — но вы не ошиблись, и это имя я услышал первым, когда приехал по срочному вызову Его высочества ко двору, где исчезновением царского порученца были серьезно озабочены. Должен сказать, что из характеристики господина Ван Хельсинга, с которой меня ознакомили, следовало, что он действительно являлся довольно серьезным специалистом в вопросах химии и даже сотрудничал с Казанским университетом в разработке искусственного красителя — анилина, получаемого, однако, из природных элементов, в том числе и из горной руды. К слову сказать, Ван Хельсинг — весьма знатная в нашей стране фамилия. Ван Хельсинг — это потомственное дворянство, благородная кровь и прекрасное образование. Правда, род молодого человека уже давно бедствует, и потому за участие в этом предприятии ему обещано было весьма солидное вознаграждение, а также — всемерное содействие в его научных разработках…
— Почему вы говорите о Ван Хельсинге в прошедшем времени? — прервала рассуждения Ван Вирта Анна.
— Потому как полагаю, что его земной путь завершен, — после некоторой паузы промолвил маг. — Я понял это еще в столице, когда впервые услышал о нем, и утвердился в своем мнении, когда ваш друг, господин Санников подал мне на сеансе тот злополучный конверт.
— Что значит — злополучный? — не поняла Анна.
— Видите ли, — вздохнул Ван Вирт, — подозреваю, что вы намеренно спровоцировали появление господина Санникова на сцене, по-видимому, желая разоблачить меня как своего врага, но в действительности же вы едва не обнаружили меня и показали вашим истинным врагам, что знаете их тайну и готовы продолжать затеянное вами так некстати расследование. Дабы не подвергать свою честь чародея сомнению, я принужден был сказать правду о содержимом того конверта, но одновременно невольно озвучил опасения господина Меркулова, представляющего здесь интересы господ Перминовых в серьезности ваших намерений пойти в поисках ответа на волнующие вас вопросы до конца.
— Но вы сами вынудили меня к этому! — возмутилась Анна. — Ваш человек — а я уверена, что это был ваш человек! — повсюду преследовал меня, и более того, полагаю, что он подкупал купцов с тем, чтобы они не продавали мне провиант и лошадей для моей экспедиции.
— Да, вы угадали, это был мой человек, — согласился маг, — но в его обязанности входило оберегать вас, а сговор, о котором вы говорите, был затеян не нами, а всемогущими Перминовыми и их управляющим, кто в здешних краях — и царь, и бог, как ни прискорбно мне так говорить, а вам это слышать.
— Но неужели само Третье отделение бессильно указать господам Перминовым, что значат они перед Богом и императором? — воскликнула Анна.
— Для того у них должны быть веские доказательства, однако ни один из агентов, посланных на поиски тайных рудников на Урал, не вернулся, — горестно развел руками Ван Вирт. — И упоминавшийся здесь Ван Хельсинг, как вы уже знаете, тоже. Вместе с вашей младшею сестрой, о чем я глубоко сожалею. Но не пугайтесь, о ней у меня нет дурных предчувствий, и, возможно, мне удастся помочь вам и княжне.
— Вы собираетесь отправиться на поиски этих секретных шахт? — растерялась Анна.
— Собственно говоря, это и есть мое задание, — пояснил Ван Вирт, — ваше появление здесь едва не поставило его под угрозу. Вы привлекли к себе слишком много внимания, а между тем время идет. Страна нуждается в богатствах, которые Перминовы скрывают от государя, ибо, по пока еще не проверенным слухам, они держат целый подземный завод по добыче алмазов и изумрудов, не говоря уже о серебре. Кстати, недавно из Святых мест были доставлены серебряные монеты, по штемпелю отпечатанные на московском монетном дворе, но самого металла в них было значительно меньше, нежели это положено. А деньгами теми внес взнос в русское подворье один из младших Перминовых, которые владеют самыми большими серебряными месторождениями и являются главными поставщиками этого металла для монетных дворов Российской империи. Как вы понимаете, поступок этот возмутил даже Патриарха. Негоже, чтобы на бедах и нужде государства слуги его жирели и благоденствовали.
— Я поеду с вами! — решительно сказала Анна.
— Вам не стоит собою рисковать, — покачал головой Ван Вирт. — И тому есть две причины: во-первых, вы стали здесь уже довольно известны, а во-вторых, ваш спутник нуждается в помощи. Пока я отправлюсь по его стопам, вы последите за его здоровьем и сами отдохнете.
Маг не договорил, дверь в горницу открылась, и из сеней вошел — тот самый, ахнула Анна — мажордом. Незнакомец искоса посмотрел на нее, а потом повернулся к хозяину и сказал:
— Дело сделано. Теперь для всех с ними покончено.
— Спасибо, Карл, — кивнул Ван Вирт, но Анна не дала ему уклониться от объяснений:
— Что это значит? И с кем покончено? Отвечайте же! Мне и так надоели все эти секреты и заговоры!
— Хорошо, — вынужден был согласиться Ван Вирт. — Добившись решения градоначальника о вашем выдворении из города, я, предполагая, что на вас дорогою может быть совершено нападение, поехал в своей карете следом. Однако для того, чтобы не выдать себя, нам пришлось соблюдать дистанцию, а потому мы приехали, когда уже раздались первые выстрелы. К сожалению, мы не смогли помочь людям, что сопровождали вас, но так, наверное, и лучше — ваша смерть будет на этом фоне выглядеть более убедительной.
— Моя смерть? — побледнела Анна.
— Ваша и господина Санникова, — как ни в чем ни бывало кивнул ей Ван Вирт. — Чтобы я смог безбоязненно продолжить свою миссию, мне необходимо было убедить ваших врагов, что их цель достигнута. Для чего, пока я увозил вас и господина Санникова вглубь леса, в эту сторожку, мой ассистент, который вот уже много лет верой и правдой служит мне, представил происшествие на тракте наилучшим образом. Он направил лошадей к обрыву, а потом, освободив их от сбруи и отведя в сторону, столкнул карету с обрыва и следом сбросил в реку ваши и господина Санникова вещи. Так что, если кто-то и захочет проверить, что с вами стало, они найдут трупы погибших казаков, перевернутую карету на дне ущелья и остатки ваших вещей, вынесенные на берег речным потоком.
— И вы хотите сказать, что они так просто поверят в нашу гибель и не станут искать наши тела? — не поверила ему Анна.
— А зачем? — пожал плечами Ван Вирт. — Течение здесь мощное и быстрое, погибших вполне могло унести далеко от места трагедии и к тому же разбить о скалы на порогах… О Господи, да не вздумали ли вы всерьез подозревать нас в том, что мы действительно собираемся избавиться от вас? Баронесса, умоляю, побойтесь Бога! Я здесь для того, чтобы свершить правосудие, а не творить произвол!
— Простите, — смутилась Анна, она и не подумала, что выражение глаз и лица выдаст ее, а самые сокровенные мысли будут просто прочитаны вслух. — Поймите и вы меня — за эти дни столько случилось всего: и ужасного, и печального, что любому впору было разувериться.
— Надеюсь, теперь-то вы забудете свои подозрения и примите нашу помощь? — Ван Вирт испытующе взглянул на нее, и Анна виновато опустила глаза. — Хорошо, будем считать ваше молчание знаком согласия.
— Да, — немедленно вскинулась Анна, — но только в одном — обещаю доверять вам безраздельно, но оставаться здесь не стану. Или я иду с вами, или… я доведу вас до того, что вам на самом деле придется меня убить!
Ван Вирт рассмеялся и переглянулся со своим ассистентом:
— Воистину к вам стоит обращаться не ваше сиятельство, а ваше воительство! Дорогая баронесса, мне предстоит тяжелый путь верхом по непроходимым лесам. Это не лучшее времяпровождение для светской дамы.
— И, тем не менее, до сих пор вы не сказали ничего, что могло бы разубедить меня и отказаться от своих намерений, — не сдавалась Анна. — Если бы вы знали меня несколько дольше, то понимали бы — трудности мне не страшны. Поверьте, за последние годы мне пришлось пережить многое, преодолеть столько гор и водных гладей, что нынешняя экспедиция вряд ли сравнится с моими прежними путешествиями в опасности и лишениях. И потом — ваш отказ взять меня с собою ничего не изменит: если потребуется, я пойду пешком, через лес, потому что это — моя борьба, и это моя сестра нуждается в помощи. В поисках своего мужа я преодолела океан, неужели вы полагаете, что какой-то горный хребет остановит меня?
На минуту Ван Вирт задумался, а потом попросил:
— Дайте мне вашу руку, баронесса.
Безотчетно повинуясь его голосу и взгляду, Анна подала Ван Вирту руку, и он мягко пожал ее, словно утопил в тепле, мгновенно распространившемся на все ее тело. И Анне даже привиделось будущее — изумрудные леса, высокая гора и провал, в который она летит без оглядки и страха. Там было еще что-то или кто-то, но не Соня, что-то тревожное и счастливое одновременно, но разглядеть или хотя бы осознать это Анна не успела — Ван Вирт вдруг опустил ее ладонь.
Анна с недоумением воззрилась на него — что это было? Видение? Или предчувствие? Маг между тем посмотрел на нее с грустью, но взгляд его был светел, а улыбка прозрачна.
— Договорились, ваше сиятельство! Кажется, у меня есть основания полагать, что впереди у вас будут новые приключения, а значит, из этого вы выйдете победителем. Однако сейчас нам стоит навестить господина Санникова — наверное, он уже пришел в себя и сейчас тоже решает вопрос, на каком он свете. Так объясним же и ему все и узнаем, где нам искать тайный рудник и вашу сестру.
— Но Павел Васильевич говорил мне, что ничего не помнит, — предупредила Анна.
— А для чего, по-вашему, я здесь? — улыбнулся Ван Вирт.
Велев своему ассистенту подготовить все в избушке к их отъезду — принести воду из колодца во дворе, запасти сушняк для растопки и внести в дом дрова, маг вместе с Анной навестил Санникова, и, пока он вкратце объяснял Павлу Васильевичу суть произошедшего с ним и баронессой, Анна размышляла о превратностях судьбы. Вот уже второй раз этот человек спасает ее — случайность это или знак небес? И что в таком случае должен он означать?.. А потом она еще раз увидела воочию сеанс магии — Ван Вирт, велев Анне сесть в дальний угол и молчать, взялся разговаривать с Санниковым да так, что тот вскоре сделался, как сомнамбула, отчего мысли его стали свободны, а те из них, что заблудились в лабиринтах сознания, нашли, наконец, выход, и Санников стал вспоминать…
Утром Павел Васильевич проснулся посвежевший и счастливый, но все же сил у него еще было маловато, и потому Карл на руках перенес его в горницу.
— Прошу вас, — наставлял Санникова Ван Вирт, — если почувствуете холод, топите понемногу, нельзя, чтобы сильный дым привлекал к себе внимание. Из избушки тоже старайтесь часто не выходить — звери быстро поймут, что в лесу кто-то есть, а люди прочтут эту новость в их поведении. Конечно, вам будет трудно одному…
— Одному? — перебила его Анна. — А разве Карл не остается здесь? Вы же сказали, что к руднику отправимся только мы с вами?
— Карл поедет дальше, в Симбирск, — пояснил Ван Вирт. — Как вы, надеюсь, помните, я уехал из Каменногорска, чтобы продолжить свои гастроли. И если я не появлюсь в следующем месте, где меня ждут, то это вызовет подозрение. Поэтому Карл возьмет мою карету и под видом Людвига Ван Вирта станет давать сеансы спиритизма и магии. И ждать, когда мы вернемся.
— Но… — растерянно протянула Анна, и маг понял ее:
— Не бойтесь, нам удастся избежать разоблачения. У Карла — таланты его отца.
— Так это!.. — воскликнула Анна и смутилась. — Вы кажетесь таким молодым…
— А вы полагали меня существом бестелесным и не знающим тягот времени? — искренне рассмеялся Ван Вирт. — Я был женат и счастливо женат, но моя супруга умерла при родах, подарив мне этого чудесного мальчика, которому передался мой дар и ее лучшие качества — преданность и терпение. Уверяю вас, Карл прекрасно справится со своей ролью, а мы тем временем должны будем пересечь тот перевал, о котором вспомнил Павел Васильевич, и найти церковь, о которой он говорил. Уверен, она как-то связана с местоположением рудника. Что же касается вечной молодости, то ее мне дают небеса. Не улыбайтесь, баронесса, и поверьте — я и сам не знаю, благо это или плата за то, что мне выпала честь стать посредником между высшими силами и тайными помыслами людей… А теперь последний вопрос к вам, Анастасия Петровна, — вы готовы к испытаниям? У вас еще есть время, чтобы передумать — остаться в сторожке и дождаться моего возвращения…
Глава 4
Алмазное подземелье
— Похоже, мы нашли то, что искали, — негромко сказал Ван Вирт, жестом указывая на видневшуюся впереди на холме небольшую деревянную часовню. Она стояла чуть поодаль от лесной опушки, в тени которой прятались Анна с магом, — почти на откосе, откуда с поляны открывался свободный вид на всю округу, так что подойти к ней при свете дня незамеченными оказалось просто невозможно. Особенно чужому, свои же, по-видимому, уже были здесь: к перекладине стойла близ крыльца кто-то, приехавший к часовне прежде Ван Вирта и Анны, привязал лошадь. Но, судя по всему, место это было животному хорошо знакомо, и поэтому лошадь привычно и неторопливо жевала брошенное в кормильные ясли сено, лишь изредка вздрагивая ушами на подозрительное шуршание опавшей листвы по траве.
Осень стояла теплая, но увядание брало свое — чащи становились прозрачнее, а огненное золото листьев с легкостью повиновалось потоку ветра, словно невзначай то тут, то там смахивающего с ветвей их недавно роскошное одеяние. Ван Вирт смотрел на чудачества ветра с опасением, думая лишь о том, как сохранить тайну их появления в здешних краях, Анна же думала о другом…
Они покинули охотничью сторожку на рассвете. Молчаливый Карл, поднявшийся раньше других, подготовил лошадей к походу. И вчера, наблюдая, как он управляется с животными, Анна отметила еще один удивительный дар молодого Ван Вирта — лошади слушались его, точно он был и не хозяин даже, а вожак, и вели себя послушно и спокойно. Инсценировав картину гибели Анны и ее спутника, Карл увел с собою стоявших в упряжке кареты коней и тех двух, что были под казаками, и теперь они должны были помочь магу и Анне добраться до места, о котором рассказал Санников. Одну из лошадей Карл навьючил провизией и теплыми вещами — вдруг придется заночевать в лесу, вторая должна была идти налегке — она предназначалась для смены. На оставшихся двух предполагалось ехать магу и Анне, и весь вечер перед походом Карл колдовал с седлом для одной из них, приспосабливая для езды верхом под женскую фигуру — грел на огне и стучал по изгибам тяжелым колышком, размягчая и придавая седлу новую форму. И когда утром Анна по просьбе Карла опробовала его работу, седло оказалось довольно удобным: она могла сидеть боком, не рискуя упасть, и — в самом седле, без опасения с непривычки утомиться от езды верхом. На что Карл удовлетворенно кивнул головою, по-прежнему молча и без малейшего проявления иных эмоций. И, надо сказать, эта его сосредоточенность успокаивала.
Волнение, которое не оставляло Анну все эти дни, несмотря на предстоящие трудности, отступало, когда она говорила с Ван Виртом или наблюдала за тем, как ведет себя Карл. Возможно, этим людям было открыто нечто большее, нежели способность ловкости рук и склонность к проницательности. И, глядя на отца и сына, Анна подумала, что мишура волшебства и театральности, которая окружала их, — всего лишь защита от людей, которые не всегда с должным пониманием относятся к существам, наделенным необычным даром. Страх перед неизвестностью и неопределенностью — вот, что всегда стесняет талант в обыденности, среди людей и правил жизни, заставляя видеть в исключительности ярмарочное уродство или розыгрыш. Однако, затаив дыхание, пока Людвиг Ван Вирт расколдовывал пострадавшее сознание Санникова, Анна впервые почувствовала не ужас перед тем, кому позволено погружаться в глубины памяти, а благодать откровения — как будто и ее коснулось просветление разума, которым мягко и бережно управлял Людвиг Ван Вирт.
На ее глазах Санников неспешно и весьма артистично принялся читать по памяти свой пропавший дневник, и Анна в который раз отметила, как хорош слог его письма, как выразительны даваемые им описания, как точны сделанные даже мимоходом наблюдения и как безысходно прекрасное чувство, испытываемое им к загадочной душе княжны Долгорукой. Лицо Павла Васильевича, умиротворенное и словно озаренное наконец-то достигнутой ясностью в казалось бы навсегда утерянных воспоминаниях, поражало открытостью — его взор не был ничем замутнен, и во всем его облике уже не чувствовалось прежней тревоги и сожаления о потерянном дневнике и чувствах.
Санников словно освободился от давления обстоятельств и груза обиды, горечи и сердечной боли; он как будто заново переживал дни путешествия с Соней и ее возлюбленным, не ощущая при этом ничего, кроме радости созерцания красоты окружавшей его природы и примет незатейливой любовной игры, которая велась между княжной и Ван Хельсингом на уровне слов, интонаций и полунамеков. Ван Вирт уже, кажется, и не спрашивал Санникова ни о чем — тот говорил сам, говорил, говорил…
«Господин „аптекарь“ все время не без доброй иронии именует княжну ее сиятельством, окружая всеми знаками внимания, каковые положены при обращении к особе самого высокого ранга. Его предупредительность внешне кажется насмешливой, но за нею кроется очаровательная юношеская бравада, когда, уже сдавшись внутренне без боя, молодой человек пытается сохранить видимость неприступной обороны, а гуманный победитель иного пола не торопится с требованием признания своего торжества, ибо тот, кто должен сделать его, — не враг, а страстный и восторженный обожатель…
Я всегда мечтал о проявлении со стороны Софьи Петровны именно таких чувств — непреходящего трепета, в котором читалось бы столь волнующее воображение влюбленного ожидания, не важно чего — случайного и задуманного прикосновения, стороннего или намеренного взгляда; волнения, переходящего в едва уловимую вибрацию в тоне голоса, неожиданно для самого себя приобретающего столь всеобъемлющую палитру интонационных оттенков и красок, что невольно проникаешься изумлением к собственному, лишь недавно под воздействием обстоятельств благоприобретенному художественному дару. Мне хотелось видеть обращенным к себе ее очарованный взор, в котором любовь незаметно превращала в притворство казалось бы явное негодование, а силуэт откровенного призыва умело драпировала в складках торжественной тоги Фемиды или непорочной жрицы, посвященной какой-нибудь из древних богинь. И вот я вижу все это и понимаю, что желанные чувства подарены Софьей Петровной не мне. Но, однако, странное дело — я не испытываю ни ревности, ни зависти к своему счастливому сопернику, ибо не могу считать господина Ван Хельсинга таковым — как нельзя Луне сердиться на Солнце за то, что его свет сильнее, потому как ночное светило — лишь слабое отражение настоящего небесного огня…
Удивительно, насколько изобретательна любовь, создавая свой ритуальный язык и правила поведения в кругу общепринятых условностей. Скрывая для других очевидное, настоящие влюбленные окружают ореолом таинственности и флером невинности то, что уже давно не является предметом откровения, но именно такое их преклонение перед испытываемым ими чувством заставляет и других поверить и в его тайну, и в его исключительность. И потому истинные влюбленные не похожи на тех хитрецов, которые, как говорится в пословице, — „сам себя обманул“. Напротив, пряча от посторонних взглядов и суждений свои истинные желания, они наделяют их романтичностью и возвышенностью, каковая подстать лишь самым высоким образцам искусства, запечатлевшим на холсте или в мраморе, в нотных знаках или с помощью изящной словесности величайшую иллюзию всех времен и народов, имя которой — любовь. Загадка, решение которой известно каждому, секрет, который не спрятан за семью замками даже от детей, тайна, оберегать которую бессмысленно, ибо она всегда на виду и объявляет о себе во всеуслышание, к каким бы ухищрениям не прибегали те, кто пытаются ее сохранить прежде всего от самих себя…
Мне кажется, господин Ван Хельсинг — не тот, за кого себя выдает. Или, по крайней мере, поиски его направлены не на изучение редкой уральской флоры. Но вместе с тем образ его мысли и поступки столь благородны, что я подозреваю в нем следопыта и по стечению обстоятельств благородного рыцаря. В том, похоже, уверена и Софья Петровна, которая, без малейшего на того сожаления утратив прежнее свое лидерство, беспрекословно следует за ним по пятам — послушно, но без равно унизительной для них обоих покорности. В этой нежданно-негаданно составившейся паре я наблюдаю такое единодушие и взаимопонимание, каковое составляется между людьми, прожившими бок о бок не один десяток лет, а между тем их знакомству не исполнилось еще и трех месяцев. Так неужели же оно воистину существует — то, что поэты и художники называют предназначением, предначертанием, предопределенностью друг другу, и браки действительно совершаются на небесах?..
Полагаю, господин Ван Хельсинг совершил искомое открытие, но отчего тогда немедленно сделался столь задумчив и даже суров? Софья Петровна тоже чувствует это, и ее напряжение передается нам обоим — ее возлюбленному и мне, рыцарю печального образа прекрасной княжны, поклоняться которому мне позволено, но служить более уже не дано. Я составил подробную карту нашего последнего путешествия в горы, что привело господина Ван Хельсинга в такой ужас, что он попытался было отнять у меня этот дневник, и лишь вмешательство княжны и моя решительность, с которой я охранял свои заметки от преждевременного обнародования, укротили его настойчивость, но все же полагаю, „голландец“ будет пытаться ознакомиться с содержанием дневника, что всегда было позволено единственно лишь баронессе Анастасии Петровне Корф — моему верному критику, которому я когда-то беспрекословно отдал право первой ночи своих литературных произведений. Думаю, в свете всех этих событий мне следует завтра же отправить дневник с ближайшей почтой в Петербург, ибо только так я могу быть уверен в его неприкосновенности. Наша долгая дружба с Анастасией Петровной и то уважение, которое она выказывает моему таланту, позволяют мне не сомневаться в том, что до нашего возвращения в столицу тетрадь останется в надежных руках. Я пытался сказать об этом и господину Ван Хельсингу, но он лишь покачал головою, как будто укорял меня за самонадеянность. Не понимаю, почему „голландец“ так встревожен и что побуждает его нагнетать излишнее, как мне представляется, волнение, беспокоя Софью Петровну, отчего в ее бездонных голубых глазах появляются признаки ожидаемой бури. И мне хотелось бы думать, что движется она не ко мне, а в неизвестном природе направлении…»
— Не хотите поговорить? — осторожно спросил Анну Ван Вирт, когда, увидев, что Санников снова заснул, она тихо вышла на улицу.
— Разве здесь есть неясности? — вопросом на вопрос отвечала Анна, удивившись, насколько быстро маг последовал за нею.
— Я имею в виду не господина Санникова, — покачал головою Ван Вирт, — а вас, баронесса.
— Не понимаю, — пожала плечами Анна, зябко поеживаясь на прохладном вечернем воздухе.
— Вас что-то тревожит, — сказал Ван Вирт, жестом высказывая просьбу, чтобы она не бежала от разговора с ним, — и я уверен, что волнение это не связано с тайной исчезновения вашей сестры и только что услышанными воспоминаниями господина Санникова.
— Вы ошибаетесь, — смутилась Анна, невольно выполняя его просьбу, — она остановилась при входе в избушку и оперлась спиною на столб, поддерживающий покрытый мхом навес над крыльцом.
— Я могу ошибаться в деталях, ибо по большей части они скрыты даже от вас самой, но мне всегда ведома суть, — мягко улыбнулся ей Ван Вирт, складывая руки на груди и глядя Анне прямо в глаза, отчего она почувствовала необъяснимое доверие к магу, которое все сильнее овладевало ею, и когда сопротивляться его влиянию уже было для нее не возможно, Анна по-детски открыто и беспомощно спросила:
— Зачем вы делаете это со мной?
— Я читаю в вашей душе невероятную усталость, — с сердечностью промолвил Ван Вирт после минутной паузы, — и, будучи наделен способностью видеть это, предлагаю и вам помощь, подобную той, что оказал сегодня господину Санникову.
— Но у меня нет провалов в памяти, — все еще слабо противясь воздействию его чар, прошептала Анна.
— Однако есть табу, которое камнем лежит у вас на сердце, и, не освободившись от которого, вы не сможете вырваться из тенет его, — Ван Вирт убеждающее властно на мгновение прикоснулся ладонью к ее руке, и в то же мгновение на лице его мелькнула улыбка, прозрачная и легкая, как взмах крыльев мотылька, «раскрывающего тайны». — Расскажите мне, отчего вы всегда так напряжены и воинственно настроены, как будто в любую минуту готовы дать отпор нападающему, даже если он существует только в вашем воображении? Объясните, почему ждете неприятностей и подозреваете худшее?
— Я устала от потерь, — просто сказала, как будто выдохнула, Анна. — Их череда все это время настигала меня с такой определенностью и постоянством, что я стала бояться новостей и нечаянных известий.
— Вы обвиняете себя в их изобилии на своем пути или видите в том знак судьбы, чей промысел вам неподвластен? И чего вы боитесь более всего — собственной беспомощности перед неизвестностью или намеренностью неких внешних сил вредить вам, во что бы то ни стало? — продолжал свои расспросы Ван Вирт.
— Я ничего не боюсь, — ответила Анна. — Я хочу, чтобы этот исход близких мне людей прекратился. Мне нравится встречать, но количество приобретений в моей жизни обратно пропорционально потерям.
— И вы бросаетесь в путешествие, чтобы вырваться из этого круга? — понимающе кивнул Ван Вирт. — Но перемена места между тем не привносит изменений в образ жизни, не правда ли?
— Зачем вы спрашиваете, если и так знаете все? — устало промолвила Анна.
— Догадываться и знать наверняка — далеко не одно и то же, — снова улыбнулся Ван Вирт, и в который раз его улыбка подействовала на Анну обезоруживающе. — Я хотел убедиться в том, что чувствую, и помочь вам избавиться от наваждения, которое вы сами внушили себе.
— О чем вы говорите? — растерялась Анна, чувствуя легкое головокружение.
— Я хочу, чтобы вы поняли, — вкрадчивым тоном ответил Ван Вирт, — что вашей вины нет ни в том, что когда-то случилось с вашим мужем, отцом и сестрой, ни в том, чего едва избегли ваш сын и княжна Софья. И отсутствие вины освобождает вас от обязательств по исправлению ошибок, которые не вами же были и допущены.
— Вы полагаете, что я все это время напрасно стремилась помогать своим близким? — с трудом удерживая ускользающее сознание, проговорила Анна.
— Уверен, вам не в чем себя обвинить — ни тогда, ни сейчас, — как-то очень настойчиво принялся убеждать ее маг. — Вам следовало просто принять то положение дел, которое сложилось под давлением обстоятельств, а значит — усмирить гордыню и положиться на небеса.
— Сидеть и ждать? — понимающе кивнула покорная Ван Вирту Анна.
— Терпение — высшая добродетель любого существа, — странным голосом, как будто накрывая Анну его звучанием, точно куполом, стал вещать ей Ван Вирт. — Откажитесь от суеты и гордыни, примите высшую волю и покоритесь ей. Оставайтесь и ждите, пока сам по себе не свершится круговорот возвращения. Не лишайте судьбу ее права все вернуть на круги своя и не возомните свое «я» равным ей…
Этот сон впервые принес Анне с собой облегчение. Она словно вышла из тени на свет, и под его лучами миражом растворились очертания прежних страхов и чувство вины. И зачем она вздумала вдруг пересечь океан, чтобы вновь потерять то, что уже потеряла? И как сталось, что обязанности матери были принесены ею в жертву ради поисков сумасбродной девчонки, которая всегда жила лишь одними желаниями и не знала своих обязанностей, не ведала чувства долга перед близкими людьми? Как могла она пренебречь доверием своей госпожи, которая так нуждалась в ее помощи в эти дни? Отчего не довольно ей было уже пережитых лишений и бед, что она устремилась на поиски новых? И по мере того, как вопросы, роившиеся в ее голове, приходили на ум, Анна все более уверялась в том, что ей не стоит более ни из-за чего волноваться. И чем крепче утверждалась она в этом решении, тем больше света окружало ее. А потом он и вовсе превратился в единое пространство, заполнившее пустоту ее души теплом и ослепительной, но такой приятной, точно волна, обтекающей тело белизной, которая окончательно поглотила и все прежние сомнения, и ее саму…
Из забытья Анну неожиданно вывел большой паук — он спустился с потолка по сплетенной, за ночь нити к ее лицу и едва не зарылся в ресницах, а потом пробежал вдоль линии носа, и быстрые касания его колких лапок невольно разбудили Анну. Конечно, она очнулась не сразу, но, едва приподняв голову от подушки (роль которой выполняло по-солдатски скрученное шерстяное одеяло), первым делом спросила себя, как могло оказаться, что она совершенно не помнит, как легла спать, и кто устроил ей постель, укрыв теплым, с подбоем плащом? И вообще — где она находится, и что случилось с Павлом Васильевичем, ведь из города они выехали вместе?
Судя по краю еле бледного неба, видного в перекрестие маленькой оконной рамы, солнце еще не взошло, но рассвет все же был уже близок. Анна с трудом встала с широкой скамьи, на которой для нее устроено было ночное ложе, и подошла к окну — на улице перед избушкой двое разговаривали по-немецки, и по отдельным обрывкам фраз, слабо доносившихся до нее, Анна поняла, что эти люди намерены были уехать засветло и сейчас проверяли, все ли готово к отъезду. И повинуясь пока еще необъяснимому для нее порыву, Анна встряхнула головой, сбрасывая никак не отступавшую дремоту, и вышла на улицу.
Увидев ее, двое мужчин, так странно похожих друг на друга, замолчали, а один из них покачал головою и вздохнул:
— Я должен был понять, что у вас слишком сильная воля, баронесса.
— Господин Ван Вирт? — воскликнула Анна, и произнесенное имя как будто сняло пелену с ее глаз и памяти.
Очнувшись от наваждения, она бросилась на мага с кулаками, но путь ей преградил младший Ван Вирт — Карл ловко схватил руками Анну в кольцо довольно крепких, но совершенно не романтичных, объятий и удерживал до тех пор, пока она не обмякла и не заплакала от обиды и проявленной слабости.
— Вы — негодяй! — гневно бросила в лицо магу Анна. — Теперь я поняла, что означал наш вчерашний разговор. Вы хотели лишить меня решимости продолжать поиски сестры! Вы все это время лгали мне, вы лицемер, вы… вы…
— У вас слишком богатое воображение, ваше сиятельство, — усмехнулся Ван Вирт, делая знак сыну, чтобы тот отпустил Анну. — Ни я, ни мое отношение к вам не изменилось с прошедшего вечера. Я всего лишь пытался остановить вас, потому как понимал — обычные уговоры, взывающие к здравомыслию, на вас вряд ли подействуют, для этого вы чересчур решительны и самостоятельны, а потому мне пришлось прибегнуть к другим методам убеждения. Увы, они тоже оказались непростительно слабыми. Что лишний раз подтверждает мое восхищение вами — подобные целеустремленные натуры встречаются так редко!
— А, — не без сарказма протянула Анна, — вы избрали новую тактику — пытаетесь отвлечь меня своей грубой мужской лестью! Не выйдет!
— Это я уже понял, — кивнул Ван Вирт и вздохнул. — Будем считать, что фокус не удался. А потому предлагаю вам мировую.
— Значит, я еду с вами? — Анна недоверчиво взглянула на мага.
— Увы, — сдаваясь, развел руками Ван Вирт.
— Хорошо, — все еще с опаской посматривая на него, сказала Анна. — Что я должна делать?
— Ступайте с Карлом, он проверит, хорошо ли вышло седло для вашей лошади, — улыбнулся Ван Вирт. — В отличие от меня, он был уверен, что оно все-таки понадобится. Да, похоже, я старею, и пора уступать дорогу молодым… Идите, идите с ним и не бойтесь, больше сюрпризов не будет. А когда закончите, возвращайтесь, мы вместе разбудим господина Санникова, я сделаю ему перевязку, а послезавтра с рассветом мы отправимся на поиски вашей сестры. Дорога предстоит долгая и судя по всему — утомительная. Так что нам с вами понадобятся и силы, и согласие в пути.
В отличие от Анны, пробужденный магом Санников выглядел хорошо отдохнувшим и спокойным. Возможно, подумала Анна, проснись она по времени, загаданном для нее Ван Виртом, то вела бы и чувствовала себя точно так же. Кем же был для нее тот паучок-почтальон — вестником судьбы или случайностью, способной разрушить даже самые хитроумные и детально просчитанные заранее замыслы?
А потом они выехали — Карл отправился продолжать путь по тракту, чтобы вовремя появиться в Симбирске, где его отца ждали с гастролями; Анна же с Ван Виртом углубились на лошадях в лес по едва заметной охотничьей тропе…
— Что вы собираетесь предпринять? — почему-то тихо спросила Анна, как будто кто-то мог услышать ее в этом забытом богом лесном краю.
— Ждать, — так же тихо ответил ей Ван Вирт, продолжая смотреть в сторону часовни, и добавил: — Набраться терпения и ждать. Полагаю, тот, кто привязал у крыльца лошадь, скоро вернется.
— Почему вы так решили? — Анна удивилась его уверенности.
— Если бы ее хозяин или тот, кто строил эту часовню, рассчитывал на долгую стоянку, то он, скорее всего, позаботился бы о навесе для лошадей, — пояснил Ван Вирт, оборачиваясь к своей спутнице. — Нет-нет, у приезжающих сюда людей не было намерения слишком долго оставаться в часовне…
— О! Смотрите! — воскликнула Анна, невольно прерывая мага, и тот быстро повернул голову, следуя за направлением ее взгляда.
Из часовни, не торопясь, как будто делал это ежедневно, вышел какой-то человек — по одежде его можно было принять за охотника, но единственной охотничьей принадлежностью оказалась при нем кожаная сумка для дичи, однако ни самой дичи, ни ружья, ни патронташа к нему, ни рожка для пороха или кошеля для огнива Анна не заметила. Незнакомец, лица которого из-за дальности расстояния разглядеть тоже не удалось, явно не опасался быть застигнутым врасплох — вел себя спокойно, с уверенностью человека, знающего, что без предупреждения появиться здесь некому. И даже поведение лошади подтверждало, что на то были у незнакомца все основания, — животное ожидало приближения хозяина без малейшей нервозности, равнодушно дожевывая сено. «Охотник» между тем довольно бесцеремонно прервал умиротворенный завтрак своего скакуна, шлепком взбодрив лошадь по крупу, потом отвязал от перекладины поводья и не без усилия потянул упирающееся животное за собой — лошадь явно не хотела отрываться от своего приятного занятия. И ее упрямое упорство даже вызвало хозяйский смех, который донесся до Анны и мага слабым отголоском — ветер дул в их сторону, но рассеивался в орешнике близ опушки, где они прятались. Потом охотник с легкостью, удивительной для его значительной комплекции, вскочил в седло и направил лошадь прочь от часовни. Но двигалась она каким-то странным аллюром, избегая езды по прямой.
— Ловушки! — догадался маг и, поймав недоуменный взгляд Анны, кивнул. — Судя по всему, вокруг часовни на всякий случай расставлены капканы для непрошенных гостей.
— И как мы сможем их избежать? — расстроилась было Анна.
— А мы и не полезем прямо в пекло, — улыбнулся Ван Вирт. — Давайте-ка для начала узнаем, кто этот человек и куда он направляется.
Незнакомец, от которого они, по-прежнему незамеченные, все время старались держаться на приличном расстоянии, хотя двигались точно по следу, полагаясь на исключительный слух и наитие мага, невероятным образом заранее предчувствующего любой поворот или остановку седока, за которым они следили, привел их, наконец, к заимке у подножья горы, против которой и была установлена часовня. И Анна вдруг поняла, что все это время они шли вкруг этой самой горы, ни отыскать подходов, ни приблизиться к которой им прежде не удалось.
Воображаемая карта, на словах нарисованная Санниковым Ван Вирту, поначалу, казалось, заманивала их в непроходимую чащу, уводя вглубь огромного лесного массива, пугавшего своей безжизненностью. Эта часть тайги была похожа на сказочный, заколдованный чей-то злою волею лес, в котором все живое замерло, подвластное взмаху недоброй волшебной палочки. Пока они ехали, Анна не слышала пения птиц, не замечала движения белок по ветвям величественных, но как будто окаменевших сосен с роскошными, неумирающими, вечно зелеными кронами, и ничто не указывало на привычную для типичного леса суету меж трав и в кустарниках — ни косуль, ни вездесущих зайцев. Словно что-то давно и всерьез напугало лесных обитателей, и звук копыт стал для них отныне сигналом тревоги, которую усиливал полумрак, — солнце, похоже, тоже было бессильно пробиться сквозь плотную стену мощных стволов и высокой, неисхоженной травы, в которой едва угадывалась та узенькая тропа, что вела их на слабый проблеск света впереди.
Будучи не в силах отстраниться от неприятного ощущения неизвестной опасности, словно исходящей от леса, который они пересекали, Анна старалась не смотреть по сторонам и лишь крепче держалась за луку приспособленного для ее удобной поездки седла, вздохнув свободно лишь тогда, когда они достигли, наконец, края, остановившись на обрыве огромной каменной реки. Вода, судя по всему, текла где-то под огромными валунами, но услышать ее шелест можно было, лишь приблизившись к самым камням, что и сделал Ван Вирт — спешившись с лошади, он наклонился, приложив ухо к расщелине между двумя соседними валунами. Потом он проделал то же самое еще в двух-трех местах, пройдя до другого берега реки.
— Весьма интересное явление, — сказал Ван Вирт, возвращаясь в Анне. — Судя по всему, река течет от холма, что напротив горы, которую она опоясывает, точно неприступный ров, — лошади здесь не пройдут, равно, как и вы, сударыня, эти камни не для ваших ботинок. Не смотрите на меня так испуганно — этот вывод может сделать каждый, не прибегая к ясновидению. Камни со стороны холма холоднее — значит, оттуда сильнее течение реки, что и указало мне, в конечном счете, его направление. Однако, по словам вашего друга, нас должна интересовать именно та гора, а потому, прежде всего, следует найти подходы к ней.
— Но здесь мы не пройдем? — кивнула Анна.
— Да, — подтвердил Ван Вирт и махнул рукою в сторону от горы, — так попытаемся же отыскать этот путь с того холма. У него, мне представляется, слишком откровенное стратегическое положение по отношению к объекту нашего исследования.
Ван Вирт оказался прав — поднявшись на холм, они и обнаружили установленную на ней часовню. Построена она была добротно и основательно, и с холма от нее открывалась круговая панорама и на гору, и на подступы к ней. И вот теперь, следуя за незнакомцем, они убедились в том, что место это выбрано было не случайно — кто-то очень постарался обезопасить свое тайное пребывание в этих краях.
— Что дальше? — спросила Анна Ван Вирта, когда они остановились на небольшой возвышенности за деревьями в виду заимки.
Невольно приведший их туда незнакомец между тем подъехал к укрепленному частоколу, которым был обнесен стоявший во дворе просторный сруб с высоким крыльцом под крышею, подстать купеческим палатам и, не слезая с седла, ударил в колокол при входе. На звук его, однако, ответили не сразу, но после второго требовательного сигнала из баньки, примостившейся на другом краю двора, выбежал мужик, на ходу застегивавший казачьи галифе, и бросился открывать ворота. Незнакомец, въехавший в распахнутый ставень, остановил лошадь у крыльца, дождался, когда растревоженный его приездом мужик запрет засов на воротах и подойдет принять у него поводья, и что есть силы врезал казаку по физиономии. От неожиданности тот не смог уклониться от удара, и кровь немедленно потекла по его подбородку из разбитого носа. Анна не слышала, что кричал незнакомец, но по всему было видно, что он разозлен и что-то обидное выговаривал сейчас встретившему его на свою беду мужику. Казак понуро, с опаской потихоньку отирая сочившуюся по лицу кровь, слушал незнакомца с почтением и виноватостью, а из дома и баньки в приоткрывшиеся проемы дверей показались еще несколько голов, и вскоре заимка оживилась и пришла в движение.
— Их семеро, включая приезжего, — насчитал Ван Вирт, когда, одевшись, обитатели заимки высыпали на двор.
Судя по всему, время в ожидании своего хозяина они проводили довольно весело — с парком и выпивкой, о чем свидетельствовал неровный строй смотра, который им устроил властный незнакомец. Однако сделанный им разнос и кулак, свирепо подносимый под самые очи каждому, быстро привел мужиков в чувство — они заметно подровнялись и теперь стояли по струнке, одновременно поворачивая голову вслед за незнакомцем, с угрожающим видом туда-сюда двигавшимся перед строем. И если бы существование заимки и все предшествующие действии незнакомца не были окружены такой завесой таинственности, то со стороны можно было решить, что это — потешные ярмарочные игры нанятых лицедеев.
Наконец назидание было закончено, и приезжий, сопровождая свои слова привычным армейским жестом, велел всем разойтись. Мужики тут же кинулись врассыпную — кто-то принялся выводить лошадей из-под навеса у той части огораживающего заимку частокола, что была не видна с их позиции Анне и Ван Вирту, другие заторопились за разложенными для просушки на траве седлами, чтобы немедленно седлать своих скакунов, а несчастного, избитого незнакомцем, увел под руки один из казаков — усадил на скамейку рядом со входом в баньку и принес воды, чтобы тот умылся.
Вскоре от дома по ступенькам быстро сбежал казак, прежде уходивший вслед за приехавшим хозяином, и зычно прокричал для остальных построение. А потом на пороге появился незнакомец; на сей раз одет он был совершенно иначе, и Анна немедленно узнала эту колоритную фигуру.
— Маркелов! — вскрикнула она, тут же осекшись под осуждающим взглядом Ван Вирта.
— Управляющий Перминовых? — понимающе кивнул маг. — Что же, теперь все стало на свои места. И давайте посмотрим продолжение.
Маркелов вновь вышел перед строем, осмотрев его, точно был он главнокомандующим на параде, и потом, указав на пятерых, тотчас же по его команде выступивших вперед, подал каждому по небольшому, но увесистому кошелю, извлеченными им из охотничьей сумки, которую услужливо принял из его рук казак, проводивший построение.
Если это плата, то за что? — подумала Анна, и Ван Вирт, словно отвечая на ее немой вопрос, тихо сказал:
— Полагаю, это курьеры.
И, словно в подтверждение его слов, казаки, получившие по кошелю, сели на своих лошадей и выехали прочь со двора, направившись в разные стороны через лес лишь им одним ведомыми тропами. Тот казак, что прислуживал управляющему, тем временем тоже поспешил к навесу, где стояли лошади, выведя на двор запряженную вороным красавцем коляску. Маркелов сел в нее и, обернувшись к подошедшему казаку, недавно избитому им и теперь стоявшему перед хозяином с покаянным видом, что-то сердито наказал ему и велел взобравшемуся на место кучера своему порученцу ехать. Коляска тронулась по единственной приметной колее, а оставшийся за сторожа в виду своей провинности казак с минуту еще возился с задвижкой на закрывшихся за ними воротах, а потом махнул рукою и подался в дом.
— Куда вы? — Анна едва успела схватить Ван Вирта за рукав — так стремительно тот бросился в сторону заимки. — Если вы что-то задумали, я хочу это знать. Не смейте бросать меня здесь одну и в полнейшем неведении.
— Похоже, ему не удалось закрыть щеколду замка, — смущенно объяснил ей маг. — И я должен попытаться проникнуть внутрь, пока казак не пришел в себя и не понял, что случилось.
— Мы пойдем вместе, — покачала головою Анна, и тон ее голоса был настолько решительным, что Ван Вирт понял: спорить с нею — только время терять.
— Хорошо, — кивнул он, — вы войдете туда, но лишь после того, как я подам вам сигнал, я хочу быть уверенным, что больше в доме не осталось никого и вам ничего не угрожает.
Спешившись, они привязали лошадей и осторожно стали спускаться к заимке.
Ван Вирт оказался прав — казак, по-видимому, еще не протрезвевший, плотно не закрыл щеколду, и теперь с помощью тонкого клинка, невесть откуда появившегося в руках мага, он приподнял тяжелую кованую стальную пластину, и она медленно (судя по всему, ее давно не смазывали) отошла в сторону, качнувшись и глухо стукнув по деревянным доскам. На мгновение Анна и Ван Вирт замерли — в пугающей тишине леса этот звук показался им особенно громким, предательским, но в действительности на него отозвались лишь их сердца, забившиеся в тревожном предощущении, — лес вокруг и сама заимка как будто погрузились в сон, прерванный появлением управляющего и отъездом посланных им курьеров. Однако на всякий случай Ван Вирт выждал еще несколько минут, желая убедиться в том, что их действия остались незамеченными, и лишь после этого с силой налег плечом на массивную створку ворот, приоткрыв ее ровно настолько, чтобы дать им возможность пройти.
— Тише, — Ван Вирт приложил палец к губам, указав Анне на стоявшую под навесом по правую руку от них расседланную лошадь — именно на этой гнедой кобылке приехал на заимку Маркелов, и теперь она отдыхала, с удовольствием вернувшись к своему излюбленному занятию. А так как двое незнакомых ей людей не посягали на ее пищу и не приближались к ней, то, слегка пошевелив ушами и пару раз встряхнувшись мордой, лошадь лишь негромко фыркнула в ответ, но шума поднимать не стала — самозабвенно уткнулась в брошенный тут же под навесом сенный холмик и продолжала жевать, уже не отрываясь от него.
Казака, оставленного для охраны, они нашли в горнице — он тоже безмолвствовал, но по совершенной иной, чем лошадь, причине: мужик был вдребезги пьян — он сидел за столом, уронив голову на скрещенные руки, и громко храпел, разнося по комнате крепкий спиртной дух, вполне соответствующий обстановке в доме. Было очевидно, что на заимке никто постоянно не жил, а казаки приезжали сюда, чтобы получить задание, и потому время в ожидании проводили весело, ни о чем не заботясь. И Анна невольно поморщилась, глядя на разбросанные по столу остатки пищи — брошенные мимо тарелок полуобъеденные кости какой-то жареной птицы или кролика, надкушенные соленые огурцы посреди рассыпавшейся переваренной картошки. В нос ударил резкий запах репчатого лука, смешанного с душком, распространявшимся из открытой трехлитровой бутыли с самогонкой, стоявшей в центре стола. Заметив, что Анне стало нехорошо, Ван Вирт подошел к окну и распахнул его, позволив лесному воздуху заполнить горницу.
— Что вы делаете? — испуганно прошептала Анна. — Свежий воздух разбудит его!
— Боюсь, это может случиться прежде, чем вы упадете в обморок, — как ни в чем ни бывало улыбнулся маг. — Не волнуйтесь, я был бы рад, чтобы он проснулся. Я хочу поговорить с ним. Мне надо знать, для чего приезжает сюда господин управляющий, и что и куда увезли с собою его курьеры.
— Полагаете, это хорошая идея — открыться ему? — Анна с недоумением посмотрела на мага. — Не уверена, что этот человек будет рад нашему появлению, и не исключаю того, что он решит расправиться с нами.
— Ваши опасения не лишены здравого смысла, — кивнул Ван Вирт, — и потому я предложил бы вам подождать завершения за дверью.
— Завершения чего? — нахмурилась Анна. — Сдается мне, что вы все время пытаетесь избавиться от меня. Скажите, что вы намерены предпринять и для чего подвергаете наши жизни опасности?
— Я уже объяснил вам, — пожал плечами Ван Вирт, — я хочу узнать правду. Что же касается этого человека, то он вряд ли будет опасен.
— Вы плохо знаете пьяного русского мужика, особенно, если его разбудить некстати, — вздохнула Анна. — Он непредсказуем, как разбуженный медведь-шатун.
— Мой дар дает мне возможность укрощать любые проявления буйства, — успокоил ее маг, и Анна поняла — он собирается загипнотизировать казака. — А с пьяным это сделать значительно проще. И, поверьте, на самом деле, вам нечего опасаться — проснувшись, этот человек не вспомнит ни вас, ни меня, ни того, что видел нас и говорил с нами. И никогда не будет знать, что рассказал обо всем, что знал.
— Ах! — вскрикнула Анна, вдруг заметив, что казак пошевелился.
Свежий ветерок, поступавший от окна, сделал-таки свое дело, но Ван Вирт, ничуть не смущаясь, без опасения подошел к казаку и сел за стол напротив него. И когда тот, встряхивая нечесанными волосами и упираясь кулаком в подбородок, спрятанный под излохмаченной жидкой бороденкой, чтобы голова не падала, разглядел сквозь туман в глазах незнакомца, Ван Вирт заговорил с ним. И слова закапали, точно слезы капели, собираясь в ручей, и он все рос, рос, расширяясь и заполняя собою все, подчиняя твою волю, твои мысли, все твое существо… Анна с трудом удержалась от желания тотчас же погрузиться в сладкий, прозрачный сон и сделала невероятное усилие над собою, чтобы вслушаться в содержание разговора между Ван Виртом и казаком и понять, о чем идет речь.
С одной стороны, Анна не узнала ничего нового — Гаврила, так звали мужика, лишь подтвердил то, о чем они уже догадывались. Заимку эту много лет назад построил управляющий Перминовых — Маркелов — и определил сюда сторожем Гаврилу, который давно служил при его доме в Каменногорске, но взять ему семью с собою не разрешил. Так что родных Гаврила видел теперь редко, но за работу он получал довольно, и потому жена не роптала — надо было на что-то жить и кормить детей. Гаврила поначалу думал, что управляющий построил заимку для забав — с заезжими купцами в баньке попариться, на охоту по глухомани походить, с бабами поиграться, но никогда он не видел здесь ни женщин, ни каких других гостей кроме пятерых казаков, которых самолично Маркелов набрал из охранников рудников со всего Урала. И мужики эти были, хотя из разных семей, но как на одно лицо — одинаково крепкие, злые и молчаливые. Приезжали они на заимку раз в неделю, а то и две, и ели-пили здесь в свое удовольствие из подвалов в доме, где и медовухи было вдоволь, и самогон бутылями стоял, и разные мясные заготовки с соленьями всегда в запасе имелись. Что-то из еды привозил с собою Маркелов, что-то с охоты запасал Гаврила; он же ходил по грибы и заготавливал дрова на зиму. Обычно мужики дожидались приезда Маркелова, который наведывался на заимку за день до их приезда; коляску тогда ставили под навес, а сам он садился в седло одной и той же лошадки, беречь которую Гавриле было велено пуще своего глаза. Маркелов переодевался, как для охоты, и уезжал, но возвращался без обычных охотничьих трофеев, а с кожаной сумкою, набитой кошелями, которые раздавал казакам. После чего они и сами садились по коням и опять пропадали — дней на семь, а то и на десять. А прежде, пока ждали управляющего, казаки хорошо гостевали с самогонкою, и Гаврила всегда с ними за компанию, да еще втихаря к рюмочке с ними прикладывался услужливый и тихий мужичок — возчик Маркелова. В отличие от других, он при барине был постоянно, потому и страху в его глазах всегда было больше. Однако то, куда ездит господин управляющий в свои тайные отлучки в тайгу, Гаврила не знал, но принужден был Ван Виртом покаяться, что любопытство, одолевшее его, заставило как-то подсмотреть, что же такое увозят с собою казаки. И не сразу, но он понял, что в кошелях находятся какие-то камни — на вес они были не слишком тяжелые, но россыпью и какие-то гладкие, отчего он подумал, что драгоценные, но какие именно разглядеть не успел: управляющий едва не застал его за этим занятием (те самые перминовские алмазы — переглянулись между собою Ван Вирт и Анна). А вот возчик, видать, тоже озабоченный разведать это, был Маркеловым пойман с поличным, прямо на кошеле, и с тех пор Гаврила того мужика больше не видел: управляющий велел тогда ему самому садиться на козлы, и Гаврила получил неожиданный отпуск домой — уж было радости у жены и детишек…
— Мы как будто в начале пути, — разочарованно промолвила Анна, когда они с магом вышли из горницы, оставив Гаврилу досыпать свой разорванный сон. — Этот человек не сказал нам ничего такого, о чем бы мы уже и сами не догадались. Но мы по-прежнему не знаем, зачем в ту часовню ездил управляющий.
— Он сказал главное — наши догадки верны, — поспешил успокоить ее Ван Вирти добавил: — И между делом объяснил, как мы сможем довести наше расследование до конца.
— Я что-то пропустила? — удивилась Анна, непонимающе взглянув на своего спутника.
— Помните, — кивнул Ван Вирт, спускаясь с крыльца и указывая рукою в сторону стойла, где под навесом отдыхала уже знакомая им лошадь. — Этот Гаврила поведал, что на свои якобы охотничьи прогулки господин управляющий отправлялся всегда на одной и той же лошади. А мы с вами вряд ли смогли бы приблизиться к часовне и оттуда добраться до заимки, если бы вздумали ехать сами и напрямую…
— И что? — нетерпеливо спросила Анна, и вдруг догадка осенила ее. — Ловушки!
— Вот именно, — улыбнулся Ван Вирт. — Быть может, мы не нашли ответа на все свои вопросы, но нашли нечто не менее важное — проводника. Так что не будем терять времени!
Прикормив лошадь кусочками сахара от расколотой сахарной головки, прихваченными со стола, Ван Вирт вывел ее из стойла и подсадил Анну в седло, а сам, взяв лошадь под уздцы, пошел рядом. Животное, по-видимому, действительно годами натренированное на одно и то же действие, покорно позволило вывести себя за ворота и после того, как Ван Вирт слегка подтолкнул лошадь, слегка похлопав по спине, равнодушно затрусила по привычному маршруту, вскоре выведя их из леса к знакомой опушке и дальше — к самой часовне. Всю дорогу Анна сосредоточенно молчала, боясь спугнуть лошадь, зато Ван Вирт шел рядом с нею спокойно и уверенно, как будто не делал ничего необычного.
— Я иногда думаю, — промолвила Анна, когда Ван Вирт помог ей спуститься с лошади и привязал последнюю к перекладине у входа в часовню, — зачем вы устроили весь этот поход, ведь вы, кажется, все и так знаете?
— Иногда я не чувствую разницы между тем, что чувствую и что действительно знаю, — вздохнул маг. — И оттого меня часто полагают обманщиком — видят в моей прозорливости домашние заготовки и подозревают в нечестной игре. Но это всего лишь одна из форм прозрения, возможно, более сильная, потому как не связана с участием в нем других людей. Это прямой канал связи с Небом, невидимый и оттого пугающий тех, кто оказывается невольным свидетелем его открытия.
— Вам никогда не бывает страшно? — участливо спросила Анна, поднимаясь по ступенькам в часовню.
— Вы говорите о страхе перед прикосновением к истине или перед людьми? — Ван Вирт, шедший впереди, оглянулся и на крыльце посмотрел ей прямо в глаза, что повергло Анну в смущение, какого она еще прежде не знала. — Суеверие — худший из страхов, дорогая баронесса, но он — спасение от знания истин, которые и не должны быть раскрываемы всем. Нельзя лишать секретов тех, кто их создавал.
— То, что вы сказали, ужасно, — вздрогнула Анна. — Ведь именно это мы и пытаемся сделать сейчас!
— И именно поэтому я убеждал вас остаться и не вмешиваться, — пожал плечами Ван Вирт и снова испытующе взглянул на нее. — Еще не поздно сделать это — для вас…
— Оставить вас одного и остаться одной, чтобы умереть от страха ожидания в неизвестности? — покачала головою Анна. — Думаю, мы зашли слишком далеко, чтобы возвращаться с полдороги.
— Вы сделали выбор, — промолвил Ван Вирт и вошел в часовню. Анна, перекрестившись перед входом, последовала за ним.
Внутри часовня тоже оказалась ничем не примечательной, икон в ней было немного, и все они писаны были недавно, Исключение, кажется, составляла лишь та, что была помещена в глубокую раму и покрыта тонким стеклом, — икона лежала в углублении на алтаре, установленном в центре часовни. По четырем краям оклада иконы дымились свечи — по-видимому, их зажег еще управляющий Маркелов, и, следовательно, сделаны они были из особого материала: Анна не помнила, чтобы обычные церковные свечи горели так долго. Повинуясь естественному порыву, она оглянулась в поисках спичек — Ван Вирт проследил ее взгляд и понял, чего она хочет.
— Возьмите, — он протянул ей извлеченный из своей сумки, наподобие той, что была у Маркелова, коробок с серными спичками.
Анна кивком поблагодарила мага, потом, взяв из углубления в алтаре четыре новых свечи и убрав старые, разогрела нижние края свечей на огне от спички и установила их в круглые блюдца подсвечников. А потом наклонилась к самому стеклу, закрывающему икону, чтобы поцеловать образ Святой Троицы.
— Что-то не так? — маг с интересом посмотрел на нее: Анна замерла, не успев прикоснуться к образу.
— Она — другая, — растерянно промолвила Анна, выпрямляясь. — Эта икона — старообрядческая.
— Другая? — маг немедленно подошел к алтарю и вдруг стремительным жестом, так что Анна не успела ему помешать, сдвинул оклад иконы к себе.
— Что вы делаете? — с негодованием было вскричала Анна, но невысказанные слова замерли у нее в горле: жест мага привел в действие механизм, скрытый в алтаре — по-видимому, он находился под иконой. И тотчас же раздался характерный режущий металлический звук, как будто был запущен ход старых башенных часов. Алтарь вместе с иконой на крышке плавно, хотя и со скрипом, отъехал в сторону, обнаружив в полу отверстие, достаточное для того, чтобы в него свободно мог спуститься человек.
Ван Вирт, словно и не замечая потрясения Анны, уверенным и быстрым движением извлек из своей загадочной сумки какую-то длинную металлическую трубочку с ручкой в виде полуовальной дужки и открутил крышечку с ее верхнего конца. Потом, забрав у Анны спички, он поджег одну из них и поднес к открывшемуся отверстию внутри трубочки, и оттуда полыхнуло пламя, горевшее ровно, но издававшее при этом весьма незнакомый резкий и удушливый запах.
— Это — нефть, — пояснил Ван Вирт и посветил этим своеобразным факелом над открывшимся под алтарем проемом.
И тогда они увидели уходящий глубоко вниз провал, вкруг стен которого шла металлическая винтовая лестница, конца которой было не видать.
— Сим-сим, откройся! — воскликнул Ван Вирт, и глаза его торжествующе заблестели. — Прошу ознакомиться, Анастасия Петровна, это и есть вход в таинственное алмазное подземелье Перминовых. Voila!
Глава 5
Круги по воде
— Осторожно, — шепотом сказал Анне Ван Вирт, удерживая ее за талию: спускаясь с последней ступеньки, Анна покачнулась, не сразу почувствовав под ногами опору, и едва не соскользнула с неширокого, около метра шириною выступа, балконом идущего вдоль скалы, расколотой каким-то древним катаклизмом.
По созданному им естественному пролому текла подземная река: от воды веяло холодом, и хотя было совершенно непонятно, откуда она начинала свое движение, ее течение оказалось столь сильным, что отливающая металлом поверхность реки в свете маленького факела в руке мага выглядела пугающе неподвижной.
Ван Вирт на мгновение замер, пытаясь определить, в какую сторону от лестницы им следовало двигаться дальше, но вместе с ним замер и огонек пламени нефтяной свечи — его потянуло наверх, в сторону лестницы, однако они ведь только что спустились по ней! Анна хотела было что-то сказать магу, но Ван Вирт остановил ее — он пытался по движению воздуха угадать направление пути, который им еще предстояло преодолеть. Однако воздух, равно как и река в метре от них, был холоден и неподвижен. И тогда в тишине они вдруг услышали странные звуки, словно по воде хлопали лопасти огромной мельницы или парохода. Но откуда здесь быть пароходу и кому в подземелье могла понадобиться мельница?
— Полагаю, нам — туда, — кивнул Анне Ван Вирт.
Медленно, прощупывая ногою каждый отрезок выступа перед тем, как сделать очередной шаг, они начали движение вдоль скалы справа от спуска из часовни, держась за стену и стараясь не отходить от нее слишком далеко. Огонь от нефтяной свечи, конечно, помогал им, но все же он был недостаточно ярким для того, чтобы двигаться быстрее и увереннее. И оттого Анне почудилось, что время прекратило свой бег, — под землею она не ощущала ни движения воздуха, ни движения времени, и поэтому, когда река вдруг сделала поворот, она удивилась: хотя бы что-то в этом мире изменилось.
— Что это? — одними губами промолвила Анна, выглядывая из-за плеча остановившегося Ван Вирта — маг велел ей идти строго следом за ним и держаться рукою за его плечо.
— Я никогда не видел ничего подобного, — прошептал Ван Вирт, и Анна и сама обомлела от необыкновенного зрелища, представшего ее взору.
Сразу за излучиной реку перекрывала гигантская мельница, но вместо лопастей, гнавших воду, на колесе были установлены большие ковши, которые поднимали воду наверх и направляли ее по искусственным рукавам выдолбленных в скале каналов — они шли в разные стороны в глубь горы, откуда доносились слабые удары, похожие на стук отбойных молотков рудных мастеров. От входов в эти каналы натянуты были идущие навстречу друг другу канаты с движущимися по ним клетями и образующие систему перемещений, позволявшую спускаться вниз и подниматься — от реки к самой верхней из галерей. Река же, проходя «мельницу», впадала в подземное озеро, которое занимало все основание пещеры, чьи темные своды уходили далеко вверх.
— Невероятно! — только и смогла выдохнуть Анна, потрясенная видом этих удивительных сооружений. — Кто мог придумать такое?
— Не знаю, — судя по тону, с каким были сказаны эти простые слова, Ван Вирт тоже был взволнован и восхищен. — Но для того, чтобы построить все это, необходимы были немалые деньги и много, очень много безропотной рабочей силы.
— Крепостные, — вздохнула Анна.
— Крепостные Перминовых, — уточнил Ван Вирт. — Однако мы узнали все, за чем пришли, и я смогу доложить Его высочеству, что слухи о тайных рудниках в уральских горах — не вымысел. Идемте, нам стоит поторопиться — теперь, когда нам известно так много, наши жизни подвергаются еще боль шей опасности.
— Я никуда не пойду, — Анна отвела руку мага, когда Ван Вирт попытался взять ее под локоть, чтобы подстраховать при возвращении в подземный коридор, по которому они пришли.
— Что это значит? — растерялся Ван Вирт, когда его спутница столь решительным образом отвергла предложенную им помощь.
— Вы спустились под землю, чтобы найти объяснение загадки, раскрыть тайну которой вам поручил Александр Николаевич, я же отправилась в это путешествие, чтобы найти свою младшую сестру, — решительно сказала Анна. — И не уйду отсюда, пока не увижу ее. Или не узнаю доподлинно, что сталось с нею.
— Баронесса! — Ван Вирт обвел жестом руки подземную пещеру. — Посмотрите, здесь десятки галерей, где, по-видимому, ведутся разработки. Там темно и сыро, там опасная для здоровья пыль. Там много людей, и далеко не все из них окажутся рады нам и уж тем более, не бросятся помогать. Если княжна жива, то мы спасем ее, лишь благополучно вернувшись домой. — Его высочество направит сюда военную экспедицию, и все узники этой подземной каторги будут тотчас же освобождены.
— Вы искренне думаете, что я способна бросить здесь сестру на произвол судьбы? — громким шепотом возмутилась Анна. — Вы полагаете, что, проделав столь долгий, полный лишений и тягот путь, я вернусь с половины пройденного, убоявшись новых возможных трудностей? Вы очень плохо знаете меня, господин маг! Вы меня совершенно не знаете!
— Я не пущу вас! — Ван Вирт попытался было обхватить Анну руками за талию и увлечь за собою назад в скальный коридор, идущий вдоль русла подземной реки. — Я не позволю вам подвергать опасности разоблачения мою миссию! Этого требуют от меня интересы государства!
— Не трогайте меня! — воскликнула Анна, отталкивая мага, и потеряла равновесие — ее ноги заскользили по выступу, и она едва не рухнула в реку. Ван Вирт, проявляя недюжинную Силу и сноровку, успел схватить ее за руки и прижать к себе, отчего они вместе, словно обнявшись, упали на скальный выступ, и Ван Вирт, уронивший в воду в результате борьбы свою нефтяную свечу, раздраженно зашипел Анне прямо в лицо, прижимая ее всем телом к стене:
— Что вы творите, сумасбродка? От шума, который вы создаете, сюда сбегутся все охранники! Вы что, хотите, чтобы мы погибли?
— Я хочу, чтобы мы спасли мою сестру, — в тон ему отвечала Анна, пытаясь высвободиться из-под Ван Вирта. — И не пытайтесь меня заколдовать — с вами или без вас, но я отправлюсь на ее поиски.
— Вы невыносимы! — простенал Ван Вирт, наконец, отпуская Анну, и она осторожно принялась подниматься, спиною скользя по колкой и холодной стене.
— Вы тоже оказались несколько тяжелее, чем можно было предположить на вид, — отшутилась Анна, и Ван Вирт покачал головой — эта женщина умела убеждать.
— Хорошо, — сказал он, — но имейте в виду, что времени у нас мало.
— Вы так плохо загипнотизировали того казака на заимке? — усмехнулась Анна, окончательно выпрямляясь и поправляя волосы и платье. — Или думаете, что его сведения не верны?
— То, что сказал этот человек, скорее всего, — правда, — кивнул Ван Вирт, он тоже поднялся и с грустью посмотрел на свою спутницу. — Но жизнь часто преподносит нам сюрпризы. Так что ничего нельзя заранее знать наверняка — кто знает, что придет в голову вашему милому знакомому, я говорю о господине Маркелове, и он затеет вернуться на заимку. И потом — как долго мы сможем оставаться в этом подземном муравейнике незамеченными?
— В таком случае, — кивнула Анна, — у нас тем более нет повода слишком долго оставаться на одном месте и предаваться рассуждениям.
— И куда вы намерены направиться? — не без иронии поинтересовался у Анны Ван Вирт. — Или вы были здесь прежде и оставили на стенах зарубки, по которым мы сможем найти дорогу к вашей сестре?
Маг хотел было сказать еще что-то, но Анна закрыла ему рот ладонью и страстно зашептала:
— Тише, тише, вы только прислушайтесь. Слышите? Это же звон церковного колокола. Это — знак! Это — Божий знак! Нам надо идти туда! На этот звон!
— Это нелепо, — прервал ее Ван Вирт, отнимая ее ладонь от своего лица. — Звук может идти и от часовни на холме, не забывайте — там висит колокол, а мы оставили вход открытым.
— Нет-нет! — убежденно промолвила Анна. — Колокол звонит в галерее на третьем этаже, можете поверить, у меня абсолютный слух.
— Хорошо, — сдался Ван Вирт, — мы попробуем подняться, но — умоляю вас! — не отходите от меня далеко и не проявляйте излишней инициативы. И главное — молчите, слушайте и — молчите!
Анна радостно кивнула, и они стали пробираться вдоль берега озера к ближайшему подъемнику. Забравшись в клеть, Ван Вирт нашел узел, который держал канат, позволяющий им поднимать клеть вверх. Механизм пришел в действие, и клеть медленно стала двигаться — легко и без шума, судя по всему, это устройство было рассчитано на перемещение куда более тяжелых грузов.
С высоты третьего этажа озеро смотрелось еще более величественным и загадочным, и Анну снова поразили возможности инженерной мысли, сумевшей не просто использовать природную силу подземной реки, а обжить все пространство пещеры, превратив его в гигантский подземный город. И еще — удивительно: снизу купол пещеры казался ночным небосводом — зажженные у входа в каждую галерею факелы казались звездами, и, приближаясь к ним, ты словно ощущал возвышение…
— Приехали, — прошептал Ван Вирт, закрепляя канат на уровне третьего яруса.
Анна, решив держать данное магу обещание, молча кивнула и, открыв запор клети, толкнула дверцу, чтобы выйти наружу. И в этот момент из глубины галереи послышались голоса. Анна в ужасе оглянулась на своего спутника, и даже в неверном свете факела было заметно, как побледнело его лицо.
— Сюда, — еле слышно выдохнул Ван Вирт, выталкивая Анну из клети и буквально втискиваясь вместе с нею в какую-то нишу в скале и закрывая их обоих своим плащом — черный шелк мгновенно сделал их невидимыми.
На поверку церковный колокол, который почудился Анне, оказался колокольчиком на носилках, которые тяжело, волоком каждый за собою тащили два мужика, — по-видимому, этим звуком они сообщали всем о своем приближении. Мужики шли друг за другом, и, когда первый показался перед входом, второй, оставив свои носилки в галерее, направился к товарищу на подмогу. Вместе они подняли его весомую ношу и поставили носилки на самом краю скального выступа, потом мужики склонили головы над тем, кто лежал на носилках, и несколько раз истово перекрестились. А второй зашептал заупокойную.
— Ну что — давай? — тихо спросил один из мужиков, когда его товарищ закончил читать молитву.
— Прими, Господи, его душу, — со вздохом кивнул второй: вдвоем они без труда столкнули носилки с обрыва, и вскоре Анна и Ван Вирт услышали глухой звук упавшего в воду тяжелого груза.
— Дело сделано, — снова заговорил первый, — пошли за следующим.
— Да мой-то вроде и жив еще, — возразил его напарник. — Я сам слышал, как он всю дорогу стонал. А то отправим несчастного к Софье Петровне?
— Если так, как ты говоришь, поднимем его в лазарет, у княгинюшки — руки золотые и душа сердобольная (при этих словах Анна с силою сжала Ван Вирту руку), может, и выходит, — первый мужик встал на колени перед носилками, которые доставил его товарищ, и, склонившись к самому лицу лежавшего на них человека, прислушался. — Чего-то я не пойму, то ли дышит, то ли нет. А тебе часом не привиделось?
— И не привиделось, и не прислышалось, стонал он, сердешный, — опять принимаясь креститься, доказывал свое второй мужик. — Не бери грех на душу, Кузьмич, пусть его лазарет оприходует…
Тот, кого назвали Кузьмичом, хотел было что-то возразить, но вдруг замер. Похоже, его внимание привлек какой-то странный шум, отчасти взволновавший и Анну с Ван Виртом.
— Кажись, продувка идет, — встревожено сказал Кузьмич своему товарищу. — Пошли отсюда подобру-поздорову. Как бы не затянуло.
— А он? — не отступал его напарник. — Тоже ведь человек, как ты и я, жаль его.
— Предлагаешь этого задохлика обратно волочь? — рассердился Кузьмич. — Да не смотри ты волком! Лучше прикрой его хорошенько, если такой жалостливый, а мы, так и быть, апосля вернемся. Коли, Бог даст, выживет, заберут его наверх, а нет — на то у каждого судьба своя. Да не возись ты с ним так долго, самим бы не пропасть!
— Похоронная команда! — догадался Ван Вирт, когда голоса мужиков затихли в глубине галереи. — Вот что, Анастасия Петровна, вы сейчас же…
— Вы слышали? — радостным шепотом заговорила Анна, прерывая его. — Соня здесь! Она жива!
— Это может быть и совпадение, — пожал плечами Ван Вирт, на что Анна гневным взглядом сверкнула в его сторону, и маг вынужден был признать: — Хорошо, хорошо, кажется, вам везет. Но это совершенно не исключает исполнения вами моих приказов. Иначе…
— Я сделаю все, что вы скажете! — с готовностью подтвердила Анна, предупреждая возможные угрозы со стороны мага. — Только помогите мне спасти сестру!
— Надеюсь на ваше благоразумие, — кивнул Ван Вирт и вдруг вскинул голову. — Что это за шум? Он тревожит меня. Это очень похоже на шторм, но откуда ему взяться здесь?.. Держитесь!
Ван Вирт едва успел одною рукою схватиться за крюк в стене, на который крепились двигавшие клети канаты, а второй — с силой прижал Анну к себе, снова втискиваясь в найденное им углубление в стене рядом с аркой галереи. В тот же момент из коридора хлынула волна густого, дымного, спертого воздуха, устремившаяся наружу, и скорость ее выброса была такова, что клеть, на которой они поднялись, начало опасно бросать из стороны в сторону. Анна, которую маг укрывал своим плащом, ничего не видела, но Ван Вирт и не позволял ей поднять голову — зрелище, свидетелем которого он стал, было удивительным и одновременно зловещим.
Подземное озеро вдруг пришло в движение, как будто в чреве его открылась гигантская воронка, закрутившая воду в кольца, постепенно сжимавшиеся к центру провала. Мощь этого потока была настолько велика, что бегущие по кругу частицы воды превращались в подобие облака, похожего на то, что можно наблюдать при сходе водопада с обрыва. Однако, кроме прочего, это облако обладало еще и магнетической энергией, втягивающей в свое поле воздушные потоки, вырывавшиеся из галерей на всех ярусах этого огромного подземного города. И по мере насыщения ими облачной массы она опускалась все ниже и ниже к воде, оказавшись, в конце концов, в полностью поглотившей ее воронке, которая тотчас же и захлопнулась, оставив поверхность озера столь же, как и прежде, однообразно неподвижной — словно каменной. И, переведя дух, Ван Вирт удивленно обнаружил, что дышать в пещере стало легче: воздух теперь был чище и мягче — он как будто напитался живою водою. Таким воздух обычно становится после дождя — вода, сошедшая с небес, смывает копоть со стен, лиц…
— Тот человек! — вдруг вспомнил Ван Вирт и, осторожно высвободив Анну из плаща, поспешно покинул свое укрытие и бросился ко входу в галерею.
Воздушный поток сдвинул носилки с места, но не смог утянуть за собой, и Ван Вирт поднял рогожу, покрывавшую тело лежавшего на носилках человека.
— Он жив? — участливо спросила Анна, подходя следом.
— К счастью, нет, — сказал Ван Вирт.
— Что вы такое говорите? — с возмущением воскликнула Анна.
— Судя по всему, он умер задолго до того, как был принесен сюда, — пожал плечами Ван Вирт, — ни мы, ни кто-либо другой уже давно не в силах помочь ему. Но он может помочь нам.
— Не понимаю, — Анна все еще сердито смотрела на мага, потрясенная его бессердечностью.
— Те люди из похоронной команды собирались вернуться за ним, — объяснил Ван Вирт, — и, если окажется, что бедняга все еще жив, то они намерены были отправить его в лазарет, где, как вы слышали, работает некая княгинюшка…
— Вы собираетесь занять его место? — вздрогнула Анна.
— Именно так, — кивнул Ван Вирт, — а вы без рассуждений и споров станете делать то, что я вам велю.
— Не стоит каждый раз упрекать меня в строптивости, — обиделась Анна. — Я умею оказывать не только сопротивление, но и поддержку.
— Попробую опять поверить вам на слово, — вздохнул Ван Вирт, — сделаем так…
Покрыв голову грязным платком, которым был перевязан лоб умершего шахтера, Ван Вирт измазал себе лицо сажей, в достатке скопившейся на его одежде, после чего с помощью Анны перенес погибшего в клеть и велел своей спутнице отправляться вниз. Там Анне надлежало сбросить тело в воду, подобно тому, как это делали похоронщики, и ждать его возвращения — замереть, чтобы никто не догадался о ее присутствии. Сам же Ван Вирт занял место погибшего шахтера на носилках — хорошенько укрылся рогожей, чтобы те, кто за ним пришли, не смогли бы ничего заподозрить. И вовремя — из галереи донеслись голоса: это возвращались Кузьмич с товарищем. Чтобы привлечь их внимание и предупредить возможные решения, Ван Вирт негромко, но весьма выразительно застонал, что немедленно возымело свое действие — шаги ускорились, и вскоре над ним склонился тот, что уговаривал своего напарника помочь бедняге-шахтеру. Мужик, склонившись над носилками, приложил руку ко лбу Ван Вирта, и лицо его озарила радостная белозубая улыбка.
— Жив, чертяка! Жив! — воскликнул он, обращаясь к Кузьмичу, на что тот с удивлением почесав горстью в затылке, кивнул:
— Ну, раз так — давай его наверх, пусть дохтур глянет.
Почувствовав, что мужики отошли, Ван Вирт приоткрыл глаза, чтобы рассмотреть, как они собираются переправлять его.
Кузьмич между тем подошел к канату, закрепленному с другой стороны от входа в галерею, и принялся вместе с напарником тянуть его, отчего привел в действие какой-то механизм, установленный при входе противоположной галереи того же яруса, откуда к ним медленно покатилась клеть, подобная той, на которой Ван Вирт и Анна поднялись сюда. Когда клеть доползла до их выступа, похоронщики погрузили в нее носилки с Ван Виртом и снова принялись тянуть канаты — на сей раз в обратную сторону. И клеть плавно поплыла назад.
Нельзя сказать, что Ван Вирт чувствовал себя в безопасности: не так уж просто осознавать, что ты — полностью во власти неведомых тебе механизмов, и пока клеть, мерно качаясь над озером, двигалась к своему берегу, маг затаил дыхание и закрыл глаза, решившись положиться на волю небес. Конечно, он был рад помочь баронессе, но все-таки эта женщина обладала удивительным даром втягивать окружающих в свою игру, подчинять их своей воле. Ван Вирт и раньше выполнял опасные поручения, но прежде они никогда не были связаны со столь серьезными испытаниями и настоящими опасностями. И, плывя сейчас в неизвестность, он все время спрашивал себя, как могло статься, что не он решал, каковы будут их дальнейшие поступки. Почему он с незнакомой ему в самом себе прежде легкостью позволил баронессе подтолкнуть его на подвиги, к которым, как считал Ван Вирт, он не был способен. Увы, вздохнул про себя маг, эта женщина слишком реальна и живет тем, что окружает ее — баронессе неведомы мистические флюиды и потусторонняя энергетика. Она — существо от мира сего, возможно, неправильного и неправедного, но осязаемого и ощущаемого, и потому — настоящего. Баронессе нужны не эфемерные связи, а конкретные дела, и слова для нее столь же значимы, как и деяния. Земная женщина! — во всей широте своей души, где есть место и родным, и случайным знакомым, всем, кто нуждается в помощи, кто пострадал невинно и ждет сатисфакции не от потусторонних сил, а от тех, кто действительно может и волен что-либо в их судьбе изменить. Ван Вирт почти не встречал натур, подобных баронессе Корф, в ней он чувствовал независимость и гордость, уверенность в себе и порой — безрассудность. Она многое делала, повинуясь лучшим порывам души, но, и обманываясь, не умаляла их благородства и не отказывалась от них впредь…
— Похоже, этот человек спит, жара нет, дыхание ровное, — услышал Ван Вирт рядом с собою приятный женский голос и ощутил мягкую прохладную ладонь на своем лбу. — Сон — замечательное лекарство! Не станем несчастного будить, а я послежу за его состоянием, доктор.
— Полагаюсь в этом на вас, Софья Петровна, — сказал тот, к кому женщина обратилась «доктор», — у меня еще много больных. Оставайтесь здесь и зовите лишь в случае острой необходимости. Предполагаю, что это может быть просто переутомление — охранники не знают жалости, они буквально загоняют бедных добытчиков.
— Если бы мы могли им помочь! — вздохнула женщина. — Это ужасная жестокость! Я никогда прежде не видела ничего подобного. Моя маменька не отличалась излишней любовью к крепостным, но то, что происходит здесь, преступает все границы дозволенного!..
— Вы и так делаете все возможное для этих людей, — мягко остановил ее «доктор». — Что же касается остального, то я бы просил вас воздержаться от опасных разговоров. Мне и так с трудом удалось убедить господина Маркелова, что вы — опытная сестра милосердия и ваша помощь будет мне в госпитале полезна. Хорошо, что еще у вашего друга, упокой Господи его душу, хватило ума поддержать меня и уверить управляющего в том, что вы попали в эту историю совершенно случайно. Уж больно Дмитрий Игнатьевич подозрителен и суров. Вам следует быть осторожнее!
— А что еще может мне угрожать? — в сердцах воскликнула его собеседница. — Этот негодяй и так уже отнял у меня самое дорогое — мою любовь. Он силой удерживает меня в этом ужасном подземелье, надеясь похоронить вместе со мною и свою драгоценную тайну…
— Милая моя, дорогая, Софья Петровна, — умоляюще произнес «доктор», — давайте оставим этот разговор. Вы думаете, мне легко? Разве я знал, когда поддался на уговоры господина Маркелова об отменном заработке, что стану практиковать не в обычной рабочей больнице, а — в подземной? Но теперь уже ничего нельзя изменить! Я связан по рукам и ногам обязательствами молчания, связан, так сказать — добровольно-принудительно, но я все же не оставляю надежды, что когда-нибудь выйду отсюда, и, быть может, терпение выведет на свет однажды и вас.
— Терпение? Не знаю, не знаю… Стоит ли? — печально промолвил женский голос, и вздох сожаления, последовавший за вопросом, был столь глубок и безрадостен, что Ван Вирт едва сдержался, чтобы тотчас же не обнаружить себя.
— Софья Петровна! — разволновался ее собеседник. — Вы не можете не только так говорить, но и самую мысль не смейте держать в голове!
— Как скажете, Иван Митрофанович, — точно эхо прошелестело в ответ, и еще и сам, повздыхав немного, доктор вскоре ушел.
И тогда Ван Вирт позволил себе открыть глаза — он лежал на тех же носилках, в которых его переправляли похоронщики, в какой-то пещере, освещаемой факелами и невесть откуда пробивавшимся дневным светом, однако шел он издалека, и потому был слабым и рассеянным. В помещении кроме него на нарах лежали еще несколько человек; кто-то из них вдруг застонал и попросил пить, и Ван Вирт увидел, как к больному от его изголовья шагнула молодая женщина в сером платье сестры милосердия. Она и сама выглядела изможденной и бледной, но все же подбадривала своих подопечных и жалела их.
Пора, решил Ван Вирт и застонал, привлекая к себе внимание княжны — это была она, точно как на портрете-камее, показанной ему Санниковым. Соня, напоив первого больного, немедленно вернулась к новому больному.
— Что ты, голубчик, что ты? — участливо спросила она, но Ван Вирт, резко вытащив из-под рогожи руку, схватил Соню за плечо и притянул к себе, сказав быстро и властно:
— Не бойтесь, Софья Петровна, и не кричите, я пришел за вами.
— Кто вы? — едва придя в себя от изумления, прошептала княжна.
— Друг вашей сестры, баронессы Корф, — еле слышно промолвил Ван Вирт. — Но у нас нет времени на этикет и хорошие манеры. Вы должны следовать за мной. Немедленно!
— Но отсюда нет выхода, — покачала головою Соня, все еще недоверчиво разглядывая «больного». — Видите тот свет? Он идет снаружи через прорытые с поверхности шахты — из них поступает воздух, но подняться по ним невозможно. Кое-кто из здешних рабочих уже пытался это сделать, но лишь разбился, сломав себе шею.
— Нам удалось найти другой выход, который связывает подземелье с внешним миром, — пояснил Ван Вирт.
— Нам? — вздрогнула Соня.
— Ваша сестра пришла вместе со мною и ждет нас внизу, — Ван Вирт разжал наконец свою хватку, отпуская Сонино плечо. — Прошу вас, не надо больше расспросов и предположений. Доверьтесь мне! И поверьте — у нас очень мало времени! Лучше потратить его на дорогу домой, нежели на объяснения.
— Все это так неожиданно… — растерянно прошептала Соня, и слезы мелькнули в ее глазах, но, заметив нетерпение незнакомца, она кивнула: — Хорошо, идемте! Будь, что будет!..
Увидев сестру, Анна покачнулась — она не верила своим глазам, а Соня своему счастью избавления от кошмара подземного рабства. Однако Ван Вирт не дал им насладиться радостью встречи и заторопил уходить. И через какое-то время, показавшееся всем невыразимо долгим, они поднялись по винтовой лестнице в часовню и, вернув алтарь на место, вышли на божий свет и свежий воздух. Отчего Соня едва не лишилась чувств, и Ван Вирту пришлось на руках отнести ее к терпеливо поджидавшей их лошади. После чего маг подсадил в седло и Анну, а сам, снова взяв своего четвероногого проводника под уздцы, направил лошадь обратно к заимке.
Это было похоже на сказку — Соня, всем телом прижавшись к сестре, беззвучно плакала, не скрывая своей слабости, а Анна вполголоса утешала ее, гладя по голове, точно сестра была ее маленькой дочкой, потерявшейся и обретенной заново. Ван Вирта эта картина тоже взволновала, но он гнал от себя сантименты, потому как успех их возвращения еще был впереди — им предстояло добраться не только до охотничьей сторожки, в которой их ждал Санников, но и благополучно уехать из здешних краев, оставшись незамеченными и неузнанными.
Добравшись до заимки, Ван Вирт не стал, терять времени — завел лошадь во двор и поспешил вернуться к ожидавшим его женщинам, после чего, пересадив Соню на лошадь, что прежде шла под поклажей, скомандовал возвращение.
— Бедная! — горестно прошептал Санников, когда, уложив наконец Соню отдыхать — в дороге ей несколько раз становилось плохо, она падала в обморок и совсем не хотела есть, — Анна позволила ему занять место сиделки у сестры в изголовье. — Похоже, ей многое пришлось испытать…
— Почему-то мне кажется, что наши испытания еще не закончены, — вздохнула Анна и посмотрела на мага, Ван Вирт отвел взгляд — он лучше других знал справедливость этого замечания.
— Но вы же раскрыли тайну подземного завода, и нашли княжну? — растерялся Санников. — Осталось самое малое — вернуться домой!
— Боюсь, — предупредил реплику Анны Ван Вирт, — именно это и станет самым сложным в нашем путешествии.
— Но у вас, полагаю, и на этот случай есть план? — спросила она.
— Разумеется, я продумал многое, но не все, а потому должен буду сейчас же покинуть вас, — кивнул Ван Вирт. — Надеюсь, ненадолго… Баронесса, ваши сомнения мне очевидны, но мы не сможем преодолеть тот путь, что ждет нас с больной молодой женщиной и раненым. Поэтому я, не теряя более ни минуты, отправляюсь за помощью, а вы ждете меня. И верьте мне, слышите, мне необходимо ваше доверие, иначе ничего не получится. Или, по крайней мере, — так, как мы это предполагаем.
Санников с недоумением взглянул на Анну: не зная существовавшего между магом и баронессой негласного противоборства за лидерство, он не понял смысла призыва Ван Вирта, и Анна, не желая вдаваться в подробности, принуждена была согласиться. Разумеется, Ван Вирт прав: Павел Васильевич, конечно, мог расхрабриться и заставить их поверить в то, что чувствует себя хорошо, но рисковать Соней, состояние которой требовало отдыха и заботы, было бы крайне жестоко, ей и так досталось немало печалей и тягостных потерь!
— Принимаю ваше молчание за разрешение действовать, — иронично улыбнулся Ван Вирт и, едва передохнув с дороги, снова отправился в путь.
Они же втроем принуждены были ждать, и Анна все думала, отчего лишена она крыльев, чтобы можно было тот час же устремиться в полет и не полагаться на ожидание мага? И с той же силою, что подталкивала ее на поиски Сони, она жаждала теперь возвращения домой, где единственно могла считать себя и своих близких в безопасности. Ей не терпелось снова оказаться в родных стенах, увидеть любимых детей, но не дал еще Господь никому такой способности, чтобы в ту же минуту перенестись из затерянной избушки в уральских горах на Двугорские холмы, на берега Невы. Человеку свыше дано время испытывать полностью — так, как оно идет, но порой — порой ей хотелось, чтобы путь от прошлого, которое хочется забыть, до нового, светлого будущего был кратким и безболезненным. Но — увы! — это были мечты, неосуществимые, невозможные…
Соня спала почти целый день — покой, который она ощутила, оказавшись среди дорогих ей людей, убаюкал ее, и со стороны она была похожа на спящую царевну, вот только Павел Васильевич уже не напоминал Анне сказочного принца, который сможет пробудить ее ото сна. Анна видела и ощущала в каждом жесте, слове его заботу о сестре, но в этом чувстве она не улавливала прежней влюбленности — излучаемая Санниковым нежность была скорее родственной, братской, быть может, даже отеческой, она была нежностью взрослого к маленькому ребенку, совершившему неосмотрительный поступок, едва не ввергнувший его в пучину безграничного горя.
Почему, безмолвно спрашивала себя Анна, глядя, как Санников бережно выносит Соню на руках на прогулку — посидеть перед сторожкой, — почему человеку никогда не бывает довольно того, что есть? Даже, если то, что он имеет, — хорошее? Для чего он ищет необыкновенное против лучшего? Отчего возносится гордынею над доступным и пренебрегает дозволенным? И за что неизвестное представляется ему предпочтительней яви, в которой живет?..
На второй день Анна встревожилась — по кустам вкруг сторожки как будто шорох прошел. Но потом на поляну выскочили косуля с олененком и тут же умчались, едва от ветра заскрипела входная дверь. Павел Васильевич посчитал это хорошим знаком — если животные не побоялись выйти из леса, значит, не боялись ничего, — но Анна усмотрела в том иное. Косулю могли спугнуть охотники, и совершенно необязательно, что искали они четвероногую мишень. И, так как ожидание затягивалось, Анна решила, что им стоит поторопиться с отъездом, — Санников возьмет к себе в седло Соню, а к седлу лошади, на которой поедет она сама, привяжут кое-какой провиант: вещей у них так и так не было. Равно, как и оружия, которое сейчас весьма бы им пригодилось, и каковое вряд ли мог заменить заржавелый и покореженный старый топор, найденный в сенях.
Санников и Соня уже сидели в седле, когда внимание Анны, выходившей из сторожки, снова привлек какой-то шум в лесу. Так просто мы не сдадимся — подумала Анна: по ее просьбе Санников топором соорудил для женщин несколько острых пик и стесал нож, который вполне мог сойти для ближнего боя. Но ее решимость постоять за себя не понадобилась — это приехал Ван Вирт в сопровождении отряда верных жандармов и с каретой, в которой нашлось место для всех.
Жандармы быстро и с максимальной секретностью доставили их в Симбирск, где уже несколько дней шли гастроли всемирно известного мага: как и говорил Ван Вирт, Карл прекрасно справился с ролью своего отца, и, памятуя его участие в этом деле, Анна была рада видеть молодого человека, неожиданно обняв его, точно родного, словно, был он ей как сын или брат. Боже, я становлюсь неприлично сентиментальной, укорила Анна себя за проявленную чувствительность, это все — усталость и нервность, вызванные напряжением последних дней. И, уловив внимательный взгляд мага, явно отметившего потепление в ее душе, она смутилась еще больше — Анна всегда старалась избегать проявления своих собственных, подлинных эмоций на широкой публике, и оттого разволновалась сильнее прежнего.
Однако теперь им можно было ничего не бояться, и, ожидая, пока последует распоряжение двигаться дальше, они все вместе жили в доме, отведенном для мага. Особняк, хотя и стоял в центре города, был окружен литой чугунной оградою и прелестным садом, деревья в котором еще не утратили своей листвы и позволяли оставаться в нем невидимыми для любопытных глаз горожан, частенько приходивших поглазеть на знаменитость. Но однажды, вернувшись в сад за Соней, вот уже часа два сидевшей на скамейке под орешиной с французской книжкой, Анна не увидела сестры.
Соня, казалось, чувствовала себя много лучше, но чем скорее приближался день их отъезда в Петербург, тем тягостнее становилось ее молчание. За все это время она ни разу не поддалась на уговоры сестры рассказать о пережитом, о Ван Хельсинге. Соня как будто затаилась, погрузилась в свои воспоминания, ушла в себя. Конечно, она не отталкивала тех, кто стремился помочь ей, но принимала помощь без малейшего интереса и отклика. Она витала в облаках снов наяву, но думами своими ни с кем не делилась. И поэтому Анна старалась не выпускать сестру из вида — ненавязчиво, но постоянно она следовала за нею повсюду, стремясь уберечь от новых, пусть и случайных потрясений.
И вот — такая неожиданность! Соня пропала! Куда она делась, Санников не знал. Смутившись, он виновато объяснил, что отвлекся от наблюдения в окно, которое ему перепоручила Анна, пока говорила с Ван Виртом, принесшим радостную весть о скором отъезде, — Павел Васильевич сочинял послание Авдотье Щербатовой и увлекся письмом. Ван Вирт немедленно разработал план, и, разделившись, они разъехались по городу в поисках княжны.
Анне повезло — она первой нашла Соню в небольшой кондитерской, но, когда, взяв ее под руку, повела к коляске, дожидавшейся их на противоположной стороне улицы, услышала обращенный к себе возглас, в котором смешались и удивление, и почти мистический ужас:
— Баронесса! Вас ли я вижу?
— Простите? — Анна невольно подняла глаза на обратившуюся к ней женщину и обомлела — перед нею стояла невестка Каменногорского градоначальника. — Извините, но вы ошиблись.
— Нет-нет, Анастасия Петровна! Это вы, — настаивала молодая женщина, — вас трудно с кем-либо спутать. Я совершенно уверена! Мы виделись с вами в театре, и вы несколько раз приходили к нам домой, чтобы попросить моего тестя оказать вам помощь в розыске сестры. Так это она? Вы нашли ее? Ах, какая удивительная история! А мы считали вас погибшей! В городе говорили, что на карету, в которой вы ехали, напали разбойники! Мы все так переживали — такой ужас! Но, хвала Всевышнему, несчастье не коснулось вас! Это чудо, настоящее чудо! Постойте, куда же, постойте!..
Анна с мучительной улыбкой едва вынесла ее неумолкающую болтовню, уводя за собою Соню, и, почти не обращая внимания на идущую вслед за нею женщину, помогла сестре подняться в салон и похлопала возчика по плечу — давайте, миленький, побыстрее, поезжайте, поезжайте!
Выслушав ее рассказ, Ван Вирт, к тому времени тоже вернувшийся домой после безрезультатной поездки по городу, нахмурился, и его озабоченность тотчас же передалась Анне серьезным волнением.
— Вы уезжаете завтра же, — после минутной паузы сказал маг, — вы, княжна и Павел Васильевич.
— А как же вы? — растерялась Анна.
У господина чародея завтра — последнее выступление, и я намерен поддержать Карла, — кивнул Ван Вирт, — что, разумеется, не исключает того, что я сразу же покину город — в тот же вечер.
Соня к приказу немедленно уезжать отнеслась с полнейшим равнодушием — она и не понимала, кажется, что произошло. А вот Санников, наоборот, расстроился — он не успел отправить письмо в Каменногорск, и с этой поездкой отдалялся от Авдотьи все дальше и дальше, что делало его рассеянным и неузнаваемо мрачным. Но делать было нечего — все собрались и на рассвете, когда город еще спал, каретой, охраняемой жандармами и специально испрошенной для государственных нужд у местного начальника почтовой службы, они выехали в столицу.
Осень в Петербурге уже отстояла. С Невы дул холодный ветер, и Соня опять загрустила, так что Анна попала как будто между двух огней: по одну руку от нее сидел печальный Санников, по другую — сосредоточенная, с отсутствующим взором княжна. Уговорив Павла Васильевича остановиться у них и помочь ей какое-то время понаблюдать Соню, Анна попросила везти всех в Двугорское, где ее заждались уже дети. И если говорят, что дома и стены помогают, то Анна в полной мере ощутила на себе справедливость этой вековой мудрости.
За лето дети подросли и еще более сдружились, и теперь между ними, кажется, и не было никакого различия. Они обрадовались Анне и Соне, а Санников несколько вечеров подряд развлекал их рассказами, и созерцание этой идиллической картины заставило прослезиться всех — и саму Анну, и Татьяну с Никитой, и старую Варвару, которая потихоньку передала ей письмо, пришедшее днями от Михаила.
Репнин был счастлив ее согласию и предлагал Анне самой выбрать — дождаться его приезда с отчетом по инспекции или приехать к нему. По всему чувствовалось — последнему князь был бы более рад, ибо между строк читалось его волнение за постоянство принятого Анной решения. По-видимому, в глубине души Репнин боялся, что Анна передумает, но еще сильнее хотел исключить для самого себя вероятность подобного поступка. И потому дважды перечитав письмо, Анна расстроилась — только что пережив серьезное приключение, она была не готова немедленно ехать навстречу Репнину, но не будет ли ее просьба о передышке воспринята Михаилом как сомнение в правильности оговоренного между ними решения? Вопрос этот не давал ей покоя, но уже через несколько дней важность его стала казаться не столь уж значительной после визита нового уездного доктора к Соне.
— Поздравлю вас, княжна ждет ребенка, — улыбнулся тот, завершив осмотр, и Анна долго не могла поверить в услышанное, а потом новость утонула в объятьях и слезах радости.
То, что новость изменила Соню, стало заметно на следующий день — ее хандра слетела с лица, подобно осенней листве. Княжна сразу сделалась озабоченной прогулками и уже не пропускала завтраки. Соню интересовало все, что было связано с ее состоянием, и потому она терзала вопросами и сестру, и Татьяну, и постоянно звала к себе в комнату старую няньку — посоветоваться. И жалела, что в этой увлекательной игре не принимал участия Санников — за день до визита врача он уехал к родственникам мужа Авдотьи Щербатовой: по собственной инициативе он списался с ними и сейчас горячо взялся помогать ей, хотя все вокруг прекрасно понимали, что печется Павел Васильевич прежде всего о своем интересе, который теперь уже был вполне очевиден каждому. Но разве повернулся бы у кого язык упрекнуть его за то?
Впрочем, и повода для волнений о том больше не было — Анна видела, что Соню уже не волновала недавняя привязанность к ней Санникова. Она навсегда излечилась и от чувства вины перед ним, и от самоиронии к любовному чувству. Соня по-прежнему не торопилась открыть Анне душу, но, глядя на то, как сестра печется о своем будущем ребенке, она понимала, что в отношении Сони и неизвестного ей Ван Хельсинга не было фальши или банальности флирта. И Анну не могла не радовать не вдруг приобретенная сестрой серьезность и терпение, помноженные на заботу о ближних, чего они все были прежде с ее стороны лишены.
Но однажды, когда Анна собиралась как-то в Петербург — пора ей было возвращаться к своим обязанностям при дворе, — Соня подбежала к ней и, припав на грудь, расплакалась, а потом все говорила и говорила, боясь, что кто-либо или что-либо помешают излиянию ее души, которой открылась ужасная правда будущего: она никогда не увидит Ван Хельсинга. Он не воскреснет, не явится к ней, поведав о своем чудесном избавлении от смерти. Его тело навсегда унесла с собою подземная река, и их души могут теперь соединяться только в эмпиреях сна. Не только, ласково упрекнула сестру за отчаяние Анна, не забывай, что его душа вошла в тебя и передалась младенцу, которого ты носишь под сердцем. И хотя именно этих слов Соня и ждала от сестры, но они взволновали ее, и женщины опять проплакали до отъезда Анны из Двугорского.
И глядя из окна кареты на знакомые пейзажи, родные сердцу места, Анна думала — все, наконец, образовалось. Соня обрела умиротворение, Санников — настоящую любовь, ей предстоит возвращение к истокам — к тому человеку, к тому чувству, с которого началась ее петербургская жизнь много лет назад… Омрачала эту радость только заметка в «Северном вестнике», которую Павел Васильевич долго не решался показывать ей, — из статьи следовало, что в Симбирске неизвестными лицами, по-видимому, при попытке ограбления был убит известный маг Людвиг Ван Вирт. Перемолчав эту весть, которую она не захотела обсуждать даже с Санниковым, Анна поставила за душу нового, но так скоро ушедшего друга свечу в уездном соборе и решила, что время потерь на этом закончилось. И, вспомнив о своих обязанностях камер-фрейлины, засобиралась в столицу.
Однако сразу же попасть к своей покровительнице Анна не успела — еще при входе ее задержал часовой, который, вежливо попросив их сиятельство ждать, отослал своего напарника по начальству, после чего удивленную подобным приемом Анну сопроводили в дальнюю галерею дворца, где к ней вышел один из новых адъютантов наследника и попросил следовать за собою. По ходу он вел себя невероятно предупредительно и сообщил, что делает это по личному указанию Его высочества — Александр Николаевич просил баронессу прежде явиться к нему для обсуждения особо важного дела.
Если все это и удивило Анну, то вида она не подала, позволив сопроводить себя в удаленное от главных комнат помещение. Оно менее всего напоминало кабинет наследника — Анна узнала фойе перед апартаментами, в которых Александр еще недавно встречался с княжной Репниной. Все это было, по меньшей мере, странно, но Анна не стала обременять адъютанта расспросами — все равно он вряд ли был уполномочен давать ей какие-либо объяснения. Потому решила дождаться самого Александра, чтобы получить ответ из первых рук, и вскоре дверь в уже знакомую ей комнату открылась. Но вместо Александра ее встретил другой человек — ниже ростом и, кажется, старше по возрасту, и что-то знакомое Анне почудилось в нем: когда тот, кого она считала незнакомцем, приблизился, Анна вскрикнула — ей навстречу шел Людвиг Ван Вирт.
— Но как? — побледнев, едва смогла промолвить Анна, не скрывая своего благоговейного ужаса. — Ведь вы погибли? Или это обман? Военная хитрость?
— Увы, — развел руками Ван Вирт. — Рад видеть вас, баронесса, но это — одна из немногих радостей, которые сейчас еще способны поддерживать меня.
— О чем вы говорите? — не сразу поняла Анна, но потом ее пронзила догадка. — Карл? Значит, это был Карл?
— Да, — кивнул маг, — мальчик принял на себя удар, предназначавшийся его отцу. И теперь я — один, и тяжесть этой потери утомляет меня, мешая поддерживать связь с небом и миром иным. Нет-нет, я не утратил свои способности, но пока применение их доставляет мне куда большее напряжение, чем прежде, и я намерен скрываться какое-то время, чтобы прийти в себя, и, быть может, начать новую жизнь. Что, кстати, следует немедленно сделать и вам.
— О чем вы? — нахмурилась Анна: вне всякого сомнения, Ван Вирт тронул ее душу, но ее сердце было отдано другому.
— Похоже, вы неправильно поняли меня, — улыбнулся маг. — Дело в другом. В том, что ваша встреча с невесткой Каменногорского градоначальника не осталась незамеченной. Вернувшись в город, она разнесла эту весть и лично рассказала о том господину Маркелову. Можете себе представить, что сделалось с ним. Он прекрасно понял, кому обязан вашим спасением и исчезновением из подземелья княжны…
— Но как? — не поняла Анна. — Никто не знал о том, что мы с вами знакомы.
— Свеча, моя нефтяная свеча, которую я так неосторожно уронил в воду в подземелье, — вздохнул Ван Вирт, и Анна побледнела — ведь это борясь с нею, маг потерял ту металлическую трубочку. — Как оказалось, их система водоснабжения имела еще и подводные лопасти, и, когда их заело, рабочие обнаружили застрявший в механизме предмет не известного происхождения. Неизвестный всем, кроме управляющего — он присутствовал на том спиритическом сеансе у градоначальника, когда я зажигал ее. А потом последовало нападение…
— Отчего, однако, вы уверены, что опасность угрожает и мне? — промолвила Анна.
— Она угрожает и вам, и вашей сестре, и господину Санникову — всем, кто помог раскрыть алмазное подземелье Перминовых, — сказал Ван Вирт. — разумеется, они уже не смогут отрицать, что оно существует, и им придется поделиться со своим императором скрытыми от казны сокровищами, но, по имеющимся у нас сведением, господин Маркелов, которому удалось бежать из-под стражи, поклялся отомстить тем, кто разрушил его империю и навредил его хозяевам.
— Я его не боюсь! — воскликнула Анна и осеклась, увидев печальный взгляд Ван Вирта:
— Я тоже не сразу принял эти угрозы всерьез. О чем теперь глубоко сожалею. Но это уже не вернет мне сына.
— И что вы предлагаете мне делать? — растерялась Анна.
— Я только что говорил с Его высочеством, — кивнул Ван Вирт. — Вам будет лучше воздержаться от появления при дворе, но не волнуйтесь, Мария Александровна уведомлена обо всем и полностью поддержала супруга в этом решении — она желает видеть вас живой и здоровой. Но — когда улягутся все волнения, вызванные этим делом. И потому вам следует тотчас же выехать к князю Репнину, который ждет вас в Ситке, в российских американских владениях.
— Но… — попыталась было возразить ему Анна, — не понимаю, откуда вы…
— Мне кажется, вам уже давно пора перестать удивляться моей осведомленности, — вздохнул маг и продолжал, — и следующий ваш вопрос мне тоже известен. Я прошу вас отпустить княжну Софью со мной, ибо путь мой лежит на родину, — уверен, семья господина Ван Хельсинга будет рада принять ее у себя. Что же касается господина Санникова, то он, как мне известно, уже покинул Двугорское, и ему в его заботах будет оказано всемерное содействие, после чего, полагаю, он тоже временно покинет страну.
— Все это так неожиданно… — Анна едва сдерживалась — казалось, еще минута и она расплачется, но Ван Вирт подошел к ней и взял за руку, отчего по всему телу ее опять разошлось знакомое тепло.
— Не стоит бояться того, чего вы еще не знаете, — мягко сказал он. — И прошлое тоже уже вам неопасно, ведь вы предупреждены. Смело идите вперед — к новым берегам. И, кто знает, может быть, к новой жизни…
ЧАСТЬ 2
НА КРУГИ СВОЯ
Глава 1
Новый Свет
Весна запаздывала. Сезон штормов, казалось, уже дважды отступал, но потом непогода вновь загоняла в бухту барк «Смелый», и корабль принужден был прятаться под изогнутым капюшоном прибрежного утеса. В этом от природы естественном укреплении в одном из фьордов острова Ситка близ Ново-Архангельска, где вот уже лет пять находилась теперь резиденция управляющего русскими владениями в Северной Америке, легкий барк мог не опасаться быть изломанным и потопленным жестокой стихией. В первый раз его экипаж в надежде на скорое потепление оставался на борту, чтобы в появившийся просвет в облаках как можно быстрее сняться с якоря. Но, когда на побережье обрушилась новая снежная буря, и волнение моря многократно усилилось, капитан счел уместным задержать на судне только вахтенных, ибо погода явно не предвещала улучшения в ближайшие дни.
Шторм то и дело нагонял с залива обрывки тяжелых черных туч, проливавшихся градом или осыпавших землю густым снежным облаком, отчего вода в гавани набиралась опасно-свинцового цвета и волнуемая штормом неслась к берегу, разбиваясь о скалы и боновые заграждения судостроительной верфи, построенной в виду крепости, и фонтанируя холодными и солеными брызгами, но не достигая, однако, самого поселения, жизнь в котором, казалось, замерла. Столь долгое отсутствие тепла изматывало даже привычных к суровому быту охотников и повергало в уныние промышленных агентов, пропускавших все сроки поставок пушнины. Недостаток солнца делал лица людей серыми, а волны мокрого воздуха и беспросветность в небесах навевали тоску в умах и душах. Но зима между тем, похоже, не собиралась сдаваться — пришла она поздно и в неделю стремительно набрала свое сильными морозами и ледяными ветрами, запорошив крепость снегом под самые окна домов и заставив жителей коротать долгие вечера в обществе домашних.
— Вы сегодня припозднились, ваше сиятельство, — осторожно и словно между прочим сказал Репнину, проходя мимо, библиотекарь: в этот неурочный час князь был единственным посетителем в читальном зале — подобное времяпровождение в ожидании конца шторма представлялось Репнину самым целесообразным. Он решил воспользоваться случаем и завершить свой многостраничный труд, предназначавшийся лично для Его высочества, — заметки о перспективах российских земель на североамериканском континенте.
В огромной библиотеке Ново-Архангельска (более тысячи двухсот томов!) князь разыскал редкие исторические рукописные журналы, составленные первыми исследователями этих мест. Часть из них он успел изучить, к другим намерен был вернуться после поездки на Дальний Восток, но теперь представилась возможность обратиться и к ним. И, читая сейчас дневники Иоанна Вениаминова — священника, прославившегося своим просветительством среди индейцев Аляски и впоследствии по причине вдовства принявшего монашество под именем Иннокентия и получившего сан епископа Курильского и Алеутского, Репнин не переставал удивляться тому вдохновению, что вселяла эта земля в душу изучавших ее людей. Он и сам был очарован суровой красотой Аляски и Юкона и разбросанных вдоль побережья островов, в развитии которых видел немалую перспективу и особо сожалел об утраченном влиянии России в калифорнийской части Америки.
«Мне представляется, — спешил записать свои размышления князь, отложив в сторону только что прочитанный манускрипт, — что масштабы перспективы, каковая здесь открыта была нам еще со времен плаваний Беринга и Чирикова, не в должной мере осознаются руководством Российско-американской компании и, что еще более печально, лежат вне сферы постоянных государственных интересов. Правление компании и ее агенты ведут себя подобно древним конквистадорам, разрушая все те благородные замыслы, с которыми связывали освоение здешних земель поколения ее первооткрывателей и исследователей, видевшими цель присоединения территорий Аляски и Калифорнии к России не столько для обогащения ее арендаторов, а, прежде всего, во славу могущества Империи и российского престола. Потеря Форта-Росс — невосполнимая, ибо Калифорния, поддавшаяся России и заселенная русскими, оставаясь навсегда в ее власти, позволила бы содержать там наблюдательный флот, который доставил бы Отечеству владычество над Тихим океаном и китайской торговлей и упрочил бы владение другими колониями, ограничив влияние Соединенных Штатов и Англии…».
Преодолев огромный путь — от Санкт-Петербурга до Ново-Архангельска, Репнин впервые в полной мере осознал бескрайность этих просторов и неизбежное следствие этой бесконечности. Российско-американская торговая компания, получившая монопольное право на осуществление пушного промысла и отлова морских котиков, видела в Калифорнии лишь сырьевую базу для своих северных поселений, позволив колонистам Форта-Росс развивать здесь земледелие и животноводство: зерно и картофель, огромное поголовье скота — коровы, овцы — успешно кормили русское население Аляски и Юкона на протяжении нескольких десятилетий. Но, едва промысел стал ослабевать, Компания утратила интерес к калифорнийским землям, в которых Репнин, наоборот, видел стратегическое положение.
«Отдавая себе отчет в том, что удаленность этих территорий от России создает определенные трудности для контроля над ними, считаю, однако, что непростительной роскошью является дозволение Компании самостоятельно решать, каким колониям жить, а каким быть проданным по истечению в них годности. Такой подход отражает мышление помещика-жуира, в силу своего равнодушия к собственному капиталу с легкостью позволяющего каким-то имениям пребывать в запустении, а какие-то наряжать и обустраивать подобно потемкинским. В наших силах придать этой земле статус форпоста российских интересов в Тихоокеанском азиатском регионе, многие земли в котором еще государственно не закреплены и каковые позволительно использовать для утверждения отечественного флага. И не продавать за бесценок следовало Форт-Росс, а заселить земли вкруг него опытными земледельцами, для чего довольно было бы перевезти сюда до тридцати семей из государственных крестьян и обязать их возделывать земли, пригодные под пашню, а для защиты придать им войска и направить суда для обороны побережья…»
Репнин вздохнул и отложил перо в сторону. Он понимал, что политика государства, всегда стесненного в собственных средствах, неизбежно будет потворствовать передаче новых земель в концессию промышленникам, каковые во все времена блюли в первых строках интересы собственного дела, а потом уже — государева. Потому полагал неосмотрительным отсутствие в договорах с управляющими компаниями условия, требующего учитывать потребности руки дающей — самого государства: и даже не столько финансовые, а сколько и прежде всего — геополитические. И пока единственного союзника в осуществлении этих интересов видел в представителях церкви, которые последовательно исполняя добровольно принятую ими на себя миссионерскую роль, несли на своих плечах и заботу о продвижении русской идеи в здешних краях.
Подобные мысли уже приходили Михаилу в голову во время его поездки в Константинополь с посольством князя Меншикова, и в них Репнин еще больше укрепился, изучая ситуацию в Русской Америке. Аналогии напрашивались сами собой — отсутствие должного единения православных конфессий и отсутствие крепкого института защиты религии ослабили позиции России как государства перед османами. Благородство и открытость епископа Иннокентия, не только изучившего языки индейцев, но и составившего грамматику для них, привлекли к русским многие племена, прежде натравливаемые друг на друга иными нациями.
— Я вас задерживаю, Василий Егорович? — спросил Репнин, вдруг осознав, что библиотекарь не уходит только из-за него. Еще час назад, если верить напольным часам близ конторки, тот обошел читальный зал, приглушив фитили керосиновых ламп на свободных столах, и принес для князя еще одну лампу — за окном в считанные минуты после шести пополудни быстро и непроходимо потемнело.
— Не смею беспокоить ваше сиятельство, — поспешно сказал тот, опуская голову за конторку, и князь почувствовал себя неловко: дома библиотекаря ждет семья — жена, дети.
Библиотекарь Матвеев приехал на Аляску еще лет десять назад с экспедицией Лаврентия Загоскина, составившего один из лучших трудов по описанию бассейнов главных местных рек — Юкона и Кускоквима, названный им «Пешеходной описью части русских владений в Америке», где собрал уникальные сведения о климате этих районов, их природе и жизни местного населения, с которым и сам, и компаньоны его установили дружеские отношения. А кое-кто даже укоренились, как Матвеев, прежде служивший учителем географии в одном из пензенских училищ и решивший после того путешествия окончательно поселиться здесь, — женился на алеутке, крещеной в православие, завел детей и с удовольствием исполнял обязанности библиотекаря в свободное от преподавания в местной школе время.
— Простите меня, Василий Егорович, — с извиняющейся улыбкой кивнул библиотекарю Репнин и поднялся из-за стола, закрывая папку с записями и собирая прочитанные манускрипты и книги в стопку, — мысли, почерпанные мною из этих трудов, оказались столь важными, что невольно увлекли меня совершенно в сторону от реальной жизни.
— Но, надеюсь, время потрачено вами не напрасно? — сердечно отозвался Матвеев. — Вы нашли то, что искали?
— Да! О, да! — промолвил Репнин, принимая из его рук накидку из тонко выделанной кожи с собольим воротником и на меху: погода стояла промозглая, и только она и спасала от ветра и сырости.
Еще раз поблагодарив при выходе библиотекаря, князь ушел, прижимая к себе под плащом папку с бумагами. Нашел ли я то, что искал? — усмехнулся Репнин. Разве мог он сказать библиотекарю, что искал в этот вечер в книгах не столько подтверждение своих размышлений о будущем государства, а забвение от тревоги, вызванной переносом отплытия фрегата, на котором должен был отправиться в Японию. Туда, в порт Хокадате приезжала Анна, тайно покинувшая Петербург несколько месяцев назад.
Этой встречи князь ждал с особым волнением — вернувшись в Ново-Архангельск из поездки на остров Уналашка, где он знакомился с жизнью русского поселения, Репнин получил письмо от Анны, и ее ответ, хотя и был облечен в изящную форму и дан в сослагательном наклонении, подразумевал — «да», чему Михаил поверил не сразу и еще долго перечитывал обращенные к нему строки: «Однако по прошествию времени считаю ваш план соединения наших семей уместным, ибо никем из близких нам людей в нем не было найдено ничего предосудительного к памяти наших покойных супругов и к счастью наших детей. За сим полагаю возможным исполнить последнюю волю моей любимой сестры и обожаемой вашей супруги с тем, чтобы благородная душа ее на небесах возрадовалась и служила нам впредь добрым и верным покровителем. Вам же остается выбрать решение, которое обяжет меня ждать вас здесь, в Петербурге или отправиться за вами в Новый Свет, дабы соединить наши фамилии по всем правилам и законам Божьим…».
Убедившись, что прочитанное не снится ему, Репнин в порыве был готов немедленно ехать на встречу с Анной, пока торговая бригантина Российско-американской компании еще стояла в доках Ново-Архангельска, но вместе с тем понимал и то, что даже такое существенное обстоятельство, как женитьба, не дает ему пока основания для скорого возвращения в столицу. Но не превратит ли для Анны слишком долгое ожидание возвращения князя в Петербург в повод для лишних раздумий о данном ею согласии — искреннем, но, вполне возможно, импульсивном, и не изменит ли она своего мнения об их браке, осуществление которого задержится на неопределенное время? Однако имеет ли он право просить Анну приехать к нему и подвергнуть ее испытанию столь тяжелого и утомительного переезда и, тем более, лишать Анну цивилизации, а, главное, общества детей, которые ни в коем случае не могли быть перевезены на Аляску, ибо быт здесь был приемлем лишь для привыкших к суровой жизни промышленных работников и аборигенов?
Разумеется, женщины в крепости жили, но в основном они были из местных индейских племен: с удовольствием постигали православие и носили русскую одежду — ситцевые платья, косынки или ленты, вплетая их в косы. Жены же счетовода главной конторы Лысова и библиотекаря Матвеева и вовсе одевались, как мещанки, так что по внешнему виду их было бы трудно отличить от какой-нибудь аптекарши или чиновницы в небольшом уездном городке. К благородным дамам ново-архангельского женского собрания относились супруги купцов, имевших постоянное дело на этих землях и не отлучавшихся с момента приезда на материк, ведя все дела с родиной через партнеров и управляющих компании. А возглавляла эту табель о рангах жена правителя крепости капитан-лейтенанта Родичева — урожденная княжна Гагарина, принадлежавшая к старинной русской титулованной фамилии и безропотно приехавшая на Аляску вместе с назначенным в Ново-Архангельск мужем, будучи беременной первым ребенком.
Екатерина Павловна — изящная, всегда по моде одетая и причесанная брюнетка по возрасту не старше Анны — не только руководила в крепости светской жизнью, но и учила в действовавшей на острове школе русской грамоте и музыке индейских детей, не жалея на то сил и времени. А по субботам собирала всех офицеров гарнизона и старших промышленников на музыкальный салон, в котором чудесным контральто пела романсы и арии из опер, с успехом аккомпанируя себе на стоявшем в гостиной рояле, специально привезенном по просьбе ее супруга из Европы. И все же, хотя быт в крепости был обустроен основательно и добротно и, в общем-то, мало чем отличался от жизни любого губернского городка, а дом коменданта, где жил Репнин, обставлен был с комфортом, — в нем даже были стекла в рамах окон! — Михаил пребывал в смятении: стоит ли спешить с заключением брака, вызывая Анну сюда для венчания?
Екатерина Павловна, отметив озабоченность посланника Александра, как-то затеяла с Репниным разговор, по-женски умело вызвав его на откровенность, и, выслушав все доводы «за и против», спросила — чего в действительности вы боитесь, князь? И от ее прямого вопроса и пытливого взора умных и доброжелательных глаз Репнин смутился, ибо не хотел, точнее, боялся признаться даже самому себе, что, оттягивая под разными предлогами решение о приезде Анны, он пытается понять, готов ли он к тому, чтобы соединиться в реальной жизни с той, что всегда была для него предметом стороннего и восторженного обожания.
Парадокс заключался в том, что Репнин все еще помнил даже не саму Анну, а свое чувство к ней — трогательное и возвышенное. Полный романтических грез и иллюзий, он на самом деле никогда не знал настоящей Анны — женщины, матери. Все это досталось его другу — Владимиру Корфу. Репнин же все это время жил идеальными представлениями о той, что поразила когда-то его воображение. И поэтому, когда Лиза перед уходом взяла с него клятву обвенчаться с Анной после ее смерти, Репнин как будто вернулся в прежние времена и погрузился в сладкий сон, в котором он неоднократно по молодости рисовал себе счастливый момент соединения с Анной. Однако сон этот был похож на книжную историю, сочиненную им под впечатлением своего увлечения Анной, и не имел ничего общего с реальной жизнью.
И вот теперь, когда он должен был в силу обстоятельств превратить когда-то столь прекрасную сказку в быль, воплотить фантазию в явь, Репнин задумался — а не случится ли так, что прежний предмет его поклонения и восторгов окажется лишенным тех удивительных качеств, которыми он его и наделил в своем воображении? Михаил испугался — будет ли в его душе и сердце место не для ангела, чей образ был извлечен им из потайных кладезей его сознания, склонного к поэтическому, а для вдовы его друга, матери двух детей, в свои тридцать с небольшим испытавшей и пережившей немало? И не завершится ли ожидание чуда разочарованием, и не станет ли благословленный Лизою брак мукой для них обоих — для него и Анны?
Терзаемый всеми этими сомнениями, Репнин задержался с ответом, отправив обратное письмо в Двугорское с последним кораблем, уходившим через океан с грузом из колоний, решившись на него лишь после вторичного разговора с Екатериной Родичевой. Женщина гордая и властная, она считала эти свойства наследственными и, узнав, что избранница князя тоже принадлежит к знатному роду Долгоруких, сказала Репнину без обиняков: ваше затянувшееся молчание, князь, унизительно для той, кого вы успели обнадежить своей просьбой стать вам женой и верной спутницей по жизни; и каковы бы искренни и оправданны ни были ваши размышления о будущем новой семьи, вы не имеете права позволить женщине даже догадываться о них, и тем паче — знать; однако чем дольше вы предаетесь, пусть и справедливым, рассуждениям, тем больнее раните ее, заставляя думать, что предмет ваших сомнений не ваши собственные мысли, а она сама — одинокая и беззащитная в глазах и мнении света женщина, вдова и мать.
Невольно уличенный Екатериной Павловной в слабости, Репнин испытал великую неловкость перед нею и преисполнился огромного чувства вины перед Анной, которая пока еще, быть может, не считала его молчание за провинность, но вполне могла чувствовать в отсутствии его ответа к ней нерешительность, сродственную с оскорблением. И в тот же миг — о, Боже! — он опять ощутил себя двадцатилетним поручиком, который унизил влюбленную в него девушку строптивым отказом, когда, узнав о крепостном происхождении Анны, счел себя оскорбленным в своих лучших чувствах — ведь она обманула его, скрыв свое истинное положение. И вот теперь Репнин в который раз был близок к тому, чтобы в угоду своей гордыне подвергнуть Анну новому унижению, самозабвенно предаваясь страхам перед будущим и совершенно не думая о том, как этот его поступок скажется на самочувствии и самоуважении той, кого он так превозносил в своих мечтах и кому, по сути дела, отказывал в праве на откровенность и сердечное равноправие.
Конечно, отправленное Анне письмо отчасти принесло ему облегчение, но Репнин не мог быть окончательно уверенным в том, что заслужил прощение, пока это не станет очевидным, то есть, пока он не получит ответного послания Анны, которая должна была сообщить ему, какой из путей для нее более близок — ждать или тотчас же выехать к нему навстречу. Волнение по этому поводу серьезно мучило Репнина, и эту муку еще более усиливала затяжная зима, не дававшая кораблям хода. И, чтобы найти себе отвлечение от покаянных мыслей и подавить горечь собственной неосмотрительности, князь с головой ушел в изучение имевшихся в библиотеке Ново-Архангельска книг и манускриптов, посвященных освоению соотечественниками американских земель.
Еще при отъезде Репнина из Петербурга озабоченный экономическим состоянием страны, втянутой в длительную и кровопролитную войну, Александр просил своего верного помощника определить приоритеты дальневосточной политики и понять, с чем следовало России связывать свои надежды и перспективы в этом регионе — с освоением Приамурья и Уссурийского края или с далекой колонией на американском континенте. Эту цель наследник видел самой важной частью инспекции, которую проводил князь, и поначалу желая лишь занять свой мозг, снедаемый сомнениями и чувством вины перед Анной, Репнин понемногу втянулся в чтение и, оставив простое упоение красотой и возможностями здешнего края, впервые задумался об истинном значении своей миссии.
Он взглянул на эту поездку новым взглядом, незамутненным оправданием вынужденного отдаления от двора и, по сути, являющимся неким подобием ссылки, и осознал необходимость своего присутствия на Аляске как представителя будущего российского государя, который должен будет управлять этой великой империей, простиравшейся на тысячи верст и располагавшейся на огромном пространстве от побережья Балтии и Черного моря до рек и гор Юкона по другую сторону Тихого океана. И тогда он открыл для себя Калифорнию и Форт-Росс.
Родичев до своего назначения в Ново-Архангельск был несколько лет калифорнийским правителем и глубоко сожалел о принятом в Российско-американской компании решении о невозможности доле содержать на своем счету единственную русскую крепость в горах близ Сан-Франциско. И, слушая рассказы капитан-лейтенанта и читая книги, описывающие эти места, Репнин поражался недальновидности правления компании и косности чиновников, позволивших потерять не только плодородную землю, но и важнейший с точки зрения политического влияния России в Новом Свете регион.
А еще он переполнялся восхищением и гордостью, с благоговением слушая рассказы Родичева и его жены о Форте-Росс — величественной крепости из красного дерева, построенной на высоком и крутом скальном берегу в заливе Румянцева русскими землепроходцами и моряками, над которым почти полвека гордо развевался трехцветный, бело-сине-красный флаг из шелка с гербом, изображавшим по белому полю фигуру скачущего в победном марше на коне Св. Георгия Победоносца.
И вот уже Форт-Росс представлялся впечатлительному Репнину средоточием идеи города Солнца — утопии, о которой читали все просвещенные умы России, но которую считали иллюзией, утверждая невозможность создания идеального миропорядка, где все было целесообразно и оправданно — где оружие было лишь знаком силы, а не угрозой для окружающего мира, и жизнь, основанная на неустанном и благородном труде, являлась бы общей радостью для всех обитателей этого рая.
— Форт-Росс не просто поражал воображение того, кто впервые видел его; он пленял соразмерностью и масштабом постройки и благами, каковые со временем открывались его жителям, — с чуть затуманенным сентиментальными воспоминаниями взором рассказывал Репнину Родичев. — Представьте себе огороженный толстыми крепостными стенами участок на десять больших помещений с двумя сторожевыми башнями — наш дом в несколько жилых комнат, казарма для сотрудников компании, склады для оружия и орудий производства, часовня, колодец с чистейшей питьевой водой и арсенал более чем на сорок орудий. Там же имелись библиотека и двухэтажный магазин, баня и амбар для продуктов. И все они сработаны были прекрасными мастерами — не наспех, добротно и основательно. А вкруг фортеции — не менее чем пятьдесят домов: литейные и механические мастерские, три мельницы — две ветряных и одна на лошадиной тяге, кузница, кожевенный завод, несколько конюшен, молочная ферма и судостроительная верфь!
— Для аборигенов, которые работали в компании и приехали в Форт с первыми его устроителями, — со вздохом добавляла Екатерина Петровна, — у нас из досок установлены были привычные им алеутские юрты, кухня для печения хлебов, школа…
«В окрестностях форта разведено до пятидесяти огородов и до пяти хлебородных ранчо, — читал Репнин в записках капитана В. П. Головина, найденных им в библиотеке Ново-Архангельска. — И, кроме того, колония всегда вполне обеспечена фруктами — здесь плодоносят яблони, вишни, персики, виноградные лозы и благоухают роскошные розы, завезенные из сопредельных испанских владений. Земля производит здесь в изобилии многие растения — у поселян с успехом родится капуста, салат, редька, морковь, репа, свекла, лук, картофель, каковой особо плодлив в этих краях — от одного яблока выходит 180 и 200 и притом садят его два раза в год. Здесь даже созревают на открытом воздухе арбузы, тыквы, дыни и бобы. А вдоль берега залива и по впадающим в океан рекам ходят небольшие суденышки — поселенцами же придуманные баркасы, и стоят под загрузку на приколе два брига из прочного калифорнийского дуба, в то время как два других идут к ним навстречу от берегов Дальнего Востока».
— Но как могло статься, что вы решились покинуть эти благословенные места? — негодовал Репнин при очередном мемуарном на строении Родичевых, вдруг ощутив в себе государственную жилку. — Отчего не воспротивились решению компании, не обратились к государю или Его высочеству?
— Мне ли рассказывать вам, князь, как сильна наша бюрократия, — тихо промолвил капитан-лейтенант, — и как невозможно бывает преодолеть неумных царедворцев и ленивых купцов, думающих лишь о сиюминутной выгоде и способных при малейшем снижении своих прибылей в одном месте бросать его, перебираясь к следующему, еще нетронутому их разрушительной волей.
— И никому нет дела до простых тружеников, верой и правдой служивших нашим интересам, — вторила мужу сердобольная Екатерина Павловна. — Мы, конечно, жили в Форте лишь последние пять лет его существования, но многие из его обитателей родились и выросли там, завели свои семьи, обустроились и процветали.
— Это очень похоже на заговор! — воскликнул горячий на суждения Репнин.
— О, князь! — не без иронии протянул Родичев. — В России иной раз и заговора не надо — дайте лишь дуракам поуправлять…
Репнин тогда покраснел от резкой отповеди коменданта, но позже, продолжая перебирать архивы ново-архангельской библиотеки, он нашел весьма любопытные заметки, сделанные участником одной из многочисленных русских экспедиций, исходивших Аляску и Юкон, казалось, вдоль и поперек. Отчет составлен был из нескольких докладов, но внимание Репнина привлек геологический синопсис, автор которого не только подробно запечатлел структурные особенности изучаемой им местности, но приводил факты, позволившие сделать выводы об иной ценности этих земель — кроме лесной, пушной и водной.
Геолог, оставшийся в докладе безымянным, описывал наличие признаков, аналогичных уже отмеченным им в изучении Камчатки и Алдана и с явностью свидетельствовавших о присутствии в недрах Юкона драгоценного металла — золота, и запасы его там, по оценке автора статьи, должны быть огромными. То же отмечал он и об особенностях строения калифорнийского побережья.
Еще одно соображение, привлекшее внимание Репнина, был рассказ Родичевых о посещении ими испанских земель и Мексики, где индейцам издревле была ведома подземная жидкость — густая, черного цвета с ужасным запахом и маслянистая на ощупь. Нефть — она хорошо горела и в цивилизованных странах, ценилась на вес золота.
И чем больше узнавал Репнин, тем сильнее поднималось в нем раздражение на бездарных правителей компании, не утруждавших себя поиском нового или хотя бы вниманием к уже сделанным в русской Америке открытиям. Увы, все эти замечательные находки, судя по всему, известны были лишь ему одному, но сможет ли один повлиять на ход истории?
Михаил с грустью вспомнил свой недавний дипломатический опыт — самоуверенного и высокомерного Меншикова, заслонившего своим тылом слабые попытки его коллег договориться с османами. Репнин, хотя и не обладал навыками стратега и всегда был далек от политики и войны, служа в привилегированном полку и состоя адъютантом при наследнике российского престола, но даже он понял — демонстрация силы уместна лишь тогда, когда она подкреплена позиционно. Французская эскадра, ставшая на якорь близ Святых земель, сколь угодно долго могла угрожать османам нападением, но она вряд ли бы пошла на это, не подразумевая ту сложную многоступенчатую подготовительную игру, которую провела католическая церковь на Востоке. И что бы ни говорил Меншиков о патологическом страхе турок перед французским оружием, тот бой выиграла другая армия — воинство в рясах, умело воспользовавшись демагогией о праве всех христиан на обладание библейскими святынями. А еще свою роль сыграло предательство Европы, не желавшей избавлять от любой страшной сказки на ночь о бородатом русском мужике — тупом и безжалостном…
Пожалуй, только после пребывания в Турции и теперь здесь, на Аляске, Репнин, всегда почтительный к европейским просветителям и осознававший возможную неблагополучность отечественного мироустройства, впервые в жизни задумался о новых для него сторонах русского характера. Узнавая историю освоения Аляски, он преисполнялся уважения к тем, кто открывал и облагораживал эти земли. Чего стоила одна история острова Ситки, где индейцы, поначалу видевшие в пришельцах — по аналогии с судьбой их собратьев с западного побережья Америки — лишь врагов, сожгли первое русское поселение, подвергнув страшной смерти его обитателей. Но русские не отступили и, пережив горечь утраты, со временем превратились в друзей на всем пространстве Русской Америки — Родичев приводил ему в пример такой факт: за все время существования Форта-Росс крепость ни разу не подверглась нападению со стороны индейцев, в то время как калифорнийские испанцы вынуждены постоянно быть начеку, потому что их колония нередко оказывалась объектом военных действий живших поблизости воинственных племен.
Репнин не исключал, что находился сейчас под впечатлением рассказов капитан-лейтенанта, возможно, овеянных за прошествием времени романтическим ореолом, но не мог не признать за этими землями будущего, способного оказать существенное влияние на судьбу российского государства. И потому, отдаляясь душою от сердечной раны, коротал долгие зимние вечера в библиотеке, собирая факты и обобщая их в доклад, который намерен был как можно скорее представить Его высочеству — Александр Николаевич за последние несколько лет превратился в фигуру, более значимую, чем просто официальный наследник престола. Александр в глазах многих уже воспринимался не как тень своего отца, а как самостоятельный и влиятельный государственный деятель, и это внушало надежду Репнину, что мысли его не останутся без внимания и найдут в душе и сердце наследника должный отклик. Потому, завершив свой отчет и набросав в тезисах те соображения, каковые еще требовали аргументации и документального обоснования, он решил не дожидаться ответного, послания Анны и с ближайшим кораблем, отправляющимся на материк на исходе осени, вернуться в Россию, несмотря на запрещение Императора и желая лично из рук в руки передать Александру свой манускрипт. Однако пришедший в Ново-Архангельск за грузом пушнины корабль привез с собою известие, для князя весьма неожиданное.
Письмо от Александра, полученное им специальным пакетом, доставленным бригом «Крейсер», прежде всего, содержало в себе несколько уже известных рекомендаций в отношении проводимой Репниным инспекции. Кроме этого, Михаилу снова подтверждены были широчайшие полномочия его инспекции и особо дано поручение к нынешнему правителю Ново-Архангельской крепости капитан-лейтенанту Родичеву во всем содействовать Александрову порученцу. Но главным, как позже понял Репнин, в том послании являлась приписка, в которой ему сообщалось, что по распоряжению Его высочества баронесса Анастасия Петровна Корф для ее же блага и в ознаменование ее заслуг перед государством российским направляется в Ново-Архангельск, чтобы соединиться с князем в священных узах брака. Однако сие путешествие осуществляется ею конфиденциально и под именем Анны Петровой Платоновой, мещанского сословия и без определенного занятия. В завершение до сведения князя доводилось, что проследует госпожа Платонова через Читу и далее по Амуру на пароходе-корвете «Америка», где в японском порту Хокадате пересядет на бриг Российско-американской компании «Румянцев», который и доставит означенную персону в Ново-Архангельск.
Репнин был и потрясен этим сообщением, и заинтригован. Судя по категоричному тону изложения, он просто обязан был дождаться приезда Анны, а значит, откладывался и срок его встречи с наследником. С одной стороны, Репнин получал возможность доработать отчет, чтобы он прозвучал весомо и предельно убедительно. С другой — как стало возможным, что Александр, который и сам всегда страдал от попыток вмешательства в его личную жизнь, решился едва ли не принудить Анну к отъезду и отправил ее на Аляску на военном корабле и под вымышленным именем! Здесь Репнин себя одернул — имя, конечно, было ему знакомо, но отчего Александру пришло в голову называть Анну ее прежним именем и что такого она совершила, что эти заслуги ее перед троном потребовали немедленного выдворения ее из страны и переселения на край света?
Теряясь в догадках, что все это могло означать, Репнин вынужден был без объяснений объявить Родичеву, что пока принужден оставаться на острове еще на один сезон — по его расчетам и исходя от даты, обозначенной на письме Александра, Анна должна была появиться в Ново-Архангельске не раньше весны. И Репнин опять зачастил в библиотеку, с удовольствием проводя тягостное время ожидания приезда Анны в чтении таких важных для его доклада Александру книг и рукописей.
Наблюдательная Екатерина Родичева между тем сразу обратила внимание на смятение князя, навеянное на него полученным из Санкт-Петербурга письмом. И, как ни старался он уверить женщину, что его волнение вызвано совсем другими причинами, Екатерина Петровна продолжала настаивать на разговоре, подразумевая под волнением князя причину исключительно личную. И однажды Репнин вынужден был сдаться и открыть ей, что волею обстоятельств баронесса, которой он предложил стать его женой, прежде его желания выехала из Петербурга и по завершении сезона штормов прибудет на Ситку с кораблем компании. И что решение это принято самим наследником, который, являясь не только государем для него, но и другом, взял на себя смелость ускорить соединение баронессы и своего адъютанта.
— Как это благородно со стороны Его высочества! — воскликнула Родичева, и, проявляя между тем проницательность, тотчас же и спросила следом: — Вас, тем не менее, эта ультимативность поступка Александра Николаевича гнетет. Вы, наверное, чувствуете обиду за приказательный характер этого решения? Но, быть может, баронесса, не дождавшись от вас письма, посетовала на свою судьбу своей госпоже, Марии Александровне, и та поспешила посодействовать ей через супруга?
— Поверьте, Екатерина Петровна, — покачал головою Репнин, — я был бы рад именно такому развитию сюжета. Я и прежде замечен был в пристрастии к сомнениям и долгим рассуждениям, отчего мои друзья и сам Александр Николаевич порою подтрунивали надо мною, называя тугодумом, и даже супруга моя покойная была в решительности куда проворнее меня. И полагая волю наследника за божественную, я с радостью приму помощь, которую он в который раз оказывает мне. Но ряд наблюдений, выведенных мною из событий, которые подразумеваются в послании Его высочества между строк, я смею считать столь скоропалительный отъезд баронессы из России если не высылкой, то бегством. И потому встревожен, ужасно встревожен! И готов хотя бы сейчас пересечь океан, чтобы оказаться в порту, где она должна пересесть на корабль компании, прежде ее. Я хочу встретить ее на берегу — поддержать, защитить, ибо, как мне кажется, именно это более всего сейчас необходимо баронессе.
— Тогда, быть может, вам стоит поторопиться, — задумчиво произнесла Родичева. — Насколько я знаю, «Крейсер» должен сделать еще остановку на Уналашке. Вы могли бы договориться, чтобы баркас немедленно доставил вас через залив — осень стоит замечательная. Я не припомню здесь такой долгой теплой погоды, так что вы имеете все шансы осуществить задуманное. О, вы опять погрузились в раздумья? Михаил Александрович! То, как вы прямо сейчас говорили со мною о баронессе, заставляет меня думать, что чувства ваши более значительны, чем вы пытаетесь представить нам, оберегая свои душевные раны от окружающих вас людей, насколько полно вы бы ни доверяли нам или кому другому. Прошу вас, не стесняйтесь своих чувств! Поверьте, созерцать влюбленность — счастье, и, дозволяя нам видеть столь прекрасные отношения, вы делаете счастливыми и нас. Любовь возвышает даже того, кто стал лишь ее безмолвным свидетелем, и мне много ценнее в вашем характере эта невольная слабость, нежели сила гордеца, который никогда не признается, что способен и готов бежать за дорогим для него существом на край света, плыть через моря и сражаться с ветряными мельницами…
Увы! Страстный монолог Екатерины Петровны, хотя и возымел на Репнина должное действие, оказался напрасен — «Крейсер» был буквально сметен внезапно прорвавшимся в залив штормом, — утлое суденышко трепало на волнах, как спичечную коробку или щепку, бросая из стороны в сторону, и корабль то и дело опасно черпал ледяную воду то с левого борта, то с правого, рискуя оказаться погребенным в пучине вместе со всем экипажем, так что капитан, выразив князю свое сожаление, принужден был спешно повернуть с полпути обратно в Ново-Архангельск. И Репнин вернулся на Ситку ни с чем, чтобы найти утешение в обществе милых Родичевых и их чудесных детей, но, слушая, как поет на своих музыкальных гостиных Екатерина Петровна, Михаил неизменно возвращался к той, кто когда-то очаровала его своим удивительным голосом.
В такие минуты он с особою охотою предавался воспоминаниям о тех днях, когда еще ничего не знал о тайне рождения Анны и видел в ней лишь воспитанницу старого барона Корфа, а в лучшем друге — противника своей любви. Он снова и снова уносился в мыслях на тот памятный бал, когда они с Анной кружились в вальсе, и только что пригубленное шампанское наполняло голову легким волнением, которое хотелось продлить, ибо оно было еще незнакомо ему, но — прекрасно!..
А с некоторых пор Михаил полюбил сны. И если прежде он с муками засыпал, долго переворачиваясь с боку на бок, торопя каждую минуту, призывая рассвет и умоляя ночь оставить его комнату, сейчас он не хотел просыпаться, потому как в снах возвращался в тот памятный 1838-й когда впервые увидел под копытами вскинувшейся лошади свою прелестную незнакомку, поднимающую с мостовой оброненный кем-то цветок, а позже вновь повстречал ее, дожидаясь на ступеньках дворца Оболенского своего влюбленного государя.
— Она! Здесь! — вскрикивал во сне Репнин, видя себя тем юным и восторженным существом, который, не веря своему счастью, провожал взглядом из-за колонны только что прошедшую в благоухании духов Анну и возносил хвалу Небесам за это проведение, божественное и прекрасное…
В его снах они были вместе и счастливы — он снова вел Анну в центр бальной залы, боясь прикоснуться к ее руке, к ее талии, но принужденный следовать па, сокращал расстояние между ними, теряя робость с каждым следующим туром, но обретая крылья и чувствуя восхищение: Анна танцевала прекрасно — она была легкая, нежная, отзывалась на каждое его движение, не теряя при этом очарования тайны. И оттого у князя туманилось в глазах — ему казалось, что он вальсирует с ангелом.
— Вы были великолепны, — шептал ей на ухо Репнин. — Мой кучер едва не сбил обладательницу самого восхитительного голоса на земле… Вы — само совершенство!
А она улыбалась — недоверчиво, но с таким трогательным желанием нравиться, что Репнин бледнел, смущался и никак не желал расставаться со своей незнакомкой. И слова, которые он собирался сказать ей, тонули в неведомой Михаилу прежде буре чувств и желаний, но, укрощенные ее наивным и доверчивым взором, превращались в стихи, спешно сложенные им в ту же ночь по возвращении с бала. Стихи, которые он так никогда и не прочитал ей.
Это был удивительный период в его жизни, когда слова возникали, казалось, ниоткуда и сами, заполняя пробелы в мире его грез и страницы в его поэтическом дневнике. Никогда прежде Репнин не был столь вдохновенным.
Не проходило и дня, чтобы князь не записал хотя бы восьмистишия, и друзья, которых он обычно радовал легкими и ироничными виршами по случаю, не могли добиться от Михаила ни эпиграммы, ни посвящения в альбом ко дню рождения для своих подруг, чему он был мастер и щедро дарил сослуживцам стихи, обращенные к неизвестным ему особам, подразумевая в образе очаровавшей приятеля-поручика дебютантке некую воображаемую даму собственного сердца. Но, едва его сердце действительно увидело, почувствовало, узнало ее — ту, единственную, Репнин сделался скуп и перестал бесцельно раздаривать свои стихи, ибо отныне не было смысла тратить время на пустые и никчемные записочки, адресованные посторонним ему девицам, князь и сам был влюблен и желал сохранить весь пыл своего чувства для нее — удивительной и реальной.
И еще он вспомнил встречу с Анной в Двугорском, когда, столкнувшись случайно на лестнице, они замерли друг против друга, не отрывая глаз и не в силах пошевелиться, дабы не нарушить тот эфир, что возник так внезапно между ними, окружил их и увлек в заоблачные дали прекрасной сказки возвышенной и неземной любви. И это ощущение хотелось продлить — прекрасное мгновение остановилось…
А первый поцелуй, когда вдвоем они читали по ролям Шекспира, и в роли Ромео Репнин был более откровенен и смел, прижимая к себе Джульетту-Анну…
Репнин снова и снова переживал те моменты, когда был счастлив с Анной. И видел себя своим знаменитым предшественником — командором Резановым, более чем за сто лет до него вот так же разлученным обстоятельствами со своею возлюбленной и нашедшим, хотя и малое, но все же утешение от горечи разлуки в своей великой миссии первопроходца на американском континенте.
«Если б ранее мыслило правительство о сей части света… ежели б беспрерывно следовало прозорливым видам Петра Великого, при малых тогдашних способах Берингову экспедицию для чего-нибудь начертавшего, то утвердительно сказать можно, что Новая Калифорния никогда б не была Гишпанской принадлежностью, ибо с 1760 года только обратили они внимание свое и предприимчивостью одних миссионеров сей летучий кряж земли навсегда себе упрочили. Теперь остается еще не занятой интервал, столько же выгодной и весьма нужной нам, и так ежели и его пропустим, то, что скажет потомство?» — читал и перечитывал Репнин слова доклада Резанова и, сравнивая их с собственными, находил много общего и созвучного.
И в поведанной ему Родичевыми истории любви юной испанки и русского командора, ходящей в здешних краях легендою, видел предзнаменование — эта земля навевала романтическое и обещала новые чувства, способные придать крылья и вознести под самые небеса…
Но однажды счастливые сны закончились — в кромешной тьме неожиданного и глубокого ночного провала вдруг вспыхнул свет, и Репнин увидел направленное на себя дуло пистолета. Михаил не понял, кто держал оружие в руке, но рядом почему-то был Владимир Корф, и он не выглядел умершим.
— Вы сегодня взволнованы много сильнее прежнего, князь, — отметила Родичева, когда уже ставший опаздывать к завтраку Репнин в тот день вышел в гостиную раньше других обитателей дома.
— Что-то случилось, — тихо промолвил Михаил, понимая, что бледен и выглядит расстроенным.
— Вы получили известие? — тихо и с сочувствием спросила Екатерина Петровна.
— Видение, только видение, — покачал головою Репнин, ускользая от нее взглядом. — Но, может быть, оно станет реальностью.
Его предчувствие вскоре сбылось — «Румянцев», причаливший к ново-архангельскому молу на третьи сутки, прибыл без Анны. Капитан судна, подвергнутый Репниным строжайшему допросу, показал, что согласно приказу, полученному из Петербурга ждал прибытия на борт поименованной персоны — как то госпожи Платоновой, но она в означенный срок так и не появилась, не взошла она на корабль и много позже, а долее оставаться в японском порту он не мог — «Румянцеву» и так пришлось наверстывать время, упущенное в ожидании таинственной пассажирки.
— И что же! — вскричал и сам потерявший терпение от его рассказа Репнин. — Вы не сделали ни малейшей попытки найти эту женщину и выполнить приказ?!
— Отчего же? — обиженно пожал плечами капитан. — Ее искали военные с фрегата, который, как говорят, доставил даму в Хокадате. Старший офицер, отвечавший за нее, перевернул все вверх дном на нашем судне, а потом с матросами — и весь порт. Но та женщина как сквозь землю провалилась. Или в море… — извините, Ваше сиятельство, это я так, по глупости сморозил. Но только сказать больше ничего не могу — виноват-с.
— А где сейчас этот фрегат? — воскликнул Репнин.
— По-моему, он вкруг Сахалина пошел — они, говорят, исследуют прибрежные бухты для новых фортеций…
— Судя по блеску в ваших глазах, вы что-то задумали, князь? — тихо спросил Родичев, когда капитан вышел из главной конторы порта: Репнин впервые за это время выглядел собранным и решительным. — Уж не собираетесь ли вы устроить поисковую экспедицию?
— А вы готовы помочь мне в том?..
Глава 2
Похищение
— Откройте! Слышите?! Немедленно откройте! — звала Анна и в отчаянии стучала кулаками по дощатой двери своего «каземата».
Ей казалось, она кричит уже целую вечность, и ее зов должен быть слышен по всему кораблю — настолько очевидно тонкими были переборки палубной надстройки, однако ничего не изменилось, и равнодушная тишина по-прежнему была ответом на ее мольбы о свободе и призывы о помощи.
Это было дежавю! Она опять заперта в каюте на чужом корабле и плывет в неизвестном направлении! Такое ей могло разве что присниться — снова враждебное открытое море и рискованно скользящий по волнам чайный клипер, снова неизвестность и таинственные похитители, которые не желали объявиться и держали ее в неведении и ужасе перед будущим. Воистину наваждение!..
Анна, наконец, оставила свое занятие, осознав его бессмысленность, и со стоном опустилась на привинченную к стене кубрика койку, схватившись руками за голову — все случилось так внезапно и необъяснимо! Она и без того была угнетена происходящим с нею после памятного разговора с Ван Виртом. Анна как будто вернулась во времена, пусть кратко, но ощутимо и болезненно ломавшие привычные ей с детства представления о жизни. Когда Двугорское ненадолго оказалось во власти Марии Алексеевны Долгорукой, Анна в полной мере ощутила на себе гнет крепостной зависимости — ни ее воля, ни ее желание более не имели значения и всем распоряжались своенравная и жестокая хозяйка, и ее омерзительный управляющий. Но если тогда ее судьбу решала прихоть одного человека, то сейчас ее будущее определялось соображениями государственными, что, однако, не облегчало ее переживаний, а наоборот — усугубляло их, ибо в одночасье она сделалась заключенной.
Из лучших побуждений, желая уберечь Анну от опасности, которая может угрожать ей со стороны Перминовых, Александр поручил ее заботам тайной канцелярии, и вот уже ее дом охраняли жандармы, и филеры повсюду следовали за нею. И это внимание было настолько усердным, что даже в Двугорском Анна перестала чувствовать себя в безопасности и возблагодарила Бога и ее высочество Марию Александровну за то, что она, как случалось прежде, взяла на себя заботу о ее детях, и тем самым помогла им счастливо избегнуть атмосферы тревоги и подозрительности, которая отныне окружала ее.
Для связи кроме прочего Анне был представлен жандармский офицер, занимавшийся ее отъездом и бумагами, ибо решено, опять же без ее согласия, но во имя ее безопасности, что отправится она к князю Репнину под новым именем, изобретенным в недрах тайной канцелярии. И сообщение об этом привело Анну в столь сильное негодование, что офицер принужден был отступить и выдать ей проездной документ на прежнее имя — Анна не желала быть ни госпожой Бибиковой, ни княжной Лисянской-Лунцевой, и даже ее сценический псевдоним — Анни Жерар — претил Анне. И потому баронесса Анастасия Корф вновь стала Анной Платоновой: ею она была двадцать лет от рождения, ею оставалась в душе все это время — крепостной актрисой и внебрачной дочерью князя Петра Михайловича Долгорукого.
Конечно, Анна понимала, что господа, которым наследник поручил ее дела, исполняли свое задание с должной тщательностью и старательностью, но прежде ей не приходилось задумываться над тем, насколько государственные интересы и твое случайное прикосновение к ним могут влиять на жизнь простого человека, и впервые Анна в полной мере ощутила несвободу выбора. Теперь не она сама принимала решения и выбирала пути и приоритеты — иные люди, хотя и руководствовавшиеся благими целями и действовавшие в ее же собственных интересах, направляли ее поступки и давали ей указания к их исполнению.
До сих пор Анна лишь опосредованно сталкивалась с подобным явлением. О том говорила Мария, рассуждая как-то о тяжести монарших обязанностей, которые ей предстояло принять на себя в будущем. Ее высочество денно и нощно молилась о здоровье Императора, переживая за нынешнее его болезненное состояние, вызванное бессонными ночами и волнениями за судьбу ввергнутого в тяжкую войну государства, и вместе с тем надеясь, что Господь отдалит от нее и Александра тот миг, когда им придется окончательно отринуть все, что могли позволить себе простые смертные, и сделаться заложниками короны и трона.
— Государственный человек, будь то монарх или его верный служащий, не принадлежит себе, — вздыхала Мария. — Соприкасаясь со столь великой ответственностью, мы перестаем иметь право не только на человеческие слабости, но и лишаемся повода для деяний, каковыми они могут быть порождены. Мы связаны по рукам и ногам высшими интересами, следуем задаваемым ими целям и почитаем их превыше всего. И потому неукоснительно принуждены соблюдать условности, устанавливаемые в полном соответствии с ними, что отягощает и без того замкнутое наше положение и превращает долг в бремя.
«Прости, но я не имею права открыть истину — это может обернуться большим международным скандалом», — сказал Анне Владимир тогда в Париже, сохраняя в тайне свое настоящее имя в этих самых высших интересах и принимая на себя наказание за преступление, которого он не совершал. «Оставь меня, ибо я не свободен для простых человеческих радостей, потому как назначенный мне путь проложен по картам, размеченным в самых высоких кабинетах», — убеждал Соню, поведавшую о том Анне по возвращению домой, ее возлюбленный, занятый поисками подземного завода в уральских горах. И вот теперь ей самой приходилось слышать в свой адрес: во имя интересов государства и только после этого — ради вашего блага…
Анна помнила, как утешала Соню, приводя ей в пример Владимира и уверяя, что таков путь мужчин: выбирая службу, они выбирают судьбу. Но Соня все спорила с нею и не соглашалась — если в деле Владимира в Париже не были замешаны государственные интересы, он не оставил бы ни ее, ни детей. И Виктор — так Анна впервые узнала, как звали Ван Хельсинга! — не гнал бы ее прочь с такой безысходностью; любовь была для него так некстати и никак не увязывалась с выполняемым им в Каменногорске правительственным поручением. И Анна не могла ей возразить — сопоставление было слишком очевидным. И лишь небольшая компенсация утешала ее — в отсутствии Лизы Соня, пережив самое главное чувство в своей жизни, стремительно повзрослела и стала для сестры равным собеседником и в какой-то мере — товарищем по несчастью.
За то недолгое время, что отмерено было им до ее отъезда в Голландию, Соня и Анна как будто заново подружились. И прежней легкомысленной отстраненности, вызванной творческим Сониным эгоизмом и ее вечным отсутствием в доме, как ни бывало — Анна незаметно сделалась поверенной во всех материнских заботах сестры и самым ее безропотным слушателем, ибо с чувства, долго хранимого в глубине сердца, наконец, снят был запрет, и не проходило дня, чтобы Соня не принималась рассказывать Анне о Ван Хельсинге.
И, слушая сентиментальные и трогательные Сонины излияния, находившей такие удивительно красивые и выразительные слова для объяснения своих отношений с Ван Хельсингом, что Анна невольно завидовала младшей сестре. Для нее самой путь к взаимопониманию с Владимиром был столь долог и труден прежде всего по причине того сходства их характеров и присутствию в них той черты, что не позволяла превращать сокровенное в повод для художественного — к чему был так предрасположен Михаил, умевший вносить в ухаживание за нею почти театральную приподнятость и сценический пафос.
Анна, наоборот, всегда в жизни была сдержанна и разумна, разделяя роль, играемую ею на подмостках, и самое себя. Сцена представлялась ей олицетворением желаемого — так, наверное, следовало поступать, так говорить, так чувствовать, но ее собственное «я» всегда велело ей бежать выспренности и украшательств, и потому она предпочитала надеяться, что тот, к кому обращены ее мечты, все поймет и без лишних слов, и без поз на котурнах. Но теперь, внимая Соне, Анна спрашивала себя: имела ли она право тогда, много лет назад, лишать Владимира своих признаний — внутренне пылких и откровенных, должна ли была уклоняться от его страсти, которая долгое время разбивалась о холодную стену ее недоверия к бурному проявлению им неоднозначных чувств, испытываемых к ней? И сможет ли она — в недалеком уже будущем! — рассказать своим детям, когда они перестанут ждать возвращения отца и захотят услышать о нем, об их любви и жизни, так же восторженно и красочно, как того действительно заслуживали их отношения? Готова ли она к тому, чтобы научить их любить и быть любимыми? И быть может, не случайно в ее жизни опять возник князь Репнин — натура впечатлительная, тонкая и склонная к поэтическому взгляду на жизнь, на любовь?
Однако тревога не оставляла Анну, и причину ее усиления она видела в той категоричности, с которой свыше ей рекомендовано было их новое сближение с Михаилом. Воспитанная старым бароном Корфом в уважении к чувствам своей подопечной, Анна более всего ценила сердечную свободу, и хотя знала она заблуждения в своих увлечениях, но все же была Иваном Ивановичем ограждена от душевной неволи. И даже наставляя Анну на путь актрисы, барон лишь излагал перед своей воспитанницей все перспективы этого занятия, оставляя за нею самою право сделать окончательный выбор — сцена или волновавшие тогда Анну чувства к юному князю Репнину. Властвовать поначалу пытался только Владимир, да и потому лишь, что не смог справиться с нахлынувшими на него желаниями, и только воля и решительность Анны, ее гордость и свободолюбие, удержали Владимира от неосмотрительных поступков, убедили отступить и довериться выбору ее сердца. И вот этот выбор сделан за нее!
Анна не понимала, как Александр, и сам в свое время немало перестрадавший из-за своеволия отца, не признававшего за ним права на самостоятельность в любви, смог решиться на то, чтобы приказать Анне отправиться на Аляску и выйти замуж за Михаила Репнина. Анна и так озабочена была сомнениями в правильности этого решения, принятого ими обоими, а теперь все ее существо и подавно воспротивилось этому шагу, хотя еще совсем недавно представлявшемуся ей вполне логичным и совершаемому ради памяти погибшей сестры и будущего их детей. Анна ведь и уезжала на поиски Сони с тайным намерением проверить свою готовность к этому шагу, невольно задерживая окончательный ответ Репнину и избегая получения от него подобного же ответа. И вот то, что считалось ее личным делом, что составляло для Анны смысл самых глубоких, потаенных переживаний, к которым допущены были немногие, оказалось предметом обсуждения в высших сферах и поводом для высочайшего указа. Такой поворот событий Анну пугал и настораживал: Александр, который много лет назад просил Репнина и Корфа считать его своим другом, и сегодняшний наследник престола, выбирающий для нее место жительства и будущего супруга, были разными людьми. Властность последнего удручала столь же сильно, как и невозможность возврата в те дни, когда любовь уравнивала в правах всех — и будущего суверена, и простого офицера.
И, собирая вещи в дорогу — сначала провожая Соню, а потом и свои собственные, Анна то и дело спрашивала себя: отчего дружба с особою царского происхождения неизбежно чревата бедою? Оттого ли, что тяжесть их обязательств перед страною и своим народом так велика, что тень ее невольно падает и на тебя? И случайно ли говорено — минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь? Разумеется, Анна не склонна была видеть в своих государях препятствие, но, будучи случайно вовлечена в дело государственной важности, переступила ту грань, что позволяла ей до сих пор оставаться независимой.
А потом еще и Варвара умерла — тихо, во сне: старушка просто заснула, помолившись, и отошла, обрушив своим уходом последний бастион душевной крепости, которая единственно была Анне все эти годы опорой и защитой. И одиночество навалилось на Анну с новой силой, ибо дети были еще столь малы и отныне далеки от нее, дабы не подвергнуть жизнь их опасности, младшая сестра уехала в дальние страны, скрываясь от преследования, и ей самой предстоял утомительный и долгий путь в никуда, почти по этапу.
Татьяна с Никитой, как могли, утешали Анну, в слезах горевавшую на могилке Варвары, но плакала она не столько по усопшему другу, сколько о своей судьбе, и вспоминала наставление старой няньки, убеждавшей ее поскорее начать новую жизнь. Только разве можно было начать все с начала, повинуясь лишь воле своего государя, а не по велению сердца и движению души? Смириться с тем для нее было трудно и оттого Анна, наблюдая, как крепят на задворках кареты ее дорожные баулы и чемоданы, ощущала под ногами кружение, а в груди — пустоту, заполнить которую, как она думала, уже никому не было возможно.
Полегчало ей через месяц дороги. Офицер Вельский, приданный ей в попутчики и для охраны, оказался на редкость доброжелательным и терпеливым. Он умел помолчать, но всегда был готов развлечь свою спутницу незатейливой и ловкой беседой, обходя опасные темы и не опускаясь до банальности. Анна чувствовала его искреннее сострадание — выдержать такое путешествие не каждому было по силам, но Вельский советовал ей отрешиться от горестных переживаний и отнестись к происходящему философски. Он неплохо знал края, что они пересекали, и был весьма начитан, а, так как путь их лежал через Оренбург, то Вельский много цитировал Пушкина и однажды пытался уверить Анну, что почтовая станция, где они только что ночевали, — та самая, где проезжал как-то и Гринев из повести о капитанской дочке.
С легкой руки Вельского Анна окрестила свое путешествие литературным, и, так как жили они большею частью обособленно, останавливаясь на частных квартирах, то Анна с удовольствием расспрашивала хозяев о местных легендах и даже принялась те рассказы записывать. Вельский, которому Анна читала свои заметки, кроме всего прочего, проявил еще и недурной вкус к словесности, дополняя ее повествование репликами — легкими, ироничными и порою весьма остроумными. Лишь однажды взор его затуманился — в даме из случайных проезжих, с кем они время от времени пересекались на почтовых станциях, Вельскому почудилось сходство с женою и на краткое время любезность и праздность изменили ему, но видение исчезло, и офицер до самого завершения их совместной поездки более уже не тревожил Анну столь внезапной и резкой переменой настроения.
Новый год и Рождество встречены ими были в Томске, где Вельский передал свою ответственность другому офицеру, и Анна с сожалением рассталась со своим ненавязчивым и приятным в общении спутником. Прощаясь, он целовал ей руки и назвал вашим сиятельством Анастасией Петровной, чем немало удивил своего коллегу, которому в предписании охраняемая особо была представлена мещанкой Платоновой Анною, но по службе своей новый сопровождающий тоже был неплохо обучен и кроме вида ничем другим недоумения своего выказывать не стал. И, хотя в проявлении заботы ротмистр Гордеев был менее искусен, но в его молчаливости Анна вскоре нашла и свои выгоды, предаваясь всю дальнейшую дорогу до Читы наблюдениям и размышлениям.
Анна впервые с такой ясностью оценила невообразимые просторы российские, их исключительную красоту и непохожесть одних мест на другие. И невольно созерцание этого величия отодвинуло на второй план ее собственные переживания и горести. Анна не знала, что ждет ее впереди, но возникшую приподнятость настроения не могли умалить ни ледяные февральские ветры, ни снежные заносы на дорогах, ни казавшееся бесконечным ожидание попутной погоды.
Из всех городов Иркутск понравился ей более других, Чита же произвела слегка мрачное впечатление, хотя долго оставаться ей там не пришлось — едва сошел амурский лед, Гордеев представил ее капитан-лейтенанту Коростылеву, чей корабль должен был доставить ее на Сахалин, а оттуда в Японию, где Анна, как предполагалось, пересела бы на корабль Российско-американской компании, идущий на Аляску.
Возглавляемый Коростылевым пароход-фрегат «Америка», хотя и вооружен был соответственно своей принадлежности военному ведомству, шел в Японское море с исследовательскими целями. Находившиеся на его борту офицеры — все выпускники Морского кадетского корпуса — увлечены были географией и составляли не только подробную карту приамурских земель, но и мало изученных еще территорий приморского побережья — среди задач, стоявших перед Коростылевым, был поиск мест для будущих флотских баз и новых поселений.
Анну по негласно установившейся договоренности никто ни о чем не спрашивал — она пользовалась на корабле не только уважением и почетом, но и всеми правами и привилегиями старших офицеров, и, как единственная дама на борту, вкушала в полной мере все прелести своей исключительности — ей доставалось все внимание и все комплименты. Но Анна не была бы самою собой, если бы позволила себе почивать на лаврах, ведя образ жизни, свойственный жуирствующим, праздным особам, и потому очень скоро убедила своих хозяев, что может быть не только приятной собеседницей и украшением офицерской гостиной, но и толковым помощником.
Она с удовольствием и старательностью изучила географические приборы и стала помогать наносить на карты полученные в ходе исследований данные, а ее каллиграфический почерк и вовсе пользовался повышенным спросом при заполнении схем и таблиц и для подписей на собранных экспонатах — один из офицеров составлял описание приамурской флоры, другой во время стоянок изучал отложения пород вдоль береговой линии. И, увлекшись этими занятиями, Анна снова вернулась к своему дневнику, который завела, прислушавшись к настойчивым советам своего первого провожатого — офицера Вельского.
«Возможно, по прошествию времени, — писала Анна, — я вынуждена буду признать, что поступок наследника, который так недавно казался мне жестоким и бесцеремонным, еще увидится мною в новом свете, ибо путешествие мое в Новый Свет постепенно приносит успокоение. Отвлекаясь от тягостных раздумий о пережитом, душа моя открывается свежим впечатлениям и проясняется, наверное, подразумевавшаяся Его высочеством мысль — нельзя начинать новую жизнь в старых стенах. И сейчас уже свой отъезд я начинаю рассматривать не как бегство или ссылку, а как движение вперед — к новым берегам и новым надеждам, к чему побуждают меня и мои нынешние спутники, ибо, изучая природу этого края, они не просто исследуют незнакомый им прежде регион, а находятся в поисках перспективы — они думают о будущем, и невольно это их настроение передается и мне…»
Естественное любопытство, вызволившее Анну из печальной созерцательности, упрочилось, когда «Америка» пришла в Хакодате. И хотя корабль стал на рейде, у Анны была возможность отправиться вместе с офицерами на берег и поближе рассмотреть жизнь этого небольшого японского порта. А так как прибытие «Румянцева» задерживалось ввиду непогоды — зима продолжала отчаянно бороться с солнцем и наступавшим теплом, Анна и два картографа отправились в горы, где провели чудесный день в японской деревушке, попробовав прежде незнакомые им блюда из свежей рыбы и риса с соевым соусом и гарнир из каких-то неизвестных растений.
На обратном пути по городу они прокатились на рикше, и, хотя Анне неловко было сидеть в коляске, которую бойко тянул босоногий возчик, она была рада укрыться в тени тента от любопытных взглядов обитателей портовых улиц и моряков.
У перекрестка при въезде в порт, везший ее рикша едва не столкнулся с другим, торопившимся им навстречу. Возчики обменялись между собою громкими криками, и на мгновение человек, сидевший в коляске, едва не врезавшейся в ту, что везла Анну, выглянул из-под тента, чтобы поторопить своего рикшу. Она почувствовала на себе его взгляд, но рассмотреть не успела — мужчина тотчас же отпрянул вглубь коляски и что-то гортанно и властно сказал рикше, отчего тот бросил перепираться со своим коллегой и заторопился прочь от порта по улице.
В первую минуту Анна заволновалась, но потом за ужином в кают-компании, где их немногочисленная группа держала ответ перед остававшимися на корабле офицерами о поездке, забыла о том инциденте. По крайней мере, так ей казалось. Но день проходил за днем — море продолжало буйствовать, и корабль Российско-американской компании не мог пробиться к Японии из-за шторма. А так как капитану «Америки» строжайше было приказано дождаться «Румянцева» и проследить за тем, чтобы госпожа Платонова взошла на его борт, экипаж фрегата временно бездействовал, заполняя дни экскурсионными поездками в горы или по побережью. И, каждый раз оказываясь в порту, Анна все не могла отделаться от странного и опасного ощущения слежки. Но так как никаких доказательств тому не нашлось, она, в конце концов, успокоилась, убедив себя, что у нее просто разыгралось воображение.
И поэтому, когда однажды молоденький быстроногий рикша, значительно обогнав по дороге другие коляски, в которых ехали сопровождавшие Анну офицеры, неожиданно повернул в проулок, отделившись от кавалькады, и повез ее по незнакомой улице вглубь города, Анна только удивилась — убаюканная равномерным ходом коляски, она отвлеклась от дороги и не сразу поняла, что произошло. А когда сообразила, что не узнает мест, по которым вез ее рикша, принялась громко призывать его внимание, пока он, наконец, не остановился, и неосмотрительно выйдя из коляски, принялась расспрашивать парнишку, жестами помогая себе в объяснении с возчиком. Но тот все качал головою, что должно было означать — не понимаю, не понимаю, а после и вовсе сбежал, оставив ее одну посреди улицы.
Конечно, Анна попыталась найти дорогу обратно, полагая, что, потеряв из виду рикшу, который вез ее, офицеры с «Америки» скоро схватятся пропажи и начнут искать свою пассажирку, но вдруг какой-то старик, мешая русские слова с английскими, подошел к ней и стал манить за собой — «русска, шип, харашо». Быть может, он знает, как найти моих товарищей, решила Анна — за время стоянки русский экипаж примелькался в порту, и она кивнула — идем.
Старик привел ее в гавань, но по другую сторону дуги, которую в соответствии с береговой линией описывал причал порта, и указал на утлую джонку с крытым верхом, предлагая спуститься в нее. А когда Анна засомневалась — правильно ли она поступает, кивнул в сторону рейда, где покачивался на волнах русский фрегат. Да он хочет отвезти меня на корабль, поняла Анна — наверное, думает заработать на этой услуге. Что же, это было понятно и вполне разумно — Анна протянула старику руку, который помог ей спуститься в лодку, и склонила голову, чтобы пройти под навес. Очнулась она уже в море — на неизвестном ей корабле, запертая в убогой каюте, и берег, который Анна видела в иллюминатор, с каждой минутой становился все дальше и дальше от нее…
— Господин Маркелов?! — с плохо скрываемым ужасом воскликнула Анна, когда матрос, больше похожий на крестьянина — из тех, что она видела в японской деревне, привел ее в маленькую кают-компанию, где из-за стола к ней навстречу поднялся бывший управляющий перминовских заводов — с наилюбезнейшей улыбкой и со словами «Рад, несказанно рад видеть вас, ваше сиятельство». — Что все это значит, Дмитрий Игнатьевич, если не ошибаюсь?
— У вас превосходная память, сударыня, — улыбнулся Маркелов, жестом предлагая Анне присесть к столу, но, заметив ее взгляд, брошенный в сторону спокойно продолжавших обедать японцев, как будто и не обративших даже головы на ее появление, кивнул, — не обращайте внимания. Во-первых, они не понимают по-русски, разве что два-три слова, да и то особенные — наша брань здесь весьма популярна, потому как оказывает удивительное убеждающее действие на экипаж. А во-вторых, им хорошо заплачено за наш проезд и молчание.
— И похищение?! — с негодованием сказала Анна, не делая и попытки занять место за столом.
— У меня довольно денег на все, — не без иронии улыбнулся Маркелов и еще раз настойчиво предложил, — садитесь, Анастасия Петровна, и поешьте — это вполне съедобное блюдо, здесь его традиционно готовят из птицы. Ничего опасного — только бульон и овощи.
— Я не стану есть, — решительным тоном отвечала ему Анна.
— Вы пытаетесь уморить себя голодом? — Маркелов удивленно приподнял брови. — Во имя чего? А, понимаю, в знак протеста! Поверьте, это все равно ничего не изменит вмоем решении, усугубится лишь единственно ваше состояние, а мне бы этого совершенно не хотелось.
— Пытаетесь уверить меня в том, что не намерены убивать меня? — прямо спросила Анна.
— Убивать? — Маркелов отложил ложку в сторону и вытер льняной салфеткой влажные от бульона губы. — Я не воюю с женщинами.
— Вот как? — недобро усмехнулась Анна.
— Вы совершенно напрасно не верите мне, — пожал плечами Маркелов. — Я понимаю ваши чувства, но любые разговоры о моей жестокости к женщинам нелепы. Неужели ваша сестра пострадала? Разве кто-нибудь причинил ей боль? Равно как и ее приятелю, и, даю вам слово, молодой человек был бы жив, если бы не вознамерился бежать. Но даже и тогда никто и пальцем не коснулся княжны, и она вполне сносно чувствовала себя…
— В вашем рабстве? — не удержалась от осуждающей реплики Анна, и Маркелов нахмурился, но быстро взял себя в руки и сказал:
— Если позволите — в тюрьме, ибо ваша сестра и ее друг нарушили право собственности, а за это наказание неизбежно.
— И вы сочли, что их проступок достоин смерти? — Анна с вызовом посмотрела на своего похитителя. — Но они не ваши крепостные!
— Послушайте, — с уже заметным раздражением промолвил Маркелов. — Тот человек вмешался в опасную игру, безрассудно втянув в нее и вашу сестру, и попался с поличным, а потом затеял побег, но, однако, у него не было тех колдовских чар, что помогли господину Ван Вирту отыскать вход в подземелье. Это был несчастный случай — не более, вам следовало лучше расспросить княжну, вряд ли бы она стала отрицать, что, пытаясь выбраться из колодца, ее друг оступился.
— А господин Ван Вирт тоже оступился? — насмешливо спросила Анна и вдруг испугалась — как бы по тону ее голоса Маркелов не догадался, что на этот раз его наемники дали осечку. Впрочем, для Ван Вирта вряд ли можно было считать удачей его собственное спасение — оставшись жить сам, он потерял единственного сына.
— Колдун получил то, что заслуживал, — тихо произнес Маркелов с интересом вглядываясь в лицо своей пленницы и пытаясь прочесть на нем то, что осталось в подтексте ее вопроса, и Анна, дабы отвлечь Маркелова от размышлений на эту тему, решила изменить тактику и села за стол, придвинув к себе тарелку с супом, на что Маркелов удовлетворенно кивнул. — Так-то лучше, ваше сиятельство. Вам следует хорошо питаться и непременно отдохнуть.
— Вы говорите так, — Анна искоса посмотрела на своего визави, пригубив стоявшей перед нею в круглой мисочке похлебки, и поморщилась: бульон остыл и сделался еще более пресным, — словно решили откормить меня на убой.
— Опять вы о смерти! — Маркелов явно начинал злиться. — Еще раз говорю вам, живая вы много ценнее, хотя и доставляете значительно больше неприятностей, чем я мог предположить. Впрочем, учитывая непоседливый характер вашей сестры, мне следовало догадаться, что общение с вами тоже будет не из легких.
— И во сколько же вы меня оценили? — поинтересовалась Анна.
— Вы станете залогом большой дружбы, — не без самодовольства пояснил Маркелов. — Я преподнесу вас в качестве подарка к празднику своему давнему знакомому, большому индейскому вождю на калифорнийском побережье.
— Вы, верно, шутите? — растерялась Анна.
— Ни в коей мере, — упоенный своею идеей рассмеялся Маркелов. — Мой индейский знакомец вот уже несколько лет озабочен поисками русской жены, и я собираюсь удовлетворить его прихоть.
— Вы безумец! — воскликнула Анна с таким волнением, что даже невозмутимые японцы, завершавшие свою трапезу, подняли головы от тарелок с бульоном.
— Увы, — хмыкнул Маркелов, — я всего лишь прагматик. Мое призвание — создавать капитал, считать его и упрочивать. Остальное — в вашем воображении.
— Негодяй! — Анна едва удержалась от того, чтобы не бросить в Маркелова ложку, не выплеснуть суп ему в лицо, и, хотя, судя по всему, тот почувствовал настроение своей пленницы, не пошевелился, с удовольствием наблюдая проявление ее эмоций.
— Уверен, ваша страстность пойдет на пользу моему другу, — Маркелов как ни в чем ни бывало принялся доедать суп. — Возможно, вам даже удастся растопить его непроницаемость, индейцы очень гордятся своей способностью к сдержанности.
— Будьте вы прокляты! — сквозь зубы бросила Анна, отстраняясь от стола и опасливо откидываясь на спинку бамбукового стула, показавшегося ей хрупким и слишком гибким.
— Полагаете, я боюсь ваших проклятий? Разве что вы поднабрались дурных приемов у вашего знакомого чародея? — Маркелов шутливо изобразил на своем лице испуг, но потом вдруг мгновенно выражение его лица стало серьезным и пугающим. — Думаю все же, это вам стоит бояться меня и перестать колоть взглядами и глупыми фразами, ибо и вы, и ваши слова беспомощны. Здесь всем распоряжаюсь я, и мне решать, что вы увидите завтра — свое будущее и прошлое в последний светлый миг…
— Вы опять угрожаете мне? — спросила Анна.
— Предупреждаю, — тоном, не допускающим возражений, твердо сказал Маркелов. — И советую вам следовать моим указаниям и впредь не раздражать меня понапрасну нелепыми дамскими выходками. Поймите, вы ничего не добьетесь, оказывая мне сопротивление. Я все равно привезу вас в Калифорнию, и вы станете женою большого вождя индейских племен.
— Вас связывает такая крепкая дружба? — Анна искреннее была удивлена столь непоколебимой решимости своего похитителя.
— Самая крепкая дружба та, что основана на точном расчете, — усмехнулся Маркелов, принимаясь между тем за второе блюдо — что-то по запаху похожее на грибы, тушеные в сметане, которые он довольно ловко пытался поддеть двумя тонкими деревянными палочками.
— И на что вы предполагаете обменять меня? — наконец поняла Анна.
— Обмен? — Маркелов снова расплылся в широкой и, казалось, вполне добродушной улыбке. — Никаких товаров, никакой торговли людьми. Я просто надеюсь на ответный подарок вождя, во владениях которого есть небольшое черное озерцо с бьющим из него маленьким фонтанчиком.
— Нефть?! — догадалась Анна. О таких источниках ей рассказывал один из офицеров на «Америке».
— А вы, мало что красивы и благородны, так еще и сообразительны, — кивнул Маркелов. — Похоже, мне удастся угодить вождю во всех отношениях.
— И как давно вы замыслили свой подлый план? — Анна пристально посмотрела на своего собеседника.
— Честно говоря, я впервые ничего не обдумывал заранее, — с притворной неохотой признался тот, но по всему было видно, что Маркелов гордится своей импровизацией. — Вообще-то я собирался опоить вождя и отвезти его к американцам, чтобы оформить передачу прав на интересующий меня участок земли. Но когда в порту наши рикши столкнулись, и я увидел вас…
— Так это были вы! — догадка мгновенно осенила Анну. — В коляске, под тентом, вы так быстро спрятались!..
— Я всего лишь не хотел быть узнанным, — пожал плечами Маркелов. — После вашего посещения подземного завода Перминовых, моим хозяевам пришлось открыть карты и повиниться перед императором, а мне — бежать. И как можно скорее. Слава Богу, что, всегда подразумевая худшее, я запасся некоторыми ценностями, благодаря чему без трудов добрался через Китай в Японию. И здесь в первый же день увидел вас… И тогда я подумал — вот оно, провидение! Зачем мне гневить непредсказуемых в своей агрессии индейцев, если я могу получить все, что хочу законным путем и к тому же совершенно безвозмездно, просто обменяв один подарок на другой. А вы — именно то, о чем грезит этот несчастный: стройная, белокурая, с голубыми глазами.
— Он что — маньяк, ваш вождь? — вскинулась Анна, почувствовав себя оскорбленной, Маркелов описывал ее таким тоном, словно она была породистой лошадью.
— Говорят, вождь никогда прежде не видел белых женщин, пока в Калифорнии не обосновались русские, — объяснил Маркелов, провожая равнодушным взглядом бесшумно покидавших кают-компанию японцев. — И ему приглянулась одна — не из алеуток, на которых женились русские охотники, и не из метисов, которые рождались в тех браках. По слухам, это была служанка жены тогдашнего коменданта крепости Форт-Росс, которую привезли вместе с вещами с материка.
— Какой вы все же циник, господин Маркелов! — воскликнула Анна.
— Я всего лишь рассказываю вам байку о вашем будущем супруге, — опять гадко усмехнулся Маркелов.
— И не надейтесь, я не стану наложницей в гареме какого-то дикаря! — вскричала Анна.
— Вы не в Алжире, ваше сиятельство, — уточнил Маркелов. — Индейцы на редкость постоянны и, вступая в брак, дают обязательства любить друг друга, пока луна и звезды светят с небес.
— Но… — начала было Анна. — Тогда я не понимаю…
— Жена вождя умерла, — пояснил Маркелов, — то ли утонула, то ли попала под обвал в горах. Говорят, он совершил какой-то важный обряд, и боги пообещали ему вернуть жену. А вождь в ответ дал клятву сполна одарить любого, кто исполнит волю богов или хотя бы принесет весточку от них. И я уверен, что так и будет.
— Это подло, — тихо сказала Анна, вставая из-за стола. — Подло пользоваться несчастьем ближнего, чтобы обмануть и обокрасть его.
— По-моему, вам пора возвращаться в каюту, — тихо, но с почудившейся Анне угрозой, сказал Маркелов и дважды хлопнул в ладоши: на зов прибежал тот самый матрос, что недавно привел ее в кают-компанию, и встал за спиной у Анны, давая понять, что ей пора уходить; Маркелов одобрительно кивнул ему и снова посмотрел на Анну. — И постарайтесь хорошенько выспаться. Усталость, конечно, придает вам некоторый шарм, но все же, все же…
Это было невыносимо! Анна резко повернулась и вышла прочь из кают-компании.
Конечно, при других обстоятельствах она, наверное, посмеялась бы над нелепостью этой ситуации — в ее памяти еще свежи были воспоминания, когда Крестоносец грозился продать ее в гарем своего партнера по разбойному промыслу. Но тогда Анна весьма легкомысленно отнеслась к данному Валером обещанию, потому как все устремления ее были направлены на мысли о побеге и о раскрытой ею тайны исчезновения Вифлеемской звезды. И вот — опять дежавю, но сейчас Анна находилась в руках человека, куда менее сентиментального и романтического, чем Крестоносец. Доброжелательный тон господина Маркелова не мог ее обмануть. Еще в Петербурге, убеждая Анну в необходимости уехать, Ван Вирт рассказал ей о том, как развивались события в Каменногорске после их спасения.
Получив от Ван Вирта подтверждение о том, что Перминовы скрывают львиную долю своих доходов, и описание местности, в которой ими построен был секретный подземный завод, тайная канцелярия проследила курьеров, доставлявших изумруды и алмазы в столицу, Москву и другие города, где их обрабатывали у вовлеченных в это предприятие немецких и голландских ювелиров. Однако большая часть сокровищ оседала в закромах самих владельцев завода и членов их семьи, где и оседали неучтенные и не покрытые налогами состояния, делая и без того богатейших Перминовых еще богаче. Разумеется, такое самоуправство в стране, находящейся на военном положении, возмутило императора, и с Перминовых был учинен строжайший допрос.
Однако пока они винились перед государем, их управляющий срочно устранял все последствия этого происшествия. Так что прибывшие к памятной Анне и Ван Вирту часовне жандармы нашли лишь ее взорванный остов на холме против «алмазной горы». Вход в шахту и винтовая лестница тоже были уничтожены, и разобрать этот завал не представлялось возможным. Следуя, тем не менее указаниям Ван Вирта и рассказам Сони, утверждавшей, что в горе были вентиляционные колодцы, жандармы облазили все склоны горы, но не нашли и следов этих шахт. Скорее всего, они тоже были завалены, погребя под землею живыми всех, кто оставался еще на руднике. Ван Вирт не сомневался, что из опасения появления новых свидетелей, Маркелов поступил с находившимися в горе рабочими так же жестоко, как и с заимкой, от которой остались одни головешки: устроенный управляющим пожар едва не спалил пол-тайги в окрестностях горы, которая так до конца и не раскрыла своей тайны.
А потом, когда управляющий узнал от невестки Каменногорского градоначальника, что баронесса Корф жива и ее сестра — тоже, Маркелов объявил войну единственным оставшимся в живых свидетелям того, что происходило в «алмазной горе». И, сопоставив воскрешение Анны и ее спутников с приездами на гастроли Ван Вирта, он все понял и начал действовать.
Анна поняла — Маркелов был уверен в смерти мага, и благоразумно не стала спешить его в том разубеждать. Одно лишь она не могла осознать — для чего случилась эта встреча? Уже давно Анна пришла к мысли о закономерности всего происходящего в ее жизни, так что должно было принести ей это пересечение с господином Маркеловым? Она не думала, что он дан ей для новых испытаний — их и так оказалось в последние годы сверх всякой меры. А может быть, это знак против ее поездки к Репнину, против затеи их брака?
Случай уже давно стал для Анны сигналом из будущего — как будто небеса предупреждали ее или отводили с пути, который она полагала правильным, а они — опасным. Что следовало сейчас за этим похищением, что ждало ее в Калифорнии? Анна не боялась ожидавших ее событий — она не хотела проглядеть за видимыми причинами ту, настоящую, ради которой судьба столкнула на узенькой улочке небольшого японского порта двух рикш и позволила Маркелову увидеть Анну. Конечно, она понимала, что в эту минуту, быть может, экипаж «Америки» обыскивает каждый кусочек порта, каждый городской закоулок и все корабли, ждущие погрузки и отправления. Но гораздо важнее для нее было знать не то, что ее ищут, а то, что она сама найдет там, куда влечет ее неугомонная судьба, выбравшая для роли вестника этого ужасного и отвратительного ей человека.
Маркелов видел отношение Анны к себе, но не делал и попытки изменить его — он был равнодушен к людской боли и лишен сострадания, а потеря власти и богатства, которые давал ему подземный завод, сделали его еще более озлобленным. И хотя их путь до Калифорнии не был слишком долгим, а изящный и юркий клипер стремительно мчал по волнам так же внезапно, как разволновавшегося, так и утихшего океана, Анна старалась не надоедать Маркелову своим присутствием. Она с трудом могла удерживаться от осуждающих взглядов в его сторону: Анну раздражало в Маркелове все — внешний вид, с каждым днем все больше делавший его схожим с медведем-шатуном, его ухмылки, его высокомерие и презрение ко всему живому, столь выразительно и однозначно запечатленное на его лице.
И самым невозможным и убийственным в этом было отношение Маркелова к Анне, как к живому товару, как к собственности, с которой можешь делать все, что пожелаешь, но — не делаешь, ибо сила презрения твоя к человеческим мизераблям столь велика и наполнена брезгливостью, что удерживает от соприкосновения с ними. Уверена, они нашли бы много с княгиней Долгорукой, подумала как-то Анна и мысли этой ужаснулась — опять наваждение! Призраки прошлого окружали ее, но являлись ли эти видения предостережением или возвращали к чему-то важному в ее жизни? Какие перемены они несли с собою — добрые или ужасные и необратимые?
— Вам не надоело сидеть в своей каюте? — не без иронии поинтересовался у Анны Маркелов, когда после очередного молчаливого обеда, она поднялась с намерением вернуться в свой каземат, как Анна открыто именовала отведенную ей на корабле каюту.
— Вы предлагаете мне переменить обстановку? — в тон ему спросила Анна. — Сойти на берег, вкусить блага цивилизации и снова почувствовать себя женщиной, а не объектом вашей беспардонной купли-продажи?
— Все-таки, когда вы молчите, баронесса, вы нравитесь мне гораздо сильнее, — со злостью отозвался Маркелов и добавил: — Но в чем-то вы правы, и ваши пожелания, вполне возможно, в самые ближайшие часы окажутся выполнимыми.
— Что вы хотите этим сказать? — побледнела Анна от тревожного предчувствия.
— Идемте со мной! — властно велел ей Маркелов, и, невольно повинуясь его приказу, Анна вышла вслед за ним на палубу, где у руля царило незнакомое ей прежде оживление, и посмотрела в сторону, куда жестом указал ей Маркелов. — Ваши дамские мечты недалеки от истины, Анастасия Петровна. Мы приближаемся к берегу. Вот она — Калифорния, перед вами!
Анна вздрогнула, и взор ее устремился вперед, где за легкой дымкой высокого прибоя вдали угадывался скалистый берег, а дальше — зеленые горы, над которыми уже по-весеннему светло солнце. Сопровождавший их всю дорогу до Америки дождь закончился еще вчера к вечеру, и сегодня облака разбежались, уступая ветру, гнавшему их в океан.
— Вы знаете испанский, баронесса? — спросил Анну Маркелов.
— Испанский? — Анна не сразу очнулась от созерцания показавшейся на горизонте полоски земли.
— Мы прибываем в Сан-Франциско, — кивнул Маркелов, — это испанская колония, и я был бы рад, если бы вы посодействовали моей практике в их языке, пока наш корабль приближается к берегу.
— Собираетесь поразить Местное общество своей образованностью? — не удержалась поддеть Маркелова Анна.
— А кто вам сказал, что я хочу, чтобы они догадывались, что я знаю испанский? — тоже усмехнулся ее непредсказуемый собеседник. — Нет-нет, я хочу знать, что будут говорить за моей спиной — о чем станут шептаться, что утаивать и как обманывать.
— Неужели ничего для вас в этой жизни не может представлять простой человеческий интерес? — Анна не переставала поражаться бесчувствию этого холодного и расчетливого ума.
— Любопытство, не имеющее собою ясную и отчетливую цель, — пустая трата времени и никчемная слабость, — дал Маркелов ей резкую отповедь и зло переспросил, — так вы поможете мне?
— Я знаю испанский, — кивнула Анна, справедливо посчитав, что дразнить зверя ввиду приближавшегося с каждым новым взлетом клипера на волнах финала их путешествия — опасно. И к тому же идея, подсказанная Маркеловым, показалась ей весьма полезной — Анне стоило и самой вспомнить язык, который ходил в Марселе наравне с французским и итальянским, и потому она, ожидая отъезда на Мартинику, коротала дождливые зимние вечера, изучая его.
— Вот и славно, ваше сиятельство, — облегченно вздохнул Маркелов, но все же, по минутному раздумию, счел необходимым добавить. — Однако не надейтесь, что я размякну от вашей любезности и откажусь от своих планов. Вы не сойдете на берег в Сан-Франциско, и, обсудив с господами испанцами все дела, мы отправимся в горы… Быть вам, баронесса, женой индейского вождя!
И Маркелов громко и отвратительно засмеялся своей выдумке.
Глава 3
Северино
«Великий вождь Амат-тин — Неприступная Скала, прозванный иноземцами Северино — Строгий за свою справедливость и суровый нрав, встал во главе десяти племен после смерти своего отца от руки испанского воина, когда не пожелал продать бледнолицему свое ружье старинной работы с инкрустацией из драгоценных камней, что поднесено было Чу-гу-ану большим вождем из Президио в Сан-Франциско в знак дружбы и мира с племенами, живущими в наших горах.
Похоронив отца по обычаю, Северино дал клятву отмщения и исполнил ее с неожиданной для белых людей дерзостью и отвагой, подвергнув огню и уничтожению шесть испанских миссий — по одной на каждую пулю, вошедшую в тело его отца, и обратив своих противников в ужас и трепет. Начатая им война длилась несколько лет, и бледнолицым не удалось победить Северино, который со своим отрядом внезапно нападал на поселения испанцев под покровом ночи и уходил без потерь так же неожиданно, как и появлялся, и даже призванные на помощь миссиям войска белых ничего не могли сделать против него и племен, потому что Северино разделил воинов и женщин с детьми и стариков и спрятал последних в пещерах в горах, преградив вход в пещеры тайными ловушками. И вскоре число погибших со стороны испанцев стало уже велико, отчего они преисполнились, наконец, чувства вины за убийство Чу-гу-ана и принесли Северино тело воина, наказанного большим вождем из Президио смертью за смерть великого вождя десяти племен.
И тогда Северино сменил гнев на милость, договорившись с испанцами заключить новый договор, по которому им определены были границы владений племен, запретив белым людям из испанских миссий приближаться к землям союза и установив для обмена товарами нейтральную территорию, где два раза в год — весною и осенью разрешено было племенам и бледнолицым торговцам собираться на фиесту, чтобы обменять орудия производства и редкие товары на лошадей, пушнину и золото.
В ночь до подписания договора совет старейшин племен собрался, чтобы выбрать нового великого вождя, и Северино стал самым молодым из великих вождей в истории Совета, ибо был не по годам мудрым и хитрым и наделен храбростью за десятерых воинов, и один мог сражаться за целый отряд. И обращаясь к старейшинам, Северино сказал — больше не будет обид и смертей от бледнолицых из миссий, и никто не станет мешать нам жить — охотиться и растить детей на своей земле, где жили наши предки много поколений назад. Никто не станет указывать нам, где проводить свои обряды и пасти наших лошадей. Северино исполнилось тогда 23 года, и он поклялся посвятить жизнь своему народу, отвергая семью до тех пор, пока в сердце его не войдет чувство, столь же сильное, как и его любовь к своему народу, родной земле и памяти предков. И за честь стать его женой считали дочери всех вождей союза, но Северино оставался тем, кем был от рождения — Амат-тин.
Но однажды в заливе, называемом испанцами Бодего, появились новые белые. Они привезли с собою много людей и военных орудий и построили на скале грозный форт. А когда разведчики союза донесли эту новость совету старейшин, на заседании разгорелась настоящая битва — одни вожди требовали немедленно уничтожить пришельцев, другие предлагали отправить к ним посольство, но Северино выбрал третий путь. И старейшины в который раз подивились уму и смелости главного вождя — Северино решил сам поехать в новый форт и проникнуть в него, чтобы узнать побольше о поселении, которое, по слухам, называли Форт-Росс.
Северино переоделся простым воином и пришел в форт и попросил дать ему работу, и взяли его плотником, обучив новому ремеслу. И увидел великий вождь, что новые белые никого не обижают и не заставляют, как в испанских миссиях, работать на себя день и ночь за гнилую похлебку, в то время как сами поселенцы жили, ели и веселились в свое удовольствие. Те же, кто строил Форт-Росс, называли себя русскими, но среди них Северино увидел много соплеменников из северных кланов, которые за деньги работали в форте, и у русских было много жен из скво алеутских племен.
Но более всего поразила воображение Северино жена главного правителя форта — она была не похожа на его соплеменниц и тех женщин, кого он видел в испанских миссиях. Но отличалась жена русского вождя не только редкой для этих мест красотою, но и добротою характера и вниманием ко всем людям. Эта женщина скоро поняла, что язык, на котором говорит Северино, отличается от наречий алеутов, которые знала в совершенстве и на которых говорила, и позвала Северино к себе в дом, чтобы он научил ее своему языку. И тот подивился, как быстро она заговорила на его родном языке, и оттого проникся к новым поселенцам еще большей симпатией, ибо они не стремились к завоеванию — Северино увидел, что они строили маленькие корабли, на которых можно было ходить вдоль берега и по горным рекам, разводили сады и построили школу, где обучали алеутов и их детей и детей-креолов разным наукам и новому — русскому языку. И Северино сам стал учить его.
Полгода провел Северино с русскими в колонии на скале и ушел оттуда, чтобы рассказать другим вождям о новых поселенцах, и повесть его удивила всех, и решено было ехать в Форт-Росс с посольством. Вожди одели свои лучшие торжественные наряды и богатые перьями головные уборы и выехали с отрядом в направлении Форта-Росс, где были встречены поначалу не без настороженности, но открыто и без враждебности. А когда главный правитель форта узнал в вожде всех племен своего недавнего работника, и тот заговорил с ним по-русски, последние отголоски опасений и отчуждения рассеялись.
Вожди провели в Форте несколько дней и заключили с русскими договор, по которому последним были добровольно переданы во владение земли близ Форта-Росс, и особо было отмечено, что старейшины довольны занятием сего места русскими и обещают им безопасность от племен, входящих в союз, и готовы оказать помощь, если на русских совершено будет нападение чужими племенами. После чего все стали жить в мире и согласии, и никогда союз племен не знал угроз со стороны новых поселенцев, а те в свою очередь помогали племенам возделывать землю и подарили животных, которых никогда здесь прежде не видели, — коров, чье молоко было много лучше лошадиного и буйволиного. Русские ходили в лес на охоту или на рыбную ловлю совершенно безопасно, и никто из племен никогда не нападал на них.
А Северино с тех пор сделался еще более суровым и одиноким. В его сердце отныне и навсегда поселился образ русской женщины, и только такой жены хотел для себя гордый и своенравный вождь. Однако он не мог требовать жены русского правителя, ставшего ему с тех пор другом, и среди женщин, приехавших в Форт-Росс другой такой тоже не было — умной, красивой, светловолосой. Северино полюбил приезжать в форт на праздники, которые устраивала жена правителя форта, чтобы не только увидеть ее, но и наслаждаться ее прекрасным голосом — скво русского вождя играла на пианино и удивительным бархатным голосом пела.
Вождь очень долго не мог решиться привести в свой вигвам жену — Северино все ждал: вдруг в Форт приедет женщина, которая окажется похожей на жену русского правителя форта. Но время шло, Северино становился старше, и ему уже следовало позаботиться о преемнике, и тогда, повинуясь законам своего племени, он выбрал себе жену из семьи одного из старейшин, и эта свадьба стала большим событием для всего союза племен. Северино прожил со своей женой больше двадцати лет, но никто не мог сказать — был ли он счастлив с нею и детьми. И хотя против Северино говорить боялись — слишком сильным и властным он был, все в племени знали, что шаман неоднократно приходил к вождю, чтобы помочь ему соединиться со своей женой и избавиться от наваждения, являвшегося ему в образе русской красавицы. И поэтому никто не удивился, что после смерти жены Северино не стал немедленно искать себе новую, а снова обратил свой взор в сторону Форта-Росс, и на сей раз боги ответили ему.
В тот год в крепость приехал новый правитель, и его сопровождали две женщины — жена и ее сестра, обе одинаково светловолосые, с бархатной белой кожей, голубоглазые, и при этом у второй женщины, которую звали Анна, был прекрасный голос, и играла она на фортепиано столь же красиво, как и первая русская, что поразила воображение молодого Северино. И великий вождь снова потерял покой и сон — вместе с двумя старшими вождями он был зван на фиесту, которую в честь своего дня именин устроила жена правителя Форта-Росс (куда, в том числе, были приглашены и испанцы из Президио Сан-Франциско), и, увидев сестру правительницы, преисполнился желания сделать ее своей женою. И вскоре после того посещения явился в Форт-Росс требовать от Анны войти в его вигвам у Голубых озер.
Но молодая женщина, как, оказалось, была очарована на том балу блестящим испанским офицером и намеревалась ответить на его чувства к ней. Узнав о том, Северино сделался мрачен, но промолчал, и, как выяснилось позже, затаил обиду на молодую женщину и русского вождя и его жену за то, что они не помогли ему убедить свою родственницу выйти за него замуж. И Северино задумал коварный план — через год после того случая жена правителя форта решила составить в горы экспедицию — она вознамерилась подняться на вершину Маякмас и крестить ее, поименовав в честь своей покровительницы, сестры русского вождя всех вождей Николая Первого, но на обратном пути верные воины Северино захватили русских и отправили в форт ультиматум с требованием для Анны принять предложение вождя десяти племен.
Узнав о похищении своей жены, правитель форта опечалился, а испанский офицер, завладевший сердцем русской красавицы, вызвался освободить пленников, но его отряд Северино хитростью заманил в западню в горах и разбил, а самого офицера обещал казнить первым, если требования его не будут в скорейшем времени исполнены. И тогда правитель форта пришел к сестре своей жены и упал перед нею на колени и стал молить о помощи — сила Северино и его решительность всем была известна, и потому лишь одна эта женщина могла спасти сейчас и свою сестру, и ее спутников, и того, кого полюбила. Он просил ее поступить так ради всей колонии, ради мира, который был необходим всем — и поселенцам, и индейцам. Он просил ее принести эту жертву на благо всех на этой земле.
Говорят, в ту ночь в доме правителя форта долго не смолкали звуки пианино. Это играла Анна — музыка лилась из-под ее пальцев, словно шла из души, в которую вошел небесный свет, души, которая мечтала вырваться из своей земной оболочки и оставить этот мир, где она принуждена была принимать решения, от которых зависела судьба ее близких. А наутро с лицом просветленным и необычайно красивым в тот миг она вышла из комнаты и сказала мужу сестры — едем!
Северино добился своего: русская женщина стала его женою, и у них родился сын — красивый мальчик, в лице которого заметны были все родовые приметы племени и его отца, а волосы и кожа достались ему от матери — такие же светлые и бархатистые. Но, хотя Северино души в них обоих не чаял, Анна всегда оставалась грустной и следовала ему с той покорностью, которая была похожа на безысходность, и, понимая это, вождь пытался облегчить страдания любимой женщины — он позволял ее сестре часто приезжать к ним в селение, и сам отправился к ним с ответом и брал с собою жену и сына, а потом и вовсе разрешил им подолгу оставаться в форте, чтобы мальчик смог учить язык своей матери.
И так прошло много лет, но однажды случилось непоправимое — русские продали свой форт какому-то французу и навсегда покинули залив Бодего. Испанский офицер, в которого влюблена была Анна, хотел выкупить Форт-Росс — он знатен и богат, но Северино воспротивился тому и устроил все таким образом, что посланец от испанцев не смог появиться к дню продажи форта, и его купил через какого-то законника неизвестный никому человек, недавно появившийся в этих местах, и, как говорили, приехавший с французских островов на восточном побережье Америки.
Испанец, узнав о том, впал в отчаяние и вскоре уехал из Калифорнии, а жена Северино отправилась с его разрешения с сыном проводить сестру и ее мужа в дальний путь. Однако она не вернулась ни на следующий день, ни через два дня, и Северино сам поехал за женою в покинутую русскими крепость. Воины, приставленные им к жене, рассказали, что жена вождя никак не соглашается уезжать и каждый день ходит на скалу и смотрит в море — туда, куда уплыли корабли русской колонии. Она ходит так вот уже три дня — уйдет к рассвету и с закатом возвращается в опустевший форт — все молча и молча, а воины повсюду следуют за нею, охраняя и оберегая ее.
И тогда Северино пошел за нею на скалу и увидел, что жена его стоит на самом краю и смотрит на волны, точно желая упасть вниз. И сердце его едва не разорвалось от страха за нее — Северино бросился к жене и невольно испугал женщину. Оглянувшись на его зов, Анна оступилась и упала в море. Северино бросился за нею в волны, но не смог найти и вернулся на берег один.
Вернувшись домой, он снова призвал к себе шамана, и тот три дня совершал ритуал, стуча в барабан и осыпая голову снадобьями из кореньев и трав. Шаман обращался к богам морей и просил их возвратить великому вождю десяти племен ту, что была так дорога ему. И по завершению обряда шаман, восстав из транса, произнес — однажды белая женщина по имени Анна вернется: как вошла она в воды, так и выйдет из воды. И с той поры Северино каждый год ждет ее появления…»
О, Боже! — только и могла мысленно выдохнуть Анна, дослушав рассказ старого индейца, поведанный ей через переводчика — одного из нескольких алеутов, живших некогда в Форте-Росс и получивших у коменданта крепости разрешения остаться в Калифорнии после продажи форта и влиться в племя, во главе которого стоял вождь Северино. Теперь становилось понятным, для чего ее похититель так старался и почему их приезд с Маркеловым на весеннюю фиесту в местечко близ реки называемой испанцами Сакраменто произвел такое сильное впечатление на индейцев и самого вождя!
Нечего и говорить — Маркелов отлично знал, что делал. Вернувшись из города к вечеру дня прибытия чайного клипера, на котором была привезена в Америку Анна, в порт Сан-Франциско, Маркелов выглядел весьма удовлетворенным произведенной на берегу разведкой. Он пребывал в отличном расположении духа и даже что-то легкомысленное насвистывал. Велев одному из матросов-японцев привести в кают-компанию Анну, Маркелов немедленно выложил перед своей пленницей содержимое нескольких больших коробок — пары круглых и одной длинной, перевязанных цветными атласными лентами.
В длинной коробке оказалось красивое платье, сшитое по последней моде — нежного персикового оттенка, с кружевами, тонкой нижней юбкой и только что вошедшим в обиход кринолином, делавшим фигуру женщины невероятно изящной, почти воздушной. Кроме того, проявляя неожиданный для Анны вкус, Маркелов привез к платью изящные ботинки из тонко выделанной свиной кожи — тоже светлые и невероятно мягкие, как говорится — по ноге. К ансамблю прилагались еще прелестная шляпка, перчатки из кружева ручной работы и зонтик из розового шелка.
— И что вы намерены со всем этим делать? — не в силах скрыть своего волнения вголосе спросила Анна, когда Маркелов завершил раскладывать перед нею сделанные им покупки.
— Уж не думаете ли вы, что я купил все это для себя? — зло вопросом на вопрос отвечал ей Маркелов. — Нет, дорогая баронесса, все эти вещи — для вас. Ступайте к себе в каюту и будьте готовы завтра до рассвета быть экипированной. За нами придет баркас, который отвезет нас по реке вверх — мы должны успеть к началу фиесты, на которую соберутся здешние испанцы и индейцы моего друга вождя. Сам он, конечно, вряд ли появится, но слух о вашем приезде заставит его вылезти из своей норы, то есть — вигвама.
— Я не стану этого надевать, — попыталась было сопротивляться Анна, но Маркелов ее перебил — резко и с явным раздражением:
— Вы сделаете так, как я вам говорю, или я сам сорву к чертовой матери ваши лохмотья и силой натяну на вас и это платье, и эти чулки.
Маркелов бросил Анне пару новеньких шелковых чулок, и она едва успела их подхватить.
— Да, и не забудьте вот это, — Маркелов достал из кармана испанский гребень из панциря морской черепахи, и Анна принуждена была подойти и взять его из рук своего мучителя, который уже заметно побагровел лицом и готов был в любую минуту взорваться от любого проявления несогласия с ним.
— Вы, кажется, забываете, господин Маркелов, что я — свободная женщина, я — дворянка, и вы не имеете права ни приказывать мне, ни силою дарить кому бы то ни было! — покрываясь румянцем от возмущения сказала Анна.
— Впервые слышу об этом, — нагло усмехнулся ей тот, садясь к столу и раскладывая на нем какую-то карту, потом он принялся внимательнейшим образом рассматривать ее, и так прошло несколько минут, показавшихся Анне бесконечными, но вдруг Маркелов поднял голову и «заметил» Анну. — Вы все еще здесь, ваше сиятельство? Ступайте к себе и не злите меня более, чем я смогу вынести, не сорвавшись и не решив поучить вас послушанию.
— А ведомо ли вам, господин Маркелов, что я обручена, и мой жених — личный посланник наследника в землях Русской Америки, князь Репнин уже ищет меня, не дождавшись моего приезда? — с вызовом спросила Анна, показывая на кольцо на руке, которым была венчана с Владимиром и которое никогда не снимала с пальца, считая себя связанной с ним — конечно, это была уловка, кольцо не означало ее связи с Михаилом, но в данном случае могло сыграть роль громоотвода. Но Анна просчиталась — Маркелов стремительно встал из-за стола, подошел к ней и, силой вывернув ей руку, снял кольцо с ее пальца и выбросил в открытый иллюминатор.
— Ищет, говорите? — скривился Маркелов, удовлетворенно хмыкнув, услышав, как кольцо булькнуло, достигнув воды, и ушло на дно. — Пусть ищет. Там же, где и это кольцо.
— Вы — негодяй! — Анна, едва придя в себя от этого чудовищного поступка, бросилась с кулаками на Маркелова, но вдруг замерла — ей в лицо смотрело дуло пистолета.
— Послушайте, баронесса, — с угрозой в голосе промолвил Маркелов, — будьте благоразумны и не заставляйте меня применять к вам силу. Вы нужны мне завтра добрая, тихая и свежая — забирайте вещи, ступайте в каюту и готовьтесь к отъезду. И не надейтесь умолить или разозлить меня, все равно выйдет по моему…
Анна вздрогнула и повиновалась — тон его голоса был настолько ужасен, а лик — страшен, что она решила за разумное отступить. На время — эта тактика давала ей передышку и возможность собраться с мыслями. Анна прекрасно понимала всю бесправность своего положения — даже если она начала бы кричать и привлекла к себе внимание с берега, ей трудно было бы доказать свое имя и свое положение. Если бы в результате всего она осталась бы жива, то Маркелов смог бы уверить испанцев в чем угодно и с помощью денег в том числе — он выставил бы ее сумасшедшей, служанкой, женой — кем угодно, и у нее не было бы доказательств против того. Все ее вещи и документы остались на «Америке», и здесь у нее не было иного оружия, кроме как терпение и женской хитрости. И потому Анна смирилась с необходимостью разодеться по указке Маркелова и ждать того, что случится в дальнейшем.
На рассвете Маркелов сам пришел за нею в каюту и произведенным осмотром, судя по всему, остался весьма доволен.
— Браво, баронесса, браво, ваше сиятельство, — улыбнулся он. — Если бы у меня были другие планы, то я, пожалуй, еще подумал бы, стоит ли отдавать такую прелесть в руки какого-то краснокожего, и сам женился бы на вас. Но… — увы, дело превыше всего! Впрочем, быть может, со временем, если вы паче чаяния наскучите вождю или его убьют, я выкуплю вас обратно. Надеюсь, тех денег, что принесет мне нефтеносная скважина, хватит, и не только на это.
— Если, паче чаяния, — в тон ему с издевательской любезностью произнесла Анна, — я понравлюсь вождю, и он решит оставить меня у себя, я первым делом попрошу его убить вас. И, надеюсь, у него хватит для этого воинов и оружия.
— Вы — чудо, Анастасия Петровна, — растекся в улыбке Маркелов, — нет, право же, я понимаю вождя, лучше наших дам нигде не сыскать: и собой хороши, и умны, и дюже сообразительны. Одно слово — стервы…
Дорога на фиесту заняла больше двух часов. Баркас, хотя и не был нагружен, шел медленно — он двигался против течения и в гору, но, наконец, причал к берегу, где шумел устраиваемый по договору с индейцами базар, похожий на русскую ярмарку. Индейцы привозили на фиесту свои товары — в основном меха и продукты, табак, испанцы — свои (чай, ткани, украшения, металлическую посуду и разные увеселительные безделушки), запрещенным считалась только торговля оружием, и между делом развлекали аборигенов фокусами и кукольными потешками — чревовещанием. К моменту прибытия баркаса, нанятого Маркеловым, ярмарка была уже в самом разгаре, и поначалу на новоприбывших мало кто обратил внимание. Но когда Маркелов под руку сошел по трапу с голубоглазой красавицей-блондинкой и намеренно громко, обходя торговые ряды, принялся разговаривать с нею по-русски, толпа заволновалась.
Много позже Анна поняла, что легенда о Северино известна здесь каждому, но в первую минуту столь бурное проявление эмоций по ее адресу взволновало ее. И Анна невольно прижалась к своему похитителю, опасаясь за свою жизнь, но тот лишь улыбался — самодовольно и дерзко, и все всматривался вдаль, словно ожидая кого-то или чего-то. И уже к концу ярмарки Анна поняла, что, наконец-то, случилось — интрига, затеянная Маркеловым, начала осуществляться.
Незадолго до завершения ярмарки, которая на этот раз продолжала бурлить народом, кругами ходившим вокруг да около русской красавицы, по толпе пронесся шепот, постепенно перераставший в гул, разом оборвавшийся, когда все, кто торговал или любопытствовал меж рядов по берегу, вдруг расступились, давая кому-то проход, и люди — индейцы, испанцы, мексиканцы единым возгласом выдохнули. — Северино!
И повинуясь этому всеобщему движению, Анна тоже обратила взор свой в том направлении, откуда шла волна, разводившая по разные стороны дороги торговавших на ярмарке людей, и увидела, как по образовавшемуся в толпе проходу медленно движутся три всадника в ярких одеждах, с раскрашенными лицами и в головных уборах из перьев. И тот, кто ехал первым, выделялся своей важной осанкой и значительностью позы. За раскраской, даже когда они приблизились к ним с Маркеловым, Анна не смогла разглядеть его лица, но по всему и так было видно, что первый индеец — высок ростом и наделен атлетическим телосложением. Наверное, это и есть Северино, подумала Анна, и сердце ее замерло в ожидании — что принесет ей эта встреча? Только ли плохого следовало ей ждать от того, чьи мысли и чувства скрывались под слоем краски, а жесты были неторопливы и величественны.
Спешившись, Северино легкой, почти кошачьей поступью, как будто и не касался ступнями, обутыми в мокасины, земли, подошел к Анне и, не спуская с нее огромных карих глаз и не глядя на Маркелова, сказал, обращаясь, тем не менее, к нему и по-русски — к великому удивлению Анны, позже рассеянному рассказом старика-индейца:
— Я помню тебя, торговец, но кто твоя спутница?
— Это мой подарок тебе, вождь, — с не меньшей велеречивостью в тоне ответствовал ему Маркелов, слегка склоняя голову перед Северино.
— Она — слишком красива, чтобы быть чьей-то собственностью, — мягко промолвил вождь и добавил, — кроме меня. Я принимаю твой дар. Будь моим гостем, следуй за мной.
Один из индейцев, сопровождавших Северино, спрыгнул с лошади и бросился в ряды сбившихся в кучу соплеменников и вскоре вывел из-за их спин двух коней. На одного из них индеец ловко, подхватив словно пушинку, посадил Анну, и, взяв лошадь за уздечку, повел к своей. После чего и сам сев на лошадь, жестом указал на вторую, свободную, Маркелову, который немного замялся — фигурой он был весьма крупноват и к тому же не привык ездить без седла. Заметив его растерянность, Северино кивнул другому сопровождавшему его воину, и индеец немедленно спешился и склонился у самых ног лошади, предназначенной для Маркелова, чтобы тот мог воспользоваться его спиной, как подставкой. Маркелов с удовольствием хмыкнул и, поставив ногу на спину индейца, не без показного лихачества вскочил на лошадь, едва удержав равновесие с помощью узды.
Ехали они долго, и всю дорогу Анна, оказавшаяся в окружении воинов, чувствовала на себе их мистический ужас и еще — странное волнение, исходившее от Северино. За поездку до поселения его племени он ни разу не оглянулся и более не посмотрел на нее, но Анна чувствовала, что вождь не оставляет ее вниманием и вся его сосредоточенность целиком и полностью обращена к ней. И в какой-то момент Анне сделалось страшно.
Никогда прежде она не сталкивалась с индейцами — тема эта была модной среди дамских романов французских и английских писателей, порою делавших своих героинь пленницами коварных американских аборигенов, не знавших жалости и не испытывавших почтения к манерам и принципам жизни Старого Света. Не слишком восторженно отзывались об индейцах, правда, населявших Аляску, и ее спутники — офицеры «Америки», полагавшими жившие там народы бедными и во многом дикими.
Поначалу именно так и отнеслась Анна к тому, что увидела в селении — полукруглые дома из гнутых жердин, обтянутых раскрашенными непривычным орнаментом шкурами животных и крытых соломою, вольно пасущиеся вкруг стоянки индейцев лошади, дым костров, разведенных под открытым небом, размеренные движения женщин, занимавшихся приготовлением пищи и веселая беготня детей. Словно цыгане, подумала Анна в первую минуту, но потом поняла — дежавю нет, и сходство между этими племенами лишь в одном — в невероятном свободолюбии и естественной простоте нравов.
После того, как старый индеец — скорее всего старейшина, которому поручили присмотреть за нею (по приезду в селение Северино, по-прежнему не глядя на Анну, ушел в сопровождении Маркелова в один из индейских домов, которые, как сказал Анне алеут-переводчик, называется вигвамом, а ее отвели в другой — побольше и стоявший отдельно на небольшом холме), поведал Анне историю Северино, она и вовсе преисполнилась благоговейного трепета перед незнакомым ей народом, чья внешняя приземленность была лишь формой для какого-то иного, высокого образа мысли, где знали, что такое честь и постоянство в любви…
А потом старик и переводчик-алеут вдруг поднялись и, не говоря ни слова, тихо ушли, оставив Анну одну. Но, как оказалось, ненадолго — полог, прикрывавший вход в вигвам, вдруг приподнялся и на пороге появился белокурый мальчик, по годам, быть может, ненамного младше ее Ванечки, и у Анны на мгновенье замерло сердце.
— Мама? — не то спросил, не то сказал мальчик по-русски и бросился к ней на грудь. — Ты вернулась!
— Господи! — прошептала Анна, невольно обнимая малыша и гладя его по пшеничной голове и утопая пальцами в волнистых, мягких волосах.
— Он узнал тебя, — вдруг услышала Анна и подняла глаза — от входа на нее смотрел Северино, но пересечение их взглядов было мимолетным — через секунду вождь исчез из затуманенного слезами взора Анны, как будто его и не было здесь. Но хуже всего было то, что мальчик, не переставая звать ее мамой, потянулся руками и обнял Анну за шею, шепча какую-то странную скороговорку, мешая русские слова с индейскими, из которых она поняла — я так скучал, я люблю тебя, я так долго ждал тебя, мамочка.
Вынести это было выше ее сил, и Анна потеряла сознание, чем испугала малыша, и тот принялся плакать и звать на помощь, но его голос доносился до нее поначалу сквозь стойкую пелену, а потом и вовсе исчез — словно прислышался, а всё произошедшее — привиделось ей.
Очнулась Анна так же внезапно, как и отошла. И первый, кого она увидела, был Северино. Вождь сидел против нее, скрестив ноги, разделенный с Анной пламенем небольшого костра, дым от которого уходил вверх в отверстие в сферическом потолке дома. Сейчас на лице Северино уже не было прежней раскраски, и Анна поняла, что не может угадать, сколько ему лет. Судя по рассказу старика-индейца, Северино было за шестьдесят, но он казался молодым, и его взгляд свидетельствовал об огромной физической и внутренней силе.
— Я не понимаю, — прошептала Анна, приподнимаясь и садясь на колени, ибо так единственно было удобным находиться в этой не высокой хижине.
— Мой русский — такой плохой? — спросил Северино.
— Нет-нет, — поспешила успокоить его Анна, хотя вождь не проявил и тени волнения, — я не понимаю, кто узнал меня?
— Мой сын, — пояснил Северино. — Он узнал тебя, и теперь ты — его мать. Завтра мы устроим праздник в честь твоего возвращения.
— Но я — не его мать и не ваша жена! — воскликнула Анна.
— Это легко исправить, — так же невозмутимо сказал вождь, снимая с шеи какое-то украшение — подвеску на кожаном шнурке. — У тебя есть такая? Мы должны обменяться ими и сказать: луна и звезды — свидетели нашего обещания в верности.
— Такой — нет, — покачала головою Анна, стараясь удержаться от слез и снимая с шеи свою цепочку — с медальоном, — но есть другая. Возьмите ее, она открывается.
— Что это? — спросил Северино, разглядывая прядь белокурых волос, так похожих на волосы его сына.
— Это память о моих детях — у меня есть сын и дочь, — тихо сказала Анна, решаясь, наконец, поднять глаза на вождя и смотря ему прямо в лицо. — Я должна была оставить их ненадолго, но меня похитили, и теперь они плачут, не зная, где их мать.
— Тот человек сказал, что ты принадлежишь ему, — по-прежнему невозмутимо сказал Северино, тоже не отрывая взгляда от лица Анны, и она чувствовала, что он пронзает ее глубоко, как будто пытаясь проникнуть в самые потаенные уголки ее души.
— Твой друг солгал тебе! — воскликнула Анна. — Он тайно увез меня. Я не принадлежу ему. Я — баронесса Анастасия Корф.
— Баронесса? — Северино, кажется, впервые удивился. — Что это значит?
— Мой отец, — волнуясь, пояснила Анна, — был очень важным человеком, и мой муж тоже.
— У тебя есть муж? — после паузы промолвил Северино, и в его голосе Анне почудился вздох.
— Мой муж погиб, — не смогла солгать ему Анна и тут же добавила, — но я должна была опять выйти замуж и ехала к своему новому мужу. Он ждал меня на острове в океане, пока твой друг не похитил меня…
— Ты ошибаешься, — мягко прервал ее вождь. — Тот человек — не друг мне. Он приезжал на фиесту и привозил для нас чай. Люди из Форта-Росс научили нас пить чай. Они были добры к нам.
— Почему же тогда ты желаешь мне зла? Ведь я — тоже русская, как и те люди из крепости? — спросила Анна.
— Я не желаю тебе зла, я хочу счастья — для тебя, для себя и нашего сына, — сказал Северино.
— Но у меня уже есть сын! — взмолилась Анна. — И я никогда не смогу забыть его, и никогда не смогу быть тебе хорошей женой. Потому что каждый день буду думать о тех, кто потерял меня. О моей дочери, о сыне, о моем новом муже.
— Мне почему-то знакомо твое лицо, — без всякой связи с ее словами вдруг сказал Северино.
— Я знаю, что похожа на твою жену, — вздохнула Анна. — Но я прошу тебя, вождь, — подумай! Она — не я, и я не могу заменить тебе ее.
— Боги сказали — вода забрала ее, вода приведет ее обратно, — ровным и бесцветным голосом сказал вождь, и Анна вздрогнула — до сих пор он говорил с нею мягко, и бархатные интонации его властного голоса очаровывали, и такая перемена могла означать только одно — худшее. — Ты пришла тогда, когда ушла она, ты — такая же, ты добрая, у тебя светлые волосы, и твой голос журчит, как ручей. Ты — она, и я больше не потеряю тебя.
— Мне рассказали о тебе, вождь, — собравшись с мужеством, промолвила Анна, — и я думала — ты человек благородный и справедливый. Но как ты можешь стать счастливым, обрекая близких мне людей на горе и отчаяние?
— Ничего, ты привыкнешь, — тихо сказал Северино и затушил огонь водою из стоявшей слева от него круглой глиняной миски. А потом он приподнялся, протягивая к Анне руку — она была смуглая и очень сильная.
— Отпустите меня, — решительно сказала Анна, — я принадлежу другому, и никто ни когда, кроме него, не будет иметь власти надо мной.
Она не видела, изменилось ли что в лице вождя — в хижину проникал лишь свет заходящего солнца, рассеянный и неяркий. Анна закрыла глаза, но ничего не случилось — Северино со словами «Странно, так странно, мне знакомо твое лицо» вышел и закрыл за собою полог дверного проема. И потом к ней приходила только одна девушка — она помогла ей умыться и принесла еду: никогда прежде Анна не ела таких лепешек — тонких, хрустящих из желтого теста. Индианка все делала молча и не поднимала на Анну глаза, А когда Анна хотела остановить ее, удержав за локоть, и спросить о своем спутнике, девушка плавным движением выскользнула из ее пальцев и так же бесшумно удалилась.
Всю ночь Анна боялась заснуть — ей повсюду мерещился призрак гиганта-вождя, но вечер сменила ночь, за ночью пришел рассвет, а ее по-прежнему никто не беспокоил. Только все та же девушка заходила в ее хижину и опять принесла Анне воды и еду. И предоставленная самой себе Анна все спрашивала себя — что могло означать ее затворничество? Северино больше не появился к ней, и Маркелов как сквозь землю провалился. Быть может, осознав, что его обманули, вождь решил расправиться с ним? Или Маркелов, почувствовав, что ничего из его затеи не вышло, бежал, куда глаза глядят — под защиту испанцев? И даже мальчика больше не приводили к ней.
До обеда Анна так и не решилась покинуть свое убежище, ибо не была уверена, что ее выход может быть встречен индейцами одобрительно, — лежала на циновке, крытой домотканной материей, и думала о том, что могло ждать ее в будущем? Она уже давно поняла, что случайностей — нет. И назначая нам пути, Господь ведет нас не бесцельно, а истинно. Но какую истину должна была открыть Анна для себя? К чему следовало ей быть готовой? И можно ли вообще быть готовым к неожиданностям, каковых и так судьба уготовила ей уже довольно и немало?
Мысленно Анна вернулась в те дни, когда начались ее мытарства — тихая жизнь в поместье с опекуном закончилась на балу у Оболенского. Выйдя из тени отцовской (ибо именно так Анна относилась к своему опекуну) сердечности, она сразу же попала в мир, полный интриг и тревоги, где ненависть соседствовала с любовью, а искренность с подозрительностью. Мир, в котором она поначалу не была свободна, а когда пришла свобода, то оказалось, что Анна осталась одна — те, кого она любила, либо умерли, либо возненавидели ее, и Двугорское, которое Анна считала своим домом, стало для нее тюрьмой или камерой пыток. И только тогда, когда, сломав в себе гордыню, Владимир признался, что любит ее, и она оценила силу этого поступка, все понемногу наладилось. Но потом жизнь снова сделала резкий поворот, и теперь Анна хотела знать, что может остановить напасть этих новых бед, потерь и недоразумений, которые затягивали ее, точно в трясину?
Удивительное дело, решившись, наконец, покинуть свое убежище, Анна не встретила тому никакого сопротивления. Жизнь в селении шла своим чередом — на нее искоса смотрели, но не сторонились, продолжая заниматься своими делами. Как будто она была окружена невидимой, но прозрачной стеной — неприкасаемая или священное животное, а может быть, и то, и другое одновременно. Северино нигде не было видно, но спрашивать о нем Анна и пытаться не стала, а, заметив, что женщины, взяв детей, направились куда-то из селения, пошла следом, держась на некотором от них отдалении.
Оказалось, что шли они к реке — сначала по каменистой тропе, уходившей в горы и какое-то время петлявшей в сосновом лесу, а потом приведшей их к водопаду и небольшому озеру, вода в котором была прохладной и быстрой. Добравшись до места, женщины и дети разделись и стали купаться, а дети, кроме того, карабкались на водопад и прыгали в озеро — смелые и постарше забирались на самый верх и с визгом бросались со скалы вниз, другие скатывались с пологих скальных горок, производя при вхождении в воду целые фонтаны серебристых брызг.
Анна знала — ее видят, но не хотела никого смущать своим присутствием, и была благодарна за то, что и ей не мешают. Она выбрала для себя отдаленный уголок озера за большим камнем, и, отстегнув крючки кринолина, отложила его в сторону, а потом, сняв сапожки, от которых ноги стали уже уставать, особенно после хождения по камням, окунулась в озеро и поплыла. Корсет, однако, вскоре намок и стал тянуть ее — тогда Анна вернулась к берегу и устроилась в едва заметной ложбинке в прибрежных камнях, как будто лежала в ванной, жаль что недолго — вода в озере была слишком свежей для подобного времяпровождения, а само озеро находилось в расщелине между скалами — в горах, но в тени. Поспешно выбравшись на берег и отжав платье, Анна нашла место, освещенное солнцем, и стала ждать, когда одежда просохнет.
— Ты — не моя мама, — вдруг услышала она рядом с собою знакомый детский голос. Он прозвучал так неожиданно, как будто раздался с небес. Анна оглянулась и увидела сына Северино, он смотрел на нее серьезно и по-взрослому.
— Ты прав, — тихо произнесла Анна, не много смущаясь того, что ее одежда еще не высохла. — Но вчера ты думал иначе.
— Я ошибся, — просто сказал мальчик. — Ты — другая. Ты не сможешь любить меня и Северино.
Анна хотела было что-то ответить мальчику, но он не дал ей возможности к этому — исчез так же внезапно и бесшумно, как и появился перед нею.
В селение они вернулись так же, как и уходили из него: женщины с детьми — впереди, Анна — чуть поотстав. Влажная еще одежда по дороге высохла, но чудесная вода горного озера как будто напитала все ее тело живительной силой, которая отогнала прочь недавние волнения и нынешние сомнения, и в тоже время эта сила повела ее за собой — едва добравшись до своей хижины, Анна почувствовала усталость и уснула, незаметно для самой себя. Проснулась она, когда солнце уже клонилось к закату, и поужинав пищей, что опять принесла ей ее молчаливая хозяйка, Анна, никем не огражденная, отправилась на прогулку — она обошла селение со стороны горы и поднялась по едва заметной узкой тропе на скальный выступ, нависавший над стоявшими внизу домами индейцев.
На площадке, представшей ее взору, Анна увидела следы какого-то обряда: давно остывший костер, какие-то копья, украшенные цветными лентами и полосками из кожи и меха, затканными бисером, и вырезанными из дерева фигурами животных и птиц, между которыми стояла на земле большая деревянная чаша с фруктами и овощами. Наверное, это святилище, испугалась Анна и заторопилась уйти, но вдруг дорогу ей преградила какая-то высокая темная фигура. Анна испугалась и покачнулась — нога заскользила по скользкой, как будто полированной поверхности камня, и она потеряла равновесие. Но в ту минуту, когда ей показалось, что она летит в пропасть, Анну подхватила чья-то сильная рука и вытянула на уступ, и спасший ее человек негромко сказал:
— Здесь нельзя ходить чужим, — Анна узнала голос Северино.
— Я не хотела нарушить ваши обычаи, — переводя дыхание, промолвила она, стараясь, чтобы извинительный тон ее был понятен. — Простите меня, это вышло случайно.
— Случайного нет, — покачал головою Северино.
— Но я… — попыталась еще что-то сказать Анна в свое оправдание, но вождь остановил ее:
— Ступай в селение. Мне надо остаться одному. Я должен думать и спрашивать богов…
Уже спустившись обратно по тропинке вниз, Анна оглянулась — на фоне стремительно покрывшегося звездами неба она увидела языки пламени зажженного Северино костра и вдруг поняла, что эта незнакомая ей жизнь наполнена совершенно иными, непонятными ей, но такими притягательными и волнующими чувствами. Она ощутила такую удивительную связь с первородным миром и замерла на мгновение, вдруг осознав, что он еще более хрупок, нежели тот мир, который она так боялась потерять. И ей бесконечно стало жаль этих людей — прекрасных, гордых и непостижимых…
Северино появился в селении лишь утром третьего дня — не говоря Анне ни слова, после завтрака вошел в ее хижину и, взяв за руку, вывел за собой. И, хотя Анна знала, что в это время индейские женщины заняты домашними делами, мужчины возвращаются с охоты или рыбалки, ее потрясла необычайная тишина, и вокруг она не видела ни души. В полном одиночестве Северино прошел вместе с Анной через селение и остановился лишь за холмом, где стояли два его верных стража и держали под уздцы трех лошадей.
Северино подвел Анну к одной из них и сказал:
— Ты свободна, как была свободна прежде. Мои воины проводят тебя в крепость. Там ты получишь все ответы на свои вопросы.
— Но я не спрашивала вас ни о чем, — смутилась Анна.
— Ты задавала их вот здесь и здесь, — Северино поднес ладонь ко лбу и груди, в том месте, что обычно символизирует сердце.
— А как же ваша сделка, вождь? — растерялась Анна его проницательности. — Тот человек (она имела в виду Маркелова) хотел получить от вас землю в подарок за меня.
— Он получил то, что хотел, — спокойно кивнул Северино.
— Но ведь теперь сделка недействительна! Вы должны вернуть свою землю! — воскликнула Анна: она искреннее не желала, чтобы индейцы оказались обмануты подлым Маркеловым.
— У нас не принято изменять своему слову и своим чувствам, — улыбнулся Северино и добавил. — Вы, бледнолицые, очень странные люди. Вы так любите придумывать богатство, гоняетесь за золотом и камнями, ваши мысли пахнут нефтью. И вы не хотите жить в мире с тем, что вас окружает, — вы не умеете договариваться даже с собственными богами. Вы просто не знаете, как с ними разговаривать…
Анна еще долго оглядывалась на стоявшего у границы селения Северино — она не была уверена, что поняла смысл всех его слов, и образ вождя преследовал ее, пока она и ее молчаливые спутники неторопливо ехали по пустынной равнине на север. Анна не решилась переспрашивать, когда Северино упомянул о какой-то крепости, но почему-то решила, что это тот самый Форт-Росс, о котором ей говорил и Маркелов, и поведал старик-индеец в день ее приезда в селение Северино. И сейчас, конечно, наивно было пытаться узнать о месте назначения их путешествия у ее суровых провожатых, похожих на прекрасные каменные изваяния.
Но вот дорога опять привела их к скалам, и какое-то время шла вдоль океана, а потом опять подняла их на равнину, пока не пересекла небольшую речку, похожую на ручей, на середине которого сопровождавшие Анну воины остановили своих лошадей, давая им отдых и позволяя напиться. Анна последовала их примеру, но вдруг ее лошадь подняла уши и дернулась, едва не сбросив ее. Один из воинов, намереваясь успокоить животное, потянулся к ее гриве, и в этот момент раздались несколько выстрелов — и оба индейца рухнули в речку, истекая кровью.
Глава 4
Форт-Росс
— Как вы себя чувствуете, мисс? — обращенные к Анне слова произнесены были на английском и исходили от любезно улыбавшегося ей британского офицера. — Ваша лошадь вздыбилась, и мы беспокоились, что вы пострадали при падении.
— Зачем? — переходя на английский, спросила Анна, и в одном коротком вопросе прозвучало столько отчаяния, что офицер невольно смутился:
— Что значит — зачем?
— Почему вы стреляли в них? — промолвила Анна и сделала попытку привстать, но голова кружилась, и она принуждена была вновь опуститься на подушку. — Где я?
— На пароходе «Суверен» военно-морского флота Ее Величества, — с гордостью ответил офицер. — Мы только что спасли вас из рук дикарей и готовы с безопасностью доставить в любое место, которое вы укажете.
— Но отчего вы решили, что моя жизнь находится под угрозой? — в голосе Анны явственно послышались нотки и недоумения, и отчасти негодования.
— Белая женщина, одна, на пустынной дороге, в окружении вооруженных индейцев? — растерялся офицер. — Что, по-вашему, мы еще могли подумать об этом?
— Надеюсь, — тихо сказала Анна, — вы — не единственный здесь старший офицер? Иначе я искренне сожалею о людях, чьи жизни будут зависеть от того, какие решения вы станете принимать.
— Что вас так взволновало? — нахмурился офицер. — Эти дикари…
— Эти люди, — перебила его Анна, — помогли мне, и должны были доставить в крепость на скале в заливе Бодего, а теперь по вашей милости я лишилась своих провожатых. Надеюсь, вы хотя бы подумали оказать им врачебную помощь?
— Офицеры Ее величества никогда не промахиваются, — не без раздражения заметил ее собеседник, недовольный таким поворотом событий, однако, увидев, что Анна снова пытается подняться, протянул ей руку, предлагая опереться на нее, но женщина не приняла его помощи. — Полагаю, вы скоро будете чувствовать себя много лучше. Простите, я не расслышал вашего имени, мисс…?
— А вы и не спрашивали, и думаю, этот вопрос вам следовало задать прежде, чем вы и ваши спутники начали палить из своих ружей, — резко ответила ему Анна. — Но говорить о том, я буду только с вашим командиром.
— Что же, — офицер с холодной вежливостью кивнул ей и жестом указал, — прошу вас следовать за мной.
Из кают-компании, куда, по-видимому, перенесли Анну с берега, они прошли через узкий корабельный коридор и остановились у каюты капитана, после чего сопровождавший Анну офицер велел вахтенному матросу доложить командиру об их приходе и, получив разрешение войти, открыл дверь, пропуская Анну вперед.
— Я хотела бы говорить с вами наедине, — от порога попросила Анна капитана, поднявшегося ей навстречу и галантно раскланявшегося со своей гостьей. Капитан был уже немолод, но отменная выправка и подтянутость в сочетании с благородной сединой придавали ему вид весьма импозантный и внушающий доверие.
— Сэр? — доставивший ее офицер взглянул на своего командира, и тот, секунду подумав, кивнул:
— Можете быть свободны, мистер Блэр. Прошу вас, сударыня, проходите, присаживайтесь. Позвольте представиться — капитан Говард Хатчем, командир «Суверена». Мисс… миссис?
— М-м-м, — Анна немного замешкалась, не сразу решив, стоит ли ей открыться, и кажется, неожиданно даже для самой себя сказала, протягивая капитану руку, — мисс Жерар, Анни Жерар.
— Француженка? — похоже, капитан был приятно удивлен и, целуя Анне руку, проявил достаточную восторженность. — Как могло случиться, что вы оказались так далеко от дома в столь тревожное военное время?
— Мой антрепренер, — солгала Анна, — обманул меня, и я осталась здесь одна, практически без средств к существованию.
— Какая низость! — воскликнул капитан, становясь еще любезнее и жестами умоляя Анну присесть на диван, после чего извлек из бара, встроенного в стол, бутылку с коньяком и два бокала и предложил своей гостье вы пить за знакомство и счастливое избавление из индейского плена.
— Увы, — тихо сказала Анна, пригубив коньяк, — боюсь, ваши офицеры поторопились не только с докладом, но и с оценкой событий. Индейцы, которых они убили, не пленили, а охраняли меня, и теперь, боюсь, вас ожидают огромные неприятности. Эти воины были приближенными главного индейского вождя в этих местах — Северино, а он, на сколько мне известно, хотя и справедлив, но весьма мстителен.
— Мне очень жаль, мисс, что мои офицеры поспешили с выводами, — с притворным сочувствием развел руками капитан Хатчем, — однако, вместе с тем, мне кажется, вы преувеличиваете опасность, которая может грозить нам от каких-то дикарей. Что могут они сделать против нашей артиллерии! И к тому же — мы не собираемся здесь задерживаться — наш путь лежит дальше к северу. Но, вы упомянули об антрепренере, вы — актриса?
— Певица, — кивнула Анна, — оперная певица.
— Прекрасно! — воскликнул капитан. — Полагаю, отдохнув, вы не откажетесь спеть для моих офицеров? За время похода мы немного отвыкли от цивилизации.
— Непременно, — улыбнулась Анна, — но с одним условием: поскольку я лишилась своей охраны и проводников, вы поможете мне добраться до крепости, которую еще называют Форт-Росс. Там, как мне сказали, я могу найти своего соотечественника, и он посодействует моему возвращению на родину. У него, как я слышала, есть рояль.
— Рояль в Форте-Росс? — удивился Хатчем. — Разве поселение еще существует? Насколько мне известно, русские давно ушли из этих мест, и их крепость пришла в запустение.
— Мне трудно спорить с вами, капитан, — сказала Анна, — но в Сакраменто мне посоветовали отправиться именно туда.
— Ничего не имею против этой рекомендации, — пожал плечами Хатчем, — место там дикое, и мы спокойно сможем стать на рейд, не привлекая ничьего внимания.
— Значит, вы все-таки решили всерьез отнестись к моему предупреждению о возможном ответном нападении со стороны индейцев? — насторожилась Анна.
— Помилуй Бог! — самодовольно воскликнул капитан. — Если мы и опасаемся кого-то, то не дикарей, а восточных варваров и сибирских медведей.
— Простите? — не поняла Анна, но какое-то смутное и недоброе предчувствие закралось в ее душу.
— Тайна! — заговорщески склоняясь к самому лицу Анны, прошептал Хатчем. — Это военная тайна, мадемуазель Жерар. Впрочем, возможно, я чуть-чуть приоткрою ее, если и вы найдете возможным приоткрыться мне…
— Возможно, вполне возможно, когда-нибудь, — уклончиво отвечала ему Анна, мягко отстраняясь от капитана, на которого слово певица, кажется, возымело некоторое и весьма двусмысленное действие. — Но не позволите ли вы мне, сэр, пока корабль направляется к Форту-Росе, немного отдохнуть и…
— Понимаю, понимаю, почистить перышки, — радостно, едва скрывая какой-то особый блеск в глазах, закивал ей капитан Хатчем и звонком вызвал стоявшего у его дверей матроса. — Позовите лейтенанта Блэра, немедленно, это приказ… (и, когда тот, отсалютовав, вышел, пояснил) Блэр — мой старший помощник. Вы с ним уже знакомы.
— Да-да, — кивнула Анна, — очень энергичный молодой человек…
Она видела, Блэра любезность капитана, всячески проявлявшего свою благосклонность к неожиданной гостье, не просто расстроила — разозлила, ибо Блэр уже был зол. Эта женщина посмела упрекать его в том, что он повел себя благородно, как истинный джентльмен. Она предпочла его участию в своей судьбе безответственные упреки в гибели двух дикарей — какая нелепость! Блэр был уверен, что они преследуют ее — он видел, как один из них пытался схватить за уздцы ее лошадь, когда она пересекала ручей. Блэр все отлично разглядел из своего укрытия, где они отсиживались с лейтенантом Ридом. В то утро капитан разрешил офицерам сойти на берег и поохотиться в горах, пока «Суверен» пережидал световой день: корабль двигался только ночами, а остальное время либо старался идти вдоль береговой линии неприступных скал, либо отстаивался в какой-нибудь удобной бухте.
Лейтенант был оскорблен поведением незнакомки в своих лучших чувствах, он и предположить не мог, что красивая белая цивилизованная женщина может с такой сердечностью и явной симпатией отзываться о каких-то раскрашенных куклах с перьями на голове. Но капитан велел позаботиться о ней, и Блэр вынужден был предоставить этой женщине на время, до прибытия в Форт-Росс, куда корабль тотчас же взял курс, свою каюту. Лейтенант негодовал, но подчинился, а, узнав от капитана, что незнакомка — певица и намерена, если в форте окажется рояль, петь для них, преисполнился едва ли не ненависти: теперь все понятно! Он-то вел себя с этой мисс, как с благородной дамой, а она оказалась певичкой, которую бросил антрепренер — уверен, ее любовник: обокрал, попользовался и смылся — вполне естественное поведение для людей этого круга. Что же, мы еще проверим, какая вы певица, мадемуазель Жерар: Блэр считал себя знатоком оперы и намеревался поймать эту женщину с поличным, а пока пусть прихорашивается, офицер флота Ее королевского величества сможет защитить свою честь и доказать свое превосходство!
Будучи невероятно раздражен, Блэр предоставил Анне право свободно распоряжаться в своей каюте и лишь через какое-то время вспомнил, что на его столе находились бумаги, над которыми он работал — Блэр составлял отчет об экспедиции «Суверена» для командования. И когда пребывавший после разговора с Анной капитан Хатчем спросил у него, подготовлены ли документы, лейтенант спохватился и бросился обратно к себе. Черт знает что! — успел подумать Блэр. — Эта дамочка совершенно выбила меня из колеи, можно подумать, она произвела на меня впечатление, нет, она унизила меня, и это требует своего отмщения.
«Мисс Жерар» открыла дверь каюты на его стук и была крайне удивлена нервной решительностью Блэра, ворвавшегося в помещение — он от порога кинул цепкий взгляд на стол и не нашел, по крайней мере, внешне никаких примет к тому, что француженка интересовалась его бумагами. Она благоухала ароматом жасминового мыла, которое Блэр вынужден был предложить ей — небольшой азиатский сувенир, который он вез домой, и слегка похлопывала по лицу влажным махровым полотенцем из его косметического шкафа. Какого дьявола, надулся было Блэр, но вспомнил, что сам разрешил певичке воспользоваться им. Судя по всему, «мисс Жерар» вознамерилась получить у него объяснений этому визиту, но лейтенант избег разговоров с непрошенной гостьей и, схватив бумаги, поспешно ретировался из каюты. И когда дверь за ним снова закрылась, Анна в изнеможении опустилась на привинченный к полу стул.
Блэр едва не застал ее — разумеется, Анна не сразу заметила на столе бумаги, забытые лейтенантом, но, бросив случайный взгляд на один из листков, исписанных мелким, филигранным почерком, каковым обычно наделены люди меркантильные и высокомерные, она насторожилась и не удержалась, чтобы не открыть папку с документами и не просмотреть хотя бы бегло их содержимое. А оно стоило ее внимания! Из отчета следовало, что «Суверен» был кораблем-разведчиком и собирал для Тихоокеанской эскадры сведения о состоянии береговой линии Калифорнии и направлялся дальше к Аляске, ибо она была главной целью маршрута корабля-невидимки.
Судя по всему, на русские владения в Америке готовилась атака с моря, а, учитывая то, что русских военных кораблей в этой части света не было (разве что пароход-фрегат «Америка», но где-то он сейчас?) идея совсем даже не показалась Анне абсурдной. Конечно, Россия, воевавшая с Турцией и преданная своими бывшими союзниками, вряд ли могла противопоставить англичанам серьезный заслон, и потому нападение выглядело вполне резонным: если Франция позволяет себе воевать с русскими, натравливая на нее османов, то отчего Британия не может воспользоваться случаем и не прибрать к рукам еще один кусок северо-американского континента — в качестве компенсации за то, что потеряно ею в войне с Соединенными Штатами?
О, как кстати сейчас для Анны была бы встреча с Репниным! Но, зная важную для России информацию, Анна была одинока, и дальнейшая ее судьба представлялась ей совсем уж неопределенной и мало обнадеживающей. И потому ей оставалось хорошо сыграть свою роль, убедив капитана Хатчема высадить ее в Форте-Росс, и уже оттуда искать возможность предупредить своих.
Когда «Суверен» подошел к форту, стало понятно, что капитан Хатчем был прав — верфь у подножья скалы выглядела заброшенной, а сама крепость и подавно производила впечатление мрачное и нежилое.
— Мне сказали, что я могу найти здесь убежище, — по-французски обратилась Анна к человеку, открывшему им дверь в массивных и довольно крепких на вид воротах форта. Человек посмотрел на нее с удивлением, но в его взгляде Анне почудилось еще что-то, кроме простого любопытства, и к тому же весь облик его, эта борода и особый прищур глаз показались Анне чем-то неуловимо знакомыми — мужчина как будто был ей памятен в прошлой жизни. Или в ее воображении?
— Мы не принимаем постояльцев, — не очень дружелюбно ответил ей мужчина, но дверь закрывать не спешил, продолжая всматриваться в ее лицо, что привело самолюбивого и спесивого Блэра в ярость.
— Немедленно открывайте ворота, иначе пушки с нашего корабля разнесут их в щепки, и мы войдем уже без вашего приглашения! — воскликнул он, снизойдя до французского.
— Господин лейтенант шутит, — Анна бросила на британца весьма нелестный взгляд и снова обратилась к человеку в воротах. — Северино сказал мне, что я могу попросить о приюте у вашего хозяина.
При этом имени сторож, наверное, таковы были обязанности этого человека, разом сменил гнев на милость и широко распахнул дверь, отступая вглубь двора — пропуская Анну и подмигивая Блэру и сопровождавшим их матросам:
— Входите, мадемуазель… Английский юмор? Я понял. Прошу вас господа. Месье уехал и вернется только к вечеру. Я провожу вас в гостиную, где вы сможете его подождать.
Крепость и в самом деле казалась необитаемой, хотя повсюду царил порядок, его тишина удручала. Но дом, в который сторож привел Анну и британцев производил впечатление обжитого, и в его гостиной действительно стоял рояль.
— Удивительно! — не удержался от возгласа Блэр и обернулся к Анне. — Вы не поддержите наше настроение, мисс Жерар? Здесь все так мрачно, как в родовом замке с привидениями.
Анна улыбнулась и открыла крышку рояля — пробежалась по клавишам, и, убедившись, что инструмент настроен, села на мягкую табуретку перед ним. Она уже давно не играла и была рада вспомнить счастливые дни ее жизни, когда музыка приносила ей радость. Она даже спела, словно заново привыкая к звукам собственного голоса: Глюк? — кивнул ей Блэр, и потому, как он спросил, Анна поняла, что почти победила. Что подтвердило не только настроение лейтенанта — сначала он принялся без слов подпевать ей, а потом, когда она встала, сам сел к роялю и сыграл несколько бравурных аккордов, на что буквально из ниоткуда в гостиную явился все тот же сторож. Принеся откуда-то бутылку вина и бокалы, он поставил поднос на инкрустированный столик красного дерева у входа и, подойдя к роялю, бесцеремонно закрыл крышку, едва не опустив ее на руки Блэра.
— Месье не любит, когда без него играют, — тоном, не допускающим возражений, сказал он и как ни в чем ни бывало вернулся к своему подносу с напитками. — Вино — мадемуазель, господа?
— Благодарю, — кивнула Анна, принимая бокал из его рук.
— Неужели это и есть хваленое французское виноградарство? — состроил брезгливую физиономию Блэр, едва пригубив поднесенное ему вино. — Увы, оно так же прекрасно, как и здешнее гостеприимство.
— Полагаю, вы не собираетесь ждать месье? — услужливо спросил «сторож» лейтенанта, и тот, порозовев от негодования, кивнул:
— Думаю, наша миссия исполнена, мадемуазель. Позвольте оставить вас, надеюсь, местное общество окажется для вас куда более приятным, чем наше.
— Постойте! — Анна бросилась вслед за ним: не хватало только, чтобы Блэр уговорил капитана уйти, нет-нет, она должна была, насколько это возможно, задержать «Суверен». — Лейтенант! Я дала капитану Хатчему обещание спеть для офицеров вашего корабля. Я не могу обмануть его. Не торопитесь покидать гавань — уверена, мне удастся уговорить здешнего хозяина, и он позволит мне спеть для всех вас.
— Не думаю, что это возможно, — пожал плечами Блэр, но мысль о реванше над строптивой француженкой не оставляла его. — Хорошо, я доложу капитану о вашем предложении, но не думаю, что мы сможем ждать вашего концерта слишком долго. А сейчас разрешите откланяться, мадемуазель…
Когда они ушли, Анна с облегчением вздохнула, но тут же подумала — а ведь лейтенант прав: если хозяин дома не вернется до вечера, «Суверен» может уйти. Что же, тогда ей придется бросить все силы своего обаяния на то, чтобы убедить «сторожа» помочь ей.
Взглядом она обежала гостиную, и снова ее внимание привлек рояль — Анна вернулась к инструменту и села играть. Она словно пыталась заполнить звуками ту пустоту, что тревожила ее своей неопределенностью, и, зная, что британцы уже ушли, она запела ее любимый романс, родные сердцу слова и щемящая, душевная мелодия.
— О, Боже! — подняв голову, Анна взглянула на стену перед собой: луч солнца, упавший от окна, осветил картину на стене. Прежде Анна не заметила этого портрета, и теперь замерла, не веря своим глазам, — она смотрела сама на себя!
Бросив играть, Анна подошла к стене поближе, чтобы лучше рассмотреть потрет, и вдруг услышала голос, от которого все в ее душе опрокинулось, и сама она едва не превратилась в библейский соляной столб:
— И все-таки настоящая ты много прекрасней…
— Владимир?! — еле слышно прошептала Анна, боясь оглянуться, чтобы не оказаться обманутой; сердце стучало в ее груди и рвалось к нему, единственному. — Как это может быть? Родной мой! Ты? Жив?
— А ты не хочешь в этом лично убедиться? — в голосе Корфа послышалась ирония — его ирония, которой он любил иногда бравировать, но по большей части защищался, в том числе и от чувств, от любви.
— Я?! — Анна повернулась к говорившему и в первую минуту растерянно остановилась, не зная, что делать, как себя вести. Из всех испытаний это казалось ей просто невыполнимым, невозможным, нереальным, тогда Корф сам подошел к ней и обнял, порывисто и сильно…
Теперь для Анны многое прояснилось — загадочные слова Северино об ответах, которые задает ее сердце, его отъезд и мучительные дни раздумья. Если верить тому, что нынешний владелец форта был ему другом, то неудивительно, что вождь колебался, прежде чем сделать своей Анну, чье лицо показалось ему знакомым. И дело не в чертах сходства с утонувшей женою вождя — Северино бывал в форте и видел ее портрет на стене в гостиной. Наверное, он знал и об отношении своего друга к женщине на портрете.
Сомнения рассеялись — это был Владимир, ее муж, тот, кого она, казалось, отпустила от себя, но с кем никогда, даже в мыслях, не расставалась. И в тот момент, когда Владимир обнял ее, Анна вспомнила сказанные прежде Варварой слова о заклятье Долгорукой, о кольце и заново услышала всплеск воды, когда Маркелов, сорвав обручальное кольцо с ее пальца, бросил его за борт. Случайностей нет, сказал ей мудрый индейский вождь, и Анна уверовала в то, что весь этот путь был проделан ею с ведома высших сил, которые вели ее к обретению утраченного. И так уж заведено, что путь этот должен был оказаться тернистым.
Разумеется, Анна не думала, что Александр, отправляя ее вслед за Репниным, мог прежде знать о том, куда в действительности приведет Анну эта дорога. И вряд ли Маркелов, похищая ее, понимал, что не увозит Анну, а наоборот, приближает к благополучному завершению ее мытарств в поисках счастья. И даже эта невольная остановка в пути — случай, забросивший ее на британский корабль, — не могла быть простым совпадением: где-то там, наверху, решено было дать им с Владимиром еще на мгновение разминуться, чтобы она смогла увидеть этот портрет и успеть угадать дальнейшие шаги судьбы. Его шаги, его объятья, его поцелуи… Свершив невероятный круг, жизнь снова дала им шанс быть вместе — они встретились, и больше между ними не было причин для расставанья.
Анна чувствовала, что голова ее снова кружилась, но это было приятное ощущение, она словно уносилась вверх на качелях, как в детстве, и хотелось кричать кому-то рядом, кто берег ее в этом чудесном, волшебном полете — выше, еще выше! И время уже не имело значения, и прежние устремления утратили свой смысл — все отныне было подчинено одному: она как будто растворилась в божественной музыке — музыке его голоса, который все говорил и говорил, собирая воедино слова нежности и рассказы о том, что случилось с ним за эти годы. Объяснения мешались с ласками, восклицания и вздохи заменяли слова, мир превратился в неделимый поток благодати, которая изливалась из их душ и сердец и устремлялась в небеса, умножая величие света, божественно прекрасного и неисчерпаемого для тех, кто верует в него.
Могла ли она предвидеть такое завершение своего долгого пути в неизведанное? — О, конечно, Анна хотела бы этого. Должна ли она была знать, что эта встреча состоится? — Благодаренье небу, Господь уберег ее от всезнания. Ибо не смогла бы душа ее ощутить столько радости, если бы тайна открылась ей раньше времени. И впервые Анна не думала о «потом», и не было для нее ничего важнее этой длительности, которая давала ей легкость необычайную и наполняла свободой дыхание.
И вдруг Анна поняла, что нетерпение есть созидание. Она и раньше не могла долго оставаться в унынии и пребывать в неподвижности — размышления о сути вещей и о природе обстоятельств, управлявших ее судьбою, не могли заменить ей потребности самой видеть, знать, чувствовать. И даже если Анна молчала, мысли ее преодолевали пространства и торопили сделать следующий шаг. Она не ведала их первопричины, она не искала объяснения в потустороннем, Анна всегда жила по велению души, но душа ее в любых обстоятельствах оставалась чистою и сердце благородным, и оттого любые испытания в итоге приносили ей перемены к лучшему, а дорога никогда не заканчивалась для нее. Потому что нет случайностей, нет смерти — все в мире оправдано, все объяснено и столь же непостижимо, как бесконечен путь любви.
— Ты меня совсем не слушаешь, — мягко упрекнул Анну Владимир, заметив, что она наблюдает за тем, кого считала сторожем, — бородач пришел, чтобы убрать вино и бокалы, которые приносил для непрошеных гостей. Делал он это спокойно, без ложной скромности — не мешая их объяснению и как будто не придавая значения этой встрече, важность которой он, несомненно, понимал.
— Я вспомнила, где видела этого человека, — виновато улыбнулась Анна. — В тюрьме, на Мартинике, он был среди тех, кого ты освободил тогда.
— Невероятно, что ты узнала его, — удивился Владимир. — Кристоф с тех пор стал моей правой рукой — он здесь и управляющий, и начальник гарнизона.
— Полагаю, последнее — это шутка? — спросила Анна.
— Лишь отчасти, — кивнул Корф. — Когда Селестина помогла мне бежать, мы встретились с прежними товарищами по несчастью, и большинство из них согласились следовать за нами в Америку.
— Все-таки она обманула меня, — тихо сказала Анна.
— Таково было ее условие, — печально промолвил Владимир. — Только согласившись уехать с нею, я мог спасти тебя. Но Селестине не удалось стать счастливой — в Мексике она подхватила малярию. Ею переболели практически все мои спутники, но Селестине не повезло. Она долго сопротивлялась болезни, но… Мы похоронили ее уже здесь, на берегу океана. Бедная девочка любила море.
— Она разлучила нас, — облачко легкого волнения проскользнуло по лицу Анны.
— Она спасла нас, — покачал головою Корф. — Кто знает, удалось бы нам избежать казни, если бы Селестина не вывела нас из тюрьмы. Пусть даже и в разные стороны.
— Но я слышала выстрел в крепости! — Анна непонимающе развела руками.
— Этот выстрел означал не свершившуюся казнь, а очередной побег, — объяснил Владимир и снова обнял Анну. — А тебе не кажется, что земля — круглая?
— Мне кажется, что это и не земля вовсе, а рай, — рассмеялась Анна, прижимаясь к его груди.
— Здесь все по-прежнему считают меня французом, — продолжал рассказывать Корф. — А я был рад перекупить у швейцарца эту крепость. Он приобрел форт в надежде на процветание, которым тот славился, но вместе с поселенцами отсюда ушла душа, которую создавало их трудолюбие и жизнестойкость. Когда я приехал в Форт, то увидел, что он потерял хозяина, и мы с товарищами по побегу остались здесь.
— Случайностей нет… — снова тихо повторила Анна.
— Что ты сказала? — не сразу понял Владимир.
— Северино сказал — случайностей нет, — вздохнула Анна. — И он прав. Наша встреча — не просто возвращение на круги своя. Сегодня у этого форта есть возможность еще раз послужить своему отечеству. Да-да! Эти люди, что привезли меня сюда — матросы с британского корабля, который проводит здесь разведку. И его путь лежит дальше, к Аляске, потому как англичане планируют захватить земли Русской Америки, пользуясь тем, что страна воюет, и от Петербурга до Юкона — слишком далеко. От возвращения «Суверена» зависит будущее этой экспедиции, а значит — безопасность наших земель.
— Вот как… — задумчиво произнес Корф. — Однако удастся ли нам в полной мере противостоять военному кораблю? Конечно, мы восстановили орудийный арсенал, и в форте есть ружья и порох, но моих людей слишком мало для того, чтобы сражаться с экипажем корабля на равных.
— Но у нас может быть сильный и многочисленный союзник, — сказала Анна и, видя удивление Владимира, пояснила: — я говорю о Северино. Не думаю, что вождь спокойно позволит уехать тем, кто убил его верных воинов.
— Так вот кто это сделал! — воскликнул Корф. — Сегодня утром к стенам форта прибежала лошадь, и по узору на ее попоне я узнал седло воина из племени Северино. Я взял с собою двух людей, и лошадь привела нас к ручью в часе езды от форта, где мы нашли убитых индейцев. Рядом в скалах прятались две другие лошади, и, поймав их, мы уложили убитых на лошадей, и мои люди отвезли их к Северино. Я же вернулся сюда — если те, кто убил индейцев, находятся поблизости, значит и форту не избежать нападения. Но я не знал, что тебе известно об этом случае!
— Это Северино отправил меня к тебе, — рассказала Анна. — Думаю, он узнал меня (она кивнула на свой портрет на стене) и решил вернуть собственность истинному владельцу. Эти два индейца сопровождали меня в Форт, когда британцы вообразили, что у них появился повод продемонстрировать свои хорошие манеры. Они случайно увидели нас и сочли, что спасают белую женщину от дикарей. Так я оказалась на их корабле и узнала об их планах. Если бы мы могли рассказать об этом Северино…
— Не волнуйся, — кивнул Владимир. — Зная Северино, я могу утверждать, что он уже идет по следу и вскоре объявится здесь.
— Что же, нам осталось только разработать план военной операции, — решительным тоном сказала Анна, и Владимир с мягкой печалью улыбнулся:
— Что-то подсказывает мне, что ты уже знаешь, что мы должны сделать.
— Я знаю только повод, который позволит нам заманить в форт большую часть экипажа, — покачала головой Анна. — Мне пришлось представиться моим «спасителям» певицей и назваться Анни Жерар. И я обещала капитану, что, если хозяин форта будет настолько любезен, что согласится принять их сегодня вечером, я буду петь.
— Месье, — в гостиную вернулся Кристоф, — приехал вождь.
— А вот и он! — усмехнулся Корф. — Значит, будет бой…
Однако сражение было выиграно практически без боя — пока старшие офицеры «Суверена» наслаждались прекрасным пением Анны в гостиной дома нынешнего хозяина форта, воины Северино проникли на корабль, без сомнения расправившись с теми из матросов, кто оказывал им сопротивление, и уводя в плен тех, кто счел благоразумным сдаться раскрашенным в устрашающие цвета краснокожим дьяволам великого индейского вождя. А когда на корабле все было кончено, Северино вернулся в форт, и любезный хозяин, называвший себя «месье Сид», предложил всем офицерам собрать свое оружие и вручить его людям, которые наставили на них в окна свои винтовки.
После того, как все, кто остался в живых, были помещены под замок и под охрану индейских воинов в казармы, Северино потребовал от англичан выдать ему убийцу его воинов. И Владимир властным жестом остановил попытавшуюся было образумить Северино Анну — в этих краях действуют свои законы, и мы не вправе препятствовать свершению принятого здесь правосудия. Но мы же не можем вести себя, как индейцы, взмолилась Анна, и Корф, с минуту помолчав, попросил вождя дать ему возможность говорить с ним наедине. И после короткого разговора он вышел к озлобленному и горевшему от ненависти Блэру, ждавшему своей участи во дворе, и сообщил, что намерен стреляться с ним — за убийство своих друзей и нападение на его жену. Дуэль состоится завтра, на рассвете, а пока Блэра отвели в отдельный каземат, который когда-то служил загоном для скота и поставили к двери двух индейцев для охраны.
— Владимир, — в ужасе воскликнула Анна, услышав это решение, — что ты делаешь? Я не позволю тебе рисковать собой! Я не для того исколесила полсвета, чтобы, едва обретя тебя, потерять так просто и так нелепо.
— Это единственный способ придать мести смысл честного поединка, а значит — законности, — успокаивал ее Корф. — И потом, неужели ты всерьез полагаешь, что, став в свое время примерным семьянином, я разучился стрелять?
— Но я видела, как стреляет лейтенант! — возражала ему Анна. — И силу его меткости воины Северино узнали на себе!
Однако все уговоры оказались бесполезны — утром состоялась дуэль. Владимир стрелял первым, но Блэр даже не пошевелился и, дождавшись команды, произвел ответный выстрел в Корфа, после чего рухнул, как подкошенный — оказалось, его противник попал ему в грудь, в область сердца, но Блэр еще продолжал жить какое-то время и сумел ранить Владимира в плечо, по счастью — неопасно.
Удовлетворившись результатом дуэли, Северино спросил — что дальше?
И Корф, и Анна понимали: исчезновение корабля-разведчика только отодвинет на время исполнение захватнического замысла англичан, и тогда вождь предложил им свой план.
Плененные англичане были доставлены им в Сан-Франциско, где Северино убедил обитателей Президио, что заговор затевался против испанской короны, и всем арестованным немедленно был придан статус военнопленных, вследствие чего все они были заключены в местную тюрьму, а Северино был награжден за верность грамотой, дававшей индейскому союзу некоторые послабления против прежних ограничений территории и прав землепользования.
Владимир же с Анной и теми из его людей, кто решился идти с ним, перенесли на «Суверен» запасы пороха и вооружения и отправились на поиски британской эскадры, координаты которой были обнаружены ими на картах в каюте капитана Хатчема. Владимир затеял хитростью остановить англичан: «Суверен» должен был войти в гавань, где прятались их корабли, втянуть противника в ближний бой — Владимир был уверен, что, желая вернуть «Суверен», англичане пойдут на абордаж, а потом взорвать корабль-разведчик в самой гуще собравшихся вокруг него кораблей.
Этот Владимир, в поведении которого Анне чудились отблески славы «капитана Сида» был ей незнаком, но она восхищалась им и все время похода продолжала бороться за своего любимого. Она гордилась его отвагой, его военной смекалкой и решимостью, но замирала от ужаса, едва представив себе, чем может закончиться для Владимира этот бой. И лишь одна мысль не отпускала Анну — она проделала столь тяжелый путь, чтобы найти его, своего возлюбленного мужа, жизнь провела ее по таким немыслимым кругам отчаяния и боли, что невозможно было и представить себе, что она опять потеряет Владимира и на этот раз уже навсегда.
И накануне сражения Анна увидела ангела: не во сне — наяву, как будто он все время стоял за спиною Владимира, и лицо его кого-то смутно напомнило ей, но для Анны важнее было знать, что своим крылом посланец небес заслонил ее мужа от пули, и она с готовностью собиралась принять эту жертву от любого.
И когда отправленная Владимиром в шлюпке на берег Анна опять увидела перед собою порт Хакодате, она взмолилась, обращаясь к небесам — случайностей нет! А потом она увидела очертания знакомого корабля — это была «Америка», а рядом с нею пришвартованы были еще несколько кораблей, на мачтах которых развевался флаг Российско-американской компании. И среди тех, кто встречал ее на борту «Америки», Анна увидела Михаила Репнина…
Князь был более других потрясен ее рассказом, но не обмолвился и словом — ей рассказали офицеры с «Америки», что после того, как «Румянцев» вернулся на Аляску без нее, Репнин уговорил коменданта Родичева составить экспедицию по ее розыску и спасению. В Хакодате экипажи русских кораблей объединились и обыскали весь порт, найдя и мальчишку-рикшу и старика, который привел ее на чайный клипер, уходивший в Калифорнию. После чего составлен был план перехода в Сан-Франциско, но неожиданно Анна сама появилась в порту и поведала о захвате Корфом «Суверена». И тогда решено было выйти Владимиру на помощь.
И как ни просила, как ни умоляла Анна, капитаны кораблей отказались взять ее с собою. Анна осталась ждать их возвращения, и перед отплытием Репнин навестил ее. Он не знал, удастся ли ему увидеться с Корфом, он надеялся на встречу с ним, но сердце его было разбито, Анна чувствовала это по тягостному молчанию, которое он поначалу не мог преодолеть и которое ей самой казалось спасением от неизбежности объяснения с князем. Но к ее удивлению, поборов, наконец, гнетущую его боль, Михаил заговорил с нею ровно и ласково, точно с маленькой девочкой.
— Если жизнь чему-то и научила меня, так, прежде всего тому, что мечта не должна становиться реальностью, иначе она немедленно утрачивает свой смысл и значение. Я любил вас — и тогда, когда вы были начинающей актрисой Анной Платоновой, и когда стали княжной Анастасией Долгорукой, и после — баронессой Корф. Я любил вас и одновременно не вас, а свое чувство к той нимфе с божественным голосом, которая покорила воображение двадцатилетнего поручика и не состоявшегося поэта. Я любил вас и в своей обожаемой жене, которая оказалась к тому же вашей единокровной сестрой, и в своих детях, потому что вы — чудо, частица которого есть в каждом. И это чудо — любовь. Любовь, которая давала мне вдохновение жить, и повелевала моим поэтическим вдохновением. Я никогда не был к вам так близок, как в своем воображении, но когда я вознамерился и в реальной жизни сократить это расстояние до клятвы верности перед алтарем, судьба остановила меня на самом пороге церкви — вы слишком важны для меня, чтобы я мог позволить себе превратить ангела в домохозяйку…
То объяснение стоило Анне нескольких бессонных ночей в гостинице, где она ожидала возвращения кораблей из похода. Но однажды тревога отпустила ее, как будто она его отпустила. Господи, проснувшись среди ночи, воскликнула Анна — скажи мне, кого? Кого из них?
И тогда она вспомнила их единственную дуэль — как бежала по зимнему лесу, утопая в снегу, и просила Создателя не допустить двух близких и столь важных для нее мужчин до опасной черты, за которой — небытие, и неважно, благородной ли была его причина или на нелепые подвиги их толкала гордыня. Анна закрывала глаза и снова видела себя, встающей между ними ради них самих, ради их верной мужской дружбы и ради своей свободы, которая обернулась для нее позже одиночеством и новыми испытаниями на верность, и она тогда еще не знала точно — кому, кому из них? И засыпая под утро, Анна металась в тревожном сне по подушке и все слышала низкий голос Варвары, спрашивающей ее — ты сама-то хоть, девонька, знаешь, кого желала бы видеть после дуэли? И кто-то невидимый и строгий говорил ей голосом Северино — нельзя остановить выбор, невозможно помешать судьбе решить, кому и куда следовать за нею, потому что таковы правила, и они предопределены. Ты можешь думать, что остановила маятник, но на самом деле ты сломала его, ибо жизнь — это бесконечное движение от плохого к хорошему, от конца к началу, от человека к человеку. Остановленные стрелки часов означают смерть…
Живым к ней вернулся Владимир. И едва лишь первые волнения, вызванные возвращением, улеглись, Анне рассказали, что план Корфа удался — обманом втянув англичан в бой, он в самый разгар неожиданной для них атаки, велел всем своим людям покинуть корабль и поднял на мачте Андреевский флаг, который найден им был в Форте-Росс, а потом направил свой «русский сувенир» на флагманский корабль британской эскадры. Но Владимиру повезло — взрывной волной его выбросило за борт, и позже явившиеся ему на подмогу русские корабли, завершив разгром британской эскадры, подобрали Корфа и его людей, спасавшихся вплавь.
Никто не знал, откуда посыпались те пули, когда Владимир, с трудом разгибая руку, ноющую от еще свежего ранения в плечо, обнял старого друга, но в какой-то момент лишь один Репнин почувствовал опасность и заслонил собою Корфа…
— Он хотел стать хорошим отцом нашим детям, — тихо промолвила Анна, когда Владимир завершил свое печальное повествование, — а заменил тебя на смертном одре…
— Я даже не успел с ним попрощаться, — горестно вздохнул Владимир.
— Я сделала это за тебя… — прошептала Анна.
Их трудный путь к самим себе и друг к другу был завершен. «Америка» возвращалась в Россию, и перед самым отплытием из Японии достигла весть о болезни и смерти русского Императора: простудившись во время поездки на свадьбу дочери своего родственника, Николай на следующий день больным принимал парад гвардейской пехотной части, после чего слег в тот же вечер и стал стремительно угасать, испустив дух в начале марта 1855 года.
Возвращение Анны и Владимира домой совпало с коронацией нового российского государя. Конечно, Александр был опечален известием о гибели своего верного помощника и адъютанта князя Репнина — в который раз сбывались слова отца: корона и одиночество — две стороны одной медали. И все же он был рад воскрешению Корфа из списка мертвых, предложив барону должность в своей канцелярии, в то время как Анна вернулась к своим обязанностям при дворе — правда, теперь уже при дворе Ее величества, Марии Александровны.
И никто из них не знал о том, что в библиотеке Ново-архангельска остался неотправленным доклад Михаила. Однако много позже он был найден библиотекарем Матвеевым среди рукописей и отправлен им в столицу, но до Александра не дошел, затерявшись в чиновных кабинетах. И новый российский Император так никогда и не узнал результатов огромного труда, проделанного его верным другом и многолетним соратником. И потому в октябре 1867 года Аляска была продана за 7,2 миллиона долларов американскому правительству — остановив войну ценою тяжелейшего для страны мирного договора, Александр вознамерился поправить пошатнувшиеся дела в государстве, и делал для этого все, что считал возможным и правильным.
А вот мечта Лизы сбылась — ее дети и дети Анны и Владимира стали одной семьей. И у них не было больше причин для разлуки…
«Иногда мне кажется, — записала Анна в своем дневнике, вернувшись домой после пышной церемонии коронации Александра Второго, — что жизнь не нуждается в нашем чрезмерном участии в ней, ибо для человека и ход мыслей, и результаты вмешательства судьбы, даваемой нам свыше, непредсказуемы. И оттого мы жаждем защититься от нее словами, называя все, случившееся с нами, фатальным, подразумевая при этом печальную необратимость времени. Но вместе с тем, лишь отвечая на зов перемен, выходя навстречу судьбе, мы можем увидеть свое будущее, ибо мудрость народная неоспорима — под лежачий камень вода не течет.
Сожалеем ли мы о людях, с которыми больше не встретимся в земной жизни? Стоит ли, если у нас впереди жизнь небесная! Размышляем ли о том, что хотели бы изменить в том, что уже свершилось и свыше означено? Кто-то сказал, что предела совершенству нет. Ждем ли иного, чем сама жизнь, воздаяния за неисполненные наши чаяния? А может, в том и есть их судьба?! Просим ли у небес даров, превышающих возможности высших сил, полагая, что и сами способны на большее? Странно, но величие — то, что не исходит из нас во вне, а углубляется в нас. Ибо свет внутренний ярче других. И голос внутренний честнее и справедливее.
Мне не ведомо, было ли пережитое нами к грусти иль к радости, потому как, пытаясь дать тому определение, мы отнимаем у прошлого право на продолжение. Ибо живет лишь то, что не закончено, существует то, что еще не нанесено на карту нашей памяти, как данность верстового столба, который не может угнаться за проезжающей мимо каретой. Оттого и мне не хотелось бы ставить точку в нашем с Владимиром единоборстве с судьбой, потому как завершение одного круга всегда означает начало следующего…»