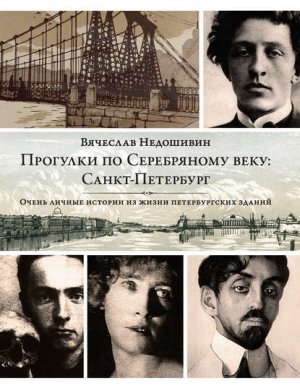
У каждого здания своя история, каждое несет через столетия рассказ о жизни своих обитателей и о происшествиях того времени. В них стиль, вкус и характер эпохи дней прошлого…
Анатоль Франс
Гале – жене и помощнице…
По этому городу нужно ходить на цыпочках, а если разговаривать – то шепотом. Этого, разумеется, никто не делает: ни туристы, ни уж тем более шумная и растрепанная молодежь, перелетающая с улицы на улицу. Я думаю, это – временно. Рано или поздно, если захотят всмотреться в город, прислушаться к его камням, они все равно перейдут с безумной побежки, с привычного ора на почти беззвучный шепот и очарованный шаг. Иначе ведь не понять этого чуда, этой необъятной гранитной иконописи, с которой можно слой за слоем, как это делают терпеливые реставраторы, «смывать» историю за историей. Вообще историю – в прямом смысле этого слова. Иначе никогда не увидеть мелькнувшую в окне за серо-палевой шторой тень бесплотной Ахматовой; не поймать жуткого взгляда летящего в таксомоторе на свою первую и единственную дуэль Волошина; не улыбнуться прыгающей походке Мандельштама, спешащего сквозь танцующую метель на Марсовом поле за широко шагающим Гумилевым, и не услышать за плеском вёсел и криками потревоженных чаек на рассветных Островах, что же там, в лодке, нашептывает улыбчивой красавице с пепельными волосами Александр Блок…
Я люблю ходить к домашним «гнездам» поэтов. «Шоколадные, кирпичные невысокие дома, здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!..» Их, домов, где жили или бывали мои любимые поэты, сохранилось всего-то, ну, сотня, ну, может быть – другая. Отнюдь не шоколадные – всякие, в том числе совсем обветшавшие, – они стоят и в маленьких переулках, и на широких проспектах. И по-прежнему безымянны, ибо никто не зовет их «блоковскими» или «есенинскими» домами. На фасадах их пока еще не висят мемориальные доски, сообщающие, кто здесь жил и когда.
Повезло «золотому веку» русской литературы – мемориальные доски, как ордена, сияют на его домах. А вот поэтам века Серебряного – как с легкой руки писателя Иванова-Разумника была названа первая четверть XX века – повезло значительно меньше. Их имена не только не выбивались на мраморных досках – они, на моей еще памяти, буквально выжигались из нашей жизни. Ведь век-то, стоит копнуть любой исторический документ, всегда готов обернуться, сверкнуть отнюдь не праздничным серебром – диким переливом парной крови.
Но именно тогда довелось жить Блоку и Сологубу, Кузмину и Мандельштаму, Ходасевичу и Северянину, Ахматовой и Гумилеву – легендам русской поэзии. И нам, с каждым вздохом отдаляющимся от их эпохи, все интереснее становится, где, а главное, как жили они под грозными небесами колыбели трех русских революций. В каких домах снимали квартиры, в каких углах устраивали жилища, по каким лестницам поднимались, где влюблялись, пировали, стрелялись на дуэлях и встречались порой в последний раз? Ведь образно говоря, если есть история литературы, то есть и живая «география» ее. Тот неизвестный, ушедший, казалось, в небытие Петербург, по которому, зная факты и имея хоть капельку воображения, можно легко, следя за судьбами поэтов, пройтись след в след – пешком.
Знаете ли вы, про какое окно Блок написал, что оно «горит не от одной зари»? Из какого окна Владислав Ходасевич высматривал идущую к нему на свидание Нину Берберову или у какого подоконника сидела Анна Ахматова, когда к ней, перед арестом и расстрелом, в последний раз пришел Гумилев? А ведь эти окна и тысяча других таких же еще живы. И разве они не являются, если говорить шире, окнами в глубочайшую духовную культуру Петербурга, в великую историю России?
Звучит, согласен, несколько пафосно. Но если снизить тон, если говорить о вещах приземленных, то нельзя не заметить: сегодня, когда опубликовано то, что так долго было под запретом, когда открываются самые закрытые архивы, когда появляются никогда ранее не читанные мемуары и воспоминания свидетелей того времени, когда сошлись наконец три великих пласта, три необъятных «архипелага» русской словесности – литература запрещенная, эмигрантская и написанная «в стол», – мы вправе констатировать: история ее требует если не создания наново, то хотя бы значительной корректировки. Ведь вчерашние «великие» поэты ныне на наших глазах превращаются вдруг в «знаменитых», а иногда – по нисходящей! – вообще в просто «известных». И, разумеется, наоборот – безвестные дотоле имена неожиданно становятся позарез необходимыми всем. Я и сам, признаюсь, если отбросить холодную объективность повествователя, когда-то считал Ахматову более значимым поэтом, нежели Цветаева, а Пастернака – более великим, чем Мандельштам. Что говорить, сегодня даже знакомые со школы имена Блока, Есенина, Маяковского после новых публикаций, возникших из небытия мемуаров, обнародованных документов вдруг начинают выглядеть иначе – не так, как мы понимали их вчера. По сути, мы открываем сегодня неизвестных, хотя и давно знакомых нам поэтов.
Кто-то очень верно сказал однажды: «правда – в деталях». В бытовых подробностях и творческих экстазах, в шокирующих ситуациях и «говорящих» обстоятельствах, в грубых фактах и трогательных мелочах – в том «соре», из которого и «растет» настоящая поэзия. Именно это больше всего интересовало и вдохновляло меня. Свыше десяти лет выписывал я из мемуаров и воспоминаний даже не важные, казалось, события жизни поэтов, бесконечные «истории любви», сцены и сценки ушедшей уже жизни, сравнивал разные мнения о них и добирал недостающие факты, которые могли бы «дорисовать» знакомые уже портреты. Это сопоставление фактов, когда тени свидетелей жизни поэтов словно садились в кружок и вспоминали, как все было на самом деле, это сравнение мемуаров, когда об одном и том же случае рассказывают и два, и даже пять человек, было, пожалуй, самым увлекательным в работе над этой книгой. Особенно если «держать в уме» при этом чье-то ироническое выражение, бытующее в мире историков: «Врет, как очевидец». Вот разобраться: где правда, а где ложь, где легенда, миф, сплетня, а где все-таки реальность, – это и было некоей сверхзадачей моей, увы, конечно же, несовершенной и незаконченной еще работы…
Знаю, мне, возможно, возразят: правда – в стихах поэтов. И я соглашусь с этим. Но стихов в этой книге вы почти не найдете. Во-первых, потому, что они, по счастью, все опубликованы ныне и читателю остается только протянуть руку к книжным полкам. А во-вторых, оттого, что жизнь поэтов, включающая в себя и мотивацию создания бессмертных стихов, и темы их, не менее интересна и глубока, но о ней почему-то либо не рассказывается вовсе, либо сообщается скороговоркой, биографическими эпизодами в сугубо литературоведческих трудах. Упаси меня бог, я ничего не имею против этого достойного труда уважаемых мной людей – из крупиц их изысканий, как в детской игре пазл, складывается в конце концов общая картина жизни писателей. Без их работ не было бы и этой книги. Я – о другом. О том, кто же и когда нарисует эту общую картину? И главное, как? Другими словами, я не раз замечал: те, кто знают и творчество, и жизнь поэта, не пишут, как правило, для «широкого читателя». Пишут научным, «птичьим» языком, который иному человеку не просто скучен – непонятен. А те, кто могут рассказать о поэте увлекательно, чья профессия – писать, те, к сожалению, зачастую не знакомы с предметом и глубоко, и всесторонне. И неосведомленность свою в фактах и деталях (это же сколько, простите, надо прочитать!) пытаются подменить некоей «художественностью», попыткой «реконструировать» жизнь великого человека в меру своего понимания. Примеров тому тьма, я не открываю здесь Америку, вы и сами, не сомневаюсь, не раз «корчились», читая фразы: «Гумилев подумал…», «Блок засомневался…», «Ахматова решила…». Да откуда вы знаете, хочется сказать им, что он «подумал», а она – «решила»?.. И именно этого мне больше всего хотелось (опираясь более чем на три сотни проштудированных свидетельств) избежать в своей книге. А уж что получилось – судить вам, читатели…
Книга, которую вы держите в руках, довольно откровенна. Вы можете спросить: а есть ли предел откровенности в представленных очерках? Есть. Он ровно такой, каким был в первоисточниках – в мемуарах, воспоминаниях, письмах и дневниках моих героев. Вот еще почему, скажу заранее, никаких упреков иных пуритан вроде «подглядывания в замочную скважину» или «копания в грязном белье» я не принимаю. Во-первых, откровенным и даже грешным было само «серебряное» время. Во–вторых, знание любовных и прочих «интимных» обстоятельств помогает (что тут поделаешь?) понять и мотивы творчества, и поводы рождения стихов. А в-третьих, и это главное, – не будем забывать, что начиная с символистов (конец XIX века) основным принципом стихотворцев стало, как известно, соединение ЖИЗНИ поэта и его ПОЭЗИИ. Поэты считали (и в этом была известная революционность их), что надо «творить» не столько в стихах, сколько в жизни. И необычную жизнь эту «делать» потом, иногда сознательно бесстыдно (подчеркиваю для стыдливых!), «объектом» своей поэзии. События биографии (дуэли, измены, банальные драки, «нетрадиционная ориентация», а порой и не вполне благовидные поступки), равно как и тончайшие переживания поэтов, – все переплавлялось ими в стихи. Это было ошеломляюще ново для России, но в конце концов стало одной из отличительных черт поэзии Серебряного века. Вот еще почему рассказ о жизни поэтов не только может – должен быть предельно откровенен. Другое дело, как заметил один критик, тонкое все равно должно остаться тонким, простота не вправе превращаться в грубость, а вещи чисто житейские должны не унижать героев, а по необходимости «дорисовывать» их. Ведь все в конечном итоге упирается в авторскую меру понимания поэта и его жизни, а та, в свою очередь, зависит уже только от меры личности рассказчика. Подлый рассказчик и напишет подло, за что бы он ни брался…
И последнее. В этой книге двенадцать глав о двенадцати крупнейших поэтах России XX века. Увы, в книге нет отдельных историй, специально посвященных не менее крупным фигурам Серебряного века: Иннокентию Анненскому, Вячеславу Иванову, Андрею Белому, Николаю Клюеву, Зинаиде Гиппиус, Константину Фофанову. О них рассказывается, конечно, но, что называется, попутно – на фоне эпохи. Подробнее о некоторых из них я расскажу во втором томе – в книге о Серебряном веке Москвы, где мы будем искать «безымянные дома» Брюсова, Бальмонта, Цветаевой и Пастернака.
А пока – пока отправимся по петербургским адресам поэтов. И начнем с нескольких, никому, кроме специалистов, не известных домов Анны Ахматовой. Тех, в которых она успела пожить в эпоху века «серебра» – до того как на десятилетия поселилась в знаменитом Фонтанном доме. Том самом, где совсем недавно, если судить по меркам вечности, открыли наконец ее музей.
Как люблю, как любила глядеть я
На закованные берега,
На балконы, куда столетья
Не ступала ничья нога.
И воистину ты – столица
Для безумных и светлых нас;
Но когда над Невою длится
Тот особенный, чистый час
И проносится ветер майский
Мимо всех надводных колонн,
Ты – как грешник, видящий райский
Перед смертью сладчайший сон…
Иногда мне кажется, что ее не было. Стихи остались – вот они, только руку к полке протяни. А ее нет. И не было. Будто она – миф. Бренд, как сказали бы сегодня. Миф, растиражированный в рассказах, распечатанный в миллионах экземпляров, мельком отразившийся в сотнях чужих зеркал, в десятках воспоминаний, в раздутой до невозможности хвале (к чему она и сама, как известно ныне, приложила руку!) и в невозможной, иногда до низменной грязи, хуле. Легенды, сплетни, тайны, красивые сказки о себе (она их звала «пластинками») и сквозь захлебывающийся восторг мемуаров о ней – вдруг невероятные, порой скандальные, «проговорки». Невольные, как всякие «проговорки», но которые только лишний раз подтверждали: она была совсем не такой, какой хотела казаться… Так какой же была? Она – Великая Ахматова? И Великая ли?
Этот круг очарования и разочарования ею я «прошел» не раз. От «неужели это правда?» до «лучше бы этого не знать совсем!..». Впадал из крайности в крайность, в лед и пламень, в веру и неверие. Пока наконец не понял: есть не одна – три Ахматовых. О, знаю, знаю, мне напомнят, что и сама она на старости лет любила говорить: «Есть одна Ахматова, есть другая, а есть еще и третья». Говорила! Но я имею в виду нечто иное. Была та Ахматова, что выдумывалась ею самой, часто упоительная до умопомрачения, та, о которой с придыханием рассказывали современники, и, наконец, Ахматова – реальная, настоящая. Может, самая интересная. Ведь Петербург, Петроград, Ленинград – не миф же, не сказка, не декорация к ее жизни. Арка на Галерной, «флюгарка» в Летнем саду, магазин на углу Литейного, куда забегала в молодости, Троицкий мост, где «придумала» однажды стихотворение про свою жизнь, наконец, шестое окно на Неву, с подоконника которого два года любовалась закатами. Ведь все это не только было – есть и сегодня!
Хотите покажу? Хотите устрою нечто вроде виртуальной экскурсии по ее городу, от дома к дому, по тем более чем ста адресам, где она жила или бывала? И если хотите, то – вперед! От улицы к улице, от детства поэта – к старости, от легенд и намеков – к твердокаменной, именно так, в буквальном смысле слова, твердокаменной правде города…
Вот Казанский собор – самый центр Петербурга. Но если с Невского обогнуть собор справа, вы попадете на неожиданно тихую, неширокую, но такую знаменитую Казанскую улицу. Здесь, ближе к Гороховой, и по сей день стоит дом каретного мастера Иохима, в котором почти сто восемьдесят лет назад жил сначала Адам Мицкевич, а затем сам Николай Гоголь (Казанская, 39). А слева, в конце первого переулка (ныне переулок Сергея Тюленина), у самого канала, – и об этом знают меньше – в доме двоюродной сестры Ольги Фрейденберг всегда останавливался москвич Пастернак (кан. Грибоедова, 37). Он даже был влюблен в Ольгу, правда, еще в 10-м году теперь уже прошлого столетия.
Но есть на Казанской дом, про который до недавнего времени не знал ничего особо примечательного никто, даже та, что, возможно, жила в нем, – Анна Ахматова. Тогда – Анечка Горенко. Дом №4/2, второй слева, если идти от собора. Но удивительно не это. Удивительно, что спустя тридцать два года Ахматова поселится здесь же, на Казанской, но в доме №3 – ровно напротив того, первого здания. Она, которая слишком любила такого рода совпадения (и они действительно случались в ее жизни!), никогда не поминала дом №4. Не знала. Ведь ей, когда она появилась в нем, было всего два года. Здесь находилась служебная квартира отца. Он и мать Ахматовой не были петербуржцами, семья, переехав в столицу с юга, поселилась сначала в Павловске, потом в Царском Селе. А отец, поступив на службу, то ли получил, то ли снял квартиру на Казанской. Факт этот обнародовал литературовед Вадим Черных – нашел в «Адресной книге г. Санкт–Петербурга на 1892 г.» [1]. С тех пор это место рискует стать на Казанской самым знаменитым, культовым, как говорят ныне. Только в доме №4 она была младенцем и любила лишь переводные картинки да «китайский чай» (детская забава: чаинки, которые распускаются в воде), а в мрачноватом доме №3 ей было тридцать четыре – ее имя гремело, ей едва ли не поклонялись…
Вообще с адресами, по которым жила Ахматова, все время случались какие-то немыслимые совпадения. Скажем, первый дом Ахматовой в Царском Селе, дом купчихи Шухардиной, у которой родители сняли квартиру, стоял на улице Широкой. Он сгорел в 1919-м, на его месте привокзальный сквер, а улица получила, конечно же, имя Ленина. Но странность в том, что и последний дом Ахматовой в Петербурге – вообще последний! – тоже встал на бывшей Широкой улице, которая после революции тоже стала именоваться улицей Ленина. Мистика какая-то! Правда, этот последний дом ее, к счастью, цел и сегодня (ул. Ленина, 34).
В дом №4 просто так ныне не войдешь. Никаких подъездов снаружи – глухие ворота, закрытые на кодовый замок. Крепость, хранящая свои тайны. Я, правда, проник внутрь, поднимался по лестницам с высокими полукруглыми окнами, но, увы, не знал, в какую квартиру въехал сюда в 1891 году Андрей Антонович Горенко. Знал зато другое, что он, еще мичманом, в 1875 году был приглашен преподавать в Петербургский Морской корпус, да оказался, увы, «неблагонадежен», свел знакомство с террористами и после покушения на Александра II был уволен вчистую. Уехал в Севастополь. Знал, что две из трех сестер отца были близки к «Народной воле», а одна, с красивым именем Аспазия (на деле Евгения), была, кажется, влюблена в Николая Желвакова, студента-убийцу, расстрелявшего из пистолета генерал-майора Стрельникова, прокурора, прославившегося своей жестокостью. Аспазию даже разыскивала полиция. Такая вот родня оказалась у Ахматовой. Правда, сама она, кажется, ничего этого не знала, хотя в семнадцать лет жила на даче у Аспазии. А может, и не интересовалась. Упоминаний об этом я, во всяком случае, не встречал нигде, даже у исследователей Ахматовой [2].
В доме на Казанской Горенко поселился, имея на руках троих детей: Инну, Андрея и Анну. И случилось это как раз в год, когда умер его отец, дед Ахматовой, к тому времени полковник Антон Горенко, участник обороны Севастополя. Это он был женат на полугречанке, от которой Ахматовой и достался знаменитый нос с горбинкой. «Профиль моей дорогой сестры, – писал потом брат Ахматовой Виктор, – есть наследство от бабушки-гречанки…»
Пишу это к тому, что ныне любой скажет – Ахматова вела род от татарского хана. Увы, литературоведы доказали: ее происхождение от золотоордынского хана Ахмата, «чингизида», последнего татарского хана на Руси, – миф. Образ татарской княжны – легенда, придуманная Ахматовой. Может, первая из легенд, первая ее «пластинка». На самом деле прабабушка ее, Мотовилова, носила в девичестве фамилию Ахматова, но к золотоордынцам эта женщина с незамысловатым именем Прасковья Федосеевна (не умевшая, кстати, ни читать, ни писать) отношения не имела. Ахматова знала это, знала в том числе из записок, которые оставил ее дед по матери, Эразм Стогов. Но признать сей факт – значило бы разрушить выстроенный миф. Зато, кажется, не миф, что гусар, первый партизан и поэт Денис Давыдов приходился ей какой-то дальней родней. Так пишет все тот же Эразм Стогов, который «дитятей» катался в седле легендарного в будущем партизана; семьи Давыдовых и Стоговых жили по соседству под Можайском, недалеко от знаменитого Бородинского поля.
Наконец, не миф, что фрейлина Анна Бунина (тоже Анна!), первая русская поэтесса, умершая за шесть десятилетий до рождения Ахматовой, была хоть и дальней, хоть и не прямой, но родней ее. Это про Бунину Карамзин скажет: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно». А императрица Елизавета за первый сборник стихов пожалует ей золотую лиру, осыпанную бриллиантами. Так что, кажется, не знал уже Иван Бунин, нобелевский лауреат, что ядовитой эпиграммой своей на Ахматову (ее и цитировать-то неловко!) фактически задевал свою не столь уж и дальнюю родственницу…
Да, легенд и тайн про род Ахматовой хватает. Например, Иван Стогов, прадед Ахматовой, бессменный ординарец Суворова, а позже глава уездного сословного суда, был, пишут, колдуном. Все колдовство его заключалось, правда, в том, чтобы сыпать иногда на дорогу перед лошадьми порошок из толченой печени медведя и тем самым не давать проехать повозке обидчиков. Или превращать вдруг коня, натурально, «в мертвого» благодаря шарику из воска с языком змеи в середине, который надо было запихнуть в лошадиное ухо. Наивный такой колдун! Вынешь шарик из уха, и лошадь встанет «веселее прежнего». И легенда, конечно, что его сын, дед Ахматовой, столбовой дворянин Эразм Стогов, но окончании Морского корпуса «был назначен на деревянный корабль, который пошел в кругосветное путешествие под парусами». На деле доплыл на военном корабле «Берлин» только до Кале. Кстати, Ахматова нигде, кажется, не поминает «Записок» Стогова. И знаете почему? Потому что он, «завязав» с морем, «поступил» в жандармы. Понять ее можно: поминать жандармского офицера, прямого предка своего, было и опасно в советские времена, и, что говорить, в любые времена стыдновато. Каково ей, боготворившей Пушкина и писавшей о нем, было знать, что ее деда, жандармского офицера, родственник жены Пушкина, А.М.Загряжский, едва не вызвал на дуэль за весьма неблаговидный поступок? Сам Стогов, напротив, пишет об этом с усмешкой и даже не без некой гордости. Но об этом «скелете в шкафу» Ахматова не рассказывала и мужьям. Хотя, если отбросить соображения подобного рода, дед Ахматовой был личностью весьма оригинальной. В «Записках жандармского офицера» (они были напечатаны еще при жизни его) он сообщает, скажем, что, окончив Морской корпус, служил в Сибири начальником Иркутского адмиралтейства, был знаком со Сперанским и Батеньковым. И лишь потом, польстившись на деньги, пошел служить в жандармский корпус, где в конце концов дослужился до полковника. Гордился, что был офицером «нравственной полиции», что ссужал деньгами самого Дубельта и, случалось, присматривал за губернаторами, чтобы не играли в карты по крупной. А вообще, богач, весельчак, блестящий танцор, успешный преферансист, он столь же успешно и почти весело подавил однажды бунт, за что был отмечен самим царем.
Увы, одна из пяти дочерей Стоговых, Инна, тонкая девушка с «прозрачными глазами» и «белыми ручками» – мать Ахматовой, – распорядится долей отцовского богатства, что называется, в духе времени. У нее, как и у родни мужа, тоже не обошлось без народовольцев. Представьте, Инна Эразмовна, став слушательницей медицинских курсов в Петербурге, отдаст свою парижскую шубку Вере Фигнер («Ей надо было ехать», – говорила она). Потом шубка в рассказах Ахматовой превратится всего лишь в кофточку, которая нужна была «для конспирации». А кроме того, Инна Эразмовна пожертвует студентам 2200 рублей для подготовки покушения на царя. Те, в свою очередь, в благодарность чуть не примут ее в ячейку «Народной воли». Таковы окажутся убеждения у дочери жандарма! Впрочем, сегодня сведения «канонические» (в том смысле, что «из первых уст») специалисты подвергают сомнению. Было – не было? Дескать, этот «народовольческий миф» являлся какой-то очень важной составляющей поэтического сознания поэта. То есть как бы говорят, что Ахматова все выдумала (иными словами – солгала), но, мол, мы догадываемся, что там стояло за этим в ее сознании [3]. Странное оправдание и странная логика, если учесть, что про деда жандарма она знала точно, но молчала всю жизнь, а про мать – не знала, но не раз говорила и подчеркивала.
Впрочем, если «революционное прошлое» все-таки было, тогда неудивительно, что мать Ахматовой окажется в будущем не слишком радивой хозяйкой. Жена Осипа Мандельштама скажет потом, со слов Ахматовой, что та «выросла в растрепанном доме», что отец ее считал: «ничего беспорядочнее и неуютнее их дома представить себе нельзя», что Инну Эразмовну даже звали за глаза Инной Несуразмовной и что сама Ахматова объясняла все «добротой и растерянностью матери». Было от чего теряться. Шесть детей, из которых трое умрут от туберкулеза, а один покончит с собой, несчастное первое замужество (муж застрелился), потом развод и с отцом Ахматовой. От первого мужа, кстати, в семье останется книга стихов Некрасова – тоже растрепанный том, который мать давала читать детям исключительно по праздникам. Одна книга на всех! Фантастика! Но этого тома хватит маленькой Ане, чтобы вырасти поэтом.
«Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, – вспоминала она, – я тоже начала говорить по-французски». Няни, в строгом смысле этого слова, у Ани не было, была калужская крестьянка Татьяна Ритивкина, которая якобы скажет о ней однажды: «Это перец будет!» Потом появится бонна. А в пять лет случится событие, которое она будет помнить всю жизнь: в каком-то парке найдет булавку в виде лиры. О, конечно, без бриллиантов! Но – поразительно! – бонна именно тогда ей и скажет: «Значит, ты будешь поэтом…» А ведь первое стихотворение она напишет только через шесть лет – в одиннадцать. И что уж совсем необъяснимо, отец Ахматовой задолго до первых стихов назовет ее почему-то «декадентской поэтессой».
Став поэтом, она, смеясь, будет звать себя «ведьмушкой». И что-то такое за ней водилось. Когда самой Ахматовой что-нибудь предсказывали, это, к счастью, не сбывалось (ей, например, в двенадцать лет предсказали, что она умрет в тюрьме). Но когда предсказывать случалось ей, все, как ни странно, получалось. На старости лет расскажет, что впервые открыла в себе дар вещуньи-прорицательницы еще подростком, когда на юге, лежа в комнате на диване, услышала вдруг, как родственницы ее шумно восхищались одной молодой и удачливой соседкой: и блестящая-де, и поклонников тьма, и красавица, и будущее у нее великолепное. И тут, сама не понимая как, она бросила с дивана почти сонно: «Если она не умрет шестнадцати лет от чахотки в Ницце». Надо ли говорить, что именно так все и случилось…
«Я не то, за что меня выдают, – думала о себе в детстве. – У меня есть еще какое-то тайное существование и цель». И поразительно, но там же, на юге, в пятнадцать лет скажет вдруг матери, когда та покажет дачный домик, где она родилась: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Мать тогда огорчилась. «Боже, – заметила, – как плохо я тебя воспитала…» И напрасно: к 100-летию со дня рождения Ахматовой бронзовый барельеф ее установили на том месте – сама дача, увы, не сохранилась…
«Дикая девочка» – звали ее в детстве. «Лазала, как кошка, плавала, как рыба», – вспоминала подруга «на всю жизнь» Валечка Тюльпанова-Срезневская. Та Валечка, которая потом, после Великой Отечественной, будет арестована, отсидит срок, а уже перед смертью вообще сойдет с ума. С ней, с Валей (Валерией) Тюльпановой, Ахматова познакомится в шесть лет на курорте в Усть-Нарве, где родители их жили на дачах. «Обе мы имели гувернанток, – вспоминала Тюльпанова, – обе болтали бегло по-французски и по-немецки, и обе ходили с нашими “мадамами” на площадку около курзала, где дети играли в разные игры… Аня была худенькой стриженой девочкой, ничем не примечательной, довольно тихонькой и замкнутой».
Тихонькой?.. Московская поэтесса Ольга Мочалова отозвалась круче: «отчаянная озорница». Это верней. То на катке в Царском Селе, где под военный оркестр лихие гимназисты выкручивали на льду причудливые кренделя, «интригует» сына начальницы гимназии. То, уже на юге, прямо в стареньком платьице с неприкрытой прорехой на бедре бросается в море и «за версту от земли на плоском камне» сушит соленую косу и одежду. Лохматая, шальная, быстроногая, она называла себя потом «чудовищем». «Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то время на пляж? – спрашивала позже. – Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, и шелковое платье. Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и назад. И тут появлялось чудовище – я в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два… И кудлатая, мокрая, бежала домой». А вдогонку, говорит, неслось: «О, беспутная девка!..» Но главное, как призналась позднее, она просила мать не делать три вещи: «Не говорить, что мне пятнадцать лет, что я лунатичка и что я пишу стихи…»
Лунатичка! Еще одна тайна Ахматовой. Дело в том, что Ахматова «своекоштной пансионеркой» училась в Смольном институте (Смольный проезд, 1). Недолго, месяц всего. Потом отец, к тому времени уже статский советник, забрал ее домой, и ему вернули 133 рубля 33 копейки из внесенных ранее 200 рублей. «Без воли не могла жить», – скажет Ахматова. Но дело было в другом. Страдая в детстве сомнамбулизмом, она ночью во сне бродила по бесконечно длинным коридорам Смольного. А однажды, пишут, воспитанницу Горенко нашли лежавшей в институтской церкви Смольного то ли в обмороке, то ли в состоянии странного сна. Причиной всего вроде бы была корь, перенесенная ею до этого. Именно тогда она стала писать стихи, и ее никогда не покидало чувство, что начало ее поэтического пути тесно связано с этим таинственным недугом…
Лунатизмом страдала до четырнадцати, отец находил ее и приносил в кровать на руках. «У меня осталось об этом воспоминание – запах сигары… И сейчас еще при луне у меня бывает это воспоминание о запахе сигары», – говорила Ахматова. Сигары курил отец – красивый, высокий, стройный, одетый всегда с иголочки. Был членом «Клуба сельских хозяев», который помещался там, где ныне кинотеатр «Баррикада» (Невский, 15). Любил и умел тратить деньги, напропалую ухаживал за чужими женами («и они его очень любили») и даже имел на стороне внебрачного сына (Леонида Галахова), про которого, как пишет брат Ахматовой, они все «отлично знали». Именно из-за отца Аня Горенко станет Ахматовой; он попросит ее (думаю – прикрикнет, ибо кричал часто!) «не срамить» стихами своего имени. «И не надо мне твоего имени», – резко ответит она.
Наконец, в четырнадцать лет, в сочельник 1903 года, в Царском она познакомится с гимназистом Колей Гумилевым. Думаю, виделись и раньше: в Царском Селе, в этом «игрушечном городке», не встретиться было невозможно. Например, оба точно были на закладке памятника Пушкину 26 мая 1899 года, были, но не знали еще друг друга. А познакомились 24 декабря 1903-го.
«Был чудесный солнечный день, – вспоминала верная Тюльпанова. – Около Гостиного двора мы встретились с “мальчиками Гумилевыми”: Митей (старшим) – он учился в Морском кадетском корпусе, и с братом его Колей – гимназистом… Дальше пошли уже вместе – я с Митей, Аня с Колей… Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно… Но, очевидно, не так отнесся Коля к этой встрече…»
Николай сразу влюбился в Аню и стал поджидать ее, где только мог. Познакомился с ее старшим братом, чтобы проникнуть в их довольно закрытый царскосельский дом, и, ненавидя, например, немецкий, подолгу терпел издевательскую декламацию двумя ехидными девчонками длиннейших стихов германских поэтов. «Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани, – пишет Тюльпанова. – Ане он не нравился – вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами». Потом Анна Андреевна, хоть он и не нравился ей, напишет про те дни: «В ремешках пенал и книги были. // Возвращалась я домой из школы. // Эти липы, верно, не забыли // Наши встречи, мальчик мой веселый…» Увы, у «веселого мальчика» Гумилева все было настолько серьезно, что через год он попытается покончить с собой – как раз из-за несерьезного отношения Ани к его чувству. Она, напуганная этим, поссорится с ним. А в семнадцать лет сама – правда, не из-за Гумилева – попытается повеситься. «Я в Евпатории вешалась, – напишет в письме Сергею Штейну, мужу своей старшей сестры, – и гвоздь выскочил из известковой стенки. Мама плакала, мне было стыдно…»
Все вроде бы здесь так, и тем не менее все не так. На деле именно тогда «закрутилась» подлинная и, конечно, совсем недетская трагедия двух этих незаурядных людей: Ахматовой и Гумилева. Десять писем шестнадцатилетней Ахматовой к Штейну, чудом, вопреки желанию ее, сохранившихся, да самые первые стихи ее разворачивают перед нами и тревожную, и даже грозную картину начала их отношений. Ведь Ахматова именно тогда написала страшную фразу про свою юность: «Я кончила жить, еще не начиная…»
Вообще за год до смерти Ахматова скажет, что для Гумилева и поэзия, и любовь были «всегда трагедией». Гумилев мог бы, думаю, сказать это и про нее. Вот почему попытки их покончить с собой в юности – это не школьные, детские бездумные «выходки», как бывает иногда. Тут были серьезные причины – оба с детства были людьми сильных страстей. Ахматоведы оправдывают Анну Андреевну во всем и, скажем мягко, затушевывают иные факты ее жизни. Специалисты по Гумилеву, напротив, непримиримо осуждают ее. Я мог бы привести десятки примеров этому. Скажем, у ахматоведов почти не встретишь фамилии Федорова, одесского поэта и прозаика, когда-то друга Куприна, Бунина, Сологуба, Мережковских и даже Чехова, того Федорова, который был знакомым и соседом по южным дачам еще четырнадцатилетней Ани Горенко. Зато у ярых поклонников Гумилева ныне можно почти прямо прочесть: именно он, Александр Митрофанович Федоров, стал первым любовником Ахматовой, еще девочки совсем. Ссылаются при этом как раз на первые ее стихи, одно из которых – «Над черною бездной с тобою я шла…» – было посвящено как раз Федорову. «…И песня любви нашей чистой была // Прозрачнее лунного света, // А черная бездна, проснувшись, ждала // В молчании страсти обета. // Ты нежно-тревожно меня целовал, // Сверкающей грезою полный, // Над бездною ветер, шумя, завывал… // И крест над могилой забытой стоял, // Белея, как призрак безмолвный».
Под этим стихом дата неопровержима – 24 июля 1904 года. Ахматовой месяц как исполнилось пятнадцать. Всего полгода назад она познакомилась в Царском с Гумилевым. Вместе ходили на выступления Айседоры Дункан, на какие-то вечера в ратуше, на спиритические сеансы. Но то было детством. А через полгода все кончилось: на даче под Одессой она знакомится с тридцатишестилетним Федоровым, маститым литератором, может, первым поэтом в ее жизни.
Кто же такой этот Федоров – безнадежно забытый ныне прозаик и поэт? «Манеры и ухватки приказчика, – пишет Федор Сологуб, знакомый с ним еще с 1894 года. – Жилы, которые надуваются на лбу. Смуглый. Светло-розовый галстук. Самомнение. “У меня тонкое чутье. Меня Майков… Я тоже пишу стихи с тонкими душевными движениями”. Обижается, когда с ним спорят. Сам признается, что у него рабский страх перед городовыми, дворниками… ибо происхождения крестьянского». Многие вспоминают это имя. Известно, например, что брат Федорова, «босяк из одесского порта, вечный острожник», как пишет Бунин, избил однажды на одесском пляже поэта Бальмонта. А самого Федорова молоденькая Тэффи обвинила в плагиате (да, да, был даже третейский суд!), а до того в столичной газете «Новое время» ему едва «не набили морду» за распространение сплетен. Но, с другой стороны, сама Савина, знаменитая актриса, добивалась постановки его пьесы, и одна из пьес под говорящим названием «Любите жизнь» была поставлена в петербургской Александринке. А Чуковский, уже заявивший о себе как о критике, так любил его стихи, что знал их наизусть. Что говорить, сам Чехов посылал его стихи Ольге Книппер. Кстати, Федоров бурно возмущался декадентами – Андрея Белого и молодого еще Блока называл по гостиным «хулиганами и жуликами». А вообще, любил околачиваться в Петербурге, жил то в отеле «Пале-Рояль» (Пушкинская, 20), то у своего приятеля М.Аверьянова (Невский, 130), обожал бильярд, но главное – был страшный бабник. Любите, дескать, жизнь! «Только женщины, только они» – главное в творчестве, учил того же Чуковского. И в тридцать шесть, видимо умело, над каким-то обрывом (Л.Миклашевская, тогда еще Эйзенгардт, бывавшая на его даче под Одессой, пишет, что к дому Федорова действительно надо идти по «романтическому обрыву») обольщал фактически ребенка, и это продолжалось, уму непостижимо, чуть ли не два года.
Разумеется, Ахматова разберется во всем – «дикая девочка» взрослела стремительно. Но сначала, в 1906-м, в одном из писем все тому же Штейну сообщит: «Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом» (это было как раз то лето, когда она пыталась покончить с собой). И лишь потом, в феврале 1907-го, напишет тому же адресату: «Стихи Федорова, за немногими исключениями, действительно слабы. У него неяркий и довольно сомнительный талант. Он не поэт, а мы, Сережа, – поэты…» Несколько месяцев спустя к ней на юг заедет Гумилев и после этой встречи еще дважды будет пытаться покончить с собой. Отчего? Да оттого, думается, что именно тогда Ахматова и сказала ему, что уже «не невинна»…
Страшное признание для Гумилева… Впрочем, это уже новая история. И как развивались отношения двух «самолюбцев» – Ахматовой и Гумилева, – я расскажу у следующего дома Анны Андреевны.
…Уходя от Казанского собора, поклонитесь на прощание памятнику Голенищеву-Кутузову. Почему только ему? Ведь там и Барклаю стоит памятник. Да потому, что все, как известно, не случайно в жизни. Ведь Ахматова, утверждают, по-настоящему любила только раз. И знаете кого? Тоже Голенищева-Кутузова – потомка знаменитого полководца!..
Вообще весна 1905 года для Ани Горенко окажется бурной. Она уже знакома с Гумилевым и Федоровым, в нее вот-вот влюбятся гимназист Миша Мосарский, который будет готовить ее к экзаменам, и киевский кузен Демьяновский. Но больше кого-либо другого она в это время любит студента третьего курса арабско-персидско-турецко-татарского разряда факультета восточных языков Петербургского университета Владимира Голенищева-Кутузова. Его видела в Царском, он, кстати, был знаком с юным еще гимназистом Гумилевым. Но, увы, элегантный, равнодушно-холодный, со спокойным взором близоруких светлых глаз, по ее характеристике, он, как считают иные исследователи, просто «не заметил этой влюбленности». Он был старше ее на десять лет. Мне, грешным делом, одно время казалось, что это была еще детская любовь Ахматовой, которую, как правило, обычно скоро забывают. Я ошибся! Когда в 1987 году в Ленинград вернулась из Парижа Ирина Одоевцева, то, рассказывая литературоведу Анне Саакянц о Гумилеве, с которым когда-то была близко знакома, она как-то особенно подчеркнула, что Гумилев «никогда, ни одним словом не обмолвился, не рассказывал ни разу о Голенищеве…»: «Может, он не знал?» – спросила Саакянц. «Как не знал! – вскинулась почти парализованная к тому времени Одоевцева. – Все знали… единственная любовь…» Имела в виду – единственная любовь Ахматовой.
Вот это «все» и смущает. Да, Ахматова чуть ли не пять месяцев выпрашивала фотографию Голенищева-Кутузова у Штейна. Писала: «Будет ли Кутузов на Рождество в Петербурге?.. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли… Я не сплю уже четвертую ночь… я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире… Какая я жалкая и ненужная. Главное, ненужная… Отвечайте же скорее о Кутузове. Он для меня – всё…»
Странное письмо, согласитесь! «Африканские какие-то страсти», – как сказала бы она сама в старости. Странная любовь к далекому студенту, которая будто скрывает какую-то иную тайну. Но, главное, странно решение, к которому привело это ее чувство. Ведь чуть ли не в следующем письме она неожиданно пишет: «Я не могу оторвать от него (Кутузова. – В.Н.) душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви!.. Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей… Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной…» И прямо сообщает, что выходит за Гумилева замуж. Словно, скрывая нечто, предназначает эти слова кому-то третьему. Ведь сам Гумилев (это-то и невероятно!), добивавшийся ее любви, почти два года (!) еще не будет даже догадываться, что его уже «выбрали» в мужья.
И, более того, еще трижды (!!!) получит от Ахматовой отказ на предложение руки и сердца. Почему? Вот – тайна!..
В «Нью-Йорк» я попал только к вечеру. Долго ждал коменданта. «Нью-Йорк», а не «Америка» – так звали в 10-х годах прошлого века огромную гостиницу, стоявшую на Васильевском острове (5-я линия, 66), где обитал когда-то художник Натан Альтман. Мне нужен был комендант; я хотел подняться на крышу этого здания, ибо якобы сюда любила выходить Ахматова, когда позировала Альтману для знаменитого портрета. Смущало, правда, что в доме не было мансард и, главное, с кровли этого дома я не смог увидеть ни Невы, ни Зимнего дворца, о чем писала Анна Андреевна.
Не сразу, но понял: дом – не тот. Позже узнал: Альтман жил в «Нью-Йорке» в 1916 году, а знаменитый портрет Ахматовой был написан года за полтора до того. По какой же тогда крыше бегала «дикая девочка» – двадцатипятилетняя столбовая дворянка и уже известная к тому времени поэтесса? Так вот, Альтман, как оказалось, в 1914-м жил не так уж и далеко от «Нью-Йорка» – на Малой Неве, но у Биржевого моста (Мытнинская наб., 5), в доме, который и ныне стоит недалеко от Петропавловки. На этот раз сошлось все: мансарды, седьмой этаж, и, главное, то, о чем говорила Ахматова, – дом стоял прямо «против Зимнего дворца», можно было «видеть снег, Неву и облака». Именно тут, в одной из мансард, и была мастерская художника, откуда она через окно, кутаясь между сеансами в желтую шаль, что изображена на портрете (ее подарил, кстати, муж – Гумилев), и пробиралась по карнизу в гости к друзьям – художнику Вене Белкину и его жене. Они жили в такой же мансарде рядом.
Альтмана спрашивали потом: был ли у него роман с Ахматовой? «Кажется, это единственный случай, – отвечал он, – когда романа с моделью не было. Мы просто веселились, бегали по карнизам». «Веселиться» на сеансы поднимался Мандельштам, заходил итальянский художник Гранди, который, вглядываясь в портрет, на ломаном русском восклицал: «Это будет большой змьясь». Смех имел в виду. (Ахматова, напишет А.Найман, до старости любила произносить: «Это будет большой змьясь», имея в виду то поездку в Англию, то перелицовку старого пальто, то выход за границей «Реквиема».)
Ахматова была уже известна, знаменита с первой книги стихов… Что с того, что тираж «Вечера» был всего 300 экземпляров? А какой сама была в то время – об этом и «рассказывает» альтмановский портрет в фиолетово-желтых тонах, он сейчас в Русском музее. Пишут, правда, что она этого портрета не любила и будто бы говорила поэту Георгию Иванову: «Кому же нравится видеть себя зеленой мумией?» Но скорее всего, даже если эти слова не приписал ей Иванов (что, кстати, он умел делать!), это, видимо, не так. Мне что-то не попадались огорченные отзывы ее, когда в 1915 году портрет был представлен публике. Это ведь тоже была часть славы, которой она ждала.
Альтман не первым изображал ее. Ее рисовал уже Модильяни в Париже – по Ахматовой, обнаруженные лишь недавно у Поля Александра, врача, лечившего художника, грохнули сенсацией на весь мир [4]. Потом, кажется еще до Альтмана, ее рисовала соседка по Царскому Селу Ольга Делла-Вос Кардовская. В дневнике записала: «Я любовалась красивыми линиями и овалом лица Ахматовой и думала о том, как должно быть трудно людям, связанным с этим существом родственными узами. А она, лежа на своем диване, не сводила глаз с зеркала, которое стоит перед диваном, и она на себя смотрела (так! – В.Н.) влюбленными глазами…» Наконец, после Альтмана за ее портреты брались (невероятно!) более двухсот живописцев. Куда там Пушкину! Да какие художники брались: Анненков, Судейкин, Петров-Водкин, Осмеркин, Бушен, Тырса, Серебрякова, Тышлер, Сарьян!.. Даже знаменитый актер Алексей Баталов и тот брал кисть. Про портрет, созданный им, Ахматова скажет потом Маргарите Алигер: «Так писали крепостные художники. Неграмотно, но похоже!..» А один живописный портрет даже через двадцать лет хотела выкупить у автора и уничтожить – не нравился собственный лик, уходящий в историю…
Жила Ахматова в те дни на «Тучке», в доме по Тучкову переулку. Точно известно, дом №17 – с проходным, продуваемым всеми невскими ветрами, двором. Номер квартиры тоже известен – 29-й. Но, кажется, это уже не та квартира: в той, пишут, окна выходили в переулок, а не на Малую Неву, как сейчас.
Впрочем, нам достаточно знать, что поселились в этом доме молодожены в 1913-м. Вернее, так: сначала, в октябре 1912 года, поселился Гумилев, а потом и Ахматова. В маленькой комнатке проживут с перерывами почти два года, в том числе и 1913-й – один из двух самых важных для нее. Она ведь подчеркивала: «Важнейшие для меня даты: 1913 и 1940». Действительно, в 1913-м ее признали как поэта, в этом году случились самоубийство красавца-гусара Князева, первая встреча с Артуром Лурье, визит к Блоку, перед которым и преклонялась, и робела. Но что–то мы все-таки не знаем про ее 1913-й год, ибо и «история» с Князевым, и встреча с Лурье, на мой взгляд, ни в какое сравнение не идут с рождением сына Льва и выходом первой книги, которые случились за год до этого – в 1912 году…
«Был переулок снежным и недлинным», – напишет Ахматова про Тучков переулок. Отсюда по утрам она ходила с Гумилевым завтракать в уютный ресторанчик «Кинши» по соседству (1-я линия, 20), в прошлом – трактир, где Михайло Ломоносов, по преданию, пропил казенные часы. А по вечерам именно сюда тихо подкатывала на «дутиках» пролетка, из которой выскакивали либо тонкий юноша в элегантном университетском сюртуке с высоким темно-синим воротником (по тогдашней моде), либо такая же стройная, изящная девушка, с «гордым поворотом маленькой головки» и с темной, почти черной челкой на лбу. Либо Гумилев, либо, как вы поняли уже, Ахматова; вместе теперь они нечасто возвращались. Возможно, про это время она вспомнит потом ностальгически: «Какие-то дальние поездки на извозчике, когда дождь уютно барабанит по поднятому верху пролетки и запах моих духов (Avia) сливается с запахом мокрой кожи…» Какие поездки, куда? Как мало, как, в сущности, ничтожно мало знаем мы о жизни ее тех лет…
В первой главе я обещал рассказать о взаимоотношениях двух «самолюбцев» – Ахматовой и Гумилева. Так вот, Гумилев чуть ли не пять раз делал предложение Ахматовой и три раза пытался из-за нее покончить с собой. Бесконечное его жениховство и ее отказы утомили, как вспоминала она, даже ее «кроткую маму», которая сказала с упреком: «Невеста неневестная», что показалось Ане почти «кощунством». Только после дуэли Гумилева с другим поэтом, Максом Волошиным (не из-за Ахматовой – из-за поэтессы Дмитриевой, знаменитой Черубины де Габриак, о чем я еще расскажу), Ахматова неожиданно согласилась стать его женой. Это случится в Киеве, в гостинице «Европейская», за чашкой кофе. Она потом признавалась – ее убедила фраза Гумилева в письме: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам». Но за два месяца до венчания она вдруг напишет Вале Тюльпановой загадочное письмо: «Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Анна». Почему хотела слез и даже смерти, что имела в виду, когда писала «вы все знаете», – этого никто уже не объяснит. Некому! Останется лишь признание Тюльпановой, что Ахматова после свадьбы ни разу не говорила с ней, как это бывает между подругами, ни о венчании, ни о новом положении своем, ни об отношениях с мужем…
Кстати, в церковь никто из родственников Ахматовой не пришел: замужество в ее семье считали «обреченным» и, как окажется, не без основания. Гумилев, обвенчавшись, получил долгожданное свидетельство о браке: «Означенный в сем студент С.-Петербургского университета Николай Степанович Гумилев 1910 года апреля 25 дня причтом Николаевской церкви села Никольской Слободки, Остерского уезда, Черниговской губернии обвенчан с потомственной дворянкой Анной Андреевной Горенко, что удостоверяем подписями и приложением церковной печати». Она же получила с него слово, что он перестанет наконец носить «дурацкий цилиндр». Только-то! И оба, по взаимной договоренности, как бы начиная все с чистого листа, сожгли письма, которые писали друг другу. Вот и все почти, что известно об этом важном для русской литературы событии – венчании двух поэтов.
Гумилев после свадьбы выдал жене «личный вид на жительство» и положил в банк на ее имя 2000 рублей. «Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной», – скажет позже поэтессе Одоевцевой. Правда, к стихам жены на первых порах относился иронически, советовал: «Ты бы, Аничка, пошла в балет – ты ведь стройная». По другому варианту, который, со слов Ахматовой, запомнит Сильва Гитович, говорил: «Если хочешь заниматься искусством, почему тебе не заняться пластикой?..» Предполагают, что он, который пуще всего боялся показаться смешным, опасался именно насмешек: муж и жена – поэты. И когда стихи ее кто-нибудь хвалил, якобы криво улыбался: «Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает…» Правда, вернувшись из Африки, еще в марте 1911 года, прямо на вокзале, как пишет со слов Ахматовой уже А.Хейт, спросил: «А стихи ты писала?» Она, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать их, прослушал и спокойно сказал: «Ты поэт – надо делать книгу».
Поразительно! Признал! Но вдвойне поразительно другое, что разговор этот состоялся на вокзале, едва он ступил на перрон. Ведь еще до возвращения его из Африки, до этих слов, Ахматова узнала и поверила, что она поэт, вообразите, тоже на вокзале – на Витебском, по дороге в Царское Село. Именно на Витебском, тогда Царскосельском, как рассказывал через много лет с ее слов В.Е.Ардов, Ахматова оказалась как-то ночью за одним столиком с поэтом Георгием Чулковым. Помнила об этой встрече всю жизнь. Да, в шумном вокзальном ресторане, под чьи-то выкрики, пьяные тосты, позвякивание ножей и вилок, Ахматова впервые читала стихи Чулкову, уже признанному поэту и другу самого Блока. Встретилась с ним вроде бы случайно – поздним вечером, примерно в одиннадцать, у выхода из Тенишевского училища (Моховая, 33-35). Там было какое-то собрание, на котором присутствовали оба.
Чулков вспоминал: «Моросил дождь, и характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму (их недавно познакомили на вернисаже “Мира искусств”. – В.Н.). В… вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло. Случилось так, что я предложил… довезти ее до вокзала: нам было по дороге. Она ехала на дачу. Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда. Среди беседы моя новая знакомая сказала между прочим: “А вы знаете, что я пишу стихи?” Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я равнодушно и рассеянно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать… Первые же строфы… заставили меня насторожиться. “Еще!.. Еще!.. Читайте еще”, – бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов. “Вы – поэт”, – сказал я совсем уж не тем равнодушным голосом…» Настолько не «равнодушным», добавим, что они просто влюбятся друг в друга. В курсе этого окажется, например, Алексей Толстой, а поэт Николай Минский через год после этой встречи и, конечно, до выхода еще первой книги Ахматовой убеждал в Париже одного петербуржца, что «Ахматова и Чулков влюблены друг в друга». Откуда-то знал это? Уж не так ли рождалась ее известность, явление поэта, первые проблески будущей славы! [5]
…Вообще до Тучкова, если быть точным, молодожены успели пожить в Петербурге. В августе 1912 года, когда Ахматова была на последнем месяце беременности, они жили на Невском, в меблированных комнатах «Белград» (Невский, 81) – этот адрес я узнал недавно – первая квартира молодоженов в Петербурге. Там же, на главном проспекте, «в магазине Александра» (Невский, 11/2), Гумилев к Новому году купил ей в подарок шесть пар шелковых чулок, флакон духов «Коти», фунт шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками – он знал, что она о нем мечтает, – и томик Тристана Корбьера. «Как она обрадовалась, – рассказывал он через много лет. – Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали». Это было, разумеется, и до «Белграда», и до «Тучки», подарок вручил раньше – в Царском Селе, в родительском доме Гумилева, где они поселились сразу после свадьбы.
«Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене, – описывал этот дом в Царском Селе Георгий Иванов. – Но внутри – тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены… Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли». Здесь, кстати, с приходом Ахматовой оказались теперь две Анны Андреевны – старший брат поэта, женившись на год раньше, ввел в дом Анну Андреевну Фрейнганг, дочь латвийского помещика. Та была старше Ахматовой и, в отличие от нее, блондинкой. Видимо, были и другие, более существенные «отличия» у молодых женщин, ибо они так и не подружатся.
А вообще, брак Гумилева удивил многих. В Петербурге судачили: Гумилев, известный поэт, «конквистадор», дуэлянт, и вдруг женился на «обыкновенной барышне». Да еще, кажется, на «раечке». «Очевидно, от него, уже совершившего первое свое путешествие в Абиссинию, – защищал его поэт Пяст, – ожидалось, что он привезет в качестве жены зулуску или, по меньшей мере, мулатку». А «раечками», кстати, пишущая братия звала тех женщин, которые учились на литературных курсах Н.П.Раева при Женском педагогическом институте (Гороховая, 20). Ахматова действительно хоть и недолго, но посещала их.
Мгновения их совместной жизни запомнят немногие – их и было немного, этих мгновений. Двоюродная внучка матери Гумилева вспоминала потом, что Ахматова была небрежна в одежде, «борты ее блузки были застегнуты английскими булавками», что «светскому разговору» была не обучена и «вела себя так: меня сюда привезли, а вы мне неинтересны, и я здесь ни при чем…». Она и правда поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом как бы отсутствовала, а потом исчезала в своей «синей», как звала ее, комнате. Там были синие шелковые обивки на фоне белых обоев, сукно на полу, у кушетки лежала шкура выдры, на комоде – безделушки, фарфор. В комнате Гумилева общий цвет был коричневым – обои, занавески. Ахматова, правда, звала его комнату желтой. У него стояли диван, который он называл тахтой (над ним, как вспоминают, висел портрет Жореса), любимое большое и мягкое кресло, доставшееся от покойного отца. Но отличалась жизнь супругов здесь не цветом обоев, отнюдь. Смешно, но, как вспоминает все та же двоюродная внучка матери Гумилева, когда семья однажды получила свежие журналы, то молодоженов спросили при всех: «Что о вас пишут?» Так вот, Гумилев, полистав журналы, гордо задрав голову, ответил: «Бранят». А Ахматова, опустив глаза, как бы про себя сказала: «Хвалят…» Нетрудно представить, что за бури вскипали в самолюбивой душе Гумилева, когда его, у кого была уже не одна, а три книги стихов, называли, подшучивая в компаниях и, разумеется, за глаза, не Гумилевым, а Ахматовым. Надежда Тэффи, которая приходила к ним и которая точно отметит, что жили молодожены «как-то “пока”», рассказывала, как уже у нее в доме (Бассейная, 17) какой-то бестолковый казачий генерал из Оренбурга даже запутался вконец: кто же из двух представленных ему поэтов Гумилева, а кто – Ахматов. «А кто это около двери?» – спрашивал у Тэффи. «А это Гумилев, поэт», – отвечала хозяйка. «А кто эта худенькая на диване?» – «А это Анна Ахматова, поэтесса». – «А который из них сам Ахматов?» – «А сам Ахматов это и есть Гумилев». – «Вот как оно складывается, – прошептал генерал. – А которая же его супруга, то есть сама Гумилева?» – «А вот Ахматова это и есть Гумилева…» Генерал, пишет Тэффи, закрутил головой и что-то пометил в книжечке. Воображаю, добавляет она, что он там потом в Оренбурге рассказывал… Хотя справедливости ради отметим – шутки про «поэта Ахматова» Анну Андреевну как раз сердили не на шутку…
«У нее было все, о чем другие только мечтают, – говорил Гумилев о жене спустя годы. – Но она проводила целые дни лежа на диване, томясь и вздыхая… Я всегда весело и празднично, с удовольствием возвращался к ней. Придя домой, я, по раз установленному ритуалу, кричал: “Гуси!” И она, если была в хорошем настроении, – что случалось очень редко, – звонко отвечала: “И лебеди” или просто “Мы!”, и я, не сняв даже пальто, бежал к ней в “ту темно-синюю комнату”, и мы начинали бегать и гоняться друг за другом. Но чаще я на свои “Гуси!” не получал ответа и сразу направлялся… в свой кабинет… Я знал, что она встретит меня обычной, ненавистной фразой: “Николай, нам надо объясниться!” – за которой неминуемо последует сцена ревности на всю ночь…»
Кто кому изменил первым – покрыто мраком. «Я очень скоро стал изменять ей, – рассказывал Гумилев Одоевцевой. – Не особенно и скрывал это». А Олечке Арбениной, своей возлюбленной, воспоминания которой опубликованы недавно, сказал прямо противоположное. В 1920-м признался ей, что они с Ахматовой условились сказать друг другу о первой измене. «Представьте, – добавил, – она изменила первая». И, как пишет Арбенина, сказал без всякой злости. Ахматова же, в преклонных уже годах, обмолвится о Гумилеве: «Он был резко правдив. Спрашиваю: “Куда идешь?” – “На свидание к женщине”. – “Вернешься поздно?” – “Может быть, и не вернусь”. – Перестала спрашивать. Правдивость бывает страшной, убийственной. Лучше не знать…»
Впрочем, это было до «Тучки», до дома в Тучковом. В нем, где была когда-то сначала небольшая парфюмерная фабрика, а потом фабрика мебельная, жили и архитектор Щусев, и художник Лансере, и даже сам Ульянов-Ленин (где он только не жил!), который снимал здесь комнату на время сдачи экзаменов на юрфаке университета. Гумилев, кстати, тоже снял комнату тут, «чтобы жить ближе к университету». Так пишет его биограф Павел Лукницкий. Но так ли? Если сравнить даты, то въехал он сюда через три недели после рождения Левушки, сына. И рискну предположить: не убегал ли он на «Тучку» от плача младенца, пеленок, суеты и прочих «счастливых» обстоятельств? Ахматова ведь неспроста напишет в стихах, что не любил он только три вещи: чай с малиной, женскую истерику и… «когда плачут дети»…
Хозяйка квартиры долго колебалась, сдавать ли комнатенку Гумилеву. «“Собственный домик, говорите, в Царском? Так, так, – раздумывала она. – Комнатку, чтобы переночевать, когда наезжаете?.. Верю, сударь… Мне такой жилец, как вы, – самый подходящий. Только… Только в поеты публика идет, извиняюсь, не того… “Да, шла в поэты публика, – заканчивает Георгий Иванов, – и впрямь “шалая, беспокойная”». И хотя хозяйка рекомендовала Гумилеву известные ей комнаты в других домах, он все-таки настоял на своем – жилье снял именно в Тучковом. Мне кажется, еще и потому, что в двух шагах отсюда, на квартире Лозинского (Волховскийпер., 2), как раз в октябре 1912 года сдавался в печать первый номер журнала «Гиперборей», ежемесячника стихов и критики. Их с Лозинским журнала. В нем, несмотря на тираж в 200 экземпляров, печатались потом Блок, Мандельштам, Кузмин, Городецкий, Эренбург, Грааль Арельский. Ну и, разумеется, Гумилев, Ахматова, сам Михаил Лозинский, издатель, редактор, но главное – сосед и друг.
«Дружба наша, – напишет Ахматова о Лозинском, – началась как-то сразу и продолжалась до его смерти. Тогда же… составился некий триумвират: Лозинский, Гумилев и Шилейко. С Лозинским Гумилев играл в карты. Шилейко толковал ему Библию и Талмуд… Пили вместе так называемый “флогистон” (дешевое разливное вино)». «Флогистон» – от греческого «воспламеняемый», «горючий»! Через полвека Лозинский скажет об этой дружбе: «Мы обладали тремя главными человеческими пороками. Причем Гумилеву были присущи все три: женщины, вино, карты; Шилейко – два: женщины и вино, а мне – один… – Тут Лозинский кинет взгляд на присутствовавшую при разговоре Татьяну Борисовну, его жену, и закончит: – Карты»… Для Ахматовой же главным окажется то, что оба, Лозинский и Гумилев, «свято верили в гениальность третьего (Шилея) и, что уже совсем непростительно, – в его святость. Это они, – не без упрека говорила она потом, – внушили мне, что равного ему нет на свете…». Ахматова не знала еще, что через пять лет станет женой Шилейко, поэта, ученого, языковеда, о чем позже будет жалеть. Кстати, и с третьим своим мужем, Николаем Пуниным, она познакомится в годы жизни здесь, в Тучковом, – впервые они окажутся вместе в царскосельском поезде, и Пунин запишет в дневник: «Сегодня возвращался из Петрограда с А.Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами, в черной бархатной шляпе – она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. У нее длинное лицо с хорошо выраженным подбородком, губы тонкие и больные, и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы; у нее сильно развитые скулы и особенный нос с горбом, словно сломанный, как у Микеланджело; серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым ожиданием или вопросом… но ее фигура – фигура истерички… Из-под шляпы пробивалась прядь черных волос; я ее слушал с восхищением, так как, взволнованная, она выкрикивает свои слова с интонациями, вызывающими страх и любопытство. Она умна… она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве, и если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, оттого, что я не даю ей для этого достаточного повода…»
Злая характеристика! [6] Правда, и о Пунине того времени довольно едко писал современник: «Хлыщеватый молодой человек ультрапетербургского вида… Играет моноклем, слишком непринужденно закладывает ногу за ногу, слишком рассеянно щурится. Ежесекундно его лицо подергивается тиком. Говорит он в нос, цедит слова, картавит и пришепетывает… Каждую фразу, начиная по-русски, кончает по-французски, или наоборот…» Пунин в то время сотрудничал в «Аполлоне» в качестве художественного критика, но считал себя и поэтом, пока кто-то из «Аполлона» не посоветовал ему оставить стихи. Скоро, скоро пути «аполлоновцев» разойдутся с ним, скоро Гумилев назовет его «ванькой-встанькой» наоборот, которого, «как ни поставишь, всегда упадет», а Пунин отзовется о Гумилеве и того резче – как о «гидре реакции», вновь поднимающей свою недобитую голову. Правда, сама Ахматова окажется тут ни при чем – политические взгляды и первого, и третьего мужа ее, кажется, никогда особенно не волновали. Что-то другое, свое, зорко высматривала в них. Недаром проговорилась потом Наде, жене Мандельштама, что в Петербурге ее поразил не столько успех ее первых книг, сколько «женский успех». Успех кружил голову, и я, признаюсь, уже не удивился, когда прочел недавно у Арбениной, что Гумилев называл ее не просто «притворщицей» – «артисткой». «Сидя дома, – рассказывал про жену, – завтракала с аппетитом, смеялась, и вдруг – кто-то приходит (особенно – граф Комаровский) – она падает на диван, бледнеет и на вопрос о здоровье цедит что-то трогательно-больное!..» Через несколько лет она же, разойдясь уже со вторым мужем, с Шилейко, будет, напротив, розоветь по заказу и, если надо, мгновенно «хорошеть». Такие вот женские уловки!
На «Тучке» Гумилев и Ахматова часто оставались ночевать, особенно если опаздывали на поезд в Царское. И почти всегда пикировались, подтрунивали друг над другом и надо всем легко шутили. Вышучивали даже то, что оба без особой натуги разыгрывали на публике благополучную семейную пару, хотя у обоих были романы на стороне и отношения их, несмотря на младенца-сына, оставленного в Царском, трещали по швам. Кого в этом винить – его, ее? Известно лишь, что в те дни их страшно забавляло сравнение себя с супругами Браунингами – знаменитыми английскими поэтами Робертом и Элизабет. Если не считать того, что Элизабет была намного старше мужа, то все у Гумилева с Ахматовой было похоже. Оба часто говорили об этом. Но устраивала ли Ахматову участь Элизабет, которая как поэт при жизни была известней мужа, а после смерти «уступила» славу ему? И не хотела ли она быть известней Гумилева и при жизни, и после смерти? Ведь через полвека она скажет Наталии Роскиной: «Вся Россия подражала Гумилеву, а я – нет»…
Именно на «Тучке» Лозинский помогал Ахматовой держать корректуру ее второй книги «Четки» [7]. «Делал это безукоризненно, как все, что он делал, – пишет Ахматова. – Я капризничала, а он ласково говорил: “Она занималась со своим секретарем и была не в духе…”» Потом, в старости, вспомнит, что широко пользовалась знаком, который называла «своим», – запятой-тире и Лозинский («Лозинька», как она ласково называла его) якобы здесь сказал ей про это пунктуационное «новшество»: «Вообще такого знака нет, но вам можно». Но по-настоящему смешил ее на «Тучке» Осип Мандельштам, уже не худощавый мальчик с ландышем в петлице, каким появился среди поэтов, – но по-прежнему с ресницами в полщеки. «Смешили мы друг друга так, – вспоминала Ахматова, – что падали на поющий всеми пружинами диван на “Тучке” и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в “Улиссе” Джойса… Мне ни с кем так хорошо не смеялось, как с ним!» Чему смеялись? Да хотя бы тому, как Мандельштам перевел строчку Малларме: «И молодая мать, кормящая со сна». При декламации получалось и впрямь смешно: мать выходила не матерью, а какой-то кормящей сосной!.. Впрочем, иногда Мандельштам шутил и жестоко – намекая на худобу ее, любил, например, повторять: «Ваша шея создана для гильотины…» В известном смысле шутка окажется пророческой – над Ахматовой действительно всю жизнь висел неотвратимый, пусть и умозрительный, топор…
Что еще? Видимо, отсюда Гумилев и Ахматова ходили на поэтические вечера, появлялись в салоне Вячеслава Иванова (Таврическая, 35). Именно там, на «Башне», как называли огромную квартиру Иванова и о которой я много буду рассказывать еще, Вячеслав Великолепный, как вспоминала Кузьмина-Караваева, предложил как-то устроить суд над стихами Ахматовой. «Он хотел, – писала Кузьмина-Караваева, – чтобы Блок был прокурором, а он, Иванов, адвокатом. Блок отказался… Тогда уж об одном, кратко выраженном, мнении стал он просить Блока. Блок покраснел, – он удивительно умел краснеть от смущения, – серьезно посмотрел вокруг и сказал: “Она (Ахматова. – В.Н.) пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом”». Сама Анна Андреевна, не опровергая, кстати, слов поэта, подчеркивала позже, что это было не на «Башне», а в доме Тырковой-Вильямс и, конечно, в отсутствие ее самой: Блок, сказала она, «был хорошо воспитан…»
Наконец, именно на «Тучку» напросился однажды в гости знаменитый тогда еще поэт Сергей Городецкий[8]. Ахматова сказала ему: «Приходите завтра в двенадцать», а на следующий день, забыв об этом, мирно проснулась в одиннадцать, пила кофе в постели, пока Гумилев в халате работал за столом… Но ровно в двенадцать «явился Городецкий – заглаженный, с розой» – и резким голосом стал упрекать Гумилева «за какое-то невыполненное дело». Может, оттого она и недолюбливала его потом, задолго до того, как он из ярого «патриота» стал коммунистом. Он, правда, платил тем же. Ведь известно его письмо, где еще тогда, в 1914-м, он не без яда писал: «Вчера видел Ахматовых. Мадам отощала зело, и челка до губ отросла»…
Да, иногда она пила кофе в постели на «Тучке», как дама, а иногда, как девчонка, хватала лыжи и каталась по Неве. Никто не помнит, например, Ахматову танцующей; говорят, что и на коньках не умела кататься, хотя, покопавшись в мемуарах, понимаешь, что это по меньшей мере спорно; но зато многие пишут, что любила лыжи. Каталась по Неве до Стрелки, под мостами и вдоль набережных. В это трудно поверить еще и потому, что Гумилев говорил Одоевцевой: Аня «не только в жизни, но и в стихах постоянно жаловалась на жар, бред, одышку, бессонницу и даже на чахотку». Но сам же, правда, и добавлял: «…хотя отличалась завидным здоровьем и аппетитом, и плавала, как рыба… и спала, как сурок…» А еще была сумасшедше, безумно гибкой. Помните цветаевскую строку о ней: «Вас передать одной ломаной черной линией»? Так вот, в присутствии многих свидетелей, одетая, как писала Лидия Иванова, «во что-то длинное, темное и облегающее, так что походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое существо», Ахматова могла на спор достать с пола зубами спичку, воткнутую в коробок. Могла, изогнувшись, достать пятками затылок, закинуть ногу за шею или даже, «сохраняя при этом строгое лицо послушницы», пролезть под стулом, сидя на нем и не коснувшись пола при этом. Да, да, этот «фокус» она проделывала, говорят, даже в «Бродячей собаке», но, правда, для своих и под утро, когда почти все расходились или дремали по углам в накуренном зале. Что говорить, если легендарная уже Спесивцева сказала: «Так сгибаться… у нас в Мариинском театре не умеют». Вспомним еще раз ахматовский портрет, созданный Альтманом и хранящийся ныне в Русском музее. Она на нем столь худа и угловата, что и впрямь поверишь ее словам: «В мою околоключичную ямку вливали полный бокал шампанского»…
Наконец, отсюда, с «Тучки», 15 декабря 1913 года Ахматова пошла к Блоку на Пряжку (Офицерская, 57). Помните: «Я пришла к поэту в гости…»? Месяца за три до этого она и Блок читали вместе стихи на Бестужевских курсах (10-я линия, 33). «К нам подошла курсистка со списком, – вспоминала потом Ахматова, – и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: “Александр Александрович, я не могу читать после вас”. Он – с упреком – в ответ: “Анна Андреевна, мы не тенора”». Не тенора… Не потому ли у нее и вырвется о нем нечаянно: «Трагический тенор эпохи»? Это, впрочем, будет потом. А пока она взяла с собой книги Блока, чтобы он надписал их. Через несколько дней он принесет их на «Тучку» уже надписанными, но, по его признанию, не решится позвонить в дверь Ахматовой и передаст книги дворнику, перепутав при этом номер квартиры. Короче, книги попадут к Ахматовой только 5 или 6 января 1914 года. 7 января она напишет ему: «Знаете… я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов. Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни…» На одной из книг Блок напишет: «“Красота страшна”, – Вам скажут, – // Вы накинете лениво // Шаль испанскую на плечи, // Красный розан – в волосах…» Было три редакции этого стихотворения, и все сохранились. Но через много-много лет Лидия Чуковская признается Ахматовой, что не может понять его. «А я и сейчас не понимаю, – вскрикнет в ответ Ахматова. – И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так, – она сделала ладонями отстраняющее движение: “не тронь меня”»…
Догадалась. Хотя и не знала тогда, не могла знать, живя на «Тучке», что через три месяца после их встречи, 29 марта 1914 года, мать Блока напишет в письме к знакомой своей: «Есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему (Блоку. – В.Н.) протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит… У нее уже есть, впрочем, ребенок». Ахматова, повторяю, этого не знала, но что-то такое чувствовала. В истории их отношений, строго говоря, и поныне все темно. Любовь, отвергнутость, обида – не знаю. Но отзывалась она потом о Блоке, прямо скажем, неоднозначно. Той же Чуковской сказала: «В Блоке жили два человека: один – гениальный поэт, провидец, пророк Исайя; другой – сын и племянник Бекетовых и Любин муж. “Тете не нравится”… “Маме не нравится”… “Люба сказала”». А Пунину, еще в 1923-м, говорила: «Он страшненький. Он ничему не удивлялся, кроме одного: что его ничто не удивляет, только это его удивляло». Правда, когда до нее доходили потом слухи, что у нее с Блоком был якобы роман, не отпиралась – смеялась: «Я не в обиде! Блок был таким милым, таким хорошим, что я не в обиде, если считают, что у него был со мной роман!» Но если уж хотите всю правду, то обида была, ибо, прочитав потом опубликованные «Записные книжки» его, Ахматова не скрыла разочарования: «Как известно из записных книжек Блока, – сказала, – я не занимала места в его жизни…»
…Наконец, как раз весной 1913 года, когда жила на «Тучке», она познакомилась с Николаем Недоброво – с «перламутровым мальчиком», как звали его в юности, с «аристократом духа», как позднее выразился Андрей Белый, с «домочадцем поэзии», по словам Мандельштама. Внешность его «носила очаровательные следы “дендизма” – всегда элегантно одет, блистал какой-то тончайшей манерой ухода за собой… какой-то рыцарской вежливостью, изяществом; искрился мыслями, остроумными замечаниями, оживлением». Они не могли не влюбиться, и роман их продолжался почти два года. Кстати, именно с ним Ахматова и совершала те самые долгие прогулки на лыжах. А еще «мимозный» Недоброво не только был поэтом (книга его стихов впервые издана только что), но и собирал коллекцию кружев, которую Ахматова смотреть почему-то отказывалась. Кстати, на «Тучке» он не бывал, а вот она у него бывала (Кавалергардская, 20), были какие-то семейные обеды у женатого Недоброво. (В 1952-м Ахматова и сама поселится на этой улице, которая тогда будет именоваться, конечно же, улицей Красной Конницы.)
Родословная Недоброво, говорят, восходила к Пушкину, пишут, что он был в родне с поэтом Баратынским. Про него, причисляя его к самым выдающимся людям эпохи, Анна Андреевна скажет потом: «А он, может быть, и сделал Ахматову…» Имела в виду его статью о ней – лучшую, по ее мнению. Надежда Мандельштам вспоминала: Недоброво не только занимался стихами Ахматовой, но и по мере сил «сглаживал» неистовый нрав ее, необузданность, дикость. «Аничка всем хороша, – говорил, – только вот этот жест…» – и Н.Я. довольно живописно описала одну из привычек Ахматовой, которая так шокировала «денди». Оказывается, Ахматова любила в разговоре (от возмущения, от удивления ли) ударить рукой по колену, а затем, изогнув кисть, молниеносно поднять ее ладонью вверх и сунуть собеседнику почти под нос. «Жест приморской девчонки, хулиганки и озорницы», – не без симпатии иронизировала Н.Я.
Недоброво умрет от туберкулеза в Крыму в 1919-м. Она навещала его там – целую неделю жила в 1916-м в Бахчисарае, в гостинице, где заканчивался их роман. Жена Недоброво, кстати, ревнуя мужа, считала, что именно Ахматова заразила его туберкулезом. Потом, в 1920-м, могилу Недоброво отыщет в Ялте Мандельштам. Ходили слухи, что приезжала на кладбище и Ахматова. Не знаю, так ли? Аутского кладбища в Ялте давно уже нет – на его месте городской сквер…
Впрочем, я забегаю вперед. Ведь Недоброво успел познакомить Ахматову, еще когда она жила на «Тучке», с другом своей юности Борисом Анрепом – рослым красавцем, в ту пору блестящим офицером, талантливым поэтом, но, главное, признанным уже художником – может, самой романтической влюбленностью ее.
Роман с ним, как напишет Ахматова, случится буквально «в три дня».
Но как случится – об этом вновь у следующего дома Анны Андреевны.
Вообще-то это великая тайна: как, когда и где рождаются стихи. Но вот про ахматовское стихотворение «Думали: нищие мы, нету у нас ничего…» можно сказать абсолютно точно: оно появилось на свет на мосту. Да-да, именно на Троицком мосту. И случилось это 12 апреля 1915 года.
Ахматова вспоминала: «Я написала его, когда Гумилев лежал в лазарете. Я шла к нему, и на Троицком придумала его, и сразу же в лазарете прочитала Николаю Степановичу. Я не хотела его печатать, говорила – “отрывок”, а Гумилев посоветовал именно так и напечатать…»
Ахматова шла на Петроградскую, где находился «Лазарет деятелей искусств» (Введенская, 1). Сейчас того здания нет – на его месте в 1953 году выстроен жилой дом. Детский сад, прачечная – все, как полагается. Но где-то здесь в больничной палате и лежал унтер-офицер, фронтовик, кавалер пока еще одного Георгиевского креста и муж Ахматовой – Николай Гумилев. В лазарет, кстати, попал не по поводу боевого ранения, фронтовые пули его и дальше будут облетать, – по поводу воспаления почек. Считается, что простудил их на фронте. Но так ли? Ведь он с молодости пренебрегал своим здоровьем. Художница Войтинская, например, смеялась, что он всерьез, видите ли, считал «недостойным мужчины носить калоши». Другие носили, было даже модно тогда, а он – презирал. Не отсюда ли все эти воспаления?..
Ахматова сначала ездила в лазарет из Царского Села, где они жили, а потом, чтобы быть поближе, на два месяца сняла комнату неподалеку – на Большой Пушкарской. Вот туда и отправимся, раз у нас «экскурсия», пойдем так, как ходила она…
Она шла в черном котиковом пальто – так одевалась тогда. «Тонкая, высокая, стройная… Нос с горбинкой, темные волосы на лбу подстрижены короткой челкой, на затылке подхвачены высоким испанским гребнем… Суровые глаза. Ее нельзя было не заметить. Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею», – восхищалась Ариадна Тыркова-Вильямс. Одевалась, к слову, небогато. Но кто-то (первый, кажется, Корней Чуковский) заметил, что уже к 1915 году, после выхода двух всего книг, в ней – «дикой девочке», «провинциалке» – вдруг появилась некая «величавость». Может, потому и нельзя было не заметить ее? «Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость, – пишет Чуковский, – “царственная”, монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии». А давно ли, думаешь, она, робея и краснея, написала в Москву первое письмо Валерию Брюсову: «Я была бы бесконечно благодарна Вам, если бы Вы написали мне, надо ли мне заниматься поэзией. Простите, что беспокою. Анна Ахматова» и приложила четыре стихотворения. Подписалась псевдонимом, но поэтом себя не чувствовала. Потом скрывала этот факт, особенно то, что Брюсов ей не ответил. Давно ли, расчесывая косу у окна в доме мужа и одновременно читая корректуру сборника стихов Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец», неожиданно поняла – как надо писать стихи? Наконец, давно ли боялась заглядывать в журналы, украдкой листала их в магазинах, а дома прятала под подушки, ибо и хвала, и хула в них ее первой книги казалась незаслуженной. В старости Ахматова скажет про первый сборник: «Бедные стихи пустейшей девочки…» А в 1915-м, после оглушительного успеха первых книг, удержаться от «величавости» уже не смогла. Да и кто смог бы?
Вы не поверите, но именно в 1915 году на аукционе в пользу раненых, который состоялся в Обществе поощрения художников (Б. Морская, 38), Николай Пахомов, лермонтовед, музеевед, будущий директор усадьбы «Абрамцево», чуть не сцепился с балериной Карсавиной из-за портрета Ахматовой работы Савелия Сорина. Всего-то – «подцвеченный карандаш», а сколько страсти? И только-только, за две недели до переезда на Пушкарскую, 28 марта 1915 года, ей бешено рукоплескал зал на вечере «Поэты – воинам» в нынешнем Доме офицеров (Литейный, 20). На вечере выступали Блок, Сологуб, Городецкий, Кузмин, Северянин, пела Дельмас, декламировала Мария Федоровна Андреева, а изящная Олечка Судейкина танцевала свою знаменитую полечку. Ахматова вышла на сцену с температурой под тридцать девять, но, может, потому была особенно хороша. В белом платье с воланами, с большим кружным «стюартовским» воротником (какие только входили в моду), она, сложив на груди руки, так читала стихи, что Нина Берберова, тогда четырнадцатилетняя девочка, пришедшая на концерт с матерью, вдруг, словно сомнамбула, встала и, не помня себя, пошла по проходу к эстраде. Она ведь тоже писала стихи, и Ахматова была для нее богиней; их и познакомят на этом вечере. Через шесть лет красавице Берберовой будет кружить голову Гумилев, она станет последней его любовью. Но навсегда запомнит протянутую руку Ахматовой («впечатление чего-то узкого и прохладного в моей ладони), ее «очень приятно» и нестерпимое сознание своего ничтожества [9].
Впрочем, меня поразили еще два обстоятельства этого вечера. Во-первых, в антракте Ахматова прохаживалась под руку, как с лучшей подругой, с Татьяной Адамович, у которой с Гумилевым был в разгаре трехлетний роман (и Анна Андреевна прекрасно знала о нем). А во-вторых, деньги от этого благотворительного концерта как раз и шли конкретно в помощь «Лазарету деятелей искусств», где лежал ее муж. Пока еще – муж…
К тому времени они, Гумилев и Ахматова, пребывая под одной крышей, давно не жили друг с другом – оставались друзьями. Даже Левушка, сын, не сблизил их. «Мы и из-за него ссорились… – вспоминал Гумилев. – Левушку – ему было четыре года – кто-то, кажется Мандельштам, научил идиотской фразе: “Мой папа – поэт, а моя мама – истеричка!” И Левушка однажды, когда у нас в Царском собрался “Цех поэтов”, вошел в гостиную и звонко прокричал: “Мой папа – поэт, а моя мама – истеричка!” Я рассердился, а Анна Андреевна пришла в восторг и стала его целовать: “Умница, Левушка. Ты прав. Твоя мама – истеричка”»…
Да, у Гумилева были романы, была дуэль из-за женщины с Максом Волошиным, был уже внебрачный сын Орест, которого родила ему актриса Ольга Высотская. Теперь он крутил роман с Татьяной Адамович, хотя в лазарете нежно ухаживала за ним и дочь архитектора Бенуа, с которой Гумилев флиртовал параллельно. Он был уже не тот неуклюжий и довольно слабый мальчик, нет. Теперь, как напишет Тюльпанова-Срезневская, он, «пройдя суровую кавалерийскую военную школу… сделался лихим наездником… храбрым офицером… подтянулся и благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. А улыбка и… насмешливый, но милый и не дерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравились многим и многим». Так что бесконечные амуры его неудивительны. Но ведь и у Ахматовой были сердечные привязанности. Она, как признается потом, тоже «спешила жить и ни с чем не считалась». У нее был уже красивый роман с Модильяни в Париже, какое-то романтическое приключение с Судейкиным [10], короткая, но бурная связь с юным композитором Артуром Лурье, чье семейное гнездо Ахматова, по его словам, «разорит, как коршун». Это только те избранники, про которых известно, а ведь ей порой объяснялись в любви уже при первом знакомстве. Поведав об одном таком смельчаке, Ахматова сказала однажды Георгию Адамовичу, родному брату Татьяны: «Странно, он не упомянул о пирамидах!.. Обыкновенно в таких случаях говорят, что мы, мол, с вами встречались еще у пирамид, при Рамзесе Втором, – неужели не помните?» Это, наконец, только те, кто не входил в ее «свиту». Кому она, по словам того же Лурье, имела обыкновение направо и налево раздавать «царские подарки» – перчатку, ленту, клочок корректуры, старую сумку, «старый сапог». Так шутил Лурье. Сам он, кстати, получил от нее какой-то «малиновый платок», о котором говорится в стихотворении «Со дня Купальницы-Аграфены…» (на слова этого стихотворения он напишет музыку). А что касается Гумилева, то что тут говорить; Ахматова еще до венчания с ним, дав согласие на брак, сказала четко: «Не люблю, но считаю вас выдающимся человеком». Он в ответ хладнокровно и саркастически улыбнулся (они ехали в это время в одесском трамвае) и спросил: «Как Будда или как Магомет?..»
Да, сердечные привязанности у Ахматовой были, но счастья в любви, кажется, не случилось. К 1915-му она уже успеет сказать, что «никогда не знала, что такое счастливая любовь». Тюльпанова-Срезневская напишет: «Женщины с таким свободолюбием и с таким… внутренним содержанием… счастливы только тогда, когда ни от кого… не зависят. До некоторой степени и Аня смогла это себе создать. Она не зависела от… мужа. Она… рано стала печататься и имела свои деньги. Но счастья я в ней никогда не наблюдала…»
Вот – дом на Пушкарской, где она жила, – в него буквально упирается Большая Гребецкая, ныне Пионерская улица. Дом, который назовет «пагодой» за скульптурных грифонов по фасаду, за каменных женщин в необычных хитонах и какие-то индийские, словно кегли, колонны. Только вот комнату, которую сняла здесь, теперь уже не найти. Неизвестен даже этаж, где жила.
«Весной 15 года переехала в Петербург… на Пушкарскую, – напишет потом. – Была сырая и темная комната, была очень плохая погода, и там я заболела туберкулезом, т. е. у меня сделался бронхит. Чудовищный совершенно бронхит… С этого бронхита и пошло все». Имела в виду затемнение в легких, подозрения на туберкулез – дамоклов меч семьи, от него и умирали сестры ее. Правда, с этого бронхита начался один из самых больших романов ее, и сюда она переехала уже влюбленной. Влюбленной в Анрепа.
Борису фон Анрепу Ахматова посвятит более тридцати стихотворений. Роман их растянется на два года. Пока же на Пушкарской она жила памятью о трех первых днях, проведенных с ним. «На третий он уехал». На фронт. Впрочем, зная конец истории, можно сказать: Ахматова, привыкшая «вертеть сердцами», кажется, именно с ним и потерпит сокрушительное поражение. Он умел «вертеть сердцами» лучше, он вообще был непоколебимо уверен «в том, что все они (женщины. – В.Н.) созданы исключительно для него».
Кто же такой Анреп – потомок древних эстонских пиратов, наводивших ужас на Балтике, рыцарей Ливонского ордена, чей фамильный замок стоял когда-то на реке Липе, рядом с деревней Анрепен, отпрыск аристократической семьи, которая еще в XV веке получила приставку «фон»? [11] Кто он, этот «великан с неукротимой жизненной силой, чувственный и темпераментный, склонный при этом к теоретизированию и философии»? Красавец–атлет, который, как пишет его биограф, никогда не стеснялся проявлять свои чувства – «будь то радостный хохот, вопли ярости или мрачное уныние»? И чем он так пленил Ахматову, что она и за год до смерти захочет встретиться с ним?
Всего об Анрепе не рассказать, но если коротко – петербуржец, вырос на Загородном проспекте, а с 1904 года жил с родителями и тремя братьями в отстроенном отцом шикарном доме, который и ныне стоит у Московского вокзала (Лиговский, 3). Рос в теплице: среди каминов, лепных потолков, дорогих картин, танагр из Дрездена и золотых обоев, тисненных черно-коричневыми драконами. Гимназию, где помимо латыни занимался боксом, фехтованием и танцами, окончил с серебряной медалью (там, кстати, и познакомился с Николаем Недоброво). Затем Училище правоведения (Фонтанка, 6), привилегированное учебное заведение, из которого, как шутили, был прямой путь в министры, а позже – Петербургский университет. Все вроде обычно, если не знать подробностей, в которых часто и «прячется» правда. Скажем, будучи призван в армию, он, бравый драгун, прямо на смотре, в строю перед царем, так сладко заснул в седле, что грохнулся с лошади. А художником стал, когда по настоянию своего приятеля снял сапог и нарисовал свою ногу. Да так нарисовал, что друг его – Дмитрий Стеллецкий, сам художник – был просто ошарашен! Отец, правда, узнав о намерении сына стать художником, сказал ему, что искусству посвящают жизнь только «Рафаэли и идиоты!..». А вообще, Анреп рисовал, писал стихи, недурно играл на виолончели – его энергия била через край, что не могли не чувствовать женщины. Правда, жениться его заставили. На Юнии Хитрово, дочери богатого дельца, которая занималась скульптурой. Долгая история, но если «пунктиром», то сводный брат его, Эраст (один из двух сыновей матери от первого брака), влюбленный в мать Юнии, которая торопилась выдать дочь замуж, расчетливо донес отцу, что застал Бориса и Юнию в постели. Факт такой был, они были «современными» людьми, но отец вскипел и, учитывая, что Юния – девушка из «уважаемой семьи», настоял на свадьбе сына. Молодожены уехали в Париж, где Анреп учился живописи, где познакомился с Пьером Руа, «отцом сюрреализма», с молодым еще Пикассо, потом – в Лондон, где он был принят в аристократическом салоне Оттолайн Моррелл. Там его друзьями станут уже Бертран Рассел, Вирджиния Вульф (тогда еще, впрочем, Вирджиния Стивен), Олдос Хаксли. Там же, в Лондоне, через три года после женитьбы на Юнии и за три года до встречи с Ахматовой, Анреп влюбится в певицу Хелен Мейтленд, ради которой, чтобы аккомпанировать ей, выучится играть уже на фортепьяно. Хелен станет его второй женой, переедет в его дом, родит ему дочь и сына. Но главное – подружится с Юнией, и Анреп будет жить с ними двумя, по очереди[12]. Это превратится во что-то вроде привычки: женщины будут меняться, но в доме его всегда, до его семидесятипятилетия (а умрет он в восемьдесят шесть лет), будут жить и жена, и – обязательно – новая любовница. В светских салонах на это смотрели сквозь пальцы. Тем более что сам он с каждым годом становился все более знаменит. У него ведь, еще до встречи с Ахматовой, была уже персональная выставка в Лондоне (рисунки, акварели, мозаика), а перед войной 1914 года Анрепу даже поручили работать над фресками аж в Вестминстерском дворце…
В Россию Анреп возвратился в самом начале войны. Лично обратился в русское посольство в Лондоне, решил – его место на фронте. Вернулся он с Глебом, младшим братом. Отец встретил сыновей на пороге дома на Лиговке: «Я знал, что вы вернетесь»… Но про Ахматову узнал еще в Лондоне, из переписки с Николаем Недоброво. Тот, сам поэт и к тому времени известный критик, неосторожно сообщит другу, что в стихах Ахматовой «чрезвычайно много общего» с ним, Анрепом. В апреле 1914 года Недоброво признается Анрепу: «Красивой ее назвать нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и генсборовский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего, поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии». Знал бы Недоброво, что через десятилетия, уже после смерти его, идея эта – невероятно! – будет осуществлена Анрепом просто буквально!
Анрепу при встрече с Ахматовой тридцать один год, ей – двадцать пять. Она о «трех днях» встреч с ним не пишет, но высокий, веселый, неукротимый, красивый и романтичный кавалерист, вечно в фуражке набекрень (так изображают его фотографии тех дней!), произвел на нее впечатление. Зато о знакомстве с ней пишет Анреп. «При встрече я был очарован: волнующая личность, тонкие, острые замечания, а главное – прекрасные, мучительно-трогательные стихи… Я дал ей рукопись своей поэмы “Физа” на сохранение; она ее зашила в шелковый мешочек и сказала, что будет беречь ее как святыню». Пишет, что катались в санях, обедали в ресторанах и все время он просил ее читать стихи. «Она улыбалась и напевала их тихим голосом…»
Через три дня Ахматова проводила его на фронт. Он с той минуты станет рваться к ней в каждую командировку[13]. Однажды привезет большой деревянный престольный крест, найденный в разрушенной церкви в Галиции. «Нехорошо дарить крест: это свой крест передавать. Но вы уж возьмите». Крест был с примитивной резьбой и изображал распятие. Ахматова в ответ подарит ему кольцо черного камня, из бабкиных бус, завещанных ей. Отдаст тайно, как напишет в стихах, «под скатертью»…
Это случится 13 февраля 1916 года, когда они соберутся в Царском, в доме Недоброво. Анреп, опоздав, обнимет друга и краем глаза заметит: Ахматова, сидя у стола на диване, с улыбкой наблюдает их встречу. С тайным, как пишет, «болезненным» волнением он сядет рядом с ней. Недоброво станет читать только что законченную трагедию «Юдифь», но Анреп слушает его и не слышит – не может оторвать глаз от профиля Ахматовой. Пытаясь сосредоточиться на стихах, он закрыл глаза. «Я закрыл глаза. Откинул руку на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. “Возьмите, – прошептала А.А. – Вам”. Я хотел что-то сказать… Взглянул вопросительно… Она молча смотрела вдаль…» «Кольцо, – напишет позже Анреп, – было золотое, ровной ширины, снаружи было покрыто черной эмалью, но ободки оставались золотыми. В центре черной эмали был маленький бриллиант. А.А. всегда носила это кольцо и приписывала ему таинственную силу»…
Впрочем, неведомо почему, но через какое-то время она попросит вернуть ей кольцо. Анреп заверит ее: «Ваше кольцо будет в дружеских руках…» Гумилев, узнав это, станет даже острить: «Я тебе отрежу руку, а ты отвези ее Анрепу – скажи: если вы кольцо не хотите отдавать, то вот вам рука к этому кольцу…» Жуть какая-то с этими кольцами, но все – правда. Ибо уже в начале 1920-х, когда сделают гипсовый слепок ее руки, Ахматова вдруг, ничего не объясняя, скажет Чуковскому: «Ее (руку. – В.Н.) сделают из фарфора, я напишу вот здесь: “моя левая рука” – и пошлю одному человеку в Париж». То есть Анрепу. Больше посылать вроде бы было некому…
Последний раз Ахматова видела Анрепа в начале марта 1917 года, сразу после Февральской революции. Он в тот день под пулями пришел к ней по льду Невы на Выборгскую сторону, где она жила у Тюльпановой-Срезневской (Боткинская, 9). Пришел, скажет Ахматова, «не потому, что любил», – «ему приятно было под пулями пройти». Анреп же напишет: «Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А.А. …Звоню, дверь открывает А.А. “Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах”. – “Я снял погоны”»… Пишет, что они прошли в ее комнату, что она прилегла на кушетку. Говорили о толпах на улицах, о революции, о том, чем все это закончится. Ахматова считала, что надо ждать больших перемен. «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже». Он же признается, что любит «покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред». Возможно, тогда скажет резче: «Вы глупы!..» Было-было! Потом оба замолчат. «Она опустила голову. “Мы больше не увидимся. Вы уедете”. – “Я буду приезжать. Посмотрите: ваше кольцо”. Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо на цепочке… А.А. тронула кольцо. “Это хорошо, оно вас спасет”. Я прижал ее руку к груди. “Носите всегда”. – “Да, всегда. Это святыня”, – прошептал я. Что-то бесконечно женственное затуманило ее глаза, она протянула ко мне руки. Я горел в бесплотном восторге, поцеловал эти руки и встал. А.А. ласково улыбнулась. “Так лучше”, – сказала она»[14].
Невероятно! Отказался от последних ее объятий. Почти оскорбил. А ведь она уже назвала их встречи «великой земной любовью». И он, кажется, знал эти стихи. Все объяснилось в 2003-м, когда издательство при журнале «Звезда» выпустило биографию Анрепа, написанную Аннабел Фарджен. Все встало на свои места: и мартовские даты 1917-го, и последняя встреча их, и причина, из-за которой он не кинулся в раскрытые объятия.
К Ахматовой на Боткинскую Анреп пришел после 4 марта, 4-го в Британском посольстве ему были выданы документы на выезд в Англию. Лишь после этого он заспешил к ней. Так с его слов пишет Фарджен. О выданных бумагах Анреп, возможно, даже сказал Ахматовой. Но уж точно не сказал, что и паспорта, и визы были выданы на двоих: на капитана фон Анрепа и… на гражданку Волкову.
Дело в том, что накануне, в конце февраля, а может и в день отречения царя (оно случилось, как помните, 2 марта), когда в городе еще стреляли, когда выпускали из тюрем заключенных, а к лавкам вставали за хлебом длинные очереди, в доме Анрепа на Лиговке, не изменяя правилам, приступили к семейному обеду. За столом Борис, среди прочего, пожаловался отцу и младшему брату Глебу, только что женившемуся на девушке из театральной семьи, что ему, к несчастью, надо разыскать и забрать в Лондон некую девицу. Это был приказ, отданный ему еще в Англии. Генерал Гермониус из Русского правительственного комитета в Лондоне просил его даже сопровождать эту девицу – она была чьей-то там родней… «А как ее зовут?» – вдруг спросила Ольга, жена Глеба. «Мария Волкова». – «Неужели?! – расхохоталась Ольга. – Ведь это моя сестра… Вы только подумайте!..» Разумеется, Марии тут же позвонили и пригласили на чай – знакомиться с будущим спутником… Так в двери их дома, а лучше сказать – в жизнь Анрепа вошла черкесская княжна, восемнадцатилетняя красавица с бледно-оливковой кожей и огромными темными глазами. К ней-то, в кого он сразу влюбился, и спешил Анреп, когда на Боткинской Ахматова протягивала к нему руки.
Надо ли говорить, что стоило кораблю, увозившему Бориса и Марию в Лондон, выйти в открытое море, как они стали любовниками? Страсть вспыхнула такая, что, не достигнув еще британских берегов, Анреп предложил Волковой жить с ним в своем лондонском доме. Жить, несмотря на Хелен, вторую жену его. Жить втроем. И она согласилась. Она будет рядом с ним – невероятно – сорок лет, до 1956 года, до собственной смерти.
Ахматова ничего этого, разумеется, не узнает. Как не узнает, кстати, что Анреп вновь, по делам службы, в сентябре 1917 года появится в Петрограде, но теперь то ли не зайдет к ней, то ли якобы не застанет, когда попытается навестить. Впрочем, неважно – она все равно об этом не узнает. Потом из Англии, в самый голод, Анреп пришлет Ахматовой две посылки. Она откликнется: «Дорогой Борис Васильевич, спасибо, что меня кормите». А Гумилев, оказавшись вслед за Анрепом ненадолго в Лондоне (он, кстати, тоже служил в Русском правительственном комитете, но в шифровальном отделе), сообщит Ахматовой, что Борис вспоминает о ней. «Подумайте, как Коля благороден! – скажет она о муже. – Он знал, что мне будет приятно узнать о нем…» В 1918 году Гумилев, вернувшись в Россию, привезет Ахатовой последние подарки Анрепа. Анреп вспоминал потом, как передавал их Гумилеву: «Он рвался в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Перед отъездом я просил его передать А.А. большую, прекрасно сохранившуюся монету Александра Македонского и также шелковый матерьял на платье. Он нехотя взял, говоря: “Ну что вы, Борис Васильевич, она все-таки моя жена!” Я разинул рот от удивления: “Не глупите, Николай Степанович”»…
«Он не любил вас?» – спросит Ахматову об Анрепе через несколько лет литературовед Павел Лукницкий. «Он… нет, – ответит она рассеянно, – конечно, не любил… Это не любовь была… Но он все мог для меня сделать – так вот просто…»
В Англии Анреп станет выдающимся мозаичистом. Уже в 1920-х ему не будет равных. И в 1952 году, через сорок лет после того давнего письма Недоброво, где тот предлагал изобразить Ахматову в мозаике, Анреп в вестибюле Национальной галереи в Лондоне создаст многофигурную композицию «Современные добродетели» – пятнадцать каменных «картин», и в одной из них изобразит Ахматову. Изобразит молодой, худенькой, красивой. Она будет символизировать «сострадание» – одну из добродетелей, выбранных им для композиции. Занятно, но среди добродетелей, которые Анреп изобразил, вы не найдете ни честности, ни благодарности, ни уж тем более верности в любви. Выбрал он как раз то, что было присуще только ему. Юмор, любопытство, наслаждение, непредвзятость, безрассудство, изумление и даже, представьте, – праздность. И если наслаждение, хоть и с натяжкой, можно отнести к добродетелям, то уж праздность-то точно порок. Порок библейский! Но Анреп, как и Ахматова, был таким, каким был. И, иллюстрируя достоинства человека, рядом с Ахматовой поместил не менее знаменитых современников своих: У.Черчилля, Б.Рассела, Т.С.Элиота. Изобразил, кстати, и последнюю свою любовь, Мод Рассел. Думаете, в качестве «наслаждения»? Отнюдь. «Безрассудства»! Ибо она пожертвовала на мозаику 10 000 фунтов.
А знаете, кому в мозаике «Сострадание» сострадала Ахматова? Миллионам замученных в тюрьмах и лагерях XX века! И изобразил ее Анреп рядом с ямой, заполненной трупами истощенных людей, почти скелетами. Знал и навсегда запомнил ужасы большевизма! И ведь как угадал! «Реквием» не только не был еще опубликован (у нас его напечатают только в 1987-м) – он не был еще даже закончен…
Субботним утром 1965 года, когда до смерти Ахматовой оставалось меньше года, в мастерской Анрепа в Париже раздастся телефонный звонок. Он догадается, кто это. Знал, что услышит русскую речь. «Борис Васильевич, – зарокотала трубка густым мужским голосом. – Ахматова желает говорить с вами, не отходите…» И не прошло минуты, как он услышал: «Борис Васильевич, вы?.. Я только что приехала, хочу вас видеть…»
Так пишет он. Он все знал из газет. Что ей дали почетную мантию доктора литературы в Оксфорде, что пышно чествовали в Лондоне, что она теперь «международная звезда» и лишь вчера приехала в Париж. Он даже знал от друзей, что она разыскивает его, но встречаться с ней ему, когда-то лихому кавалеристу, отважному покорителю сердец, а теперь восьмидесятидвухлетнему старику, было, словно мальчишке, страшно. Аннабел Фарджен, своему биографу, он накануне признался: «Теперь она, наверное, старая, толстая и некрасивая». Хотя боялся, скажу заранее, не этого.
Он вспоминал потом, что, поднявшись на второй этаж отеля «Наполеон», увидев ее сидящей в кресле, невольно подумал, что ни за что не узнал бы ее теперь. Перед ним и впрямь сидела грузная, но величественная дама. Он еще подумал: «Екатерина Великая». Она же про него скажет потом, что он был «как деревянный, видимо, после удара»…
– Поздравляю вас с вашим торжеством в Англии! – сказал Анреп.
– Англичане очень милы, – ответила она, – а «торжество» – вы знаете… когда я вошла в комнату, полную цветов, я сказала себе: «Это мои похороны».
Поговорили о современных поэтах (глупо!), вспомнили Недоброво (зачем?). Оба дважды испытали в разговоре неловкость. Он сказал, что Г.П.Струве, литературовед и друг его, возможно, издаст стихи Недоброво. «Струве, – откликнулась Ахматова, – но он поддерживает холодную войну, а я решительно против…» А вторая неловкость возникла, когда она по записной книжечке попыталась читать стихи. Певучее чтение ее показалось ему «вытьем» (он давно не слышал ничего подобного). И когда она спросила, что он думает о ее стихах, откликнулся почти равнодушно: «Как все – очень хорошо». – «Совсем не хорошо», – бросила она с явным раздражением…
Вот и весь, собственно, разговор. «Мы не поднимали друг на друга глаз, – вспоминала Ахматова, – мы оба чувствовали себя убийцами». О встрече она скажет только эту – одну-единственную – фразу. Он закончит свои воспоминания не менее мрачно: «На мне лежал тяжелый гробовой камень…»
Да, об одном он не сказал, а она не спросила. Она, которая хвалилась в старости, что знает о мужчинах все, она так и не догадалась, почему любимый ее при встрече был, как «деревянный». А причина была. Он, храбрец, и страшился этого последнего свидания, и ощущал себя живым в могиле лишь оттого, что пуще всего опасался: а вдруг она спросит его о кольце, о том дорогом подарке из прошлого, которое он пусть и не своей вине, но потерял…
Есть какая-то подлая закономерность: чем талантливей человек, тем тяжелей выпадает ему жизнь… Вот здесь, на Суворовской площади, у Троицкого моста, где ветер порою просто бандитски рвет на человеке одежду, я часто вспоминаю Ахматову. На это место, едва одетая, она выбегала по утрам, чтобы у случайного прохожего «раз и навсегда (на весь день) прикурить папиросу». Она жила здесь, когда спичек в городе ну просто не было. Кстати, помнила об этом всю жизнь и признавалась Лидии Чуковской, что именно это было в те годы «самым унизительным». Без папирос не могла – курила до 1951 года, до первого инфаркта, и очень много курил ее новый муж – ученый и поэт Шилейко, с которым поселилась здесь, на Миллионной, 5, в служебном флигеле знаменитого Мраморного дворца.
Сразу оговорюсь: с 1918-го и примерно до 1926 года Ахматова попеременно жила то здесь, то в Шереметевском дворце, то на Сергиевской (кстати, тоже в бывшем дворце), то в двух домах у истока Фонтанки, где мы еще побываем. Здесь же, во флигеле Мраморного[15], было устроено в те годы общежитие для ученых, в котором Владимир Казимирович Шилейко, ассириолог, специалист по древним клинописным языкам Месопотамии, ученый в духе гофмановских чудаков, и получил две маленькие комнатки на втором этаже. «Одно окно на Суворова, другое на Марсово поле». За ними, занавешенными серо-палевыми шторами, и жили недавно поженившиеся Ахматова и Шилейко. Третьим был огромный сенбернар – Тап, Таптуся, подобранный умирающим на Марсовом поле, – «безукоризненно воспитанный пес», по словам жены Мандельштама.
Отсутствие спичек – какая, казалось бы, малость. Ведь у нее из-за двух революций рухнуло все и в одночасье. Помните ее стихотворение: «Думали: нищие мы…»? Так вот, в первые годы жизни здесь, когда Ахматова (утонченная и изысканная!) в своих разваливающихся ботах шла однажды с мешком муки на плече, какая-то женщина, как рассказывала подруга Анны Андреевны, подала ей монетку, милостыню: «Прими, Христа ради!» Ахматова денежку эту спрятала за иконы – хранила. Сама вспоминала: «Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов». Росли меж каменных плит. Марсово поле вообще было сплошным огородом. А на Стрелке Васильевского – в эти примерно дни – видела глыбы замерзшего коньяка на улице – громили винные склады. Видела бурные манифестации и пожар в здании охранки, а однажды, стоя на Литейном мосту, наблюдала вообще невиданное зрелище: среди бела дня мост развели, остановились трамваи, ломовики и пешеходы – большевики пропускали миноносцы к Смольному. Кстати, тогда, на мосту, говорила, и началась ее «Поэма без героя» – первые мысли о ней.
Пройти в квартиру к Ахматовой и Шилейко можно было с Марсова, под арку. Мария Шкапская, тоже замечательный поэт, записала, как легче всего найти квартиру Ахматовой: «Войти с Миллионной в бывший Мраморный дворец и спросить у играющих во дворе детей – где живет собака Тапа». Из подворотни шла наверх лестница, которая и по сей день хранит следы былой роскоши. Тем разительней, видимо, был контраст с бытом, который окружал ее здесь. Да и с чудаковатым мужем, кого в этом качестве никто, кажется, и не признавал. Позже и она назовет это замужество «мрачным недоразумением». А тогда женитьба «горбоносого ассириолога» заставит ахнуть весь Петроград. Особенно изумились Блок, Кузмин и Чуковский. Гумилев прямо скажет ей: «Я плохой муж… Но Шилейко… катастрофа, а не муж…» [16] Не поверила. Были какие-то свои резоны у Ахматовой. И уж тем более мало что объясняет дошедшая до нас фраза: «К нему я сама пошла… Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет…»
Конечно, Шилейко, а полное имя его было Вольдемар-Георг-Анна-Мария, был по-своему гениален. Конечно, она восхищалась им и жизнь с ним рассматривала чуть ли не как великое служение великому ученому (неделями до четырех утра, при всей ненависти к процессу писания, записывала под его диктовку его же переводы). Он ведь знал, говорят, пятьдесят два языка. И если Лев Толстой в шестьдесят принялся изучать древнееврейский, то Шилейко начал учить его, представьте, в шесть лет. Амбиции были те еще – семейные: отец Шилейко, польский католик, мечтал, например, что сын станет кардиналом, не меньше. А он стал фантастическим ученым. В университете группа, в которой он учился, состояла из двух студентов, но «эта группка была отрядом передовой науки». Так говорил Шкловский. Когда Шилейко забыл внести 25 рублей за учебу, то канцелярия университета, автоматом, исключила его. Но тут же выяснилось, что тогда надо закрывать целое отделение факультета. Ведь студентов-то – двое. А если точнее, то настоящим был вообще один – он, Шилейко. Про него довольно взыскательный ученый М.В.Никольский уже тогда напишет академику П.К.Коковцову: «У нас восходит новое светило в лице Шилейко… Мне, конечно, не угнаться за этим “быстроногим Ахиллесом”».
Конечно, не угнаться: еще студенческие работы Шилейко, как свидетельствует уже Георгий Иванов, превращались в Германии в огромные увражи, о которых «немецкие профессора писали восторженные статьи». Уникум – вавилонскую клинопись читал, будто письмо от приятеля. Недаром в двадцать три года ему предлагали кафедру в Баварии! А он оставался вечным студентом, «который не сдал зачетов, унес на дом и прожег пеплом от трубки музейный папирус». «Смугл, как турок, худ, как Дон-Кихот, на его птичьем длинном носу блестят стальные очки», а на «сутулых, до горбатости, плечах болтается выгоревшая николаевская шинель с вытертыми в войлок бобрами. Дедовская шинель». Дед, от которого у внука остался золотой перстень с гербом шляхты, был, кстати, полковником русской службы, расстрелянным по приговору суда за переход на сторону мятежников в Польше.
Сам Шилейко, окончив университет в 1914-м (через год после смерти отца), получил должность ассистента в Эрмитаже. Потом был избран членом коллегии по делам музеев и членом Археологической комиссии, был награжден Большой серебряной медалью Русского археологического общества. В 1919-м станет членом Академии истории материальной культуры и профессором Археологического института, а в 1927-м – штатным профессором Ленинградского университета. Был, кстати, не католик, как отец, и первый брак его с художницей Софьей Краевской («старой, безобразной, хромой», по словам Ахматовой) был заключен по лютеранскому обряду, но не записан как брак гражданский, отчего и возникнут потом несообразности при разводе его с Ахматовой, о чем я еще расскажу. Кстати, друзьям (Гумилеву и Лозинскому), а потом и Ахматовой втолковывал, что, несмотря на первую женитьбу – остался девственником. Ахматова говорила, что «этому поверила».
Шилейко был знаком с ней – чуть ли не с 1912 года. И что-то такое с тех пор «клубилось» между ними. Это потом она назовет его в одном черновике «дурным человеком», а в начале совместной жизни книжку ему подпишет всего тремя словами: «Моему солнцу. Анна». Через год, даря уже новую книгу, почему-то напишет: «Не осуждайте меня». А в декабре 1917 года, когда Анреп, как помните, уехал уже в Лондон, а у Ахматовой почти сразу возник роман с актером студии Мейерхольда и переводчиком Григорием Фейгиным[17], на новой книге, подаренной Шилейко, появится еще одна надпись: «Моему тихому Голубю чтобы он обо мне не скучал» (даже запятую поставить забыла). И подписывалась иногда просто «Анька» – видимо, так он звал ее иногда.
Да, что-то тлело подспудно в их отношениях, и они не особенно и скрывали это. То Гумилев, когда она лечилась в Финляндии от туберкулеза, привозит ей дивный букет – как раз от Шилейко. То вдруг сама она временно, на день-два, останавливается в студенческой комнате Шилейко на Васильевском (5-я линия, 10). А то вдруг в «Бродячей собаке», баснословно знаменитом тогда кафе поэтов (Михайловская пл., 5), Шилейко, несмотря на бывшего тут же мужа ее, Гумилева, рвется под утро провожать ее. Об этом я прочел в возникших из небытия в 2008 году воспоминаниях Веры Гартевельд. «Я помню его, – пишет она о Шилейко, – высокого и худощавого, в тужурке студента университета, под мышкой толстый том персидской поэзии, который он ей (Ахматовой. – В.Н.) показывал… Как-то раз, когда Гумилев собрался уходить, Шилейко вдруг попросил у него разрешения проводить домой его жену. Гумилев рассердился и уже с порога прихожей ответил ему: “Это немыслимо. Если хотите, можете к нам прийти и оставаться с ней хоть на всю ночь”»…
Такая история. Я бы не поверил этому, они ведь все довольно тесно дружили, если бы не помнил, что в стихотворении «Косноязычно славивший меня…», которое Ахматова посвятила Шилейко в 1913-м, речь шла буквально о том же. О том, что кто-то, славивший ее в стихах (а Шилейко писал стихи – ныне они опубликованы), долго топтался на эстраде в накуренном зале, что в «путаных словах» его был слышен вопрос, почему она не стала «звездой любовной», и что, наконец, она как бы давала разрешение любить ее, припоминать и плакать. Заканчивается стихотворение двумя хлесткими строчками, но уже от имени героини: «Прощай, прощай! меня ведет палач // По голубым предутренним дорогам»… «Палач» тут – образ условный, рифма к слову «плачь», но, не зная жизни Гумилева и Ахматовой, можно было бог весть что подумать о ее муже… А вообще, Ахматова смеялась потом, что в их компании Шилейко считали святым. На что она, дескать, и купилась: «Это все Коля и Лозинский: “Египтянин, египтянин!..” – в два голоса. Ну, я и купилась…» Святой – не святой, но что-то странное, безумное, а иногда и мистическое в нем порой замечали.
Георгий Иванов вспоминал, что Шилейко позвал его как-то, еще в 1914 году, съездить с ним на Охту, к одному магу. Именно так – к магу. Но маг в миру окажется всего лишь столяром Венниковым. Ничего не объясняя Иванову, Шилейко вез этому магу (т.е. столяру!) высушенную кисть, представьте, женской руки. Венников, пишет Иванов, положив принесенное Шилейко на стол, накрыл это каким-то холстом и стал произносить заклинания: «Явись рука из-под бела платка…» «И вдруг, – изумлялся Иванов, до этого не знавший, что лежит под холстом, – совершенно отчетливо я увидел на холсте… женскую руку. Это была прелестная, живая, теплая, смуглая рука. Она шевелилась и точно тянулась к чему–то… Шилейко вскрикнул и отшатнулся. Столяр не бормотал больше. Вид у него был разбитый, изможденный, глаза мертвые, на углах рта пена». «Что же было в пакете?» – спросил Иванов у Шилейко, когда они выехали с Литейного на ярко освещенный Невский. «Как что было?.. Да ведь ты не знал. Вот смотри», – Шилейко достал портфель и вытащил ящичек, вроде сигарного, со стеклянной крышкой. Под стеклом желтела сморщенная, крючковатая лапка, бывшая когда–то женской рукой. «Такая-то принцесса, назвал Шилейко. Такая-то династия. Такой-то век до Рождества Христова. Из музея. Завтра утром положу на место. Никто не узнает…»[18]
А вообще, Иванов «тираживал» порой и явную ложь, чего я коснусь еще в дальнейшем. Он, например, в тех же мемуарах написал, что Ахматова и Шилейко венчались во Владимирском соборе: «1918 год, теплый вечер, Владимирский собор, священник, шафера, певчие. У аналоя Шилейко и Анна Ахматова…» Ничего этого, разумеется, не было, но ведь кто-то из читателей может ныне и поверить ему.
Сергей Маковский, поэт, уехавший в начале революции в эмиграцию, пишет, что, сойдясь, Ахматова и Шилейко какое-то время жили в его брошенной квартире на Ивановской (Социалистическая, 25). Может быть, хотя упоминаний об этом я больше ни у кого не встречал. Зато точно знаю, что жили сначала в Шереметевском дворце (Фонтанка, 34), Фонтанном доме, как она назовет его, но не в той квартире, где ныне музей Ахматовой, а в комнатке самого Шилейко – во флигеле наискосок. В «шумерийской кофейне», как он называл свое жилье. Он ведь поселился в Шереметевском дворце раньше Ахматовой, когда еще до революции стал роспитателем внуков графа С.Д.Шереметева. Это все, если хотите, странные и необъяснимые совпадения ее, о которых я писал. Их, между прочим, и в Мраморном будет, что называется, с лихвой. И самое главное из них – оба не только расстанутся здесь друг с другом, но здесь же встретят и новых своих возлюбленных. Шилейко – москвичку, остановившуюся в Мраморном у его соседа-искусствоведа, «графинюшку», как ласково будет называть ее в письмах, Веру Андрееву, а Ахматова – и будущего третьего мужа своего, Николая Пунина, и – почти мальчика, при встрече с которым упадет в обморок, – поэта, поклонника стихов Гумилева, путешественника и альпиниста, который еще при жизни ее назовет именем Ахматовой, правда в зашифрованном виде, одну из вершин самого Памира… Так что не без волнения поднимался я впервые в их бывшую квартиру. Еще и потому не без волнения, что ориентиры, как не часто бывало в моих поисках, были и четки, и независимы от времени: одно окно, где жил Шилейко, было, повторю, на памятник Суворову, а другое, – где находилась комната Ахматовой, – на Марсово поле.
Сейчас в двух угловых комнатках, где они обитали, какая-то контора. Равнодушные лампы дневного света, громоздкие казенные столы, компьютеры, какие–то железные шкафы и шкафчики. Стены, конечно, те же, подоконники, какие были тогда, да вид за окнами.
Где-то тут стояло ее трюмо с «овальными венецианскими зеркалами», высокий комод «с наставленным на нем фарфором», узкая этажерка. Все было, конечно, рухлядью! Когда в 1929-м она вывозила отсюда эту мебель, то какой-то прохожий, идя мимо составленного на улице скарба, бросил презрительно: «Тоже, имущество называется!» А в комнате Шилейко с обстановкой было и того хуже. Стоял большой стол, над которым висела единственная лампочка без абажура, да у наружной стены – ветхий, с торчащими пружинами диван. Но и стол, и диван, и даже пол – все устилали десятки старинных книг, раскрытых на нужных страницах, – ногу некуда было поставить. Лишь узенькая дорожка между «ассирийскими фолиантами» вела к двери в комнату жены…
В 1919-м, вспоминала Ахматова, жили бедно, без посуды, в холоде. Ни уборной, ни водопровода в квартире не было. Электричество даже в 1924-м давали гораздо позднее того, как стемнеет. Столовая была шесть шагов на шесть, передняя – четыре на два. Что еще? Деревянная перегородка выделяла из столовой еще и кухню. Вот только на «кухне» готовить было решительно нечего. Она говорила: «Три года голода. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и курева. Еду мы варили редко – нечего было и не в чем… Мне самой приходилось и топить печи, и стоять в очередях за провизией». Более того, теперь, «по разнарядке», Ахматова рыла окопы у Литейного моста да из вонючего мешка продавала на случайном базаре ржавую селедку, которую выдавали литераторам «на прокорм». На рынке ее видел поэт Владислав Ходасевич…
В 1920-м, кажется, году обратилась к Горькому: помогите устроиться на работу. «Горький, – как пишет Надежда Мандельштам, – объяснил, что служба ничего, кроме нищенского пайка, не дает, и повел ее смотреть коллекцию ковров, которую собирал тогда. Ковры, наверное, были отличные… вещи продавались за бесценок…» Ахматова глянула на них, похвалила и ушла ни с чем. Сама Ахматова о встрече с Буревестником рассказывала иначе: Горький якобы посоветовал ей обратиться в Смольный, где ей дадут переводить на итальянский прокламации Коминтерна. «Я тогда, не зная достаточно итальянского… не могла бы… переводить эти прокламации, – разволновалась Ахматова. – Да потом подумайте: я буду делать переводы, которые будут посылаться в Италию, за которые людей будут сажать в тюрьму…» Такой, видимо, был разговор. Хотя и эта версия «ковров» все-таки не исключает!..
Вообще к Шилейко, во всяком случае на первых порах, Анна Андреевна относилась ласково. Корней Чуковский, видевший их в те дни, запишет: «У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мной по телефону. К Шилейке ласково – иногда подходит и ото лба отметает волосы… С гордостью рассказывала, как он переводит стихами “с листа” – целую балладу – диктует ей прямо набело…» Шилейко относился к ней сдержанней – чтобы не сказать суровее. Когда в Мраморный, в отсутствие Ахматовой, зашли Мандельштамы, он, кивнув на сенбернара, сказал, что у него всегда найдется приют для бродячих собак, – «так было и с Аничкой». Такая вот шутка. Да и Ахматову вышучивал как-то обидно. Говорил друзьям: «Аня поразительно умеет совмещать неприятное с бесполезным». В 1960-е она вспомнит про него: «Вот он был такой… Мог поглядеть на меня, после того как мы позавтракали яичницей, и произнести: “Аня, вам не идет есть цветное”». Иногда шутил удачно: «Я не желаю видеть падение Трои, я уже видел, как Аня собирается в Москву». А иногда едко издевался над ее «безграмотностью». Да, она писала порой с поразительными ошибками: «выстовка», «оплупленный». А еще любила уменьшительные словечки. Сумочку звала «мифкой»; вместо «до свиданья» говорила «данья»; вместо письмо – «пимсо». Могла капризно, точно маленькая, сказать «домку хочется» – вместо «хочу домой»[19]. И была как бы накоротке с великими: прочитав что-то у Пушкина, могла крикнуть: «Молодец, Пушняк!» Впрочем, Шилейко не всегда издевался, иногда пророчествовал: «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфорда, помяните меня в своих молитвах!» И ведь напророчил-таки…
Мантией в Оксфорде ей покроют плечи в том числе и за «Поэму без героя». Но помните ли вы саму поэму? Тайнопись, криптограмму, «чертовню», по ее словам, поэму, которой к старости она придавала чуть ли не вселенское значение? Помните, что одно из действий ее – завязка – происходит как раз на Марсовом поле? Вернее, в доме с колоннами, который Ахматова много лет видела из окна в Мраморном дворце?
Я имею в виду дом Адамини – через Марсово поле, наискосок (Марсово поле, 7)[20]. О, там много чего происходило! И не все тайны этого дома разгаданы. Говорят, что и сама Ахматова жила там какое-то время – недолго, у Ольги Судейкиной. Это пишет Лев Карохин, исследователь. Что ж, она могла жить у подруги и день, и неделю, и месяц – ведь всегда ощущала себя бездомной. Хуже того – была бездомной…
Кстати, при советской власти в доме Адамини жили писатели В.Панова, Б.Вахтин, Я.Гордин, Ю.Герман и его сын – кинорежиссер Алексей Герман.
А вообще, дом Адамини для Ахматовой – знаковый. И прежде чем рассказать о жизни ее в Мраморном, стоит, хотя бы коротко, остановиться на нем. Вернее, на той роли, которую дом с колоннами сыграл в ее жизни.
Во-первых, в доме Адамини с 1914 года размещалось «Художественное бюро» Надежды Добычиной, о чем извещала огромная вывеска на балконе второго этажа, исполненная, кстати, Остроумовой-Лебедевой. Добычина не только выставляла у себя русский авангард, но и в просторной квартире своей устраивала порой концерты, куда приглашала Шаляпина, Стравинского, Мейерхольда, Глазунова и, конечно, поэтов – Блока, Маяковского, Есенина. Выступала у нее и Ахматова. Могла ли она не помнить этого?
Во-вторых, именно у Добычиной был выставлен впервые тот альтмановский портрет Ахматовой («зеленая мумия»), о котором я уже писал.
Наконец, в-третьих, в подвале дома Адамини в 1916 году открылось знаменитое кабаре богемы «Привал комедиантов», где Ахматова тоже бывала. Утверждала, что была только раз, но видели ее там, судя по воспоминаниям, гораздо чаще[21].
Впрочем, все это меркнет перед сердечными переживаниями Ахматовой, связанными с домом Адамини. Ибо в нем, как следует из текста «Поэмы без героя», прямо на лестнице (тогда, представьте, «пахнувшей духами») стреляется из-за безответной любви к некой «кукле-актерке» юный «гусарский корнет». Падает поперек порога любимой. И трагедия эта, как пишет Ахматова, чуть ли не мировым эхом отзывается в легкой, бесшабашной, полной эротизма жизни богемы 1913 года. По тексту поэмы и мировая война, и революция, и грядущие казни – начинаются с этого выстрела. Впору за голову хвататься: да кто же такой этот несчастный самоубийца, если такие вдруг последствия! Вот уж тайна так тайна! Имена героев в поэме, в этом «карнавале масок», в «мятелях на Марсовом поле», конечно, зашифрованы, но все их знали и знают. Ахматова и сама охотно раскрывала их в примечаниях к поэме. Корнет – это Всеволод Князев, двадцатидвухлетний поэт, который действительно застрелился. «Кукла-актерка», из-за которой он убивает себя, «коломбина десятых годов» и одна из «двойников» автора – Ольга Судейкина, тоже знаковая фигура эпохи, актриса, танцовщица, художница, обольстительница Петербурга. В Ольгу были влюблены Блок, Сологуб, Северянин, Хлебников, Георгий Иванов… Так вот, Ольга и впрямь жила в бельэтаже дома Адамини. Сначала с мужем-художником Сергеем Судейкиным, а потом (какое-то время) и втроем – с будущей женой Судейкина Верой Боссе-Шиллинг. И действительно, возвращалась домой поздно, и зачастую не одна. Это все правда. И правда, что с Судейкиной у Князева был роман. Только вот красавец Князев застрелился не в доме Адамини, а в Риге, где служил тогда, и, кажется, не из-за Ольги.
Вообще об этой истории я буду подробней говорить дальше – в главах о М.Кузмине. Но здесь скажу только, что в Риге, накануне самоубийства, он был в связи с какой-то девицей, кажется дочерью генерала, которая потребовала жениться на ней. Это на сегодня самая точная причина его выстрела в себя. Но меня в истории его смерти больше всего поразили два факта. Во-первых, что Судейкина, когда ее прямо спросили, не из-за нее ли покончил с собой Князев, ответила: «Ах, нет, к сожалению, не из-за меня…» Вот это ее «к сожалению», кажется, и есть и характеристика «вавилонских» нравов их, и плата за все «треугольники» и «четырехугольники» в любви, которые легко возникали в то безумное время. Плата за все, из-за чего, как написала о поэме Ахматова, «у современного читателя волосы бы стали дыбом»… А во-вторых, поразила роль самой Ахматовой, которая до недавнего времени была скрыта. Ведь, глядя из окна Мраморного дворца на дом Адамини, она не могла не вспоминать – возможно, не без досады! – то, о чем до смерти не проронила ни слова (она хорошо умела молчать!), то, что и сама, наравне с подругой Судейкиной, была влюблена в Князева. Вот еще почему, наверное, в поэме она называет Судейкину своим «двойником»[22]. Только Князев, добивавшийся и добившийся Судейкиной, Ахматову и ее любовь к нему не заметил. А точнее – отверг. Такая вот тайна! На это глухо намекала Надежда Мандельштам, дескать, Судейкина чуть ли не «отбила» Князева у Ахматовой. А ведь этот факт многое меняет и в поводах написания поэмы, и в толковании ее.
Не буду томить тебя, читатель. О любви Ахматовой к Князеву скажет как раз осведомленный Сергей Судейкин. Скажет в Крыму, накануне эмиграции. В «Дневнике» новой жены его, Веры Шиллинг, который опубликован только в 2006 году, он на чей-то вопрос об Ахматовой вдруг заговорит о ее «любовных неудачах». Среди имен Блока, Зубова, Лурье назовет и имя Князева. Ошибка? Вряд ли. Ведь с Блоком у Ахматовой и впрямь ничего не было. Имя графа Зубова, основателя Института истории искусств, Ахматова сама занесет в свой «донжуанский» список, когда начнет составлять его с Павлом Лукницким в Мраморном. А с Лурье, живя в Мраморном же, вновь сойдется, уйдя от Шилейко, о чем рассказ еще предстоит. Так что ее любовь к Князеву, по всей видимости, правда. Хотя она, повторяю, всю жизнь будет как бы затушевывать эту «любовь», ссылаться на «похожие» истории. Например, на самоубийство (за два года до Князева) ее поклонника Линдеберга, вольноопределяющегося артиллерийской батареи. «Всеволод (Князев) был не первым убитым и никогда моим любовником не был, – напишет в комментариях к поэме, – но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу, что они навсегда слились для меня». Странно, не так ли? Ведь если Линдеберг любил ее, а она – Князева, который ее отверг, то в чем же похожесть? Только в том, что оба застрелились? И какая тогда из двух «катастроф», простите за цинизм, стала для нее катастрофичней? Не потому ли она все чаще станет говорить и о своем желании смерти? «Заживо разлагаюсь, – смеялась в Мраморном дворце, – пора на Смоленское». И даже скажет: «Так хочется умереть!.. Когда подумаю об этом, такой веселой делаюсь!..»[23] Наконец, не потому ли и вырвутся у нее потом слова про замужество с Шилейко: «К нему я сама пошла… Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет…»
Впрочем, «черной» она успеет стать и в Мраморном дворце. Ибо здесь, будучи замужем за Шилейко, ухитрится начать сразу три романа. Один очень известный – с будущим мужем, Николаем Пуниным, второй – с Артуром Лурье, в котором опять будет соперничать с вечной подругой, Судейкиной, а третий – тайный до недавнего времени – почти с мальчиком. Если Князев, к примеру, был младше Ахматовой на три года, то он – на одиннадцать лет. Именно с ним при первой встрече в Мраморном Ахматова и упадет, как я писал уже, в обморок. Так вот имя его – Павел Лукницкий. Павлик, Павлуша…
Он появился в ее жизни внезапно. Это случилось 8 декабря 1924 года. Вечером он, долго круживший вокруг Мраморного дворца, поднялся на второй этаж и постучал в дверь квартиры Шилейко. Стучал громче, чтобы побороть робость перед ней – великим поэтом и бывшей женой Гумилева. Собственно, за материалами о Гумилеве – его идоле – и пришел: он писал курсовую о поэте в университете[24].
«Стучал долго и упорно, – вспоминал позже, – но кроме свирепого собачьего лая… никого. Ключ в двери – значит, дома кто-то есть. Подождал минут пятнадцать, собака успокоилась. Постучал еще, собака залаяла, и я услышал шаги. Открылась дверь – и я повстречался нос к носу с громадным сенбернаром. Две тонких руки из темноты оттаскивали собаку… Глубокий взволнованный голос: “Тап! Спокойно! Тап! Тап!” Собака не унималась. Тогда я шагнул в темноту, – пишет Лукницкий, – и сунул в огромную пасть сжатую в крепкий кулак руку. Тап, рыкнув, отступил, но в то же мгновенье я не столько увидел, сколько ощутил, как те самые тонкие руки медленно соскальзывали с лохматой псиной шеи, куда-то совсем вниз, и я, едва успев бросить свой портфель, схватил падающее, обессиленное легкое тело». Нащупывая ногами в полутьме свободные от книжных завалов места, он осторожно донес Ахматову до кровати… Так и познакомились – на пять долгих лет. И так начался этот скрытый на восемьдесят лет роман их.
Будущая жена Лукницкого напишет: он сразу, с первой минуты «понял… что эта женщина его, живая, она его не упустит – не отпустит. Да он и не уйдет… А там – будь что будет…»
Что мы знали об их отношениях раньше, до недавней публикации «интимного», да еще «зашифрованного» (с выдуманными именами) дневника Лукницкого? Знали, что он был «при Ахматовой» мальчиком «на посылках», верным помощником, порученцем, иногда секретарем ее, иногда фотографом – он любил и умел фотографировать. Он пять лет ходил с ней по магазинам, встречал и провожал ее, мерил ей температуру, покупал лекарства, получал по доверенности деньги (в том числе и за Шилейко), бегал, если требовалось, в жилконторы за справками, выгуливал их собаку. Даже обеды, приготовленные его матерью для Ахматовой, привозил на велосипеде, и он же ходил в Эрмитаж с сыном ее, Левой, когда того привозили из Бежецка. А однажды вообще ездил в Бежецк по ее просьбе. И при этом вел два дневника. Один, превратился в давно опубликованную книгу «Acumiana» – редкую по подробностям ежедневную запись жизни Ахматовой (более 2000 встреч), а второй стал дневником их любви, о которой до этого можно было лишь догадываться. За год до смерти Лукницкий напишет: «Эту тетрадь совершенно интимных записей, сделанных мною в 20-х годах, теперь можно раскрыть, так как все “действующие лица”, кроме меня, давно умерли». И расшифровал имена тетради, где Ахматова была Бахмутовой, Гумилев – Волевым, а Мандельштам – Мантовичем…
В первом дневнике он пишет, как она топила печь (это занятие называла «хорошим и приятным»), как приходила к нему домой (Садовая, 8) и в какой дырявой, «очень ветхой» сорочке он заставал ее в Мраморном. «И разве не позор, – возмущался в первом дневнике, – что Ахматова не имеет 7 копеек на трамвай, живет… в сырой и чуждой квартире?» Однажды он даже сказал ей об этом. Ахматова застыла и тихо, но решительно сказала: «Мы с вами тысячу раз об этом говорили, и тысячу раз я вас просила не заговаривать об этом. Идите и не провожайте меня. Каждый человек живет так, как может!..» А в другом дневнике она отнюдь не столь сурова – ласково зовет его «белоголовым», «деточкой», «милушечкой» и спрашивает: «Сладко тебе говорить мне “ты”?», «Ты меня не предашь другой девочке?» В первом дневнике пишет: «И опять скучный Тап, и опять примус… Опять бульон и курица на ночном столике АА, и она в чесучовом платье. Под одеялом, с распущенными волосами и белой-белой грудью и руками. И справа от нее на постели, у стены – книги, записки, заметки…» А в другом – что «под чесучовым платьем – ничего нет… Ушел в 3 часа… Губы хищные…»
Все началось у них спустя два месяца после встречи – 22 февраля 1925 года. В час ночи. «Складываю бумаги, – пишет он, – перекладываю с места на место на столе… “Всегда, когда час ночи, уходить надо!..”» – «Выкурим по папироске», – предлагает она. Как уж соединились их руки в ту ночь, неведомо, но, разглядывая ее жилки у кисти, он вдруг услышит – это та вена, которую вскрывают молодые девушки. И тут же на другой руке ее заметит «крестообразный, тонкий шрам». «И вы?» – изумится. «Ну конечно, – ответит она. – Кухонным грязным ножом, чтоб заражение крови… Мне шестнадцать лет было… У нас у всех в гимназии – у всех, решительно – было…» «Я встал, – пишет Лукницкий, – подошел к ней вплотную, поднял ее с кресла – легко, и отнес, положил на постель…» «Вы будете говорить, что Бахмутова вас соблазняла? – засмеялась она. – Я страшная… Я ведьма… У меня всегда глаза грустные, а сама я веселая… Ну что, ну что, ну что…»
Такой вот дневник. И это далеко не самая сокровенная сцена его. Но ведь мало кто из ахматоведов упоминает о второй ее попытке покончить с собой – первый раз хотела повеситься, как помните, в пятнадцать лет, а через год (это было в Киеве) – вдруг кухонный нож и «крестообразный шрам». И ни один до публикации этих записок не писал того, что она сказала Лукницкому, – что у нее «детей не может быть». А я к тому же был поражен еще, признаюсь, тем фактом, что она, как пишет Лукницкий, каждый день до пояса мылась водой. Он испугался – простудитесь. «Я никогда не простужаюсь, – ответила ему. – Всегда так делаю… За всю жизнь я ни разу не простудилась…» Я другим был поражен – я уже прочел, уже знал, что и Цветаева всю жизнь по утрам мылась до пояса холодной водой. Одни привычки окажутся у двух великих поэтесс…
Да, впервые Лукницкий пришел в Мраморный 8 декабря 1924 года. И ровно 8 декабря, но в 1929-м, войдет сюда в последний раз. «Судьба выдумывает страшные юбилеи», – запишет. Придет помочь ей забрать отсюда последние вещи. Из чувства долга – ибо был уже другим. За полгода до этого, в июле, его арестовали (кажется, за хранение архива Гумилева), и, хотя в тюрьме продержали лишь три дня, он выйдет из нее другим. «Я понял: мировая коммунистическая революция, которая сейчас совершается, – права и дело ее священное… Сколько драгоценного времени, энергии и сил потеряно. Все никак не мог уйти “из барских садоводств поэзии”, из “соловьиного сада”». Это от нее не мог уйти. Через тридцать три года, в 1962 году, за четыре года до ее смерти и за одиннадцать до его (он ведь и был младше ее на одиннадцать лет), они увидятся в Доме творчества в Комарове, и он назовет их прожитую жизнь «разнобережной»[25].
Впрочем, вернемся в Мраморный. Отсюда Ахматова перевезла вещи в 1929 году. Бюро, два кресла, трюмо, столик, буфетик со стеклом. Вся эта мебель, оказывается, была из дореволюционной квартиры Судейкиных, когда они жили то ли в доме Адамини, то ли по новому уже адресу (Разъезжая, 16/18). И двуспальная, кстати, кровать, которая, как выяснится позже, была «с историей». Кровать короче обычной, и Ахматова могла лежать на ней только наискосок. Почему короче? Да потому что Олечка Судейкина, расставшись с Сергеем Судейкиным, получив от него и эту кровать, и всю их совместную «стотысячную обстановку» (так не без некоторой злости скажет потом новая жена Судейкина!), став женой композитора Артура Лурье, самолично отпилит от кровати кусок. Та, видите ли, не помещалась в какую-то нишу уже их с Лурье новой квартиры. Лурье, как рассказывала Ахматова Лукницкому, рассвирепел и купил новую кровать. А эта, “отпиленная”, перешла к Ахматовой. «Что же было дальше?» – спросил ее Лукницкий. Ахматова рассмеялась: «А ничего. Их семейная жизнь тем и кончилась…»
Кончилась, добавлю, не без помощи Ахматовой. И даже не без помощи Шилейко, который оказался чудовищно, фантастически ревнив. Вообще он называл Ахматову Акумой, что переводил как «нечистая сила», хотя по-японски, по мнению переводчика И.Иваницкого, это звучит и как «уличная женщина». Видимо, двойное, тройное толкование[26]. Она же стала звать его в ответ – Букан. Когда-то, в стихах 1917 года, она ему написала о тяжелой доле быть его женой: «Ты всегда таинственный и новый, // Я тебе послушней с каждым днем. // Но любовь твоя, о друг суровый, // Испытание железом и огнем…» Позже напишет резче: «Если надо – меня убей, // Но не будь со мною суров. // От меня не хочешь детей // И не любишь моих стихов»…
Стихи ее, мне думается, он любил, и, возможно, все больше и больше. А вот ее, пожив с ней, любил, кажется, все меньше и меньше.
Сначала, еще до встречи ее с Пуниным и Лукницким, этот Букан страшно ревновал ее. Ревновал, представьте, не только к мужчинам – к стихам. Ревновал к письмам, которые принуждал, не читая, уничтожать, и даже к выступлениям ее перед публикой. Более того, из ревности он, уходя по делам из Мраморного дворца, запирал, вообразите, ворота на улицу, чтобы она не могла уйти. Как в средневековье!
А «спасали» ее из заточения в 1920-м как раз Судейкина и Артур Лурье (Лурье при советской власти стал комиссаром музотдела при Наркомпросе, который в те дни располагался – надо же! – в главном корпусе Мраморного дворца, по соседству с квартирой Шилейко). Уж как они договаривались с Ахматовой – неизвестно, но оба подходили к закрытым воротам и ждали ее… Створки этих огромных ворот целы и сегодня. Ныне их закрыть невозможно – они просто «вросли» в землю. А девяносто лет назад Акума была настолько тощей, что легко «выползала из-под ворот, как змея». На улице ее, смеясь, встречали Артур и Ольга. Факт, согласитесь, невероятный, но – красивый! Ответ Букану – «грозному» мужу! Историю эту со слов Артура приводит в своей книге И. Грэм, эмигрантская любовь Лурье…
Впрочем, я привел ее лишь потому, что Ахматова вновь сойдется с Лурье. Она уйдет от Шилейко. И начнутся ее отношения с Лурье еще здесь, в Мраморном. Правда, за четыре года до появления в жизни Ахматовой Пунина, который станет ее последним мужем, и Лукницкого.
И в Мраморном, только в квартире своего приятеля, сотрудника Академии материальной культуры Зографа, встретит свою новую любовь и Шилейко. Это гоже случится через четыре года. Встретит москвичку – Веру Андрееву[27], свою третью и последнюю жену.
Андреева приедет в Ленинград в командировку, и у нее с Шилейко вспыхнет роман. Он будет счастлив с ней, а она, пережив его на сорок лет, навсегда останется верна ему.
Ахматова ни до, ни после, увы, подобным «счастьем» похвастаться не сможет. Она как прежде – помните ее слова? – «никогда не знала, что такое счастливая любовь». Ведь даже Лукницкий, мальчишка, за два года до «идеологического» расхождения с ней, когда убежит из «барских садоводств поэзии» и «соловьиного сада», и тот напишет про нее в стихах: «И плакать не надо, и думать не надо, // Я больше тебя не хочу. // Свободна отныне душа моя, рада // Земле, и звезде, и лучу…»
Почему всегда было так – вот вопрос. Уж не потому ли, что, как признавалась раньше Ахматова, она «спешила жить и ни с чем не считалась»? Не потому ли, что, как «коршун», разоряла «чужие гнезда». Так скажет о ней Артур Лурье, который дважды за жизнь испытал на себе ее чары и который навсегда уедет от нее в эмиграцию…
Впрочем, любовь к Лурье – это новая история. И рассказ о ней – у нового дома Ахматовой.
…Жизнь ее будет еще позапутанней любого захватывающего детектива. Например, долгое время считалось, что брак ее с Шилейко был вообще мистификацией «горбоносого ассириолога». Дескать, не было официальной регистрации. Сама она на старости лет смеялась, что по тогдашним правилам, чтобы жениться, достаточно было заявить об этом в домоуправлении. Шилейко якобы сходил туда, подтвердил, что запись о браке сделана. Но когда потребовалось уведомить управдома о расторжении их брака, то этой записи не обнаружили вообще.
К счастью, это не так. На самом деле брак Ахматовой и Шилейко был заверен в декабре 1918 года нотариатом Литейной части, и был развод – в июне 1926 года[28]. Разведут их в народном суде Хамовнического района Москвы, известна даже фамилия судьи – Кремнева. Так что «мистификация» мистика Шилейко – всего лишь легенда, очередная легенда Ахматовой[29].
Но вот легенда или нет – слова, сказанные Шилейко о совместных годах их жизни? Он, который и после развода продолжал звать Ахматову в письмах «моя лебедь», «ласый Акум», «добрый слонинька», «солнышко», однажды, когда ученики спросили его: «Как вы могли бросить Анну Ахматову?» – ответил коротко и ясно: «Я нашел лучше…»
Как же туго перекручена, сплетена история иных петербургских домов! Какие поразительные пересечения случаются, как перекликаются в обычном адресе и повороты истории, и жизнь великих людей России…
Вот по этой улице, по улице Чайковского, тогда называвшейся Сергиевской, Ахматова спешила каждое утро на службу – на свою первую и, кажется, последнюю в жизни. Служила в бывшем Императорском училище правоведения (Фонтанка, 6), где учились когда-то композитор Чайковский, поэт Апухтин и любимый ею еще недавно Борис Анреп. В 1920-м именно здесь открылся Агрономический институт, в факультетскую библиотеку которого и пришла работать делопроизводителем Анна Ахматова. Потом, если верить документам, ее перевели на должность научной сотрудницы при библиотеке, а 7 февраля 1922 года уволили «по сокращению штатов».
Здесь, в библиотеке, нашел ее, к примеру, поэт Михаил Зенкевич (они знали друг друга когда-то по гумилевскому «Цеху поэтов»), «В библиотеке института тоже холодно, но не так, как в Публичной, – пишет он. – В небольшой комнате толпится кучка мужчин и женщин, одетых по-зимнему, – очевидно, библиотекари. “Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь Анну Андреевну Ахматову?” При этих словах из хмурой кучки библиотекарей отделяется высокая женщина и с улыбкой протягивает мне руку: Ахматова!.. Тут же, через коридор, ее комната с двумя высокими окнами, золоченым трюмо в простенке и большим камином. В комнате холодно, нет ни печи, ни даже буржуйки. “Затопите, пожалуйста, камин и подайте нам какао”, – отдает Ахматова распоряжение какой-то немолодой интеллигентной женщине, вероятно ухаживающей за ней из любви к стихам. Мы оба в зимних пальто усаживаемся в кресла, от дыхания идет пар, но камин вспыхивает и празднично трещит сосновыми дровами, и в руках у нас дымятся поданные на подносе фарфоровые чашечки. Да, она осталась все той же светской хозяйкой, как и в особняке, в Царском!..»
«Это какао, – скажет она Зенкевичу, – мне прислали из-за границы. Получили посылки я и Сологуб… от кого-то совсем незнакомого». Потом вдруг признается: «Последние месяцы я жила среди смертей. Погиб Коля, умер мой брат и, наконец, Блок…»
Зенкевич помолчит, а потом спросит ее: «Простите… нескромный вопрос. Но я уже слышал о начале вашего романа с Николаем Степановичем, и даже то, как он раз, будучи студентом Сорбонны, пытался отравиться из-за любви к вам, значит, мне можно знать и конец. Кто первый из вас решил разойтись – вы или Николай?» – «Нет, – ответила Ахматова, – это сделала я. Когда он вернулся из Парижа во время войны, я почувствовала, что мы чужие, и объявила ему, что нам надо разойтись. Он сказал только – ты свободна, делай, что хочешь, – но при этом страшно побледнел, так, что даже побелели губы. И мы разошлись…» Развод, как известно, случился 5 августа 1918 года. Но Гумилев, уже расставшись с ней, сказал ей о разводе: «И зачем ты все это затеяла?..»
А еще у пылавшего камина Ахматова заговорит с Зенкевичем об эмиграции, скажет, что не хочет уезжать за границу: «Зачем? Что я там буду делать? Они там все сошли с ума и ничего не хотят понимать». И только потом, но как-то буднично поведает о расстреле Гумилева: «Для меня это было так неожиданно, – скажет. – Вы ведь знаете, что он всегда был далек от политики. Но он продолжал поддерживать связи со старыми товарищами по полку, и они могли втянуть его в какую-нибудь историю. А что могут делать бывшие гвардейские офицеры, как не составлять заговоры?..» Но про лестницу, про пророческие слова свои на ней, не скажет…
Расстанется с Зенкевичем поздно, когда догорит камин. Прочтет ему только что написанные стихи о смерти Блока, скажет, что Лурье написал к ним музыку, что все это прозвучит, вероятно, на вечере памяти Блока. И – проводит до выхода на улицу, где в подъезде он, как казалось века назад, поцелует ее «узкую руку».
Эх-эх, где искать тот камин ныне? Сохранился ли он?..
В предыдущей главе я говорил, что от безумной, фантастической ревности Шилейко Ахматову «спас» Артур Лурье. Это он «решил вырвать ее, – записывал слова Ахматовой Павел Лукницкий. – За Шилейкой приехала карета скорой помощи, санитары увезли его в больницу…». «А предлог какой-нибудь был?» – задал вопрос Лукницкий. «Предлог? – переспросила Ахматова. – У него ишиас был… но его в больнице держали месяц!..»
За этот месяц Ахматова выехала из Мраморного дворца, поступила на службу в библиотеку и получила от Агрономического института казенную квартиру в двух шагах от места службы.
Адрес нового жилья ее – улица Чайковского, 7. Здесь жила с осени 1920-го по осень 1921 года. Ныне в этом здании запущенная, да простят меня нянечки и сестры заведения, убогая муниципальная больница. А тогда это был дворец – дворец князей Волконских. Но вот странность: Ахматова, кажется, нигде не сообщает, что этот дом принадлежал Волконским. Может, не знала? Ибо с тем, кто жил здесь до нее, она просто не могла не быть знакомой. Сергей Волконский, внук декабриста, в недавнем прошлом директор Императорских театров (ушедший в отставку после того, как объявил выговор «в приказе» бывшей пассии Николая II балерине Матильде Кшесинской), был давним сотрудником журнала «Аполлон»[30]. Журнала, который в числе других создавал Гумилев и в котором Ахматова и печаталась, и бывала (наб. Мойки, 24). Наверняка были знакомы, но, видимо, в слишком уж прошлой жизни! В той, где у Волконского – потомка Рюриковичей – были царские приемы в Зимнем, балы, театральные премьеры, имение в Тамбовской губернии, квартира во Флоренции, римское палаццо Боргезе. А в 1919 году он, Волконский, буквально бежал из дома на Сергиевской и под чужим именем неделю скрывался в Петрограде. Потом вспоминал, что однажды ему захотелось посмотреть на это свое здание в последний раз. «Подошел к дому, позвонил, – рассказывал он уже в эмиграции поэту Сергею Маковскому. – Двери отворил тот же мой лакей… Ахнул, когда узнал меня в моем изодранном пальтишке и панталонах с бахромой. Повел наверх, в “свои” апартаменты, т.е. бывший мой кабинет и столовую… У бывшего лакея нашлись и хлеб, и вино (я узнал бутылку из моего погреба)… На прощание… попросил взять от него “подарочек”. “Ну, что ж? Дари!” – сказал я. Тогда он открыл шкаф, вынул один из костюмов бывшего моего гардероба и поднес мне со словами: “Вот, ваше сиятельство, от меня на память. А то уж очень вы того, обтрепаны!..”»
Сегодня парадный подъезд дворца Волконских наглухо забит. Уж не с 1919-го ли года забит? Я невольно подумал об этом, когда прочел, что Ахматова, ее подруги, Осип Мандельштам, который был здесь дважды и даже привез ей весть о смерти Николая Недоброво в Ялте, – все ходили в две ее комнатки не через этот парадный подъезд – через двор, с Моховой улицы.
Жила Ахматова здесь трудно, голодно, но весело. Весело, потому что «вырвалась» от Шилейко. Вспоминала: «Когда Шилейко выпустили из больницы, он плакался: “Неужели бросишь? Я бедный, больной…” Ответила: “Нет, милый Володя, ни за что не брошу: переезжай ко мне!” Володе это очень не понравилось, – говорила она, – но переехал. Но тут уж совсем другое дело было: дрова мои, комната моя, все мое… Совсем другое положение. Всю зиму прожил. Унылым, мрачным был». Кстати, на Сергиевской и рядом – на Моховой их не раз видела Миклашевская, жена театрального режиссера. «Странная была пара, – пишет она. – Я часто сталкивалась с ними, они тоже получали паек в Доме ученых. Шилейко был страшен, чем-то похож на паука. Он шел понурый, сутулый, мрачный, неся на спине рюкзак с нашим унылым пайком. Космы длинных волос, буйная борода, огромные блуждающие глаза. Анна Андреевна шла следом, худая, бледная до восковой прозрачности, в старомодном шелковом платье, когда-то нарядном, но теперь жалком… Шла она стройной, слегка колеблющейся походкой и чем-то напоминала цыганку, случайно оказавшуюся в голодном городе и нашедшую приют у фантаста-ученого»…
Короче, «весело» жила. То есть трудно. Трудно, потому что «надорвалась от поездок» в Царское Село, к своей подруге Наталье Рыковой, той самой Рыковой, которой посвятит знаменитое свое стихотворение «Все расхищено, предано, продано…» Кстати, один критик в «Известиях» напишет тогда же, что стихотворение это архиреволюционно, поскольку посвящено жене комиссара Рыкова. Ахматова «хохотала очень», запишет Чуковский. На самом деле отец Натальи, профессор-агроном Виктор Иванович Рыков, заведовал в Царском Селе сельскохозяйственной фермой, где несколько раз гостила в голодные годы Ахматова. Возможно, именно он и устроил ее на работу в библиотеку Агрономического института. И именно от поездок к Рыковым Ахматова и валилась с ног. «Пешком на вокзал, в поезде все время – стоя… Уезжала с мешками – овощи, продукты – раз даже уголь для самовара возила… С вокзала… домой – пешком, и мешок на себе тащила…»
Однажды, 16 августа 1921 года, возвращаясь в город, вышла в тамбур покурить. Потом рассказывала: в тамбуре «стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные красные, еще как бы живые, жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. “Эта не пропадет”, – сказал один из них…»
Да, она – «королева-бродяга», как звали ее друзья, – не пропала ни в голод, ни в холод. Но пропал, был расстрелян недавний муж ее – Гумилев. Именно в этот день в вагоне третьего класса именно этого поезда она, обеспокоенная судьбой арестованного к тому времени Гумилева и пропавшего без вести брата, и написала свое полное пророческих предчувствий стихотворение «Не бывать тебе в живых…» Неизвестно только, когда это стихотворение сложилось – до того, как вышла в тамбур покурить, или после? А ведь как раз в доме на Сергиевской, где ныне больничные палаты, кровати, пилюли и горшки, Ахматова в последний раз принимала у себя Гумилева.
До этого было несколько встреч. В январе 1920-го Ахматова, например, пришла в Дом искусств (Невский, 15) получать какие-то деньги. Гумилев был на очередном заседании. Пока ждала, подошел литературовед Эйхенбаум. Ему Ахматова сказала: «Должна признаться в своем позоре – пришла за деньгами». Тот пошутил в ответ: «А я – в моем: пришел читать лекцию, и – вы видите – нет ни одного слушателя». Потом вышел Гумилев, и Ахматова, сама не понимая почему, обратилась к нему на «вы». Это так поразило Гумилева, что он прошипел: «Отойдем». Они отошли, и он начал ей выговаривать: «Почему ты так враждебно ко мне относишься? Зачем ты назвала меня на “вы”, да еще при Эйхенбауме! Может быть, тебе что-нибудь плохое передавали обо мне? Даю тебе слово, что на лекциях я если говорю о тебе, то только хорошо…»
В другой раз – уже весной 1921 года – она пришла к Гумилеву в издательство «Всемирная литература», которое располагалось тогда на Моховой (Моховая, 36), пришла, чтобы получить членский билет Союза поэтов. Опять долго ждала, чтобы он подписал билет, он был к тому времени председателем Союза поэтов. Когда же он закончил разговаривать с Блоком и стал просить у Ахматовой прощения, что заставил ее ждать, она ответила: «Ничего… Я привыкла ждать!» «Меня?» – обиделся Гумилев. «Нет, в очередях!..»
Потом виделись мимолетно еще дважды: на вечере, посвященном пушкинской годовщине, и в доме Мурузи (Литейный, 24), куда Ахматова забежала спросить адрес Немировича-Данченко… Но сам он пришел к ней в последний раз именно сюда, на Сергиевскую, ныне улицу Чайковского. Пришел по ее просьбе – она узнала, что он видел на юге, откуда вернулся, ее мать. 8 июля 1921 года попросила одну общую знакомую передать ему, что хочет видеть его, а уже 9 июля он немедля явился.
В тот день Ахматова сидела у окна во двор, когда услышала вдруг громкий крик: «Аня!» Гумилева еще не ждала, Шилейко был в санатории – больше звать было вроде бы некому. Кстати, кричать надо было обязательно – требовалось встречать гостей, ибо вход к ней на второй этаж был через этаж третий. Рассказывала: «Взглянула в окно, увидела Николая Степановича и Георгия Иванова». Рассердилась про себя, что он с Ивановым, которого давно не любила, но потом сообразила: Гумилев не мог же знать, что ее мужа, Шилейко, в это время не будет, а одному прийти к бывшей жене считалось, по их старомодным правилам, неудобным…
«Взглянула в окно…» – пишет она. В какое? Я обошел все палаты второго этажа больницы, те, что окнами во двор, – ни угадать теперь, ни найти, как не найти и той комнаты, где в последний раз говорили два поэта, чья совместная жизнь, по выражению подруги Ахматовой, Срезневской, хорошо знавшей их обоих, была «сплошным единоборством». Единоборством в любви, единоборством в творчестве.
«Каждый талантливый человек должен быть эгоистом, – сказала как-то Ахматова и добавила: – Исключения я не знаю. Талант должен как-то ограждать себя». И конечно, главным соперничеством их всю жизнь – и рискну сказать: после смерти! – было соперничество в поэзии. О, какие тонкие, но ядовитые, иногда под маской невинной шутки, иногда скрытые за какой-нибудь аналогией, а порой вообще не понятные никому, кроме них, «стрелы» выпускались ими друг в друга! Для них даже любовь, чувства были зачастую «полем битвы» за первенство в стихах. Она, например, еще будучи замужем за Гумилевым, нашла однажды в его пиджаке записку от женщины. Как вы думаете, что сказала при этом? «А все же, – сказала, – я пишу стихи лучше тебя!» И как бы с сожалением досказала потом Чуковскому: «Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный!..» Впрочем, и Гумилев не щадил ее самолюбия и частенько, когда бывал сердит, говаривал: «Ты, Аничка, поэт местного царскосельского значения…» Говорил, но как-то осторожно, остерегаясь ее. Да-да, он, храбрый кавалерист, охотник на львов, дуэлянт, на самом деле, по словам биографа, «всегда как-то боялся ее». А что касается любви их, то была ли вообще эта любовь? Надежда Мандельштам, например, в своей злой «Второй книге» напишет про Ахматову: «На старости ей почему-то понадобилось, чтобы Гумилев нес в душе неостывающую любовь к ней и только потому менял женщин, что ни одна не могла ее заменить… Его она, кажется, не любила никогда. Так, по крайней мере, считали все современники, и она этого совсем не скрывала. Зачем же ей понадобилось утверждать посмертно любовь к себе Гумилева? Она говорила, что в этом спасение Гумилева как поэта…»
И вот – эта последняя встреча. Встреча двух самолюбцев, эгоистов, двух удивительных талантов. О чем же говорили они, не зная, разумеется, что встреча – последняя? Она, например, сказала ему, вернувшемуся с Черного моря, где он мотался на миноносце по приглашению одного адмирала, что надо быть Гумилевым, чтоб в такое время, когда все как в клетках сидят, путешествовать. Похвалила, упрекнула? Гумилев даже не понял – и Георгий Иванов принялся объяснять ему мысль Ахматовой… Потом пожаловалась на Гржебина, издателя, который обманул ее, с которым хотела даже судиться. И Гумилев опять не понял ее – брякнул, что Гржебин прав, и тот же Иванов вновь стал объяснять ему, в чем тут дело, и даже пошутил: «Гржебин не прав уже по одному тому, что он Гржебин»[31].
Гумилев, повторю, видел в Крыму мать Анны Андреевны и привез бывшей жене горькую весть – сообщение о смерти одного из братьев Ахматовой. Правда, к концу разговора, забыв об этом, позвал ее на вечер поэтов в дом Мурузи. Она, разумеется, отказалась. Он обиделся слегка. Потом Ахматова сетовала: как он не понимал, что после известия о смерти брата она не могла идти веселиться? Еще Гумилев попенял ей, что она мало выступает, мало читает стихов. Ахматова отмахнулась: Шилейко запрещает… Гумилев изумился и, как вспоминала она, не поверил: Ахматовой, считал он, никто и ничего запретить не может…
Вот, собственно, и вся встреча. Последняя встреча. Если бы не одна роковая фраза Ахматовой. Вывести гостей из дома она решила не через третий этаж, как все ходили, а потайной винтовой лестницей, которая выводила прямо на улицу. Ни я, ни помогавшие мне медсестры больницы этой потайной лестницы в доме на Чайковского так и не нашли. Выяснилось, что никто и не помнил о такой. Скорей всего Ахматова имела в виду как раз парадную лестницу, выходящую к главному подъезду – тому, который «забит» ныне, – она единственная из лестниц, которую, хоть и с натяжкой, можно назвать винтовой: она спускается к выходу как бы по кругу. Впрочем, в полной темноте, да со свечой в руках, любая лестница покажется винтовой. «Лестница была совсем темная, – вспоминала Ахматова, – и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, я сказала: “По такой лестнице только на казнь ходить…”» Словно напророчила. До ареста Николая Гумилева оставалось двадцать пять дней, до расстрела – пятьдесят…
Об аресте его Ахматова узнает на Смоленском кладбище, на похоронах Блока. А о расстреле догадается – почти по губам все того же Рыкова, профессора–агронома, в Царском Селе.
В тот день вместе с Маней Рыковой, сестрой своей подруги Натальи, она сидела на балконе санатория в Царском Селе, где лечила легкие. Оттуда сверху обе и увидели возвращающегося из города профессора. Тот, заметив дочь, позвал ее. Ахматова видела, как он что-то сказал ей и Маня, всплеснув руками, закрыла ладонями лицо. Ахматова подумала, что несчастье случилось в семье Рыковых. Но взбежавшая на второй этаж Маня произнесла: «Николай Степанович…» – и Ахматова поняла все. А уже утром, на вокзале, сама прочла в первой же газете на стене приговор…
В 1958 году Ахматова напишет: «От меня, как от той графини, // Шел по лестнице винтовой, // Чтоб увидеть рассветный, синий, // Страшный час над страшной Невой…» В 1963 году скажет молодому поэту Дмитрию Бобышеву, что Гумилев «не дожил до своей славы двух дней»… А в 1921-м отсюда, из дома на Сергиевской, пошла на тайную панихиду по Гумилеву – в Казанский собор. О панихиде не объявляли, но народу собралось много: новая жена Гумилева – «Анна вторая», Лозинский, Георгий Иванов, Оцуп, Адамович, жена Блока, Одоевцева. Последняя вспоминала: «Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она – Ахматова…»
От Гумилева у Анны Андреевны останется подарок – новгородская иконка, которая будет храниться в «маленьком ящике вместе с четками, другими иконами, старой сумочкой». А месяц спустя Ахматова и сама покинет свое жилье на Сергиевской – переберется в другой дом почти по соседству, в знаменитый четвертый двор.
Дома на Фонтанке, наискосок от Летнего сада, напоминают мне иногда гордый строй знаменитых и даровитых предков наших: Олсуфьева, Кочубея, Голицына, Пашкова. Их впору, как людей, награждать – вешать ордена на фасады. За что? Да хотя бы за то, что они привечали, а порой и давали кров русским поэтам: Жуковскому, Пушкину, Батюшкову, Вяземскому. И – Ахматовой.
Она жила на Фонтанке, 18, в доме Пашковых. Жила два года. И здесь, заскочив на минутку в 1922 году, Чуковский скажет ей: «У вас теперь трудная должность: вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин – все в одном лице – даже страшно». Красиво, конечно, сказал. А ведь она была еще и молодой, хорошенькой женщиной – «ведьмушкой», как называла себя…
Да, из изысканной и поныне подворотни этого дома когда-то выпархивали две стройные женские фигурки в сопровождении темного и уже лысеющего спутника. Одна, как напишет художник Милашевский, «с челкой, другая с волосами цвета вина цинандали». Все трое жили здесь в четвертом дворе. Про этот дом Ахматова и напишет свое известное стихотворение: «А в глубине четвертого двора // Под деревом плясала детвора, // В восторге от шарманки одноногой, // И била жизнь во все колокола… // А бешеная кровь меня к тебе вела // Сужденной всем, единственной дорогой…» Двор действительно четвертый, но если считать дворы от улицы Пестеля – идти проходными дворами. А с набережной Фонтанки, от великолепной арки, этот двор – первый. Теперь в нем играют правнуки той детворы – они и шарманки-то настоящей не видели. И нет того дерева, черного тополя, – говорят, его срубили лет тридцать назад. Как вывозили распиленный ствол его, видел тогда литературовед Михаил Кралин.
Впрочем, с четвертым двором все не сразу стало ясно для меня. Еще недавно, как и многие любознательные читатели, я считал четвертый двор от Фонтанки и – терялся в догадках. Ибо не сходилось ничего. В четвертом дворе от набережной и в первом – от улицы Пестеля не было садика и деревьев, там и в 20-х годах прошлого века негде было играть детям – двор узок, как колодец. Наконец, там, как ни ищи, не было ни одного брандмауэра, в который, как известно, упирались окна 28-й, ахматовской квартиры. И – напротив, если это первый, а не четвертый двор от Фонтанки, все сразу же сходилось. Даже подъезд «в глубине» – в углу, где и ныне на верхнем этаже находится 28-я квартира. Даже, представьте, глухая кирпичная стена, тот брандмауэр, на котором расползалась когда-то зеленая плесень, рисунком своим так напоминавшая обитателям квартиры бегущую фигурку человека.
«В большом старинном доме на Фонтанке вблизи Летнего сада из окна, выходившего во двор, – вспоминал Артур Лурье, – на соседней глухой стене в сажень толщиной проступала леонардовская плесень; вглядевшись в нее, можно было отчетливо видеть силуэт в цилиндре и плаще, куда-то бегущий». Олечка Судейкина, глядя на эту тень, говорила: «Вот опять маленький Нерваль бежит по Парижу». Все… бывавшие в доме на Фонтанке, «знали и любили призрачного поэта в призрачном Петербурге…»
Да, обитатели 28-й квартиры были начитанными людьми и «тень» на стене прозвали Нервалем[32] – по имени сумасшедшего французского поэта. И «бежал» он по стене, разумеется, не куда-нибудь, а от постылой реальности – в мир потусторонних видений и галлюцинаций, которыми полон был сборник его сонетов «Химеры». А еще он так напоминал жильцам этой огромной старой, умирающей квартиры одновременно и Мандельштама, и Хлебникова – поэтов, которые, пишут, бывали здесь.
Впрочем, я, карабкаясь по черным лестницам дома в поисках этой квартиры, твердил про себя не Нерваля, а стихи Ахматовой, чудную строфу ее, которую уже вспоминал в этой книге: «Сердце бьется ровно, мерно. // Что мне долгие года! // Ведь под аркой на Галерной // Наши тени навсегда…» Стихи 1913 года были обращены к знаменитому художнику Сергею Судейкину. Она вообще написала ему несколько стихов, и что-то такое, как я уже говорил, между ними было: роман – не роман, флирт – не флирт. Но вспоминал я это стихотворение потому, что Ахматова поселилась здесь вместе с Олечкой Глебовой-Судейкиной, успевшей уже побывать замужем за Сергеем Судейкиным и Артуром Лурье – гражданским мужем Ольги. Вернее, сначала, пока Ольга была на гастролях в Вологде, поселилась временно, всего на месяц, а потом, в 1921-м, переехала сюда совсем и прожила здесь с Ольгой и Артуром до осени 1923 года. Жили в это свободное и, добавим от себя, грешное время как бы втроем. Впрочем, о Сергее Судейкине я вспомнил не только из-за Ольги.
Дело в том, что квартира, где поселилась теперь Ахматова, кажется, была изначально значительно больше, чуть ли не восемь комнат. Потом ее, видимо, разделили на две половины, одна из которых, богатая и шикарная (про чудный интерьер ее Ахматова скажет, что он был, может быть, «один из лучших», какие она видела), стала принадлежать неким Миклашевским, а вторая – «черная половина» – Олечке Судейкиной и Артуру Лурье. О том, что половина была и впрямь «черная», яснее всего «говорит» расположение кухни – через нее, как вспоминали, и проходили в комнаты. Кстати, долгое время исследователи считали, что эта «половина квартиры» была лишь служебным жильем Артура Лурье, который, если помните, после революции стал довольно большим начальником – заведующим музотделом Наркомпроса. Но Элиан Мок-Бикер, написавшая книгу о Судейкиной, утверждает, что хоромы здесь целиком, а не по «половинкам» когда-то принадлежали семье полковника Судейкина, печально известного жандармского офицера и отца первого мужа Олечки, художника Сергея Судейкина[33]. Так что Лурье даже к «черной половине» этой квартиры отношения не имел. Скорей уж права на нее были у Ольги, которая еще недавно была женой Судейкина. И даже в какой-то степени – у Ахматовой, у которой, как я уже сказал, были некие романтические отношения с Сергеем Судейкиным. Кстати, отец Ахматовой был знаком с отцом Сергея. Мало кто знает, что отец Ахматовой обращался к нему когда-то за помощью. Она сама расскажет Лукницкому, что за молодым отцом ее когда-то следила охранка. Отец пошел в жандармское отделение, нашел полковника Судейкина и прямо сказал ему: «Если за мной следят, то – пусть, но делайте это так, чтобы я этого не видел». Ахматова рассказывала, что Судейкин-старший приказал привести филера. Когда сыщик явился, спросил, ему ли поручено следить за этим человеком. А когда филер дал утвердительный ответ, Судейкин якобы поднес устрашающе к носу его могучий кулак свой… Такая вот история!
И еще одна деталь: в «расстрельном деле» Гумилева я обнаружил вдруг, что в 1919 году в этом доме, только в 15-й квартире, жил старший брат Гумилева со своей женой – тоже Анной Андреевной. Так что в изысканную арку этого дома, возможно, не раз входил и Николай Гумилев – Петербург, может, и не маленький город, но – тесный…
Что же известно ныне о четвертом дворе? Известно, что жила Ахматова на верхнем этаже, куда вела темная и пыльная черная лестница (она и сейчас такая), что в квартире, где у нее была узкая комната, несмотря на ампирную мебель и картины, зияли щели в полах, разваливалась печь и протекал потолок. Не думаю, что жить ей здесь было комфортней, чем в двух комнатках на Сергиевской. Но здесь обитал ее «спаситель» от ревнивого Шилейко, человек, который еще семь лет назад влюбился в нее и только ей играл «Орфея» Монтеверди и «Чакону» Баха. Композитор, который писал музыку на ее стихи, наконец, любовник, к которому, уже в 1921-м, ее и бросит вновь «бешеная кровь», Артур Лурье.
Настоящее имя его – Наум Лурья. Артуром, как писал поэт Бенедикт Лившиц, он сам назвался в честь Шопенгауэра. А еще любил кокетливо именовать себя Артур Винсент, в честь Ван Гога, или Артур Перси Биши, в честь Шелли. С ним у Ахматовой уже был «бурный роман» в 1914 году, после которого Лурье жаловался, что она, «как коршун», разорила его семейное гнездо… и называл ее – как и товарищ Жданов назовет многие годы спустя – «блудницей». Тогда он только-только окончил консерваторию и считал, как пишет все тот же Лившиц, что «он, Артур Винцент Лурье, призван открыть… новую эру в музыке… Эта новая музыка требовала как изменений в нотной системе… так и изготовления нового типа рояля – с двумя этажами струн и с двойной (трехцветной, что ли) клавиатурой».
Заносчив был невероятно. Когда, скажем, играл свои сочинения композитору Глазунову, тот возьми и скажи ему: «Я не понимаю их, очевидно, я не дорос». На что «юный гений» нагло ответил: «Да, очевидно, вы не доросли». А вообще, увлекался «картинками» скандального Бердслея, «дендизмом», т. е. стригся на прямой пробор, причем волосы были зеркально напомажены и «разутюжены», носил визитку – костюм этот был в моде у щеголей, а для «гала-событий» надевал отцовскую шубу с бобрами и бобровую же шапку.
«Было несколько свиданий, потом расстались», – отмахивалась позднее Ахматова, говоря про первую встречу с Лурье в 1914-м. Но так ли? Некая Ирина Грэм, одна из последних любовниц Лурье, рассказывала, что познакомились Артур и Анна – «важная молодая дама» (ей было двадцать пять) – на каком–то литературном собрании. Ныне известно, на диспуте в Тенишевском училище (Моховая, 33), который назывался «О новом слове» и случился 8 февраля 1914 года.
«Сидели рядом, за столом, покрытым зеленым сукном… Окинув своего соседа высокомерным взглядом, она (Ахматова. – В.Н.) спросила: “А сколько вам лет?” – “Двадцать один”, – так же важно ответствовал Артур… После заседания поехали в “Бродячую собаку”» (Михайловская пл., 5). И там Лурье вновь очутился за одним столом с ней. Проговорили всю ночь. Это отсюда и «стаканы ледяные» из ее стихов, и «пар над кофеем», и «друга первый взгляд, беспомощный и жуткий». Несколько раз в ту ночь к их столику подходил Гумилев: «Анна, пора домой», но она не обращала на него внимания, и Гумилев уехал один. А они с Артуром под утро отправились на острова. «Было… как у Блока, – рассказывал потом Лурье. – “И хруст песка, и храп коня”…» Это зимнее утро на Финском заливе, как пишет Ирина Грэм, определило всю дальнейшую жизнь его.
Он был женат тогда на молоденькой пианистке Ядвиге Цыбульской, снимал квартиру у неких Франк-Каменецких (Гороховая, 29), куда после первой встречи стала приходить и Ахматова. Засиживались за роялем до ночи (Артур работал тогда над романсами на ее стихи), гуляли в Летнем саду (Ахматова говорила потом, что там случались «великие события ее жизни»), ездили в Царское Село (однажды в вагон вошли два драгуна, и один из них, сняв каску, хлопнув себя по абсолютно бритой голове, сказал: «Кокос болит» – выражение это вошло потом в их обиход). Но кончилось все тем, что Ревекка Абрамовна, хозяйка квартиры на Гороховой, в отличие от жены Лурье (которая, говорят, даже дочь их назвала в честь Ахматовой – Анной), сочла затягивающиеся визиты дамы не совсем приличными для нравственного воспитания уже своей подрастающей дочери и Артуру от квартиры отказала…
Впрочем, нет, не так кончилось! Скажу странную вещь, которую и сам себе объяснить не могу, но кончилось все не так – иначе! Ровно через полвека после тех дней, 21 ноября 1964 года, Анна Ахматова чудом не погибла в автомобильной аварии как раз на Гороховой, на мосту через Мойку, рядом с тем домом. Такси, на котором она куда-то опаздывала, летело, обгоняя машины и троллейбусы на узкой Гороховой, и на крутом мостике через Мойку едва не столкнулось лоб в лоб со встречной полуторкой. Таксист, молоденький парнишка, рванул руль влево, машина выскочила на тротуар, к счастью, пустой в ту минуту… Случайность? Может быть. Но почему на Гороховой, у дома Артура Лурье? Почему ровно через полвека? Наконец, почему в тот год, когда она, через десятилетия после расставания, получила вдруг от Лурье из-за границы первое письмо? «Все твои фотографии глядят на меня весь день», – написал он. О нет, с Ахматовой я в такие случайности не верю, да и сама она никогда не верила в них: слишком часто с ней происходили подобные, почти мистические события…
А в начале 1920-х она, «ведьмушка», сама как ни в чем не бывало вернулась к Лурье и стала «сладчайшей рабой» его. Так написала в стихах. Начали жить здесь втроем с Ольгой Судейкиной – напомню, с 1910 года близкой подругой Ахматовой. Потом Ахматова скажет Нине Ольшевской, московской актрисе: «Мы не могли разобраться, в кого из нас он влюблен», – но имя Лурье не назовет. А через много лет признается: «Мы обе любили одного человека». Но кого – опять не скажет. Может, и первого мужа Ольги – художника Судейкина, может, самоубийцу Князева, а может, все-таки Лурье. Впрочем, в ее фразах стоит обратить внимание на слово «любила» – его, если не в стихах, Ахматова произносила нечасто…
Как жили тут, в четвертом дворе, известно мало. По крупицам можно собрать кое-какие сведения о тех днях из различных воспоминаний. «Немного обветшавшая, эта квартира еще хранила следы роскоши предыдущей эпохи. Особую атмосферу в ней создавали ампирная мебель и картины Сергея Судейкина». Действительно, большое полотно Судейкина «Прогулка на мельницу» видел здесь на стене художник Милашевский. Он же заметил тут стол красного дерева 1830-х годов и диван того же стиля. Ольга Арбенина-Гильдебрандт пишет, что «была очарована обстановкой комнаты». Но чьей – не сообщает. «Синие обои и желтая скатерть, – пишет она. – Картина Судейкина на стене, в золотой раме! Этажерка у дверей – на ней две чудесные куклы: сиамец и сиамка, перекинутая через плечо кавалера. Все куклы О.А. (Судейкиной. – В.Н.) были хороши, но мне эта пара казалась лучше всех. Рядом была другая комната – и там стояло псише, т.е. тройное зеркало, чашки были (вероятно, со времен Судейкина) самые трактирные, с толстыми синими ободками с золотом, и на чашках – намалеванные розовые розы… Ахматова была с царственностью, со стилем обреченности. Как будто в темном. Но говорила весьма просто… Отношения с Судейкиной дружественные… Мне казалось, в манере говорить у О.А. была легкая – очень легкая – слащавость и – как бы выразиться – субреточность – вероятно, любившей господствовать Ахматовой эта милая “подчиненность” подруги была самой приятной пищей для поддержания ее слабеющих сил…» Господствовать над подругой Ахматова, судя по всему, любила. «Я к ней хорошо относилась, – говорила потом о Судейкиной. – Хорошо… Очень…» Но мимоходом добавляла довольно ехидно, что та была необычайно остра в разговоре и этой остротой поразительно умела скрывать недостаток культурности. «Она не была культурной – нет, совсем… Но с поразительным уменьем скрывала это…»
Что еще? Например, все получали здесь академический паек, который развозился по домам на лошади. Пайки устроил Горький, и Ахматова, увидев однажды из окна въезжающую во двор лошадь с продуктами, грустно пошутила: «Вот едет горькая лошадь…» Что было в пайке? Конина, крупа, соль, табак, суррогаты жира и плитка шоколада. Когда кто-то, кажется Юрий Анненков, в разговоре с Горьким посмеялся над этой плиткой, тот задумчиво произнес: «Все люди немного дети… Революция их сильно обидела. Нужно им дать по шоколадке, это многих примирит с действительностью…» Известно еще, что домоуправление требовало с жильцов денег на ремонт крыши, причем управдом обещал, что те, кто даст их, будут на несколько месяцев освобождены от квартплаты. Ахматова, получив в это время гонорар за изданную «Белую стаю», говорила, что деньги на крышу дала, но управдома скоро сместили и обещания его, что называется, прокисли…
Наконец, известно, что жила с ними здесь некая старуха Макушина, кухарка, которая, впуская гостя, приговаривала: «Дверь у нас карактерная». Она – вот вам и «карактер»! – держала под подушкой топор, а под матрасом – единственное «сокровище» свое, юбилейную книгу «Трехсотлетие дома Романовых». Толку от нее как от кухарки было, кажется, немного. Ахматова утверждала, что и готовила, и посуду мыла, и в лавку бегала сама. «Скоро встану на четвереньки, – говорила про себя, – или с ног свалюсь». Говорила, пока кухарка, сидя на плите, штопала для нее черный чулок белыми, вообразите, нитками… К слову, у кухарки этой была племянница, которой Ахматова как-то сказала: «Знаете, не очень удобно, что вы каждый раз возвращаетесь в два часа ночи». – «Ну, Анна Андреевна, – развязно ответила девица, – вы в своем роде, и я в своем…» Наконец именно от старухи Макушиной, и, кажется, здесь, получила Ахматова прозвище “Олень”, которым потом, смеясь, даже подписывала домашние записки. И знаете, почему Олень? Кухарка считала, что две молодые женщины, Анечка да Олечка, бездельничают, – упрекнула в этом Судейкину и добавила про Ахматову: «И та тоже! Раньше хоть жужжала, а теперь распустит волосы и ходит, как олень!» Обе «оскорбленные» чуть не умерли от смеха. «Жужжанием» старуха называла вечное бормотание поэта, проговаривавшего возникавшие строчки стихов…
Кто бывал в этой квартире? Одним из первых забежал Чуковский. Комнатка маленькая, вспоминал он, большая кровать не застлана. На шкафу – на левой дверке – прибита икона Божией Матери в серебряной ризе. Возле кровати столик, на столике масло, черный хлеб. У Ахматовой на ногах плед: «Я простудилась, кашляю…» Сказала, что скоро выходят «Четки». «Ах, как я не люблю этой книги. Книжка для девочек». Потом спросила Чуковского: «Вы читали журнал “Начала”? – Нет, – сказал я, – но видел, что там есть рецензия о вас. – Ах, да! – сказала она равнодушно», но потом столько раз возвращалась к этой рецензии, что Чуковскому стало понятно – ни о чем другом она не могла и думать. Чтобы проверить свои ощущения, он сказал, что у него в студии раскол: одни за ее поэзию, другие – против, что одной слушательнице кажется позерством ее поэзия и т.д. «Это так взволновало Ахматову, – пишет Чуковский, – что она почувствовала потребность аффектировать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять челку и великосветски сказала: “Очень, очень интересно! Принесите мне, пожалуйста, почитать этот реферат…” Мне, – заканчивает Чуковский, – стало страшно жаль эту трудноживущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе – и еле живет другим…» Ахматова сварила ему кофе в кастрюле, быстро поставила столик, чудесно справилась с вьюшками печки и, наконец, сказала, что ее зовут в Москву, но Щеголев отговаривает, говорит, что там ее ненавидят и что имажинисты устроят ей скандал, а она в скандалах участвовать не умеет… «Потом, – записывает в дневник Чуковский, – старуха затопила у нее в комнате буржуйку и сказала, что дров к завтрему нет. “Ничего, – сказала Ахматова. – Я завтра принесу пилу, и мы вместе с вами напилим”»… Кстати, через месяц Чуковский вновь придет сюда уже занимать деньги: ему надо было три миллиона. Ахматова даст миллион. «Больше нет у самой. Через три-четыре дня получает в Агрономическом институте 4 миллиона. Дав мне миллион, – пишет Чуковский, – она порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала. “Это для маленькой!”» Для дочки Чуковского…
Приходил Хлебников, безнадежно влюбленный в Судейкину чуть ли не с 1915 года, но сюда ли приходил? Об этом пишет Элиан Мок-Бикер, ссылаясь на воспоминания Артура Лурье. Это он рассказывал, что тут, «во всем величии… святой бедности», нахохлившийся, как сова, пил чай с вареньем «великий Велимир». Его длинные руки – так запомнилось Лурье – торчали из коротких рукавов сюртука. Приходили Мандельштам, Сологуб (он иногда обедал здесь), Петров-Водкин, Татлин, Михаил Кузмин. «Пили чай, – писал в дневнике Кузмин. – У Ольги Афанасьевны ноты, книги, пирог с кашей, но Артур все-таки какой-то поросятка…»
Да, Артура Лурье мало кто любил. Он, например, придумал назвать свой музыкальный отдел «Народной трибуной гражданской музыки», а себя из комиссара хотел переименовать в «народного трибуна». Луначарский якобы сказал ему: «Нет, Артур Сергеевич, нам это не подходит». На Лурье, подмявшего под себя, как утверждают, все музыкальные издательства, жаловались самому Ленину Гольденвейзер и Ипполитов-Иванов[34]. Композитор Асафьев говорил, что как музыкант он все-таки даровит, но подл. И еще: «Это хамелеон-эстет». Маяковский отзовется грубее: «Всякое Лурье лезет в комиссары, от этого Лурья жизни нет». А подруга Ахматовой, одна из немногих, с кем она была на «ты», Вера Знаменская, назовет его «сальным пошляком-циником» и напишет: «До чего же мне был противен и гадок этот Артур Сергеевич!.. Не могу забыть, как… он, вытащив из кармана брюк маленькую книжку с французским текстом и гравюрками порнографического содержания, всячески старался заставить меня рассматривать с ним эти гравюры, я отворачивалась, а он ко мне приставал. Тут же была то ли Анна Андреевна, то ли Ольга Афанасьевна»… Что говорить, брат Артура и тот стыдился его поступков; того, например, что он гордился своими мужскими достоинствами и кичился близостью к Ахматовой, а сын брата – племянник композитора – звал «дядю Арта» не иначе как «врун, болтун и блядун». Ахматова же, будто не слыша осуждений, говорила Лурье: «Я – кукла ваша», звала его «Арик», иногда «горюшко», а когда сердилась – «супостат». Случалось, правда, топала на него ногами: «Тебе нужна тигрица, а не женщина!..» Артур смеялся в ответ: «Эх ты, горбоносик-глазенап…»
Однажды возмутился ее холодным отношением к Цветаевой: «Вы относитесь к Марине Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману». Шуман, как известно, боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями[35]. Но именно Лурье – это тоже правда, – жалея, заставил Ахматову бросить ее единственную службу. Говорил, что если не бросит – поскольку Ахматова была больна, – «будет приходить на службу и скандалы устраивать».
«У него любовь ко мне – как богослужение была», – признавалась позднее Ахматова. Лурье даже «ревновал ее почерк», просил, чтобы стихи в редакции она посылала написанные не от руки, а на машинке. А однажды легко «подарил» ей название пятой книги. Ахматова мучилась: как назвать, ну как? «Очень просто, – сказал Лурье и показал рукой на надпись, выбитую на фронтоне дома, мимо которого шли: “Anno Domini”». Так и назвала: «Anno Domini МСМХХI», что в переводе с латинского означало: «В Лето Господне 1921». Кстати, про сборник этот журнал «Новый мир» напишет в 1922-м: «Все написанное ею в эти годы нелепо и ничтожно. Революция пролетариата разбила цепь, а индивидуалистическую скорлупу Анны Ахматовой не одолела. “О жизнь без завтрашнего дня!” И это правда. У Ахматовой завтрашнего дня нет, не будет. Она смертник, и книга ее “Anno Domini” – “отходная”». Таких рецензий было много: Н.Алексеева, Ф.Левина, Г.Лелевича, последний будет громить и шельмовать потом М.Булгакова. Но самое ужасное, уж раз мы завели речь об этом, что и друзья ее – Эйхенбаум и даже Тынянов с их «испуганными книгами», как напишет потом Ахматова, – «губили нас и погубили политически». Более того, эйхенбаумовской формулой, сказанной насчет героини стихов Ахматовой («не то “блудницы” с бурными страстями, не то нищей монахини»), через четверть века воспользуется секретарь ЦК партии А.Жданов в своем докладе о Зощенко и Ахматовой… Да, «завтрашнего дня» у нее, кажется, действительно не было…
А что касается Лурье, то Ахматова, как бы в благодарность и за подаренное название книги, и за «богослужение ей», взялась писать для него либретто балета «Снежная маска» – по Блоку. Чуковский вспоминал: она лежала на кровати в пальто, сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. «Слушайте и не придирайтесь к стилю… Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже…» Потом станет читать Чуковскому стихи, и, когда прочтет о Блоке, он, как сам пишет, «разревется»…
Все у Артура и Анны оборвется в 1922-м, когда комиссар Лурье сбежит за границу. «Я очень спокойно отнеслась к этому, – вспоминала Ахматова. – Его пугало мое спокойствие… Когда уехал – стало так легко!.. Я как песня ходила… 17 писем написал, я ни на одно не ответила…» Правда, написала стихи: «Кое-как удалось разлучиться // И постылый огонь потушить. // Враг мой вечный, пора научиться // Вам кого-нибудь вправду любить…»
Вот так – постылый огонь! Чему же верить – стихам или жизни? Поэту или «ведьмушке»? Не знаю. Знаю только, что тогда же и тому же Чуковскому бросит вдруг невзначай: «Мужчина нужен только, чтобы родить ребенка». Это в точности ее слова.
Лурье уезжал со слезами. Умолял Ахматову приехать к нему. «Приеду, приеду, – ответила, – следующим пароходом». 17 августа провожала его. Пароход отплывал от пристани рядом с Горным институтом. И там, на пристани, она встретила неожиданно Бориса Пастернака: на том же пароходе «Гакен» он отплывал в Германию вместе с молодой женой, художницей Евгенией Лурье (однофамилицей Артура). Пастернак тоже вспомнит потом силуэт Ахматовой, который долго маячил на питерском причале…
Год прожила Ахматова в четвертом дворе с Лурье. И еще год – после. Кстати, живя здесь, встретила однажды Мариэтту Шагинян. «Уезжаю в Армению, – сказала ей та. – Навсегда. Слишком изолгалось перо». «Представляешь, – издевательски смеялась Ахматова уже в 1950-х годах в разговоре с Михаилом Ардовым, – что с этим пером сейчас?..» Все понимала. Но сама бывала зачастую совершенно беззащитна. Когда после долгого молчания ее в Доме литераторов (ул. Некрасова, 11) был объявлен вечер Ахматовой, то публика, разумеется, мгновенно раскупила билеты. И вдруг, вспоминал Георгий Иванов, в день вечера в билетную кассу является дама в пестром платке и с бельевой корзинкой в руках: «Мне два билета». – «Вы видели аншлаг, – огрызается билетерша, – все продано…» – «Но мне обещали…» – «Ничего не знаю – билетов нет…» Дама с корзинкой взрывается: «Если нет для меня билетов – я сама не приду на вечер». Кассирша язвительно улыбается: «Пожалуйста, никто не заставляет…» Дама вспыхивает и, хлопнув дверью, уходит. Надо ли говорить, что этой дамой была именно Ахматова. На счастье, заканчивает Иванов, сцену эту видел кто-то из заправил дома. Он и догнал на улице негодующего поэта, чтобы с поклонами и извинениями вручить ей ее законные авторские билеты!..
Наконец, в этом доме начался ее роман с Николаем Пуниным. Они и поцелуются впервые здесь, на черной лестнице, «в дверях милого дома на Фонтанке». Еще недавно он, похожий, по общему признанию, на молодого Тютчева, увидев ее в каком-то парке вместе с Шилейко, записывал в дневнике: «У меня к ней отношение как к настоящей; робею ее видеть». И вот уже он заносит в дневник про дом в четвертом дворе: «Сегодня пришел к Ан., холодно… совсем больна – сердце. Починил печку, потом гуляли в Летнем саду. Повеселела, стала улыбаться… Она чудесная… удивляется часто тому, к чему мы уже привыкли; как я любил эти радостные ее удивления: чашке, снегу, небу…»
Впрочем, насчет «коршуна», разорявшего чужие семьи, Лурье против правды не погрешил – Ахматова действительно это умела. Пунин был женат, у него была дочь, но Ахматову это не остановит. Нет, нет, Пунин тоже не был ангелом, тоже заглядывал, как писал в дневнике, «под каждые ресницы» и «ненасытно» искал любви. Но когда неожиданно первым получил записку от Ахматовой с приглашением в «Звучащую раковину», то, по его словам, «был совершенно потрясен». «Чтобы звать меня?..»
Впрочем, о том, где находилась «Звучащая раковина», что она из себя представляла и как произошло их первое свидание, – об этом я вновь расскажу у следующего дома Анны Андреевны.
«Как это ни странно, – сказала однажды Ахматова, – но культурность и образование женщины измеряется количеством ее любовников». Занятная мысль, хотя я замечал, что особенно нравится она самим женщинам и уже потому, думается, является верной. Не знаю, впрочем, много ли дал Ахматовой Лурье, а вот она ему, как выяснится в конце жизни, дала действительно много. Это ведь она больше десяти лет будет навещать осиротевших родителей Лурье (Владимирский пр., 5), которых сын, впрочем, как и первую жену с ребенком, в одночасье бросил (родители его замерзнут в блокаду, а брат погибнет в ополчении). Это ведь он будет писать музыку к ее стихам, забрасывать ее письмами на старости лет, и сожалеть, и плакать на чужбине до самой смерти… В жизни они не увидятся уже никогда.
Ирина Грэм напишет потом, что Пусикат – так она звала Артура – умел давать женщинам истинное «блаженство» – «мороз по коже». Напишет, что у него было множество любовниц, в том числе с челками и носами с горбинками, но в спальне его всегда стояла фотография Ахматовой[36]. И наконец, что перед смертью – а умрут Артур и Анна в один год – Лурье сказал фразу, многое объясняющую в их отношениях. Он сказал, что всю жизнь искал вторую Ахматову, пока не понял, что «двух Ахматовых не бывает»…
Помните, самый первый адрес Ахматовой – Казанскую улицу, дом 4? Помните, я говорил, что она дважды жила на этой улице – в домах, стоящих напротив друг друга? Так вот, в ноябре 1923 года она вместе с верной Ольгой Судейкиной снимет на Казанской две комнаты у друзей, только в доме №3, в 4-й квартире, на третьем этаже. И проживет здесь пять месяцев. Даже не догадываясь, что жила когда-то, тридцать два года назад, в доме напротив. Но поразительно: вспоминая время и место написания некоторых своих стихов, она иногда странным образом ошибалась и метила их не домом №3, а той, четной стороной улицы, домом ее детства: «Казанская, 4».
Дом №3 по Казанской не только мрачен внешне, он и внутренне был полон чем–то необъяснимым. Тут Ахматова написала, например, как к ней приходила муза: «Когда я ночью жду ее прихода, // Жизнь, кажется, висит на волоске. // Что почести, что юность, что свобода // Пред милой гостьей с дудочкой в руке. // И вот вошла. Откинув покрывало, // Внимательно взглянула на меня. //Ей говорю: “Ты ль Данту диктовала // Страницы Ада?” Отвечает: “Я”». Здесь, кажется, дописала самую странную свою балладу – как праздновала в одиночестве Новый год, с шестью приборами на столе для тех, кто уже не придет… Здесь три раза подряд видела во сне расстрелянного Гумилева, который являлся ей и о чем-то просил ее. Наконец, здесь вроде бы бывал Пунин. Я не упомню прямых свидетельств тому, хотя «безумие» их, по словам Пунина, длилось уже больше года…
Вообще если перебирать жизнь молодой Ахматовой по дням, то нельзя не заметить: едва ли не все большие романы ее отличали по крайней мере три ошеломляющие черты. Во-первых, она почти всегда была инициатором любовных отношений, почти всегда сама приходила к мужчине. Во-вторых, как бы ни был серьезен роман с кем-либо, у нее почти всегда возникал рядом кто-то, с кем она, как сказали бы сегодня, встречалась параллельно. И наконец, в-третьих, ее чувства к избранникам обладали каким-то странным возвратным свойством, способностью, как по спирали, возвращаться вновь к уже встреченным и отмеченным, к уже пережитым когда-то влюбленностям. Так было, рискну сказать, с Гумилевым, Шилейко, Лурье – сначала возникали какие-то неуловимо-мимолетные романтические отношения, больше похожие с ее стороны на ускользающее кокетство, а потом, иногда через несколько лет, вспыхивала любовь, но уже надолго. Так было и с Николаем Пуниным, с которым, помните, она впервые встретилась в поезде еще в 1913 году.
На самом деле, не замечая друг друга, виделись и раньше. Пунин, сын морского офицера, врача, вырос, как и Гумилев, в Царском Селе, учился в той же, что и Гумилев, гимназии, женился на Анне Аренс[37], в сестер которой был когда–то влюблен все тот же Гумилев. Сколько совпадений! Потом Ахматова и Пунин сталкивались в «Цехе поэтов», куда в 1913 году кооптировался Пунин, в журнале «Аполлон» и в «Бродячей собаке». К администрации «Собаки» Ахматова в 1914-м даже обратилась с запиской: «Рекомендую на вторник 18 февраля Николая Николаевича Пунина (литератор, сотрудник “Аполлона” и др.). Действительный ч(лен) Анна Ахматова»… Теперь же Пунин, искусствовед, водившийся с футуристами от поэзии и модернистами от живописи, кандидат в члены компартии и даже член Петросовета, в июле 1922 года вновь встречает Ахматову чтобы не расстаться с ней фактически уже никогда.
Встретились, по не очень внятным свидетельствам, когда в ресторане гостиницы «Европейская» (Михайловская, 1/7) отмечали успех авторского концерта Артура Лурье. Втроем. Пир не пир, но что-то в этом роде состоялось. Потом, в конце августа, Лурье уехал за границу, якобы в командировку. А в сентябре Ахматова, неожиданно для Пунина, шлет ему ту записку, о которой я говорил: «Я сегодня буду в “Звучащей раковине”. Приходите. Ахматова». Несколько слов всего, но слов – перевернувших его жизнь. Рядом сохранилась приписка Пунина: «Я… был совершенно потрясен… не ожидал, что Ан. может снизойти, чтобы звать меня…»
«Звучащая раковина» – это поэтическая студия, которая располагалась на Невском (Невский, 72), в доме напротив улицы Рубинштейна, тогда еще Троицкой. «Раковину» основал незадолго до гибели Николай Гумилев. Окно же комнаты, куда сходились студийцы, и сегодня легко увидеть с Невского – последний этаж, под самой крышей, широкое, куполообразное в центре. Там, в квартире знаменитого фотографа Моисея Наппельбаума (он в 1918 году сделал лучший фотопортрет Ленина, и его забрали в Москву), дочери его, стихотворки Ида и Фрида, собирали по понедельникам цвет русской литературы[38]. В это трудно поверить, но их порог переступали Гумилев, Сологуб, Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Клюев, Замятин, Зощенко, Чуковский, Георгий Иванов, Лившиц, Волынский, Тихонов, Лозинский, Адамович, Пяст, Радлова, Каверин, Соллертинский. Из Москвы наезжали порой, правда порознь, Пастернак, Маяковский и Есенин. Это если не считать пропадавших на заседаниях молодых тогда поэтов: Оцупа, Берберову, Вагинова, Юркуна, Андроникова, Одоевцеву, Хармса, Аду Оношкевич-Яцына. А вообще, если смотреть на объединение литераторов шире, тут, в студии, не просто читались стихи «по кругу». «Здесь, – вспоминала потом Ида Наппельбаум, – разрушались браки, устанавливались новые связи, зарождались и рассеивались личные тайны…» Короче, здесь – «вершились судьбы»! Близость неба обязывала. Близость в прямом смысле – ведь если не было дождя, поэты, разгоряченные спорами, мнениями и амбициями, «вываливались» всей компанией на балкон, который фактически был крышей, и их взгляду представал весь Невский – от Адмиралтейства до Московского вокзала.
Ида и Фрида вместе с матерью готовили студийцам скромные бутерброды. В центре большой комнаты, где ныне свечи, картины, статуэтки и полные ветра паруса легких занавесок, стояла когда-то грубая буржуйка с трубой, выведенной в форточку. «В комнате лежал ковер, стоял рояль и большой низкий диван, – вспоминал юный тогда Николай Чуковский. – Еще один ковер, китайский, с изображением большого дракона, висел на стене. Этому ковру придавалось особое значение, так как дракон был символом “Цеха поэтов”… Ни стола, ни стульев не было. На диване собравшиеся, разумеется, не помещались и рассаживались на многочисленных подушках вдоль стен или на полу, на ковре». Только Ахматова, «туго-туго натянув шаль на острые плечи», как вспоминают, всегда сидела на стуле, и всегда – с прямой спиной. И никогда не приходила сюда одна: сначала с Лозинским, потом с Лурье или Судейкиной, и наконец, уже в 1922-м, с Николаем Пуниным…
Пунину, думаю, не обрадовались тут. Он был здесь белой вороной. Комиссар Русского музея и Эрмитажа, вчерашний заместитель самого Луначарского[39], Пунин, по словам последнего, плодотворно работал с Советами, «навлекая ненависть… буржуазных художественных кругов». Ведь это Пунин в 1918-м в газете «Искусство Коммуны», назвал Гумилева – кумира, мэтра этих самых «кругов» – «гидрой реакции», вновь подымающей свою «битую голову». «С каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год тому назад из-под многолетнего гнета тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики, – писал он в этой статье. – Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые “критики” и читаться некоторые поэты (Гумилев, напр.). И вдруг я встречаюсь с ними снова в “советских кругах”… Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет-нет да и подымет свою битую голову…»
Каково?! Разве такое забывается? А если учесть, что 5 сентября 1918 года Советом народных комиссаров было принято постановление, разрешающее расстреливать всех «прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», то статейка эта выглядела не просто доносом – призывом подавить «эстетическую реакцию». Но потом – вот уж курбеты истории! – 3 августа 1921 года тот же Пунин вместе с ненавистным им Гумилевым был арестован по «Таганцевскому делу» – доставлен на Гороховую[40]. Правда, через месяц стараниями все того же Луначарского его выпустят. Нарком по его поводу даст телеграмму прямо Уншлихту. «Во время своей деятельности, – сообщал в ней Луначарский, – Николай Николаевич (Пунин. – В.Н.) все более сближался с коммунистами и сделался одним из главных проводников коммунизма в художественную петроградскую среду. Ни о каком предательстве с его стороны не может быть и речи. Здесь явное и весьма прискорбное недоразумение. Со своей стороны, я прошу ВЧК как можно скорее разобраться в этом деле и лично предлагаю всякое поручительство как от имени Наркомпроса, так и от моего имени по отношению к тов. Пунину…» В той же телеграмме, представьте себе, нарком подчеркивал, что поручиться за Пунина может Осип Брик – «очень ценный сотрудник ЧК». Поручились. Все поручились. Пунина выпустили, и он, осмелев, попытался даже «выцарапать» у тюремщиков свои подтяжки, которые пропали на Шпалерной. Сохранилось его заявление комиссару Особого яруса товарищу Богданову: «На подтяжках имеется надпись: “Пунин (камера 32)”». Подтяжки не нашли, сказали, что они, видимо, были переданы другому лицу, а «других на замену нет».
Вот так. У Гумилева, первого мужа Ахматовой, отберут жизнь, а Пунину последнему мужу ее, всего лишь не вернут подтяжки…
А если серьезно, если о «подменах» более важных, то нельзя не сказать: Пунин не только знал Осипа Брика, с которым выпускал газету «Искусство Коммуны», но и стал, пусть ненадолго, любовником жены Брика, вернее уже – Брика и Маяковского, любовником Лили Брик.
В дневнике своем запишет: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает… Эта “самая обаятельная женщина” много знает о человеческой любви и любви чувственной… Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве – я не мог… Если бы мы встретились лет десять назад – это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену…»
Пунин расстался с Лилей, ибо не мог вынести ее доморощенных суждений об искусстве. Виделись они в «Астории» (Б. Морская, 39), где Лиля жила с Маяковским по соседству со всем «красным начальством» Петрограда (отель был режимным). А иногда – в его «холостяцкой» комнате на Инженерной (Инженерная, 4). Кстати, в «Асторию» он и позвонил для решительного объяснения с Лилей: «Я сказал ей, что для меня она интересна только физически и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу; если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. “Не будем видеться”, – она попрощалась и повесила трубку…»[41] Все, казалось, знал про Лилю, не знал лишь, что и она, как Осип, тоже была сотрудницей ВЧК, и тоже, видимо, ценной (ныне известен даже номер ее чекистского удостоверения)… Тоже, кстати, курбеты истории! И пока поэты голодали, ходили оборванными, пока Ахматова, в единственном своем синем платье, конфузясь, просила Чуковского раздобыть крепкие штаны для Шилейко (ученого с мировым именем!), с которым сама и не жила уже, Брики в Москве подумывали о собственном автомобильчике, который им привезет-таки из-за границы Маяковский…
Ну да хватит об этом. Ведь через два месяца после последнего звонка Пунина в «Асторию», после последнего разговора с Лилей он и столкнется вдруг с Ахматовой. «Сегодня… видел Анну Ахматову с Шилейко, – запишет в дневнике. – Хорошо себя держит. У меня к ней отношение как к настоящей; робею ее видеть. Чувствую благодарность за то, что ушла от богемы и Гумилева и что не читает и не печатает сейчас стихов…» Потом – новая встреча, как я говорил уже, в ресторане «Европейской». И только уже в сентябре 1922-го Ахматова и пошлет ему ту записку с приглашением в «Раковину». Когда случилась любовь – неизвестно. Точно известно одно – 14 сентября станет их тайной датой, от которой будут отмечать свои «годовщины». Это число стоит под ее стихотворением к Пунину: «Я – голос ваш, жар вашего дыханья, //Я – отраженье вашего лица. // Напрасных крыл напрасны трепетанья, – // Ведь все равно я с вами до конца…» Тогда, видимо, она и была у него на Инженерной, где, по его словам, сидела на полу «как девушка с кувшином в Царскосельском парке»… Удивительно, но через два года, когда в жизни Ахматовой появится юный Лукницкий, она станет бывать в доме ровно напротив – на Инженерной, 2, где Лукницкий жил с родителями. Все те же «совпадения» ее! Встречаясь с Лукницким, будет обманывать Пунина, а с Пуниным – Лукницкого. Поначалу Пунин окажется менее удачливым в любви, ибо даже в августе 1925 года запишет: «Уже скоро три года, как я с отчаянием в сердце и страхом узнал сладкие твои губы, а они все так же священны, далеки, недостижимы, как тогда в дверях милого дома 18…» Имел в виду дом на Фонтанке, где мы с вами уже побывали…
Теперь Пунин часто видит ее: то идет с ней менять карточки на паек; то приглашает к себе завтракать, и когда она спрашивает: «Рад, что я пришла?» – «довольно глупо» отвечает: «Еще бы»; то, проходя мимо лихачей на углах, мечтает: «Взять бы ее, закутать в мех… и везти в снежную пыль». Он, вчера еще правоверный коммунист, бросался защищать ее даже от самого Троцкого. Когда тот в 1922 году в статье «Внеоктябрьская литература» назвал Ахматову «приблизительной поэтессой», Пунин в ответ написал свою статью «Революция без литературы», где едко прошелся по вчерашнему своему кумиру. Правда, статью его, в отличие от статьи Троцкого, так и не опубликуют. Впрочем, это и неважно: «качели любви» Пунина и Ахматовой только взлетали еще. И скрывать отношения свои от близких, от посторонних им становилось все сложней.
«Наша любовь была трудной, – писал он, после того как в очередной раз решил, что все кончилось, – ни я, ни она не смели ее обнаружить… Ей казалось, что ей не простили бы близости со мной, мне тоже. Вероятно, простили бы. Но нас действительно все разделяло: положение, ее и мое, взгляды, быт, поколения, понимание искусства, темп самой жизни, потребности ума, я еще умел ее веселить, но она никогда не могла меня утешить. Мне часто было горько и душно с ней, как будто меня обнимала, целовала смерть…»
Ах, какие письма писал он ей поначалу! Ахматова изумлялась: «Вы пишете, как нежнейший ангел». «Милая любовь моя, моя кроткая, ведь кроткая? – писал он. – Как я люблю в тебе эту склонность к бродяжничеству, к беспечной безответственности, как у православной Кармен, когда ты крестишься на встречную церковь… а такая грешница…» Или: «Смотрел, как ты ешь яблоко, на твои пальцы, и по ним мне казалось, что тебе больно; какое невозможное желание сейчас во мне: их поцеловать, их целовать; это уже не любовь, Анна, не счастье, а… страдание… Чувствуешь ли ты то же самое?» Заносил в дневник в это время: «Ты ли это, наконец, моя темная тревожная радость?.. Как я люблю тебя… Как стебель ты. Гибкая; раскрывающая губы, злые и уничтожающие, говоря слова. Гибкая гибель, правда ли?.. Ты вся такая, из которой пить любовь. И пью, все позабыв…» Или: «Ты такая, как будто, проходя, говоришь: “Пойдем со мною”, – и идешь мимо. Зачем это тебе надо?.. Куда с тобою, ну, куда с тобою, бездомная нищенка?» А на другой день, словно спохватившись, добавлял: «Нежная моя радость, долгой любви не жди. Хрупка наша близость, как ледок…»
Любил. Любил ее «зубы со скважинками… большой лоб и особенно – ее мягкие черно-коричневые волосы», но понимал: это счастье всегда будет ускользающим. Еще и потому, что она не только изменяла ему, но – признавалась в этом. Плакала, называла «мальчишка мой» и… признавалась: «Думаешь, я верная тебе?..» После этих слов той же ночью он торопливо записывал в дневнике: «Мне ли прощать ее… Эта ее измена упала куда-то на самое дно и любви не тронула… Не скажу – я простил, но – не мне прощать ангела…» Ему тридцать четыре, у него, судя по дневнику, кроме жены Ани-Гали да романа с Лилей Брик, не было никого. А ей, «ангелу», – тридцать три года, и Пунин у нее – пятнадцатая любовь, если не считать влюбленностей детских и тех, о которых никто уже так и не узнает…
Однажды Ахматова мудро заметит: верной спутницей истины обязательно является какая-нибудь страшная неожиданность. И такая неожиданность, как бы проявившая истину, случится. Более того, случится именно на Казанской, еще до переезда сюда Ахматовой и Судейкиной. Однажды, в морозный февральский вечер, Ахматова и Пунин будут спешить на извозчике в Мариинский театр, и как раз на Казанской их пролетка налетит на человека. Извозчик остановится, а человек, оказавшийся под колесами, не сразу, но приподнимется, посмотрит на них и скажет: «Ничего, ничего, поезжайте, друзья мои…»
Происшествие, несчастье – но ведь и символ. И именно в этот день, после многодневных скандалов и рыданий, жена Пунина, Аня-Галя, про которую и Ахматова скажет потом, что она «человек, который обладает очень большой добротой и милосердием», обвинит мужа в подлости и скажет, что уходит от него. Пунин почти радостно сообщит об этом Ахматовой – и почти сразу догадается, что вспыхнувшее вдруг ни с того ни с сего пристрастие ее к опере и балету объясняется всего лишь ее романтической связью с заведующим режиссерским управлением Мариинского театра Михаилом Циммерманом – к нему ездила, с ним изменяла Пунину. А скоро будет изменять уже обоим с возникшим в ее жизни Павлом Лукницким. Изменяла, как напишет в «интимном» дневнике Лукницкий, даже когда Пунин минут на двадцать выходил «прогулять» ее собаку – сенбернара Тапа…
В любовном угаре, в подозрениях, как в путах, Пунин, совсем уж как юнец, даже выследит ее. В один из дней попросит взять его с собой на «Хованщину», достать второй билет. Ахматова легко согласится. Но когда через день он, напомнив ей об этом, твердо скажет: «Хочу идти с тобой в театр», сделает, как пишет Пунин, «нервную гримасу ртом, означавшую – не приставайте, пожалуйста». «Закусив удила», Пунин помчится в «контору» театра, достанет-таки место в директорской ложе и к увертюре войдет в нее.
В первом антракте увидит Ахматову с белой косынкой на плечах, потом потеряет из виду – она не вернется на свое место в восьмом ряду. «Сердце мое стучало, тело дрожало мелкой нервной дрожью», – вспоминал позже. Гаснут огни, начинается второе действие. И вдруг, когда опустил бинокль, он увидал ее – в своей же ложе, но отделенную от него выступом стены. «В страшном волнении, – пишет Пунин, – дрожа, я спрятался за угол в складки портьеры… Затем вошел певец Левик… затем – Циммерман и встал за нею…» Ахматова скажет потом, что у Пунина было страшное лицо, а он, устав бороться, через несколько дней признается себе в дневнике: «Не любит. Нет, не любит. Как жить, чем жить?..»
Жалея Пунина, Аня, жена его, передумает уходить от него. И Ахматова не отпустит, хотя и впредь будет ездить в театр «не для театра»… На прямой вопрос Пунина – почему она не хочет расстаться с ним? – ответит, что запуталась и в качестве объяснения приведет строчку из Мандельштама: ее фразу Пунин дословно занесет в дневник: «Эта (показала на себя) ночь непоправима, а у вас (показала на меня) еще светло». После чего он и станет называть ее иногда «Ноченька»…
А вообще, жила она здесь, на Казанской, как и раньше, как и дальше будет жить, бедно, растрепанно, безбытно. Перед Новым годом к ней забежит Чуковский. «Теплого пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку “под низ”, а сверху легонькую кофточку, – вспоминал он. – Я пришел… сверить корректуру письма Блока к ней… Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке – карточки Гумилева, книжки, бумажки… Много фотографий балерины Спесивцевой – очевидно, для О.А.Судейкиной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфорового завода статуэтку танцовщицы…» Потом ехали в пятом трамвае. Чуковский купил яблок и предложил одно Ахматовой. Она сказала: «На улице я есть не буду… вы дайте, я съем на заседании». В трамвае оказалось, что у нее не хватает денег на билет (он стоил 50 миллионов, а у Ахматовой было лишь пятнадцать). Чуковский улыбнулся: «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет»…
Зайдет сюда, на Казанскую, и москвичка поэтесса Софья Парнок. «Очень ее удивило, – писал Горнунг, – что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый…» В Москве, видать, так стихов не писали – там священнодействовали! Наконец, здесь, на Казанской улице, Мандельштам познакомит Ахматову со своей женой, которую впервые привезет из Москвы.
«В первый раз мы шли к Ахматовой пешком, – вспоминала Надежда Мандельштам. – Мандельштам топорщился…» – шел неохотно. Во-первых, помнил твердую просьбу Ахматовой, когда не так давно он стал слишком назойлив, пореже бывать у нее – он называл это «ахматовские штучки». Во-вторых, боялся встречи из-за двух выступлений своих в печати, где Ахматову обидел, сказав о ее якобы «столпничестве на паркетине». А в-третьих, в-третьих, опасался, как встретит она его Надю[42].
«Опасения оказались напрасными, – пишет Н.Мандельштам, – Ахматова выбежала в переднюю, искренно обрадованная гостям. Я запомнила слова: “Покажите мне свою Надю. Я давно про нее слышала…” Мы пили чай, и Мандельштам окончательно оттаял. Они говорили о Гумилеве, и она рассказала, будто нашли место, где его похоронили… Оба называли Гумилева Колей… Потом Ахматова спросила Мандельштама про стихи и сказала: “Читайте вы первый – я люблю ваши стихи больше, чем вы мои”. Вот они – “ахматовские уколы”: чуть-чуть кольнуть, чтобы все стало на место. Это был, – заканчивает Надежда Яковлевна, – единственный намек на статьи Мандельштама»…
Ахматова, как напишет потом Надежда Мандельштам, вообще-то ненавидела писательских жен. Надежда Яковлевна удивлялась еще – почему она сделала исключение для нее? Обе они действительно подружатся на всю жизнь. Но произойдет это через год и уже в другом доме Ахматовой – последнем ее доме из тех, о которых я хотел бы рассказать в этой книге.
…Дом на Казанской, как узнал я недавно, и через двадцать лет спасет Ахматову. Когда в 1946 году ее после убийственного доклада Жданова и постановления ЦК лишат продуктовых карточек, а потом также неожиданно вернут их, она с ними нигде не сможет «прикрепиться». На старом месте, в гастрономе на Михайловской, Ахматову не примут. И тогда, перебрав все варианты, она наконец сможет это сделать в единственном месте – в магазине на Казанской, к тому времени ставшей улицей Плеханова. Больше того – в доме №3, где жила когда-то.
Только там сможет купить вместо хлеба, не отоваренного в течение месяца, несколько килограммов муки… По тем временам большая удача!..
Это окно на Неву – шестое от угла, где Фонтанка сливается с Невой, – уже навсегда останется «окном Ахматовой». Там сейчас какая-то фирма, завтра, возможно, будет другая, но, пока этот дом не взорвут или пока он не рухнет, мы будем помнить – на этом подоконнике первого этажа часами любовалась закатами и Невой Ахматова.
Здесь, в доме Бауэра[43], вставшего когда-то на месте царских прачечных, с марта по ноябрь 1924 года и жила она с неизменной Судейкиной. Жила, точней, Ольга Судейкина с неизменной «Анкой»: квартиру от фарфорового завода дали Судейкиной – она делала там фарфоровые статуэтки. Она ведь не только была «петербургской куклой, актеркой», но и не менее знаменитой «кукольницей», великолепной художницей и скульпторшей. В анкете, которую Ольге придется заполнять во Франции, куда она скоро уедет, напишет про себя: «артистка-художница». А на фарфоровый завод ее, кажется, устроит скульптором именно Пунин, ставший там не то главным художником, не то художественным директором. Может, потому «Анке» досталась здесь маленькая и узкая комната, а Ольге – большая и светлая. Зато у Ахматовой было окно на Неву, а у Ольги – во двор, на грядки, которые в тот год разбивали здесь их соседи по дому.
Шестое окно… Что бы Ахматова увидела из него сегодня? «Аврору» на приколе. Тогда она «Аврору» не видела, но, думаю, помнила о ней. Ведь на «Авроре» в самую революцию был, по слухам, ее брат – гардемарин Виктор Горенко. Она знала, что офицеров корабля восставшие матросы топили. К счастью, это оказалось всего лишь слухами[44]. Брату Ахматовой удалось избежать смерти, она узнала потом, что он вместе якобы с внуком Льва Толстого Ильей пробрался в Сибирь к Колчаку, потом жил на Сахалине, а затем уехал в эмиграцию. Может, потому Ахматова чуть ли не до старости с некоторым испугом говорила, что брата у нее нет…
Не могла она видеть раньше из шестого окна и телебашни на горизонте. Ахматова, кстати, и в молодости с подозрением относилась к технике: опасалась машин, боялась лифтов. А в 1924-м, как пишет Лукницкий, смеялась над идеей постройки метро в Петрограде и радовалась, что в городе на болоте метро невозможно: здесь «разве что подводные лодки могут ходить». С метрополитеном ошиблась, но интуитивно понимала, куда могут привести все эти технические новшества. Например, один писатель вспомнил недавно ее слова: «Чем скорее летают самолеты, тем более будут оскудевать человеческие отношения, а заодно и поэзия. Исчезнет понятие разлуки, радость встреч и разная другая необходимая человеческая канитель…» Что ж, все это подтверждается ныне – милая «канитель» действительно исчезает.
В 1920-х годах метро даже не планировалось еще и уж тем более не было какофонии вольного телеэфира. Зато было пение марширующих где-то неподалеку красноармейцев, которое, лежа на подоконнике, Ахматова любила слушать. Считала – это единственное пение, где «нет и не может быть фальшивых нот». Через много лет, в Ташкенте, в эвакуации, гуляя с Фаиной Раневской, она, увидев поющих в строю солдат, скажет неожиданно: «Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню». Именно это считала знаком настоящей славы и известности. Но сама, если говорить о стихах, как раз в угловом доме Бауэра и перестала «петь». На долгих шестнадцать лет замолчала…
Вход в квартиру был со двора – тринадцать разрушенных временем ступенек, ныне почти заросших травой. Эти ступеньки да несколько старых деревьев в просторном дворе, думаю, помнят еще женщину в черном шелковом платье, с белым платком на одном плече, в белых чулках и черных туфлях – все «единственное у нее тогда», как писал Лукницкий.
Поперек низких ворот этого дома в наводнение 1924 года лежала выброшенная на берег лодка. «Вода была выше колен, но совсем теплая… так что стало даже приятно, когда промокли ноги… – писал о наводнении Пунин. – Ахматова – очень возбужденная… В газетах сказано, что наводнение – наследие царизма…» Пунин уже не был тем «левым» комиссаром, каким встретился когда-то Ахматовой. О том же наводнении, к примеру, он с видимым удовольствием записывал гулявшие антисоветские шуточки. «Что вы так радуетесь наводнению, – сказал при нем кто-то, – все равно большевиков не смоет…» Идеологические перемены в нем заметил наблюдательный Чуковский, который прямо спросил Ахматову: «Как вы думаете, чем кончится внезапное поправение Пунина?» Ахматова невесело усмехнулась: «Соловками…» И напророчила – он ведь и умрет в лагере…
А другого гостя этого дома – тоже влюбленного в Ахматову – довольно скоро расстреляют. Я говорю чуть ли не о самом знаменитом тогда писателе – Борисе Пильняке. Пишут, он таскал ей сюда дивные корзины цветов, приводя Ахматову в немалое смущение. Женихался, так сказать. Для полной славы ему не хватало Ахматовой в женах. «Пильняк семь лет делал мне предложение, – говорила потом Ахматова, – а я была скорее против». Впрочем, определенные знаки внимания ему оказывала. Скажем, Ахматова не однажды встречалась как раз с Пильняком, наезжавшим из Москвы, у Замятина, с женой которого, Людмилой Николаевной, дружила (Моховая, 36). Сохранилась записка Евгения Замятина к Ахматовой, в которой он просит ее зайти к нему вечером: «Я хоть на час хочу видеть счастливых. Я хочу видеть рядом Вас и его (он только вчера приехал из Москвы)… Он ждет Вас в 5 часов у меня». «Он» в этой записке – именно Пильняк, удачливый и тогда еще баснословно знаменитый прозаик. А когда он приобретет в Америке автомобиль, то машину, доставленную морем, позовет перегнать с ним в Москву как раз Ахматову. И она, представьте, согласится. Через четыре года, когда в печати начнется травля Пильняка и Замятина (первый звоночек для обоих!), слабая, казалась бы, Ахматова принципиально подаст заявление о выходе из Союза писателей – в знак протеста. В.Е.Ардов вспоминал с ее слов, что тогда к ней немедленно приехал какой-то молодой человек – «может, из союза, а может, из других мест… уговаривать ее взять обратно заявление, поскольку эта демонстрация чрезмерно, так сказать, активна». Она призналась, что уже склонялась было взять заявление обратно, но тут молодой человек брякнул: «И потом, вам же будет хуже… Вы не получите продовольственные карточки, не сможете пользоваться там какими-то благами». Вот тогда она и выдала ему про заявление: «Теперь я не могу взять обратно, раз вы так сказали…» И не взяла!
В бывшую квартиру поэта, к тому шестому окну, меня не пустили. Набычившийся охранник в черной форме с иголочки тупо повторял: «Ахматова – не знаю таких. Нет! Не положено, без разрешения не могу». Но и без отсутствующих новых хозяев этого дома я знал, что не найду той узкой комнаты, увешанной иконами; камина, на котором она держала горящей свечу, чтобы было от чего затопить печь; полов, вздувшихся в наводнение и навсегда испорченных. Даже той Невы в окне не увижу, тех волн, которые в то лето унесут навсегда изломанный, изорванный в клочья Пуниным букет левкоев…
Лучше всех сам воздух этого дома описал художник Анненков, давний знакомый Ахматовой. Еще четыре года назад она в квартире какого-то «свитского» генерала, бежавшего на юг, позировала Анненкову для знаменитого портрета – того, где она «с гребнем» (Кирочная, 11). «Это происходило в яркий, солнечный июльский день», – вспоминал он, и Ахматова была одета «в очень красивое синее шелковое платье», которое ей, кажется, тогда прислали из-за границы[45]. А сюда, в дом Бауэра, осенней ночью под проливным дождем Анненков провожал однажды Олечку Судейкину – после вечера в издательстве «Всемирная литература». «Подойдя к подъезду, Оленька предложила мне зайти к ней, посидеть, – вспоминал Анненков, – так как у меня не было ни зонтика, ни непромокаемого пальто. Было около часа ночи, но я согласился. Оленька провела меня в свою комнату. В другой комнате Ахматова была уже в постели, и я ее не увидел… Ливень за окном не унимался. “Ложись на диван, – сказала Оленька, – уйдешь завтра утром, авось подсохнет”. В комнате Судейкиной, кроме ее постели, была еще небольшая оттоманка с подушками. Я снова согласился… Не сняв пиджака, прилег на диван. Оленька подняла с полу небольшой коврик и прикрыла им меня. “Немножко грязненький, но все же согреет”, – сказала она, погасила свет и стала раздеваться, чтобы лечь. Через несколько минут я заснул…»
Утром их разбудила Ахматова. В темном платье и полосатом переднике, она вошла с подносом, на котором были чашки с липовым чаем, сахарин и ломтики черного хлеба. «Принесла ребятишкам покушать, – улыбнулась, – потчуйтесь на здоровье!» И Анненков, и Судейкина засмеялись. Откинув коврик, Анненков встал. Судейкина присела на постели, прикрытая одеялом. Ливень кончился, сквозь оконные шторки светило солнце. Ахматова поставила поднос на одеяло и ела на край кровати. «Я придвинул стул, – пишет Анненков, – и – втроем – мы весело позавтракали…» Через полвека, в Париже, Анненков хлебосольно «отплатит» Ахматовой уже обедом, мешая его, впрочем, с горькими слезами воспоминаний…
Да, двое из этих троих уже осенью окажутся в эмиграции: сначала Анненков, потом Ольга. Этот дом на углу Фонтанки и Невы я вообще называю «домом расставаний». Единственным, вероятно, исключением была завязавшаяся здесь на всю жизнь дружба Ахматовой и Надежды Мандельштам. Последняя не без ехидства опишет позднее и секреты обольщения, по Ольге Судейкиной, и ее приемчики: «Тряпка должна быть из марли – вытереть пыль и сполоснуть… Чашки тонкие, а чай крепкий… Темные волосы должны быть гладкими, а светлые следует взбивать и завивать. И – тайна женского успеха по Кшесинской – не сводить “с них” (с мужчин. – В.Н.) глаз, глядеть “им” в рот – “они” это любят…» Надежда Яковлевна не раз наблюдала здесь эти «маневры». «Оленька… стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю, смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула его за поясок микроскопического фартушка… Подав чай, Ольга исчезала, чтобы не мешать разговору, – пишет Надежда Мандельштам, – Характер своей подруги она изучила: Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью…» Кстати, именно Н.Мандельштам утверждала, что Ахматова, «равнодушная к выступлениям, публике, овациям… почестям, обожала аудиторию за чайным столом… Я говорю: “Ануш, там идут к нам”, – и она спросит: “Что, уже пора хорошеть?” И тут же – по заказу – хорошеет»…
Сюда, к Ахматовой и Судейкиной, приходили в тот год Сологуб, Замятин, Петров-Водкин («их наказание», поскольку он часами не уходил, молчал и «делал улыбку», по едкому замечанию искусствоведа Голлербаха, в стиле «добро пожаловать»). Только с Есениным, думаю, Ахматова вряд ли хорошела при встрече.
Она встретила его однажды с компанией, когда гуляла с собакой у Лебяжьей канавки. «От него – рассказывала, – пахло вином. Одет был по тем временам от лично – лакированные ботинки и прекрасный костюм, видимо, заграничный… Внешний блеск, а вот лицо… болезненно, с каким-то землистым оттенком. Здороваясь, он поцеловал руку, что раньше никогда не делал…»
Они напросятся в дом – Есенин, Клюев и Приблудный, и пьяный Клюев немедленно заснет поперек ее кровати. Тогда только Есенин притихнет, станет говорить по-человечески: ругать власть, всех и вся. Пошлет приятеля за своей книгой, чтобы надписать ее, а когда книгу принесут, окажется не в состоянии даже держать перо… Пишут, что читал ей здесь стихотворение «Отговорила роща золотая…» Но на другой день, встретив ее в Летнем саду, скажет что-то нелестное про нее своим друзьям и пройдет, вызывающе приложив к цилиндру два пальца. Ну, разве не «расставание» с тем, кто в 1910-х годах почтительно ловил каждое ее слово? Именно после этой встречи она и назовет его «гостинодворским», то есть мещанским[46]. Страшное оскорбление в те годы…
Точно так же, живя в этом доме, случайно встретит (как выяснится, в последний раз) и Маяковского. Через много лет расскажет Лидии Чуковской: «Это было в 24-м году. Мы с Николаем Николаевичем (Пуниным) шли по Фонтанке. Я подумала: сейчас мы встретим Маяковского. И только что мы приблизились к Невскому, из-за угла – Маяковский! Поздоровался. “А я только что подумал: «Сейчас встречу Ахматову»”. Я не сказала, что подумала то же. Мы постояли минуту. Маяковский язвил: “Я говорю Асееву – какой же ты футурист, если Ахматовой стихи сочиняешь”?..» Этот шутливый упрек в сторону Асеева, кстати, не просто вырвавшаяся фразочка. Ведь через пару лет Маяковский будет не только презрительно звать ее за глаза «Ахматкина», но и, не брезгуя душком политического доноса, объявлять ее и Мандельштама «внутренними эмигрантами». А ведь недавно, каких-нибудь пять-десять лет назад, он не только умилялся ее руке («Пальчики-то, пальчики-то, Боже ты мой!»), но и искренне восхищался ее стихами.
Здесь Ахматова расстанется и с последним, относительно независимым, жильем – дальше, до самой дачи в Комарове («Будки», как она ее назовет), будут чужие комнаты, чужие квартиры. Здесь расстанется с жизнью «как песня», с женской свободой. Ведь именно сюда не вернется однажды, впервые оставшись ночевать у Пунина, в его семейной квартире в Фонтанном доме (Фонтанка, 34). 8 июля 1925 года Пунин запишет в дневнике: «Сегодня осталась у меня ночевать, я уложил ее в кабинете и всю ночь сквозь сон чувствовал присутствие ее в доме; утром я вошел к ней, она еще спала; я не знал, что она так красива спящая. Вместе пили чай, потом я вымыл ей волосы, и она весь день переводила мне одну французскую книгу: это такой покой — быть постоянно с нею». Покой? Увы, покоя у него не будет уже никогда, сколько бы он ни уговаривал себя «работать над своей любовью» к ней, сколько бы ни пытался оправдывать ее. «Она не виновата и больше не виновата, чем я и кто-либо, – записывал в дневнике. – Ангел она, ангел, ангел. Виновато именно то, что моя любовь для нее недостаточна. Смотри же, не сделай ей больно из-за своего эгоизма; работай над своей любовью, очищай и очищай… Не попрекай ее и в мыслях грешным телом…»
А ведь еще два года назад Пунин сделал, казалось, для себя горький вывод, написал ей в письме: «Никогда еще я в такой малой степени не занимал кого-либо собою, как тебя; да ты и не любишь, когда я говорю о себе, любишь только, когда говорю о тебе или о себе в связи с тобою… разве не правда?» В дневнике тогда же признался: «Она не любит и никогда не любила: она не может любить, не умеет», и что он ей, с его точки зрения, нужен «как еще одно зрелище, притом зрелище особого порядка». Потом скажет: «Анна, честно говоря, никогда не любила. Все какие-то штучки, грусти, тоски, обиды, зловредство, изредка демонизм. Она даже не подозревает, что такое любовь». Он, представьте, станет жалеть даже своего соперника Циммермана, ибо тот тоже упрекнул Ахматову, что она «обращается с ним, как с собакой». Не поможет Пунину и «конституция», которую они выработают с Ахматовой: по каким дням встречаться, когда принадлежать друг другу, когда – себе[47]. «Все, кто ее любил, – подчеркнет позднее Лукницкий, – любили жутко, старались спрятать ее, увезти, скрыть от других, ревновали, делали из дома тюрьму…» Теперь такую жизнь решился устроить ей и Пунин. Другое дело, что из этого ничего не получилось. Но это ведь он хватал ее на Троицком мосту окровавленными руками…
В тот день она пошла на именины к Щеголеву, пушкинисту, мужу своей подруги, на Большую Дворянскую (ул. Куйбышева, 10). «С Замятиным и другими ходили куда-то», – рассказывала она. Пунин пришел и, не застав ее дома, ревнуя, побежал встречать. На Троицком мосту увидел всех. И Ахматову – под руку с Замятиным. «А Замятин был ни при чем, – говорила потом Ахматова, – решительно ни при чем!» Пунин подошел: «Анна Андреевна, мне нужно с вами поговорить!..» Замятин ретировался. В руках у Ахматовой был букет. Пунин выхватил его. Цветы полетели в воду… Когда они обогнали компанию, Ахматову спросили: «А где же ваш букет?» «Я, – вспоминала она, – приняла неприступный вид!..»
Это, впрочем, пересказ истории ее глазами. Пунин же пишет, что всегда не любил, когда она ходила к Щеголевым, – «там много пьют и люди развязны». Пишет, что просил ее не ходить… «И вдруг вечером, когда я уговорился прийти к ней, ее не было дома – за ней зашла Замятина, и они ушли к Щеголевым – на час, как сказала мне Судейкина. Я стал ждать; я долго ждал, выходил, снова вернулся – был первый час – Ани не было. Все закипало во мне дикою ревностью. Около часа я снова вышел и пошел к дому, где живет Щеголев, через Троицкий… Она шла под руку с Замятиным, в руках у нее были цветы. Замятин был пьян, я в каких-то нелепых, но, вероятно, внушительных выражениях попросил Замятина оставить Анну… Замятин явно струсил и “ретировался” назад, к отставшим Федину и Замятиной».
Вот тогда Пунин выхватил у нее букет и, изорвав цветы в куски, выбросил их в Неву. «Я помню то острое, по всей спине полоснувшее, как молния, чувство наслаждения, когда рвал и бросал цветы, когда слышал хруст ломающихся стеблей левкоев; на пальцах моих была кровь, вероятно, от розы; кровь липла, и ею я запачкал руки Ан.» Потом, уже в ее комнате на Фонтанке, Пунин плакал и все просил отдать ему крестильный крестик, подаренный им еще года полтора назад. И она плакала, «щеки ее были мокры, она сердилась и плакала»…
Впрочем, тогда же примерно Пунин напишет жене об Ахматовой: «Неповторимое и неслыханное обаяние ее в том, что все обычное – с ней необычно, и необычно в самую неожиданную сторону; так что и так называемые “пороки” ее исполнены такой прелести, что естественно человеку задохнуться». А через год признается Ахматовой, что «не может без нее», что она «самая страшная из звезд», и это станет фактически предложением.
…Ахматова обладала какой-то небывалой интуицией, чтобы не сказать – мистической силой. Лидия Чуковская, например, не раз писала, что Ахматова, не зная, что она к ней зайдет, открывала гостье дверь за мгновение до того, как та нажимала на кнопку звонка. Что-то такое, не поддающееся объяснению, чуяла, умела, знала Ахматова. Но самую страшную беду, вошедшую в этот дом без предупреждения, самое тяжелое расставание из случившихся здесь – расставание с читателями, запрет властей на ее стихи – этого не предугадала. Именно тогда, в 1924-м, когда она жила в доме Бауэра, два ее стихотворения – «Новогодняя баллада» и «Лотова жена» появились в «Русском современнике» и стали… последней ее публикацией – вплоть до 1940 года.
В те дни Ахматова встретит на Невском Мариэтту Шагинян, которая ей скажет: «Вот вы какая важная особа. О вас было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать». Постановление это не нашли и поныне. Правда, готовилось уже постановление ЦК РКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы»[48]. Впрочем, с Ахматовой все, думаю, было проще. Решение партии могло быть и устным: власть еще только училась бороться с поэтами, разные пробовала способы…
А вообще, дом у Прачечного моста станет для русской литературы, может, самым страшным из «совпадений» Ахматовой. Отсюда она уедет в Фонтанный дом, бывший дворец Шереметевых, где, выйдя замуж за Пунина, проживет почти тридцать лет. Когда-нибудь я расскажу о том доме, где теперь музей ее. Но Серебряный век поэзии закончится все-таки не там – скорее, в доме Бауэра, в комнатке за шестым окном. Ведь если помнить, что в этом доме с появлением на свет Мережковского родился когда-то Серебряный век, то с отъездом отсюда Ахматовой, которую как поэта запретят на долгие годы, этот век, кажется, и закончится.
Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.
И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!
Вот факт поразительный: Александр Блок впервые встретил свою будущую и единственную жену, когда ему было три года. Его Прекрасной Даме в то время было и того меньше – два года. И случилось это в университетском дворе.
Блок родился в ректорском доме Петербургского университета, а его будущая жена – в главном учебном здании, в Петровском доме «Двенадцати коллегий», где аудитории, классы, библиотеки. Блок и будет для нее всю жизнь как бы «ректором», а она при нем – вечной, ничего, кажется, толком не понявшей, «студенткой».
Ректорский дом на Университетской набережной выходит фасадом прямо на Неву. Но поэт родился в комнате окнами во двор, это известно, на втором этаже. Окон тех сегодня нет. Литературовед Вл. Орлов утверждает, что в то время дом был «тоньше» нынешнего и со двора кончался там, где ныне расположен подъезд, ведущий на второй этаж. А главный вход был с набережной – его убрали при перестройке дома. Ныне вход как раз со двора. Теперь в этом здании профком университета, какие-то унылые конторы, пыльные стекла, забранные в решетки, временные перегородки, столы, шкафы впритык, расшатанные стулья.
О том, что Блок родился именно здесь, свидетельствует мемориальная доска на боковой стене дома, обращенной во двор. Доску эту устанавливал когда-то прямо с кузова грузовика друг моей газетной юности, тогда аспирант, а ныне профессор Петербургского университета Михаил Отрадин. Но вот подробность, ныне уже историческая: на фасад, выходящий к Неве и, следовательно, «к широкой общественности», повесить доску запретил тогда Ленинградский обком партии. Поэт, по мнению тогдашних «отцов» города, не достоин был такой чести. В начале 1920-х годов коммунистические вожди определяли: жить Блоку или умирать. Через полвека после смерти поэта их идейные наследники тужились определять, где висеть памятной доске в честь общенационального гения. Такие были времена.
А сто с лишним лет назад весь этот дом был казенной квартирой деда поэта, профессора-ботаника и в то время ректора университета Андрея Николаевича Бекетова, «бея среброгривого», как прозвала его за седую шевелюру и осанистость одна художница, которая рисовала профессору ботанические таблицы[49].
Если говорить о символах, предназначении, судьбе, столь важных для Блока, то следует сказать, что когда-то в здании, где он родился, был питейный дом купца Путилова, и только в 1842 году, после того как архитектор А.Ф.Щедрин реконструировал здание, дом стал ректорским. До Бекетова здесь более двадцати лет жил поэт и словесник и тоже ректор университета П.А.Плетнев. Проснувшись, он мог, не вставая с постели, видеть по утрам в окне Исаакиевский собор на той стороне Невы, молодые деревья Сенатской площади и Медного всадника, как бы готового перемахнуть через Неву. И представьте, принимал в этом доме, за сорок лет до рождения Блока, самого Гоголя.
Впрочем, и сам Бекетов был весьма знаменит. Достаточно сказать, что прославленные женские Бестужевские курсы должны были по праву называться Бекетовскими: именно Бекетов организовал их в университетских городах России и десять лет был бессменным председателем педагогического совета. Но историк Бестужев-Рюмин, чье имя осталось навсегда связанным с курсами, более отвечал тогда «понятиям о благонамеренности» – дед Блока считался все-таки для властей, как писала его дочь, «человеком опасным и беспокойным».
Другое дело – научный авторитет Бекетова. Он как раз в глазах тех же правящих кругов был непререкаем. Лично Александр II приглашал профессора преподавать ботанику своим сыновьям. Платил по-царски – десять рублей за час плюс ежегодные подарки на именины вроде серебряного сервиза или золотой табакерки.
Да и жена «бея среброгривого» – бабка поэта – тоже была если и не знаменита, то известна. Она не только свободно говорила на французском, английском, немецком, итальянском, но и сумела стать блестящей переводчицей?[50]. Переводила Флобера, Вальтера Скотта, Диккенса, Теккерея. Впрочем, все это меркнет, конечно, рядом уж с совсем удивительным фактом – ныне доказывают, что Блок, по отцу, был в свойстве с Пушкиным: племянник прадеда поэта, Александра Ивановича Блока, Иван женился на Надежде Веймарн – праправнучке Абрама Ганнибала.
Вообще связь с Пушкиным исследователи долго усматривали в другом – в том, что младенца Блока принимала при родах прабабка его, Александра Николаевна Карелина. Та, которая в молодости принадлежала к кругу Пушкина, была ближайшей подругой жены Дельвига, ученицей уже знакомого нам Плетнева, дружила с Анной Керн, общалась с будущими декабристами – Рылеевым, Александром Бестужевым, Кюхельбекером и Якушкиным. «Очень может быть и даже вероятно, – пишет все тот же Орлов, – что она лично знала и самого Пушкина».
Блок родился в разгар очередной вечеринки молодежи, которые часто устраивались либо в Белом зале ректорского дома, либо в гостиной. Гостей к четырем дочерям Бекетова собиралась тьма, а Александра, мать поэта, третья дочь ботаника, которую по-домашнему звали и Ася, и Аля, была не просто самой оригинальной, но, по словам младшей сестры, «всеобщей любимицей» и настоящим «сорванцом». Танцы, шарады, игра на рояле… Подруги сестер оставались ночевать после таких вечеров, а молодые люди являлись к завтраку и часто проводили в ректорском доме едва ли не весь день. «Вот в один из таких шумно-беспечных субботних вечеров Александра Андреевна… в январе 1879-го выданная замуж, – пишет Орлов, – почувствовала приближение родов. Веселившаяся молодежь и не подозревала о том, что происходило рядом, за стеной. К утру родился мальчик…»
Потом про дом этот Блок будет вспоминать: «Священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы… а утром маленький внук, будущий индивидуалист, пачкает и рвет “Жизнь животных” Брэма, и няня читает с ним долго-долго: “Гроб качается хрустальный… Спит царевна мертвым сном”…»
Вещи, увы, живут дольше людей. В кабинете деда стоял письменный стол с колонками, большой диван, крытый шерстяной материей, на котором сиживали и Бутлеров, и Мечников, и Менделеев, кресло с высокой спинкой – все из светлого ореха. И диван с двумя откидными полочками по бокам, и упомянутое кресло, и, кажется, дедовский письменный стол, перейдя позже к Блоку, будут стоять сначала в его рабочем кабинете, а потом и в музее поэта, там, где была последняя квартира его (Офицерская, 57).
Был, кстати, в кабинете деда и огромный текинский ковер. Ковер, что называется, «с историей». Его прислали Бекетову из Средней Азии. Дело в том, что «среброгривый» не раз горой вставал за студентов, «карманы которых были набиты прокламациями “Народной Воли"» и которые из-за этого часто попадали в Дом предварительного заключения. В таких случаях ректор надевал виц-мундир со звездой и отправлялся хлопотать к градоначальнику. Одного студента, по выражению все той же тетки поэта, «неисправимого шумилку» Штанге, в течение года несколько раз сажали в тюрьму. Градоначальник, а им в тот год был небезызвестный Трепов, выслушав аргументы Бекетова, велел привести «студиозуса» и, повернув его лицом к ректору, крикнул с раздражением: «Вот он! Целуйтесь с вашим Штанге!» Забавно, но этот Штанге, сидя уже на извозчике, упрекнул своего освободителя: «Зачем вы меня взяли? Там публика-то была… хорошая!» А другой студент, Бонч-Осмоловский, вырванный когда-то А.Н.Бекетовым из рук полиции, напротив, в благодарность за освобождение прислал ректору зашитый в рогожу большой текинский ковер…
«Жили мы скромно, – “скромно” вспоминала на старости лет тетка поэта, Мария Андреевна Бекетова. – Держали кухарку, горничную, зимой еще так называемого “кухонного мужика” для ношения дров и разных посылок; для стирки и глажения брали поденщицу, а в ректорском доме был еще особый швейцар, без которого ректору нельзя было обойтись». Но именно этот «обязательный» швейцар, по-видимому, и не пускал потом в дом «ломившегося» к собственной жене отца поэта, Александра Львовича, юриста и философа, приват-доцента Варшавского университета. Трудно поверить, что швейцар не пускал близкого родственника, но еще трудней поверить, что приват-доцент, как утверждает тетка поэта, попросту бивал свою двадцатилетнюю худенькую и обаятельную жену. А ведь Александра Андреевна, дочь Бекетова и мать Блока, замуж выходила, казалось бы, за другого человека, который почти в одночасье сумел очаровать чуть ли не весь Петербург. В высоколобом салоне Философовой, например, на него, красавца-ученого, «демоническую натуру», едва ли не молились. Сам Достоевский, говорят, сравнивал его с Байроном и собирался сделать героем одного из своих романов. Но через год, когда он с молодой женой Сашенькой Бекетовой вернулся из Варшавы, открылось: этот «Байрон», «демоническая натура» не только тиранит жену, держит ее впроголодь из патологической скупости, но и попросту бьет…
Александр и Александра… Удивительно ли, что сына тоже назвали Александром. Отец поэта, Александр Львович, познакомился с Александрой Бекетовой в 1878 году. Корни его были из Германии. Сам поэт искренне верил потом «в легенду… будто бы один из предков его был врачом царя Алексея Михайловича». Прапрадед поэта, Иоганн фон Блок, был родом из Мекленбург-Шверина и действительно был медиком, отмечал В.Н.Княжнин, но в русскую службу вступил в 1755 году всего лишь полковым врачом и только тридцать лет спустя был назначен лейб-хирургом наследника престола, цесаревича Павла Петровича. Отец же Блока к медицине отношения не имел – занимался государственным правом. Из разрозненных и противоречивых мнений можно сделать вывод: человеком был по-своему замечательным. «Он озадачивал всех своими парадоксами и непривычными… мнениями, – пишет о нем М.А.Бекетова. – Многое говорил он, вероятно, из духа противоречия, в пику заботливым родителям, а впрочем, трудно нам было тогда понять этого демона жестокости и эгоизма с нашими старыми понятиями о гуманности, семейной любви и пр.»
Когда из Варшавы А.Л.Блок вернулся в Петербург вместе с женой, он вернулся исключительно для защиты магистерской диссертации. Блестяще образованный, говоривший едва ли не на всех европейских языках, он будет потом двадцать лет писать свой главный труд – философскую книгу «Политика в кругу наук». В Варшавском университете у него, утверждают, не было ни одного равнодушного слушателя: были или враги (огромное большинство), или страстные приверженцы, которых насчитывались единицы. Студентов своих доводил до истерик, в прямом смысле истязал непомерной требовательностью, спрашивая каждого на экзамене от часу до полутора. Говорят, что в припадках не скрываемой уже ненависти они не только сами начинали орать на профессора, не только в отчаянии бросали к его ногам его же литографированный курс, но и слали ему «ругательные» письма, в одном из которых он нашел приклеенную раздавленную моль. В анонимке содержалась «страшная» угроза: если он будет «резать» студентов на экзаменах, то погибнет, как «этот моль»… Но зато те немногие, кто выбирал его своим Учителем, боготворили его. «Для нас – молодежи, – вспоминала, например, Е.Герцык, – он был книгой неисчерпаемого интереса». А учившийся у него будущий профессор Рейснер, отец героини Гражданской войны Ларисы Рейснер (ее Блок узнает потом достаточно хорошо), вспоминал своего учителя как выдающегося ученого, личность весьма одаренную и даже… «с признаками гения».
Увы, некоторые «странности» его жизни если и можно объяснить сегодня, то только этими «признаками гения». Он будет до самой смерти жить отшельником в холодной, запущенной квартире, где все покрыто или газетами, или толстым слоем пыли. Экономя на освещении, он, как пишут, выходил читать на лестничную площадку, «где горел даровой хозяйский рожок». Десятилетиями носил засаленный сюртук, питался в дешевых извозчичьих харчевнях Варшавы. И все это не из-за бедности – он был обеспеченным человеком, а, по свидетельству публициста Е.А.Боброва, от «чисто плюшкинской жадности и скупости». Теми же словами пишет об отце Блока и тетка поэта: «Чисто плюшкинская скупость уживалась в нем с отсутствием расчетливости: ведь оба раза он женился на бесприданницах». Да, разойдясь с Александрой Бекетовой, он женился потом второй раз, но и вторая жена ушла от него, забрав с собой дочь Ангелину. Оба брака он разрушил сам крайней своей нетерпимостью. Александра Андреевна даже напишет потом стихотворение о своей тяжкой жизни с мужем: «О, вспомни, как милый тебя проклинал, // Как гневно, жестоко тебя упрекал, // Как плакала ты, как молилась тайком // Здесь, в тихом саду над тенистым прудом. // О, вспомни, как здесь ты несчастна была, // Как смерть призывала и смерти ждала, // Как мучилась тяжко, всем сердцем любя // Того, кто терзал беспощадно тебя…»
«Я много раз задавала себе вопрос, – вспоминала М.А.Бекетова, – откуда взялся характер Александра Львовича. Его высокая интеллигентность, образованность и утонченность не вязались с его поведением. Бывают люди бешено вспыльчивые, которые не помнят себя в порыве гнева. Александр Львович не был таким: он умел мгновенно сдерживать себя, когда знал, что могут видеть, как он бьет жену, в этих случаях он проявлял даже низкие чувства. Александра Андреевна рассказывала мне как-то, что незадолго до рождения сына, когда она жила с мужем в ректорском доме, он повел ее в Мариинский театр слушать “Русалку”. Ей сильно нездоровилось, и она насилу досидела до конца оперы, домой пришлось идти пешком, так как конок по пути не было, а извозчика взять Александр Львович поскупился. Они шли по пустынной набережной. Пока никого не было видно, Александр Львович начал бить жену, не помню уж по какому пустячному поводу, может быть, потому, что она тихо шла и дорогой молчала и вообще не была оживлена, но как только показывался прохожий, Александр Львович оставлял ее в покое, а когда тот исчезал из виду, побои возобновлялись». Жуть какая–то, достоевщина. Но, повторяю, это слова тетки поэта, хотя верится в сказанное с трудом.
Она же, М.А.Бекетова, пишет, что А.Л.Блок бил жену и в ректорском доме. За то, что не любит пьесы Шумана, что плохо спела романс под его аккомпанемент (а играл он на рояле, по признанию все той же М.А.Бекетовой, как никто, «может, гениально»), не так переписала главу его диссертации. Дикость, конечно, но ведь и темперамент! Однажды, когда он в очередной раз затеял избиение жены на половине молодых, дед поэта, Бекетов, услышав непонятную возню на втором этаже, бросился наверх и, увидев, в чем дело, крикнул зятю: «Вон отсюда!» Тот мгновенно ушел, сказав, правда, при этом: «Я не знал, что вы дома…»
Вот тогда и началась жестокая борьба семьи с А.Л.Блоком, который, надо сказать, не допускал и мысли о разводе с женой. Когда его перестали пускать в дом, он стал часами во всякую погоду топтаться под ее окнами в университетском дворе, чем немилосердно терзал Александру Андреевну. «Она заболела от горя, плакала, томилась и должна была прекратить кормление ребенка, потому что у нее испортилось молоко». Словом, «среброгривый» не стерпел и написал зятю письмо, в котором, сказав, что его дочь «служила» ему «любовницею, экономкою, слугою, переписчицею и лектрисою», категорически вывел: «Осьмнадцатилетняя дочь моя вам настолько понравилась, что вы употребили некоторое усилие для ее заполучения. Усилия эти увенчались успехом, вы взяли себе эту девушку с ее согласия… Но вместе с тем вы желаете ее переделать вполне на свой лад… Но… Человек не есть ком пластической глины, который можно фасонировать по произволу…»
Известно, что отец Блока переписывался потом с сыном, посылал деньги (на его свадьбу, к примеру, прислал тысячу рублей, великая сумма по тем временам, и очень обиделся, что сын на свадьбу его, отца, как раз и не позвал); поздравлял с публикациями (хотя на первых порах предлагал сыну выбрать какой-нибудь псевдоним, ибо неудобно было ему, старому профессору, что его порой считали автором стихов «о какой-то “Прекрасной Даме”»); пытался вникнуть в круг интересов и занятий сына и просил «Сашуру» писать и «о житейском». Поэт отвечал отцу неохотно и лениво, иногда в переданных матери отцовских письмах делал многозначительные пометки красным и синим карандашом. Но когда отец умер, Блок, любя всю жизнь мать, сравнивая отца «и с ястребом, и с демоном», тем не менее, поехав на его похороны, написал из Варшавы: «Из всего, что я здесь вижу и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры…»
Вот так! Не написал, правда, что когда он вместе с другими родственниками и, конечно, с полицией вошел в убогое жилище покойника, ставшего, кстати, за два года до смерти деканом факультета, то в тюфяке на постели, как пишет Бобров, наследники «обрели целую калифорнию». Более восьмидесяти тысяч рублей серебром, золотом, билетами, облигациями, накопленных ценой неимоверных лишений за двадцать пять лет, были зашиты в матрасе профессора Александра Львовича. Плюшкин не Плюшкин, но профессор и матрас с деньгами – это все же странно. Деньги две бывшие семьи его поделили пополам. Блок именно из этих денег выплатит семь тысяч рублей тетке Софье Андреевне, выкупая себе в собственность подмосковное Шахматово, и еще четыре тысячи истратит на ремонт его. Домой же из Варшавы привезет какое-то серебро, дамский альбом 1800 года со стихами и рисуночками, две записные книжечки тончайшие, вышитые шелком, а также материнское «платье беж»… Умер отец поэта от чахотки. И смерть его, говорили, ускорило постоянное недоедание – жил он чуть ли не впроголодь…
Впрочем, все это случится в 1909 году, когда Блок будет уже известным петербургским поэтом. А пока Саше два года, и здесь, в ректорском доме, он больше всего любит бывать в бабушкиной спальне. Здесь пахнет ее тонкими духами Violette de Parme, шуршит ее черное атласное платье с отложным воротником из белого гипюра, привезенное из Парижа, и можно подолгу разглядывать ее флорентийскую брошь в золотой оправе: белая роза на черном фоне. Но главное, в спальне бабушки за белыми маркизами на окнах сверкала такая притягательная для ребенка Нева. На каком подоконнике здесь, на втором этаже, часами стоял двухлетний Саша, которого держала за бока Леля Мазурова, подруга его тетки, я, конечно, не знаю, но знаю, что будущий поэт до дрожи ожидал у окна выстрела полуденной пушки Петропавловской крепости и караулил хрипловатый свисток буксира «Николай», который появлялся на Неве всегда в один и тот же час. Саша считал, что буксир не свистит, а «сморкается». Что ж, не вполне благозвучная, но все-таки метафора. А может, это выдумка романтической Лели Мазуровой? Она питала страсть к поэзии, за ней даже ухаживал Надсон…
Когда А.Н.Бекетова, как человека «беспокойного, не внушавшего властям должного доверия», отстранят от ректорства, мать Блока переедет вместе с сыном в сырую квартиру на Пантелеймоновской (ул. Пестеля, 4), в угловой, у Соляного переулка, дом. Здесь, в верхнем, четвертом этаже сохранившегося и по сей день здания, в маленькой комнате, проживут полгода. Потом будет большая и дорогая квартира, которую дед поэта снимет на Ивановской (Социалистическая, 18/29). «Саше… было четыре года, – вспоминала М.А.Бекетова, – когда мы поселились на большой и прекрасной квартире на Ивановской, в том доме, где жила перед тем М.Г.Савина (актриса. – В.Н.)». Тут у Саши с матерью была огромная комната, была в квартире и просторная зала, уставленная по всей стене красивыми тропическими растениями, доставшимися семье из университетской оранжереи. А в зале стоял концертный рояль, было много мебели, но оставалось и место для беготни ребенка. Пишут, что всю зиму маленький Саша проиграл здесь в конку… Но, прожив год, семья осенью 1886-го переехала в дом по соседству (Б. Московская, 9), напротив Свечного переулка. Именно там у Саши «завелись» лошадь-качалка и зеленая лампадка, известные ныне по стихам его. Там он играл в Полтавский бой, надевая детские латы и шлем, и там были написаны первые стихи – он сочинял их с семи лет…
Пока же в ректорском доме жизнь была, судя по воспоминаниям, еще вполне беззаботна. Это потом Александра Андреевна трижды попытается покончить жизнь самоубийством, окажется, к счастью ненадолго, даже в лечебнице для душевнобольных. А в ректорском доме, пока Саша слушал нянины сказки, в другом конце огромной квартиры, веселилась и буйствовала молодежь: тройки у подъезда, танцы, прохладительные напитки, шарады и буриме, музицирование и вспыхивающие романы – «разношерстные молодые люди – и кудлатые студенты, и военные». Военного и выберет потом себе в мужья мать Блока…
Оставим молодежь веселиться, вернемся в университетский двор, где встретились впервые трехлетний Александр Блок и Люба Менделеева. Да, судьбе было угодно, чтобы здесь же, в университете, оказалась в те годы и квартира великого Дмитрия Менделеева, отца Любы. Кстати, прямо над кабинетом Менделеева, ныне мемориальным, в главном здании университета располагалась церковь, в которой крестили новорожденного Блока. Университет, профессорская среда, один двор, одни коридоры – все это свяжет Блока и Любу Менделееву. Но что уж совсем удивительно, рядом, в семи километрах всего, окажутся и подмосковные дома Бекетовых и Менделеевых – Шахматово и Боблово. Там-то через полтора десятилетия они и полюбят друг друга – будут вместе играть в любительском спектакле. Гамлетом .будет Блок, Офелией – Люба. Блок настолько увлечется сценой, так захочет стать артистом, что на вопрос модной анкеты: «Каким образом… желал бы умереть?» – тогда же ответит: «На сцене от разрыва сердца». Актером не станет, хотя в известном смысле и проживет, и умрет на сцене. Актрисой окажется его жена… Наконец, судьбе будет угодно там же, на даче в Боблове, как вспомнит потом мать Любы, чтобы трехлетний еще поэт, возвращаясь вместе с дедом с прогулки, подарил будущей жене букет собранных им ночных фиалок. Красиво, согласитесь, – первый букет будущей Прекрасной Даме.
А вот как начался их роман, об этом я расскажу у следующего дома поэта.
Здесь, в желтом здании Гренадерских казарм на слиянии двух рек – Большой Невки и маленькой Карповки, против Ботанического сада, когда-то (впрочем, столетие уже назад) были две офицерские квартиры – 7-я и 13-я. В них Блок прожил ни много ни мало семнадцать лет. Этот адрес стоит запомнить: так долго на одном месте он больше нигде не проживет.
Тут, в казармах, квартировал его отчим – гвардейский поручик Франц Кублицкий-Пиоттух, который дослужится потом до генерал-лейтенанта. Офицером по тем временам был «прогрессивным», хотя и давал иногда зуботычины солдатам. Это было в духе времени. Мать поэта, искренне, видимо, считавшая, что бравый гвардеец заменит Саше отца, ошиблась – муж оказался равнодушен к ребенку, и это стало для нее катастрофой. «Непоправимой и неизменной», как записала в дневнике ее сестра.
«Теперь уже ясно, – писала М.А.Бекетова в 1901 году, – что ключ всего в ее несчастном браке… Она становится все утонченнее и развитее, все исключительнее, а он и все его окружающие все те же… Существо неловкое и бездарное… Она способна его возненавидеть… а уйти не находит возможным ради Сашуры».
И впрямь – катастрофа! И катастрофой чуть не окончится здесь и жизнь самого Блока: он будет готов умереть по первому слову, даже записку приготовит, чтобы вьюжным ноябрьским вечером взять ее с собой…
«Две незабвенных комнаты, – так опишет это жилище Блока поэт Сергей Городецкий. – Я их помню наизусть. Первая длинная, узкая, со старинным диваном… с высоким окном; аккуратный письменный стол, низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Айседоры Дункан, “Мона Лиза” и “Мадонна” Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви».
Дверь офицерской квартиры была, как десятки других, обита серым войлоком. Из огромного общего коридора, где гренадеров вполне можно было построить в пять и даже в шесть шеренг, а по-современному – из коридора, где ныне вполне могут разъехаться два внедорожника, вы попадали в переднюю Кублицких с высоким потолком и желтыми вешалками. Потом шла просторная белая комната с окнами на Большую Невку, с бледно-желтым паркетом – цвет его неизменно нравился матери Блока, с зеленой, старых фасонов мягкой мебелью, с роялем и книжными шкафами. А за белой комнатой – оранжевая столовая, по размеру меньше гостиной. Так выглядела «половина» матери. У Блока же были кабинетик и просторная спальня. Именно их запомнил Городецкий. Кабинетик – очень строгая, длинная, однооконная комнатка: «объемистый письменный стол… очень мягкий диван, очень-очень удобное кресло… у окна цепенели два кресла и столик», где сиживала потом Люба, забираясь с ногами на сиденье и «собираясь в комочек». Так опишет эту квартиру Андрей Белый, который впервые появится в ней 9 января 1905 года.
Тогда, век назад, район у Ботанического сада считался пригородом. Во всяком случае, в двухстах метрах от казарм, на Аптекарском острове, стояла потом дача премьер-министра Столыпина, которую, как известно, взорвут боевики-эсеры. А через Большую Невку, на той стороне ее, из окон квартиры Блока видны были трубы заводов и фабрик…
Я попал в этот дом в неудачное время: шел грандиозный ремонт – на полу валялись куски штукатурки, еще тех времен, под обоями, наполовину сорванными со стен, виднелись слои старых газет, чуть ли не 1905 года, под ногами звенели осколки стекол, а красивый когда-то вестибюль выглядел как после взрыва. Длинными коридорами второго, а потом и третьего этажа я обошел десятки комнат с видом на Невку, пытаясь угадать, в какой из них жил когда-то поэт. Увы, не 7-ю, не 13-ю квартиру найти не удалось – все комнаты были похожи, как лица солдат, застывших в строю…
Я знал: из этого дома Блок впервые пошел в «страшно плебейскую», по его выражению, самую дешевую из классических гимназий столицы – Введенскую гимназию. Ее здание стоит до сих пор на Петроградской (Большой пр., 37). «Из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков, – с ужасом вспоминал он потом свой класс, – мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь… Главное же чувство заключалось в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то и куда–то отдан и что так вперед и будет…»
«Около 500 человек всякого возраста, от 8 до 24 лет, и всякого состояния сходились здесь ежедневно, и гам стоял здесь, как в кипящем котле», – пишут О.Немировская и Д.Вольпе в книге «Судьба Блока». Маленькие купцы, хлыщи, забулдыги – вот кого встретил здесь поэт. Некоторые ухитрялись просидеть за партами по одиннадцать лет вместо восьми. «Дети быстро развращались, – пишет один из биографов Блока. – Учились курить, говорили и рисовали много сальностей… Многие из таких, начав… заниматься уличным “ухажерством” и благодаря близости кафешантана… и раннему знакомству с пивными и всеми видами любви, сходили и вовсе на нет».
Одноклассник поэта, некий Барабанов, вспоминал: «Ребята относились к Блоку с интересом. В нем было много благородства, спокойствия – и это действовало… В шалостях Блок не принимал участия (…и его не втягивали), но если что-нибудь происходило на его глазах, он смеялся глазами… Блок был курчавый; его лицо напоминало изображения на старинных римских монетах». Если на старинных, да еще римских, значит, походил профилем на императора или хотя бы на легионера[51]. Но «император», представьте, был очень слаб в арифметике. «По русскому языку, – напишет его тетка, – дело шло гладко». Увы, и это не так. Твердая четверка была лишь по латыни. Зато с товарищами он отвоюет потом, «не без… скандалов», как напишет матери, лучшее место в классе – у стенки, где «при случае можно соснуть, списать и спрятаться», где он, как все, будет обзывать учителя космографии «сиамцем», а на любой призыв педагога по гимнастике отвечать мяуканьем.
Словом, учился неважно, как и полагается гению. С грехом пополам выдержал экзамены на аттестат зрелости (двойка по устной математике, тройки по письменным переводам). Но что эти тройки да двойки, если он еще гимназистом, как и Пушкин когда-то, познает «науку страсти нежной» – влюбится в женщину, которая была старше его на двадцать лет. Гимназистам запрещалось тогда не только носить тросточки и хлысты, но даже появляться в маскарадах, клубах, трактирах, кофейнях, кондитерских, бильярдных. А уж тем более появляться с женщинами. А он не издалека, как поклонялись женщинам мальчишки его возраста, не платонически – влюбился реально, с объяснениями, встречами, поцелуями. Нетрудно представить, как колотилось сердце подростка, когда он в «закрытой карете» увозил на свидание свою первую женщину – Ксению Садовскую. Между прочим, мать троих детей, жену статского советника. «Твой навсегда», – подписывал письма к ней и звал ее «моя лучезарная звезда». В искренности и прямоте его чувства я, скажем, не сомневаюсь. Но странно читать в дневнике М.А.Бекетовой сначала о том, что никакой любви не было, что «это она завлекала его, на все была готова», эта «несвежая женщина», а потом тут же увидеть иные, горделивые слова ее: «Но вот начало Сашуриного юношества. Первая победа. Она хороша. Она ему пела…»
Хорошо, что только «пела», как ни иронично звучит это сегодня. Ибо скоро один из давних друзей Блока по гимназии, тоже молодой еще человек, Кока Гунн, в подобной ситуации просто застрелится. Это случится в пять утра на Клинической ездовой дороге. «Мечтательный и страстный юноша немецкого типа», Николай Гунн – с ним Блок сойдется со второго класса – жил бедно, мать его сдавала жилье за плату. Неизвестно, бывал ли Блок у него (Съезжинская, 12/21), но точно известно, что оба бывали у третьего гимназического друга, «щеголя и франта» Леонида Фосса. Сын богатого инженера, Фосс жил в красивом доме рядом с Блоком, на Лицейской (ул. Рентгена, 5). Там друзья сходились по вечерам, чтобы читать стихи, слушать, как Фосс играет на скрипке серенаду Брага, страшно модную тогда, и говорить «про любовь»… Так вот, после гимназии Блок потеряет Фосса из виду, а дружба с Гунном продолжится и в студенческие годы. Пока тот, став репетитором какого-то мальчика, не влюбится в мать своего ученика и в двадцать четыре года не застрелится. Из чувства безнадежности. Смерть друга сильно подействует на Блока, и он, написавший когда-то Гунну стихи «Ты много жил, я больше пел…», теперь напишет новые – «На могиле друга»…
Все это еще будет. Пока же здесь, в Гренадерских казармах, юный Блок заведет себе таксу Крабба, будущую любимицу свою, которую принесет в дом в башлыке. «У нас наконец есть собака, такса, по имени Крабб… какой великолепный щенок! – радостно напишет двоюродному брату Андрею. – Но он часто делает стыдные вещи в комнате и иногда на диване – его еще рано бить за это, потому что он не все понимает. Он играет с туфлями, рвет их и носит по комнатам, играет с кошкой и грызет ее… Они катаются вдвоем по полу. Он очень громко и весело лает, вообще – очень веселый и со страшно красивым и толстым белым животом…»
Здесь, в казармах, он начнет выпускать рукописный журнал «Вестник». Мать станет цензором, а сотрудниками – двоюродные братья Лозинский, Недзвецкий, москвич Сергей Соловьев (тот самый – троюродный брат!), бабушка и тетка, да еще кое-кто из знакомых. Дед «среброгривый», который жил теперь отдельно от внука, на Васильевском острове (Большой пр., 22), тоже примет участие в журнале, но лишь как иллюстратор. Блоку было уже шестнадцать, но, как пишет М.А.Бекетова, «уровень его развития в житейском отношении подошел бы скорее мальчику лет двенадцати». Наконец, здесь, в двух комнатах на Карповке, он будет читать родным и друзьям новые стихи и в конце каждого прибавлять короткое и диковатое слово «вот» – дескать, все, кончился стих. Эта привычка сохранится у него и во взрослой жизни, даже когда будет выступать со сцены…
Кстати, когда ездил за щенком, то на Андреевской улице Васильевского острова увидел вдруг выходящую из саней Любу Менделееву. Она шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту, потом по 10-й. Блок, не замеченный, тихо последовал за ней. Зачем он, кажется, не объяснял и себе. Но так возникло вдруг странное стихотворение его «Пять изгибов сокровенных…», где «изгибы» – углы и повороты линий Васильевского острова. Люба жила на Васильевском: Д.И.Менделеев, потеряв кафедру в университете, снял квартиру рядом, на Съездовской (Съездовская линия, 7-9). Не знаю, бывал ли Блок на Съездовской, но с Любой они виделись летом на подмосковных дачах. Какие-то отношения продолжались с того детского букета фиалок, но, по ее поздним словам, все шло «как– то мимо».
Она запомнит встречу с Блоком, когда ей исполнится шестнадцать. «О день, роковой для Блока и для меня!» – писала не без свойственной ей патетики о том июньском дне в подмосковном Боблове. «После обеда… поднялась я в свою комнату во втором этаже, и только что собралась сесть за письмо – слышу рысь верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь… Уже зная, подсознательно, что это “Саша Бекетов”, как говорила мама… подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь…»
Она кинулась переодеваться – батистовая розовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, черный маленький галстук, суконная юбка, кожаный кушак. А Блок, хоть и прискакал на Мальчике (так звали его коня), был в тот день в городском темном костюме и мягкой шляпе. Этот костюм его, а не форменный университетский сюртук очень охладил ее: ей на мужчинах нравилась форма. Пишет еще, что Блок все время «аффектированно курил». Впрочем, когда вместе с ее кузинами стали играть в хальму, игру типа китайских шашек, потом – в крокет, потом – в пятнашки и горелки, Блок стал «свой и простой, бегал и хохотал, как и все мы, дети и взрослые». Он, правда, заглядывался тогда на Лиду и Юлю Кузминых, которые, как пишет Люба, умели «ловко болтать и легко кокетничать». Это вызвало у нее чуть ли не ревность, более того, она посчитала Блока «стоящим по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек». Хотя «женским глазом» отметила: в нем была какая-то непонятная «мужская опытность»…
Нет, он, как напишет, еще не волновал ее. Ему в ее глазах очень вредили прибаутки, длинные цитаты из Козьмы Пруткова и дурацкая, смешивающая языки присказка, которую «он вставлял, где надо и не надо: “О yes, mein Kind!”» А уж когда Люба поступила на Высшие женские курсы, когда вернулась из Парижа, где побывала с матерью на Всемирной выставке, когда в платье с Елисейских Полей стала появляться на студенческих вечеринках, то ей показалось совсем уж стыдным «вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами». Так, во всяком случае записала в уничтоженном потом дневнике.
Она, разумеется, не видела, как он шел за ней незамеченным на Васильевском. Но после «изгибов сокровенных», я уж не знаю, нечаянно ли столкнулись они лицом к лицу на Невском? Не подстроил ли скорую встречу сам Блок?
Это случилось 17 октября 1901 года. Люба шла молиться в Казанский собор, Блок пошел с ней. «Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской, – напишет она в воспоминаниях, имея в виду икону Казанской Богоматери. – То, что мы тут вместе, это было уже больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе». Собор станет постоянным местом их свиданий. Пока однажды на Введенском мостике, которого давно уж нет, Блок неожиданно не спросит, что она вообще-то думает о его стихах. Люба мгновенно ответит: «Ты – поэт не меньше Фета». Это и Блока, да и Любу, выпалившую слова не задумываясь, поразит необычайно. «Это было для нас громадно, – вспоминала она. – Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось, и слушалось со всей ответственностью»…
Кстати, стихи Блок читал артистично. Он ведь мыслил себя еще и актером, и однажды под псевдонимом Борский играл даже в открытом спектакле профессионального театра «Зала Павловой» (ул. Рубинштейна, 13). В последних классах гимназии, а потом на курсах драматической артистки Марии Читау специально занимался декламацией. Про дом, где располагались курсы Читау (Гагаринская, 32), даже напишет стихотворение. Туда же осенью 1901 года запишется и Люба. Мария Михайловна Читау не только будет хвалить ее за способности, но предложит «показать» Любу в Александринском театре на амплуа «молодых бытовых» – так это называлось тогда. Именно такие роли благодаря наблюдательности Любы ей удавались, но она видела себя еще иначе и, проучившись год, к Читау уже не вернулась…
Наконец, встречались Блок и Люба в ту зиму и в богатом особняке художника, академика исторической живописи Михаила Петровича Боткина, друга Дмитрия Ивановича Менделеева, с дочерьми которого дружила Люба. Этот особняк (18-я линия, 1/41), когда-то собственность князя Репнина, превратился в те годы в настоящий музей искусства. Чуковский запишет в дневнике про боткинский дом: «Квартира… превращена в миллионный музей». И добавит: этого терпеть не мог брат академика от живописи, Сергей Петрович, врач по профессии, который говорил, что в доме этом нет «ни одной порядочной комнаты, где бы выспаться», и что «искусство в большом количестве – вещь нестерпимая!» Сейчас, кстати, в доме на 18-й линии находится народный суд Василеостровского района, но зайдите сюда, не поленитесь, и увидите – лестница на второй этаж сохранила части резной деревянной панели, уцелели необыкновенные потолки, устоял через сто лет даже роскошный камин, видимо, там, где был когда-то Ореховый зал. Ступени лестницы покрывал толстый красный ковер, в котором утопали ноги, в углах высились громадные пальмы, а на втором этаже в сохранившемся зеркальном окне по-прежнему можно увидеть неописуемой красоты вид: Неву, Исаакий, мосты, огни. Здесь музицировали, танцевали, читали стихи…
«Очаровательные люди и очаровательный дом, – писала о Боткиных Люба. – Все дочери – серьезные музыкантши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время балов – это мне особенно нравилось. Зато гостиная рядом утопала и в свете, и в блестящем серебристом шелке мягкой мебели…» Хозяйка дома, прознав о дружбе Любы с Блоком, позвала поэта сначала на бал (Блок не пошел), а потом на вечерние чтения, от которых он отказаться уже не смог. Для любителей хронологической точности скажу: он был здесь 29 ноября 1901 года. И может, в этот день, в мороз, провожал отсюда на санях Любу. «Я была в теплой меховой ротонде, – вспоминала Любовь Дмитриевна. – Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные, и попросту попросила его взять и спрятать руку: “Я боюсь, что она замерзнет”. – “Она психологически не замерзнет”, – ответил он…» И, наверное, не замерзла, пока сани сквозь снежок, фонари, через ледяные горки и горы мостов летели к дому Любы, на Забалканский (Московский пр., 19), где отец ее, Дмитрий Иванович Менделеев, став хранителем Депо образцовых мер и весов, получил служебную квартиру.
Блок стал бывать на Забалканском, в уютной квартире Менделеевых, где мать Любы развесила по стенам картины передвижников в золотых рамах. Теперь Блок опять нравился Любе. «Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом вырисовывался в свете лампы у рояля… В те вечера я сидела в другом конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку. Прическу носила высокую – волосы завиты, лежат темным ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугой узел…»
Она пишет, что к тому времени у всех подруг ее уже были серьезные флирты и даже романы с поцелуями, «с мольбами о гораздо большем». Одна она ходила, по ее признанию, «дура дурой»… Нет, после гимназии она «набросилась» на Мопассана, Бурже, Золя, Доде… Но, как красиво напишет о себе, «чистому все чисто». И ничего из книг о любви она не поняла, поскольку не знала «в точности конкретной физиологии». «Такую, как я, – честно признавалась, – даже плутоватые подруги в гимназии стеснялись просвещать», а откровенные фотографии, украденные девицами у своих братьев и показанные ей, ничему ее не научили. Люба, как пишет, ничего не заметила, «кроме каких-то анатомических “странностей” (уродств), вовсе не интересных…» Блок носил ей сюда «умные» книги Мережковского, Тютчева, Соловьева. Но она, увы, часы проводила перед зеркалом. «Иногда, поздно вечером, когда уже все спали, я брала свое бальное платье, надевала его прямо на голое тело и шла в гостиную к большим зеркалам. Закрывала двери, зажигала большую люстру, позировала перед зеркалами и досадовала, зачем так нельзя показаться на балу. Потом сбрасывала платье и долго-долго любовалась собой. Я не была ни спортсменкой, ни деловой женщиной; я была нежной, холеной старинной девушкой…»
Потом был какой-то разрыв с поэтом, когда почти год он приходил на Забалканский не к Любе, а как бы к ее родителям. Он даже, примерно в это время, напишет не без сарказма в своей записной книжке: «Студент (фамилию забыл) помешался на Дмитрии Ивановиче. Мне это понятно. Может быть, я сделал бы то же, если бы еще раньше не помешался на его дочери…» Да, Люба всерьез задевала уже душу его. А она в те же дни решила с ним окончательно порвать: «Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от собора, и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, что мне это неудобно. Ледяным тоном: “Прощайте!” – и ушла…» С ней в ту минуту было письмо к нему, которое она не отдала Блоку, но которое, как мне кажется, многое предугадало в их дальнейшей жизни. Нет, она не была «дура дурой»: чутьем, интуицией женской она многое поняла в нем! «Я не могу больше оставаться с Вами в тех же дружеских отношениях… – писала она. – Мы чужды друг другу… Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией… Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели… Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал… А я… живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо… Я Вам никогда не прощу то, что Вы со мной делали все это время – ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и… скучно».
Повторяю, письмо это Блоку не отдала, но, может, лучше бы отдала. Ведь почти все в их дальнейшей жизни она предугадала: и «философский идеал» – Прекрасную Даму вместо теплой, живой веселой девушки, и «какие-то высоты» духа, обожествляемые им. Ведь тогда, возможно, не случилось бы того, что случилось…
Поэт, кстати, тоже после их разрыва написал три наброска письма к ней. «То, что произошло сегодня, – писал он, – должно переменить и переменило многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года. Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью, для меня – трагическую…» Дальше он каялся, писал, что готов понести кару, «простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению», писал о тоске, которая только ослабевает рядом с ней, но не прекращается. А во втором наброске призывал ее «всеми заклятиями», писал, что «что-то определено нам с Вами судьбой», что она останется для него «окончательной целью в жизни или в смерти». Вот так! Тоже, как и она, предчувствовал все: и судьбу их, и цель, и любовь к ней до самой смерти. Словом, отношения их, как нетрудно понять, натянулись к тому моменту до рокового, последнего предела.
Решительное объяснение, то самое, когда он встал на пороге смерти, состоялось 7 ноября 1902 года. Оно случилось в здании Дворянского собрания, там, где ныне филармония (Михайловская, 2) и где в тот день был устроен «курсовой вечер» Любы. С двумя подругами она, одетая в суконное голубое платье, забралась на хоры, сидела там в последних рядах «на уже сбитых в беспорядке стульях» рядом с винтовой лестницей и смотрела на нее, зная почему-то, что сейчас на ней покажется Блок. Позже и он признается, что, придя сюда, сразу же стал подниматься на хоры, хотя прежде Люба никогда не бывала там.
Винтовая чугунная лестница, та самая, цела и сегодня – слева от сцены. Трудно поверить, но именно по ней поднимался с колотящимся сердцем, с предсмертной запиской в кармане сюртука, взволнованный решающим свиданием Блок. По лицу его Люба поняла – сегодня… Часа в два он спросил ее, не хочет ли она домой. Она как-то сразу согласилась. Когда надевала свою красную ротонду, ее била сумасшедшая дрожь. Не сговариваясь, пошли направо по Итальянской, к Моховой, к Литейному.
«Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый». Когда подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, Блок сказал, что любит ее, что его судьба – в ее ответе. «Я отвечала, – пишет она, – что теперь уже поздно, что я уже не люблю, что долго ждала его слов. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала… потом приняла его любовь».
Она больше ни слова не прибавит к этому, может, главному моменту своей жизни. Идти от филармонии до Фонтанки – десять минут, даже меньше. Что же случилось по пути? Как и чем он сумел убедить ее в своих чувствах? Загадка, тайна. Известно только, что он, вынув из кармана сложенный листок и отдавая его, сказал, что если б не ответ ее, то уже утром его не было бы в живых. «В моей смерти прошу никого не винить, – говорилось в записке. – Причины ее вполне “отвлеченны” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют. Верую во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Чаю Воскресения Мертвых. И Жизни Будущего Века. Аминь. Поэт Александр Блок».
Потом, уже где-то у Моховой, он, посадив Любу в сани, повез ее домой, на Забалканский. «Литературно, зная, так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни. Думаете, началось счастье?..»
Не думаем, нет, не думаем, ибо давно прочли о Блоке все, что можно. Но о том, что же все-таки началось в их отношениях, об этом – в следующей уже главе.
…На другой день после объяснения Люба, смеясь, сказала Шуре Никитиной, подруге, – специально пришла к ней на работу: «Знаешь, чем кончился вечер? Я поцеловалась с Блоком!..» А ему в тот же день послала записку:
«Мой милый, дорогой, бесценный Сашура, я люблю тебя! Твоя!..» «Сашура» – так Блока называли дома, она его так никогда не звала.
Может, поэтому, хотелось бы думать – именно поэтому, считала потом, что в записке этой «сфальшивила»?..
Есть в Петербурге дом, где Блок оставил тайный клад – послание в будущее. Впрочем, и сам дом, вернее, адрес его в известном смысле тоже небольшая, но тайна. Я говорю о меблированных комнатах, в которых за восемь месяцев до свадьбы Блок и Люба сняли комнату, чтобы, прячась от всех, встречаться.
Тайна адреса в том, что одни блоковеды твердо указывают на дом №10 по Серпуховской улице, а другие столь же упорно – на дом №23 по той же улице. Надо сказать, что в истории Серебряного века дом №10 по Серпуховской встречается и по другому поводу: здесь, в зале «Товарищества гражданских инженеров», однажды устроили «Вечер искусств» Городецкий, Ремизов, Ясинский и «крестьянские поэты» – Клюев и Есенин. Правда, было это значительно позже, уже в середине 1910-х годов. Так вот, взвешивая все обстоятельства, остается одно из двух: либо дом, в котором были меблированные комнаты, значительно изменился за десять-пятнадцать лет, изменился так, что в нем стало возможно проведение вечеров (в обычных меблирашках праздников искусств не устраивали!); либо меблированные комнаты, где поселились Блок и Люба, находились все-таки в доме №23, доме, который тоже сохранился, но с виду куда менее презентабелен и пышен. Я побывал, разумеется, и там, и там и, зная, что меблированные комнаты порой занимали лишь небольшую часть любого многоэтажного здания, склоняюсь думать, что комнату они снимали все-таки в 10-м доме.
Впрочем, нам важно другое. На этой улице, на Серпуховской, в двух шагах от Технологического института, Блок и Люба Менделеева почти два месяца «светились». «Светились» в обоих смыслах: и мелькали (проходили, пробегали, а верней сказать – пролетали!), и буквально горели внутренним огнем. Кстати, ни о каких, извините, «постельных делах» у молодых не было и речи – эти «дела» и после свадьбы возникнут не сразу. Встречались, чтобы окунаться в свой уютный мирок, быть рядом без посторонних взглядов, говорить – не наговариваясь – без чужих ушей. Тут проводили вечера, поджидали друг друга, оставляли и хранили письма. Любе это ужас как нравилось, казалось романтичным и взрослым.
А Блок замечал то, что не могла видеть она: слежку швейцара и лакеев, двусмысленные взгляды мужчин, всезнающие глаза встреченных здесь женщин, то есть всю ту «пошлость и грязь», без которых меблирашки были немыслимы. Но, увы, счастье, может самое полное счастье этой «предлюбви», длилось у них недолго. Через два месяца здесь случится полицейский обыск, хозяин меблирашек получит выговор за сдачу комнаты «без прописки», и Блок, собрав бумаги, торопливо подобрав даже шпильки Любы, немедленно съедет отсюда. Но оставит, как говорят, записку потомкам – сунет под доски пола. И ведь кто-то найдет ее, кто-то прочтет ее, а потом скомкает за ненадобностью и выкинет… Биографы поэта дорого бы дали за нее…
Студент и курсистка – они были сказочной парой. Это не мои слова, так написал о них друг Блока, поэт Чулков: они, по его выражению, были в то время «беглецами от суеты, хранящими тишину от “несказочных людей”». Так опишет их и Андрей Белый: «Царевич с царевной! Оба веселые, нарядные, изящные, распространяющие запах духов…» Правда, встретив тогда же своего знакомого, Белый неожиданно для себя выпалит: «Знаете, на кого похож Блок?.. На морковь…» «Что я этой нелепицей хотел сказать, – удивлялся потом, – не знаю». Встреча с Белым случится, когда Блок вместе с женой впервые приедет в Москву – и будет очарован городом. «Москва поражает богатством всего», – напишет матери. А в письме к другу, А.Гиппиусу, подчеркнет: «Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные. Не скучают… В Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей. И мне смело хочется счастья…»
Обвальная, бешеная дружба двух поэтов, петербуржца Блока и москвича Белого, дружба, которая счастья как раз никому из них не принесет, началась, правда, чуть раньше, с явления необъяснимого, почти мистического. «Встретились письмами, – вспоминал Белый, – я написал Блоку, не будучи с ним знаком; и на другой день получил от него письмо; оказывается, он в тот же день почувствовал желание мне написать, не будучи со мною знаком; наша инициатива встретилась: наши письма скрестились в Бологом…»
Блок, откликаясь на какую-то статью Белого, назвал ее в первом своем письме «гениальной» и написал: «на Вас вся надежда», «я глубоко верю в Вас». Белый же, хоть и оговорился, что пишет «просто так», не менее выспренне славословил его, кого никогда не видел еще: «Вы точно рукоположены Лермонтовым, Фетом, Соловьевым, продолжаете их путь, освещаете, вскрываете их мысли… Скажу прямо – Ваша поэзия заслоняет от меня почти всю современную русскую поэзию».
Вот так! Главное же, оба, не зная друг друга, почувствовали вдруг, что каждый из них «один пробирается в темноте, без надежды, с чувством гибели». Впрочем, доля мистики в их отношениях была на деле еще большей. Представьте, 2 января 1903 года Блок делает предложение Любе, и оно принимается. А первое письмо Белому, который сначала станет им как бы братом, а потом вдруг встанет между ними, пишет 3 января, на другой день после сватовства. То есть как бы сразу, каким-то роковым образом, втягивая в свою жизнь рокового, в прямом смысле этого слова, третьего. Да, заочное знакомство в письмах состоялось в январе 1903 года. А через три года этот третий напишет Блоку: «Один из нас должен погибнуть…»
Чуковский подсчитал: Блок посвятил Любе – Прекрасной Даме – 687 стихов. Свои первые стихи к ней Блок опубликовал в журнале Мережковских «Новый путь». Журнал возник в марте 1903 года, и на торжественном открытии его, за самоваром в специально снятом для редакции помещении (Невский, 88), в обществе Дягилева, Бенуа, Серова, Бакста, Сомова, Розанова и, конечно, зеленоглазой Зинаиды Гиппиус (она-то и сидела за самоваром!), был и юный Блок в том самом безупречно сшитом студенческом сюртуке. Стихи в новом журнале напечатают, но денег не заплатят. Первый гонорар получит в другом издании – в «Журнале для всех» Миролюбова, который располагался на Спасской (ул. Рылеева, 26). «Пыльные солнечные лучи протягивались от окон… к ворохам газет, журналов и рукописей на полу между тесно стоявшими столами. Вместе с солнцем врывался в комнату особый гомон петербургской весны, – вспоминал визит Блока в этот журнал поэт Сергей Маковский. – Так и остался в моей памяти… Блок нашей первой встречи… Весенний, утренний, городской, освещенный пыльным лучом майского солнца… Женщины восхищались: красавец. Но больше, чем красота, поражала странная застылость лица – как изваянное…»
Увы, несмотря на входящие в моду стихи Блока, на обожание окружавших его женщин, на обожествление им Прекрасной Дамы, семейные отношения его и Любы почти сразу же оказались далеко не прекрасными. «Она несомненно его любит, но ее “вечная женственность”, по-видимому, чисто внешняя, – злоязычно записывала тетка поэта уже через три месяца после свадьбы. – Нет ни кротости, ни терпения, ни тишины, ни способности жертвовать. Лень, своенравие, упрямство, неласковость… я боюсь даже сказать: уж не пошлость ли все эти “хочу”, “вот еще” и сладкие пирожки. При всем том она очень умна, хоть совсем не развита, очень способна, хотя ничем не интересуется, очаровательна, хотя почти некрасива, правдива, прямодушна и сознает свои недостатки…»
Люба, в свою очередь, восторженно встретила поначалу жизнь в Гренадерских казармах, в доме Блока. «Никогда не слышала я… за обеденным столом… вульгарно-житейских или тем более хозяйственных разговоров… Обеденный разговор – это целый диспут… пяти-шестичасовой разговор на отвлеченную тему». Но очень скоро разочаровалась в новой семье: «Не фальшь, а гораздо более глубокий душевный дефект. На словах они все меня захваливали наперебой, “любили” меня все ужасно, но… всегда стремились Сашу “не отдать” мне целиком, боролись с моей стихией… Нет слов, которыми они не поносили бы меня. И некрасива-то, и неразвита, и зла, и пошла, и нечестна, “как и мать, да и отец”!.. Вот до чего доводили… Нормально ли это? Назвать Менделеева нечестным – это можно только с пеной у рта, в припадке сумасшествия. Всей этой подкладки я не знала, конечно, и от Саши она тщательно скрывалась (“Люба удивительная, Люба мудрая, Люба единственная” – вот что для его ушей)…»
Короче, с первых шагов общая жизнь, как напишет она значительно позже, ставила ее «на дыбы от возмущения». Может, этим объяснялось и восприятие ее поэтом? «Всегда почти хмурая, со мной еле говорит… Что же именно нужно делать? – записывал в дневнике о Любе Александр Блок. – Я хочу не объятий: потому что объятия – минутное потрясение. Дальше идет “привычка” – вонючее чудовище. Я хочу не слов. Я хочу сверхслов и сверхобъятий…»
Была еще одна причина и скрытой натянутости отношений, и будущих измен. Люба вспоминала: «Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах». Блок, писала она позже, теоретизировал, «что нам и не надо физической близости, что это “астартизм”, “темное”… Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот, еще неведомый мне мир, что я хочу его, – опять теории: такие отношения не могут быть длительными, все равно он… уйдет от меня к другим. “А я?” – “И ты так же”. Это меня приводило в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой; на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с… бурным отчаянием».
Молодость, правда, возьмет свое, бросит их друг к другу. В один из таких вечеров, через год после свадьбы (!), «неожиданно для Саши и со “злым умыслом” моим произошло то, что должно было произойти. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, бороться я не умела… В этом и был прав Белый, находя в наших отношениях с Сашей “ложь”…»
Да, почти сразу в ее жизни возник Борис Бугаев – поэт Андрей Белый. Возник в Петербурге уже после знакомства в Москве, возник в Гренадерских казармах 9 января 1905 года. 9 января – Кровавое воскресенье! Лучшей «декорации» для явления рокового соперника трудно и придумать. Правда, с утра никто ничего не предполагал; все встреченные Андреем Белым в то утро – извозчик, парикмахер, бривший его, мальчишки с газетами – все говорили пока об одном: примет – не примет? Примет ли царь рабочих с иконами, «которые уже пошли»? Неужели же будут стрелять по иконам? Будем ли так и жить или умрем? Он вспоминал потом, что светило темно-малиновое, студеное солнце, струились, синея, дымки, топтались у мостов вооруженные солдаты в заиндевевших башлыках. В казармах на Карповке он отыскал квартиру штабс-капитана Эртеля, знакомого, у кого думал остановиться. Но денщик сказал, что Эртеля нет, вообще никого нет в казармах – все защищают мосты. Тогда Белый и поспешил в квартиру Блока, тут же, возможно, на том же этаже.
Войлочная дверь с табличкой «Кублицкий-Пиоттух» распахнулась. «Просветлел кусок комнаты с окнами, – вспоминал он. – Там показалась знакомая голова, с волосами рыжеющими, сквозящими заоконным простором; то был А.А.Блок – в фантастической, очень шедшей, уютной рубашке из черной свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом и открывающей крепкую лебединую шею, которую не закрывал мягкий, белый, широкий воротничок… Конечно же: Любови Дмитриевне принадлежала идея рубашки, потом появившейся на Ауслендере, на Вячеславе Иванове, перенявших фасон…»
«Что? Ну?» – вот были первые слова Блока. Белый сообразил, в чем дело: «Да говорят, что пошли…» Чем закончилось 9 января, мы помним. Но будущие друзья-враги встретились именно так – без излишних приветствий, торопливо, взволнованно. Не сразу Белый увидит в то утро в квартире поэта золотую головку Любы, которая в зеленовато-розовом широчайшем капоте встанет в дверях… А через некоторое время, когда Белый придется в этом доме ко двору, он как раз никого не будет замечать здесь, кроме Любы. И она, нареченная стихотворцами «воплощенной женственностью», охотно начнет, играя, испытывать на Боре власть своих взглядов и улыбок. «Боря, – вспоминала она, – кружил мне голову, как опытный Дон Жуан, хотя таким не был». Не корзины цветов, целые «бугайные» леса появлялись иногда в гостиной – цветы молодой барыне, то есть Любе…
Год созревал этот роман. Сначала все трое (Блок, Белый и Люба) общались друг с другом, по словам Белого, «как великие державы», потом по-детски – импровизируя и играя. Белый запомнит, как однажды Блок в присутствии Любы лукаво скажет ему, что они знают, кто он. «Кто же я?» – спросит настороженно Белый. Тут Люба нечаянно расхохочется, а Блок, посмеиваясь себе в нос, опустив глаза, тихо скажет: «Не обижайся – такая игра уж у нас: ведь мы с Любой часто играем в зверей…» – «Так какой же я зверь?» – быстро, но и натянуто спросит Белый. «По-хорошему, – не обижайся: ты – беленький заяц; у нас он любимый зверек…» А потом, когда Белый едва не решится переехать из Москвы в Петербург насовсем (он это назвал в письме Блоку не переездом – «паломниче ством»), между поэтами настанет отчуждение. Может, и оттого, что в Москве счастье «за облачком», а в Петербурге – «за черной тучей». Но чем больше мрачневший, «фиолетовый» Блок отъединялся от Белого стеной отчуждения, тем быстрее сближались Белый и Люба.
Знаете, на чем сходились? На разговорах о Блоке, на том, что ему нужна нянька, что он дитя, что в нем «крепнет шатун», то есть он все чаще исчезал из дома, чтобы развеяться, а на самом деле – чтобы пить…
Потом случилось то, что Люба запомнила в подробностях. Возвращаясь домой с дневного концерта оркестра графа Шереметева, Блок уселся в сани с матерью, а Люба – с Белым. Когда лошади поравнялись с домиком Петра на Неве, Люба на какую-то фразу Белого повернулась к нему лицом – и остолбенела. «Наши близко встретившиеся взгляды… но ведь это то же, то же!..» То же, как и с Блоком, в санях.
С этого морозного поцелуя и «пошел кавардак, – писала она. – Не успевали мы остаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом… Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы». Уж не тогда ли, как в мемуарных записках вспоминал потом Белый, она призналась ему, что Блок «ей не муж», что они не живут как муж и жена, что она его «любит братски», а Белого – «подлинно». Но когда Белый сказал, что готов жениться на ней, Люба заколебалась. Кажется, тогда она и закурила впервые, приняла, как писала мать Блока, «залихватский тон», а иногда, некстати, начинала вдруг истерично хохотать…
Люба запретит Белому приезжать в Петербург, но будет слать ему странные письма: «Люблю Сашу… Но не знаю, люблю ли тебя; не мучаюсь этим… Милый, что это? Знаешь ли ты, что я тебя люблю и буду любить? Целую тебя. Твоя…»; «Несомненно, что я люблю и тебя, нетленно, вечно; но я люблю и Сашу, сегодня я влюблена в него, я его на тебя не променяю, я должна принять трагедию любви к обоим вам…»; «Теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами»; «Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне – брат, но теперь у меня относительно Вас слишком много трудностей и соблазнов – нам надо разойтись – до времени…»; «Вы ведь знаете весь мой демонизм и все мои соблазны. Увижу Вас, и опять меня потянет к Вам ближе, ближе, ближе… а я не хочу, не надо, не надо! Если знаете, как мне не изменить Саше, как быть с Вами, – скажите! Видите, Боря, что мне выхода теперь не найти другого, как не видеть Вас… Если возьмете все на себя, приезжайте. Все – все вопросы, все муки. И меня – не соблазняйте, будьте сильны решать самостоятельно… Я и твоя, да, да, и твоя. Хочу, хочу тебя видеть, приезжай»; «Саша почувствовал мое возвращение к тебе и очень страдает… Как ужасно, что не могу выбрать, не могу разлюбить ни его, ни тебя… Саша не хочет, чтобы ты приезжал… А я не могу себе представить, что не увижу тебя скоро, я хочу, чтобы ты приехал… Ты постарайся придумать, а я пока придумала одно – нехорошо, неудобно: что ты приедешь в Петербург, и я буду к тебе приходить, а ты к нам нет… Целую тебя долго, долго, милый…»
Могу представить, что творилось в голове бедного москвича. Люблю – не люблю, приезжай – не приезжай. Потом, через годы, в своей книге Любовь Дмитриевна будет путано, туманно объяснять свои метания между Блоком и Белым. Объясняла и темпераментом северянки, который похож на «замороженное шампанское», и материнскими – от казаков – корнями, и озорным, «разбойным» размахом характера. Последнее, кстати, не преувеличение. В гимназии Э.П.Шаффе, которая достояла до наших дней (5-я линия, 16), где училась Люба, и через полтора десятка лет «бытовало предание», как Менделеева во время урока («очень уж было скучно!») запустила в стену класса чернильницей. Это не она рассказывала – рассказала Евгения Книпович, которая была близка к семье Блоков и училась когда-то в той же гимназии. Но возвращаясь к переживаниям и метаниям Любы, – больше всего поражает их итоговая суть – совсем уж невозможная фраза Любы: «Той весной… я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать…» Таким «упорным», кажется, и оказался Андрей Белый. И она, чуть позже правда, сама позовет его приехать в Петербург…
«Она потребовала, – рассказывал Белый много лет спустя поэтессе Одоевцевой, – чтобы я дал ей клятву спасти ее, даже против ее воли. А Саша молчал, бездонно молчал. И мы пришли с нею к Саше в кабинет. Ведь я дал ей клятву. Его глаза просили: “Не надо”. Но я безжалостно: “Нам надо с тобой поговорить”. И он, кривя губы от боли, улыбаясь сквозь боль, тихо: “Что же? Я рад”. И так открыто, так по-детски смотрел на меня голубыми, чудными глазами, так беззащитно, беспомощно. Я все ему сказал. Как обвинитель. Я стоял перед ним. Я был готов принять удар. Даже смертельный удар. Нападай!.. Но он молчал. Долго молчал. И потом тихо, еще тише, чем раньше, с той же улыбкой медленно повторил: “Что ж… Я рад…” Она с дивана, где сидела, крикнула: “Саша, да неужели же?..” Но он ничего не ответил. И мы с ней оба молча вышли и тихо закрыли дверь за собой. Она заплакала. И я заплакал с ней. Мне было стыдно за себя. За нее. А он… Такое величие, такое мужество! И как он был прекрасен в ту минуту. Святой Себастьян. А за окном каркали черные вороны. На нашу голову каркали…»
После этого приезда «беленький заяц» – Андрей Белый – и пошлет Блоку «решительное» письмо… «Милый Саша, клянусь… что Люба – это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души; клянусь, что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что только через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак – это не видеть ее… Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Любе – необходим воздух моей души. Клянусь, что если я останусь в Москве, я погиб для этого и будущего мира: и это не просто переезд, а паломничество. Я… должен, должен, должен ее видать… Любящий тебя, твой Боря». После этого письма он и вызовет Блока на дуэль![52]
…Я начал этот рассказ с меблирашек на Серпуховской. Так вот, теперь Белый, мотаясь из Москвы в Петербург и обратно, чаще всего останавливался как раз в меблированных комнатах. Удобно! И было два адреса, где он жил чаще всего. Более того, эти две меблирашки располагались на одной улице, в двух угловых с Невским домах – напротив друг друга. Улица называлась Караванной. Слева, если смотреть с Невского, в угловом доме (Невский, 64) располагались комнаты «Бель-Вю», а справа – (Невский, 66) – меблированные комнаты «Париж».
В «Бель-вю» Белый жил в апреле 1906 года, когда еще на что-то надеялся. «Боря уже не архангел с мечом, не непогрешимый, – писала в те дни М.А.Бекетова, – а безумно влюбленный и очень жестокий мальчик, тупо внимающий каждому слову Любы. Сашура ревнует – Люба рвет и мечет из-за того, чтобы не помешали ей видеться с Борей». Да, Белый еще надеялся. Во всяком случае, позавтракав последний раз у Блоков, сыграв на рояле «Вы жертвою пали…» и выбежав из их квартиры, увидел, обернувшись, что Люба долго махала ему из форточки белым платком. Может, потому, что поверил в свои надежды, и послал Блоку вызов на дуэль…
А в соседнем доме, на Караванной, в меблированных комнатах «Париж», он поселится через полгода после этих событий, когда Люба сделает окончательный выбор в пользу Блока. Она сообщит Белому, что не писала ему, потому что ей надо было «изглаживать все, что было». А себе, на старости лет, признается: к нему ничего не чувствовала, «…а что выделывала!»…
«Картонная кукла», – горько назовет ее через пятнадцать лет Андрей Белый. «Ведь я любил ее священной любовью, – признается Одоевцевой. – А она оказалась картонной куклой. Ужас. Ужас… С кукольной душой. Нет, и кукольной души у нее не было. Ничего не было. Пар. Пустота. И все-таки из-за нее все погибло. Мы очутились в петле. Ни разрубить. Ни развязать. Ни с ней, ни без нее. О, до чего она меня измучила! Меня и… Сашу…»
Впервые это стало понятно ему как раз в меблирашках «Париж». «Побежден! – писал он в воспоминаниях о Блоке. – Побежден!..» Тогда он и отправит из этих меблирашек предсмертное, прощальное письмо в Москву матери…
Но это уже другая история. О ней – у следующего блоковского дома.
Восемь дней ждал решения судьбы в меблированных комнатах на Караванной умирающий от любви Андрей Белый. Позже, в воспоминаниях, Любовь Дмитриевна признается: «Отношение мое к Боре было бесчеловечно… Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как “знакомые”. Мне, конечно, эго было обременительно, трудно и хлопотливо… Игру я завела слишком далеко… Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от уже ненужной мне любви… Он был уверен, что я “люблю” его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка – был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права… Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов, меня самой и моей менделеевской семьи на придачу…»
Короче, Люба наконец прислала записку на Караванную – Белого приглашают. «Она принимает меня, – вспоминал позднее Андрей Белый, – но чтобы уничтожить… Я не успел опомниться, я ничего не сумел ответить. Не оправдывался. Не защищался… О, как она меня презирала, как сумела заставить и меня себя презирать!..»
Оскорбленный, раздавленный после встречи, он бежит из дома Блока, чтобы броситься в Неву. Письмо матери уже написано, он не хочет больше жить! Но не написаны еще воспоминания Одоевцевой, слова его про Неву, про выбранное им место смерти. «Там, – расскажет Одоевцевой в порыве откровенности, – баржи, гнусные, живорыбные садки. И все кругом рыбой провоняло. Даже утопиться нельзя. Прилично утопиться…»
Звучит трагикомически. Не будем забывать, конечно, что эти слова известны нам в пересказе Ирины Одоевцевой. А ведь Белый действительно хотел утопиться. Даже ногу через парапет перебросил… Хорошо, что из этой «затеи» ничего не вышло. Ведь наутро, чуть свет, новая надежда – записка от Любы – и новое свидание. Увы, оно только увеличило пропасть. Ему предложили не писать больше и не видеться. Ждать год… Целый год!..
«Я соглашаюсь, – рассказывал Белый. – Но не верю. Ничему больше. Еду в Москву, а оттуда – надолго – за границу… Да. Так все и кончилось. Для нее, для него. Но не для меня. Для меня и сейчас не кончилось. И никогда не кончится. Даже после смерти. Любовь? Нет, нет, какая там любовь? Но боль. И угрызения… Грызу свое сердце. Если бы можно было забыть. Но забыть нельзя…»[53] Он даже заболеет на нервной почве, и будет операция… А через год уже разъяренный Блок бросит ему перчатку – вызовет на дуэль…
Обе записки Белому Люба отправляла из первой «своей» с Блоком квартиры, на Лахтинской, 3, где молодожены поселились в 1906 году. Проживут они тут меньше года, но именно эта, 44-я квартира станет чуть не последним их общим домом – они едва не разъехались отсюда навсегда. Недаром про этот дом Блок мрачно напишет в стихах: «Одна мне осталась надежда: смотреться в колодезь двора…» Между прочим, типичный питерский двор: узкий и высокий, словно коробок спичечный без спичек, поставленный на попа.
Дом был только-только построен. Из-за непросушенных стен хозяева, говорят, сдавали здесь квартиры за полцены. Это и привлекло Блока. Квартиру сняли на пятом этаже – три небольшие комнатки с трехстворчатыми окнами. Сейчас, через столетие, все в этом доме, кажется, осталось таким же. Широкая лестница в кафеле, старые дубовые двери квартир, темноватые комнаты, вид из которых упирается только в стены и стены.
В этих комнатах Блок расхаживал в неизменной темной блузе с белым отложным воротником (так его и нарисовал художник Сомов) и курил еще «пахучие папиросы». «Потом, – как пишет поэт Зоргенфрей, – отрекся и от последней эстетической черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные». Тот же Зоргенфрей вспоминал: «Помню большую, слабо освещенную настольною электрической лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке – фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу… Тишина, какое-то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество… Когда я уходил, – заканчивает рассказ Зоргенфрей, – в смежной квартире раздалось негромкое пение; на мой вопрос – не тревожит ли его такое соседство, Блок, улыбаясь, ответил, что живут какие-то простые люди и чей-то голос поет по вечерам: “Десять любила, девять разлюбила, одного лишь забыть не могу”…»
О песнях, но уже из колодца-двора, писала, кстати, и Люба, писала Белому, но уже в Мюнхен: «У нас окна на двор… Каждый день приходят раза по три, по четыре разные люди “увеселять”. Женщина с шарманкой и двумя изуродованными детьми, которые на своих изломанных ногах пляшут неприличный кэк-уок, а потом звонким, недетским голосом один из них поет какой-то вальс и “Последний нынешний денечек…” – знаете? Солдаты поют, когда их расстреливают. – И добавляла не о песнях уже – о “музыке”: – Начала я читать социалистов и анархистов… Как вы можете считать себя социал-демократом? Не понимаю. Я, наверно, не смогу… Единственное, что в них для меня может стать близко, это то, что они на деле, в восстании, с рабочими, вот это музыка…» Такими были политические настроения семьи тогда. Ведь ровно два года назад Любовь Дмитриевна, рассказывая о какой-то демонстрации рабочих, с гордостью сказала Городецкому про мужа: «Саша нес красное знамя…»
Не грустно ли тебе, читатель, от такого рассказа? Мрачный дом, темные комнаты, унылый двор. Но не будем торопиться, ибо как раз в этом доме жизнь их станет, по словам Любы, как бы «передышкой». И у обоих, вообразите, грянут здесь романы…
За Любой стал ухаживать друг Блока – поэт Георгий Чулков. Не помню точно, где познакомился он с Блоком, но думаю, что в редакции журнала «Вопросы жизни», в котором не только работали, но и жили одно время Чулков с женой и Алексей Ремизов (Саперный, 10). А может – у Мережковских, которые и уговорили Чулкова возглавить этот свой журнал (Литейный, 24). Дружба была неровная – разговоры, чтения стихов, встречи за бутылкой вина. То виделись, как вспоминал Чулков, очень часто (однажды не расставались, например, трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга), то им «не хотелось смотреть друг на друга, трудно было вымолвить слово и прислушаться к тому, что говорит собеседник». Сохранилась записка Чулкова к Блоку: «Приходите в субботу, в 10 ч. вечера, 18 ноября в ресторан “Кин”… Там будет, быть может, что-нибудь смешное… Денег много не нужно, да и без денег можно… Кабинет – наверху». Наверху – это на втором этаже этого ресторана (Фонарный пер., 9). Были и в кафешантане «Аполло» (Фонтанка, 13), тут часто встречались как раз в 1907 году. Кстати, здесь Чулков, кажется, бывал потом и вместе с Любой во времена их романа – на это он как-то глухо намекает в одном из писем к Блоку. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Точно известно, что в ресторанах с Любой был. Ведь она, так считала, завела с ним роман «от скуки». Даже Блок писал в дневнике: «Ей скучно и трудно жить. Скучно со мной тоже. Я занят собой и своим, не умею “дать” ей ничего». Сама же она вспоминала, что Блок всегда говорил ей: «Ты все спишь! Ты еще совсем не проснулась…» Так вот в этом доме на Лахтинской зимой 1906/07 года Люба как раз проснулась.
Чулкову, скажем, писала: «О, я знала, что сегодня Вы будете не в силах от меня отделаться, что от Вас будет сегодня весть. А я разве не странно отношусь к Вам? Разве не нелепо, что когда Вы уходите, обрывается что-то во мне, и страшно тоскую. Но ничего мне не надо от Вас. Иногда только необходимо встретить Ваш взгляд и знать, что не уйти Вам от меня. Сегодня хотела бы видеть Вас, я дома сейчас и весь вечер. Ваша Л.Б.» И бумажка тонкая, и почерк легкий, летящий, почти несуществующий, умилялась Люба на склоне лет этому своему письму и, как бы оправдываясь, добавляла уже для нас, будущих читателей: «Не удивляйтесь умилению и лиризму при воспоминании об этих нескольких зимних месяцах – потом было много и трудного, и горького, и в “изменах”, и в добродетельных годах (и такие были). Но эта зима была какая-то передышка, какая-то жизнь вне жизни. И как же не быть ей благодарной…»
О романе с Чулковым вспомнит красиво: «Мой партнер, первая моя фантастическая “измена”, вспоминает с не меньшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было: и слезы, и театральный мой приход к его жене (Чулков жил в это время с женой по адресу Зоологический пер., 5. – В.Н.), и сцена a la Dostoievsky… Мы безудержно летели в общем хороводе: “бег саней”, “медвежья полость”, “догоревшие хрустали”, какой-то излюбленный всеми нами ресторанчик на островах с вульгарными “отдельными кабинетами” (это-то и было заманчиво!) и легкость, легкость, легкость…»
Чулков, который посвятит Любе цикл стихов «Месяц на ущербе», все это, но иначе, опишет потом в повести «Слепые». В ней художник Лунин встречается с дамой по имени Любовь Николаевна, женой его знакомого. Говорят о любви, посещают какой-то клуб, и она, прижимаясь к плечу Лунина, капризно тянет: «Я не хочу домой, я хочу на Острова…» Затем на Каменноостровском начнет торопить извозчика: «Скорей! Скорей!» – а потом, неожиданно запрокинув голову, крикнет: «Милый! Милый! Целуй!» Лунин, пишет Чулков, «покорно прижал свои холодные губы к ее тоже холодным губам». «Мы мертвые, – прошепчет в ужасе Любовь Николаевна».
Такая вот повесть. Но, помня о том, что и с Блоком, и с Белым она поцеловалась впервые в санях и примерно так же, этой истории веришь. Похоже. Ветер, быстрый бег коня, проносящиеся мимо дома – и поцелуи. И уже почти нельзя не верить другому, тому, что сближение персонажей повести происходит в ночь, когда умер отец героини. Кажется, именно так случилось с Любой и Чулковым и в жизни реальной. Нина Берберова спустя десятилетия нечаянно проговорится, что Белый как-то «в пьяном бреду» сказал ей: Люба и Чулков стали любовниками «в ночь смерти Менделеева». Великого отца Любы. В 1928 году на вечере памяти Сологуба в Ленинграде Чулков случайно столкнется с Любовью Дмитриевной, и она напомнит ему: «Двадцать один год тому назад, в этот самый день, мы ехали с вами ночью мимо дома моего отца, когда он умирал…» Напомнит и заплачет…
Блока роман жены не взволновал – все «уходы» ее он воспринимал как ответ на свои «никогда, – по его словам, – не прекращающиеся преступления». Поэт все чаще и чаще бывал в смутном настроении и, как, не без грустного остроумия, подметит художник Добужинский, «забронированным». Однажды, живя уже здесь, в. этой квартире, Блок вместе с Вячеславом Ивановым и Добужинским поедет в Москву на конкурс журнала «Золотое Руно» – «Дьявол». Такой была тема конкурса – «Дьявол»! «Ехали в спальном вагоне III класса, было очень холодно, и Блок, – пишет Добужинский, – забравшись на верхнюю “полку” над моей головой, улегся, как был, в шубе с поднятым воротником, в мохнатой круглой шапке и в калошах. Мне эго показалось глубоко символичным (особенно калоши!), точно этим выражалась забронированность поэта от “презренной действительности”. Я это ему заметил и насмешил»…
Да, от «презренной действительности» Блок и впрямь отгораживался, и это не могло не сказаться на его существовании. «За два-три года жизни и славы – какая перемена, – сокрушался, глядя на него, Сергей Маковский. – Как не похож он стал на того весеннего Блока в луче майского солнца!.. Жаль было на него смотреть». «Сам же себя туманил, – вспоминал Блока и наезжавший из Москвы молодой тогда писатель Борис Зайцев. – Мы ездили в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром. Много и довольно бестолково пили… Блок был хмур, что-то утомленное, несвежеее в нем ощущалось. Он не здорово жил…»
«Передышкой» для Блока станет его роман с Натальей Николаевной Волоховой – его «Снежной маской» – черноволосой, стройной, всегда в темных глухих платьях актрисой, с «крылатыми, – по его выражению, – глазами». Из-за «крылатых глаз» случился даже спор в литературных кругах: бывают ли такие – крылатые?
Началось с чтения пьесы Блока «Король на площади», которое состоялось в репетиционном зале актрисы Комиссаржевской (Английский пр., 30, кв. 34). «Блок был героем вечера, – вспоминал некий Дьяконов. – Он читал свою пьесу высоким, чуть-чуть глуховатым голосом, легко и красиво…» Тетка поэта незамедлительно горделиво запишет, что драма произвела бурю: «Актеры восхищаются, литераторы не только критикуют, но шипят и злобствуют…» Решили было ставить спектакль в том же сезоне, разговор об этом был, видимо, в квартире Веры Комиссаржевской, которая жила рядом (Английский пр., 27), но, увы, цензура пьесу не пропустила. Зато поставили другую блоковскую пьесу – «Балаганчик», поставили в только что открытом театре, организованном все той же Верой Комиссаржевской (Офицерская, 39).
Самого театра ныне нет, на его месте «разлегся» бескрайний стадион. Но о «Балаганчике» помнят и поныне. Еще бы, пьесу ставил Мейерхольд, он же играл в спектакле Пьеро, декорации писал Сапунов, знаменитый театральный художник, который скоро утонет в Финском заливе, а музыку к спектаклю сочинил Михаил Кузмин. Могу добавить для особо любознательных, что играли в спектакле также Екатерина Мунт, сестра жены Мейерхольда, и почти забытый ныне актер Голубев. Возможно, вам ничего не говорят эти имена, но именно у этой пары, когда они свяжут свои судьбы, родится девочка Марта, та, которая через много-много лет станет последней любовью Николая Лунина и, значит, невольной соперницей – в конце 1930-х – несравненной Ахматовой. Ну и, наконец, в «Балаганчике» играла Наталья Волохова, та самая – с «крылатыми глазами».
Поэт Минский еще до спектакля напишет жене: «Какая обида, что у Комиссаржевской будут играть пьесу идиота Блока! Они убьют свой театр!» Не убили, успех спектакля оказался феерическим. Часть публики была категорически «за», часть – «против», кто-то в партере кричал: «Нет, вы мне объясните, что это такое?!», кто-то, не смущаясь обстановкой, просто бандитски заложив в рот два пальца, во всю силу легких свистел…
«После закрытия занавеса, – вспоминал художник Анненков, – произошло подлинное столпотворение… грохот аплодисментов, крики возмущения, крики восторга… В этом же спектакле в тот же вечер рядом с Мейерхольдом выступал начинающий актер Таиров. Блок, Мейерхольд, Комиссаржевская, Таиров, Кузмин, Сапунов – одновременно, на одной и той же сцене! Значение этого вечера я ощутил только лет двадцать спустя…»
А юный поэт Сергей Ауслендер запомнит, как перед смятенной залой «стоял в своем строгом черном сюртуке с белыми лилиями в руках, гость неведомой страны, страж заповедной двери, Александр Александрович Блок, и в посиневших глазах его были грусть и усмешка». Усмешку эту Георгий Чулков назвал, правда, в письме жене «глупенькой улыбкой», но признался, что после спектакля они с Блоком расцеловались. «В общем, успех, – резюмировала в дневнике тетка поэта. – Автор и Люба сияли…»
Но еще до феерической этой премьеры Блок, что ни вечер, стал пропадать в театральных уборных актрис театра Комиссаржевской – Веригиной, Волоховой и Екатерины Мунт. Шутил, поддразнивал, смешил их. А однажды послал Волоховой розы со стихами «Я в дольний мир вошла, как в ложу…», где как раз и говорилось про ее «крылатые глаза». Совпадение, но и Веригина, которая станет другом поэта на всю жизнь, и Волохова – обе жили в тот год на Офицерской, недалеко от театра. Волоховой было уже двадцать девять, Блоку – двадцать семь лет. Они стали вдвоем бродить после спектаклей по пустынным улицам засыпающего города или, взяв лихача, уноситься в снежную даль. «Вновь оснеженные колонны, // Елагин мост и два огня. // И голос женщины влюбленный. // И хруст песка, и храп коня…» Между ними все было именно так, но, хотя отношения их длились без малого два года, говорить об очень уж большой влюбленности Волоховой вряд ли стоит. Хотя именно из-за нее Блок и Люба чуть не разъедутся в разные стороны из дома на Лахтинской; Блок даже пойдет искать себе комнату…
Надо сказать, правда, что все три подруги-актрисы довольно быстро подружатся и с Любой. Та станет по-домашнему приглашать их к себе, где гостьи, по воспоминаниям Веригиной, засиживались до двух-трех часов ночи. «Мы просто и искренне жили… каким-то легким хмелем», – напишет в своей книге Люба. Вместе ходили на «Башню» к Вячеславу Иванову, мэтру, учителю, судье, где Блок впервые прочел «Незнакомку». Вместе дурачились, разыгрывали друг друга. Иногда ездили на Сестрорецкий вокзал. Брали маленьких финских лошадок, запряженных в крошечные санки, и ехали. На вокзале, «скромно освещенном», пишет Веригина, пили рислинг. Ездили и в Куоккалу, к Мейерхольду, где катались на лыжах. А после премьеры «Балаганчика» на квартире актрисы Ивановой устроили знаменитый «Вечер бумажных дам», когда все женщины нарядились в платья из цветной гофрированной бумага.
Сказочная ночь: розовый диван, камин, шкура белого медведя, полумаски на шуршащих бумажными нарядами женщинах. Этот вечер опишет в повести «Картонный домик» Михаил Кузмин. Волохова шутя подвела Блоку брови. Мейерхольд, Сапунов, Городецкий, Ауслендер, Чулков, Пронин и кто еще там… все они «танцевали, кружились, садились на пол, пели, пили красневшее в длинных стаканах вино, как-то нежно и бесшумно веселясь в полутемной комнате»… Здесь, в одной из комнат, Веригина, кстати, застала Любу с Чулковым; они сидели на диване. Причем, когда вошли остальные, Люба вдруг встала и в смущении надела на Волохову свои бусы…
Но чаще всей компанией встречались у Блока на Лахтинской. Тут как-то раз Блок шутя предложил Веригиной: «Давайте женим наших детей». Веригина засмеялась: «Но у нас нет детей». – «Ничего, будут, – сказал Блок. – У вас будет дочь Клотильдочка, а у меня сын Морис. Они должны пожениться». Потом, через несколько дней, вырежет из газеты «Клотильдочку» и «Мориса» и весь вечер будет острить по этому поводу, находя, что ноги Клотильдочки очень похожи на ноги Веригиной. «Саша, – раздражалась Любовь Дмитриевна, – доходит до истерики с этими Клотильдочками». А мать Блока о том времени напишет: «Волохова не любит Сашу, а он готов за ней всюду следовать. Люба совсем полюбила Чулкова и с ним сошлась. Хотели разъезжаться, но почему-то решили этого не делать…» Напишет, что ей жаль Любу до слез, что Саша «вполне откровенно и весело» ухаживает за актрисой Волоховой, а Любе на ее предложение, например, поехать за границу легко отвечает: «С тобой неинтересно». «И каково ей все это переносить при ее любви, гордости, самолюбии?» Но позже, в октябре 1907 года, мать Блока, размышляя о Волоховой, вынуждена будет признать: «Люба перед ней совершенно меркнет, несмотря на всю свою прелесть и юность. Та какого-то высшего строя. Не от того ли он такой злой? Ведь она, кажется, холодна…»
А что же дуэль, о которой я обещал рассказать в прошлый раз? Вызов Блока, брошенный Белому? Так вот, причиной станет обвинение Белым Блока чуть ли не в лакействе и двоедушии. Любы это не касалось, речь шла об одной статье, но Блок ответит другу яростным письмом. «Предоставляю Вам десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо, – напишет он, – для того, чтобы Вы – или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, – или прислали мне Вашего секунданта». Белый возьмет слова назад, но напишет: «Теперь Вы для меня – посторонний, один из многих, а со всеми не передерешься…» Двенадцать страниц письма его Блок прочтет матери и Любе. Мать заметит, что в глубине Андрея Белого «сидит мелкий хам (мелкий бес)», а «Саша же в глубине прост и великодушен». «Писатель Андрей Белый, – напишет она, – горячий, нужный и прекрасный, человек Бугаев – дрянной, немощный и лживый». А Люба, прочтя письмо бывшего возлюбленного, прямо скажет о Белом: он – Антихрист, и она его победила…
…Волохова, которая переживет поэта на сорок пять лет, не исчезнет из его жизни в одночасье. Блок посвятит ей цикл стихов «Фаина», подарит вышедшую книгу «Снежная маска», которую переплетет в темно-синий бархат и украсит маленькой бронзовой виньеткой в углу. В книге напишет: «Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города»…
Через год под этим посвящением Волохова выведет: «Радостно принимаю эту необычайную книгу, радостно и со страхом – так много в ней красоты, пророчества, смерти. Жду подвига. Наталия. 908 г. – 27/ II». Какого подвига будет ждать она от поэта, уж и не знаю. Но знаю, что раздосадованно выговаривала Блоку за намеки в его стихах на близость с ней, чего-де на самом деле не было, и поэт, вообразите, вынужден был признать, что это всего лишь «поэтическое преувеличение».
Она, чье сияние, по словам все той же тетки Блока, «длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта», жалела, надо сказать, что не может влюбиться в Блока по-настоящему. «Зачем вы не такой, – говорила, – кого бы я могла полюбить!» К ней даже приехала как-то Люба и прямо спросила: может ли, хочет ли Волохова принять Блока на всю жизнь? Волохова же, торжествующая, победоносная, ответила…
Впрочем, что сказала жене Блока «Снежная маска», об этом – у следующего дома поэта.
«Правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это? – написал когда-то Достоевский. – Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи».
Что ж, и подмешивали, не стесняясь, десятилетиями после смерти всякого великого человека. Блок не стал исключением. А ведь правда его жизни, хотим мы того или нет, всегда была неправдоподобной. Как, впрочем, и сам он – неправдободобный по гениальности поэт…
«Угольным» домом – вместо «угловым» – назвал Андрей Белый дом рядом с Николаевским мостом (мост Лейтенанта Шмидта), где в октябре 1907 года поселился Блок. Дом этот, впрочем, даже не угловой, он, под номером 41, стоит плечом к плечу с другими домами и ныне на Галерной. Но действительно – рядом с мостом через Неву.
Сюда, в уютную квартирку, в здание, расположенное почти по-соседству с одним из домов великого свойственника Блока – Пушкина (Галерная, 53)[54], семья Блока (он да Люба) переехала, как я уже сказал, в 1907-м. Проживут здесь почти три года. И здесь с ними случится несчастье, которое навсегда оставит след в их отношениях.
Еще юный Блок, я уже говорил об этом, хотел бы жить и умереть на сцене – «от разрыва сердца». С ним, как мы знаем, этого не произойдет. Но «сцена», в переносном смысле, будет терзать его всю жизнь. Именно «сцена» даст ему, а потом и отнимет единственного ребенка Любы…
Новое жилье в доме на Галерной – четыре комнатки во втором этаже, окнами на одну сторону, во двор, – новоселы обустраивали, как никогда, любовно. «В квартире нашей очень хорошо, сейчас (утром) – яркое солнце… Полируют ширмы. Вешают занавески», – напишет Блок матери в Ревель, куда по службе переведут его отчима Кублицкого-Пиоттух. Напишет, возможно, еще из меблированных комнат в Демидовом переулке, где вынужден был жить временно (пер. Гривцова, 16). Через пять дней уже Люба сообщит свекрови, что в квартиру привезли наконец цветы. «Кофей и бамбук прекрасно встали в столовой и моем “будуаре”, а финиковую пальму совершенно нельзя поместить. В спальне висят вышивки, а на окнах белые занавески с розами. Волохова громко ахнула, когда вошла. Ей очень понравилось и то, что ванна тут же. Купила еще Саше ночной столик красного дерева, удобный. Ширма обита, стулья тоже. Обивать пришлось самой, обойщиков теперь не дождаться…»
Квартиру поэта опишет потом Зоргенфрей: «Ни массивного письменного стола, ни пышных портьер, ни музейной обстановки. Две-три гравюры по стенам, и в шкапах и на полках книги… Столовая небольшая, почти тесная, без буфетных роскошеств». «Сжато, уютно, просто, – запишет и Зинаида Гиппиус, бывавшая здесь с Мережковским. – Любовь Дмитриевна, слишком крупная для маленьких комнат, была не та. В ней погас играющий свет, а от него шла ее главная прелесть…»
Помните, теми же словами про «погасший свет» сказала, только о Волоховой, и тетка поэта? Помните: ее «сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта»? Уж не значит ли, рискну я предположить, что женщины как-то по-особенному «светились» рядом с Блоком?
Я обещал рассказать, что ответила Волохова на вопрос Любы: может ли она принять поэта на всю жизнь? Так вот, сначала Любе, а потом и самому Блоку «Снежная маска» твердо сказала «нет». Позже Блок уничтожит даже письма к ней. Расстанется с Волоховой навсегда, но уже не в Петербурге – в московской гостинице. Волохова (так пишут) оказалась хоть и утонченной, но вполне земной, как сказали бы ныне, прагматичной женщиной. «Ты твердо знаешь: в книгах – сказки, // А в жизни – только проза и есть», – написал о ней Блок. И свет в Волоховой погас[55].
Впрочем, вернемся в новый дом Блока. Кто только не приходил сюда к нему! Бывали Ремизовы, с которыми поэт ездил к «хлыстам» за Московскую заставу, приезжал из Москвы, и не раз, Брюсов, забегали Мейерхольд, Пяст, Городецкий, Чулков, с которым Блок играл за обеденным столом в шахматы (шахматы и шашки подарил поэту как раз Чулков). А с Городецким – возможно, уже в его доме (12-я линия, 15), – дурачась, переделывали имена поэтов и их книг. «Валерий Брюсов превратился в Похерия Злюсова, – вспоминал Модест Гофман, – “Стихи о Прекрасной Даме” Блока в “Хи-хи, напрасно вы сами” А.Плоха; “Золото в лазури” А.Белого – в “Здорово надули”…»
Наконец, приходил сюда к поэту и сам мэтр, высокоученый Вячеслав Иванов, который, несмотря на свою заоблачность, так боготворил Блока, что всякий раз, возвращаясь из Москвы, посылал Блоку из цветочного магазина цветы с курьером. Именно в эту квартиру посылал.
Я не говорю, конечно, о курьезных визитах сюда – о даме по фамилии Бриллиант, писательнице Надежде Санжарь, которая ходила по великим людям столицы, простите, за… «зародышем». Была у нее такая «блажь» – хотела иметь «солнечного сына» от гения. Перед визитом, пишут, долго обсуждала с мужем, в достаточной ли степени данное лицо гений и порядочный ли человек. Была у Леонида Андреева, Валерия Брюсова и даже у мэтра – Вячеслава Иванова. Последний, прямо скажем, не был пуританином, еще недавно на Лахтинской у Блока читал стихотворение о «666 положениях при любовных занятиях». Да и жена Вяч. Иванова, тоже писательница, была «дамой без предрассудков». Но тогда, услышав из соседней комнаты, чего хочет от ее мужа Санжарь, мгновенно ворвалась в комнату и запустила в нее керосиновой лампой. Весь кабинет «Вячеслава Великолепного вонял керосином» три дня… А Блок, кстати, с ней, с Надеждой Санжарь, подружится и будет долго, как сказали бы сегодня, «курировать» ее творчество.
Бывала здесь и вся прежняя компания: художники, актрисы (они хотели под водительством Любови Дмитриевны учредить свой театр) и верный друг Блока еще с 1903 года, по его признанию, «лучший из людей» – Евгений Иванов. Блоки тоже бы ваш у него в подвальной квартирке на Николаевской (ул. Марата, 75). «Рыжий», «Рыжак», «Счетовод» – так, любя, называли его. Он и впрямь служил но бухгалтерской части, хотя через много лет, в советское уже время, станет детским писателем.
«Рыжий Женя, в противоположность болтливому Пясту, молчал часами, – вспоминал ядовитый однофамилец его Георгий Иванов, – потом произносил ни с того ни с сего какое-нибудь многозначительное слово: “Бог”, или “смерть”, или “судьба” – и снова замолкал. Почему Бог? Что смерть? Но рыжий Женя смотрит странно… скалит белые, мелкие зубы, точно хочет укусить, и не отвечает…» Говорят, Блока он привлекал безупречной нравственной чистотой, открытым характером и – не в последнюю очередь – прочным и благообразным семейным бытом, столь непохожим на мучительную, рваную семейную жизнь самого поэта…
Впрочем, я вспомнил о нем потому, что именно он и именно в годы жизни поэта на Галерной учил Блока кататься на велосипеде. Трудно себе представить, что Блок, как и мы, простые смертные, судорожно хватался за руль, скрючивал все тело, беспомощно падал на бок – так описывал его попытки Иванов. Да и сам Блок сообщал матери: «Женя часа два учил меня велосипеду. Раз 15 я свалился, вымок до нитки (изнутри), но под конец сажен 15 проехал более или менее самостоятельно. Впрочем, и тут свалился под конец… Быстро пожирает пространство эта легкая машина… Ах, какое это занятие!..»
Евгения Иванова звали Рыжим за его бороду. Так вот, с ним, после Белого и Чулкова, возник новый флирт у Любы. Но не от него и не от Кузьмина-Караваева, как считалось раньше, родится у нее сын, а от «хулигана из Тьмутаракани – актеришки», по словам Блока, от Константина Давидовского. Люба, правда, величала его пышно – пажом Дагобертом (он, кстати, тоже играл в театре Комиссаржевской, когда Блок триумфально покорял сцену).
«Он не был красив, – вспоминала Люба о Давидовском на старости лет. – Но движения молодого хищного зверька. И прелестная улыбка, открывающая белоснежный ряд зубов. Несколько парализовал его дарование южный акцент, харьковское комканье слов, с которым он не справлялся. Но актер превосходный, тонкий и умный».
«В тот день, после репетиции и обеда, – писала она, – мы сидели в моем маленьком гостиничном номере, на утлом диванчике. Перед нами на столе лежал, как предлог для прихода ко мне, какой-то французский роман. Паж Дагоберт совершенствовался в знании этого языка, а… я взялась ему помогать… Когда пробил час упасть одеждам… я настолько убедительно просила дать мне возможность показать себя так, как я этого хочу, что он повиновался, отошел к окну, отвернувшись… Было уже темно, на потолке горела электрическая лампочка – убогая. Банальная. В несколько движений я сбросила с себя все и распустила блистательный плащ золотых волос, всегда легких, волнистых, холеных… Отбросила одеяло на спинку кровати… Протянулась на фоне этой снежной белизны и знала, что контуры тела еле-еле на ней намечаются, что я могу не бояться грубого, прямого света, падающего с потолка, что нежная и тонкая, ослепительная кожа может не искать полумрака… Может быть, Джорджоне, может быть, Тициан… Паж Дагоберт повернулся… Началось какое-то торжество, вне времени и пространства… Начался такой пожар, такое полное согласие всех ощущений, экстаз почти до обморока, экстаз, может быть, и до потери сознания… Я была я, какой о себе мечтала, какой только и надеялась когда-нибудь быть…»
Да, настоящая правда – неправдоподобна, прав, увы, Достоевский. Она пишет о случившейся любви высокопарно, выспренне, может, на октаву выше, чем это можно вынести сегодня… Нет, кажется, права была Ахматова, когда, прочитав книгу ее воспоминаний, в том числе и эту сцену, коротко сказала: «Ей надо было только промолчать, чтобы остаться женой великого человека».
А Любовь Дмитриевна, вспоминая этот, по сути, адюльтер, назвала его «лучшим», что было в ее жизни. Скоро, очень скоро, уже на гастролях в Тбилиси, она порвет с Давидовским, и, как напишет, порвет «глупо, истерично, беспричинно»…
Сына от этой любви рожала четверо суток. Расплата! Хлороформ, щипцы, температура сорок. Когда-то, еще до свадьбы, «предельным ужасом» казалось ей иметь ребенка. Блок даже успокаивал ее, говорил, что «детей у него не будет». Возможно, потому, вернувшись с гастролей беременной, она бросилась к докторам: аборт казался спасением. Потом обо всем сказала матери Блока. «Саша – тоже что-то вроде нотации: пошлость, гадость, пусть будет ребенок, раз у нас нет, он будет наш общий. И я, – пишет Любовь Дмитриевна, – спасовала, я смирилась… С отвращением смотрела я, как уродуется тело, как грубеют маленькие груди, как растягивается кожа живота… Саша очень пил в эту зиму и совершенно не считался с моим состоянием…»
Нет, Блок принял ребенка, это известно. Даже ждал его. «Почему-то помню ночные телефоны Блока из лечебницы, – писала Зинаида Гиппиус. – Наконец однажды, поздно, известие: родился мальчик. Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой… Выбрал имя ему – Дмитрий, в честь Менделеева…» «О чем вы думаете?» – спрашивала его Гиппиус. «Да вот… Как его теперь… Митьку… воспитывать?..» Увы, мальчик умрет через восемь дней. Лицо Блока станет из светлого – «испуганно-изумленным». Сам же Блок писал матери в то время: «Я никогда еще не был… в таком угнетенном состоянии, как эти дни». А тетка поэта прямо скажет про умершего младенца: «Мне жаль его, потому что Любе его мало жаль. Неужели она встряхнется, как кошка, и пойдет дальше по-старому?..» Что ж, встряхнулась и пошла… Правда, с Давидовским умрет в один и тот же год – в 1939-м…
Сцена мстила Любе, но ведь рикошетом – и Блоку. Ведь он за месяц до рождения мальчика, 3 января, на новогоднем вечере у поэта Сологуба, слишком веселился и дурачился, был, что называется, в ударе. И там, у Сологуба, встретил женщину, которая давно уже была в поле его зрения, – Валентину Богуславскую (в замужестве Щеголеву), тоже актрису и тоже из театра Комиссаржевской. Она была замужем за Павлом Елисеевичем Щеголевым, известным пушкинистом, написавшим знаменитую книгу «Дуэль и смерть Пушкина». В то время Щеголев, издатель-редактор прореволюционного журнала «Былое», сидел «за политику» в Крестах. Где писал, кстати, опять-таки книгу о Пушкине. А жену его пригласили к Сологубу – развеяться. И вот неожиданно для обоих – эта встреча.
Приятельница Щеголевой, Надежда Чулкова, писала, что та «была совсем некрасива лицом, но очень женственная и грациозная, имела приятный голос. Когда она волновалась, речь ее была порывистой и почти бессвязной». «Бормотаний твоих жемчуга», – напишет Блок про ее быструю и туманную речь в одном из трех стихотворений, посвященных Щеголевой.
Впервые Щеголева, если ссылаться на ее дневник, увидела Блока в конце апреля 1908 года. Странно – они не могли не видеться в театре Комиссаржевской, где она играла и где Блок еще недавно проводил буквально дни и ночи. Но встретились и остались вдвоем, видимо, действительно в апреле 1908 года.
«Случайно… попала с Блоком на острова, – вспоминала Щеголева. – Блок… смотрел на меня смеющимися глазами и, проводив до дому, вдруг сказал молящим голосом: “Поедемте на острова, очень прошу вас”. Ослепительное утро, Летний сад, весь одетый желто-зеленым пухом, черные упругие стволы деревьев. Я согласилась, – пишет Щеголева. – Этот человек так жадно и глубоко впитывает жизнь, и он так не похож на других. С ним страшно, он слишком притягивает к себе. И жизнь его такая странная. Прелестная жена – и вдруг Волохова, и он точно сомнамбула или лунатик на краю крыши… Эта поездка на острова и потом в Ботанический сад и поведение Блока. Зачем я ему? Он так жадно и страстно меня целовал, точно голодный… Я боролась, я сердилась, возмущалась и смеялась, в конце концов. Что спросить с этого умного очаровательного человека. Только бы мне не влюбиться, вот была бы штука… Но все-таки все это утро на взморье, голубой шелк моря, лодка и мягкая рука на веслах. И ему и мне было очень весело…»
Она почти сразу напишет ему письмо, черновик его сохранится. «Моя любовь… не требует жертв. Она сама вся жертва, вся восторг, вся приношение. Но именно потому-то я и не отдаю тебе мое тело, мое земное прекрасное тело, что люблю тебя высшей, не знающей конца, не видящей начала вечной любовью. Смотреть на тебя… видеть тебя… умереть за тебя. Поцелуи твои, ласки твои горячи – это радость неизъяснимая, прекрасный цветок… Знать, что ты любишь другую, – страшно режущим терзанием разрывается сердце, но все же любить тебя…»
Блок на страстное это «бормотание» ответит коротко: «Простите меня, ради бога, многоуважаемая Валентина Андреевна. Если бы Вы знали, как я НЕ МОГУ сейчас, главное – внутренне не могу: так сложно и важно на душе. Сегодня получил Ваше письмо и думал; но – не могу, право, поверьте. И еще – я, должно быть, уеду на той неделе в деревню… Целую Ваши руки…»
И вот теперь – этот новогодний маскарад в доме у Сологуба (Гродненский пер., 11). Блок дурачился, испытывая молодую силу, шутливо, но прямо-таки со страстью боролся с приглашенными мужчинами, в том числе с драматургом Дымовым, который уложил его, увы, на обе лопатки. Все были в маскарадных костюмах. А пол в квартире был сплошь усыпан пестрыми конфетти. Цветной серпантин во время ужина так и летал с одного конца стола к другому, особенно часто обвивая голову Блока.
Щеголева приехала без маскарадного костюма, ее тут же, накинув на голову длинную белую вуаль, нарядили грузинкой. И почти сразу перед ней, как из-под земли, выросли три черных домино. Блока она узнала по рукам, он снял капюшон. «Запотевшее, красное от маски и жары лицо, – вспоминала Щеголева, – чуть прилипшие на лбу завитки волос и милая улыбка. Это был Блок. Атмосфера вечера захватила его, он был очень весел, дурил, – вспоминала она. – Надевал мою фату и вдруг исчез…»
Она пишет, что для нее с его исчезновением все вокруг сразу потускнело. И вдруг, в кабинете Сологуба, она увидела его сидящим за письменным столом и что-то быстро писавшим. Щеголева повернулась, чтобы выйти и не мешать, но услышала тихий голос: «Валентина Андреевна…» Обернулась. Блок протягивал ей сложенный в четверть листок бумаги. Это были стихи о той поездке в лодке по заливу. Этот листок, который она жадно спрятала за корсет, превратил для нее суетливый вечер в настоящий праздник. Когда всех позвали ужинать, поэт сел рядом с ней.
«Мое волнение, видимо, передалось Блоку, – пишет Щеголева, – он почти не владел собой. Я спокойным голосом предлагала ему вина, в то время как мои глаза боялись заглянуть в глубину его глаз, и в сердце вдруг заползла какая-то нестерпимо терпкая тоска. В глазах его я видела зверя… Задыхаясь, он шепнул мне: “Умоляю вас, умоляю, пойдите в кабинет… Я должен вам сказать несколько слов”. Я, как загипнотизированная, поднялась… Блок шел за мной. Я обернулась, мне сделалось страшно, и не успела опомниться, как была сжата сильными объятиями… К моим губам прильнули горячие сумасшедшие губы, в промежутке я только успела шепнуть: “Оставьте, оставьте, оставьте меня”. В дверях, как статуя командора, стоял Чулков. “Александр Александрович, Валентина Андреевна”, – настойчиво повторял он. Это было ужасно…»
Под утро Блок сказал, что проводит Щеголеву. Сологуб заметался, он очень не хотел, чтобы они ехали вместе, и выставил самый страшный аргумент: «Александр Александрович, подумайте о Любови Дмитриевне, она беременна. Валентина Андреевна, подумайте о Павле Елисеевиче». Напоминал, что муж Щеголевой был в это время в тюрьме. Она же пишет, что нельзя, нельзя было поминать эти имена в это «пепельное» утро. Это ее слово – «пепельное», и какое, заметьте, точное! «Когда я села на извозчика, – пишет Щеголева, – ко мне протянулись нити разума, реальности и слова Сологуба, точно удар кнута по совести, сорвали прекрасную радугу… Мы молча доехали до Финляндского вокзала… Вся радость была смята. Помню, что я твердила: “Не думайте обо мне плохо”. Мне было гадко. Блок тяготил меня… И я, – заканчивает Щеголева, – решила. Больше я не увижу этого человека…»
Конечно, они увидятся еще. Блок еще будет ночами ходить у дома Щеголевой, чье имя – Валентина – назовет в стихах «льстивым». В январе 1911 года напишет ей в одном из восьми сохранившихся писем: «Ничего не знаю. Я думаю о Вас давно. Я давно кружу около Вашего дома. Теперь – второй час ночи. К Вам – нельзя. Сейчас я хотел идти к Вам и сказать Вам: сегодня – все, что осталось от моей молодости, – Ваше. И НЕ ИДУ. Но услышьте, услышьте меня – сейчас…»
Где был дом Щеголевой, около которого кружил поэт, я не знаю, возможно, это был дом на улице Широкой (ул. Ленина, 23), где она с семьей жила в 1913-м, а может быть уже – на Большой Дворянской (ул. Куйбышева, 10), куда Щеголевы, как я читал где-то, переехали во время Первой мировой войны. Но последнее стихотворение из «трех посланий» Блок напишет ей, когда сам уедет уже из дома на Галерной в новую свою квартиру на Петроградской. А Щеголева и шесть лет спустя будет горько признаваться себе: «Как мучает меня этот великий человек, сам того не зная…»[56]
Да, с Блоком женщины светились. Но счастья им он не приносил. Да и сам, кажется, не был счастлив. Ахматова под конец жизни написала, что Блок вообще «дурно, неуважительно относился к женщинам…». «Мне рассказывали, – пишет она, – две женщины, обе молодые и красивые… Одна была у него в гостях поздно, в пустой квартире… другая в “Бродячей собаке”… обе из породы женщин– соблазнительниц… А он в последнюю минуту оттолкнул их: “Боже… уже рассвет… прощайте… прощайте”».
Что тут скажешь? Мне думается, что над всеми такого рода коллизиями доминировала какая-то неслыханная, непредставимая и зачастую (что бы ни имели при этом в виду) необъяснимая жалость к «предметам» своих увлечений, жалость, которая сродни любви. Я бы сказал, неправдоподобная жалость, которая, как и правда, всегда такой и бывает…
Мне кажется, я найду доказательства этому. Потому что Максим Горький, разговорившись однажды в каком-то ресторане с падшей женщиной, смог, по его признанию, лучше понять Блока…
Впрочем, это уже новая история и тема следующего рассказа.
Ради него мы как раз и встретимся у нового дома поэта – у дома на Петроградской.
Я люблю бывать здесь: это почти единственный блоковский дом, где легко – по опубликованным ныне воспоминаниям – можно найти окно его кабинета. Оно на последнем этаже, почти одно полукруглое – в самом центре фасада. До недавнего времени именно там, в бывшем кабинете Блока, была кухня коммунальной квартиры. Я еще застал ее – квартиру как раз расселяли. А хозяева будущей отдельной квартиры, молодые и симпатичные люди, очень, помню, удивлялись, что кабинет поэта был когда-то в их нынешней кухне. Кстати, современники Блока утверждали, что именно это окно, окно его кабинета, никогда не задергивалось занавесками, что создавало поэту широкий обзор крыш, деревьев, Каменноостровского проспекта вдали.
Блок переехал сюда в августе 1910 года. «Светлая, как фонарик, вся белая квартирка, – писала Зинаида Гиппиус. – Нас встретила его жена. А Блок еще спал… Вернулся поздно… – только утром. Через несколько времени он вышел. Бледный, тихий, каменный, как никогда…» «У окна – письменный стол, лампа под бумажным гофрированным абажуром», – описал кабинет Блока Грааль Арельский, молодой поэт. «На столе был такой порядок, – добавит Корней Чуковский, – что хотелось немного намусорить… Вещи, окружавшие его… казалось, сами собою выстраивались по геометрически правильным линиям…» «Мебель красного дерева – русский ампир, темный ковер, два книжных шкапа по стенам. Один с отдернутыми занавесками – набит книгами. Стекла другого затянуты зеленым шелком. В нем бутылки вина “Нюи” елисеевского разлива №22», – пишет уже Георгий Иванов, поэт, появившийся здесь с Чулковым еще будучи кадетом. Глазастым оказался кадет: только он заметил, что, работая, Блок раз за разом наливал себе вина, причем всегда в новый, тщательно протертый стакан, залпом выпивал его и опять садился за стол. «Без этого, – утверждал Георгий Иванов, – не мог работать…»
Блок – самый «серафический» из поэтов – аккуратен и методичен до странности, вспоминал Г.Иванов. Если он заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках, трубка с телефона снята. Это не значит, что он пишет стихи. Чаще он отвечает на письма. «Почерк у Блока ровный, красивый, четкий, – не без зависти сообщает Г.Иванов. – Пишет… не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге»…
Кстати, письма Блок не только нумеровал, но и фиксировал в специальной книжке оливковой кожи с золотым обрезом. Писем получал множество, порой вздорных и сумасшедших. Но от кого бы письмо ни было, непременно на него ответит, в одну графу занесет, от кого и когда получено, в другую – краткое содержание письма и даже своего ответа. «Откуда в тебе это, Саша? – спросил его однажды Чулков, который никак не мог привыкнуть к блоковской методичности. – Немецкая кровь, что ли?» И запомнил ответ: «Немецкая кровь? Не думаю. Скорее – самозащита от хаоса…»
Много писем было от женщин, от незнакомок: его боготворили. Мать писательницы Либединской, Татьяна Толстая, поэтесса с псевдонимом Татьяна Вечорка, вспоминала, что ее подруга Сонечка (фамилия, как принято говорить ныне, в редакции имеется!), «тургеневская девушка» с мягкой длинной косой и кожей в родинках, подкрадывалась к дверной ручке Блока на лестнице и обцеловывала ее. А однажды, встретив поэта на улице, весь вечер незаметно шла за ним и подбирала его окурки. Целую коробку набрала и едва не молилась на нее потом. Так к нему относилась молодежь, и особенно девицы. А он, крутя романы с актрисами, признавался, что больше любит женщин, похожих на героинь Достоевского…
Неземной Блок легко достигал вершин, «неземных высот», но столь же легко и вполне осознанно опускался и на самое дно. Наверное, не был лишен глубоко скрытого честолюбия. В разговоре с Ю.Анненковым, смеясь, говорил, что имя отца его – Александр Блок – две начальные буквы алфавита: А и Б. Имя матери – Александра Андреевна, урожденная Бекетова – три буквы: А, А и Б. Имя ее отца и его деда – Андрей Бекетов: А и Б. Наконец, «мое имя – Александр Александрович Блок: А, А и Б. Я родился и живу в самых первых рядах алфавита, и, может быть, поэтому многие часто считают меня надменным, высокомерным… На самом деле это совсем не так». И был до смешного скромен. Однажды, глубокой ночью, именно на Монетную пришла телеграмма из «Вены». В ней сообщалось: Блока выбрали «королем поэтов». «Вена» – не город, ресторан, в котором пировали художники, артисты, самые знаменитые писатели и самые блистательные женщины того времени (М. Морская ул., 13). Какие там заключались пари, какие завязывались романы, придумывались мистификации, как воспаряла мысль! А в ту ночь поэты заспорили – кто из них самый лучший. За отсутствующего Блока проголосовали Мандельштам, Пяст, Гиппиус и Елизавета Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко. Так вот, Блок не придал этой победе никакого значения. Это Маяковский скоро оскорбится, что не его, а Северянина выберут «королем поэтов», последним «королем» русской поэзии, – с тех пор турниров таких не устраивали. А Блок, повторяю, был скромен. Павел Лукницкий в середине 1920-х запишет слова Ахматовой: «О хвастовстве: “Вот чего не было у Блока… Ни в какой степени. С ним можно было год прожить на необитаемом острове и не знать, что это – Блок!” У него, – записывал за Ахматовой Лукницкий, – не было ни тени желания как-то проявить себя в разговоре…» Даже, заметим, в разговоре! На собраниях, на вечерах и «тусовках», как сказали бы сегодня, Блок чаще всего сидел, слушал и молчал. «Я никогда не видал, – напишет позже о Блоке К.Бальмонт, – чтобы человек умел так красиво и выразительно молчать. Это молчание говорило больше, чем скажешь какими бы то ни было словами…»
Да, он легко достигал «неземных вершин». А однажды реально «столкнулся с небом». Поэт Грааль Арельский, в миру Степан Петров, студент-астроном, вытянул как-то Блока из «белой квартирки» в обсерваторию, в Народный дом, где часто дежурил по ночам. Там, желая подшутить над Блоком, который «благоговейно и даже со страхом поглядывал на рефрактор», Арельский навел телескоп на золотого ангела Петропавловского собора. Из-за оптического обмана эффект оказался настолько силен, что Блок невольно отшатнулся от окуляра. А потом, спустившись в каморку Арельского и выпив чаю с красным вином, признался: его «подавляет эта бесконечность миров; она вызывает чувство какой-то мучительной тоски»…
Перепады настроения у Блока учащались, и, кажется, это от него уже не зависело. Не тоска ли заставляла его до сумасшествия играть с женой в «акульку», не от тоски ли написал он о радости «несказанной» по поводу, представьте, гибели «Титаника», случившейся в те дни? «Есть еще океан», – начертал мстительное (только вот – кому?) объяснение этому. А вообще, мог быть беспричинно то веселым, то «каменным». В этой квартире смешил актрису Веригину: притворялся, что налетает лбом на косяк двери, а на деле, переходя из комнаты в комнату, незаметно хлопал одной ладонью по дереву, а другой хватался за голову, громко крича при этом. И здесь же несколько ночей подряд мрачно просидел с Клюевым, поэтом.
Первое письмо от Клюева Блок получил еще три года назад. «Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к Вам с просьбой – прочесть мои стихотворения, и если они годны для печати, то потрудиться поместить их в какой-либо журнал…» В другом письме Клюев даже не требовал, а уже нападал на «барина» Блока: «Сознание, что “вы” везде, что “вы” “можете”, а мы “должны”, – вот необоримая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с “вашей”? Кроме глубокого презрения и чисто телесной брезгливости – никаких». Так доказывал Блоку разницу между ними. И убеждал: примите на себя «подвиг последования Христу». Блок запишет: «Послание Клюева все эти дни – поет в душе». Он и сам, после ухода Толстого из Ясной Поляны, думал про это. «Знаю все, что надо делать, – писал в декабре 1911 года, – отдать деньги, покаяться. Раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу…»
Тоска гнала поэта в Юкки, где на мальчишеских санках они с Владимиром Пястом вдруг начинали кататься до одури с высоких холмов; на американские горки в «Луна-парк», где Блок спустился, по его же подсчету, аж восемьдесят раз. Жена даже жаловалась, что он «докатывается до сумасшествия». Но Блок, как ребенок, любил эти простые развлечения: «Я один, я в толпе, я как все…» Он вообще долго сохранял в себе эту гремучую смесь – детства и почти старческой тоски. Тоска гнала его к другу Пясту (Виленскийпер., 3), с которым дружил с 1905 года и с кем после 1917 года рассорился, поскольку тот не принял революцию. Тоска уводила пешком в Шувалово, в Сестрорецк, где он пил вино и «фраппировал видом знатного иностранца буфетную прислугу, железнодорожников и шпиков».
Одно лето повадился ездить в Териоки, нынешний Зеленогорск, где Люба с Веригиной, актеры Мгберов и Голубев, художники Сапунов и Кульбин, а потом и присоединившийся к ним Мейерхольд решили открыть театр. Говорили, что именно Люба, получив наследство отца, вложила деньги в фонд театра. Под общее жилье сняли дачу Лепони, большой дом на берегу Финского залива с чудесным парком, арендовали у некоего шведа помещение со сценой, набрали актеров и, прикрепив на крыше общего дома разноцветный флаг, повесив колокол, который звал артистов с пляжа или созывал на обед, приступили к репетициям. Денег за работу не обещали, но чай утром, а также обед и ужин были для актеров бесплатными.
Блок сначала загорелся этой идеей, но потом, когда Мейерхольд вместо Шекспира и Стриндберга, которыми увлекались в то время Блок и Пяст, решил ставить пантомимы в духе комедий дель арте, отошел от предприятия. Но в Териоки ездил. Актриса Ольга Высотская, та, которая через три года родит сына Николаю Гумилеву, вспоминала, например, как однажды столкнулась с ним. «“Вы можете мне рассказать, где дача артистов?” – спросил ее Блок. Мы вышли к морю. Вдали видно было, как наша артистическая молодежь запускает змея. “Вот, где змей летает, – показала Высотская, – там и дача, идите прямо по берегу”».
Здесь, кстати, в Териоках, и тогда же, отправившись под утро большой компанией на лодке в море, художник Сапунов и утонул. Лодка перевернулась, когда Михаил Кузмин переходил в ней с места на место. Спаслись все, а Сапунов, который не умел плавать и кому, кстати, было предсказано погибнуть от воды, утонул[57]. Мать Блока, между прочим, писала Евгению Иванову, что «Сашу моего приглашал Сапунов за 6 часов до своей смерти на ту самую лодку». Это не так. Сапунов действительно звал Блока за шесть часов до смерти, но звал по телефону «устраивать карнавал» в летнем театре…
Да, в те годы у Блока соседствовали попеременно то карнавалы, то немыслимые трагедии. Не потому ли чаще всего его и видели в ресторанах и питейных заведениях? Так же как и методичность его, то была своеобразная самозащита его, но уже от духовного хаоса.
Блок посещал и рестораны, и трактиры в компании все тех же Пяста, Евгения Иванова и Зоргенфрея. Георгий Иванов называет еще Чулкова. И пишет: «Эти четверо… неизменные собутыльники Блока, когда, время от времени, его тянет на кабацкий разгул. Именно – кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные “злачные места”: “Слон” на Разъезжей, “Яр” на Большом проспекте. После “Слона” или “Яра” – к цыганам… Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. “Машина” хрипло выводит – “Пожалей ты меня, дорогая” или “На сопках Маньчжурии”. Кругом пьяницы. Навеселе и спутники Блока. “Бог”, – неожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и поводя рыжими зрачками… Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега… Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в своем светлом кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это не заметно. Проститутка подходит к нему. “О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером”. Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит нежно, как ребенка, по голове, о чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни. О том, что любви нет. О том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь…
– Саша, ты великий поэт! – кричит пришедший в пьяный экстаз Чулков и, расплескивая стакан, лезет целоваться. Блок смотрит на него ясно, трезво, задумчиво. Как всегда. И таким же, как всегда, трезвым, глуховатым голосом медленно, точно обдумывая ответ, отвечает:
– Нет. Я не великий поэт. Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут. А я пью вино и печатаю стихи в “Ниве”. По полтиннику за строчку. Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела…»
Блок пил. Позже даже признавался поэту Садовскому, что по ночам обходит все рестораны на Невском, в каждом выпивает у буфета, а утром просыпается где-нибудь в номерах. Нам, конечно, не перечислить этих злачных мест, хотя многие из них известны и даже сохранились поныне. Но особенно его тянуло в те годы на угол Большой Зелениной и Геслеровского (ныне Чкаловского) проспекта. Здесь, на месте нынешней «Чайной», была угловая пивная, где поэт просиживал ночи напролет.
«Меня все больше и больше тянет на Большую Зеленину», – скажет однажды Юрию Анненкову, который долгие годы жил с родителями рядом. И признается, что место действия его драмы «Незнакомка», которую Анненков видел в постановке Мейерхольда в 1914 году, целиком «зарисовано» им как раз в этой пивной. Впоследствии об этом подробно писала и тетка поэта, М.А.Бекетова, утверждавшая, что обстановка «Незнакомки» была навеяна скитаниями по глухим углам Петербургской стороны. Пивная из «Первого видения» помещалась на углу Геслеровского и Зелениной улицы. И вся обстановка, начиная с кораблей на обоях и кончая действующими лицами, взята Блоком с натуры. Как и пейзаж «Второго видения» – мост и аллея, которые «списаны» поэтом с моста и аллеи, ведущих на Крестовский остров со стороны Большой Зелениной…
«Незнакомку» его помнили все. Уж во всяком случае все – слышали. Тот же Анненков пишет, что и «девочка» Ванда у «Квисисаны» шептала: «Я уесть Незнакоумка. Хотите ознакоумиться?» – и две девочки с Подьяческой, Сонька и Лайка, одетые, как сестры, блуждая по Невскому (от Михайловской улицы до Литейного проспекта и обратно), улыбались встречным мужчинам из-под черных страусовых перьев: «Мы пара Незнакомок, можете получить электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький-усатенький (или хорошенький-бритенький, или огурчик с бородкой)…»
Да, Блока тянуло к «женщинам Достоевского». «Что пред ними бледные девушки Тургенева, великие женщины Толстого? – убеждал он однажды Всеволода Рождественского. – Всех их затмевает Настасья Филипповна или даже та же Грушенька, мещанка с ямочками на щеках. Они – страшное воплощение самой жизни, всегда неожиданной, порывистой и противоречивой. Их, как и жизнь, нельзя загадать наперед. Вот почему так губительны встречи с ними…»
Блоку порой ничего не нужно было от этих случайных женщин – настроение минуты, всего-то. «Вчера… взял билет в Парголово и поехал на семичасовом поезде, – писал он в один из дней того времени В.Пясту. – Увидел афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовав, что – судьба и что ехать за Вами и тащить Вас на концерт уже поздно, – я остался в Озерках. И действительно: они пели Бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем та цыганка, в которой, собственно, и было все дело, дала мне поцеловать руку – смуглую, с длинными пальцами – всю в броне из колючих колец. Потом я шатался по улице, приплелся мокрый в Аквариум, куда они поехали петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой…» Идти, по счастью, было недалеко – «Аквариум» располагался там, где долгие годы будет существовать киностудия «Ленфильм» (Каменноостровский, 10)[58]. А это, как известно, в двух шагах от дома поэта на Монетной…
Поцеловать руку, заглянуть в глаза… Да, это было всегда всего лишь минутное настроение, давнее, почти мистическое, поклонение Женщине. Откуда это? Вспомним эпистолярный диалог Блока и Белого еще до свадьбы поэта с Любой Менделеевой, когда друзья, да еще Сережа Соловьев, троюродный брат Блока, основали так называемое «Братство Рыцарей Прекрасной Дамы». Восторженные мальчишки, они основали это «братство» для поклонения «Деве Радужных Ворот», для вечного служения ей. Но кто она, эта Дама, почему ей надо поклоняться и в чем суть этого служения, представляли себе, кажется, не вполне. Как бы туманили друг друга. Белый, например, простодушно спрашивал Блока еще в июне 1903 года: «Вот мы пишем друг другу о Ней , о Лучезарной Подруге, и… как будто мы уже знаем… кто Она … Определите, что вы мыслите о Ней… Является ли она для вас Душой Мира, или определенной личностью?» Блок отвечал: «Я чувствую Ее, как настроение… Думаю, что можно Ее увидать, но не воплощенную в лице… Только минутно (в порыве) можно увидеть как бы Тень ее в другом лице… Это не исключает грезы о Ней, как о Душе Мира»…
Вот так – настроение, тень, грезы и вечный поиск того, чего вообще-то, может быть, и нет на земле. Именно это раздражало «реалистов» от жизни, современников поэта, именно это отталкивало многих от непонятных стихов о Прекрасной Даме и именно это, рискну сказать, необъяснимо влекло к нему его бесчисленных поклонниц. Что-то такое, «непрочтенное» нами, мужчинами, женщины чувствовали в этом. Все женщины.
Помните, Горький сказал как-то, что после одного случая он многое понял в Блоке, тот стал ему как бы «близким и понятным». Так вот, наш Буревестник, который в 1930 году признается, что поэзия Блока «никогда особенно сильно не увлекала» его, в некоем ресторане «Пекарь» встретил однажды такую же «незнакомку» – барышню с Невского. Та поведала Горькому, что однажды в первом часу ночи, в слякоть, на углу Итальянской улицы к ней подошел прилично одетый, красивый, с гордым лицом человек. Пригласил ее в комнаты для свиданий (Караванная, 10). «Иду я, разговариваю, – вспоминала проститутка, – а он – молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга – не идет, – рассказывала она Горькому. – Тогда он сам пошел, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго – ужасные глаза! “Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь”. А он улыбнулся вежливо: “Не надо, не беспокойтесь”. Пересел на диван ко мне, посадил на колени и, гладя волосы: “Ну подремлите еще”. И, представьте, я опять заснула, – скандал! Открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: “Ну, прощайте, мне надо идти”. И кладет на стол 25 рублей. “Послушайте, говорю, как же это?” А он засмеялся тихонько, пожал руку и – даже поцеловал. А когда я уходила, слуга говорит: “Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт – смотри!” И показал мне портрет в журнале».
Что понял Горький в Блоке, узнав об этом случае, неведомо. Одно читается ясно в этой встрече – все та же жалость к женщинам, все та же тоска. Поэтическая тоска Блока. И какое-то тщательно скрытое поклонение. Да, со многим из того, что напишет потом вдова Блока, можно не соглашаться, но один диагноз ее звучит, кажется, хоть и сурово, но справедливо: Блок почти никогда не знал полной любви – духовной и физической.
«Близость с женщиной для Блока с гимназических лет, – напишет Любовь Дмитриевна, – это платная любовь и неизбежные результаты – болезнь. Слава Богу, что еще… в молодости – болезнь не роковая… Не боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безличная, купленная… Даже при значительнейшей его встрече… было так, и только ослепительная, солнечная жизнерадостность Кармен победила все травмы, и только с ней узнал Блок желанный синтез и той, и другой любви».
…Окно Блока на Малой Монетной горело два года… Кстати, и сам поэт любил смотреть в незнакомые окна, бродя по ночам. А про «окно Кармен» он даже написал: «В последнем этаже, там, под высокой крышей, // Окно, горящее не от одной зари…»
А вот кто она, эта Кармен, с которой он познал и духовную и физическую любовь, где было окно ее – об этом у следующего дома нашего путешествия по Серебряному веку.
Если Фонтанка считается ахматовским районом города, то Офицерская, может, самое блоковское место Петербурга. На этой улице был когда-то театр, где грянул первый сценический успех Блока; здесь жила мать поэта, Александра Андреевна (Офицерская, 40); здесь находится и последняя квартира поэта, где он умрет (Офицерская, 57). И наконец, этот дом №53 – обиталище последней большой любви его, той, кому и было посвящено стихотворение про окно, «горящее не от одной зари». Теперь оно не на последнем этаже – один этаж дома надстроили в наше уже время. Но если захотите найти его, оно – крайнее справа на пятом этаже. За ним и жила Любовь Андреева-Дельмас – его Кармен. По другой стороне улицы и ходил Блок, как влюбленный юнец, поглядывая на окно и еще боясь познакомиться с ней. Хотя она знала уже: он в нее влюблен…
Ранней весной, когда еще лежал снег на улицах, но с крыш уже звенела капель, я поднялся в комнату Кармен. Признаюсь, сердце колотилось – вот по этой лестнице ходили она и поэт, вот на этом этаже встречались и прощались, вот за этой дверью жила любовь Блока. Ныне, увы, это запущенная, страшноватая, а в общем – обычная коммуналка с тесным коридором, какими-то шкафами, крашеными трубами парового отопления, которые бросаются в глаза.
В комнате Андреевой-Дельмас живет ныне молодая пара: простые, радушные, гостеприимные люди. Они кинулись убирать что-то с дивана, очищая место для гостя, уносить на кухню посуду со стола, освобождать подоконник от увесистых горшков с цветами. Ведь что сохранилось от тех времен? Только стены, подоконник да вид из окна – прямо на Офицерскую. Я хотел всего лишь посмотреть: виден ли из окна тот тротуар напротив, где ходил, поглядывая на окно певицы, очарованный поэт? Но когда выглянул в окно, из-за туч блеснуло солнце – прямо напротив, прямо в глаза! – и, надо сказать, все преобразилось вмиг. Да-да, так все и было: стекла, засверкавшие от прямых лучей, ощущение наступающей в жизни весны и солнце – для них в тот год одно на двоих. Ибо никого вокруг не замечали. Да и был ли кто-нибудь вокруг для внезапно влюбленных?..
Помните, Блока притягивали женщины, похожие на героинь Достоевского. Андреева-Дельмас в чем-то и оказалась такой. Мать поэта в одном из писем, где скажет, что она «хороша как певица и актриса», обронит и главное словцо про нее: «Она… стихийная». Блоку же, когда Дельмас, с ее красотой и развязностью манер, потряхивая золотисто-рыжими волосами, в темно-малиновой юбке, оранжевой блузе и черном фартуке, врывалась на сцену, вообще казалось, что это не женщина – «влекущая колдунья». Его влекущая. Может, потому он, получающий пачками письма от поклонниц, ей напишет – первым…
Ныне известно все: когда он написал первое стихотворение из цикла «Кармен», когда отправил ей первые книги с посыльным, когда познакомился с нею в Театре музыкальной драмы – 28 марта 1914 года. Об одном спорят литературоведы и сейчас: неизвестен день, когда он впервые увидел ее на сцене в знаменитой роли. Блок писал, что 14 февраля он слушал Дельмас-Кармен «в третий раз». А впервые, просчитали исследователи, он мог видеть ее в роли Кармен три раза в декабре, раз в ноябре и четыре раза в октябре еще 1913 года – именно тогда давали в театре эту оперу.
Впрочем, это неважно. Гораздо важнее, что Блок после знакомства с ней возьмет за правило, как вспоминала сама певица, всякий раз после исполнения ею роли Кармен посылать ей розы – «эмблему красоты, восторга любви и счастья обладания». А кроме того, с появлением Андреевой-Дельмас в жизнь поэта войдут и вербы, и ячменные и ржаные колосья, и ландыши…
«Прынцессе Гишпанской», как, любя, называл Дельмас известный в те времена пародист Давыдов, было в то время тридцать. Она была уже замужем за певцом Андреевым, впоследствии выдающимся артистом Мариинки, но псевдоним Дельмас (это, кстати, фамилия ее матери, француженки) вынуждена была взять из-за оперной певицы Андреевой, – однофамилицы. Это было еще в 1905-м, когда будущей Кармен только-только исполнился двадцать один год…
«Я не помню себя не поющей, – напишет она в автобиографии. – С детства мы, пять детей под руководством матери, которая нас обучала и музыке, знали многие песни». Андреева-Дельмас, по отцу Тищинская, родилась и провела детство в Чернигове. В 1900 году, приехав в Петербург, поступила по конкурсу в консерваторию (меццо-сопрано). Потом была труппа «Новая опера», где она выступала еще со своим мужем, театр Солодовникова в Москве, Большой оперный в Киеве, наконец, труппа петербургского Народного дома. Ко времени знакомства с Блоком она пела, и не единожды, даже со знаменитостями: дважды, например, с Шаляпиным – сначала в Киеве, потом – партию Марины Мнишек – в Монте-Карло. И вот в сезон 1913-1914 года, ее специально приглашают в Театр музыкальной драмы (Театральная пл., 3), где она поет в опере «Кармен». Специально для этой партии и приглашают.
В первый же день знакомства Блок расстанется с ней здесь, у дома певицы, в четыре утра. И конспективно запишет в дневнике: «Дождь, ванна, жду вечера. Надел обручальное кольцо. Розы, ячмень, верба и красное письмо». Вот и вся запись. Понять почти невозможно – тайнопись, шифр какой-то. Хотя вернулись под утро всего лишь из Тенишевского училища (Моховая, 33), куда поэт увлек ее на диспут о комедии масок. Там выступали в тот вечер Мейерхольд, Зноско-Боровский, Константин Кузьмин-Караваев и старая знакомая Блока – актриса Веригина. Именно в это время Веригина отметит в нем новую черту: он на любое сообщение о прочитанном или увиденном стал постоянно откликаться одной фразой: «Да, но ведь это не имеет мирового значения». Однажды Веригина не выдержала: «Я сама прежде всего не имею мирового значения, так вы самое лучшее не разговаривайте со мной». Блок рассмеялся и обещал не говорить так больше. А накануне диспута в Тенишевском написал Дельмас: «Скажите мне по телефону, хотите ли Вы пойти со мной завтра вечером в училище? Если Вы свободны и если вам не скучно, – моя мать пойдет отдельно, билеты у меня есть».
Веригина же вспомнит, что еще раньше Блок, услышав о ее выступлении на этом диспуте, начал посмеиваться над ней и пугать, что сядет «в первом ряду и рассмешит» ее. Но когда она вышла на сцену, то увидела: поэту, действительно сидевшему в первом ряду, было явно не до нее. С ним рядом сидела Андреева-Дельмас. «Блок, – пишет Веригина, – смотрел на меня веселыми глазами, я укоризненно покачала головой…»
Да, в первом ряду на ее глазах, начинался самый «сумасшедший» роман Блока. Он и Дельмас, сидя рядом, бурно обменивались записками, и (фантастика!) эта переписка – стенограмма чувств – сохранилась. «Надо бы пересесть… Вам еще не скучно?.. Вы бывали на диспутах?.. Не могу слушать, – пишет Блок. – Вас слышу. Почему Вы каждый день в новом платье?.. Пришла Тэффи… На Вас смотрит молодой человек. А на меня – старая девушка!..» – «Я была в келье Савонаролы…» – «И я…» – «Наверное, Вам нравятся всякие интермедии, потому что в Вас много детского…» – «Все это я вижу во сне, что вы со мной рядом…» – «Вы даже не вспомните об этом…» – «А если это будет часто?..»
А через месяц Блок вновь запишет в дневник странную фразу: «Возвращаюсь в 1 час ночи. У швейцара – колосья ячменя, ландыши и фиалки в лиловой ленте с ее волос»…
Теперь Блок разрывался не между двумя – между тремя женщинами: матерью, Любой и Дельмас. С женой еще с сентября 1912-го, за два почти года до появления в его жизни Дельмас, отношения расклеились. Давно ли она трогательно заботилась о его здоровье? «Саше велено пить терпкое кавказское вино», – писала матери поэта, когда он заболел; пыталась кормить его брюссельской капустой, фасолью, чтобы ел поменьше мяса, варила компоты. Теперь же каждый вечер уходила из дома. Блок даже сказал однажды матери: «Пускай уходит, надо же и ей жить». А днем раньше записал в дневнике: «Люба опять проводит вечера с Кузьминым-Караваевым». Потом у его жены начнутся гастроли, которые длились порой по четыре месяца. «По-моему, она разлюбила Сашу, – писала мать Блока, – и вместо того, чтобы прямо это сказать ему, как-то и тут, и там что-то старается… Денег больше у нее нет ни капли. Она истратила все, что у нее было после отца. И поневоле живет с Сашей, потому что больше и не на что пока».
Вообще про нее хорошо скажет через десятилетия Надежда Мандельштам: «С Прекрасными Дамами… вообще не живут, и семейная драма Блока в том, что он женился на Прекрасной Даме…» Да, даже когда Люба увлеклась сама и увлекла мужа созданием театра в Териоках, это не улучшило их отношений. Тем более что Блоку актриса Басаргина (именно под таким псевдонимом играла в театрах Люба), кажется, нравилась не очень.
«Блоку неприятно видеть жену на театральных подмостках, – писал об игре Любы поэт Борис Садовский. – В талант ее он не верит… В Териоках она играла из рук вон плохо». Зато она верила в себя. Да еще как! На старости лет, в 1937 году, напишет: «Да, я себя очень высоко ценю… Я люблю себя, я себе нравлюсь, я верю своему уму и своему вкусу…» Но немногие знают, что, когда началась мировая война, когда Блок возбужденно звонил Зинаиде Гиппиус и кричал, что «война – это прежде всего весело», Люба, представьте, первая отправилась на фронт – он провожал ее с товарной станции Варшавского вокзала. Писала, кстати, с фронта корреспонденции, которые печатала под заголовком «Из писем сестры милосердия». И уж совсем удивительно, что Блок посылал ей в действующую армию, на австрийский фронт, свежие журналы мод. «Зачем ей там моды?» – изумилась как-то Веригина. На что мать поэта ответила: «Саша знает, что она это любит – ее немного развлечет»… Правда, довольно скоро Люба вернулась с войны. Уже в середине 1915 года она играет в театрах на рабочих окраинах – играла даже Островского на… Путиловском заводе, чуть ли не в цехах. А Блок, приехав на три дня в Петербург из Шахматова, неожиданно застанет в своей квартире прибывшего на побывку контуженного К.Кузьмина-Караваева – старого– нового друга Любы. Неудивительно, что уедет из дома «мрачный, похудевший и простуженный». Удивительно, что в записке, оставленной Любе перед отъездом, благородно напишет: «Прости, милая, что так расстроил тебе все своим неожиданным приездом…»
Теперь Блок бывает не только на всех оперных постановках с участием Дельмас, но и на всех концертах ее. Татьяна Вечорка, о которой я уже вспоминал, писала, как однажды, на каком-то «сборном концерте» в консерватории, вдруг близко увидела Блока и не только влюбилась в него, но, кажется, обратила на себя и его внимание. «Я была в десятом ряду – впереди, в девятом, было много пустых мест, – вспоминала она. – Между номерами вошел Блок и сел наискосок впереди меня… Я начала его с жадностью разглядывать… Лицо – ровного кирпичного оттенка. Прекрасный овал лица, но челюсть безвольно отвалившаяся, зато глаза в морщинистых мешках – ужасные глаза, так много знающие и вместе с тем беспокойные, – “цвели и пели”…» Потом на сцену вышла Андреева-Дельмас и запела блоковские «Свечечки и вербочки». Он, пишет Вечорка, встрепенулся и, улыбаясь, начал глядеть вокруг, как бы ища сочувствия. «Случайно поглядел на меня и, верно, остался доволен моим восторженным взглядом, так как улыбнулся и потом часто оборачивался, разглядывая меня всю, искоса опуская глаза». В антракте, между стульями у прохода, он наклонился к ней «изящным, но чисто мужским движением» и пробормотал: «Темная осенняя ночь» (на ней было черное шифоновое с золотыми точками платье). «Такая пошлость в губах Блока и его замашки – простых смертных шалопаев, – пишет Вечорка, – меня до того изумили, расстроили и испугали, что я бросилась в дамскую комнату, где сидела на кушетке весь антракт в припадке отчаянного сердцебиения. Когда уже стемнело в коридоре, я пошла на свое место, но в коридоре увидела, что он стоит, облокотившись спиной на балюстраду, фамильярно изогнувшись и играя не то цепью, не то длинным ожерельем Андреевой. Думала, что пройду незаметно, но он опять откинулся, повернулся ко мне и что-то сказал, чего я не разобрала, потому что бросилась в зал. (Почему, – спрашивает себя она, – я испугалась Блока: цепь мысли – Блок прекраснее всех, кого я знаю, могу ни в чем не отказать ему – я же девушка, он не женится – трагедия мамы…)» Потом встречались взглядами и даже раскланивались в каких-то залах, где он читал стихи, на каких-то концертах, и всякий раз юная дева не спала после этого ночей, ощущала себя счастливицей и почему-то считала, что в будущем ее ждет «непременная близость с Блоком». Последний раз Вечорка встретила его на углу Невского и Литейного. Вдруг, пишет она, «чудеснейшие молодые синие цветущие глаза… засияли навстречу». Блок в синем пальто и мягкой шляпе улыбнулся ей, а на нее неожиданно напали «и нервность, и томление», и она не нашла в себе сил обернуться на поэта…
Впрочем, Блок не только ходил на концерты Дельмас. Однажды, уже в самом начале войны, они оба, и Блок и Дельмас, чуть ли не единственный раз в их жизни выступали на одном и том же вечере. Это случилось 28 марта 1915 года в Зале армии и флота, нынешнем Доме офицеров (Литейный, 20). Здесь литературно-музыкальный вечер «Поэты – воинам» собрал, как говорилось в «Биржевых ведомостях», и певиц Андрееву-Дельмас, Бутомо-Незванову, Артемьеву, и артисток – Рощину-Инсарову, Марию Андрееву, уже знакомую нам Олечку Глебову-Судейкину, и поэтов – Федора Сологуба, Игоря Северянина, Анну Ахматову. Я писал уже об этом вечере в главах об Ахматовой. Именно здесь гимназистка тогда Нина Берберова, пришедшая на этот вечер с мамой (Нина уже писала стихи, но еще не печаталась), была представлена сначала Ахматовой, а потом, уже в артистической, – и Блоку. И Ахматова, протянувшая ей худую руку, и Блок – оба сказали гимназистке одно и то же: «Очень приятно», а Берберовой, как она вспоминала, хотелось убежать «от смущения, волнения, сознания своего ничтожества».
Такие вот случались встречи на патриотических вечерах. Впрочем, скоро Блок будет читать стихи воинам не в залах – в действующей армии. В июле 1916 года его призовут служить, и он уедет в район Пинских болот, в инженерно-строительную дружину.
«Вчера зачислен в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины, – напишет он Зоргенфрею. – Что дальше – не различаю: “жизнь на Офицерской” только кажется простой, она сплетена хитро…» Про фронт и окопы скажет, кстати, как никто: «Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряженного с ней – есть хамство. Оно подстерегало меня с гимназических времен, проявлялось в многообразных формах и вот – подступило к горлу… эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначальна, бесконечна, безобразна…»
Впрочем, лучше всех о Блоке и войне сказал Гумилев, который уходил на фронт едва ли не самым первым из поэтов. Так вот, он, уже остриженный и переодетый в военную форму, встретив Блока в ресторане Царскосельского (ныне Витебского) вокзала (Загородный пр., 52), где, кстати, и поныне сохранилась с 1903 года даже стойка бара, сказал изумленно Ахматовой, когда Блок вышел на мгновение: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это все равно что жарить соловьев…»
Времена наступали действительно лихие. Именно соловьев жарить и собирались. Новые власти начнут вскоре Блока «катать» и «перевертывать»: арест, уплотнение в квартире, принудительные работы, дежурство у ворот – «в очередь»… И только сегодня мы узнаем скрытые на семьдесят лет подробности его тогдашней жизни. К кому, например, он попал на допрос в ЧК. Ведь это чудо, что сын мясника не убил его, как Гумилева… Впрочем, о сыне мясника я расскажу в следующей главе, у последнего из домов, о которых мне хотелось бы рассказать.
…А что же вербы, ячмень – тот любовный «шифр» Блока, тайные символы его? Все оказалось просто. Блок, как и многие тогда, увлекался древними «эмб лематическими» понятиями о значении растений. И особый интерес к народным верованиям и представлениям о силах природы у него проявился как раз во времена знакомства с Дельмас. «Саше с ней хорошо, – писала о Дельмас мать Блока. – Она делает его легче, дает ему часы отдыха, трезвости, заставляет его проще смотреть на людей и на отношения»…
Андреева-Дельмас, его Кармен, намного переживет Блока. Но, боже мой, стоило поэту уйти из ее жизни, как все дальнейшие ее достижения зазвучали и бытово, и как-то скучно: педагог сольного пения в музучилище при консерватории, затем ассистент кафедры консерватории, а в 1940-м даже доцент. Что все это, подумалось, рядом с тремя словами Блока: «Ее плечи бессмертны»?.. Ведь это он их сделал такими! Что все это рядом с короткой его записью, сделанной в мае 1917 года? «Сколько у меня было счастья (“счастья”, да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда… сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев… Шпильки, ленты, цветы, слова…»
В одном из домов на Фонтанке, где у подъездов ныне ни пройти, ни продохнуть от иномарок, где во дворе били когда-то фонтаны, где в высоких сквозных арках и поныне покачиваются огромные ромбы светильников в стиле модерн, собрались на юбилей издательства «Алконост» поэты, художники, режиссеры – цвет умирающего Серебряного века.
Сам дом (Фонтанка, 56) и сегодня называют толстовским; про него можно было бы долго рассказывать. Но нам он интересен тем, что именно в нем друг Блока и директор частного издательства «Алконост» Самуил Алянский собрал на небольшой юбилей своих авторов[59]. В этом издательстве (Колокольная, 1, а потом – Невский, 57) бывали и печатались не только Блок – многие писатели и поэты того времени: Андрей Белый, Замятин, Ремизов, Сологуб, Вячеслав Иванов. И вот 1 марта 1919 года Алянский праздновал, по сути, микроскопический юбилей издательства – девять месяцев существования его. Словно издательство – материнский плод, выношенный русской литературой в самое тяжелое время. В этом издательстве в 1918 году и увидела свет знаменитая поэма Блока «Двенадцать» со знаменитыми ныне иллюстрациями Юрия Анненкова.
Блок, как известно, быстро принял революцию, но быстро и отрекся от нее. Когда после Октября Зинаида Гиппиус позвала его в антибольшевистскую газету Савинкова, то он, к ее удивлению, от сотрудничества отказался. «Я в такой газете не могу участвовать», – ответил ей по телефону. «И вы… не хотите с нами… Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?» – ахнула Гиппиус. «Да, если хотите, я скорее с большевиками…»
Это был разрыв не просто с Гиппиус – со всеми кругами либеральной интеллигенции России. Через год, в 1918-м, Блок столкнется с «неистовой Зинаидой» в трамвае, который, трезвоня, медленно продвигался по Садовой к Сенному рынку. «Первый, кто вошел и стал в проходе как раз около меня, – вспоминала Гиппиус, – вдруг говорит: “Здравствуйте…” Подымаю глаза. Блок. Лицо под фуражкой какой-то… длинное, сохлое, желтое, темное. “Подадите ли вы мне руку?” Я протягиваю ему руку и говорю: “Лично – да. Только лично. Не общественно”… Прибавляет вдруг: “Я ведь вас очень люблю…” – “Вы знаете, что и я вас люблю, – отвечает Гиппиус. – Общественно – между нами взорваны мосты… Но лично… как мы были прежде…” Я, – пишет Гиппиус, – опять протягиваю руку… И все. Это был конец. Наша последняя встреча на земле»…
Гиппиус уедет в эмиграцию и до самой смерти в 1945-м останется ярым врагом советской власти. Но ведь и Блок, который никуда не уедет, а умрет через два года, тоже успеет стать ее врагом. Не случайно Фадеев, вечный генсек Союза советских писателей, в конце 1940-х годов скажет с трибуны: «Если бы Блок не написал “Двенадцать”, мы бы его вычеркнули из истории советской литературы».
Поэму «Двенадцать», которая, как считали многие, и убила поэта, Блок написал в последнем своем петербургском доме – на Офицерской, 57, где с женой и матерью поселился еще в 1912 году. «Сегодня я – гений!» – сказал сам себе, поставив в ней точку. Но мало кто из собратьев-поэтов принял поэму. Оправдывал же его, насколько я знаю, Константин Бальмонт, да хорошо сказал Георгий Иванов, заметивший, что Блок-поэт «не ответственен» за создание поэмы. «Первое, – доказывал Иванов, – чистые люди не способны на грязный поступок. Второе – люди самые чистые могут совершать ошибки, иногда страшные, непоправимые. Блок был человек исключительной душевной чистоты. Он и низость – исключающие друг друга понятия… Блок родился с “ободранной кожей”, с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес “страшному миру” с его “мирской чепухой”, он с юности создал мечту о революции-избавлении и поверил в нее как в реальность…» Здесь все – правда. И правда – последние слова Иванова: «Блок понял ошибку “Двенадцати” и ужаснулся ее непоправимости… Он умер от “Двенадцати”, как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца…»
«Остановить бы движение, пусть прекратится время», – сказал Блок Горькому за год до смерти. Даже ногой в негодовании притопнул. Но сначала вынес приговор себе. «Большевизм, – сказал Горькому, – неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье…» А потом спросил, что тот думает о бессмертии. Начитанный Горький сказал, что ученый Ламеннэ считает – все в будущем повторится, и через миллионы лет в хмурый вечер они опять будут сидеть вдвоем и говорить о бессмертии. «А вы, вы лично, что думаете?» – уперся Блок. И когда Горький пробормотал что-то о превращении всего сущего в сплошную мысль, Блок перебил его: «Дело – проще, – сказал, – мы стали слишком умны для того, чтобы верить в бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя…» Вот после этих слов он и бросил в сердцах: «Остановить бы движение…»
Незадолго до смерти сказал еще одну странную фразу: «Близкие – самые страшные. Убежать некуда…» Имел в виду мать и Любу, тех, на глазах которых его в те годы заставляли в очередь дежурить у ворот, гнали на общественные работы – разгружать баржи… Про жену напишет: «Люба отогнала от меня людей. Люба создала всю ту невыносимую утомительность отношений, какая теперь есть… Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком, – страшным, мрачным, низким… Но… я не могу с ней расстаться и люблю ее…»
Да, чем ближе оказывался к смерти, тем меньше оставалось рядом с ним истинных друзей. Исключением стал как раз Алянский – только его Блок хотел видеть все чаще и чаще. М.А.Бекетова вспоминала: «В начале болезни к нему еще кой-кого пускали. У него побывали Е.П.Иванов, Л.А.Дельмас, но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один С.М.Алянский имел счастливое свойство действовать на Александра Александровича успокоительно, и поэтому доктор позволял ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровье…»
Вот в дом на Фонтанку, с которого я начал рассказ, к Алянскому, за два с половиной года до смерти и пришел Блок на форшмак из воблы и трехлитровую бутыль спирта. Пришел, кстати, первым – он по-прежнему никуда не опаздывал. А следом пришли Андрей Белый, Ремизов, Иванов-Разумник, Мейерхольд, Пяст, Анненков, Морозов, Николай Радлов и переводчик, театральный деятель Владимир Соловьев. Неожиданно, когда все были уже за столом, забежала, да и осталась, подруга Ахматовой – красавица Олечка Судейкина. Впрочем, участниками пира ныне называют еще Лаврова, Сюнненберга, Купреянова и Зоргенфрея.
Эх, знали бы они все, собравшиеся «на часок», что уже окрепли новые, «упорные» люди, что через два года троих из пришедших сюда – Блока, Ремизова и Иванова-Разумника – глухим февральским вечером они деловито доставят в ЧК (Гороховая, 2/6)[60]. Арестуют за причастность к левым эсерам. Адреса Блока, Ремизова, как и адреса Замятина, Петрова-Водкина и еще многих и многих, нашли в записной книжке писателя и публициста Иванова-Разумника – его взяли первым. Должны были арестовать и Сологуба, но он по паспорту был Тетерников, и когда дворник сделал вид, что не знает никаких «сологубов», чекист, почесав затылок, махнул рукой: «А ну его в болото…»
Блок же после ареста запишет: «Вечером после прогулки застаю у себя комиссара Булацеля и конвойного. Обыск и арест, ночь в ожидании допроса на Гороховой». Потом – новая запись: «Допрос у следователя Лемешева. Перевели в верхнюю камеру. Ночь на одной койке с Штейнбергом. В два часа ночи к следователю Байковскому»… Знал бы он, кто такой этот Байковский!
Арестованных на Гороховой содержали на чердаке – под самой крышей. Чердак был темен, но само здание в те годы и глубокой ночью было самым оживленным – окна были освещены ночь напролет. Здесь, где ныне тихие коммерческие конторы, где в чистеньких коридорах светят люминисцентные лампы, а на лестничных площадках уже не стоят пулеметы и никто не дымит махрой, шустро работали тогда 450 только штатных сотрудников. В том числе, к сожалению, будущий писатель Исаак Бабель (он был переписчиком в иностранном отделе), будущий хитроумный теоретик футуризма Осип Брик и – только чуть позже – крупный советский поэт, Герой Соцтруда и лауреат Сталинской и Ленинской премий Александр Прокофьев. Здесь же работал по совместительству и будущий литературовед Павел Медведев, тот, кто после смерти Блока почти сразу на долгие годы станет сожителем Прекрасной Дамы – его жены.
Найти место на нарах на чердаке было сложно, описал дни ареста Иванов– Разумник. Лампочки тускло освещали лица поделенных на «пятерки» людей: на «пятерку» подавалась одна миска к обеду и ужину. Спать предлагалось на голых досках, но заснуть было трудно из-за вони и клопов. Кстати, Иванов-Разумник утверждал позже, что Блок занял «как раз то место на досках, где я провел предыдущую ночь, и вошел в ту же мою “пятерку”». Некий Варшавер, сидевший на чердаке с Блоком, писал, что на нарах зэки расспрашивали Блока о его работе в Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений царского режима, о распутинщине, еще памятной всем, о «текущем моменте». «Щигалевщина бродит в умах, – заметил якобы Блок и, процитировав на память знаменитые слова героя “Бесов” Достоевского, оборвал фразу. – Если щигалевщина победит…» – «А вы думаете, она еще не победила?» – спросил какой-то лицеист, вывернувшийся из темноты рядом.
Наконец, вроде бы был в это время на чердаке и говорил с Блоком переводчик и искусствовед Абрам Эфрос. Поэт Семен Липкин незадолго до смерти пересказал его свидетельство писателю Виталию Шенталинскому. В тюрьме Блок якобы спросил у Эфроса: «Мы когда-нибудь отсюда выйдем?» – «Конечно! – ответил Эфрос. – Завтра же разберутся и отпустят…» – «Нет, – печально сказал поэт, – мы отсюда никогда не выйдем. Они убьют всех…»
С этой мыслью, возможно, и уснул. А в третьем часу ночи его разбудили и повели на очередной допрос – «на второй этаж, в ярко освещенную комнату, где за письменным столом сидел следователь, молодой человек в военной форме». Блок запомнил фамилию его – Байковский. Легендарной оказалась личность! Бережков, работник КГБ, в книге «Питерские прокураторы» свидетельствует: Байковский, сын торговца мясом, не одолевший даже вступительных экзаменов в гимназию, в ЧК стал заведующим следствием и «первым принимал решения о судьбе всех, попавших сюда… Не имея доказательств, на основании лишь личных показаний или анкетных сведений, он выносил приговоры о расстрелах; использовал лжесвидетелей, создавал такие условия, при которых арестованный “ломался”». Так вот этот Байковский, как занесет потом в дневник Блок, возвратил ему документы. «Дом и ванна. Оказывается, хлопотали Мария Федоровна Андреева и Луначарский»…
Случай, судьба? Не знаю. Знаю, что русской литературе в те три дня повезло баснословно. Ни Гумилеву, ни десяткам поэтов потом так, увы, не повезет. Хотя арест, допросы и самому Блоку долго еще помнились. Когда, скажем, Чуковский однажды начнет упорно расспрашивать Блока о стихах, ритмах, рифмах, о значении каких-то метафор, поэт прервет его неожиданно. «Вы удивительно похожи, – скажет, – на следователя в ЧК»…
Поэты и комиссары. Одни комиссары уйдут потом в поэты (читайте историю советской литературы!), а другие, напротив, перестав быть поэтами, станут комиссарами, Я говорю, например, о прехорошенькой поэтессе, в которую были влюблены Северянин, Есенин, Гумилев, а также многие другие, – Ларисе Рейснер. Блок отлично знал ее. Ее отец, профессор Рейснер, как я говорил уже, был когда-то учеником и поклонником еще отца Блока. Теперь, вернувшись после боев Гражданской войны, Лариса не только вместе с Городецким навестила поэта на Офицерской улице, но и пригласила Блока к себе. Знаете куда? Нет-нет, – не на Гороховую, но тоже в «официальный» дом. Может, в самое красивое здание города – Адмиралтейство (Адмиралтейская наб., 16), где внутри расхаживали ныне «красные» уже матросы – «краса и гордость» революции.
Лариса не только работала здесь в 1920-м – жила: муж бывшей поэтессы–декадентки, морской начальник большевиков Федор Раскольников, «устроил» себе квартиру именно в Адмиралтействе. Он станет командующим Балтийским флотом, отец Ларисы – начальником Политуправления Балтийского флота, а сама она, в отлично пригнанной черной морской форме, которая, говорят, очень шла ей, – комиссаром Главного морского штаба. Вот эта «революционно-морская семья», «ревсемейство», как ехидно прозвали ее поэты, и пригласила к себе Блока.
«Три окна на Медный всадник, три окна на Неву», – сориентирует нас Ахматова, которая тоже была здесь однажды у Ларисы. То есть угловая комната на третьем этаже. Я со съемочной группой телевидения не так давно с большим трудом проник внутрь Адмиралтейства, где ныне размещается Военно-морское училище имени Дзержинского. По «наводке» Ахматовой мы искали комнату Ларисы. Длинные гулкие коридоры, переходы, лестницы – все изнутри напоминало цитадель. «Я знаю, знаю, – сказал капитан третьего ранга, сопровождавший нас, – это, видимо, класс водолазного плавания. Так что, как у нас говорят, – за мной!..» Это действительно оказался просторный, но уж слишком унылый учебный класс. Схемы, развешанные по стенам, планы, какие-то карты, окна, в которых, через Неву, был прекрасно виден университет и рядом с ним ректорский дом, где родился Блок, простые столы и скамейки. Вот, собственно, и все. Ничто не напоминало здесь рабочую комнату Ларисы – ее знаменитый военно-морской салон[61]. (Жила она с мужем, отцом и матерью в шикарных апартаментах в другом крыле здания, куда нас почему-то не пустили; там, кстати, до революции обитал с семьей адмирал Григорович, бывший морской министр России). Лет тридцать назад этот «салон» с беспощадной иронией описал в своих мемуарах прославленный адмирал Исаков. Он, молоденький моряк, служивший на кораблях Волжской флотилии и знавший Ларису по Гражданской войне, вспоминал неких дам в креслах, куривших здесь пахучие папироски, пуфики, бесчисленных краснофлотцев-ординарцев, тянувшихся перед Ларисой в струнку, и роскошные обеды едва ли не на царских сервизах[62]. Блока, к слову сказать, в те же примерно дни Чуковский позовет на лекцию, где взамен гонорара их угостят… супом и хлебом. «Любопытно, – пишет Чуковский, – Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: “Нисколько. До войны я был брезглив. После войны – ничего”». Так–то вот!.. Одни в те годы едали на сервизах, другие – суп, да одной ложкой. Та же, видать, закономерность: чем лучше человек, тем труднее ему жить. Я даже не о поэте Блоке – о человеке, личности «исключительной душевной чистоты». Гумилев, который отнюдь не был другом Блоку, и тот как-то красноречиво обмолвится: «Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек…»
Так вот, в «салоне» Ларисы в день первого посещения его Блоком, как восторженно вспоминал Сергей Городецкий, ставший к тому времени начальником литчасти Политуправления флота, поэту встретились «товарищи, приехавшие на Коминтерн», и Лариса весь вечер была «неодолимым агитатором». Поэт Ольконицкий, известный нам по псевдониму Лев Никулин, который чуть ли не с начала 1920-х годов работал секретным сотрудником ВЧК – ОГПУ, пришедший сюда в бескозырке и бушлате, вообще утверждает, что Лариса позволяла себе «говорить с Блоком от имени революционного народа и требовать, чтобы он поднялся над своей средой и окружением». Правда, признает, что разговаривала она с поэтом, «пожалуй, даже напыщенно». И жаль, очень жаль, сокрушался потом Никулин, что на ее призывы Блок мягко ответил: «Вчера одна такая же, как вы, красивая и молодая женщина убеждала писать прямо противоположное…»
Когда-то, в 1969 году, работая в молодежной газете «Смена», я познакомился с седой красавицей – писательницей Екатериной Михайловной Шереметьевой. Она, в прошлом актриса, добрая знакомая, кстати, Михаила Булгакова, оказалась двоюродной сестрой Ларисы. Она мне и поведала тогда, что та, став комиссаром Балтфлота, именно в Адмиралтейство пригласила как-то на обед царских адмиралов, где их быстренько, бесшумно и всех скопом арестовали. Никто в родне Рейснеров, говорила Шереметьева, не сомневался, что это дело ее рук. Тогда же Шереметьева сказала мне, что сама она, будучи младше Ларисы, просто поклонялась ей, пока не узнала о сестре всей правды. Например, что Лариса напечатала как-то в «Известиях» очерк про то, как ее спасала от смерти у белых семья крестьянина-красноармейца. На самом деле, как сообщила в письме домой Лариса, все было «ровно наоборот»: ее спасла, невзирая на ее комиссарство, семья белого офицера. «Но ведь я не могла написать этого в газете», – оправдывалась потом Лариса перед домашними[63].
Впрочем, Блок, ничего этого, конечно, не знавший, запомнит свой первый визит к Ларисе еще и потому, что узнает автомобиль, на котором «великодушно» отправит его домой могущественная комиссарша. Поэт, как пишет все тот же Никулин, провожавший его, внимательно осматривал машину изнутри, потом долго разглядывал через стекло ее радиатор, особенно два блестящих медных обруча на нем, каких «не было ни на одной легковой машине в Петрограде». «Чей это автомобиль? – спросил Блок, наконец. – Мне кажется, я его узнаю… Это “дело–нэ-бельвиль”, автомобиль бывшего царя?» Никулин потом переспросит шофера–краснофлотца: правда ли это? «Правда», – ответит тот[64].
Но вернемся лучше в Толстовский дом, туда, где пока еще «пируют» дорогие мне и, надеюсь, всем нам люди. По странному стечению обстоятельств, я могу довольно хорошо представить обстановку его. Та же Екатерина Михайловна Шереметьева жила, когда я познакомился с ней, как раз в Толстовском доме – в такой же однокомнатной квартирке «большой коридорной системы», где Алянский и принимал друзей-литераторов. Все сходится: маленькая передняя, большая комната с желтым паркетом и кровать в алькове, больше похожем на отдельную, хоть и крошечную, спальню.
Гости Алянского, осколки Серебряного века, довольно скоро захмелели – все–таки спирт пили. В воспоминаниях Конст. Эрберга (К.А.Сюнненберга), опубликованных недавно, прочел о еще одной сцене, случившейся здесь. Лишь прочитав, понял, отчего не публиковались эти страницы прежде – очень уж непригляден в мемуарах именно Блок. Но из песни слова не выкинешь: что было – то было. «Появилась водка, произведшая на присутствующих впечатление какого-то чуда, – пишет Эрберг. – Чудо в один момент было выпито, несмотря на то, что двое из нас почти не пили. “Еще!” – весело сказал Блок, обращаясь к хозяину, и стукнул ладонью по столу. Глаза его были, как всегда, ясны и светлы, и какая-то спортивная бодрость, казалось, окрыляла его тело. “Но, Александр Александрович, больше у меня нет”. – “Еще! Еще!” – зазвенел голос Блока, и кулак его ударил по столу. Хозяин послушно принес еще водки. Через полчаса на меня глядели не ясные, всепонимающие глаза поэта Блока, а мутные, оловянные гляделки того, кто оскорблял поэта Блока каждым своим разнузданным жестом, каждым своим бессмысленным мычаньем… Когда я уходил, – заканчивает Эрберг, – мне запомнилась безобразная сцена. Кто-то открыл окно и, глядя вниз, сказал: “Ух, как высоко, – упадешь, костей не соберут”. Блок вскочил с места и стал пробираться к окну, работая локтями (комната была тесная). Какой-то голос закричал: “Не пускайте его!” Кто-то преградил доступ к окну. Хозяин охватил Блока сзади и стал его оттягивать. Блок с освирепевшим лицом отбивался, чуть ли не до драки. Таких злых глаз я у него не видел никогда. Я их и посейчас помню. Такая звериная злоба. И это Блок!..»
Эрберг ушел, потом ушли и остальные. Город был на осадном положении, на улицах комендантский час. Остались у Алянского лишь Блок, Белый, Анненков да Владимир Соловьев. Двое последних, не раздеваясь, устроились на оттоманке, Белый задремал в кресле, а Алянский и Блок – прямо у стола. Дальше воспоминания присутствующих расходятся. Неизменным остается одно: глубокой ночью в дверь постучали. Человек в кожаной фуражке на «ржавых волосах» и кожаной куртке, «фатальный ночной комиссар», по словам Анненкова, вошедший с двумя матросами, увешанными пулеметными лентами, оглядевшись, бросил: «Братская могила!.. Открыли бы форточку, что ли…» Потом спросил: «Имеются ли посторонние, не прописанные?» – «Да, – ответил Алянский. – Там, видите, у стола дремлет поэт Александр Блок…» – «Кожанка», по одной версии, удивилась: «Который Блок, настоящий?..» – «Стопроцентный!» – ответил якобы Алянский. По другой версии, вошедший комиссар, перейдя на шепот, спросил: «Тот самый? – И добавил: – Хорошо, что я сам оказался с патрулем… А Блока неужели вы не смогли уложить куда-нибудь?..»
Долгие годы считалось, что у Блока не было детей. И вдруг в 1990-х годах на экранах телевизоров появилась женщина, очень похожая на поэта. Тогда и выяснилось (эту историю, кстати, начала «расследовать» еще Анна Ахматова), что 1 мая 1921 года в селе Кезеве под Петроградом у сестры милосердия Александры Чубуковой родилась дочь. Дочь Блока. И он знал о ней, хотя мать девочки почти сразу умерла от чахотки… А в день, когда она родила, 1 мая (по другим, правда, сведениям – 2 мая), Блок как раз сидел на чемодане на Николаевском (Московском) вокзале и ждал поезда в столицу, куда он, вместе с Чуковским, отправлялся в последний раз. Кругом гремел праздник победившего пролетариата: колонны демонстрантов, музыка, барабаны, кумачовые флаги… Но Блок был печален. Чуковский признавался потом, что специально хотел вывезти поэта из «атмосферы» семьи, где Блоку в который уже раз изменяла жена. На этот раз в любовниках у Любы был знаменитый клоун Дельвари, и об этой связи знали многие[65]. Люба не скрывала этого даже дома. Может, и потому перед самой поездкой в Москву Блок спросил вдруг Чулкова, давнего приятеля своего: «Вы хотели бы умереть?» Чулков ответил не то «нет», не то «не знаю». А Блок вдруг торопливо признался: «А я очень хочу…» И это «хочу» было в нем так сильно, пишет свидетель разговора Голлербах, что люди, близко наблюдавшие поэта, утверждают: Блок и умрет через три месяца оттого, что хотел умереть…
«Мне пусто, мне постыло жить!» – вот последняя строчка поэта на земле. Его последние слова к Любе: «Почему ты в слезах?..» «Жить не хотел, – пишет Андрей Белый, – к смерти готовился, приводил в порядок бумаги». «Гибель лучше всего», – признался тетке. А в дневнике записал: «Мысль о гибели стала подлинней, ярче…» Перед смертью, в чаду болезни, разбил в раздражении голубую вазу – подарок Любы, зеркало, в которое смотрелся, когда брился, запустил кочергой в большой бюст Аполлона, стоявший на шкафу: интересно, «на сколько кусков распадется эта рожа». После таких вспышек испуганно плакал, хватался за голову: «Что же это со мной?..» Бредил об одном, пишет Георгий Иванов: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? «Люба, хорошенько поищи и сожги, все сожги». И, вспомнив вдруг об экземпляре, посланном Брюсову, кричал: «Я заставлю его отдать, я убью его…» Слова эти в мемуарах Иванова годами звали «злобной клеветой» белого эмигранта. Но Белый вспомнит слова матери Блока, что тот, в забытьи уже, вдруг сказал: «А у нас в доме “столько-то” (не помню цифры) социалистических книг; их – сжечь, сжечь!»
Но – вернемся к дочери Блока. Все ли знают, что Блок два последних года работал «председателем режиссерского управления» в Большом драматическом театре (Фонтанка, 65), «Больдрамте», как называли в ту пору БДТ? В дирекцию театра входили тогда сплошь знаменитости: Ю.М.Юрьев, Н.Ф.Монахов, А.Н.Бенуа, В.А.Щуко, М.Ф.Андреева. Последняя, пишут, будучи комиссаром театрального дела, приняла поэта в театре восторженно, положила ему жалованье в 40 тысяч рублей, но скоро, говорят, разочаровалась в нем. Но ведь разочаровался в театре и сам Блок, отзывался об этой своей службе более чем резко: «Театр, полный грязи, интриг, мишуры, скуки и блеска, – собрание людей, умеющих жрать, пить, дебоширить и играть на сцене. Разные невоплощенные Мейерхольды и многие весьма воплощенные уголовные элементы еще все сосут, как пауки, обильную русскую кровь… У русских дураков еще много здоровой крови. Когда жизнь возьмет верх, тогда только перестанет влечь это жирное, злое, веселое и не очень-то здоровое гнездо, которому имя – старый театр…» Так вот, именно здесь, в театре, актер Монахов как-то и позвал Блока к себе на дачу, где поэт познакомился с хорошенькой Сашей Чубуковой. И здесь же, в театре, работала тогда врачом Мария Сакович, которая удочерит ребенка Блока: умирая, именно Марию Сакович поэт просил позаботиться о девочке…
В недавно изданной книге «Жизнь и приключения артистов БДТ» Владимир Рецептер «дописал» историю последнего романа поэта: дочь Блока, Александра Люш, повзрослев, пришла работать также в БДТ, где стала декоратором – работником бутафорского цеха. В театре почти все звали ее «Аля-Паля» или просто «Паля»[66]. Потом, заработав астму на «пыльном», в прямом смысле слова, ремесле (старые декорации, задники, весь тот театральный хлам, из которого и рождается спектакль), она перешла в Кировский театр. Марию Сергеевну Сакович, ее приемную мать, в 1965 году навестила в Доме ветеранов сцены Анна Андреевна Ахматова. Про Александру, дочь поэта, Ахматова спросила: «Блок?» – «Да», – сказала Мария Сергеевна. «А кто мать?» – «Я не могу сказать, – ответила Сакович. — Это тайна». «Стало ясно, – продолжает Рецептер, — что она поклялась». Поклялась Блоку не говорить…
Лишь через годы стало известно, что Александра Кузьминична Чубукова назвала дочь Александрой в честь матери поэта. Что до встречи с Блоком она состояла в гражданском браке с Константином Тоном, сыном знаменитого архитектора, который ровно за семьдесят лет до 1 мая 1921 года, в 1851-м, как раз и закончил строить Николаевский, ныне Московский, вокзал, где Блок встретил миг рождения дочери. Наконец, что у Чубуковой было уже от Тона два сына и что за три года до встречи с поэтом ее мужа сразу после революции большевики расстреляли в его собственной квартире. Они жили, кстати, на Фонтанке, недалеко от БДТ…
Вскоре умрет от туберкулеза и сама Чубукова, даже раньше, чем скончается Блок. Мария Сергеевна Сакович, удочерившая Алю, поселится на Бородинке, в доме, который мы, мальчишки, выросшие на этой улице, уважительно звали «Дом артистов» (Бородинская, 13). Знал ли я, двадцать лет проживший по соседству в доме №15, учившийся в школе прямо напротив «Дома артистов», что рядом жила в те годы дочь Блока?.. А ведь она, говорят, была настолько похожа на него, что когда профессор Военно-медицинской академии предложил ей сделать спецанализ, который докажет ее родство с поэтом, легко ответила: «Мне не надо, я в этом не сомневаюсь»…
Легенды БДТ хранят в анналах своих и другую историю. Когда страна праздновала столетие Блока, на вечере в БДТ, посвященном этому событию, главный машинист сцены Алексей Николаевич Быстров подвел Александру Люш к организатору празднества, самому известному блоковеду В.Орлову, и, как пишет В.Рецептер, «с намеком представил: вот, мол, “дочь юбиляра”». Орлов, – рассказывает Рецептер, – сказал: «Вы понимаете, я – в курсе. Но я написал книгу о Блоке, и в мою концепцию это не входит»…
Такое вот – «литературоведение». Камни домов, которые помнят Блока по сей день, и те оказались надежнее – все помнят!..
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Этого поэта Москва почему-то «присвоила». А он первую и лучшую половину жизни провел как раз в Петербурге. Правда, мать его, с цветистым именем Флора, за восемнадцать лет сменила, говорят, чуть ли не семнадцать квартир. Каждый раз, уезжая летом на дачу, она, видимо, бросала очередное жилье, с тем чтобы осенью снять новое. Иногда, впрочем, жили «зимогорами». «“Зимогор”, – сообщает словарь Даля, – тот, кто остался зимовать вне Петербурга: в Шувалове, в Лесном, в Удельной…» Но самым первым жильем Мандельштамов после переезда из Варшавы стал, кажется, дом в Павловске (Правленская, 42), где семья купца и мелкого коммерсанта Эмиля Вениаминовича Мандельштама поселилась в 1894 году[67].
Про этот дом его сын напишет: «За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то “Крейцеровой сонате”». Как на переводных картинках проступят потом образы детства, вспомнятся диковинные имена, обрывки разговоров о каких-то загадочных книгах. И даже то, что не очень-то и предашь гласности: будто его «слишком долго брали с собой в женскую купальню» и что он «тревожно волновался, когда его секла гувернантка…»
Именно из Павловска отправившись 19 ноября 1894 года в Петербург, семья Мандельштамов снимет (на три дня всего) квартиру на четвертом этаже шикарного меблированного дома на Невском, 100. Отец ставил хозяевам лишь одно условие: окна комнат должны выходить только на Невский. Он хотел увидеть, как повезут с вокзала гроб с телом умершего на юге Александра III. Страсть к впечатлениям, любопытство? Сын унаследует и то и другое. А похороны царя (они случились 20 ноября) станут и первым воспоминанием трехлетнего поэта.
«Вечером я взобрался на подоконник, – вспоминал он, – вижу: улица черна народом, спрашиваю: “Когда же они поедут?” – говорят: “Завтра”. Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде». Мог ли он знать, что его собственная смерть явится, напротив, в самом убогом виде – он упадет голым в лагерной бане, и тело его будет валяться не преданным земле долгих четыре дня…
Вообще, немецко-еврейская фамилия Мандельштам переводится с идиш как «ствол миндаля» и заставляет (пишет биограф поэта О.Лекманов) вспомнить о процветающем миндальном жезле первосвященника Аарона из Библии. Значение фамилии в семье, конечно, знали. Евгений, брат поэта, помнил, что в детстве, видимо на первой еще квартире Мандельштамов (Офицерская, 17), они «расписывали» свою фамилию в шуточных шарадах. Первые два слога – лакомство (миндаль), а третий слог – часть дерева.
Предки поэта – так гласила семейная легенда! – были выходцами из Испании, а «основателем рода, – как пишет тот же Лекманов, – считается ювелир при дворе курляндского герцога Э.И.Бирона». Другой исследователь, О.Ронен, подчеркивает: «Семья дала миру известных врачей и физиков, сионистов и ассимиляционистов, переводчиков Библии и знатоков Гоголя». Но восьмилетнего мальчишку завораживали не кожи отца и не ювелирное дело предков, даже не бег в мешках наперегонки со сверстниками и не «постановка руки» учителями музыки (упорная мать возила его к самому Кубелику, которым бредил весь город) – нет. Он в имперской столице столбенел от военных разводов на Дворцовой площади, от пролетавшего мимо казачьего конвоя императора, от мохнатой шапки гренадера, стоявшего на часах у памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Памятник этот «был виден чуть ли не из окон» их новой квартиры в переулке Пирогова (Максимилиановский пер., 14). Здесь жили Мандельштамы в 1897 году, и отсюда его повели в только что открывшееся училище князя В.Н.Тенишева, миллионера, решившего создать школу нового типа. Сначала училище размещалось в огромном доходном доме на Загородном (Загородныйпр., 17). Там-то, во дворе, «десятка три мальчиков в коротких штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках со страшным криком играли в футбол», – напишет позже Мандельштам. Здание цело и ныне, и именно туда – это он тоже запомнит! – приезжал на освящение училища сам Витте, тогда, правда, еще не премьер-министр, а министр финансов. Кстати, ныне в архиве училища нашли первые упоминания о поэте. Учитель Закона Божьего, священник Д.Ф.Гидаспов (уж не родственник ли первого секретаря Ленинградского обкома КПСС в конце 1980-х?), писал о нем, об ученике первого класса: «Умный и способный мальчик, но… и очень самолюбивый; прекрасно владеет русской речью, рассказывал всегда связно и литературно. Историю Ветхого Завета знает хорошо». А когда в 1900 году училище переедет в специально выстроенное здание (Моховая, 33), то в этой «самой тепличной, самой выкипяченной русской школе» [68] (ее поэт сравнит с Царскосельским лицеем) он не только напечатает в школьном журнале «Пробужденная мысль» свое первое стихотворение (под псевдонимом Фитиль), но, как и Пушкин, по горло наберется этой «заразы» – идей вольнодумных…
Нравы в училище, впрочем, мало отличались от нынешних. Верховодили дети правящих семейств, какой-то сын камергера с античным профилем, шляхтич, победитель по дальности плевков, какие-то близнецы из бессарабских евреев. Правда, один из одноклассников скажет потом, что Осип вечно ходил «повесив нос» и ему часто кричали: «Еська! Застегни штаны!..» А другой, некий Рубакин, напишет, что «вольнодумец» был «весьма трусоват». Насчет штанов я лично верю – могло быть! А вот что «трусоват», возможно, и не соглашусь. Просто Рубакин едва ли знал, что еще в училище Мандельштам вступил в партию эсеров – те принимали даже школьников. И более того, наш «цыпленок» не только пробовал уже читать «Эрфуртскую программу» и «Капитал» Маркса, но с рыжим караимом, несгибаемым одноклассником Борей Синани, в доме которого, по словам поэта, собирались «репетиторы революции» (Пушкинская, 4), мотался по рабочим митингам и произносил пылкие речи. Через тридцать лет «признается» в этом на допросах в НКВД – сохранились протоколы. Не скажет лишь, что в Тенишевском хотел даже «записаться» в террористы… Да, да! Видел самого Азефа, легендарного Савинкова, Гершуни, сбежавшего с акатуйской каторги. Мандельштам помнил, как осенним вечером 1907 года, выйдя из своего насквозь «мещанского», конечно же, дома (Свечной пер., д. 6) [69], они с Синани двинулись на Финляндский вокзал. Ехали в Райволу (нынче – Рощино), на конспиративную дачу, на заседание ЦК эсеров, ехали с твердым намерением войти в Боевую организацию. На даче им прикажут «сидеть смирно» и наверх не ходить. А из темноты, от заколоченных на зиму домиков, запертых калиток, откуда надрывались лишь псы-волкодавы, «выплывали» сначала рабочие ватники и старенькие пледы на плечах, потом, по одному, отличные английские пальто и щегольские котелки… Но как же славно, что мальчишек по малолетству в «боевики» так и не взяли тогда.
Говорят, в поэзию Мандельштама буквально «за ручку» привела мать. По мнению переводчицы Евгении Герцык, это случилось на «Башне» Вяч. Иванова, где все «очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика… читавшего четкие фарфоровые стихи»; а по версии Сергея Маковского – в «Аполлоне», изысканном журнале, который открылся в 1909 году (Мойка, 24). Маковский, редактор «Аполлона», сын знаменитого художника, кого литераторы звали меж собой «Папа Мако» или «Моль в перчатках», в мемуарах «вылепит» из этого случая ну просто восхитительную, «благоуханную», как сказала бы Ахматова, «новеллу».
«Как-то утром некая особа требует редактора, – пишет он. – Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати… конфузился и льнул к ней… как маленький, чуть не держался “за ручку”. Голова у юноши крупная, откинутая назад, на очень тонкой шее… В остром лице… в подпрыгивающей походке что-то птичье… “Мой сын… Надо же знать… как быть с ним. У нас торговое дело… А он все стихи да стихи!.. Если талант – пусть… Но если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим…” Она вынула из сумочки несколько исписанных листков… Стихи, – пишет Маковский, – ничем не пленили меня, и я уж готов был отделаться от мамаши и сынка… когда, взглянув… на юношу, прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей. “Да, сударыня, ваш сын – талант…” Юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места… потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом и опять сел. Мамаша… быстро нашлась: “Отлично… Значит – печатайте!”» И чуть ли не первой публикацией Мандельштама станет опубликованное в «Аполлоне» ныне знаменитое стихотворение: «Дано мне тело – что мне делать с ним, // Таким единым и таким моим? // За радость тихую дышать и жить // Кого, скажите, мне благодарить…»
На деле все оказалось проще, как и в жизни. Мать, конечно, приложила руку, но лишь тем, что, спасая сына от марксизма, успела отправить его в Париж, в Сорбонну. Говорят, там он и встретил Гумилева – автора уже двух поэтических книг. А позже – это совершенно точно, оба станут ревностно посещать на «Башне» знаменитую «Поэтическую академию» (организованную в том числе и Гумилевым), где Вяч. Иванов будет читать курс поэтики. Правда, в протоколах «Академии», которые вела М.М.Замятнина, помощница Иванова, она запишет его как поэта Мендельсона…
Вообще-то близкие звали его Оськой, хотя «этот маленький ликующий еврей, – по словам Лунина, – был величествен – как фуга». Вид, «обращающий внимание, – вспоминал Г.Иванов. – Костюм франтовский и неряшливый, баки, лысина, окруженная редкими вьющимися волосами… еврейское лицо – и удивительные глаза. Закроет глаза – аптекарский ученик. Откроет – ангел». Тогда его сравнивали с «цыпленком». Теперь будущий критик Мочульский величал уже «задорным петухом». Но добавлял: «Доверчивый, беспомощный, как ребенок, лишенный всяких признаков “здравого смысла”, фантазер и чудак, он не жил, а ежедневно погибал. С ним постоянно случались невероятные происшествия, неправдоподобные приключения». Возвращаясь, например, из Германии, где также недолго учился, он теряет единственный чемодан и с пледом в одной руке, с бутербродом в другой ступает на перрон Варшавского вокзала в Петербурге. «В потерянном чемодане, – пишет Георгий Иванов, – кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки – и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть…» А в университете (куда, кстати, смог поступить, лишь приняв христианство [70]) вдруг так увлекается «тайнами» греческой грамматики, что вступает с ними в загадочные отношения. «Когда я сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола “пайдево” (воспитывать) звучит “пепайдевкос”, – пишет Мочульский, – он задохнулся от восторга. На следующий урок пришел виноватым: “Я ничего не приготовил… написал стихи”». Наставником в стихах, кстати, считал не Мочульского – Владимира Гиппиуса, рыжего поэта, писавшего под именами Бестужев и Нелединский. Тот, говорил, не литературу преподавал, а «гораздо более интересную науку – литературную злость»…
Чудак ли Мандельштам? Несомненно! В гостиной попросит коньяку в кофе и все это опрокинет на ковер. В санях, не окончив спора с Гумилевым, вдруг притихнет и, натурально окоченев, шлепнется оппоненту на колени. То в гостях у Толстых (Невский, 147), когда Алексей Николаевич насмешливо станет расспрашивать, как же выглядит жена Гумилева, начнет показывать руками, какая у той «большая шляпа», да так смешно, что незамеченная среди собравшихся Ахматова перепугается, «что произойдет… непоправимое», и громко крикнет, что она тоже здесь. А то придумает, представьте, может быть, «единственную в мире» визитную карточку на двоих: на себя и Георгия Иванова – они ведь были неразлучны. И постоянно, азартно и нахально, будет искать «меценатов». И тех, кто заплатит за извозчика, и «тузов», тех, кому под силу будет издать и книгу, и альманах. Найдя «денежный мешок», подымал вихрь заседаний, конфиденциальных встреч, составлений смет, согласований авансов. А через несколько дней высокомерно сообщал: «Я разошелся с издателем». – «И он, – спрашивали, – ничего не издал?» – «Издал, – сгибался вдруг в приступе смеха, – издал вопль!..»
Странный был человек. Его смешило то, что было совсем не смешно, и, напротив, расстроить мог действительно смешной пустяк. Но, как пишет Г.Иванов, Мандельштаму везло. Каким-то чудом он уговаривал непреклонных портных кроить ему в кредит крупноклетчатые костюмы на его нелепую фигуру, хозяев – сдавать дешевые комнаты. Симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты, еще водились в Петербурге. Проблемой были карманные деньги на табак и черный кофе. Для написания стихотворения в пять строф Мандельштаму требовалось в среднем часов восемь, а кроме того – не менее пятидесяти папирос и полуфунта кофе.
Внешне все было как будто и неплохо, но реально… «Беден был, очень беден… – писал Маковский. – Кроме стихов, ни на какую работу… не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени». Да, реально у него имелись «пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяли, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды настоящие и выдуманные, – выдуманные часто больнее настоящих».
Особо страдал от «европеянок нежных» – прелестниц, в которых влюблялся. Первой, по словам Ахматовой, была Анна Зельманова-Чудовская, красавица–художница, которая напишет портрет Мандельштама – тот, где он в профиль на синем фоне. Зельмановой стихов не писал, что удивляло даже его самого, но в доме ее и ее мужа Валериана Чудовского бывал (Алексеевская, 5)[71]. А последним романом перед женитьбой на Наде Хазиной, забегая вперед, скажу, была любовь к Олечке Арбениной-Гильдебрандт, из-за которой он недолго, но соперничал с другом – Гумилевым. Актриса Арбенина тоже, кстати, была художницей. Но поразительней совпадение иное. Она напишет потом, что, еще не будучи знакомыми друг с другом, они жили в детстве в одном доме на Литейном, против Кирочной улицы (Литейный, 15), и она хорошо запомнила, как мамаша поэта кричала в форточку во двор – звала сыновей обедать…
Влюбленности его всегда были какие-то театральные. В Варшаве, говорят, даже стрелялся из-за любви и был ранен, хотя дуэль, кажется, чистая выдумка. Да и любовь тоже. На деле хотел получить место военного санитара – помочь воюющей родине. Впрочем, чтобы уехать в Польшу, проявил небывалую энергию и выхлопотал, несмотря на военное время, и пропуска, и разрешения. Но позабыл – это в его духе – о «пустяке» – деньгах на поездку. Бегал по редакциям, где «высоко ценили» его «прекрасное дарование», но аванса так и не получил. Вот тогда и сказал, почти пророчески: «Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех и никто даже не обернется…» Короче, в Варшаву уехал все-таки на санитарном поезде. А отлежавшись после ранения в госпитале (есть версия – после попытки самоубийства!), вернувшись в Петербург, он – вот беззаботность! – на другой же день отправился в «Бродячую собаку», где, давясь от смеха, читал: «Не унывай, // Садись в трамвай, // Такой пустой, // Такой восьмой…» Таким беззаботным запомнит его Марина Цветаева. Она вскоре приедет в Петербург – это будет почти единственная ее поездка в столицу. Встретятся в квартире еще одного поэта и будущего, представьте, убийцы и, кажется, влюбятся друг в друга, Но это – новая уже история, и о ней, как всегда, – у другого дома поэта.
…Стеснительный и дерзкий, обидчивый и нахальный, меланхоличный и смешливый – все совмещал в себе этот юноша. Тот же Георгий Иванов, вспоминая о знакомстве с ним, пишет, как Осип, старательно грассируя, заговорил с ним по-французски, но потом на каком-то слишком «парижском» «р-р-р»… споткнулся, залился густой малиновой краской и… обиделся на незнакомца. За что? За то, что сам же не так что-то выговорил, а Иванов это, возможно, заметил и «про себя что-нибудь непременно подумал». «А через четверть часа, – заканчивает рассказ Г.Иванов, – он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике – чушь какую-то. Смеялся, как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь»…
Впрочем, меня больше всего поразил факт, который приводит Чуковский. Назвав болезненного и хилого Мандельштама вдруг «сильным, красивым и стройным», Чуковский пишет, как ветреной осенью в Куоккале они с друзьями вышли на пустынный пляж и не успели оглянуться, как Осип, молча сбросив одежду, кинулся в воду и быстро поплыл по направлению к Кронштадту… Чуковский бросился за теплой курткой (его дом был в двух шагах), но пловец, выбравшись на берег, стал вдруг «бегать по пляжу так быстро, что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью. Бегал долго и оделся лишь после того, как обсушил и согрел свое крепкое тело»…
Невероятно для «цыпленка», для «тепличного» юноши – не так ли?
Но если истинно талантливая поэзия удивляет, то почему не может быть удивительным и сам поэт?..
Лучшие прозаики – это поэты. Кто гениальнее всех написал об этом проспекте – гранитной метафоре Петербурга? Конечно, Мандельштам! Он ведь и себя называл «человеком Каменноостровского проспекта» – одной из «самых легких и безответственных улиц Петербурга». Проспект этот, по его словам, «легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове»… Трамваи ходили тогда по проспекту и развивали «неслыханную скорость»… А про квартиру на Каменноостровском скажет непонятно: время в ней, напишет, раскалывалось «на династии и столетия»… Может, мать имел в виду, на которой в семье еле держалась дружба детей и которая умерла в 1916-м именно в этой квартире. А может – грозный год двух революций, заставший его как раз здесь…
Известно точно: в 1916-м Мандельштам жил в доме №24а по Каменноостровскому проспекту. В стареньком, уютном домике, где во дворе сохранился какой–то доисторический фонтан. А окна – тоже ориентир – выходили на проспект–красавец. И если за окнами квартиры царила поэзия Каменноостровского, то в самой квартире поэта жила, увы, презренная проза.
«Отец – не в духе. Он всегда не в духе, – пишет об отце Осипа Георгий Иванов. – Мрачная… квартира. Обеды в грозном молчании… страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава… Слезы матери – что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь – убьет… Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло. Худой, смуглый, некрасивый подросток[72], отделавшись наконец от томительного чаепития, читает у себя в комнате “Критику чистого разума”. Подходит к окну. На пустом Каменноостровском – фонари. Как просторно там… в мире, в пространстве… “Осип, ложись спать. Опять отец рассердится”. – “Ах, сейчас, мама”»…
Если мама жива – значит, мир поэта еще не расколот. Она умрет от инсульта. Умрет, пишут, «узнав о неверности мужа» в Петропавловской больнице не приходя в сознание. Телеграмму о смерти братья Осип и Александр получат от отца в Коктебеле – оба успеют только на похороны. «В светлом храме иудеи // Хоронили мать мою», – напишет Осип. «Со смертью матери начался распад семьи… – скажет младший брат, Евгений. – Особенно сильно поразила она наиболее реактивного из нас – Осипа». Нина Бальмонт-Бруни вспоминала позже, что недружные сами по себе братья так любили мать, что когда порой нуждались в деньгах, то посылали друг другу телеграммы: «Именем покойной матери, пришли сто». И Осип Эмильевич говорил: «Никогда не было отказов, но зато мы этим и не злоупотребляли».
Впрочем, до этого еще далеко. Пока же на Каменноостровском еще целы венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками, а поэт спит в теплой, со слегка, правда, ослабнувшей сеткой, кровати и выдумывает герб семьи. «Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие… Ничего не осталось». Так, какие-то вечные крики в памяти: «Сажа, сажа!», когда начинала вдруг коптить керосиновая лампа. «Всплескивали руками, останавливались, нюхали воздух… Немедленно распахивались маленькие форточки, и в них стрелял шампанским мороз, торопливо прохватывая всю комнату… эфиром простуды, сулемой воспаления легких. “Туда нельзя – там форточка”, – шептала мать… Но и в замочную скважину врывался он – запрещенный холод, – чудный гость дифтеритных пространств…»
Так, видимо, было во всех квартирах семьи: и на Загородном (Загородный, 14) – в 1913-м, и на Ивановской (Социалистическая, 16) – куда перебрались на следующий год. Так было везде. И ничего не осталось. Даже запахов. «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь, – напишет потом Мандельштам. – О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских? И это пахнет не только кухня, но люди, вещи и одежда». Для него исчезнувший запах – родной. Так будет пахнуть, наверное, и от свитера, который Осип как последнюю ценность отдаст через два десятилетия умирающему отцу в свой последний приезд уже не в Петроград – в Ленинград…
Может, по контрасту с вечной прозой его жилищ он и станет поэтом – выпустит в апреле 1913 года первый стихотворный сборник «Камень». Тридцать страниц всего! Выпустит за свой счет и, кстати, сначала назвать хотел сборник «Раковина»[73]. А первым комплиментом стали слова хозяина типографии на Моховой, Мансфельда. Поэт запомнит на всю жизнь, что тот, пожав ему руку, сказал: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше».
Пять рецензий получил сборник – и все блестящие. А вот Москва, «присвоившая» поэта, напротив, на «Камень» посмотрела как-то криво. Во всяком случае, Брюсов, законодатель литературных мод, сборника не оценил. В то время у Брюсова нечаянно оказался Г.Иванов. «На письменном столе в его кабинете, – вспоминал потом, – лежали две кипы новых стихотворных сборников… Брюсов объяснил: “Вот об этом – кипа поменьше – я буду писать… Об остальных не стоит”. В ворохе остальных лежал только что вышедший “Камень” Мандельштама. – “Как? Вы о «Камне» не будете писать?” – Презрительный жест. “Не стоит – эпигон”…» «Он ненавидит его, – заметит Ахматова о Брюсове. – Ненавидит за то, что Мандельштам – ангел, а сам он только литератор!..» Она же, несмотря на мизерный тираж «Камня», скажет: «Мандельштам, конечно, – наш первый поэт». Скажет, кажется, Адамовичу. Но может – кто же это знает? – повторит эту мысль и в комнатке Осипа, которую он снимет в ноябре 1913 года у какого-то офицера в 1-м Кадетском корпусе (Съездовская линия, 1) и куда они с Гумилевым однажды заедут по-приятельски. «Рассеян утренник тяжелый, // На босу ногу день прошел; // А во дворе военной школы // Играют мальчики в футбол», – прочтет он им как раз здесь написанное стихотворение и, подведя к окну, кивнет на мальчишек-кадетов, беспечно гоняющих мяч во дворе. «Футбол, – важно отметит потом Ахматова, – тогда это была новинка…» «Новинка», разумеется, для нее; сам Осип, как помним, еще десять лет назад пинал мяч с тенишевцами. Зато Ахматова, едва ли не первая, уже тогда, зорко высмотрит в нем великого поэта. «Сидит человек десять-двенадцать, читают стихи, – рассказывала после одного из заседаний “Цеха поэтов”, – то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми – читает Осип Эмильевич!..»
«Цыпленок», «петух» – так, помните, звали его. Теперь вот – «лебедь». В 1916-м даже изобретательная на слова Цветаева и та запишет: он был «похож на… птенца, выпавшего из гнезда». И только друг поэта Георгий Иванов сравнит его с… Пушкиным: «Был похож. Это находили многие, но открыла… моя старуха-горничная. Как все горничные, швейцары и посторонние поэзии… она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требования чаю и бутербродов в неурочное время». И однажды, когда Иванов принес домой (Рождественская, 16) портрет Пушкина и укрепил его над столом, старуха, покачав головой, сказала: «Что вы, барин, видно, без всякого Мандельштампта не можете. Три дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете!..» Нет, портрета друга он, конечно, не вешал, но дружбой с ним «бравировал», и обоим нравилось почему-то «вызывать толки» [74].
Видимо, вместе друзья бывали и в Саперном переулке, почти единственном цветаевском месте города. Я бы даже сказал – «дважды цветаевском», хотя по–настоящему она была в Петербурге всего раз. Не считать же какой-то детской поездки и уже предсмертного возвращения ее в СССР, когда она с сыном прямо с ленинградского причала кинулась на вокзал – в Москву, на гибель. Помните, в предыдущей главе я писал, что Мандельштам и Цветаева встретятся в квартире будущего убийцы. Так вот, это случилось в доме на Саперном (Саперныйпер., 10, кв. 5). В этом доме до революции жили Бердяев и Ремизов, а в квартире №5 обитал «самый петербургский петербуржец», поэт, друг Есенина и будущий убийца председателя Петроградской ЧК Урицкого Леонид Каннегисер[75]. Мне, к слову сказать, лет восемь назад удалось попасть в эту просторную, сдвоенную, квартиру на третьем этаже – с гигантским камином, уцелевшим до наших дней, огромными залами, эркерами на две стороны. Вот в ней-то в декабре 1915 года и был устроен вечер, на который попала Марина Цветаева.
Как здесь было все? Как всегда: медвежьи шкуры, ковры, стены, обтянутые шелком, роскошная иностранная мебель. Девицы, дымящие египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков; молодые люди с зализанными проборами и в лакированных туфлях и – летающие из комнаты в комнату – самые ходовые словечки: «вульгарно», «плебейство». А центром любого разговора тут были, разумеется, братья Каннегисеры. «Эстеты, изломанные, с кривляниями и вывертами, с какой-то червоточинкой, – рассказывала Н.Блюменфельд, одесская знакомая семьи. – Лева (Леонид. – В.Н.) любил эпатировать добропорядочных буржуа, ошарашивать их презрением к морали, не скрывал, например, что он гомосексуалист». И так вертел бедрами, что молоденькая Вера Инбер смеялась, что у нее от его походки «делается морская болезнь». Счастливый молодой человек, писал о нем Г.Иванов. Ему все было дано: красив, молод, свободен от забот, денежно обеспечен, талантлив. Жил как в раю. «Но отчего же мне так больно, – писал в стихах, – В моем счастливейшем раю?»[76] А старший брат, Сергей, тот любил, говорят, повторять: «Каннегисеры – это звучит гордо». Звучало на самом деле смешно, ибо «каннегиссер» по-немецки – «клизма». Но Мандельштама оба брата в своем доме привечали. Более того, зная о вечном безденежье его, собирали деньги – пускали в доме шапку по кругу. Леонид Каннегисер даже говорил: «Мандельштам оказывает мне честь, что берет у меня деньги». Поэт принимал пожертвования будто «лорд» и однажды якобы сказал, что если мир держится на искусстве, то «толстосумы обязаны меценатствовать» и брать «от них деньги не зазорно». В его духе высказывание. Рискну даже сказать – это станет его жизненным принципом. Но главное – именно в этом доме и тогда, в 1915-м, он увидит Цветаеву. Не знаю, перекинулись ли словом, об этом история умалчивает, но некое чувство между ними вспыхнет…
«В обвешанной шелками… гостиной щебетало человек двадцать пять, – опишет подобный вечер Г.Иванов. – Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов, Кузмин, захлебывался: “Если бы ты был небесный ангел, // Вместо смокинга носил бы ты орарь…”» Именно огромные горящие глаза Кузмина, которые Цветаева увидит через анфиладу комнат, и поразят ее. Потом, в неотправленном письме Кузмину (текст остался в рабочих тетрадях Цветаевой), напишет: «Большая зала… И в глубине, через все эти паркетные пространства – как в обратную сторону бинокля – два глаза. И что-то кофейное. – Лицо. И что-то пепельное. – Костюм. И я сразу понимаю: Кузмин. Знакомят. Все от старинного француза и от птицы. Невесомость. Голос чуть надтреснут, в основе – глухой, посередине – где трещина – звенит. Что говорили – не помню. Читал стихи… Было много народу. Никого не помню. Нужно было сразу уезжать. Только что приехала – и сразу уезжать!..»
Ее попросят читать. В очерке «Нездешний вечер» она опишет это. «Ясно чувствую, – вспоминала, – что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь – не ударю, что возношу его на уровень лица – ахматовского… Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен как прямой провод к Ахматовой… Не для того, чтобы Петербург победить, а для того, чтобы эту Москву Петербургу подарить».
Она приехала из Москвы с Софьей Парнок, поэтессой, с которой у нее был роман тогда. Обе привезли стихи издательнице «Северных записок» Софье Чацкиной, кстати, родной тетке Леонида Каннегисера, и, разумеется, навестили ее литературный салон (Кирочная, 24). Не знаю, правда, где остановились Цветаева и Парнок, но от Каннегисеров Марина в тот легендарный вечер почти сразу стала рваться к оставленной подруге; у той сильно болела голова, и в такие минуты она была невыносима. Цветаеву не пускали, удерживали. В одном из писем она опишет эту сцену: «Я жалобно: “Но у меня дома подруга”. Легкий смех, и кто-то, не выдержав: “Вы говорите так, точно – у меня дома ребенок. Подруга подождет”. Я про себя: “Черта с два!”» Словом, она ушла и застала Парнок сладко спящей. Это переполнило чашу ее терпения. И через двадцать лет она не простила ей того, что не осталась там, у Каннегисера…
Да, но почему, спросите, Саперный переулок – дважды цветаевский? Да потому, что здесь, напротив дома Каннегисеров, жила одна из сестер Сергея Эфрона, мужа Цветаевой, Анна Трупчинская (Саперный, 13). Не знаю, навестила ли ее Цветаева, но с Мандельштамом Анна окажется знакомой. Писательница Елена Тагер, подруга Анны, вспоминала, как та однажды позвонила ей: «Сережа приехал. Приходите скорей. И еще один его приятель сейчас придет. Погуляем вместе». Приятелем Сергея Эфрона (сам он учился в это время в юнкерской школе в Петергофе, под Петроградом) оказался как раз Мандельштам – они были дружны с коктебельского еще лета в 1915 году.
«Вчетвером шагаем по Невскому, – вспоминала Тагер. – Солнце, весенний воздух, торопливый поток прохожих, оживленных, нарядных, несмотря на то что идет уже второй год войны. Заходим в кафе “Ампир”… Здесь все так же крепко варится кофе… услужливы официанты, элегантны дамы. И… шляпки так же огромны… донашиваются громоздкие моды последних предвоенных лет». Эфрон, расплачиваясь, бросает на столик чеки из синей бумаги, которые из-за войны имели хождение наравне с разменной монетой. “Он бросил на стол пачку ассигнаций!” – шутит при этом. Потом говорит: “Может, нам всем следует идти на войну?” – “Я не вижу, кому это следует. Мне – не следует! – Мандельштам закидывает голову. – Мой камень не для этой пращи… Я не готовил себя на пушечное мясо…” – “Война проигрывается, – говорит Сергей. – Тем больше оснований нам идти на фронт…” – “Как, Сережа! Ты пойдешь защищать самодержавие?!” – у сестры Сергея даже слезы в голосе. “Есть многое, помимо самодержавия, что я пойду защищать. Еще есть. Быть может, скоро не будет”…»
Сергей действительно вскоре окажется на войне, правда на гражданской. А Мандельштам ринется в Москву, к Цветаевой, где между ними вспыхнет быстрый и бурный роман. Какое-то время, во всяком случае до июня 1916-го, он будет так часто метаться между городами, что одна знакомая скажет про его «наезды и бегства»: «не человек, а самолет», хотя, как известно, никаких еще самолетов для пассажиров не существовало. Мандельштам подарит Марине второе издание «Камня» и напишет: «Марине Цветаевой – камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург, 10 янв. 1916». А она ему, как говорил его старший друг и наставник С.П.Каблуков, секретарь Религиозно-философского общества, у которого дневал и ночевал Мандельштам (ул. Чехова, 11), кольцо серебряное «с печатью – Адам и Ева под древом добра и зла» (так описано оно в записных книжках Цветаевой). Но главным «подарком» ему станет в первопрестольной «ее Москва»[77]. Она легко подарит ему свой город, посоветовав, правда, как напишет в стихах, «зажать в горсти» сердце.
Пророческий совет! Ибо меньше чем через год Мандельштам и сам скажет: «Идут времена безмолвия…» Три этих слова он произнесет в «Привале комедиантов», писательском кафе в доме Адамини. Там с белокурой Марией Левберг и Маргаритой Тумиовской Мандельштам встретит новый, 1917 год. На столиках вместо скатертей будут лежать деревенские цветные платки, лампочки будут загадочно струить свет сквозь глазные отверстия черных масок, а вино подавать будут арапчата в цветных шароварах. Мандельштама уговорят прочесть стихи. Сойдя с эстрады, он подсядет к Елене Тагер (она была здесь с мужем) и на ее вопрос, будут ли опубликованы прочитанные стихи, ответит грустно: «Может быть – после войны. Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Идут времена безмолвия…» «Над городом, – заканчивает Тагер, – уже стояла голубая морозная полночь – первая ночь первого революционного года…»
Он будет, конечно, будет еще печататься, как будет еще и влюбляться. В «Египетской марке» Мандельштама я с большим любопытством прочел о лучших местах для свиданий в тогдашнем Петрограде. Только сумасшедшие, пишет Мандельштам, назначали свидания у Медного всадника или Александровского столпа. Уважающие себя люди встречались в четырех местах: у ампирного павильона в Инженерном саду, у сфинксов на Неве, под высокой аркой на Галерной и на боковой дорожке в Летнем саду – знающие влюбленные, дескать, понимали толк в этой дорожке… Писал, кстати, как бы не про себя, но невольно казалось: не здесь ли встречался с «европеянками нежными»? Со знаменитой Соломинкой, портреты которой писали Серебрякова, Сомов, Петров-Водкин, Шухаев и которую вот-вот увезет на Запад однорукий герой войны, крестник Горького и младший брат Якова Свердлова, Зиновий Пешков. Кто такая, почему – Соломинка? О, это одна из самых дивных женщин Серебряного века – легенда. Ангел и для Ахматовой, и для Мандельштама, и – уже в эмиграции – для Цветаевой. Но об этой истории – в следующей главе.
…Вернемся на Каменноостровский. Именно здесь умрет отец поэта. Когда осенью 1937-го Ахматова увидела Мандельштама в последний раз, жить поэту было уже негде и даже нечем. «Беда ходила по пятам за всеми нами, – пишет Ахматова. – Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться, не помню куда. Кто-то сказал, у отца Осипа Эмильевича нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его. Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав, как мне плохо, сказал, прощаясь, это было на Московском вокзале в Ленинграде: “Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом – ваш”…»
«Мой дом»?! Шел год, когда своего дома у него давно уже не было.
«Королева-бродяга», как называли друзья Ахматову, скажет и о Мандельштаме: «Это был человек с душой бродяги». И, кстати, первая подметит: его как поэта ценили в Питере, а в Москве – почти нет. В Питере его встречали как «великого поэта», на поклон к нему шел весь литературный Петербург, а в Москве он и не дружил ни с кем…
Так вот ему, «бродяге», вернувшемуся с юга в Петроград 11 октября 1917 года, в самый «разгар революции», удалось поселиться в «Астории». Оказался в ней Мандельштам не случайно. В те годы в роскошной некогда «Астории» обитали красные руководители города – говорят, сам Зиновьев. Потому, не без восторга пишут и ныне, Мандельштам здесь по нескольку раз в день купался в ванне, пил молоко, которое ему доставляли по ошибке, и ходил завтракать к знаменитому «Донону» (Мойка, 24)[78], где хозяин, ошалев от революции, кредит оказывал всем.
Увы – не ошалев и не по ошибке! И ванны, и молоко в этом строго режимном отеле на деле не были нечаянными подарками судьбы. Жена поэта, написавшая о нем три книги, как-то ухитрилась обойти именно этот «темный» период его жизни. А ведь все объяснимо: Мандельштам, представьте, и сам стал «красным начальником», так что привилегии в голодном городе полагались ему «по праву». Да, да! С апреля 1918-го он стал заведующим Бюро печати в какой-то Центральной комиссии, а с июня по рекомендации самого Луначарского уже заведующим подотделом в Нарокомпросе. Может, это был вынужденный компромисс – есть-то надо?! Но в открытых ныне протоколах допросов Мандельштама на Лубянке читаем: «Примерно через месяц (после революции. – В.Н.) я делаю резкий поворот к советским делам и людям». И тут многое становится понятным. И его отъезд из Петрограда в правительственном поезде, и короткая жизнь в Кремле в квартире у секретаря Совнаркома Н.П.Горбунова, и то, что в новой столице Мандельштам опять поселился в «Метрополе» – лучшей гостинице, отданной «новой советской элите»… Так что фраза жены: «он всегда по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью» – это первая, но, увы, не единственная ее попытка представить поэта вечным оппонентом коммунизму[79]. Не было этого. Все оказалось сложней. Но, возвращаясь в 1917 год, все равно повторю – неудивительно, что он поселился в тот год в «Астории». Удивительно другое: через двенадцать лет – такое уж совпадение! – в ней будет работать самая горькая его любовь, та, которая едва не станет причиной его развода с женой. Она, родовитая дворянка, пойдет работать в «Асторию» простой кельнершей…
О жизни Мандельштама в 1918-м известно мало. Знаю, что ночевал иногда у друга Лозинского (Каменноостровский, 75/16, кв. 26), что за работу на большевиков получал 600 рублей, что участвовал в концертах политического Красного Креста, обожал разъезжать по городу на извозчиках и любил пирожные с сахарином, которых мог съесть хоть дюжину. Ради них – вот уж курбет! – чуть не открыл кондитерскую на Невском, которой и название придумал – «Немного нежности» (так они замышляли с Георгием Ивановым). А если реально, то в подвале на углу Невского и Караванной (Невский, 64), там, где был винный склад, разграбленный «революционными солдатами», друзья, не без помощи Луначарского, открыли литературно-художественное общество «Арзамас» (его-то и хотели преобразовать в «нежную» кондитерскую). Не вышло – открыть разрешили лишь книжную лавку (несколько стульев, две сотни книг да на видном месте портрет Мандельштама кисти Зельмановой). Не знаю, возил ли туда Мандельштам Ахматову, но кататься в пролетках в тот год обожал именно с ней. Даже решил тогда, что у них едва ли не роман. Он «часто заходил за мной, – вспоминала Ахматова, – и мы ездили на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню». Потом напишет, что намекнула ему: им не следует так часто встречаться, ведь люди подумают бог весть что, и он, по ее словам, не только «грозно обиделся», но вообще исчез из города. Мы знаем ныне: исчез не из-за нее – просто в Москву отходил правительственный поезд. Но позже, наверное, спасая репутацию, он, по словам жены, называл разрыв с поэтессой «ахматовскими фокусами» и острил: у нее, дескать, «мания, будто все в нее влюблены»…
В Петрограде Мандельштам возник вновь лишь зимой 1920 года. «Начальником» уже не был, был, как всегда, никем и в городе оказался (так скажет про себя однажды) словно «лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита». Возник «в летнем пальто (с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе), – вспоминал Георгий Иванов. – Без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать». Приехал с юга, где успел посидеть и во врангелевской, и в большевистской тюрьмах. Белые «арестовали за коммунизм» (он действительно участвовал в каком-то коммунистическом съезде, проходившем для конспирации на пляже во время купания), а красные – за то, что был у белых. А в Грузии позже его вообще едва не расстреляли.
В Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина, успел влюбиться в смазливую поэтессу Майю Кювилье, внебрачную дочь француженки-гувернантки. Весьма романтическая особа, она, даже выйдя замуж за юного князя Кудашева и родив ему сына, напропалую кокетничала с мужчинами. В те, правда, дни и топилась, и травилась из-за любви к Эренбургу. Мандельштам же, который благоговел перед женщинами и считал, что всем им вместо утюгов надо раздать скрипки Страдивари, «легкие, как скворешни», и дать «по длинному свитку рукописных нот», был, кажется, сразу и бесповоротно околдован ею. Сначала бросал на Кудашеву «страстные взоры», а потом неуклюже, как всегда у него, пошел на «штурм», то есть, другими словами, просидел как-то в ее коктебельской комнатке едва ли не до рассвета. Напрасно! Она решительно отвергла его домогательства. Более того, пылая праведным гневом, оповестила об этом всех. «Он был смешон, – жаловалась Волошину. – Я сказала ему, что хочу спать. Тогда он заявил, что не желает уходить, и добавил: “Вы меня скомпрометировали. Я провел с вами больше восьми часов. Сейчас уже за полночь. Вы прекрасно знаете, что все о нас думают. Если я выйду, я рискну потерять свою мужскую репутацию”…»
Возможно, так все и было. Даже скорее всего так. Но ныне, оглядываясь назад, мы можем сказать определенней: поэт и здесь окажется прав – она его все–таки пусть и в будущем, но скомпрометирует. Ибо сегодня известно: Кудашева, не без «помощи» Горького и Ягоды став в начале 1930-х женой знаменитого французского писателя Ромена Роллана, всю жизнь, оказывается, работала на ОГПУ – НКВД[80]. Так Сталин, не без ее помощи, начинал контролировать не только русскую – мировую литературу…
«Ходячий ангел», «Дон Кихот», «всекоктебельское посмешище», просто «сумасшедший» – как только не назовут Мандельштама в этот приезд в Петроград. В Доме литераторов, где была организована писательская столовая, его в те дни видел критик Голлербах: «Вот чинно хлебает суп, опустив глаза, прямой и торжественный Мандельштам. Можно подумать, что… вкушает не чечевичную похлебку, а божественный нектар. В пальто, в меховой шапке с наушниками, подсаживается… к знакомому и сразу начинает читать стихи… и никто его не услышит, а кто услышит, не поймет… что, собственно, нужно этому чудаку с оттопыренными красными ушами, над которыми болтаются траченные молью наушники… Он какой-то бездомный, егозливый и, вероятно… несносный в общежитии, но есть что-то трогательное в том, что он так важно вздергивает кверху свою птичью взъерошенную головку, и в том, что всегда небрит, а на пиджаке у него либо пух, либо не хватает пуговицы. К нему бы нужно приставить хорошую русскую няню, которая мыла бы его и кормила манной кашей. А он читал бы ей… стихи».
Впрочем, первыми, к кому побежал поэт, вернувшись в Петроград, были друзья-поэты: Георгий Иванов и Гумилев. «Мы трое, разбросанные было в разные углы Европы, – вспоминал Иванов, – снова сидели вместе у огня и читали друг другу стихи». Мандельштам, напуганный арестами и тюрьмами на юге, полувоенной обстановкой в Петрограде, волновался: как ему достать советский паспорт. «Тебе надо представить в совдеп какое-нибудь удостоверение личности, – сказали друзья. – Есть ли оно у тебя?» – «Есть, есть», – радостно закивал Мандельштам и вытащил из кармана смятое и порванное свидетельство на право жительства в Севастополе, выданное каким-то градоначальником… генерала Врангеля… Ну, разве не сумасшедший?
Нет, все-таки права Ахматова: «Осип – это ящик с сюрпризами». То он крадет у Макса Волошина не только роскошного Данте, но и свой сборник стихов, который с трогательной надписью подарил недавно матери его. То не платит врачу за вставленный золотой зуб (из материала дантиста, кстати), и тот жалуется в письме: «Допустимо ли, чтобы интеллигентный человек мог по окончании работы просто заявить: “Я сейчас денег не имею…”» То его арестовывают в Киеве за спекуляцию: захотел гоголь-моголя, купил яйцо, но рядом продавали шоколад «Золотой ярлык», который стоил 40 карбованцев. У поэта нашлось 32 карбованца, и он предложил вдобавок яйцо. А торговка рядом, услыхав это, заверещала: яйцо купил у нее за семь карбованцев, а предлагает обменять за восемь. В итоге – ночь в участке, где яйцо это кто-то раздавил… Такой вот «гоголь-моголь». Наконец, уже в Петрограде, подрабатывая в издательстве «Всемирная литература», он задолжал знаменитой Розе Васильевне, вахтерше и лавочнице, торговавшей сахаром, маслом, патокой и даже салом. Хитрая торговка не просто соблазняла пишущую братию сторублевыми коврижками и карамельками, которые раскладывала прямо на лестнице, но и «собирала» в альбом стихи, посвященные ей. Лебезя перед знаменитостями и одновременно презирая их, она простодушно признавалась: «Через сто лет мой альбом будет стоить агромадные деньги. Когда вы все, с позволения сказать, перемрете…» Кстати, так и случилось. Альбом ее действительно хранится ныне в Пушкинском Доме. Ведь ей оставили автографы Сологуб, Гумилев, Кузмин, Ремизов, даже Блок. «Печален мир. Все суета и проза, – написал ей, к примеру, Георгий Иванов. – Лишь женщины нас тешат да цветы. Но двух чудес соединенье ты. Ты – женщина. Ты – Роза». Мандельштаму, узнав, что он поэт «стоющий», Роза тоже подсунула свой альбомчик. «Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны, – сказала. – Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок, пожалуйста». «Ходячий ангел» задумался на минуту и легко вписал в альбом: «Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч, // Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать…» Роза с улыбкой начала читать, но, разобрав, покраснела, задрожала, вырвала лист из альбома и швырнула его в лицо поэта: «Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите!..» Когда Одоевцева, видевшая сцену, сказала Мандельштаму, что это не такая уж и большая сумма, что можно отдать ее по частям, он искренне удивился: «Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете, – с возмущением и обидой повторял он. – Чтобы я платил долги?..»
Да, он был такой! Но за стихи ему все можно было простить. Как-то в начале перестройки, в декабре 1991 года, в грошовой газетке Фрунзенского района Ленинграда, весь номер которой был посвящен Гумилеву, появились воспоминания Дорианы Слепян. В 1920-м она была шестнадцатилетней гимназисткой и бегала на все вечера, где выступали Георгий Иванов, Пяст, Кузмин, Гумилев. Слепян не пишет, кто ее познакомил с Гумилевым, но зато запомнила на всю жизнь, как он позвал ее на заранее объявленный бал-маскарад в Зубовском особняке (Исаакиевская площадь, 5). Бал в голодном и холодном городе?! «Вспоминаю, – пишет она спустя семьдесят лет, – как среди костюмированных появился Осип Мандельштам, одетый “под Пушкина” – в цветном фраке с жабо, в парике с баками и в цилиндре… В тот же вечер в одной из переполненных гостиных я увидела Мандельштама, который, стоя на мраморном подоконнике громадного зеркального окна, выходившего на классическую петербургскую площадь, в белую ночь читал свои стихи… Свет был полупригашен, портьеры раздвинуты, и вся его фигура в этом маскарадном костюме, на этом фоне, как на гравюре, осталась незабываемой…» Вот за это, за эти мгновения торжества поэзии, ему, думаю, и прощали все…
В Петрограде, не без помощи Горького, его поселили в Доме искусств. В том легендарном здании на Невском, о котором ныне не статьи – толстые книги пишут. Мандельштаму отвели тут «кособокую комнату о семи углах», где он сейчас же вынул из своего клеенчатого сака рукопись «Tristia», тщательно обтер ее и сунул в комод. Сак запихал под кровать, руки вымыл и вытер клетчатым шарфом (был чистоплотен, мытье рук станет у него чуть ли не манией) и отправился за первым пайком. Кушать, правда, было не только нечего – нечем, зубов к тому времени почти не осталось. Их заменяли золотые лопаточки, «притаившиеся за довольно длинной верхней губой», из-за которых его и прозвали Златозуб. Но жил тут беспечно – мог выскочить в коридор с криком: «Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник!..» Жил как в коммуне. Мог запросто взять чужое (мыло, например) и легко забыть что-нибудь свое. Михаил Слонимский, тогда молодой писатель, вспоминал, что Мандельштам, зайдя к нему по-соседски, забыл у него хлеб и крупу. Слонимский честно берег несколько дней паек соседа, пока хлеб не начал плесневеть; тогда он сам отыскал Мандельштама. А тот, сообразив в чем дело, безумно удивился: «Я не сомневался, что вы сразу все съели…» Видимо, так поступил бы и сам. А пайки, кстати, и ордера на одежду раздавал Горький. Когда Союз поэтов запросил у Буревестника штаны и свитер для Мандельштама, то свитер Горький выдал, а штаны из списка вычеркнул: «Обойдется». «Гумилев отдал ему свои – запасные, – пишет Надежда Мандельштам, – и он клялся мне, что в брюках Гумилева чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным».
Но главное, в Доме искусств Мандельштам по-прежнему писал стихи – искал «блаженные слова». Зиянье аонид, зиянье аонид… «Надежда Александровна, – прицепился как-то на парадной, но ледяной лестнице дома к поэтессе Павлович, – а что такое “аониды”?..» Удивительно, но про эти «аониды» пишет и Одоевцева[81]. Там же, в Доме искусств, у столовой, в темноте она услышала вдруг странное жужжание. Пригляделась – Мандельштам. Он тоже заметил ее, предложил послушать стихи: «Я так боюсь рыданья Аонид…» И вдруг, не закончив строфы, резко оборвал себя: «А кто такие аониды?» – «Не знаю, – ответила честная Одоевцева, – никогда не слыхала. Вот данаиды…» – «К черту данаид! Помните у Пушкина: “Рыданье безумных аонид”? Мне аониды нужны… Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее “ао”… Но кто они, эти проклятые аониды?»
Наконец, здесь, в Доме искусств, он на три месяца окажется соперником Гумилева в любви к актрисе Александринки Олечке Арбениной-Гильдебрандт – «Сильфиде», «Психее», «тихой очаровательнице северной столицы». Арбенина напишет потом о Мандельштаме: «Наша дружба тянулась до января 21-го года. Я потом встречалась с Мандельштамом и его женой… Мы говорили не без смущения». А жена Мандельштама скажет: разрыв отношений был таков, что Арбенина «ночью ушла от него, несмотря на комендантский час».
Гумилев познакомился с Арбениной четыре года назад, но до 1920-го как-то «забыл» об этой красавице, которую назвал когда-то «царь-ребенок». А Мандельштам, влюбившись как раз в 1920-м, стал звать ее «дочкой», а еще – «ласточкой» и «мансардной музой». Ныне, когда опубликованы воспоминания Арбениной, известно точно – встретились они 4 октября на каком-то вечере, где она «открыла» его как поэта. «Я просто “засиделась” у Мандельштама, – словно оправдываясь, напишет в старости, – и нам было так весело, и мы так смеялись…» Смеялась она, добавлю, так, что чуть не свалилась с дивана, – это тоже запомнит Арбенина. Ей двадцать два года, Осипу – двадцать девять. Конечно, о соперничестве двух поэтов в 1920-м знали все. Кто-то даже придумал едкий каламбур: «Как об арбе ни ной, в арбе катается другой…» Все хохотали, подмигивая, что «другой», конечно, Гумилев. Тот же, в отличие от Мандельштама, даже не ревновал друга – не принимал всерьез. Может, и правильно, потому что, когда Арбенина спустя месяц познакомилась с третьим поэтом, Юрием Юркуном, ставшим на десятилетия единственной любовью ее, – именно Мандельштам, словно «подружка», несказанно обрадовался этому. «Юрочка, – приговаривал, – такой бархатный»… А Юрочка, как напишет Арбенина, «был не бархатный, а железный. Выбросил из моей жизни и Гумилева, и Мандельштама». Так закончилось нетягостное соперничество двух поэтов. Кто-то напишет потом, что в первый день нового, 1921 года Мандельштам забежал к Гумилеву и, намекая как раз на Юркуна, развел руками: «Мы оба обмануты». Оба при этом, пишут, просто покатились от смеха…
Кстати, когда Арбенина была совсем девочкой, до Гумилева еще, у нее был роман, первая любовь с Леонидом Каннегисером. Так вот, в дневнике Арбениной 1946 года, изданном недавно, я и прочел вдруг жуткие слова ее: «Неужели я несу гибель тем, кого люблю? Погибли Гумилев и Леня… Погиб Мандельштам… Я приношу несчастие, я, которой говорили, что я символ счастья и любви…» Она писала это, повторяю, в 1946-м. Не знала еще тогда, что шесть лет назад был расстрелян в тюрьме и ее Юрочка Юркун. Думала, он сидит в лагере, как было ей сказано, и писала, упорно писала ему письма, которые и отправлять-то было некуда…
От Мандельштама осталась ей горстка стихов. Но каких! «Я слово позабыл, что я хотел сказать…», «Я наравне с другими хочу тебе служить…», «Возьми на радость из моих ладоней…», наконец, «За то, что я руки твои не сумел удержать…» – шедевры. А от любви его к ней – горький вывод. Роковая для него фраза. Как приговор. «Всякая любовь, – скажет он тогда, – палач!..»
Не думаю, что это преувеличение. Просто любовь у него была другой – не такой, как у всех, особой. Скажем, тут же, в Доме искусств, была затеяна как-то рискованная игра. Одна очаровательная женщина предложила поэтам подходить к ней и говорить на ухо о самом тайном желании, о том, что невозможно сказать громко. «Поэты подходили по очереди, – пишет Одоевцева, – и каждый что-то шептал ей на ухо, а она то смеялась, то взвизгивала от притворного возмущения, то грозила пальчиком. Подошел Николай Оцуп, и она, выслушав его, весело и поощрительно крикнула: “Нахал!” За ним, смущаясь… Мандельштам. Наклонившись над ней, он помолчал с минуту, будто не решаясь, потом нежно коснулся завитка над ее ухом, прошептал: “Милая…” – и сразу отошел… Соблюдая очередь, уже надвигался Нельдихен, но женщина вдруг вскочила вся красная, оттолкнула его. “Не хочу! Довольно! Вы все мерзкие, грязные! – крикнула она. – Он один хороший, чистый!.. – Она схватила Мандельштама под руку. – Уйдем от них… Уйдем отсюда”. Но Мандельштам, покраснев… вырвал руку и бросился бежать от нее. Дверь хлопнула. Ни на стук, ни на уговоры он больше не отвечал…»
И наконец, последний адрес до отъезда поэта в Москву – Дом ученых (Дворцовая наб., 26). В то невероятное время здесь было вполне комфортное общежитие, рассчитанное на двадцать человек: библиотека, амбулатория, прачечная, баня, парикмахерская, клуб, где по субботам читались научные доклады, а по четвергам – общедоступные лекции. Поэта и сюда «устроил» Горький, здесь дали ему шикарную комнату. Николай Чуковский, тогда молодой поэт, писал: «Окно… на Неву, мебель… роскошная, с позолотой, круглые зеркала, потолок высочайший, в углу старинные часы величиной со шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц, и число месяца. Мандельштам лежал на кровати… и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, – ни одной личной вещи… Тогда я понял самую разительную его черту – безбытность». Кстати, по словам Чуковского, именно тут поэт и написал: «В огромной комнате над черною Невой… // Нет, не соломинка – Лигейя, умиранье – // Я научился вам, блаженные слова». Да… Нева отсюда действительно видна – чуть не плещется в зеркальные окна. А вот стихотворение это (увы, ошибся автор воспоминаний) было написано значительно раньше – в 1916-м еще году. И «тяжелую Неву» поэт видел из другого окна. Вот из какого – вопрос?
Но «Соломинка» в его жизни была. И только потому попала в стихи: «Соломка звонкая, соломинка сухая…» Писали это имя, правда, через «а» – Саломинка. Тайная и возвышенная любовь Мандельштама, о которой я обещал поведать. Вообще светская львица, красавица Саломея Андроникова, которой поэт «посвящал свой вдохновенный бред», была русско-грузинской княжной Андроникашвили (отец ее, князь, был простым агрономом в Грузии), а по матери, как пишут, она была внучатой племянницей поэта Плещеева.
В восемнадцать Саломею выдали замуж за богатого чаеторговца Павла Андреева, который был старше Саломеи чуть ли не в два раза, зато богат, зато имение в Скреблове под Петербургом с четырьмя, представьте, ванными комнатами. Она родит ему дочь, но он, постоянно влюблявшийся то в сестер Саломеи, то в подруг ее, так ни разу и не увидит ребенка. Короче, Саломея дала ему отставку, а развод помогал оформить известный в Петербурге адвокат, тоже грузин, тоже князь и однофамилец, Луарсаб Андроников. Да, да, отец Ираклия Андроникова – будущего писателя и литературоведа.
Всего о Саломее не расскажешь. Но «салон» ее в Петербурге возник после того, как в 1909 году в Париже она влюбилась в поэта Сергея Рафаловича. «Семь лет мы прожили с ним как муж и жена, правда, на европейский лад: я больше в Петербурге, он больше в Париже. Очень удобно, ненадоедливо», – рассказывала сравнительно недавно уже нашей современнице поэтессе Ларисе Васильевой. Кстати, потом так же будет жить и с последним мужем своим, старым петербургским знакомым ее, адвокатом Александром Гальперном (он – в Лондоне, она – в Париже). Но это – потом. А пока – «салон», друзья-поэты, независимая и очень, очень светская жизнь…
Высокая, тоненькая, Саломея, как и Ахматова, могла, «скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью», писали о ней. И все всегда делала красиво: «красиво курила, красиво садилась с ногами в большое кресло, красиво брала чашку с чаем, и даже в ее манере слегка сутулиться и наклонять вперед голову, когда она разговаривала стоя, было что-то милое и женственное». В такую нельзя было не влюбиться. Жила на Васильевском острове (5-я линия, 62, кв. 5), там и был ее «салон» в 1910-х годах. У Андрониковой бывали здесь Стравинский, Ахматова, Судейкина, Гумилев, Тэффи, даже, утверждают, Цветаева, которая, как известно, особенно сойдется с ней в эмиграции. И может, чаще других – Мандельштам.
«Не писательница, не поэтесса, не актриса и не певица – сплошное “не”, – писала о Саломее Надежда Тэффи. – Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была нашей мадам Рекамье, у которой, как известно, был только один талант – она умела слушать. У Саломеи было два таланта – и слушать, и говорить. Как-то раз высказала желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах прослушать ее друзья. Это была бы благодарственная речь за их присутствие на похоронах и посмертное ободрение опечаленных друзей. “Боже мой, – завопил один из этих друзей. – Она хочет еще и после смерти разговаривать!..”»
Именно она, Саломея, станет, по словам Ахматовой, второй большой любовью Мандельштама. Ее, напишет Ахматова, Осип «обессмертил в книге “Tristia” – “Когда соломинка, не спишь в огромной спальне…” Я помню, – подтвердит, – эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском…»
Но, увы, в июне 1917 года, оставив и эту спальню, и весь Васильевский остров, Саломея вместе с Сергеем Рафаловичем уедет в Алушту, потом в Грузию, а уже оттуда – в 1922-м – в эмиграцию[82].
Кстати, до этого, в 1918 году, она отправилась в советскую уже Россию – в Харьков, где лежал тяжело больной ее отец. И там, в Харькове, ее не только арестовали, но, как грузинскую княжну, быстренько приговорили к расстрелу. Спас ее Зиновий Пешков – младший брат Якова Свердлова и приемный сын Горького. Об этом мало знают, но они, Зиновий и Саломея, были знакомы давно, были даже когда-то, в 1906 году, еще до первого, странного замужества Саломеи, влюблены друг в друга. И вот, находясь в красной Москве, Зиновий, к тому времени кавалер ордена Почетного легиона и французский дипломат, узнает об аресте Андрониковой. Он срочно шлет в Петроград, приемному отцу своему, Горькому, – бешеную телеграмму: «Отец! Звони Ленину, Троцкому, Карлу Марксу, черту-дьяволу, только спаси из харьковской тюрьмы Саломею Андроникову!» В это трудно поверить, но телеграмма помогла. Саломею освободили. И в Грузии, куда, спасаясь от большевиков, уедет Андроникова, она вновь увидит своего спасителя – Зиновия Пешкова. И именно из Грузии по настоянию вновь влюбившегося в нее Зиновия – в Тифлисе он как раз представлял французское правительство в меньшевистском правительстве Грузии – отправится в эмиграцию на какой-то французской канонерке.
Ларисе Васильевой Андроникова на старости лет расскажет: «Из Баку я переехала в Грузию, где встретила человека, который уговорил меня прокатиться с ним вместе в Париж, как говорится, за шляпкой…» По другой версии, так рассказывала потом уже Никите Толстому, своему другу, Зиновий сказал ей: «Слушайте, нас отзывают. Мы завтра должны уехать в Париж. Спешно. Поедемте со мной?» – «Завтра? Едем…» И, заканчивая рассказ, добавит: «Я уехала без паспорта, без всего, как была, с маленьким чемоданом…» Впрочем, Зиновий, будущий бригадный генерал французской армии, однорукий герой Второй мировой войны, довольно скоро охладеет к Саломее. Он был падок на женщин: в числе его любовниц были, говорят, и итальянская королева, и дочь миллионера Моргана, и княгиня де Брольи… Хотя женат был, кажется, один раз – на русской казачке Лидии Бураго.
…Впрочем, вернемся к «Астории», с которой мы начали свой рассказ и куда и сам поэт вскоре вернется. Здесь, при гостинице, будет работать кельнершей аристократка в прошлом, красавица Ольга Ваксель – самая трагичная любовь Мандельштама. Он, кстати, увидел ее впервые еще девочкой тринадцати лет в Коктебеле. Не будем забегать вперед: рассказ об этой печальной истории с трагическим концом – у следующего дома.
Смею утверждать: Мандельштама тянуло в Ленинград неудержимо. Звал, притягивал его к себе этот «прелестный город с чистыми корабельными линиями». И, прожив в Москве три года, уже тайно обвенчанный с Надей Хазиной, он в 1924 году вдруг не только привез ее в Ленинград, но даже мебель перевез: палисандровую горку, туалет, секретер красного дерева, что для «безбытного», как помните, поэта уже непредставимо[83].
Поселились на Большой Морской, 49, в 4-й квартире, у Марадудиных. Хозяин квартиры был просто ветеринаром, а вот жена его, Мария Семеновна, слыла человеком знаменитым. Когда-то актриса театра Комиссаржевской, она одно время читала с эстрады рассказы (для нее специально писали и Тэффи, и Аверченко), а в 1916-м стала первой в России женщиной-конферансье. С ней даже поспорил однажды Куприн: какой камень вставлен в ее кольцо – топаз или сапфир. И хотя спор она проиграла, думаю, знакомства со знаменитым писателем от своих новых квартиросъемщиков не скрыла – Марадудина, говорят, и много позже поддерживала отношения с Мандельштамами. До тех, видимо, пор поддерживала, пока в 1930-х годах не «пошутила» с эстрады. «Советов у нас много, – крикнула в зал, – а посоветоваться не с кем…» Репризы такого рода в то время никому уже не прощались…
«Две прелестных комнаты, нечто вроде гарсоньерки, — вспоминала про это жилье Надя. – Одна беда: не было двери. Может, стопили в голодные годы. Какой–то чудак соорудил нам нечто из некрашеных досок, что чрезмерное изящество жилья как-то смягчило». Двери, добавлю от себя, не было между прихожей и первой комнатой – вот зачем потребовалось сооружать “нечто”. Но через это «нечто» и вошла в «кукольную» гарсоньерку любовь поэта, «ослепительная красавица», по выражению Ахматовой, вторая после Нади самая сильная страсть Мандельштама. Именно «страсть» – так скажет он. «Через много лет, – напишет Надежда Яковлевна, – он мне сказал, что в жизни он только дважды знал настоящую любовь-страсть – со мной и с Ольгой…»
Из-за Лютика, так звали ее близкие, из-за Ольги Ваксель, поэт именно здесь чуть не бросил жену, которой недавно еще писал: «Дитя мое милое! Я для тебя буду жить, потому что ты даешь мне жизнь, голубка моя». Из-за Ольги и Надя соберет здесь свой чемодан и даже пожалеет, что отдала мужу пузырек с морфием, – а то ушла бы и из жизни…
Надя Хазина была с характером. «То, чего люди стыдятся, вовсе не стыдно», – любила повторять она. Если вдуматься, это многое объясняет в ее жизни. Она, например, еще в семь лет прогнала со своего дня рождения детей. Когда взрослые спросили, почему ушли дети, ответила: «Я им намекнула». – «Как же ты намекнула?» – «Я им сказала: “Пошли вон! Вы мне надоели…”» Да и тут, в гарсоньерке, она успела нахамить по меньшей мере двум знаменитым поэтам: Ахматовой и Пастернаку Ахматову Надя в первый же визит сюда, представьте, послала за папиросами: «Сбегайте, а я пока поставлю чай…» Та запомнит это и будет рассказывать, изумляясь на себя, что побежала, «как послушная телка». А Пастернака дерзко осадит, когда тот важно толковал Мандельштаму, что установившаяся власть в стране – это навсегда, это власть народа, рабочих… Да, встряла Надя, метнув в поэта взгляд из угла, мы «единственная в мире страна, которая справилась с рабочим движением». Пастернак, пишет она, вздрогнул, как показалось, от отвращения и спросил Мандельштама: «Что она там говорит?» Спросил в «третьем лице» – Надя запомнила точно. Мандельштам довольно добродушно усмехнулся и сказал, что жена у него «настоящая меньшевичка». Не обращайте, дескать, внимания. Но Пастернак, кажется, именно с тех пор и относился к ней как-то настороженно…
Что еще? Сюда, в эту квартиру, забежал как-то Лукницкий: его удивила чистота, обрадовала уютная зеленая лампа на столе, но смутили висевшие у печки подштанники. Отсюда поэт послал в Москву, в журнал, выправленный текст «Шума времени» и здесь по предложению Маршака взялся писать стихи для детей. Наконец, здесь с поэтом Бенедиктом Лившицем писал «Балладу о горлинках», занесенную потом в «Чукоккалу». «Горлинки» – не птицы, нет. Просто гонорары им выписывал в червонцах «товарищ Горлин», сотрудник Госиздата. «Нам – гусь, тебе – бульон и гренки, – // Мы только горлинки берем!» Жена Лившица, Катя, давняя подруга Нади, прелестная молодая женщина, скажет: «Я помню, как писалась эта баллада. Мы с Надей валялись на супружеской кровати и болтали, дверь была открыта, и нам было видно, как мужья сочиняли эту балладу, смеясь, перебивая друг друга, ища слова». Мандельштамы, кстати, тоже бывали у Лившицев (Моховая, 9), где поэты не раз и не два обсуждали возможность эмиграции. Если бы они уехали тогда, то, «возможно, не погибли бы от ГБ», напишет Надя.
Увы, с Лившицем поэт потом рассорится. Оба согласятся отредактировать сочинения Вальтера Скотта, но Мандельштам, когда дело дойдет до гонорара, будет жить уже в Москве и получит не только свою часть денег, но и какие-то деньги Лившица. И – неслыханно! – не Лившиц обидится на него за это, а Мандельштам на Лившица. Он, от души презирая деньги (и, кстати, никогда их не имея), искренне возмущался, что люди придают какое-то значение грязным денежным расчетам. Дескать, какие мелочи. Обидчив был невероятно – это многие говорят. Обидевшись, всякий раз по-петушиному задирал маленькую голову, выставлял вперед острый кадык на плохо бритой шее и «начинал говорить об оскорбленной чести совершенно в староофицерском духе»…
Повторяю, ангелом Мандельштам не был. Поэтесса Ида Наппельбаум, хорошо знавшая его, писала, что «он состоял из двух профилей – солнечного и теневого. И оборачивался то одной, то другой стороной. В этом была его суть. Его надо было принимать таким, каков он есть». И рассказывала, как однажды в Царском Селе, тогда же, в 1920-х, Мандельштам и его жена пригласили ее с сестрой покататься на лодке по царскосельскому пруду: «Мы за вами завтра утром зайдем». Сестры согласились и на другое утро полдня наслаждались медленным скольжением лодки по воде, да еще в компании такого поэта. Но когда гребец доставил всех к причалу, Осип Эмильевич, пишет Ида, «как птица, вспорхнул, одним движением оказался на берегу, подал руку жене и с грацией маркиза, играя мягкой шляпой, раскланялся с нами… оставив расплату с гребцом пораженным девицам» – Иде и ее сестре Фредерике…
Наконец, бывали Мандельштамы в тот год и у поэтессы Анны Радловой, на сестре которой был женат брат Мандельштама (1-я линия, 40). Здесь собравшиеся пытались, как пишет Надежда Яковлевна, «заманить» Мандельштама в объединение или союз – «синтез всех искусств – поэзии, театра, живописи», но поэт сделал вид, что ничего не понял… Кстати, у Радловой Мандельштам вновь столкнется с давней своей любовью – Олечкой Арбениной, из-за которой пытался соперничать когда-то с Николаем Гумилевым. Но к этому времени в его жизни появилась уже другая Ольга – Лютик, роман с которой только начинался. Знал ли он тогда, что и Лютик, уже побывавшая замужем и имевшая сына, тоже была знакома с Гумилевым и посещала его одинокую квартиру, где они жарили в печке баранину и пекли яблоки? Туманно, очень туманно Ольга Ваксель напишет потом, что Гумилев всего лишь учил ее писать стихи…
Ольга, Лютик, двадцатидвухлетняя «девочка, заблудившаяся в одичалом городе», жила в том знаменитом доме, где обитал когда-то Вячеслав Иванов, на Таврической, 35, только на пятом этаже, в квартире 34[84]. «Хороша была, как ангел!» – напишет Н.Мандельштам. И в книге своей назовет ее даже дочерью фрейлины последней императрицы. Ошибется! Мать Ольги была оперным концертмейстером. Но предком Лютика действительно был знаменитый швед Свен Ваксель, мореход, сподвижник Витуса Беринга, а прадедом – Алексей Львов, автор царского гимна. Через Львовых, кстати, она, кажется, была в родстве с Гумилевым и сама называла себя «троюродной сестрой» его.
Ольга играла на рояле и скрипке, писала стихи, занималась живописью, позже снималась в кино. До революции училась в институте, потом… Трудно поверить, но она, дворянка с «яблочной розовой кожей», работала табельщицей на стройке, корректором, манекенщицей, даже кельнершей в «Астории». Какое-то время была кинокритиком «Ленинградской правды»: «на заметках в пятнадцать строк». Но Мандельштам, помня ее по Коктебелю еще тринадцатилетней[85], теперь, увидев, влюбился и «снова начал писать стихи, тайно, потому что они, – вспоминала Ольга, – были посвящены мне. Помню, провожая меня, он просил зайти с ним в “Асторию”, где за столиком продиктовал мне их». Про тулупы золотые да про «заресничную страну», куда хотел ее увезти. Потом, заканчивает Ольга, «повел меня к жене, она мне понравилась…». Жена поэта напишет несколько иначе. Она, например, обмолвилась, что любит деньги, а «Ольга возмутилась – какая пошлость! Она так мило объяснила, что богатые – всегда пошляки и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюбленный Мандельштам засиял и понял разницу между ее благородством и моей, – напишет Н.Я.Мандельштам, – пошлостью… А я, – упрямо подчеркнет она на старости лет, – и сейчас люблю деньги, комфорт, запах удачи…».
Впрочем, в бедности прозябали обе. Только Ольга, расхаживая в мужских брюках и пиджаке или в нелепой шубе своей, которую сама же называла шинелью, «цвела красотой», а Надя похвастаться этим не могла. Жене беспечный Мандельштам не раз говорил, что он не обещал ей счастливой жизни, – возможно, он обещал ее Ольге. «Я очень уважала его как поэта, – вспоминала Ольга, – но как человек он был довольно слаб и лжив. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником». Но неудачник не знал, что он неудачник, рвался видеть ее, писал ей стихи, а однажды снял комнату в «Англетере».
«Он ждал меня в номере с горящим камином и накрытым ужином, – пишет она. – Я спросила, к чему эта комедия, сказала о своем намерении больше у них не бывать. Он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, в сотый раз уверял, что не может без меня…»
Много лет спустя Надя якобы скажет сыну Ольги, Арсению Смольевскому, что Лютик была «беззащитной принцессой из волшебной сказки». Не знаю, был ли такой разговор? Зато знаю точно, что в 1967 году Надежда Яковлевна в письме одному своему другу назовет Лютика не просто «душевнобольной» – «половой психопаткой», которая жила с «целой толпой». Вот вам и «принцесса», и «ангел»! Разумеется, Ольга Ваксель не была святой, как ее пытаются представить ныне. Более того, была, может быть, излишне раскрепощенной – один танец на столе чего стоит[86]. Хотя причиной едва не случившегося развода Мандельштамов был не только он, но и она – Надя.
Да, я привел уже первую роковую фразу из воспоминаний Ольги Ваксель: «Он повел меня к своей жене… Она мне понравилась». Но вот что Ольга пишет про Надю дальше: «Она была очень некрасива… с желтыми прямыми волосами и ногами как у таксы. Но… была так умна, так жизнерадостна… Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели… Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно, то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен ни в какой степени…»
Именно эти слова из воспоминаний Ольги заставят Надежду Яковлевну и через сорок лет негодовать и возмущаться Лютиком. О, как она заметалась, узнав о возможной публикации их! А ведь любила повторять: «То, чего люди стыдятся, вовсе не стыдно…» Помните ее принцип? И кто виноват тогда, а кто – прав? Любовь?[87] А если любовь, то как не вспомнить и слова Мандельштама: «Всякая любовь – палач»! Это, кажется, правда. И правда, что другой любви у него, кажется, и не было…
«Я растерялась, – вспоминала Н.Я.Мандельштам о грозной развязке этой истории. – Ольга стала ежедневно приходить к нам… жаловалась на мать, отчаянно целовала меня – институтские замашки, думала я, – и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал… Тогда узнала, что такое разрыв… Жизнь повисла на волоске…» Заправляла всем, пишет она, мать Лютика. «Она при мне настаивала, чтобы Мандельштам “спас Ольгу” и увез ее в Крым. Мандельштам клялся, что сделает все. Он к весне собирался отправить меня в Крым. Поэтому я вмешалась в разговор и сказала, что еду весной в Ялту и предлагаю Ольге ехать со мной. Вот тут-то мать Ольги и огрела меня по всем правилам. Искоса взглянув на меня, она заявила, что я для нее чужой человек, а она разговаривает о своих семейных делах со старым другом – Мандельштамом. Это была холодная петербургская наглость, произнесенная сквозь зубы…»
Короче, Надя слегла. У нее поднялась температура, и она незаметно подкладывала градусник под нос Мандельштаму, чтобы он испугался за нее. Но, увы, Мандельштам спокойно уходил с Ольгой. Зато приходил отец его и, застав однажды Ольгу, вдруг сказал: «Вот хорошо: если Надя умрет, у Оси будет Лютик…» «Я не обидела старика, – пишет Надежда Яковлевна, – но вспомнила, что мать Мандельштама умерла, узнав, что ее муж завел себе любовницу. Мне стало страшно – я вдруг почувствовала в сыне что-то отцовское…»
Словом, Надя, пораженная изменой, все-таки собрала свой чемодан. Написала мужу записку, что уходит к другому. Добавила: «К тебе не вернусь». Уходила к художнику Татлину, в прошлом боцману и бандуристу (у него было хобби – делать бандуры и петь под них тягучие казацкие и украинские песни). Он жил тогда неподалеку, прямо в мастерской своей – в «доме Мятлевых» на Исаакиевской (Исаакиевская площадь, 9), где ныне прокуратура города. К тому самому Татлину, который уже создал знаменитый макет башни Третьему интернационалу (некую архитектурную двойную спираль, предвосхитившую двойную спираль молекулы ДНК, открытую только в 1953-м гениальными биологами Джойнсом Д.Уотсоном и Френсисом Криком) – ее он хотел, кстати, водрузить в центре Дворцовой площади вместо Александрийского столпа. Вот он-то, Татлин, несмотря на миниатюрную свою жену, которую за субтильность «величали» Молекулой, и звал Надю к себе. Специально в решительный час зашел за ней на Морскую. Но… что-то забыв, вернулся Мандельштам. Увидев чемодан, он, пишет Надежда Яковлевна, взбесился, каким-то образом вытолкал топтавшегося боцмана и схватился за телефон – названивать Ольге. «Простился он с ней грубо и резко: я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда».
Наде Мандельштам расскажет потом, что бы он сделал, если бы она бросила его. «Он решил достать пистолет и стрельнуть в себя, но не всерьез, а оттянув кожу на боку. Рана бы выглядела страшно, опасности же никакой. Я бы, конечно, пожалела его и вернулась. (В этом он, пожалуй, ошибается), – пишет Надежда Яковлевна. – Такого идиотизма даже я от него не ждала, откуда берутся такие хитрецы!..» Звучит, признаюсь, как глупая шутка то ли ее, то ли Мандельштама – достанет пистолет, стрельнет в себя… Не шутка другое – весной 1925-го у поэта случился первый сердечный приступ. И тогда же впервые он стал задыхаться, хватать воздух губами, появилась одышка, которая не пройдет уже никогда. «Была ли тут виной Ольга?» – неизвестно кого спрашивала потом Надежда Яковлевна. И сама же отвечала: «Не знаю»…
Но пистолет, кстати, пистолет еще выстрелит в этом странном и страшном «любовном треугольнике».
…Лютик съездит на юг, но с младшим братом поэта, с которым семейной жизни тоже не получится. А потом на Невском, столкнувшись с давней знакомой, которая, глянув на платье Ольги, заметит: «Такие воротнички скоро выйдут из моды», – скажет: «А я только до тридцати лет доживу. Больше не буду…» И хотя вскоре в нее влюбится вице-консул Норвегии в Ленинграде Христиан Вистендаль – красавец, на взлете карьеры, хотя в 1932 году он, уже как жену, увезет ее в Осло, счастья женщине (помните слова поэта?) никто не может обещать.
Ольга, а из-за нее и муж ее скоро погибнут… А вот как умирают аристократы, женщины с «яблочной розовой кожей», я расскажу у последнего в Петербурге дома Мандельштама, где он и поселится как раз тогда, когда это случится…
Есть люди, считанные единицы, задающие не просто тон – меру и высоту жизни. Так вот, оказаться рядом с Мандельштамом в 1932 году, когда он поселился в высоком доме на Васильевском острове[88], было все равно что сподобиться быть рядом «с живым Вергилием». Это не мои слова – так сказал поэт Рудаков, погибший позже на фронте; он знал Мандельштама по ссылке в Воронеже. Сказал не для публики – выдохнул это в письме к жене.
Живой Вергилий – каково! Так вот, Мандельштам, страдающий одышкой и головокружением, не раз поднимался по лестнице этого дома, здесь ему «ударял в висок вырванный с мясом звонок», и здесь ждал гостей дорогих, «шевеля кандалами цепочек дверных». Цепочка, кстати, сохранилась на дверях черного хода и доныне; к этим «кандалам» я притрагивался, признаюсь, не без трепета…
Я говорил уже, что, наезжая в Ленинград, поэт словно возвращался в детство. Гуляя по городу, как ребенок, хвастался, скажем, зрением. С Ахматовой придумал игру – она была возможна только здесь, на бесконечных и прямых улицах: кто первым разглядит номер приближающегося трамвая? «У меня морское зрение», – говорила Ахматова. «Это означало, что она… из семьи моряков, – пишет Н.Мандельштам. – Я напоминала, что моряки у нее сухопутные…» «Вы всегда так», – делала вид, что обижается, Ахматова. «Она всегда так, – подхватывал Мандельштам, – она такая…» В игре «за ошибку полагался штраф, – вспоминала Надежда Яковлевна, – вспыхивали ссоры, каждый пытался сжулить». К зависти Осипа, пишет она, победительницей всегда оказывалась Ахматова. «Как всякая женщина, она… жульничала… более умело и яростно». Впрочем, «жульничать» скоро перестанут – придумают другую игру: весело считать на улицах знакомых, кто старался не узнавать их и обходить за квартал. А ведь 1930-е годы только начинались еще, времена были пока что «вегетарианскими». Хотя, газеты уже объявили их обоих на всю страну «внутренними эмигрантами»[89]…
Приезжая в Ленинград, Мандельштам и в самом деле возвращался в детство, становясь, как точно подметит знакомая его, и надменным «принцем», и голым «нищим». Лысый ребенок, беззубое дитя, он, как мальчишка, был влюблен, к примеру, в радио: усаживался на кровать по-турецки и слушал, сияя, симфонии. Когда в каком-то общежитии увидел, что некто и слушает радио в наушниках, и одновременно читает, то сначала сдерживался, а потом выскочил из комнаты, возмущаясь: «Или читать, или слушать музыку!» Но чаще – беззаботно смеялся. Смеялся не как ребенок – «как младенец, – пишет Эмма Герштейн. – Раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из-под них ручьем текли слезы». И, представьте, довольно остроумно шутил. Когда к возвращению Горького на родину ленинградские писатели решили в его честь разыграть пьесу «На дне» и Федин предложил Мандельштаму принять участие в почетной затее, поэт, округлив глаза, наивно спросил: «А разве там есть роль сорокалетнего еврея?..»
Нет-нет, наш Вергилий не был ни ангелом, ни идеалом. Когда его как-то в вестибюле санатория окружили и попросили прочесть стихи, Мандельштам тут же «ядовито обратился к человеку… в форме летчика: “А если я попрошу вас сейчас полетать, как вы к этому отнесетесь?”…» И зло объяснил открывшим рты «любителям поэзии», что стихи для него – такая же работа, как управлять аэропланом. Не ангельски – наплевательски относился к чужим вещам, к не принадлежавшим ему книгам, из которых запросто мог вырывать страницы, что они с Надей звали между собой «топтать Москву». Мог, если допекали, крикнуть проходящему писателю: «Вот идет подлец N». Наконец, мог в гостях у той же Эммы Герштейн (редкой чистюли) забраться в ботинках на белоснежное покрывало и искренне не понимать, что тут такого…
«Мраморной мухой» назвал его поэт Хлебников, которого они с Надей, как могли, спасали от голода в 1922-м. Нечто «жуликоватое» находил в нем Андрей Белый (конечно, в раздражении). Как-то принес в Литфонд заявление с отказом от «посмертного пособия» на себя, от тех 150 рублей, которые выдавались на похороны писателей. «Деньги, – сказал с вызовом, – гораздо нужнее живому, чем мертвому». Был «непереносимый, неприятный, – сказал знавший его Д.Выгодский, – но… после него все остальные – такие маленькие, болтливые и низменные». А резче всех высказался о Мандельштаме в те годы Корней Чуковский; фраза запредельная, я даже не рискну повторить ее. Но тот же Чуковский признался: Мандельштам всю жизнь тем не менее был «безукоризненно чист в литературном деле»…
Вот это и запомним: «безукоризненно чист»! Плохие стихи звал «трухой». Кричал: «Да нет же! Это же – дрянь, гниль, труха». В 1920-м сказал Каверину, который считал себя поэтом: «От таких, как вы, надо защищать русскую поэзию». А послушав вирши Бруни, просто взорвался: «Бывают стихи, которые воспринимаешь как личное оскорбление…» И каково ему было, влача нищенское существование, бездомному, слышать, что даже жене его одно время ну очень нравилась лихо запущенная фразочка писателя-стукача Льва Никулина: «Мы не Достоевские – нам лишь бы деньги…» Эту фразу любила повторять его Надя, жизнь с которой начиналась когда-то с двух синих колечек «за два гроша», купленных на толкучке вместо колец обручальных, и с круглой «безобразной», по ее словам, но безумно нравящейся ей гребенки с надписью «Спаси тебя Бог», заменившей ей свадебный подарок…
Да, Мандельштам уже был и мерой, и высотой. Когда в Доме печати (Фонтанка, 7) 2 марта 1933 года состоялся его вечер (кажется, последний в Ленинграде[90]), зал оказался набит до отказа: молодежь теснилась в дверях, толпилась в проходах. «Он постарел! – разглядывали его, стоявшего на эстраде. – Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод…» Поэт читал стихи об Армении, о своей петербургской юности. «Он стоял с закинутой головой, – вспоминал свидетель, – весь вытягиваясь, как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли…» А по залу шныряли какие-то недовольные люди. «Они, – пишет Елена Тагер, – иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о советской поэзии. Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел…» Сегодня пишут, что тогда он и назвал молодых поэтов Прокофьева и Корнилова, которые наверняка были в зале, «мальчишками с картонными наганами» в руках. Угодил по обыкновению в очередную «ловушку», в очередное безумие: ведь Александр Прокофьев, тот, кто станет потом Героем Социалистического Труда и лауреатом Сталинской и Ленинской премий, тогда, в 1933-м, только-только сдал не картонный – настоящий наган чекиста, он, как известно ныне, до 1928 года служил в ОГПУ. Мандельштам этого, конечно, не знал, но, откликаясь на мертвую тишину, повисшую в зале, шагнул вдруг на край эстрады. «Чего вы ждете? – засверкали его глаза. – Какого ответа? Я – друг моих друзей! Я – современник Ахматовой!..» В ответ – гром, шквал, буря рукоплесканий…
Друзей любил, врагов ненавидел – куда как просто! Скажу больше: любил друзей, даже когда они отворачивались от него.
Когда в начале 1930-х Мандельштам захотел, как напишет Надежда Яковлевна, «закрепиться в Ленинграде», то не власти отказали ему в этом, а свой, казалось бы, брат – поэт Николай Тихонов, ставший уже секретарем Союза писателей. Сначала им не дали комнаты в Доме литераторов. «Узнав об отказе, я, – пишет Н.Мандельштам, – спросила Тихонова, должен ли Осип Мандельштам просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил: “Мандельштам в Ленинграде жить не будет”». Вот так! После чего Мандельштам «завязал свои корзины» (они разъезжали с Надей даже не с чемоданами, с какими-то узлами и корзинами) и уехал. Спорить не стал. Отчаянная Надя, правда, написала тогда самому Молотову, что прокормиться литературным трудом мужу невозможно – он «малолистный автор», что относятся к нему несправедливо, что жить негде. Но таких писем «наверх» в те дни шли тысячи, и толку в них, разумеется, не было. Не ответил и Молотов. Но одна фраза ее уже тогда станет знаковой. «Мандельштам, – написала она, – оказался беспризорным во всесоюзном масштабе». Оказался «беспризорным», как мы знаем теперь, и по вине писателей. Потом не столько из-за властей, сколько из-за них же, братьев-писателей, окажется и за решеткой. И не по их ли вине и погибнет через пять лет?..
Да, друзей любил, врагов ненавидел. Подумайте: тщедушный Мандельштам в Издательстве писателей, которое располагалось тогда внутри Гостиного Двора (Невский, 35), дал публичную пощечину не просто известному литератору – генералу от литературы Алексею Толстому. Это история знаменитая! Многие считали и сейчас считают, что именно из-за нее Мандельштам и был арестован. Через неделю после пощечины – 14 мая 1934 года.
Началось все еще в Москве из-за конфликта с Амиром Саргиджаном (на самом деле звали этого забытого ныне писателя Сергей Бородин). Саргиджан был соседом поэта (оба жили на Тверском бульваре в Москве, в доме, где ныне находится Литературный институт) и, как-то заняв у Мандельштама 75 рублей, долго не отдавал их. Надо ли говорить, что для вечно безденежного поэта это была значительная сумма. Однажды, стоя у окна, Мандельштам увидел, что жена Саргиджана несет домой полные сумки продуктов и две бутылки вина. «Вот, молодой поэт, – крикнул на весь двор Мандельштам, – не отдает долг, а сам приглашает гостей и распивает с ними вино!» Поднялся шум, возникла ссора, и Саргиджан ударил Мандельштама, ударил даже Надю. Поэт, «лилейным нравом» не обладавший, потребовал товарищеского суда. 13 сентября 1932 года суд под председательством Алексея Толстого состоялся и вынес странное решение: виноваты оба. Говоря по совести, это было, конечно, несправедливо: Саргиджану зачли и то, что он был членом партии (а Мандельштам – отщепенец!), и то, что он считался «национальным кадром». Словом, горькая обида, горючая ненависть Мандельштама сосредоточилась на Толстом. Поэт даже караулил советского классика у какой-то забегаловки еще в Москве, на улице, которая станет потом «улицей Алексея Толстого». «Ловил» больше года. А столкнулся как раз в Ленинграде – в Гостином Дворе.
В тот день давняя знакомая Мандельштама Елена Тагер договорилась увидеться с ним в издательстве. «Не все хочется вспоминать, – пишет она. – Но из песни слова не выкинешь… В назначенный час я приближалась к цели, когда внезапно дверь издательства распахнулась и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам. За ним Надежда Яковлевна. Я вошла… и оторопела. Увидела последнюю сцену “Ревизора”. Среди комнаты высилась мощная фигура Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот. “Что случилось?” Ответила З.А.Н. (Зоя Александровна Никитина, жена писателя М.Козакова. – В.Н.), которая раньше всех вышла из оцепенения: “Мандельштам ударил Алексея Николаевича”… Все были перевозбуждены, все требовали крови Мандельштама, а один писатель[91] настойчиво просил у Толстого доверенность на право ведения уголовного дела против поэта в народном суде. Наперебой дописывалась картина случившегося. Оказывается, Мандельштам, увидев в комнате Толстого, пошел к нему якобы с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Но, подойдя вплотную, Мандельштам дотянулся до лица классика, шлепнул по нему слегка, будто потрепал по щеке, и, наконец, произнес в своей патетической манере: “Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены”».
Пасынок Толстого Ф.Волькенштейн напишет иначе: «Мандельштам побледнел, а затем, отскочив и развернувшись, дал Толстому звонкую пощечину: – “Вот вам за ваш «товарищеский суд», – пробормотал он. Толстой схватил Мандельштама за руку. “Что вы делаете? Разве вы не понимаете, что я могу вас у-ни-что-жить!” – прошипел Толстой…» Волькенштейн добавляет: «Я… заверяю читателя, что ни к аресту Мандельштама, ни к его… судьбе Толстой не имел никакого отношения… Да разве мог человек произнести такую угрозу, имея в виду ее осуществление».
Короче, была ли пощечина полновесной или легким касанием – уже не узнать. Но последствия ее для поэта окажутся именно полновесными. Надежда Мандельштам, которая все видела, напишет потом: «Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы. В тот же день… – заканчивает она, – Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы – Горькому. Вскоре до нас дошла фраза: “Мы ему покажем, как бить русских писателей…” Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому…» После войны в 1946 году, когда Мандельштама давно не было на свете, даже Ахматова, расплакавшись, скажет в одном разговоре: «После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено».
Но не за эту пощечину арестуют Мандельштама, нет, за еще более сумасшедший поступок – за оглушительные стихи против Сталина. Они были уже написаны, и знакомым сапожником была вмонтирована уже бритва «жилет» в каблук ботинка поэта – этой бритвой он попытается в тюрьме вскрыть себе вены. Он точно знал, что ждет его. Более того, он, уже сказав Ахматовой, что стихи сегодня должны быть «гражданскими», неожиданно, к ужасу Ахматовой, произнес: «Я к смерти готов!..» Она запомнит это на всю жизнь.
Все это случится в Москве. Там рано утром к Эмме Герштейн прибежит Надя: «Ося сочинил очень резкое стихотворение. Его нельзя записать… Нужно, чтобы… кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его людям…» До людей, то есть до нас, это стихотворение и впрямь дошло только через шестьдесят лет. Он знал, что написал и что за это полагается. Зато теперь, как бы долго ни помнили Сталина, всегда будут помнить и стихи Мандельштама про «пальцы, как черви», про то, что любая казнь у вождя – «малина». Поэта и убьют фактически за эти строки. И сбудутся его слова, сказанные когда-то жене: «Поэзию уважают только у нас – за нее убивают»…
…В предыдущей главе я обещал рассказать, как умерла Ольга Ваксель, которую поэт, по словам жены, «помнил всегда». Так вот, Ольга, Лютик, с неколебимым мужеством выбрав себе один из двух крематориев Осло (она сказала сестре мужа, с которой пришла на кладбище, что он ей понравился романтической окраской), ровно в полдень, поставив точку в последнем стихотворении своем, достала из ночного столика мужа пистолет и выстрелила себе в рот. Выстрел был так рассчитан, что разнесло только шею с правой стороны, лицо же сохранило красоту, а на губах, о которых он писал стихи, застыла полуулыбка. Ее муж, Христиан Вистендаль, в письме матери Ольги, сообщив о самоубийстве, припишет странную фразу, скажет, что скоро последует за ней. И действительно, закончив перевод воспоминаний Лютика, через полтора года вдруг скончался. Ему было тридцать два – врачи констатировали разрыв сердца[92].
4 марта 1938 года на Московском вокзале друзья провожали Мандельштама в Москву. «Он и Надя приехали в Ленинград дня на два, – вспоминала Ахматова. – Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами»… Это было уже после первого ареста Мандельштама за сумасшедшие стихи о Сталине, после распоряжения «кремлевского горца» – «изолировать, но сохранить», после ссылки поэта в Чердынь, где он пытался второй раз покончить с собой – выбросился из окна. Именно тогда, вырвавшись из ссылки, Мандельштам зорко заметил, что люди вокруг изменились. «Все какие-то, – шевелил он губами в поисках определения, – все какие-то… какие-то… ПОРУГАННЫЕ»…
В Ленинграде друзья поэта, перезваниваясь, собрали Мандельштаму денег, немного одежды, белья. На вокзале поэт был уже в темно-сером, явно великоватом пиджаке, который подарил ему писатель Юрий Герман. В этом пиджаке Мандельштам «всю угрюмую ночь» перед отъездом читал в квартире писателя Валентина Стенича (канал Грибоедова, 9) стихи, и длинные рукава пиджака «плыли в воздухе, – вспоминал Николай Чуковский, – как мягкие ласты». Через неделю, словно за эту ночь, арестуют Стенича, а через год его вместе с другом Мандельштама, поэтом Лившицем, и с давним соперником его, Юрочкой Юркуном, расстреляют.
Не знаю, успел ли услышать об этом при жизни Мандельштам, но в зале ожидания Московского вокзала, за полчаса до отправления поезда, он неожиданно расшалился и, поднимая дух провожающих, шутя, повесил свой узелок на искусственную пальму и, тыкая себя в грудь, повторял: «Странник в пустыне!» Знаете, с чем пожалует наш Вергилий в тюремный ад? При аресте от него будет принято: «8 штук воротничков, галстук, три запонки, мыльница, ремешок, щеточка, семь штук разных книг»…
Говорят, среди этих книг был и Данте.
По ночам, когда в тумане
Звезды в небе время ткут,
Я ловлю разрывы ткани
В вечном кружеве минут.
Я ловлю в мгновенья эти,
Как свивается покров
Со всего, что в формах, в цвете,
Со всего, что в звуке слов.
Да, я помню мир иной –
Полустертый, непохожий,
В вашем мире я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил…
«У него была тайна… – скажет о Максимилиане Волошине Марина Цветаева. – Это знали все, этой тайны не узнал никто…»
Загадок в его жизни хватало. «Странное он существо! – говорила хорошо знавшая его писательница Р.Гольдовская. – Не человек, а именно существо – милое, толстое, приятное, экзальтированное, талантливое, ветхо-юное, не мужчина, не женщина, не ребенок. Иногда мне даже кажется, что милый Макс не живое существо, а лабораторное чудо, “гомункулус”, сотворенный таинственным Эдисоном по астрологическим рецептам»…
Знаменитая в начале прошлого века теософка Анна Минцлова, читавшая, как говорили, «книгу жизни» словно обычную книгу, предскажет Волошину, что он будет убит женщиной. Волошин еще в молодости, услыхав предсказание, храбро запишет: «Я совершенно спокойно заглядываю в лицо знакомым женщинам и спрашиваю себя: какая же из вас захочет убить меня?» А и впрямь – какая? Муромцева, его ранняя влюбленность, Маргарита Сабашникова, ставшая первой женой поэта, ирландка Вайолет, которая назовет его «богом», Дмитриева – Черубина де Габриак, из-за которой он будет стреляться с Гумилевым, или Мария Заболоцкая, последняя жена его?
На Невском проспекте, в центре города, в доме, который принадлежал когда-то священнослужителям находящейся поблизости Александро-Невской лавры, в квартире под самой крышей, где и поныне сохранились дощатые полы, в 1903 году поселился и прожил несколько месяцев двадцатишестилетний Макс Волошин. «Жить в новой комнате, – записал как-то в дневнике, – это немного переменить себя». Заметим, первое жилье в Петербурге Волошин снимает на главном проспекте столицы. И не слишком изменит этой привычке в будущем: из шести известных мне петербургских адресов его четыре окажутся именно на Невском. Но крутые ступени этого дома ежедневно с легкостью преодолевал пока не поэт – художник Волошин. Так мыслил себя в то время. Да и стихи, которые будут твердить потом эмигранты всех поколений, мог написать действительно художник: «В дождь Париж расцветает, точно серая роза…» Кто был в Париже, кто видел его в дождь – знает, как это верно подмечено!
Это стихотворение, где он сам себя называет «прохожим», Волошин написал как раз в 1903-м, когда поселился тут. Но поэтом, повторю, считал себя во вторую очередь. И навещал пока не поэтов – художников: Лансере, Сомова, Бенуа. С Бенуа через шесть лет он будет определять художественную политику знаменитого журнала «Аполлон». А пока забегал в дом Бенуа (ул. Глинки, 15)[93] «дико до невероятности» одетым: случайный пиджак, широкий и очень несвежий, бумажного рубчатого бархата брюки, которые «откровенно», у всех на виду, крепились к теплому жилету двумя огромными английскими булавками, и даже в позднюю осень – без пальто. Одевался так, что, когда шел по улицам, за ним бежала ватага мальчишек. Однажды это возмутило первую жену его, но он ответил: «Лучше пройти побитым камнями, чем пройти незамеченным. Так сказано в Библии». Словом, не то клоун, не то гений! Гениальность из него, кстати, по словам Голлербаха, просто «излучалась». А может, просто дитя, как скажет восемнадцатилетняя Цветаева ему – тридцатидвухлетнему, дитя, которому «нужны игрушки». «Чувствовалась, – напишет о нем свояченица Брюсова, – какая-то невзрослая, не искушенная жизнью душа, и что поэтому его совершенно не смущало ни то, как он одет, ни то, что об этом думают».
Не искушен жизнью? Так ли? Ведь за спиной у Волошина была учеба в Московском университете, участие в беспорядках 1899 года, высылка, потом новый арест и ссылка, потом Париж, куда он отправился, по его словам, «познать всю европейскую культуру в ее первоисточнике». Недаром та же Цветаева скажет о нем: «Француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью». То есть, зададимся вопросом, «человек мира»? Он ведь и сам называл себя так. Но я бы сказал иначе: человек, показывающий мир людям. Все показать, все рассказать – это была и черта характера, и неистребимая потребность души. Курьез, но когда кормилица брала его, ребенка, на базар, он, сидя на руках у няньки, показывал ей дорогу домой, хотя возвращаться приходилось запутанным «лабиринтом переулков». А если говорить, отбросив предания, то миссией его на земле было не только все показать всем, но главное – творить в мире «встречи и судьбы»…
Впрочем, душа поэта была все же неискушенной. Особенно в отношениях с женщинами. Даже с матерью. Был какой-то «детский разрыв» с ней, со скандалом, грозными обвинениями, что он, дескать, взял какую-то серебряную спичечницу, что больше-де некому. Точней про это уже не узнать. Но с того мгновения, напишет позже Волошин, «чувствую конченными все детские любовные отношения». Рана осталась на всю жизнь. Матери, властной и мужественной женщине с орлиным профилем, в прошлом работнице телеграфа и служащей в конторе железной дороги, которая на его памяти всегда ходила в кафтанах, шароварах и татарских сапогах, он долгое время говорил, например, «вы». Лишь когда ему исполнилось тридцать шесть, Цветаева уговорила его выпить с матерью на брудершафт, с переходом на «ты». Это, впрочем, не многое изменило. И через десятилетия, когда будет забыта злосчастная спичечница, «исток недоразумений», когда и мать умрет уже, Волошин запишет: «Самое тяжелое в жизни: отношения с матерью. Тяжелее, чем террор и все прочее…»
Вот так: тяжелее, чем террор! Стоит ли удивляться, что в молодости он как–то напишет поэтессе Аделаиде Герцык: «Объясните же мне, в чем мое уродство? Все мои слова и поступки бестактны, нелепы, я чувствую себя зверем среди людей… А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает… и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей, я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством». Этим мучился всю жизнь, заметит позднее и сестра Аделаиды – Евгения Герцык. Правда, одесский литератор Биск, встречая молодого Волошина в Париже, подчеркивал: «Он любил говорить о своих успехах у женщин…»
О господи, что это были за «успехи»! Например, за год до приезда в Петербург он в Париже влюбляется в Ольгу Муромцеву, которой посвящает стихотворение «Небо запуталось звездными крыльями…», и примерно тогда же, впервые в свои двадцать четыре года, видит обнаженную женщину – натурщицу на Монпарнасе. «Я в первый раз видел голое женское тело, – записал в дневнике, – чего я страстно… жаждал в течение стольких ночей, и оно меня не только не ошеломило, не потрясло, но, напротив, я смотрел на него как на нечто в высшей степени обычное». Правда, в тот же день, не знаю, случайно ли, он знакомится на улице с проституткой, которая сама с ним заговаривает, даже специально задевает плечом у памятника Дантону и приводит его к себе. «Лицо у ней было бледное, маленькое и, кажется, хорошенькое… Она начала раздеваться, но я смотрел на это равнодушно… “Что вы хотите, чтобы я показала вам прежде?” Так как я не знал никакого более подходящего французского слова, то ответил: “Все”». Эту девушку звали Сюзанн. Он встретит ее вновь в танцзале, куда ходил рисовать с натуры. «Мы идем к столикам, – записывал он. – Она подвигается близко ко мне, касается меня коленями и закрывает мои ноги своей юбкой. Я чувствую, что во мне просыпается животное… И вот мы идем вдоль темной и сырой аллеи. Она через два шага подпрыгивает и напевает. Я хочу принять развязный и веселый вид. Но не могу. Меня гложет мысль: “А вдруг меня увидят мои знакомые?” Дорога до ее дома – это пытка… “Ты мне дашь опять 20 франков?” – спрашивает она нежно. У меня всего 20…»
Раздвоенность духа и тела и дальше будет разрывать Волошина. Через три года на «Башне» Вячеслава Иванова сойдутся две другие «дамы сердца» поэта: ставшая его женой Аморя – Маргарита Сабашникова, которую он боготворил, и художница, ирландка, черноглазая Вайолет Харт – телесная страсть Волошина. Первая, бросив его, скажет: «Макс – он недовоплощенный». Вторая же, перед тем как выйти замуж за русского, назовет Волошина ни много ни мало «богом»…
Кстати, год, когда он поселился в доме на Невском, окажется рубежным для Волошина. Именно в 1903 году он опубликует первые стихи и в том же году, правда в Москве, познакомится с Сабашниковой. Познакомятся в картинной галерее Щукина. А потом, когда она станет его невестой, он, встречаясь с ней в разных городах Европы, будет, как писал Бунин, назначать ей свидания даже на колокольнях каких-то соборов. В его духе поступки. «Подлинный поэт, – считал он, – должен быть нелеп». Он таким и был: спал на снегу в горах Испании, на свернутых канатах парохода, плывущего к Майорке, на кошме в барханах, умел, как никто, готовить черепаховый суп, любил ходить в сандалиях и брил ноги, носил чулки и перевязывал шевелюру полынным венком[94]. Даже вещи собирал необычные: баскский нож, связку фазаньих перьев, горку горного хрусталя, самаркандские четки, севильские кастаньеты. Но Маргарита Сабашникова, художница, штейнерианка, дочь богатого чаеторговца, двоюродная племянница книгоиздателей братьев Сабашниковых, после первой встречи с ним запишет: «Познакомилась с очень противным художником на тонких ногах и с тонким голосом». Через два года в Страсбурге и Цюрихе, где они проведут десять счастливых дней, она, напротив, неожиданно скажет: «Откуда ты такой хороший?.. Нет, это не я сделала, ты был такой…» Фактическое объяснение в любви…
В Коктебеле в доме Волошина до конца дней его стояла огромная гипсовая голова царицы Таиах. Не все, может, знают, что впервые он увидел Таиах в парижском Музее Гимэ, куда 7 июня 1904 года привел и Маргариту. «Королева Таиах, – подвел к скульптуре Сабашникову. – Она похожа на вас». Запишет, что когда подошел к Таиах совсем близко, ему показалось, что мраморные губы ее зашевелились. «Я ощутил губами холодный мрамор и глубокое потрясение, – заканчивает он. – Сходство громадно…» Может, отсюда почти молитвенное отношение его к копии Таиах, которую привезет из Европы? Правда, свадьба Волошина состоится только через два года, в апреле 1906-го. Тогда они и поселятся сначала в доме, где жил Вячеслав Иванов, а потом в квартире самого Вячеслава Великолепного. И вот там-то любовь Волошина, его «Маргоря, Аморя», и уйдет на его глазах к Великолепному. Если Волошин был для нее «недовоплощенный», то Вячеслав Иванов в ее глазах окажется «единственным человеком, вполне человеком».
Впрочем, как случится этот разрыв и что ему предшествовало – обо всем этом я расскажу в следующей главе, у следующего дома поэта.
…Зачем поэты женятся на тех, кто не вполне понимает их стихи? Сабашникова, как пишет Евгения Герцык (на глазах которой разваливался их недолгий брак), «невесело смеясь», говорила Волошину о его стихах: «И все неправда, Макс!.. И не звал ты меня прочь! И сам ты не меньше меня впился в солнечного зверя!.. Ты лгун, Макс». – «Я не лгун, амори, я поэт». Но то застенчивая, то высокомерная Маргарита теснила его: «Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь…»
Он не сдавался: «Но как же, амори, только из путаницы и выступит смысл…»
Увы, из путаницы в его жизни выступала только еще большая путаница.
Смысл проявится позже – уже в стихах.
«Жить в новой комнате – это немного переменить себя», – помните, записал в дневнике Волошин. Здесь, в меблированных комнатах «Эрмитаж», на углу Невского и Марата, где Волошин поселился в декабре 1907 года, он действительно «переменил себя». Он приехал в Петербург – через Москву – из «Страны синих гор» (так, говорят, переводится слово «Коктебель»), где жил постоянно с тех пор, как мать его, еще в 1893 году, купила там участок земли и построила дом. Но главная «перемена» заключалась в том, что он снова был холост: с женой, любимой Аморей, они разошлись. Сейчас он «одинок, болеет», записывает, словно диагноз, забежавшая к нему сюда Евгения Герцык…
Что же случилось на «Башне», в квартире Вячеслава Иванова, где молодожены, считай, и разошлись? Ведь сам этот дом (Таврическая, 35), который венчает шлемовидная башня с окнами-бойницами (в ней и располагался полукруглый кабинет Вячеслава Великолепного), был центром притяжения духовных сил Петербурга[95]. На «Башне» (и об этом написаны ныне целые исследования) привечали всех, там царили поэзия и философия, собирались самые утонченные и талантливые люди России, пили вино, читали стихи, веселились, шутили, дурачились, разыгрывали друг друга. Бывали там и скрытые масоны, и тайные розенкрейцеры, и явные антропософы. Хозяин квартиры и его жена не скрывали ни склонности к мистике, ни любви к таинственным обрядам. Здесь даже «причащались кровью» – кололи иглой руку какой-то молоденькой еврейке и, размешав кровь в стаканах, по очереди пили по глотку. Недаром кто-то сказал, что на «Башне» «попахивает “серой”». Впрочем, все эго были невинные шалости утонченных людей. Но отчего – вот вопрос! – и эти шалости, и рискованные игры заканчивались порой трагедиями – болезненными разрывами близких, вековечными обидами, жесткими оскорблениями и даже дуэлями? Да оттого, думается, что и шалости, и игры были замешаны на людских страстях, которые, как известно, равновелики личностям, переживающим их. Чем крупнее люди – тем сильнее страсти!..
Напомню, в апреле 1906 года Волошин и Сабашникова поженились. В октябре переехали в дом, где жили Вячеслав Иванов и его жена. Но раньше, за полгода до появления Волошина, на «Башне» образовалось так называемое «общество Гафиза». Решено было собираться в интимном кругу и беседовать без стеснения обо всем, что придет в голову. Об Эросе главным образом[96]. В такой «свободе» должна была родиться, как они думали, «новая общность» людей. Каждый участник «гафизовых пиров» получил новое имя: Вячеслав Иванов стал Гиперионом, его жена – Диотимой, поэт Кузмин был назван Антиноем, художник Сомов – Алладином. «Гафизитами» стали философ Бердяев (Соломон), художник Бакст (Апеллес). Виночерпием у «гафизитов» был Сергей Городецкий (Лель), в которого был влюблен или делал вид, что влюблен, Вячеслав. Жена последнего, Лидия Дмитриевна, правда, звала Городецкого «певучий осел». Она и Сабашникову назовет «певучей ослихой», но позже. Пока же, облаченные в искусные драпировки Сомова, «гафизиты» пили вино, ели сладости, пытались заводить ритуальные хороводы. «Читали стихи, – иронизирует в дневнике над “гафизитами” Антиной, Михаил Кузмин, – ничего особенного… Нувель что-то играл, рассуждали, вот и все. Если не считать, что Лидия Дмитриевна сопела на Бакста, а Вячеслав Иванов неумело лез к Городецкому, хихикая и поминутно теряя пенсне, то особенного, против обычных застольных вечеров, разврата не было… Все преждевременно иссякло… Всего было собраний семь-восемь…»
И вот когда все «иссякло», на «Башне» и появились молодожены: Волошин и Сабашникова. Волошин был знаком с Вячеславом и его женой еще с 1904 года, потому был принят как свой. Да к тому же он не просто уважал – преклонялся перед Ивановым, тонким поэтом, глубоким философом, блестящим знатоком древних языков и истории мировой культуры, теософом, филологом, наконец, законодателем художественной и литературной моды. И хотя на «Башне» особенного разврата, как вспоминал Кузмин, не было, дружные супружеские пары встречались здесь редко, и их, по признанию Сабашниковой, «даже несколько презирали».
Разврата не было – был грех. Но был и смех. Например, сюда как-то нагрянула полиция – ей показалось, что тут собираются опасные анархисты. Гостей Иванова, а их в тот вечер было ровным счетом двадцать пять, развели по разным углам и, несмотря на протесты, обыскали. На антресолях нашли две старые газеты революционного содержания. Но арестовали и увезли в полицию только мать Волошина – Елену Оттобальдовну, приехавшую навестить сына. Внешность ее показалась подозрительной: «…стриженая, что было по тем временам еще очень либеральным, – пишет художник Добужинский, – и, пуще того, ходившая в широких и коротких шароварах, какие носили велосипедистки». Конечно – «анархистка»!.. Но смешно не это. Когда полиция ушла, Мережковский, довольно известный к тому времени писатель, вдруг обнаружил, что «кто-то из полицейских украл» его дорогую бобровую шапку. И что вы думаете? Заносчивый Мережковский тут же «тиснул» в двух столичных газетах открытое письмо самому премьер-министру России. И знаете, как озаглавил его? «Куда девалась моя шапка?» Действительно, и смех, и грех. Тем более что шапка почти сразу же нашлась за каким-то сундуком в прихожей…
Словом, общая атмосфера на «Башне» была легкой и изящной, но нежная Аморя на глазах у Волошина уходила от него. Уходила к Вячеславу, «ловцу человеков»[97], по позднему, библейскому еще, определению Ахматовой.
Волошин напоминал тогда «лесовика из гриммовской сказки», скажет один поэт. «Семь пудов мужской красоты», – любил говорить о себе. «Милый, добрый, ласковый, всезнающий, всех любящий – и ко всем равнодушный Макс, – пишет о нем Рашель Гольдовская. – Ученый эклектик, перипатетик, поэт, художник, философ, хиромант и божий человек, юродивый “без руля и без ветрил” – русский “обормот” с головой Зевса и животом Фальстафа…» «А рядом с ним, – как бы дополняла портрет супружеской пары Евгения Герцык, – тоненькая девушка с древним лицом брезгливо отмечает и одно, и другое… ищет единого пути и ожидающим и требующим взглядом смотрит на него». «Древнее лицо» Маргариты – это еще и бурятская кровь: Сабашниковы породнились со старейшиной бурятского племени, и у Маргариты разрез глаз, линии лица были будто «размечены кисточкой старого китайского мастера». Говорят, она даже гордилась «прадедовым шаманским бубном». Но справедливости ради скажем: на «Башне», вопреки декадентствующим фигуранткам, она вместо модных хитонов ходила в английских блузках с высоким воротничком. «Не запомню другой современницы своей, в которой так полно бы выразились и утонченность старой расы, и отрыв от всякого быта, и томление по необычно-прекрасному, – вспоминала подруга Маргариты. – На этом-то узле и цветет цветок декаденства»…
Вот над ней, над Маргаритой, чета Ивановых и решила проделать своеобразный «духовный эксперимент». «Духовный» – это, разумеется, эвфемизм. На деле они избрали ее как бы третьим членом своего брачного союза. Все опять было легко, мило и изящно. «Мне дали имя Примавера из-за предполагаемого сходства с фигурами Боттичелли», – вспоминала потом Сабашникова. Но кончился этот «эксперимент» тем, что Иванов, при одобрении своей жены, влюбился в Аморю, а она в него…[98]
«Комната Вячеслава узка, огненно-красна, в нее вступаешь, как в жерло раскаленной печи… Я чувствую себя зайчонком в львином логове», – вспоминала Маргарита свои появления у Вячеслава. Когда поняла, что он любит ее, рассказала об этом Лидии и сообщила о твердом решении своем уехать. «Ты вошла в нашу жизнь, – ответила жена Вячеслава, – ты принадлежишь нам… Если ты уйдешь, останется – мертвое… Мы оба не можем без тебя…» Такой вот завязывался «узел»! Кстати, Иванов, как вспоминала потом Сабашникова, внушал ей, что она и Макс – «существа разной духовной природы, что брак между нами, “иноверцами”, недействителен». Убеждал и ее, и вместе с ней жену свою, что «двое, слитые воедино, в состоянии любить третьего. Подобная любовь, – говорил, – начало новой церкви, где Эрос воплощается в плоть и кровь».
А что же Волошин? «Я радовался тому, что Аморя любит Вячеслава, но не будет принадлежать ему», – пишет он в дневнике 1 марта 1907 года. И это искренне написано. Маргарита признавалась потом, что Макс, «уже целиком находившийся под обаянием Вячеслава Иванова, был огорчен, что я с первого взгляда не пришла от него в восторг». Так было. Но уже через день, 2 марта, вернувшись из Москвы на «Башню», Волошин не находит Амори в своей комнате. «Мне обидно и больно, как ребенку, – записывает тридцатилетний Волошин в дневнике, – что меня не встретили, не ждали. Мне хотелось бы видеть только ее, говорить только с ней…» На другой день – новая запись: «В мою комнату вошла Лидия и удивилась, что я приехал. Я пошел тогда в ее комнату, где спала Аморя. Она уже встала и была в красном хитоне, который был мне чужд. Я не мог при Лидии ничего сказать ей, но когда мы ушли в нашу комнату, я почувствовал, что вся тоска моя снесена волной счастья. Тогда начался длинный разговор. Я чувствовал рядом с собой это милое детское лицо, эти милые ласковые руки, в которых прохладное успокоение». «Макс. Он мой учитель. Я пойду за ним всюду и исполню все, что он потребует, – призналась ему в тот день Аморя. – Макс, я тебя никогда так не любила, как теперь. Но я отдалась ему. Совсем отдалась. Понимаешь? Тебе больно? Мне не страшно тебе делать больно…» И она медленно крестила его… «Я сказал: “Значит, ты уже больше никогда не будешь моей”. Она вдруг опустила голову и заплакала. И я не мог отличить, плачет ли она или смеется. Мы долго целовали и крестили друг друга. Потом потушили лампу и заснули. Когда скрипнула дверь и вернулся Вячеслав, Аморя накинула шубу на рубашку и ушла. Я зажег лампу и стал читать. Мне не было ни грустно, ни радостно. Я был совершенно спокоен и равнодушен и с интересом читал о динозаврах…»
Он не знал, что Вячеслав, которого он боготворил, которого звал «златокудрым магом», упрекал в это время Аморю в малодушии, в трусости, в том, что у нее нет настоящей любви и что она не может любить до конца. «Он даже бил меня, – признается она потом возмутившемуся было Волошину, но тут же добавит: – Мне было сладко, когда он бил меня». Она откинет халат и покажет мужу разорванную рубашку. «Макс, ведь я уже его. Ты ведь отдал меня». – «Нет… не отдал…»
Волошин вышел из комнаты и пошел к Вячеславу. «Он спал, – пишет в дневнике Волошин, но не упоминает, что взял с собой нож, ибо решил убить Вячеслава. – Я сел на постель, и, когда посмотрел на его милое, родное лицо, боль начала утихать. Я поцеловал его руку, лежавшую на одеяле, и, взяв за плечи, долго целовал его голову. “Макс, ты не думай про меня дурно, – сказал проснувшийся Вячеслав. – Ничего, что не будет свято, я не сделаю. Маргарита для меня цель, а не средство”…»
…Конец этому «эксперименту» положила смерть жены Иванова от скарлатины. Вячеслав женится вновь, но не на Аморе – на своей восемнадцатилетней падчерице. Сабашникова, которая была в это время в Париже, поспешит к нему после смерти Лидии, но… «Я не узнала Вячеслава, – напишет позже в книге своей. – Он был в чьей-то чуждой власти. Я отошла…» Злые языки посмеются потом: просто место было уже занято. Имея в виду как раз падчерицу Иванова – Верочку Шварсалон.
А Волошин, которого Вячеслав метко назвал однажды «говорящим глазом», разойдясь с Аморей, через два года встретит (представьте, все на той же «Башне»!) новую женщину, которой придумает затейливое имя и с помощью которой начнет мистифицировать Петербург… Опять, скажете, невинная шутка? Да! Но дело дойдет до дуэли. К счастью, бескровной. Не считать же за рану оцарапанный палец секунданта – Алексея Толстого. Правда, один, и очень крупный поэт, кажется, из-за этой истории и погибнет…
Впрочем, это уже другой рассказ. Он – у следующего дома Волошина.
«Первая задача поэта – выдумать себя», – призывал крупнейший поэт начала прошлого века Иннокентий Анненский. Так вот, как это ни прискорбно, но Анненский и погибнет, по сути, из-за этого призыва – выдумывать себя и свою жизнь. Многие поэты и, может быть, более других импульсивный Волошин, кажется, поняли этот призыв слишком буквально. Из-за «выдумки» Макса, шутки, розыгрыша, балагана, рискованной, но игры, два поэта будут драться на дуэли, оба, к счастью, останутся живы, а третий – как раз Анненский – из-за этого поединка, похоже, и погибнет…
Началось все в доме на Глазовской (ныне улица Константина Заслонова), где Волошин, приехав из Парижа в 1909 году, проживет почти три месяца. Более удачного места для деятельного Макса трудно было и придумать: здесь жил с женой (актрисой и художницей Софьей Дымшиц) его парижский знакомец, тогда еще поэт Алексей Толстой. Кто только не толпился у него в те дни! Здесь возникали и гибли, не «дожив» до второго номера, поэтические журналы, задумывались литературные общества, устраивались шумные, горластые вечера. Среди гостей особенно выделялись двое: поэт Гумилев (он приходил в узкой шубе со скунсовым воротником и в цилиндре, надвинутом на глаза) и хромая поэтесса Лиля Дмитриева. («Некрасивое лицо и сияющие, ясные, неустанно спрашивающие глаза», – записал о ней еще год назад Волошин.) Из-за нее, из-за Лили, Волошин и Гумилев и станут через десять месяцев к барьеру…
С идеей создания поэтического журнала носились тогда не только у Толстого. Издавать журнал задумал чуть раньше еще один поэт – Сергей Маковский, сын знаменитого художника. И однажды на берегу Невы, в двух почти соседних дворцах, случились два события, которые и привели сначала к организации нового журнала, а потом и к драме, разыгравшейся в стенах редакции. В первом здании, в меншиковских залах Кадетского корпуса (Университетская наб., 15), на вернисаже 1 января 1909 года Гумилев знакомится с Маковским. Выставка картин (ее, под громким названием «Салон», организовал как раз Маковский) была, между прочим, поразительной. Среди сорока художников, согласившихся участвовать в ней, здесь впервые были представлены, например, Кандинский, Чюрленис, Петров-Водкин. Но два поэта, Маковский и Гумилев, словно не обращая на выставку внимания, говорили не о живописи – о создании журнала. «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно», – вспоминал о Гумилеве той поры Маковский. Вот с этой встречи двух поэтов и начался, можно сказать, будущий «Аполлон», самый знаменитый журнал тогда.
А в другом здании, рядом, в Академии художеств, состоится чуть позже еще одна встреча, из коей вспыхнет в будущем самый знаменитый скандал нового журнала. Тут, в Академии, на какой-то художественной лекции, Волошин познакомит Гумилева с юной поэтессой Елизаветой Дмитриевой. Вот они-то и будут сталкиваться позже у Толстого, в квартире на Глазовской. Кстати, при знакомстве в Академии художеств и Гумилев, и Дмитриева вспомнят, что мельком встречались уже два года назад в Париже. Он даже дарил ей цветы – белые гвоздики[99]. Но теперь стремительный и бурный роман Гумилева и Лили Дмитриевой начнется все-таки после этой лекции в Академии художеств. «Мы все, – вспоминала позднее Дмитриева, – поехали ужинать в “Вену”…»
«Вена» – знаменитый в те годы ресторан, где собирались литераторы, художники, актеры. Вот там-то, в шумном зале, Дмитриева с Гумилевым и разговорятся об Африке, куда Гумилев рвался с детства. «Я тогда сказала очень серьезно, я ведь никогда не улыбалась: “Не надо убивать крокодилов”…» Гумилев отвел в сторону Волошина и спросил: «Она всегда так говорит?» – «Да, всегда», – ответил Волошин. «Эта маленькая глупая фраза, – пишет Дмитриева, – повернула ко мне целиком Гумилева. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это… “встреча”, и не нам ей противиться». Это была молодая, звонкая страсть. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, // Я нашел себе подругу из породы лебедей…» – напишет вскоре Гумилев.
Вообще «подруга из породы лебедей» не была красавицей. «Она была, – пишет ее биограф Л.Агеева, – талантлива, страстна, умна, язвительна, остроумно подмечая недостатки окружающих и при этом с блеском отражая насмешки в свой адрес. Более того, предупреждая острословие друзей, она первой шутила над собой, легко соглашаясь, что в ее облике есть нечто от гиены». Кроме того, она с детства хромала. «Друзья утешали ее: все ведьмочки хромают, и это их не портит, наоборот, придает загадочность».
После того вечера Гумилев и Дмитриева станут встречаться, читать стихи и возвращаться на рассвете, как напишет она, «по просыпающемуся розовому городу». Он провожал ее на Васильевский остров, через мосты, вдоль Невы, до дома на 7-й линии, где она жила тогда (7-я линия, 62, кв. 14). Наверняка долго прощались… Лиля, тогда учительница русского языка в гимназии, уж наверное, помимо стихов, рассказывала ему о судьбе двух монахинь, которыми не только увлеклась в Париже, но которые, как считают исследователи, повлияли на всю ее дальнейшую жизнь. С портретом святой Терезы Авильской Дмитриева не расставалась до самой смерти. А про другую святую, жившую триста лет назад, аббатису и праведницу Марию д’Агреда, рассказывала, поражаясь ее судьбе, наверное, только шепотом: представьте, аббатиса, ни разу не покинув монастырь во Франции, совершила тем не менее «пятьсот путешествий в Америку, точнее, в Мексику, чтобы обратить в христианство индейцев»[100]. А вот о чем не рассказывала Гумилеву, так это о романтических отношениях с Волошиным, с которым познакомилась в марте 1908 года. Причем о Всеволоде Васильеве, женихе своем, говорила, а о Волошине и своих чувствах к нему – нет. «Знаете, – писала она в это время Максу, – у меня… к Вам мистическое чувство». Их переписка становилась день ото дня нежней, и в ней все чаще встречалось интимное «ты». Но и с Гумилевым Дмитриева расставаться не хотела.
Она пишет, что Гумилев не раз звал ее замуж, но ей, признается, хотелось мучить его. «Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н.С. – и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить. А во мне было упрямство – желание мучить. Воистину, он больше любил меня, чем я его, – писала она. – Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал мне край платья». А позже, на свою беду, добавлю, увез ее в Коктебель, в дом к Волошину. Лиля рвалась туда, а Гумилева пригласил сам Волошин. Формально они были друзьями: «многоуважаемый», «искренне Ваш». Да и поэтами одного лагеря были – одного журнала. Но трещина между ними день ото дня увеличивалась…
«Все путешествие, – вспоминала Лиля поездку в Крым, – как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его “Гумми”, а он меня “Лиля”…» Он говорил, что имя ее, как серебристый колокольчик… Увы, в Коктебеле все изменилось. Ибо самой большой любовью ее, «недосягаемой», был Волошин. И именно там он, представьте, объяснился ей в любви. «К нему я рванулась вся, – пишет она. – Он мне грустно сказал: “Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву – я буду тебя презирать”»[101]. Она тут же легко попросила Гумилева уехать; он, сочтя это за каприз, так же легко исчез. В Коктебеле, кстати, он написал своих знаменитых «Капитанов», а вообще – дурачился: ловил, вообразите, тарантулов и азартно устраивал бои скорпионов в стакане. Однажды, пишет Н.Чуковский, затеял «битву скорпионов» с Волошиным и – победил. Его скорпион сожрал скорпиона Волошина. Тоже, кстати, дуэль – до дуэли. Но когда Гумилев уехал, Лиля вздохнула свободно. «Я, – пишет она, – до сентября жила лучшие дни моей жизни». И добавляет: «Здесь родилась Черубина…»
Что мы знаем о Лиле, которой исполнилось тогда лишь двадцать два года? «Маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом, – напишет о ней Волошин. – Была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом». До квартиры на 7-й линии жила с матерью, старшим братом и сестрой сначала на Малом проспекте (В.О., Малый пр., 15), потом на 6-й линии (6-я линия, 41). Покойный отец ее был учителем чистописания, мать – акушеркой. Брат, который страдал падучей, в детстве заставлял Лилю просить милостыню, хотя полученные монеты выбрасывал: «стыдно было» ему, дворянину. Сестра же требовала, чтобы ей приносили в жертву самое любимое, и они сжигали игрушки. Когда нечего было жечь, бросили в печь щенка, взрослые едва вытащили его. У Лили был костный туберкулез, осталась хромой на всю жизнь. Брат и сестра, смеясь, отламывали ноги у ее кукол: «Раз ты хромая, у тебя должны быть хромые игрушки». Долгие годы Лиля не вставала с постели, в тринадцать ее изнасилует любовник матери. Изувеченная, жуткая жизнь. Но гимназию окончит с медалью, а стихи начнет писать как раз с тринадцати. О них высоко отзовется потом Цветаева: «В этой молодой школьной девушке жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал». Так считал и Волошин. Но именно стихи ее и отвергнет редактор только что созданного журнала «Аполлон» и друг, как помним, Гумилева Сергей Маковский. Он считал, что если и «пускать» на страницы изысканного «Аполлона» женщин, то только уж светских дам – как бы равных журналу. Тогда-то и явилась миру Черубина де Габриак – самая громкая авантюра Серебряного века!..
«Пур эпате ле буржуа», – любил повторять Макс, что по-русски означало: «чтобы эпатировать мещан». Мистификация с Черубиной и есть эпатаж. Свои «мистификации» Волошин не бросит и после Черубины, и после дуэли из-за нее. Будет потом умолять юную Цветаеву печатать стихи о России «от лица какого-нибудь… ну, хоть Петухова». «Ты увидишь, – горячечно будет бормотать, – как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие… Как это будет чудесно! Тебя – Брюсов… будет колоть стихами Петухова: “Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже семнадцать лет”…» Марина, к счастью, не согласится, как пишет – из-за врожденной честности. А может, не согласится и потому, что Дмитриева до нее не устояла – согласилась…
Словом, однажды в «Аполлон» пришло письмо, подписанное буквой «Ч». «На сургучной печати девиз: “Горе побежденным!”» В стихах таинственная незнакомка как бы проговаривалась и о «своей пленительной внешности, и о своей участи – загадочной и печальной, – вспоминал Маковский. – Адреса для ответа не было, но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным: никогда… не слышал я более обвораживающего голоса…» В письмах сообщала, что у нее «бронзовые кудри», называла себя «инфантой», говорила, что прихрамывает, «как и полагается колдуньям». Анненский, Вячеслав Иванов, Волошин, Кузмин, Гумилев – вся редакция решает: стихи печатать. Когда же «открылось», что Черубина – испанка, что ей восемнадцать лет, что отец у нее деспот, а духовник – строгий иезуит, чуть ли не вся редакция заочно влюбилась в нее. С особым азартом восхищался Черубиной Волошин. «Мы, – продолжает Маковский, – недоумевали: кто она? почему так прячется? когда же, наконец, зайдет в редакцию?.. Я ждал с нетерпением часа, когда – раз, а то и два в день – она вызывала меня по телефону… И было несколько писем от нее, которые я знал наизусть…» Словом, Маковский «влюбился в нее по уши, – пишет Гюнтер. – Гумилев клялся, что покорит ее». Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Художник Сомов предлагал ездить к ней на Острова с повязкой на глазах, чтобы рисовать ее портрет. «Где собирались трое, речь заходила только о ней». Потом и литературный Петербург раскололся: за и против. Желчный Буренин из «Нового Времени» обзывал ее в статьях «Акулиной де Писаньяк». Но особенно злобствовала хромая поэтесса Лиля Дмитриева, у которой к вечернему чаю часто собирались «аполлоновцы». Она говорила даже, что, наверно, Черубина очень уж безобразна, иначе давно показалась бы почитателям…
Всю жизнь Черубины «придумал», конечно же, «рыцарственный» Волошин. Имя взял из какого-то романа Брет-Гарта, фамилию – от найденного корня виноградной лозы, похожего на человечка, которого когда-то прозвал Габриахом. А первым разгадал мистификацию, узнал «тайну Черубины», кажется, немецкий поэт Гюнтер[102]. Лиля сама открылась ему. «Когда перед ее домом я помогал ей сойти с извозчика, – вспоминал Гюнтер, – она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись». Рассказала о Волошине, о Гумилеве. «Я насторожился, – пишет Гюнтер. – У нее, значит, было что-то и с Гумилевым, – любвеобильная особа!» Тогда-то Гюнтер и пошутил: вы потому так смеетесь над Черубиной, что ваши друзья, Макс и Гумилев, влюбились в эту испанку. «Она, – пишет Гюнтер, – остановилась… “Сказать вам?” Я молчал. Она схватила меня за руку. “Обещаете, что никому не скажете?” Дрожа от возбуждения, она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила: “Я Черубина де Габриак!” Улыбка на моем лице застыла. Что она сказала? Она Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжет, чтобы придать себе значительности! “Вы не верите? А если я докажу? Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию. Завтра я позвоню и спрошу о вас…”» Назавтра именно так, разумеется, и случилось.
Потом будет подстроенная Гюнтером встреча Лили с Гумилевым. Гюнтер, узнав от нее, что Гумилев хотел бы жениться, услышав где-то пренебрежительный отзыв его о Лиле, поспешит передать ей эти слова. Лиля для объяснения позовет Гумилева в дом подруги своей, Лидии Брюлловой (Ординарная, 18). На Ординарную явится с Гумилевым и Гюнтер. «Они нас ожидали, – пишет он. – На Дмитриевой было темно-зеленое бархатное платье, которое ей шло. Она находилась в состоянии крайнего возбуждения, на лице горели красные пятна. Изящно накрытый стол… тоже ожидал примирения… Но что случилось? С заносчивым видом Гумилев приблизился к обеим дамам. “Мадмуазель, – начал он презрительно, даже не поздоровавшись, – вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся”»[103].
Гумилев, пишет Гюнтер, повернулся к женщинам спиной и ушел. Надо ли говорить, что слова Гумилева мгновенно стали известны Волошину. Волошину – рыцарю, несмотря на всю его мягкость и добродушие. Наконец, Волошину, по-прежнему влюбленному в Лилю. Дальше оставалась только дуэль. Но прежде пистолетных выстрелов, за два дня до них, на весь Петербург прозвучала звонкая пощечина…
Это случилось в Мариинском театре (Театральная пл., 1), под самой крышей его, в огромной, «как площадь», мастерской художника Головина, куда были приглашены «аполлоновцы» для создания коллективного живописного портрета. Все (а были Блок, Анненский, Гюнтер, Кузмин, Маковский, Толстой, Гумилев, Волошин) прогуливались по кругу. И вдруг, когда внизу грянул бас Шаляпина, репетирующего «Фауста», раздался оглушительный звук пощечины. «Я прогуливался с Волошиным, – пишет Алексей Толстой. – Гумилев шел впереди. Волошин казался взволнованным. Поравнявшись с Гумилевым, не произнося ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей ладонью. Сразу побагровела щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили…» Волошин вспоминал потом, что решил дать пощечину «по всем правилам дуэльного искусства», как учил его сам Гумилев, – сильно, кратко и неожиданно. «Ты мне за это ответишь!» – крикнул Волошину Гумилев. Но раньше его слов все услышали слова Анненского: «Достоевский прав. Звук пощечины – действительно мокрый». Дуэль стала не просто возможной – неизбежной…[104]
Но о ней, впрочем, я расскажу у еще одного известного мне дома Волошина. На этот раз – последнего дома поэта в Петербурге.
…А что же Анненский, его призыв к поэтам «выдумывать себя»? Так вот, он, «высокий, прямой старик с головой Дон Кихота», умрет на ступенях Витебского вокзала. «Упал мертвым в запахнутой шубе и с зажатым в руке красным портфельчиком», – напишет его сын Валентин Кривич. Считается, что умер – из-за Черубины. Двенадцать ее стихотворений напечатал в «Аполлоне» влюбленный в нее редактор Маковский. Напечатал – вместо подборки стихов Анненского. Анненский рвет с Маковским, пишет ему письмо: «Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в “Аполлоне”. Жаль, что Вы хотите видеть в моем желании… именно… каприз. У меня находится издатель, и пропустить сезон… мне было бы не с руки…»
И вдруг, после вполне понятной обиды, после резкого письма, Анненский узнает о разоблачении Черубины, о мистификации, шутке и балагане, об изощренной интриге, наконец, о пощечине и дуэли. Какое сердце выдержит это?.. Так «выдумка» жизни, к которой он призывал, победила саму жизнь. Его жизнь. Дуэль двух поэтов, которая, к счастью, окажется бескровной, нечаянным «рикошетом» убьет как раз его – учителя дуэлянтов…
«Только из путаницы и выступит смысл», – сказал Волошин в 1907 году. Тогда, до дуэли, он и был великим «путаником». После поединка все изменилось. Прямой, иногда слишком прямолинейный, поэт вскоре повел другую дуэль – многолетний поединок не с людьми – с крутой властью, с беспощадным государством…
Ленинград, куда наезжал в 1920-е годы, кажется, недолюбливал. Слишком многое было связано для него с этим городом. «Не могу больше выносить Петербурга, – признавался одной знакомой еще до революции. – Литераторов, литературы, журналов, поэтов, редакций, газет, интриг, честолюбий». Всего того не выносил, к чему, включая, увы, даже интриги, оказался причастен и сам.
Останавливался теперь в двух местах, но опять – на Невском. В 1924 году поселится с новой женой, Марией Заболоцкой[105], в доме №59. Я и раньше знал, что он жил здесь в квартире бывшего владельца магазина роялей Карла Бернгарда, но до недавнего времени не понимал: почему именно здесь? При чем здесь какие-то рояли? Кто такой Карл Бернгард? Почему в квартире №1 на первом этаже? Так вот, оказалось, это была не столько квартира, сколько так называемое «депо роялей» – обычный магазин музыкальных инструментов. А женой Карла Бернгарда была Мария Попова – давняя, с детства еще, подруга Заболоцкой. Она и привела сюда Волошина, ибо остановиться тогда в Ленинграде им было больше не у кого. Через три года, приехав на выставку своих акварелей, Волошин найдет крышу над головой уже у своей приятельницы – Лидии Аренс (Невский, 84), почти напротив того самого «депо роялей».
Волошин по-прежнему был не как все. С вызовом расхаживал по городу в каких-то, не по возрасту, коротких штанах и чулках. Голова с «пепельной шапкой кудрей, с округлой рыжевато-седой бородой, торчащей почти горизонтально над мощной, широкой грудью», – он в те дни был похож уже не столько на Зевса, пишет критик Голлербах, сколько на «русского кучера-лихача»[106].
Бернгарды, у которых раньше были и магазин, и фабрика музыкальных инструментов, поселили Волошина с женой в огромной комнате, где все еще стояли черные рояли. «Макс, – вспоминала Заболоцкая про первую ночь в “депо”, – долго не ложился спать, сидел в кресле перед окном, смотрел на Невский. “Отчего ты не ложишься? Ведь поздно”. – “Я не могу, Маруся… Я не могу раздеваться при них”. – “Какие глупости, ложись!" – “Нет, нет, ни за что… Ты представь себе: они стояли в концертных залах, за ними сидели прекрасно одетые люди… Посмотри, какие они строгие и нарядные”»… Так и просидел всю ночь у окна, пишет она. Это не было оригинальничанием. Это было, утверждает Заболоцкая, «живое и моральное отношение к вещам». Но вот вопрос: о чем он думал, глядя на ночной проспект, что вспоминалось ему в ту ночь в городе?..
На Черной речке, на месте дуэли, он, насколько я знаю, в тот приезд не был. Но Черубину, вернее, теперь Елизавету Васильеву, как всегда, посетил. Она жила на Неве (Английская наб., 74, кв. 7). Волошин, уехав после дуэли в Коктебель, забрасывал ее письмами – звал замуж. Подруге ее писал: «Все мои творческие планы связаны уже с нею, с присутствием ее». Но Лиля 31 декабря 1909 года, через месяц после дуэли, в самую новогоднюю ночь, отказала ему. «Я тебя люблю, милый, единственный, – написала, – но не могу сейчас прийти к тебе целиком… У меня нет на это сил. Должно быть, я не умею любить. Я не хочу вполовину, с сомнениями, не хочу недостойной. Потому и не хочу, если б пришла, обманула бы еще глубже…» А через три месяца, 15 марта 1910 года, скажет своему «чудному, плюшевому» Максу еще резче: «Я всегда давала тебе лишь боль, но и ты не давал мне радости. Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов: я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя »…
Она выйдет замуж за Всеволода Васильева, никогда не сможет читать стихов Гумилева (слезы будут сразу же заливать глаза) и только к 1919 году «переживет» – изживет «свое увлечение» Маковским, который к тому времени, конечно, не только не был уже редактором «Аполлона», но с 1917 года вообще находился в эмиграции. Что ж, Макс любил говорить: «Мы отдали – и этим богаты»…
На Английской набережной Черубина жила в последнем угловом доме. В 1924-м работала в ТЮЗе у Брянцева, секретарствовала у Маршака, переводила «Песнь о Роланде», занималась книгой о Миклухо-Маклае (которую напишет-таки). Позади у нее был арест за принадлежность к Антропософскому обществу, впереди ждали еще два, но, в отличие от Волошина, история с дуэлью от лукавства, скажем так, кажется, не отучила ее. Более того, став в 1913 году «гарантом» Антропософского общества в России, она фактически предаст поэта, отказавшись поручиться за него. Благородный Макс простит ее. Он и Гумилеву первым протянет руку, случайно встретив его в Феодосии. Впрочем, из-за привычки все договаривать до конца Волошин, вроде бы извиняясь, снова едва не нарвется с ним на поединок [107]. Ведь «от него всегда было жарко», говорила о Максе Цветаева.
На Черной речке не был, но дуэль, думаю, не мог не вспоминать. В 1921-м, в год смерти Гумилева, в Берлине был опубликован рассказ Алексея Толстого о дуэли.
«На рассвете… наш автомобиль выехал за город, – вспоминал Толстой (он был секундантом). – Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы… За городом нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу… Позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба… Гумилев, спокойный и серьезный… заложив руки в карманы, следил за нашей работой…»
Накануне Гумилев предъявил требование стреляться в пяти шагах, до смерти одного из противников. Он не шутил. Сошлись на пятнадцати шагах.
«Когда я стал отсчитывать шаги, – пишет Толстой, – Гумилев… просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов… и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он бросил на снег. Подбегая к нему я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоящего, расставив ноги, без шапки… Я… в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: “Я приехал драться, а не мириться". Тогда я… начал громко считать: раз, два (Кузмин, не в силах стоять… сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)… три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел… Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: “Я требую, чтобы этот господин стрелял”. В. проговорил в волнении: “У меня была осечка”. – “Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого”… В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. “Я требую третьего выстрела”[108] … Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям…»
Что еще? Стрелялись если и не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то, во всяком случае, современной ей. Еще пишут, что поэт Кузмин, бегая с револьверным ящиком, упал и отшиб себе грудь. А когда история попала в газеты, каждый из участников поединка был оштрафован на 10 рублей. Литературный Петербург, как и раньше, вновь разделился во мнениях. Поведением Волошина возмущались Вячеслав Иванов, Анненский и Ахматова. А восхищались Черубина и Маковский. Последний напишет, что дуэль создала Волошину ореол «рыцаря без страха и упрека».
Вот, пожалуй, и все. Путаницы в жизни Волошина больше не будет, хотя дальнейшая жизнь его – тоже сплошная дуэль, но уже с властью и государством. Он не был, рискну сказать, «над схваткой», как в советские времена утверждали литературоведы, пытаясь спасти поэта для читателей. Нет, объективно он всегда был на стороне противников советской власти. Не зря красная печать будет звать его «потрепанным, бесцветным подголоском», псом, «который в зарубежной печати скулил из подворотни на нашу революцию», «горячим контрреволюционером-монархистом»… Травили – травили поэта до гроба. Но что интересно: Волошин дважды откажется от эмиграции. Первый раз его звал за границу друг, Алексей Толстой. Поэт ответил: «Когда мать больна, дети ее остаются с нею». Второй раз, в 1920 году, когда на Крым шли войска Фрунзе, Волошин опять остался в России, чтобы «спасать людей». Вдохновитель красного террора в Крыму, большевик из Венгрии Бела Кун, поселившись, говорят, в доме Волошина, по какому-то странному капризу стал давать поэту расстрельные списки, «разрешая вычеркивать одного из десяти приговоренных». Числилось в списках и имя Волошина – его вычеркнул сам Бела Кун[109]. А вообще, в те годы Волошин спас Мандельштама (вытащил из тюрьмы белых), помог дровами М.Кудашевой, деньгами – С.Эфрону, займом в банке – умирающему в Ялте Николаю Недоброво. Спас, наконец, поэтессу Кузьмину-Караваеву, ту, которая станет в Париже знаменитой матерью Марией, а потом шагнет в газовую камеру вместо незнакомой девушки.
«Всюду можно было видеть его, – вспоминала Тэффи, – густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям к нужным людям и читал стихи. Читал не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему…» Когда его спрашивали, отвечал – он за революцию, но за революцию духа, и побеждать надо не кого-то, а себя, а вообще, он не за тех и не за других – он за Человека. Бунин скажет потом: Волошин был уверен, что «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли человеческий облик вместе со всеми его грехами, и что всегда надо помнить — «в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел». Даже в убийце. Даже в кретине. В каждом – Серафим.
Спасением для многих – сестер Цветаевых, Эренбурга, Софьи Парнок, для десятков других, менее известных, – был и сам дом Волошина в Коктебеле, мирный остров в океане вражды. Нет-нет, Волошин был настолько не «над схваткой», что осмелился в Кремле самому Каменеву прочесть «контрреволюционные» стихи. «Мрачные стражи деловито накалывают на штыки наши пропуска, – вспоминал этот визит музыковед Л.Сабанеев. – Волошин мешковато представляется и сразу приступает к чтению. Забавно созерцать, “рекомый” глава государства внимательно слушал стихотворные поношения своего режима…» Не просто слушал – хвалил стихи Волошина, как бы не замечая содержания их. Потом эффектно начертал записку в Госиздат, что всецело поддерживает просьбу Волошина об издании стихов. Но стоило поэту уйти, Каменев вызвал по телефону Госиздат и, не стесняясь присутствующих, сказал в трубку: «К вам придет Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения…»[110]
Александр Бенуа, узнав, какие стихи Волошин читал, ахнул: «Как же так? Да вас расстрелять могут!» Волошин с улыбкой возразил: «Нет, ничего! Даже благодарили…»
Черубину Волошин переживет на четыре года – она умрет в ссылке от рака печени. Переписываться будут до последнего дня. К старости, по словам Чуковского, «Волошин стал похож на Карла Маркса… так же преувеличенно учтив, образован, изыскан». Маркс не Маркс, но учтив был и впрямь чрезмерно. Даже коктебельскую кошку Ажину не сгонял – вежливо просил освободить стул. Когда Лидия Аренс удивилась этому, поэт сказал: «Ведь она же женщина»…
Нет, он не был прост. Георгий Шенгели напишет потом, что у Макса «вместо личности – пасхальное яйцо… Откроешь – в нем второе; откроешь второе – в нем третье…». Кто-то пишет, что жил Волошин «всегда в маске» и о настоящей жизни его никто из «Волхоза» («Волошинского Вольного Волшебного Хозяйства», как назовет его коктебельский дом писатель Замятин) даже не догадывался. Может быть, не знаю. Знаю, что посмертная гипсовая маска, которую пытались сделать с него, так и не получилась – ее из-за волос на лице пришлось буквально срезать…
Не был прост. Не признавал электричества, радио, кино. Свободу слова издевательски называл «словами на свободе». И, излучая благодушие и веселость, на деле всерьез задумывался о самоубийстве. Писал в дневнике: «Смерть, исчезновение – не страшны. Но как это будет принято друзьями – эта мысль неприятна. Неприятны и прецеденты (Маяковский, Есенин). Лучше “расстреляться” по примеру Гумилева. Это так просто: написать несколько стихотворений о текущем. О России по существу. Они быстро распространятся в рукописях. Пока ничего и никому об этом не говорить… Но стихи начать писать…» За год до смерти, перенесший инсульт, почти слепой и глухой, живший лишь механическим рисованием морских акварелек, он опять, как в молодости, стоял у барьера – готов был писать стихи, за которые наверняка расстреляют.
…Если будете в Коктебеле, поднимитесь на гору, к могиле поэта под скалой, которая напоминает его профиль. Камень словно спорит с морем, выдвигая вперед волошинскую бороду. Совсем как писала о нем четверть века назад Евгения Герцык: у него была привычка в разговоре «вытягивать вперед подбородок, приближая к собеседнику эту рыжевато-каштановую гущину».
Умирал Волошин тяжело. «Страшно задыхался, – написала Цветаевой в Париж Екатерина Алексеевна Бальмонт. – Припадки астмы учащались… Очень мужественно ждал конца…»
Перед концом спросил дежурившую у постели Аренс: «Скажи, Лида, на какую букву легче дышать?» – и через полчаса сам же и ответил: «На “и”».
Может быть, передышал за полчаса «весь алфавит, а может быть, выбрал гласную, после которой можно подводить итог»…
Я влюблен в мою игру.
Яиграя сам сгораю,
И безумно умираю,
И умру, совсем умру.
Умираю от страданий,
Весь измученный игрой,
Чтобы новою зарей
Вывесть новый рой созданий.
Снова будут небеса, –
Не такие же, как ваши, –
Но опять из полной чаши
Я рассею чудеса.
«Посреди живых людей встречаются порою трупы, бесполезные и никому не нужные… Не всякий труп зарывается в землю, не всякая падаль выбрасывается… Оглядываясь на прошлое, они плачут о нем, бессильно брюзжат на настоящее, ненавидят будущее, где им уже нет места…»
Эти жесткие слова не могут не вызывать внутреннего содрогания. Если это и правда, то какая-то слишком жуткая для нормальной человеческой души. Почти невыносимая. Оглянуться хочется: да где же эти «трупы» – среди живых, кто из них – «мертвецы»?.. А если я скажу, что автора этих слов и самого звали «живым трупом», закрытым, темным, таинственным человеком – «мелким бесом» русской литературы, даже русским маркизом де Садом, то тревожное впечатление от этих слов лишь усилится. Хотя многотомное собрание сочинений его, переизданное только что, – вот оно! – стоит на полках…
Я говорю о Федоре Сологубе. Не просто декаденте – ортодоксе декаданса. Классике упадка и вырождения[111]. Отчаяние, душевная усталость, отвращение к жизни, бегство от нее и тем самым приятие всего низменного в мире – вот что проповедовал Сологуб. А звал либо к наслаждению чистым искусством, либо уж к скорейшему приходу «тихой избавительницы» – смерти. Увы, когда на шестьдесят четвертом году к нему постучится реальная смерть, он, который на каждом углу кричал, что ненавидит «дебелую бабищу Жизнь», вдруг заплачет и, заливаясь слезами, будет жаловался неизвестно кому и упрекать непонятно кого. «Умирать надо? – заскулит – Гнусность!.. Зачем? За что? Как смеют?» И словно молитву будет твердить: «Дай мне жизни еще хоть немного, чтоб я новые песни сложил!..»
Я шел по адресу этого дома, не зная, что найду там – на углу 7-й линии. Представьте – здание цело. И если раньше, в начале прошлого века, здесь было Андреевское народное училище, то ныне – детский сад. Жаль, не сохранился дворовый флигель, где когда-то сходились у Сологуба те, кто составит славу русской литературы: Блок и Гиппиус, Бальмонт и Брюсов, Куприн и Зайцев, Кузмин и Вячеслав Иванов. Это не считая тех, кто был тогда гораздо известнее их. Не поверите, но даже Блока, издавшего уже книгу стихов, более «солидные» тогда поэты Шуф, Вентцель, Уманов-Каплуновский, Рафалович, Мейснер, Коринфский – и сколько еще! – снисходительно величали «сумасбродным декадентом» и наотрез не хотели принимать в «свой круг»…
Здесь, в Андреевском училище, восемь лет служил учителем-инспектором и жил в казенной квартире Федор Кузьмич Тетерников, он же крупнейший поэт XX века Федор Сологуб. Вообще-то фамилия предков его была Тютюнниковы, в Тетерниковых превратятся позже. А псевдоним Федор Сологуб придумал ему полузабытый ныне поэт Н.Минский. То ли в редакции «Северного вестника», то ли в знаменитой гостинице «Пале-Рояль». Придумал наскоро, «по неудачной ассоциации», как напишет Зинаида Гиппиус[112]. Кстати, именно в «Пале-Рояле» Минский и познакомил Сологуба с нею – законодательницей мод в литературе. «Как вам понравилась наша восходящая звезда? – спросил ее Минский, когда Сологуб, торопливо простившись, ушел. – Можно ли вообразить менее “поэтическую” наружность? Лысый, да еще каменный… Подумайте!» – «Нечего и думать, – отрезала Гиппиус. – Отличный: никакой ему другой наружности не надо. И сидит – будто ворожит: или сам заворожен»…
Сологуб Зинаиде Гиппиус несомненно понравился, через несколько лет она вообще назовет его ни много ни мало «одним из лучших русских поэтов и русских прозаиков». И, забегая вперед, скажу: несмотря на свой непростой характер, на резкую нетерпимость, она всегда будет дружить с Сологубом – «кухаркиным сыном».
Вообще Сологуб, если уж точно, был сыном портного и прачки. Вырос в Петербурге[113]. После Учительского института десять лет преподавал математику в провинции. Но в столицу рвался. Институтского наставника В.Латышева забрасывал вопросами: «Нужен ли мне Петербург как средство развития таланта, или никаких талантов у меня нет… Как это определить? Поверить в свои неудачи и сжечь свои труды? Поверить в свои мечты?..» Короче, сначала его возьмут учителем в Рождественское училище (Суворовский пр., 16), а потом он «вырастет» даже до инспектора – как раз в Андреевском училище. Георгий Чулков утверждал, кстати, что Сологуб «был превосходным педагогом».
Но вот странность: он, несмотря на приобщенность к высокой поэзии и тонкие стихи, до конца дней оставался принципиальным сторонником телесных наказаний. То есть порки. Его самого в семье били нещадно. Мать отличалась суровым нравом. В семье в ходу были слова: «плюха», «дура», «хоть бы они все передохли, подлецы». Наказывали будущего поэта розгами, ставили в угол на голые колени, драли за уши. Секли даже за кляксы в тетради. Уже в институте ему было неловко раздеться на медосмотре, ибо спина была исполосована розгами. А последний раз его высекли, когда он был уже учителем, в двадцать два года; всыпали сто ударов по настоянию матери за кражу яблок в чужом саду. Скажете – ужас? Нет, сам он потом написал, что на душе у него сразу стало «спокойно: провинился, да за то и поплатился». Впрочем, на самом деле все в понимании им наказаний было даже сложнее. Он, как пишут, испытывал какое-то мазохистское удовольствие от розог. Сестра его, Ольга, регулярно спрашивая в письмах, секли ли его и сколько, напоминала ему: «Ты пишешь, что маменька тебя часто сечет, но ты сам знаешь, что… когда тебя долго не наказывают розгами, ты бываешь раздражителен и голова болит». А сам Сологуб позже, в статье «О телесных наказаниях», намекает не только о «приливе крови к некоторым органам», но и о невольном удовольствии от наказания. Эта статья, огромная, хотя и не законченная, была написана им в тридцать лет. Исторические параллели, «теория» порки, анализ ощущений – в ней было все. «Нужно, чтобы ребенка везде секли – и в семье, и в школе, и на улице, и в гостях… – писал он. – Дома их должны пороть родители, старшие братья и сестры, няньки, гувернеры, домашние учителя и даже гости. В школе… учителя, священник… сторожа, товарищи… В гостях за малость пусть его порют, как своего. На улицах надо снабдить розгами городовых: они тогда не будут без дела»…
Такая вот педагогика! Хотя ненависти к своим ученикам, кажется, не испытывал никогда. «Чувствовалась в нем затаенная нежность, которой он стыдился, – вспоминает З.Гиппиус. – Вот… прорвалось у него как-то о школьниках, его учениках: “Поднимают лапки, замазанные чернилами”… Да, нежность души своей он прятал. Он хотел быть демоничным». Может, это ответ? Может, «демонизма» ради он скоро то ли в шутку, то ли всерьез захочет публично выпороть и ту, которая вот-вот станет его женой?..
Все в нем, в этом «подвальном Шопенгауэре», было странным и противоречивым. Лирический поэт и… автор учебника по геометрии; радушный хозяин и… «кирпич в сюртуке», по словам Василия Розанова, гуляющий «каменным шагом» с «Критикой чистого разума» под мышкой. Наконец, человек, написавший душный, но сделавший его известным роман «Мелкий бес», где фактически обличал мещанство, и сам (во всяком случае, когда жил в доме на 7-й линии) просто «купавшийся» именно в мещанстве. Классическом, образцовом, я бы сказал, ритуальном мещанстве…
Квартиру его в Андреевском училище вспоминают многие. Например, визжавшую входную дверь, которая захлопывалась при помощи блока – «в конце веревки ездила вверх и вниз бутылка с песком». Художник Добужинский вспоминал обои в цветочек, фикусы в гостиной, чинную мебель в чехлах. Борис Зайцев, молодой тогда писатель, наезжавший из Москвы, пишет о рододендронах, столовой с висячей неяркой лампой, разноцветных лампадках в углах, кисловато-сладком запахе везде и «тусклой хозяйке» дома (сестре Сологуба Ольге). А в маленьком темном кабинете на простом столе лежали грудой рукописи и смотрело из темной рамки женское лицо, красивое и умное. Лицо Зинаиды Гиппиус – жены Дмитрия Мережковского. Видимо, была для учителя-анахорета и авторитетом, и образцом.
Сестра Сологуба, «плоскогрудая, чахоточная старая дева, – как отзовется о ней Тэффи, – брата обожала и побаивалась, говорила о нем шепотом». Ольга зарабатывала шитьем, хотя окончила повивальный институт. Когда, переехав из провинции, они поселились еще на Щербаковом (Щербаков пер., 7), там, на дверях их квартирки, висела именно ее табличка: «Акушерка Тетерникова». Это мимоходом отметит в дневнике Брюсов, в ту пору забежавший к поэту в один из приездов в Петербург. Ольга секретничала с Тэффи: «Хотелось мне как-нибудь проехаться на империяле, да “мой” не позволяет. Это, говорит, для дамы неприлично…» Увы, после смерти горячо любимой сестры[114] (а умрет она в 1907 году) все в жизни Сологуба изменится кардинально. Во-первых, в это именно время его станут выгонять из училища и требовать освободить квартиру. Кажется, тогда и бросит учительствовать. А во-вторых, после смерти Ольги сильно изменятся у поэта и представления о том, что для женщины прилично и неприлично. Вообще – что прилично и неприлично! Ибо чудачеств этот «кирпич в сюртуке» совершит немало…
Хозяином Сологуб был щедрым и приветливым. В квартире на 7-й линии любил ходить вокруг стола и «потчевать» гостей: «Вот это яблочко коробовка, а вот там анисовка… А это пастила рябиновая». Смущал лишь «загробный голос» его, когда приговаривал поминутно: «Кушайте, господа! Прошу вас, кушайте!..» Выглядел, как утверждают, лет на двадцать старше. «Лицо у него было бледное, безбровое, около носа бородавка, жиденькая бородка, – писала Тэффи. – Он никогда не смеялся». Бородавка, которую поминают едва ли не все, портила его. Даже Сомов, художник, рисуя Сологуба, бородавку эту старательно затушевал. А поэт К.Фофанов, кем Сологуб восхищался всю свою жизнь, тот однажды попросту предложил ему вырвать ее «к чертовой матери», когда, подвыпив, они выходили как-то из редакции «Наблюдателя» – на углу Колокольной и Николаевской (ул. Марата, 19/18). «Знаешь, тебя очень бородавка портит, дай-ка я ее у тебя вырву…» «Ну и вправду начал вырывать», – рассказывал Сологуб, но бородавка сидела крепко, а руки у Фофанова дрожали, никак захватить ее не мог. И Фофанов отступился: «Ничего не поделаешь»…
Что еще? Как всякий бедный учитель, Сологуб любил рестораны, и его часто можно было видеть то в кафешантане «Аполло» (Фонтанка, 13), где они с Чулковым и Блоком распивали бутылочку-другую, то в ресторане «Кин» (Фонарный пер., 9) в той же компании. Любил слегка «подворовывать» в литературе, даже сам признавался в плагиате. Та же Тэффи говорила, что он переделал (фактически украл) ее стихотворение «Пчелка». Когда она упрекнула его в заимствовании, услышала в ответ: это «нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет». Вряд ли она преувеличивает, ибо на старости лет он сказал: «Я когда что-нибудь воровал – никогда печатно не указывал источников… И забавно… меня не могли уличить в плагиате». Нет, разумеется, он не переписывал чужих книг, но все равно это, конечно, был плагиат[115]. А еще, если верить мемуарам, никогда не говорил о житейском. Впрочем, и о нежитейском говорил мало. На уже знакомой нам «Башне» Вяч. Иванова, где, по одной из версий, он и встретится с будущей женой Анастасией Чеботаревской[116], после чтения Брюсовым стихов о «тайнах загробного мира» Сологуба спросят: «Ну а вы, Федор Кузьмич, почему не скажете своего мнения? Ведь какая тема – загробный мир». – «Не имею опыта», – глухо отрежет он…
Считается, что познакомился с Настичкой, как я уже сказал, на «Башне», но по версии Чулкова – Сологуб встретился впервые с Чеботаревской в одном из ресторанов на Невском. Осенью 1908 года поэты повально увлеклись писанием каламбуров, и Сологуб шутя предложил основать соответствующее общество. В «отцы-основатели» пригласил Блока, Эрберга и как раз Чулкова. Как-то утром, вспоминал Чулков, Сологуб «пресерьезно объявил, что необходимо петербургским “каламбуристам” сняться у знаменитого фотографа Здобнова». Вызвали Блока и Эрберга и отправились на Невский. Потом – завтракать. Выяснилось, что ни один из них уже «не склонен» работать в этот день. Пошли в другой ресторан – обедать. И вот туда-то пригласили знакомых дам, в том числе и Чеботаревскую. Чулков пишет: «Кажется, в тот же вечер определилась судьба ее и Федора Кузьмича».
Но Невский в их судьбах свою роль сыграет. Даже не сам Невский – два соседних дома на нем. В первом из них (Невский, 42), в каком-то кафе, собрались однажды Сологуб, Блок, Чеботаревская, поэтесса Вилькина, Чулков и – извиняюсь – какая-то проститутка, «новая подруга Блока», как заметит на ее счет Георгий Чулков. Людмилу Вилькину как раз и заманили в кафе именно проституткой, которую та хотела видеть. Вилькина сначала не решалась дотронуться до ее стакана – боялась заразиться, потом, напротив, начала вдруг целовать ее, прямо–таки влюбилась в нее. Навеселе всей компанией отправились в меблированные комнаты. Там Вилькина упала на большую кровать и закричала: «Я лежала, я лежала на этой кровати. Засвидетельствуйте все, что я лежала». Ей, видимо, казалось, что она чуть ли не оказалась в «шкуре» падшей женщины. «Затем, – пишет Чулков, – нас разделили. Сологуб потребовал: чтобы получить долг с Чеботаревской, он должен был ее высечь. Мы с Вилькиной бежали в ужасе от этого разврата…» Высечь тридцатитрехлетнюю женщину! Каково! Впрочем, и по сей день неизвестно: какой именно долг был за Чеботаревской, состоялась скандальная экзекуция или это была всего лишь пикантная шутка загулявшего поэта?
Точно известно другое. Через три месяца Сологуб и Чеботаревская стали встречаться постоянно. И представьте, встречались в соседнем с тем кафе доме (Невский, 40) – в «Кафе де Франс», прямо над книжным магазином Суворина. В письме от 3 июля 1908 года Сологуб зовет Чеботаревскую туда, напоминая: «где мы пили оршад». И называет Анастасией Николаевной. А уже в следующем послании, чуть ли не на другой день, анахорет и «кирпич в сюртуке» неузнаваем – величает Чеботаревскую «милая Настичка», а заканчивает письмо и вовсе легкомысленно: «Целую все и еще что-нибудь…»
Перевернулась его жизнь с приходом «милой Настички». А вот как «перевернулась» – об этом в следующей главе.
«Писатель должен быть самолюбив, – говорил Сологуб, – должен… Только многие это скрывают. И я – тоже. Но в глубине души я всегда недоволен и неудовлетворен. Какие бы хорошие статьи обо мне ни писали – я недоволен, если меня считают ниже Шекспира»…
Это сказано без всякой иронии: вот так – не ниже самого Шекспира. Шекспиру он подражал еще в Учительском институте, где его с насмешкой стали звать «поэт» и говорили: «Читает Шекспира: прочтет и подражает»… Шекспир был «пунктиком» поэта. Он даже за три года до смерти с горькой иронией пошутил: «Как ни пиши, а лучше Шекспира не напишешь. Писать же хуже, чем он, нет смысла. Что же делать? Ложись да помирай…»
Вот здесь, на улице Широкой, 19, известной ныне как улица Ленина, началась когда-то вторая, новая, блестящая жизнь Федора Сологуба. Друзья, знакомые, современники, даже литературоведы ныне делят его жизнь на два периода: до и после женитьбы. Женой же сорокачетырехлетнего поэта стала в 1908-м тридцатитрехлетняя писательница, переводчица Анастасия Чеботаревская. Ходасевич утверждал, что она двоюродная сестра Луначарского. Не знаю, так ли, но быт поэта она, по словам Тэффи, «перекроила по-ненужному». То есть «по-нужному» для нее, Настички.
«Быть вдвоем – быть рабом», – любил повторять Сологуб, до Чеботаревской стойкий холостяк. Теперь в жизнь писателя-анахорета вошли цветы, премьеры, ужины на много персон, балы и даже домашние маскарады. Настоящий «салон Сологуба». Добужинский пишет, правда, что сначала они поселились и первый салон устроили где-то на Преображенской (ул. Радищева). Но где они жили тогда – пока, увы, не знаю.
Чеботаревская часто говорила Сологубу: «Отчего мы не встретились раньше!» И любила сравнивать себя и мужа со «слепыми бабочками». Он же, в письмах называвший ее «милая плакса», «дерзилочка», теперь стал звать ее странным словом «Малим»: «В небе ангелы сложили // Имя сладкое Малим // И вокруг него курили // Ароматом неземным…» Ему, кажется, нравилось быть ее рабом, ведь с приходом ее «грубая и бедная» жизнь поэта не могла не превратиться, как она хотела, в «сладостную легенду», а неказистое жилище его – в изящный салон. Сестра Чеботаревской Ольга, впервые посетив Настю в этом жилище, писала: «Очень занята своим устройством и хозяйством, с Сологубом простой, дружеский тон… Настя, конечно, его обрабатывает в своем стиле, заставляет продавать старомодную красную бархатную мебель и покупать новую ампир, вие-роз… но он всеми силами держится и борется за это свое старье…» А жена Алексея Толстого Софья Дымшиц вспоминала о Чеботаревской как о «хозяйке, окружавшей смешным и бестактным культом почитания своего супруга, который медленно и торжественно двигался среди гостей, подобный самому Будде».
Александр Блок, получая теперь приглашения на вечера Сологуба в этот дом, а потом, после переезда Сологубов, и в дом на Гродненском (Гродненский пер., 11), писал: «Я не знал, куда от них спастись». Но доподлинно известно – ходил! Более того, двадцативосьмилетний Блок чувствовал себя здесь столь непринужденно, что однажды затеял даже натуральную борьбу «Боролся с разными людьми, с Дымовым, который уложил его на обе лопатки; это была не симуляция, а подлинное единоборство, которому оба предавались прямо-таки со страстью…»[117]
На Широкой улице, в бывшей квартире Сологубов на втором этаже, ныне типичная коммуналка, жильцы ее даже не подозревают, что за страсти бушевали в их стенах. Тэффи вспоминала: «Была взята большая квартира, повешены розовые шторы, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников. “Не кабинет, а ледник”», – сострил кто-то. «Мебель в стиле модерн, – с немецкой педантичностью перечисляет литератор и коллекционер Ф.Фидлер, – три окна с красными занавесками, рояль штутгардской фирмы “Липп”, маленькие живые пальмы». Сологуб сбрил усы и бороду и стал напоминать римлянина времен упадка. И почему-то его стали теперь посещать не только поэты – антрепренеры, импресарио, репортеры, «кинематографщики». Изысканные художники встречались здесь с политическими деятелями, маленькие эстрадные актрисы – с философами. Пестрота, пишут, была забавная. Когда же собирались поэты, Сологуб, как и прежде, заставлял их читать стихи по кругу. Потом по второму разу, потом по третьему. Когда кто-нибудь говорил, что у него нет третьего стихотворения, Сологуб упорствовал: «А вы поищете в кармане, найдется…» Тэффи однажды в качестве третьего стихотворения прочитала пушкинское «Заклинание». «Никто не слушал. Только Бальмонт при словах “Я жду Лейлы” чуть шевельнул бровями, – пишет она. – Но когда я уходила, Сологуб промямлил в дверях: “Да, да, Пушкин писал хорошие стихи”…» Пушкин – не Шекспир, не потому ли в другой раз, как писала уже Ахматова, он, напротив, «наскочил» вдруг на Пушкина – сказал: «Этот негр, который кидался на русских женщин!..» Спорить с ним умела лишь Оленька Судейкина, в которую Сологуб перманентно был влюблен. «У вас тоже так сказано!» – кокетливо напирала на него, и Сологуб умолкал: «Ну, что ж, и у меня бывают промахи»…
Теперь повести и рассказы свои Сологуб писал вдвоем с женой, хотя поначалу и скрывал это от общественности. «Так не чувствовалось в них даже дыхания Сологуба, что многие, в том числе и я, – вспоминала Тэффи, – решили, что пишет их одна Чеботаревская. Догадка подтвердилась»[118]. Говорят, что, презирая критиков, поднимавших «шум и бум» по поводу новых, небрежно набросанных «пустяков», он и решил, что довольно с них будет и Чеботаревской. Всем была известна его фраза: «Что мне еще придумать? Лысину позолотить, что ли?..»
Чеботаревская, успевшая до брака пожить за границей, поработать в журналах, по словам Игоря Северянина, стала делить людей на «приемлемых» и «отторгнутых». Следила, зло помнила газеты, где хоть чуточку неодобрительно отозвались о ее муже. «В своем богогворении Сологуба, сделав его волшбящее имя для себя культом, со всею прямотою и честностью своей натуры она оберегала и дорогого ей человека, и несравнимое имя его, – пишет Северянин. – Всю жизнь, несмотря на врожденную свою кокетливость, склонность к легкому флирту и болезненную эксцессность, она оставалась безукоризненно верной ему. “Поверьте, – говорила, – я никогда и ни при каких обстоятельствах не могла бы изменить Федору Кузьмичу”».
Северянин поверил, но мы, зная уже невнятную «проговорку» Ахматовой, что Чеботаревская убила себя из-за какой-то любовной истории и что в смерти ее как-то виноват поэт Кузмин, верить поостережемся. Впрочем, Сологуб, не подозревая ни о чем, платил ей верностью не на словах. И если на «вакхических вечерах», в кругу ближайших друзей он и «истомлял» себя какой-нибудь «утонченкой», то дальше «неги», уверял Северянин, дело не шло. А в такой «неге», по мнению Сологуба, измены не было, да и быть не могло…
Вообще о Чеботаревской чаще вспоминали нехорошо. Говорили, что она создавала вокруг мужа «атмосферу беспокойную и напряженную». Язвительный Георгий Иванов подчеркивал в Чеботаревской именно нервное беспокойство. «О чем? О всем. Во время процесса Бейлиса, в обществе безразличном, хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми серыми глазами, спрашивала: “Слушайте. Неужели его осудят? Неужели посмеют?”… Беспокоилась и по пустякам. С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела повсюду мнимых врагов. “Враги” – естественно – стремились насолить. Подставить ножку Сологубу, которого она обожала. Донести в полицию (о чем? Ах, мало ли что может придумать враг!). И ей казалось, что новый рыжий дворник – сыщик, специально присланный следить за Сологубом. X из почтенного журнала – злобный маниак, только и думающий, как разочаровать читателя в Сологубе. И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды “с вибрионами” нарочно, нарочно…» Да, «милая Настечка» и покончит с собой, по мнению некоторых, не из-за «циркулярного психоза», как установлено ныне, а именно из-за боязни, что и мужа ее расстреляют, как расстреляли Гумилева[119].
Поэтов молодых Сологуб, став мэтром, не жаловал. «Ободрять молодых?.. – переспрашивал Ф.Фидлера. – Да их надо истреблять, наглецов!» А когда из Москвы приехал какой-то присяжный поверенный, Сологуб издевался над его стихами весь вечер. «Ну а теперь, – объявлял, – присяжный поверенный прочтет нам свои стихи». Или: «Вот какие стихи пишут присяжные поверенные».
Вспоминал о своем знакомстве с Сологубом и Георгий Иванов, семнадцатилетний юноша: «Он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь. Зубы мои слегка щелкнули – такой “холодок” от него распространялся… “Я не читал ваших стихов. Но… лучше бросьте… – сказал ему Сологуб. – Они никому не нужны…” А влюбленному в Сологуба Мандельштаму вообще отказал в разговоре о его первой публикации. Мандельштам, напечатавшись в «Аполлоне», позвонил Сологубу, желая приехать к нему. «Зачем это?» – спросил Сологуб. «Чтобы прочесть стихи». – «Я их уже читал». – «И услышать ваше мнение…». – «Я не имею о них мнения», – отрезал Сологуб. Потом, через какое-то время, стало известно, что мнение о Мандельштаме он, конечно, имеет, и – не очень лестное. Назвал поэта – «поэтессой».
Поэтов молодых не жаловал, зато обожал молодых и красивых женщин. Когда Евреинов и Фокин поставили пьесу Сологуба «Ночные пляски» (а случилось это впервые в Юсуповском дворце (Литейный, 42), где Феликс Юсупов, будущий убийца Распутина, разрешил устроить кабаре «Лукоморье» и театр), в ней должны были танцевать двенадцать полуобнаженных королевен-босоножек. Эта первая постановка, пишут, была невероятно оригинальна – даже для капризных столичных театралов. В ней вместо актеров были заняты поэты, их жены, известные художники, драматурги. Актерствовали в спектакле Сергей Городецкий и его жена Нимфа, короля Басурманского играл Алексей Толстой, короля Зельтерского – Николай Гумилев. Заняты в спектакле в качестве актеров были и художники Билибин, Бакст, Кустодиев. Одну из двенадцати полуобнаженных босоножек сыграла Олечка Судейкина. Ей Сологуб посвятил четверостишие, которое сочинил с ходу: «Оля, Оля, Оля, Оленька, // Не читай неприличных книг. //А лучше ходи совсем голенькая // И целуйся каждый миг!..» Сологуб поставит ее в пример другой петербургской красавице, Наталье Крандиевской, поэтессе, которой также предложит принять участие в «Ночных плясках», но уже в другой постановке – Мейерхольда. «Не будьте буржуазкой, – посмеивался над ней, – вам, как и всякой молодой женщине, хочется быть голой. Не отрицайте. Хочется плясать босой. Берите пример с Олечки Судейкиной. Она – вакханка. Она пляшет босая. И это прекрасно…»
Кажется, красавица Крандиевская, в которую уже влюблялись и Бунин, и Бальмонт, не согласилась. Но через несколько лет она еще вспомнит Сологуба, когда тот буквально выживет из города Алексея Толстого, чьей женой к тому времени она станет. Впрочем, скандал, из-за которого Толстым придется уехать в Москву, случится уже на другой квартире Сологуба, у которой мы встретимся в следующей главе.
Итак, женитьба разделила жизнь Сологуба на две половины. Но теперь, несмотря на всю веселость и беспечность его «салона», жизнь поэта стала все больше напоминать как бы постепенно натягиваемую струну. Она еще звенела, даже пела, но напряжение ее нарастало…
Да, в угловом доме на Разъезжей, куда Сологубы переехали, кажется, в 1910 году, как и раньше, что ни вечер, ярко вспыхивали окна, за которыми собирался весь литературный и художественный мир города. Но однажды этот мир раскололся надвое – за и против Сологуба. Из-за чего? Из-за обезьяньего хвоста. Настоящего хвоста от шкурки настоящей обезьяны… Знаменитая и, как выразилась одна посетительница салона, «громыхательная» история! Даже Блок уже спустя время, читая у Чулкова свои стихи, вдруг неожиданно запнулся – там, где сравнивал героиню стихотворения с кометой, покраснел и по-детски смешливо фыркнул: «Не могу дальше – дальше у меня о хвосте». В стихах речь шла о хвосте кометы, но Блок вспомнил о хвосте другом…
Вообще сюда, к Сологубам, кто только не приходил! Ахматова вспоминала: «Когда в 15-м году Вячеслав Иванов приехал в Петербург, он был у Сологубов на Разъезжей. Необычайно парадный вечер и великолепный ужин. В гостиной подошел ко мне Мандельштам и сказал: “Мне кажется, что один мэтр – это зрелище величественное, а два – немного смешное”…» Бывали здесь и Блок, и Бальмонт, и Сомов, и Зелинский, и Тэффи… Почти не вылезал отсюда Северянин (не вылезал из какой-то «турецкой комнаты», где убалтывал понравившихся ему актрис до «бессловесных поцелуев»). Северянина чуть не за ручку ввел в поэзию именно Сологуб[120]. Превзойдя ненадолго в славе своего учителя, даже поссорившись с ним на какое-то время, Северянин тем не менее до старости не забудет, кто решил «выдвинуть» его «из мрака неизвестности», а главное – кто написал когда-то предисловие к его первому сборнику, больше похожее, по его словам, «на стихотворение в прозе».
«Около часа ночи подавался ужин, на много кувертов сервированный, всегда очень нарядный и тонкий, – вспоминал собрания здесь Северянин. – Сологуб собственноручно подливал… в быстро пустеющие бокалы… Любил… произносить спичи… В сером своем, излюбленного мышиного цвета, костюмчике он вставал с места, терпеливо и чуть усмешливо выжидая момент, когда стол, разгоряченный темами вина и вином тем, стихнет… Гости заранее предвкушали жгучее наслажденье. С бокалом в руке он начинал спич, и вскоре весь стол прыскал от неудержимого смеха или конфузливо опускал глаза». Особенно памятен был спич, намекавший на романтическую историю, приключившуюся с известной общественной деятельницей. Из-за нее один любовник этой дамы выстрелил в другого и ранил того в руку. Об этом знал, разумеется, весь город. По злой иронии, пишет Северянин, любовники носили «городские» фамилии. Один – города отечественного, скажем Грубешева, другой – немецкого, назовем его хотя бы Кенигсбергом. Вот Сологуб под конец вечера и стал укорять виновницу стрельбы в отсутствии… патриотизма. Не стыдно ли было, бесстрастно вопрошал он ее, во время войны с Германией ездить уважаемой гражданке из русского города Грубешева в неприятельский Кенигсберг?.. О, он так развил этот нехитрый сюжет, что эффект превзошел ожидания. В гомерическом хохоте корчилась не только вся столовая, но и сама «малиново переконфуженная» пострадавшая, кстати сказать, женщина весьма остроумная и ядовитая. Смелость этого тоста граничила с дерзостью, свидетельствует Северянин, «и только Сологубу можно было простить» его…[121]
Шутил рискованно, иногда тонко, иногда не очень. Сологуб любил вдруг сказать: «Сегодня будет скандал!» «Почему? Как? С чего бы?» – вздрагивали гости. «А это такая теорема, – хитро щурился поэт-математик, – “Где люди, там скандал”. Обратная: “Где скандал, там люди”. Противоположенная: “Где нет людей, нет скандала”. Обратная противоположенной: “Где нет скандала, нет людей”». Но остроумней была другая «теорема»: «Где люди, там водка». Наконец, была еще одна, повторяющаяся на «интимных» вечерах, шутка Сологуба. Он любил неожиданно для всех вдруг выключать электричество. Стоило гостям после ужина перейти в зал и с коньяком и ликерами развалиться на диванах, а то и просто на диванных подушках, разбросанных по полу, как свет неожиданно гас. Наступала нервно посмеивающаяся, истомно вздыхающая, «мягко поцелуйная» тишина. А когда хозяин внезапно поворачивал выключатель, то вспыхнувший свет «заставал каждого в позах, могущих возникнуть только без света»… Кому-то нравилось это, а кто-то, как молодой и горячий Пришвин, с порога отвергал посиделки на Разъезжей: «Салон Сологуба – величайшая пошлость, самоговорящая, резонирующая мертвая маска…»[122]
Наконец, именно в этом доме случилась история, из-за которой Сологуб буквально выжил из города совсем не слабенького и довольно известного уже Алексея Толстого. Произошло это как раз из-за обезьяньего хвоста. Актриса Лидия Рындина писала: «Я заметила, что некоторые лица, составлявшие раньше общество Сологубов, у них теперь не бывают. Чеботаревская сказала: “Не хочу их видеть”». Оказывается, литераторы устроили очередной маскарад у Сологубов. Писатель Ремизов накануне сказал: «Мне бы только дали обезьяний хвост, вот я и буду обезьяна». Сологубы же как раз одолжили у своих знакомых две драгоценные обезьяньи шкурки. Алексей Толстой, большой любитель всяческих проказ, не смущаясь, отодрал у шкурок хвосты и один хвост прицепил Ремизову. Дело в том, что Ремизов, «фантасмагорист с колдовской прослойкой», как назвал его писатель Борис Зайцев, задолго до раскола у Сологуба «сочинил» некое шутовское общество – «Обезьянья Великая и Вольная Палата». «В палату, – пишет К.Федин, – выборы производил сам Ремизов, носивший звание “старшего канцеляриуса”, в то время как сочлены величались кавалерами, князьями, епископами и другими титулами, иногда лестными, иногда позорящими, вроде “великого гнида”». Пушкинист Щеголев звался «старейшим князем», беллетрист Шишков – «князем Бежецким и Сибирским». Палата, надо заметить, не устраивала собраний, существовала только в фантазии ее «канцеляриуса». Кавалерами Обезьяньего ордена были Бенуа, Сомов, Бердяев, Булгаков, Добужинский… Да что перечислять, Ахматова, уезжая в Москву в голодные годы, взяла свою «обезьянью грамоту», чтобы продать в случае нужды. Короче, «всешутейский собор» был создан, не хватало малого – хвоста обезьяны.
Кражу хвоста в доме Сологуба, причину вспыхнувшей междоусобицы, вспоминают по-разному. Чулков, например, пишет, что Ремизов потребовал для костюма не хвост, а обезьянью шкурку. Чеботаревская достала ее, но дала с предупреждением, что с ней надо обращаться бережно. «Представьте себе ее ужас, – пишет Чулков, – когда любитель шуток явился на вечер в своем обычном пиджаке, из-под которого торчал обезьяний хвост… Скандал. Сам хитрец вышел сух из воды. Но вокруг “хвоста" разыгрались страсти. Полетели письма с взаимными оскорблениями. Мужья заступались за жен».
Словом, Сологуб обиделся на Толстого и даже потребовал от Чулкова не принимать его. Более того, как утверждает уже Оцуп, он во всех журналах заявлял, что не станет «работать» с Толстым. «Если Сологуба приглашали куда-нибудь, он требовал, чтобы туда не был приглашен “этот господин”». Толстой, еще не всесильный «литературный генерал», не смог бороться с мэтром и покинул Петроград [123]. Знали бы они, что судьба над ними еще посмеется! Последние годы жизни они проживут в Ленинграде не только на одной улице – в одном доме, в одном подъезде. Только Толстой будет бронзовеющим на глазах воспевателем нового режима, а Сологуб – умирающим и вычеркнутым властями из жизни писателем…
Но судьба уготовит Сологубу не только это. Отсюда, с Разъезжей, он пойдет выступать как-то на вечер поэтов, который в 1915 году устроят в зале городской думы (Невский, 33/1), где его, мэтра, слушали рассеянно и без интереса, хотя волнение в зале нарастало, пишет Николай Оцуп. «…“Ну, кончай же скорее, старый черт”, – бормотал какой-то лохматый студент… “Скоро ли начнет наш божественный?” – доносился… шепот какой-то девицы. Потом в задних рядах кто-то крикнул: “Северянина!” Крик был подхвачен. Стало ясно, почему так много слушателей у Сологуба: в программе значился и Северянин…» Ну разве подобные обиды от ученика можно забыть тому, кто считал себя выше Шекспира?! Может, тогда и высказал Сологуб парадоксальную мысль свою: «Никогда не доверяйте симпатичным людям. Надо доверять только несимпатичным…» И не потому ли скоро признается друзьям: «Моя усталость выше гор…»?
«Хотел бы дневник вести, – скажет как-то Блоку. – Настоящий дневник. Но боюсь. Вдруг случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно – не успею сжечь. А знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль – вдруг прочтут, и не могу.
О самом главном – не могу». – «О самом главном?» – переспросит Блок.
«Да, – ответит Сологуб, подумав. – О страхе перед жизнью…»
Вот эта последняя фраза его многое в нем объясняет…
С годами Сологуб стал похож на «Овидия в снегах». Так романтично назвал поэта Всеволод Рождественский. Он и был как Овидий в изгнании, только в изгнании внутри своей страны.
Революцию встретил выжидательно. «Он приглядывался, – пишет Надежда Тэффи, – хотел понять и не понимал. “Кажется, в их идеях есть что-то гуманное, – говорил он, вспоминая свою униженную юность и сознавая себя «сыном» трудящегося народа. – Но нельзя жить с ними, все-таки нельзя!..”» Тэффи в одну из последних своих петербургских зим встречала с ним вместе Новый год. «Что вам пожелать?» – спросила его Тэффи. «Чтобы все осталось, как сейчас. Чтобы ничего не изменилось»…
Увы, после революции изменилось все. Та же Тэффи скоро, очень скоро получит в Париже записку от Сологуба. На обрывке, сложенном как гимназическая шпаргалка, спешными сокращенными словами было набросано: «Умол. помочь похлопоч. визу погибаем. Будьте другом добр, как были всегда. Сол. Чебот.». Надо ли расшифровывать эту записку?
Известно, в 1916 году Сологуб переедет жить на 9-ю линию (9-я линия, 44). А через год, после революции уже, поселится через улицу напротив – на 10-й линии, в угловом доме №5/37. Но между этими домами не улица, даже не пропасть – эпоха. Там, на 9-й линии, – слава крупнейшего поэта России, а тут – старичок с тряпкой, обмотанной вокруг шеи, тянущий на салазках гнилые шпалы – дрова для печки[124]. Там он был центром культурной элиты, а здесь его под утро лишь по счастливой случайности не арестовывает чекист. Наконец, там, на 9-й, он любящий и боготворимый муж, а здесь – вдовец, трагически потерявший жену и в одночасье оставшийся один на белом свете…
Да, Сологуб будет забыт на восемь десятилетий. Несмотря на то, что в последние годы жизни, уже при советской власти, был выбран председателем Ленинградского отделения Союза писателей. Несмотря на то что перед смертью скажет Корнею Чуковскому: «У меня ненапечатанных стихов – 1234». – «Строк?» – «Нет, стихотворений… У меня еще не все зарегистрировано…» Неактуальным он станет, скажет друг Сологуба Иванов-Разумник и обвинит во всем «тупоголовых»: «Ужасные стихи Уткиных, Алтаузенов, Светловых – печатались; замечательные стихи Сологуба – складывались им в стол…»
«Тупоголовыми» Сологуб называл большевиков и спорил с Ивановым-Разумником: сколько, интересно, продержатся они – триста лет, как татары, или все–таки двести? Хотя и это не вся правда. Еще недавно, до революции, Сологуб каждый год устраивал благотворительные вечера в пользу, представьте, «ссыльных большевиков». На такие вечера помогал созывать богачей, шальных миллионеров – сам Митька Рубинштейн, главный из них, бывал. Жалел, жалел Сологуб «ссыльных большевиков», которые никого скоро не пожалеют! И его в том числе!..
В доме на 10-й линии в кабинете поэта висело восемь больших полок с его изданными книгами. Был немыслимо плодовит; однажды признался, что за день написал 43 стихотворения. На окнах кабинета стояли цветы в горшках, вокруг стола под белоснежной скатертью – кресла с гнутыми ручками, в простенке на специальной подставке – мраморный бюст самого хозяина, может, и впрямь напоминавший Овидия в изгнании. Отсюда Сологуб «в хорошую погоду выходил гулять на Неву, до часовни у Николаевского моста, и по солнечной стороне обратно». Так пишет Георгий Иванов. Впрочем, и нехорошую питерскую погоду обожал. Любому, кто жаловался на климат, немедленно задавал вопрос: «А сами вы где родились?» И, узнав, что на юге или в средней полосе, произносил: «Я так отлично себя здесь чувствую, и дождик для меня одно удовольствие…» А вечером в этом кабинете, под уютной зеленой лампой, писал «бержеретты» во вкусе XVIII века или переводил Готье и Верлена.
К новым властям внешне был лоялен, более того, в Союзе писателей выбирался председателем секции переводчиков (1924 г.), потом – секции детской литературы (1925 г.), а перед смертью (с конца 1926 г.), как я уже говорил, вообще возглавил Ленинградское отделение Всероссийского Союза писателей. Защищал писателей, искренне и много помогал Ахматовой, пикировался на заседаниях с «непроходимыми дураками», с главным своим врагом по правлению – Акимом Волынским, тем, кто считал себя автором его псевдонима. И ждал «чуда» – свержения ненавистной власти. Так же точно, как сразу после революции, при первых признаках голода, ожидал лета, чтобы уехать в деревню, где у него была, вообразите, корова. Видел в этой корове «спасение» от всего, писал Оцуп, – и сытую жизнь, и, главное, если продать ее, – дорогостоящие заграничные паспорта для себя и жены.
Уже с 1919 года все усилия Сологуба были направлены на то, чтобы уехать за границу. В прошении, написанном тогда же в «красное правительство», поэт взывал к власти: «Убедительно прошу Совет Народных Комиссаров дать мне и жене моей… разрешение при первой же возможности выехать за границу для лечения… В течение последних двух лет я подвергся ряду грубых, незаслуженных и оскорбительных притеснений, как, например: выселение как из городской квартиры, так и с дачи, арендуемой мною под Костромой… лишение меня 65-рублевой учительской пенсии; конфискование моих трудовых взносов по страховке на дожитие… Кроме четверти фунта хлеба и советского супа, мы ничего не получаем, у меня по всему телу экзема, работать я не могу от слабости и холода». А закончил свое письмо Сологуб и вовсе щемяще: дескать, если и тяжело быть лишним в чужой стране, то во много раз тягостнее «чувствовать себя лишним у себя дома, в стране, милее которой… нет ничего в целом мире». Ответа супруги ждали больше года. И все это время беспокойная Чеботаревская, «блестя глазами», рассказывала каждому встречному на улице, на лекции, в хлебной очереди, пишет Георгий Иванов, что скоро сбудется мечта ее – «вырваться из ада»… «То, что ад в ней самой и никакой Париж с “белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича” ничего не изменит, – не сознавала. Отводила в сторону “друзей”, оглядывалась… шептала: через десять дней…»
Говорят, что в дело получения паспортов вмешивался Троцкий, потом Горький[125]. «Весной 1921 года, – пишет Владислав Ходасевич, – Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. 12 июля 21 г. постановление Политбюро было принято: “Разрешить выезд за границу Ф.Соллогуба”, почему-то с двумя “л” в фамилии».
Луначарский, узнав об этом постановлении, отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего «потопил» Сологуба. «Аргументация его, – пишет Ходасевич, – была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок – поэт революции, наша гордость… а Сологуб – ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов и т.д.» Ходасевич видел копию этого письма – ее показывал ему Горький.
Но самое интересное случилось потом. Прислушавшись к Луначарскому, Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный пропуск, которым тот не успел уже воспользоваться по причине смерти, а Сологуба, напротив, задержало. Короче, вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Чеботаревской, и она в «припадке меланхолии», по словам Ходасевича, бросилась с моста…
За жизнь «милая Настичка» трижды совершала попытку самоубийства. «Циркулярный психоз» – этот диагноз ныне сомнений не вызывает. Но тогда, после всего случившегося, о ее смерти судачили по-разному.
Кто-то говорил, что причиной стал отказ в заграничных паспортах, утверждали, что поводом явилась «неудачная любовь» ее, а Оцуп и Иванов-Разумник считали, что Чеботаревская принесла себя в жертву, спасая Сологуба. Она решила, пишет Иванов-Разумник, что после смерти Блока и Гумилева «судьба жертв искупительных просит» и должен быть третий большой поэт, который погибнет. Так вот этим третьим, думала она, должен быть ее муж. Правда, его можно спасти, но только если «пожертвовать собой за него»…
Жертвоприношение – слово знаковое для тех дней. Оно случилось на дамбе Тучкова моста в холодный сентябрьский вечер 1921 года. «Зная состояние жены, Сологуб стерег ее, но иногда все-таки надо было выходить из дому за пайком или за гонораром[126]. В одну из таких отлучек, – пишет знакомый семьи, – Чеботаревская, надев валенки и наспех накинув на шею платок, выбежала из дому, добежала до моста, бросилась в Неву и с криком “Господи, спаси!” исчезла под водой». Георгий Иванов, склонный к мифологизированию, пишет иначе: «Без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то. Женщина, работавшая в квартире, спросила – надолго ли барыня уходит. Она кивнула: “Не знаю”. Может, правда, не знала… Какой-то матрос видел, как бросилась с Николаевского моста какая-то женщина». С моста Николаевского, подчеркивает он. Но точнее всех, если изучить все, что известно ныне, пишет Чулков: «Воспользовавшись тем, что Сологуб вышел в аптеку за бромом, она убежала из дому и бросилась с дамбы Тучкова моста в Ждановку». Именно – с Тучкова, и именно – в Ждановку, которая как раз здесь и сливается с Малой Невой…
На другой день после исчезновения Чеботаревской, ничего не подозревая, к Сологубу зайдет Оцуп. Спросит: «Как здоровье Анастасии Николаевны?» «Ее нет», – глухо ответит Сологуб и замолчит. Оцуп из учтивости будет ждать, пока хозяин не заговорит снова. И услышит лишь какое-то странное бормотание, похожее на бред. «Корова, – скажет вдруг Сологуб как бы самому себе, – я говорил жене, если продать корову, можно выручить деньги. Все равно они давали нам снятое молоко, а себе оставляли сливки. Не дождалась. И вот с моста. А может быть, не она? Нет, она… Продали бы вовремя корову…»
Сам Сологуб долго не верил в смерть жены. «Три миллиона рублей тому, кто укажет, где находится больная женщина, ушедшая из дому… худая, брюнетка, лет 40, черные волосы, большие глаза… была одета в темно-красный костюм с черным, серое пальто, черную шелковую шляпу, серые валенки», – отпечатал он типографским способом объявление. Говорят, сам бегал по городу и расклеивал. И долгие семь месяцев ждал ее дома, накрывая стол на двоих, и даже не прикасался к ее вязанью, оставленному в кресле: одна спица воткнута в шерсть, другая рядом.
А когда 2 мая следующего уже года ледоход все-таки вынесет тело «милой Настечки», Сологуб не сразу, но даст письменные показания. «Найденный труп, – напишет, – это моей жены… На другой день я узнал, что какая-то женщина с конца дамбы Тучкова моста бросилась в воду, но была извлечена и доставлена к Петровской аптеке, где была оставлена без присмотра. Тогда она вторично бросилась в воду и быстро пошла ко дну… В чем и подписуюсь…» Кстати, аптека на углу Большого проспекта и Ждановской набережной существует до сих пор…
Ахматова через много-много лет расскажет Лидии Чуковской: «Я знаю, почему погибла Настя… Она психически заболела из-за неудачной любви… В последний раз я видела ее за несколько дней до смерти: она провожала меня, я шла в Мраморный дворец… Всю дорогу она говорила о своей любви»… Кого «неудачно» любила Чеботаревская, Ахматова так и не сказала. Правда, еще через много-много лет (Ахматова жила долго!) она, наткнувшись на книгу Михаила Кузмина, вдруг скажет Евгению Рейну: «Доля вины Кузмина в самоубийстве Чеботаревской, конечно, была». Но что за «вина» – опять не скажет. В изданном дневнике Кузмина я нашел лишь одну короткую запись: «А Настя Сологуб в припадке исступления бросилась с Тучкова моста… И все равнодушны. Я представил ветер, солнце, исступленную Неву, теперь советскую… и маленькую Настю, ведьму, несносную даму, эротоманку, в восторге, исступлении. Это ужасно, но миг был до блаженства отчаянным. До дна…»
Сам «Овидий в снегах» умрет только через шесть лет после нее. Умрет в квартире, окна которой как раз в упор и смотрели на дамбу Тучкова моста, откуда бросилась в воду его Малим, «милая Настичка» (наб.Ждановки, 3). Жить на Ждановке станет у сестры «милой Настички» – Александры Чеботаревской, которая, в точности повторит судьбу сестры[127]. Сологуб поселится здесь в какой-то снежно-белой комнате, где даже портреты, висевшие на стенах, по описаниям бывавших тут, были окантованы в белое. «Здесь… стояла его кровать, производившая впечатление девичьей, – пишет Смиренский, – и маленький письменный стол». Дома ходил в сером, в войлочных туфлях. Любил чай, мармелад и пирожные с ягодами. Слушая стихи, опускал веки и покачивал ритмично ногой. Одно из последних его стихотворений начиналось так: «Был когда-то я поэт, // А теперь поэта нет…»
Федину незадолго до смерти сказал: «Я знаю точно, от чего умру. Я умру от декабрита». – «Что это такое?» – «Декабрит – болезнь, от которой умирают в декабре…» Так и случится – умрет в декабре. Перед смертью хотел выброситься в окно или «хоть завопить через окно на весь город, но и до окна доползти нужна сила… Он спорил с могилой… и ничего нельзя было в нем увидеть, кроме жажды – быть, быть, быть!..». За два дня до смерти его подвели к камину, и он сжег все свои письма, дневники, которые все-таки писал, и рукопись оконченного романа… Так пишет Иванов-Разумник и добавляет: «Но на стихи, как сказал, “рука не поднялась”…»
На Смоленское кладбище, после панихиды в Союзе писателей (Фонтанка, 50), поэта понесут из дома на Ждановке. Но доска мемориальная, между прочим, висит на этом здании, заметьте, одна – только Алексею Толстому. А вторая, Сологубу, так и не появилась.
…Всю жизнь в нем жил учитель. Он, например, любил ходить босиком. Даже в последние годы жизни на Ждановке в иные теплые летние ночи он выходил на улицу только для того, чтобы походить босиком по остывающему асфальту. Так вот, он, учитель, или, лучше, сказать – проповедник, вдруг скажет в те годы своему знакомому: «Люди будут счастливы, когда все дети будут ходить босыми…» А кроме того, Чуковский приведет странные для ненавистника Советов слова поэта. Оказывается, он, заметьте, одобрительно отзывался о пионерах и комсомольцах: «Все, что в них плохого, это исконное, русское, а все новое в них – хорошо. Я вижу их: дисциплина, дружба, веселье, умеют работать…»
Учитель – это, наверное, навсегда. В Александринке, в пышном театре (пл. Островского, 2), Сологуба незадолго до смерти чествовали. Праздновали сорокалетие его творчества. Сологуб, вспоминал Оцуп, скучал на сцене, поморщился, когда к нему бросился Андрей Белый и восторженно стиснул руку. «Вы делаете мне больно», – громко сказал Сологуб. И почти сразу после этого откуда-то сверху, с галерки, раздался вдруг крик: «Федя, и я хочу обнять тебя!..»
Кричал школьный учитель Феди Тетерникова. Через несколько минут на огромной сцене театра рядом с прославленным поэтом оказался ветхий старик. Седые ученик и учитель радостно обнялись и крепко поцеловались…
Песни, песни, о чем вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.
Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь…
Есенин – и дерзкая травинка на городском камне, и камень, так и не сумевший затеряться в траве. Читая как-то письма Клюева к Есенину, в которых он настойчиво зовет того приехать в Петроград, встретил фразу поразительную – почти пророческую! «Я боюсь за тебя, – пишет Клюев в августе 1915 года, – ты, как куст лесной шипицы, которая чем больше шумит, тем больше осыпается. Быть в траве зеленым, а на камне серым – вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть…» Увы, серым на серых городских камнях Есенин стать так и не сможет – слишком был самобытен, ярок и именно шумлив. Они оба не выполнят намеченной «программы» – быть незаметными, и оба погибнут – умрут страшной смертью. А встретятся впервые в Петрограде – на Фонтанке…
Когда-то этот район звали Коломна. И тут, на Фонтанке, в доме №149, в четвертом этаже, жил у сестры Клавдии Ращепериной Николай Клюев. У него и остановился приехавший в Петроград Есенин. Ему двадцать, Клюеву – тридцать один год. «Легко представить ладного, рдеющего румянцем паренька, почтительно следующего за коренастым мужичком, пышноусым, рано облысевшим, – пишет о друзьях один из исследователей. – Мужичок сноровист и спор. Все у него схвачено, везде знает углы потаенные, светелки заветные – от дымных артистических кабаков до жарких раскольничьих молелен…» Немудрено, что новый друг Сергея, В.Чернявский, даже возмущался: Клюев «совсем подчинил… Сергуньку… поясок ему завязывает, волосы гладит, следит глазами». На свидания и то не пускал – ляжет поперек двери и скулит…[128]
Поясок Есенина поминают многие. Не в «казинетовый пиджачок» был одет Есенин, как пишет одна современница поэта, и не в «серый костюм», как утверждал ученик Репина, художник Антон Комашка, а в «театральную крестьянскую косоворотку с частым пастушьим гребнем на кушаке, в бархатные шаровары и тонкие шевровые сапожки». Таким запомнит его художник Юрий Анненков, знакомство которого с поэтом перерастет вскоре в «забулдыжное месиво дружбы», и добавит: он был похож на «кустарную игрушку». Пишут, что носил даже кафтан, который был сшит по эскизу великого Васнецова.
Маяковский, с которым, напротив, дружеских отношений так и не возникнет, скажет о Есенине неприязненно: «В первый раз его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Он мне показался опереточным, бутафорским». И предложит пари, что все эти «лапти да петушки-гребешки» Есенин скоро бросит. А Ахматова, которую Есенин посетит, приехав в Петроград, заметит покровительственно и почти равнодушно: «Застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный».
Столицу наивный, во всяком случае, покорял весьма хитро. «Презирая деревню, решил на ней сделать капитал». А кроме того, наивный паренек этот к тому времени уже пытался покончить с собой, был женат гражданским браком на корректорше Анне Изрядновой, от которой у него остался в Москве почти годовалый сын, и, наконец (что не часто вспоминают ныне), числился в Москве среди «сознательных рабочих» Замоскворечья, которые поддерживали связь с фракцией большевиков: ходил «под слежкой», обыскивался охранкой, а в «Журнале наружного наблюдения» в полиции фигурировал под «говорящей» полицейской кличкой Набор. Почти революционер? Вроде бы да. Но через пару лет, забыв про левые убеждения, будет вдохновенно читать и посвящать стихи аж самой императрице и великим княжнам. Станет вроде бы монархистом, вызвав, кстати, нешуточный скандал…
Поселится у Клюева. Но до него к первому пошел еще с вокзала к Блоку – на Офицерскую. По дневнику последнего – 9 марта.
«Днем у меня рязанский парень со стихами, – пишет Блок. – Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные». «Был он для меня словно икона, – вспоминал потом Есенин о визите к Блоку. – Ну, сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной, стою на площади и не знаю, куда идти дальше, – город незнакомый, – рассказывал он поэту Всеволоду Рождественскому. – А тут еще такая толпа, извозчики, трамваи – растерялся совсем… Остановил я прохожего, спрашиваю: “Где здесь живет Александр Блок?” – “Не знаю, – отвечает, – а кто он такой будет?” Ну, я не стал ему объяснять, пошел дальше… Прохожу мост с конями и вижу – книжная лавка (Невский, 66. – В.Н.). Вот, думаю, здесь уж наверно знают. И что ты думаешь: действительно раздобылся там верным адресом. Блок у них часто книги отбирал, и ему их с мальчиком на дом посылали… Тронулся я в путь, а идти далеко. С утра ничего не ел, ноша все плечи оттянула… Поднимаюсь по лестнице, а сердце стучит, и даже вспотел весь. Вот и дверь его квартиры. Стою и рук к звонку не могу поднять. Легко ли подумать, – а вдруг сам… двери откроет. Нет, думаю, так негоже. Сошел вниз, походил около дома и решил наконец – будь что будет. Но на этот раз прошел со двора. По черному входу… Поднимаюсь, а у них дверь открыта, и чад из кухни так и валит. Встречает кухарка. “Тебе чего, паренек?” Когда она пошла за Блоком, то дверь прикрыла на крюк: “Ты человек неизвестный”»…[129]
Блок, выйдя из комнат, тоже примет его сначала за крестьянина из Боблова, подмосковной дачи его жены, а потом, полистав тетрадочку со стихами, напоит чаем (Есенин от волнения съест всю булку) и предложит даже яичницу, от которой гость также не откажется. Пимен Карпов, опять-таки со слов Есенина, дополнит картину. Он пишет, что когда Блок хотел дать Есенину адрес поэта Городецкого и уже начал говорить, что тот написал хорошую книжку стихов «Ярь», Есенин якобы оборвал Блока: «Да ну его! Погодите, Ляксандра Ляксандрыч, дайте на вас поглядеть… У нас на Рязани вас бы на руках понесли!» Блок, по словам Карпова, ответит ему: «У вас на Рязани читают “Песенники” да “Сонники” Сытина. А таких, как я, побивают камнями. И пусть…»
Словом, с Блока да с Городецкого, напишет потом Есенин, «и началась моя литературная дорога». Он, правда, потом сто раз опровергнет эти свои слова. «Пусть, думаю, – рассказывал Мариенгофу, – каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? – Ввел. Клюев ввел? – Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? – Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев… к нему я, правда, первому из поэтов подошел… Сам же я скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!.. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом…»
Позже, в 1920-х, вообще расхвастается. Скажет, что когда-то считал Блока первым поэтом, а теперь – «теперь многие – Луначарский там, пишут, что я первый. Слыхали, наверно? Не Блок, а я. Как вы находите? Врут, пожалуй? Брехня?»[130] Эрлиху, молодому тогда поэту, скажет даже возмущенно: «Они говорят – я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести. Гейне мой учитель!..»
Короче, это был тот случай, когда говорят: самоуничижение паче гордости. Его принимали благосклонно: стихи были хорошие, частушки звонкие, которые пел не без похабщины, да и в рот глядел каждому встречному поэту. А в душе всех этих «встречных» едва ли не презирал. Раскусил его, пожалуй, один Сологуб. Уж он-то этих мальчиков с амбициями навидался в своих училищах да гимназиях.
«Потеет от почтительности, сидит на кончике стула, – издевательски опишет Есенина Сологуб. – Подлизывается напропалую: “Ах, Федор Кузьмич!.. Ох, Федор Кузьмич!..” Льстит, а про себя думает: ублажу старого хрена – пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, – я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться. Словом, прощупал хорошенько его бархатную шкурку и обнаружил настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало…» И хотя Есенин потом кричал, что ненавидит «всех этих Сологубов с Гиппиусихами», именно Сологуб, как пишет Георгий Иванов, рекомендовал стихи Есенина в журнал: «Искра есть. Рекомендую. И аванс советую дать… Мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютькам из “Аполлона”…»
Но особенно подружится Есенин в Питере с тезкой своим – с Сергеем Городецким. Пишут, что в первый свой приезд он остановился сначала на один день у литератора М.Мурашева (Театральнаяпл., 2), а затем именно у Городецкого (М. Посадская, 14). Кстати, к Городецкому за четыре года до его встречи с Есениным пришел начинающий еще тогда Клюев. Пришел, как Есенин к Блоку, очень похоже, едва ли не по одному «сценарию». Не только через черный ход явился, но, как и Есенин, с порога стал врать, что он вообще-то маляр и прочее… Для виду спросил у кухарки: «Не надо ли чего покрасить?» А сам давай стихи ей читать. Кухарка кинулась к барину: так-де и так. Явился Городецкий. Зовет в комнаты. А Клюев, представьте, конфузится: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Так, стоя перед Городецким, и читал свои стихи… Вот ведь как входили в литературу настоящие поэты!..
Г.Иванов опишет потом квартиру Городецкого: «В центре комнаты – большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам – жена Городецкого, “Нимфа”, сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай…» Городецкий, ненавистник всякой «классической мертвечины», называл жену “Нимфой”. За ней прозвище закрепилось, особенно после того, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением: «Тебе – Нимфа…» Кстати, эта Нимфа (на самом деле Анна Алексеевна) будет заставлять Есенина ставить самовар, бегать за хлебом, даже за нитками в мелочную лавку, если они вдруг требовались. Зато именно Городецкий, к кому Есенин принес свои стихи, завязав их в деревенский платок, напишет одному редактору фразу просто историческую: «Приласкайте талант. В кармане у него рубль, а в душе богатство…»
Наконец, именно Городецкий устроит крестьянским поэтам вечер в Тенишевском училище, который странно назовет – «Краса». Тут-то, под удары тимпана, и выйдет на эстраду Сергей Есенин. Кажется, впервые в жизни! Косоворотка розовая, золотой кушак, волосы подвиты, щеки нарумянены, вспоминал очевидец. «В руках – о, господи! – пук васильков – бумажных. Выходит, подбоченясь, улыбка ухарская и растерянная. Выйдя, молчит, беспокойно озираясь. “Валяй, Сережа, – подбадривает Городецкий. – Валяй, чего стесняться”…» И Есенин – не стесняется. Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны. Иногда выскочит и неприличное, «похабное» словцо. Но раньше он, по «неопытности», считал, что вставлять их и в разговор нехорошо, не то что в стихи, теперь же еще оглядывал публику: «Что? Каково?» Частушки, которые он (по его словам) «запузыривал с кандибобером» даже в изящных салонах, были и вовсе матерными. Словом, то была стихия, которую и искал в молодых поэтах Городецкий. И пока Гиппиус или Сологуб советовали Есенину учиться, Городецкий сразу объявил вчерашним крестьянам: они, оказывается, «гении», и не просто – а народные гении, что, конечно, «много выше». А все «эти штуки с упорной работой – для интеллигентов. Дело же народного гения – «выявлять стихию»…
Увы, стихию, в широком смысле этого слова, уже и выявлять было не надо – она сама вовсю вокруг бушевала. Война, зреющая революция. И мог ли Есенин – травинка – разобраться в камнепаде имен и событий?.. Почти революционер, он встречается теперь с самой императрицей. Тут, конечно, сплошные «фигуры умолчания»: слухи, полушепот, «страшные» тайны. Иначе ведь – скандал! Наш Есенин – «душка», «прелестный мальчик» – зашелестело по литературным салонам и в Царскосельском дворце! «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов! Ренегат!..» И новость, увы, была правдой. Встречался с императрицей в Царском Селе – там находился полевой военно-санитарный поезд №143, куда поэта, спасая от фронта, устроил по протекции то ли Клюев, то ли Городецкий[131]. Там, читая стихи раненым, он, по одной версии, дважды видел императрицу в госпитале, по другой (как пишет Вс. Рождественский) – читал стихи в ее покоях, ей одной. Наконец, по третьей версии – читал стихи вдовствующей императрице Марии Федоровне. «Она меня встретила ласково, – рассказывал Повицкому. – Сказала, что я настоящий русский поэт, и прибавила: “Я возлагаю на вас большие надежды… В такое время… верноподданнические стихи были бы очень полезны”…» – «Что же ты ответил?» – спросил Повицкий. «Я ей сказал: “Матушка, да я пишу только про коров, еще про овец и лошадей. О людях я не умею писать”…»
По последней версии, в 1916-м и затем в 1917 годах Есенин дважды встречался с членами царской фамилии. Его даже наградили золотыми часами в память о его выступлении на одной из этих встреч. А в готовой уже книге «Голубень» он, в те же примерно дни, посвятит Александре Федоровне цикл стихов. Посвящение, правда, успеет вовремя снять, аккурат в революцию, а взамен сочинит путаную историю, «будто… отказался посвящать сборник царице, за что его чуть не упекли в дисциплинарный батальон».
Через три года на допросе в ЧК он признается: был-таки в дисбате, но – за дезертирство[132]. Впрочем, вскоре он вновь станет почти революционером. Влюбится в красивую эсерку.
Она будет самой большой его любовью.
И – ненавистью! Так бывает.
Но об этом – у следующего дома Есенина.
Считается, что у Есенина было огромное количество женщин. Думаю, это миф. Много было стихов о любви, а это не одно и то же. Писатель Эмиль Кроткий однажды услышал от поэта: «Женщин триста у меня, поди, было?» Собеседник ему, разумеется, не поверил. «Ну, тридцать», – резко сбавил тогда Есенин. «И тридцати не было», – сказал Кроткий. «Ну, – помолчал Есенин. – Ну, десять». – «На этом, – пишет Эмиль Кроткий, – и помирились. – “Десять, пожалуй, было”, – подвел черту и поэт…»
Травинка на истоптанных городских камнях, Есенин искал в женщинах чистоты и, если можно так сказать, незатоптанности. В восемнадцать лет написал в деревню своей девушке, Мане Бальзамовой: «Жизнь – глупая штука. Хаос разврата. Все живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката…» Именно такую – красивую, смешливую, хотя и любящую печального Гамсуна девушку с двумя косами, уложенными вокруг головы, и привел Есенин женой в дом №33 на Литейном проспекте. Любил ее до беспамятства. Но она оказалась не девушкой, хотя и сказала, что он у нее – первый. Этого «по-мужицки, по темной крови» своей, заметит его друг, простить ей не смог, хотя она родит ему двоих детей. И, страшно любя ее, еще более страшно станет ее ненавидеть…
Кстати, в этот дом на Литейном, в квартиру на втором этаже прямо над аркой, окнами во двор[133], где сохранилась до сих пор даже печь в углу, однажды, еще в начале 1918 года, чуть не нагрянет самый большой морской начальник Советской России – «главвоенмор» и начинающий писатель Федор Раскольников. Его позовет сюда друг Есенина, личный «адъютант» поэта Рюрик Ивнев, про которого Есенин отзывался, кстати, довольно едко: «Наш Рюрик пишет романы очень легко. Легко, как мочится». Так вот, Рюрик – он жил рядом с Есениным (Симеоновская, 11) – встретит Раскольникова на митинге в Доме армии и флота, нынешнем Доме офицеров. «Ивнев подошел ко мне, – вспоминал Раскольников, – и с томной манерностью, играя лорнетом, предложил поехать к Сергею Есенину. “Он живет недалеко отсюда. К тому же под вами ходит машина"…» Хорошо, что визит «главвоенмора» не состоялся. Потому что женой Раскольникова была уже Лариса Рейснер, в которую Есенин три года назад был влюблен («Я о нее… поцарапался») и которую неловко, по-деревенски, звал замуж. «Есениноведы» об этом как-то не пишут. Есенин, кстати, называл ее «ланью», а себя – «златогривым жеребенком». Но «жеребенок» робел перед красавицей и утонченной поэтессой. Встречались, возможно, у Каннегисеров (Саперный пер., 10), у Софьи Чацкиной (Кирочная, 24), издательницы журнала «Северные записки», у певицы Надежды Плевицкой (ул. Чайковского, 83), с которой Есенин выступал на каких-то вечерах. Однажды он тихо, но поэтично признался Ларисе, что глаза ее, как молния, раскололи его душу. Лариса расхохоталась поэту в лицо: «Есенин, зачем вы врете? Эх, вы, Лель!» – «Вот те крест, не вру!» – задохнулся он. «А я в крест-то как раз и не верю», – ответила будущая героиня Гражданской войны. Потом, после того вечера в Тенишевском, который Городецкий, помните, странно назвал «Краса» и на котором Лариса бешено аплодировала не вполне приличным частушкам Есенина, он догонит ее на улице и, окрыленный успехом, бухнет: «Я вас люблю, лапочка!.. Мы поженимся…» Бухнет – и тут же поймет свою ошибку. Ибо зеленоглазая лань тогда-то и огреет его – по-городскому. Пожмет плечиком: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…»
Вообще-то Есенин, думается, никогда не мог найти верного тона с женщинами. То был фамильярен, то непомерно почтителен, то оскорбительно развязен, а то непростительно груб. Примеров тому – тьма. Не отсюда ли столь разная «трактовка» любви в его стихах? Ведь именно здесь, в доме на Литейном Есенин, как считается, и начнет писать свое знаменитое «Письмо к женщине»: «Любимая! Меня вы не любили. // Не знали вы, что в сонмище людском // Я был, как лошадь, загнанная в мыле…» И эта вот загнанность его, вчерашнего «жеребенка», с годами будет только расти. А ведь стихотворение это лишь пересказывало одну из ссор его с той, кого он привел сюда женой, – с Зинаидой Райх. Одно в нем преувеличил: что она его не любила. Любила, да так, что, помани ее Есенин пальцем, как писал позже Мариенгоф, она бы не просто убежала от нового мужа, Мейерхольда, а кинулась бы «без резинового плаща и без зонтика в дождь и в град»… Любила, и любила, я думаю, до конца жизни…
А знаете, где Есенин не только объяснился ей в любви «громким шепотом», как пишет его дочь, но и позвал замуж? Посреди Белого моря – на пароходе. Красиво! Она, которая этого не ждала, в первые минуты растерялась, но, как девушка из рабочей семьи, гордящаяся своей самостоятельностью, ответила не без достоинства: «Дайте мне подумать». Это, надо сказать, слегка обидело его, но через три дня они вернулись в Петроград – уже обвенчанные. А началось у них все с разъезжающихся под Есениным стульев в одном великокняжеском дворце…
Этот дворец цел и поныне (Галерная, 27). В нем весной семнадцатого года располагалась редакция эсеровской газеты «Дело народа». Сюда, в роскошный еще недавно дворец, Есенин, вновь ставший почти революционером[134], заходил с приятелем – поэтом Алексеем Ганиным. Здесь, говорят, познакомился с Германом Лопатиным, знаменитым переводчиком «Капитала» Маркса, которому пел частушки. И здесь, в редакции, впервые увидел Зинаиду Райх, красивую девушку с двумя косами вокруг головы, мягким движением кутавшуюся в теплый платок, которая была не просто секретарем-машинисткой – работала по убеждению, являлась членом партии эсеров. Вот она, с глазами «как вишни», с «абсолютной женственностью», и ее подруга Мина Свирская и посмеивались, приходя утром на работу, видя, как под двумя поэтами, Есениным и Ганиным, ночевавшими в редакции ввиду бездомности, разъезжались золоченые стулья особняка. Так и познакомились.
С тех пор, что ни вечер, они вчетвером отправлялись гулять по городу. Причем Есенин всегда шел с Миной впереди[135], а Райх с Ганиным – сзади. А однажды, уже летом 1917 года, Есенин, влетев в редакцию, крикнул Мине с порога: «Едемте на Соловки. Мы с Алешей едем».
Мина сразу отказалась (перед выборами в Учредительное собрание было много работы), а Зинаида вскочила, захлопала в ладоши и побежала к секретарю газеты отпрашиваться. Тут же выяснилось, правда, что у поэтов была лишь идея – деньги на поездку из «заветной суммы» дала Зинаида. Зато, вернувшись с Севера, подписывая какую-то бумагу, украдкой показала подруге свою подпись: «Райх-Есенина». «Нас с Сергеем на Соловках попик обвенчал», – призналась. Обвенчал их попик, согласно документам, не на Соловках – в Кирико-Улитовской церкви Вологодского уезда.
«Выхожу замуж, – телеграфировала Зина отцу в Орел. – Вышли сто». На эти деньги невесту, как смогли, нарядили, купили кольца. На цветы, пишет дочь Есенина и Райх, денег не хватило – Есенин нарвал букет по пути в церковь. Райх было двадцать три года, Есенину – двадцать два без одного месяца. Пишут, что через сорок дней Райх якобы поместила письмо в «Правде», что выходит из партии эсеров. А Ганин стал шафером на свадьбе. Где была свадьба, не знаю, но думаю, у Зинаиды, она снимала комнату на нынешней Советской улице (8-я Рождественская, 36). Смешно, но… когда втроем с Ганиным они приехали в Орел, родные Зинаиды решили, что муж ее именно Ганин. «Устроили небольшой пир. Ночь подошла, – рассказывал отец Зинаиды. – Молодым я комнату отвел. Гляжу, а Зинаида не к мужу, а к белобрысенькому подходит. С ним идет в отведенную комнату. Только тогда и сообразил, что муж-то – белобрысенький…»
Между прочим, и на Литейном, 33, они тоже поселятся втроем: в двух комнатках молодожены, а по соседству, отдельно – Ганин. Тут у Есенина и проявятся черты «избяного хозяина», главы очага, пишет его друг Чернявский. Здесь, у небольшого обеденного стола с самоваром, он с друзьями – Орешиным, Ганиным, Чапыгиным – пек в печи и ел с солью «революционную картошку», и Есенин командовал женой: «Почему самовар не готов?», или: «Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?», или: «Ну, налей ему еще!» Иногда приносил бутылку-другую вина, но сам не пил, выпивал только ради случая. Например, в день рождения. Да, именно здесь он встречал свою двадцать третью осень и, когда за столом уселись гости, взял вдруг Мину за руку и вывел в соседнюю комнату. Там сел за стол и написал стихотворение, посвященное ей, в котором была строфа: «Я вижу сонмы ликов // И смех их за вином, // Но журавлиных криков //Не слышу за окном…» Почему посвятил их Мине, не узнает даже она, но за окнами этой квартиры на Литейном журавли и впрямь не кричали…
Наконец, здесь Сергей и Зинаида, поссорившись, – это известно – выбросили вдруг в темное окно золотые обручальные кольца. Выбросили и оба кубарем скатились вниз, искать их в сугробах. Как это, думается, похоже на него: и жест красивый, чуть ли не блоковский («Я бросил в ночь заветное кольцо»), и бережливость крестьянская – все-таки золото… А в другой раз, приревновав ее к кому–то, не только сжег в семейной печи рукопись своей пьесы[136], но и набросился на жену с такими оскорблениями, пишет их дочь, что Зина, ахнув, рухнула на пол – «не в обморок, просто упала и разрыдалась». Он не подошел. Когда она наконец поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: «Подарки от любовников принимаешь?!..»
Помирятся в тот же вечер, но именно тогда оба и перешагнули какую-то роковую грань. Ляжет между ними та коробочка…
Последний раз, еще до развода, встретив ее на перроне в Ростове, Есенин круто развернется на каблуках. Она успеет передать через Мариенгофа, что едет с сыном его, которого Есенин еще не видел. Он по настоянию друга нехотя зайдет в ее купе. Зинаида, гордясь, развяжет ленточки кружевного конвертика. «Фу! Черный, – поморщится поэт. – Есенины черные не бывают»… Зина расплачется, а Есенин легкой танцующей походкой выйдет из вагона…
Райх станет в конце концов женой Всеволода Мейерхольда. Это случится уже в Москве. И в Москве на одной из вечеринок тот спросит у поэта: «Если поженимся, сердиться на меня не будешь?» Есенин, ломаясь, поклонится Мейерхольду в ноги: «Возьми ее, сделай милость. По гроб тебе благодарен буду…» Про гроб ляпнет, видимо, не подумав, но именно у гроба поэта Райх, говорят, и крикнет: «Сережа! Ведь никто ничего не знает…» Да и убьют ее в 1939-м (зверски убьют – семнадцать, говорят, ножевых ран, ни одной в сердце) не из-за ареста Мейерхольда, как считалось, – из-за боязни, что много знает, что напишет воспоминания о Есенине. Версия, конечно. Но в сумасшедшем письме своем к Сталину, да еще в страшном 1937-м, Райх самоубийственно потребует от вождя: «Правду наружу о смерти Есенина…» Ну разве можно было так разговаривать с «учителем всех и времен и народов»?!
…Есенин же, расставшись с женой фактически еще в Петрограде, вновь отправится за славой. Куда? В Москву – новую столицу. За славой, не меньшей, чем у самого Шаляпина! Однажды они с Мариенгофом, уже в Москве, в арбатском переулке, увидят сильнейший пожар и заметят, что многие зеваки смотрят не на огонь, а на какого-то человека, высокого и отлично одетого. «Шаляпин… Шаляпин… Шаляпин…» – неслось со всех сторон. Тогда Есенин и скажет, не без какого-то внутреннего надрыва: «Вот какую славу надо иметь!
Чтобы люди смотрели не на пожар, а на тебя!..» Он вернется в Петроград в ореоле именно такой славы. Но чем заплатит за нее – об этом я расскажу у другого дома Есенина.
За год до смерти Есенину подала знак о гибели сама природа. Когда–то давно цыганка нагадала, что он умрет от воды, и поэт, если был трезв, ужасно боялся лодок, пароходов, кораблей. Ныне же его предупредила о гибели… ласточка, метнувшаяся у храма Христа Спасителя в Москве. Она, с писком мелькнув мимо, вспоминал молодой тогда поэт Эрлих, чиркнула Есенина крылом по лицу. Он вытер ладонью щеку и улыбнулся: «Смотри: смерть – поверье такое есть, – а какая нежная…» Так и осталось неясным: ласточка нежная или смерть? Но, заметьте, не испугался – улыбнулся страшному знаку.
Он, теперь «уже подшибленный», по выражению Андрея Белого, словно играл со смертью. То наберет телефонный номер сестры своей приятельницы и скажет: «Вы знаете, умер Есенин, приезжайте!» То предложит другу написать о нем некролог. «Преданные мне люди устроят мои похороны. Я скроюсь на неделю, на две. Посмотрим, как они напишут обо мне. Увидим, кто друг, кто враг!» Ну, чисто ребенок! Хотя детского, избяного («пеньковые волосы, васильковые глаза, любопытствующий носик», по выражению Федора Степуна) в нем почти не осталось.
…Итак, Есенин уехал в Москву за славой – не ниже, чем у Шаляпина. И он обрел ее! Скандальной женитьбой на Айседоре Дункан, которая была старше его на семнадцать лет («Он влюбился не в Айседору, – скажет Мариенгоф, – а в ее мировую славу»). Гомерическими кутежами, когда хватал за бороду известного тогда писателя Рукавишникова и окунал ее в горчицу. Кровавыми драками и хулиганским эпатажем, когда под покровом ночи вместе с друзьями выводил на стенах Страстного монастыря кощунственную строку: «Господи, отелись!» И конечно же – талантом! Что говорить, не в Петроград – в Ленинград уже явится действительно великим, почти всемирно известным поэтом. Но какой ценой далась ему эта слава!
Можно долго рассказывать о его «подвигах», а можно просто привести случай, который покажет, каким он был еще пять лет назад. Он жил тогда в одной комнате с Мариенгофом (считал его своей «тенью»), а тот, явившись однажды домой под утро, увидел Есенина спящим в обнимку с пустой – из-под сивухи – бутылкой. «Ты пил один?» – изумился Мариенгоф. «Да, – закричал Есенин, – и буду пить каждый день, ежели по ночам шляться станешь. С кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома!» Такие вот были у него правила, более всего ценил само понятие «дом»! Теперь же Есенин неделями не являлся ночевать, хмелел, как заправский алкоголик, от первой же рюмки, но главное – ныне у него не было не только домашности – самого дома. Жил в Москве где придется. Квартиру – даже после хождения друзей к «всесоюзному старосте» Калинину, писем в секретариат Троцкого – пообещали дать не раньше 1927 года, через два года, как повесится. Короче, когда он в апреле 1924-го приехал в Ленинград, у него не было уже ничего, кроме славы! Правда, славы высшей пробы – славы, как и предсказывал когда-то Городецкий, народного поэта!
Знаете ли вы, что в Москве он натурально подрался с Пастернаком: сцепились, как мальчишки! Осипу Мандельштаму публично бросил: «Вы плохой поэт. У вас глагольные рифмы», а Маяковскому кричал: «Россия моя, а ты, ты – американец!» Все трое, заметим, были уже знамениты, но никого из них не выносила толпа после поэтических вечеров на руках. А Есенина – из зала бывшей городской думы (Невский, 33/1), где устроили его вечер, – вынесли. И хотя на выступление свое Есенин опоздал (весь день просидел с друзьями в ресторане), хотя вывалился на сцену пьяным и, более того, немедленно чохом оскорбил собравшихся, да так, что мужчины стали уходить, пытаясь потянуть за собой женщин, которые, как ни странно, дружно отказались покидать зал, хотя сделал, наконец, все, чтобы сорвать свой же вечер, но… стоило зазвучать его стихам – и все были покорены. Его подняли на руки, как триумфатора, вынесли из зала и, останавливая движение на Невском, перенесли через проспект прямо к гостинице «Европейская». Свидетели пишут: не просто донесли – а разрывая на кусочки, на память, его галстук, шнурки от ботинок. Сам он написал Галине Бениславской в Москву: «Вечер прошел изумительно. Меня чуть не разорвали». Знал бы он, что через год его вынесут мертвым уже из другой гостиницы – «Англетер»…
Второй раз, в том же 1924-м, но уже в июне, он остановится на два месяца в огромной барской квартире на углу Гагаринской улицы и набережной Невы. Здесь, на втором этаже, жил с семьей его друг, тучный блондин с заплывшими глазами, Александр Сахаров, который за два года до этого издал есенинского «Пугачева». В Центральном госархиве в Петербурге мне ответили, что по домовой книге за 1923-1925 годы в этой квартире действительно проживали: Александр Михайлович Сахаров, двадцать девять лет, наборщик; Анна Ивановна, двадцать девять лет, домохозяйка; Николай Михайлович, двадцать четыре года, безработный… Возможно, Сахаров и был наборщиком, но с 1922 года звал себя издателем – это точно.
У Сахарова, как пишет Галина Бениславская, были «ключи от всех рукописей» Есенина. Поэт все терял, раздавал рукописи, фотографии, а что не раздавал, то у него крали. Тогда-то и распорядился: «Все ненужное… передавать на хранение Сашке». То есть Сахарову «У него мой архив, – говорил. – Я ему все отдаю». Уезжая за границу, хотел даже оставить Сахарову завещание на все печатные труды и неопубликованные рукописи, но хорошо, что не оставил, ибо скоро даже руку перестанет подавать Сахарову…
Жили Сахаровы в прекрасной «довоенной квартире со всей сохранившейся обстановкой особняков на набережной, – вспоминал бывавший здесь поэт Пяст. – В первых комнатах меня встретили “имажинята” последнего призыва. Черноволосые мечтательные мальчики, живущие, как птицы небесные, не заботящиеся о завтрашнем дне… Помню радушную встречу и вкусный завтрак с чаем, приготовленный на всю братию и сервированный с некоторым кокетством, то есть с салфетками, вилками, ножами, скатертью».
Ныне барский особняк разваливается буквально на глазах. Соседка Сахаровых по площадке, немолодая уже женщина, рассказывала мне, что мать ее, ныне покойная, не только помнила, но разговаривала с поэтом, видела, как шумной компанией они вываливались на улицу, как подолгу сидели в пивной на углу Гагаринской и Чайковского. Там и сейчас пивная. Соседка подивилась, что именно здесь, в этой квартире, поэт создал «Песнь о великом походе», читал законченную «Анну Снегину»[137], а однажды похвастался, что в один день написал сто строк, к которым даже сам не мог придраться. Но чаще он подолгу лежал на кровати, закинув руки за голову, и когда Сахаров однажды спросил его, что с ним, поэт ответил почти шепотом: «Не мешай мне, я пишу». А когда писатель Никитин заметит на подоконнике в передней небрежно брошенные черный плащ и черный цилиндр, Есенин, перехватив взгляд, скажет: «Привез зачем-то из Москвы эту дрянь. Цилиндр надеть, конечно, легче, чем написать “Онегина”…» Наконец, сюда однажды привел какую-то странную женщину лет пятидесяти, которая следовала за ним по пятам. «Сергей! – спросил Эрлих. – Ты что, ошалел, милый? На кой черт ты эту старуху привез?» – «Не я ее привез, а она меня привезла. – Есенин повернулся к Эрлиху: – Она – ведьма! Понимаешь? Я на извозчика, и она за мной! Я за ворота, она за мной! Что же мне ее – силой гнать?.. Да, понимаешь, мне показалось, что ее фамилия Венгерова!» – «Ну и что ж?» – пожал плечами Эрлих. «Господи! Да как ты понять не можешь? Я думал, она от словаря прислана! Понимаешь?..» Эту же историю вспомнит и Надежда Вольпин, только фамилию «старухи» назовет другую – Брокгауз, именно ее поэт и представил Вольпин как «племянницу словаря»…
Впрочем, эта история, что называется, из безобидных. Потому как теперь поэт чудил, и чудил, как сказали бы нынче, «по-черному». Дело все чаще доходило до беды. У актера Ходотова (Невский, 60), где собиралась богема, где был как бы ресторан, который поэты и актеры звали меж собой «Вольные каменщики», Есенин, «сидя рядом с артисткой, – как рассказывал писатель Чапыгин, – уже во хмелю сказал ей из ряда выходящую сальность. Кто-то закатил ему пощечину. Есенин, понятно, ответил, и началась драка». Поэт содрал скатерть со стола, перебив все, что стояло на нем…[138] В другой раз затеет драку в каком-то притоне, где его, уже не церемонясь, не только изобьют до потери сознания, но и выбросят со второго этажа. Возможно, и прирезали бы, если бы кто-то случайно не узнал бы его. Видимо, тогда ему сломали нос, «вломилась внутрь боковая кость», да так, что потребовалась операция. Но в Москву – и поэту Казину, и своему «ангелу-хранителю» Бениславской – он по этому, кажется, случаю бодро напишет, что катался на лошади, упал и «немного проехал носом»[139]. Какая там лошадь, если даже Клюев скажет, глядя из-под бровей: «Ведь он уже свой среди проституток, гуляк, всей накипи Ленинграда. Зазорно пройтись вместе…»
Помните, Есенин хотел устроить свои похороны, чтобы узнать, кто друг, а кто враг ему? Увы, теперь «друзьями» его оказывались как раз «враги», человек тридцать, по словам критика Воронского, которые называли поэта «Сергуном», «Серьгой», ели и пили за его счет и трусливо разбегались при малейшей опасности. Таких Есенин терпел возле себя теперь. А настоящих друзей унижал, оскорблял, избивал. Бил даже преданных ему женщин. «Я сам боюсь этого, не хочу, но знаю, что буду бить. Я двух женщин бил, Зинаиду и Изадору… – говорил Галине Бениславской. – Для меня любовь – это страшное мучение». К 1924 году, перед приездом в Ленинград, приревновав Бениславскую, изобьет и ее. Потом порвет с ней, верной и, может быть, единственной защитницей его, порвет мелко, пересчитывая столы и стулья: «Это тоже мое, но пусть пока останется»… А позже, очухавшись, сообразив, что без нее он, беспутный, погибнет, Есенин явится к ней, в ее московский дом, трезвым. «Он открыл дверь и остановился у порога, – пишет некий Березин. – Она не подошла к нему. Только зарделась. Так они стояли молча несколько минут. “Прости”, – прошептал поэт. “Вон!” – крикнула она и указала на дверь. Как ужаленный, он бросился прочь. Она слышала, как стучали его шаги по лестнице. Он бежал, задыхаясь от обиды. Галя почти сразу опомнилась и бросилась за ним. “Сергей, Сережа, Сереженька! Вернись!” – кричала она, сбегая по лестнице с восьмого этажа. Эхо ее голоса гудело в лифтовом пролете. Но поэт как будто канул в воду».
Не в воду – в водку. Он прибежит к другу и потребует водки. «Мне крикнуть “вон”, – будет стучать кулаком по столу, – погоди же!» За столом окажется и Сахаров, приехавший из Ленинграда. Уж не тогда ли он и позвал поэта в свой город, предложив поселиться у него? Не знаю. Знаю, что здесь, в этот предпоследний свой приезд, Есенин попытается перерезать себе вены (будет носить потом черную повязку на руке), чуть не выбросится из окна у друга Эрлиха и даже отправится однажды на Мойку, чтобы утопиться. Не утопится – судьба подарит ему еще год и четыре месяца.
…Ласточка предупредила его о смерти. Может, потому ему было уже ничего не страшно. Даже превращать друзей во врагов. Говорят, правда, жалел об этом. Перед смертью напишет кровью стихотворение, с кем-то попрощается.
С кем – вопрос спорный и ныне. Но размышлять об этом мы будем вместе в следующей главе.
В мглистое, гнилое утро 24 декабря 1925 года Есенин, в котором теперь, как пишет Галина Серебрякова, «особенно тягостное впечатление производила его тощая шея», ступил на перрон Октябрьского (ныне Московского) вокзала. Он в последний раз приехал в Ленинград. Через пять дней, 29 декабря, его тело в узком желтом гробу привезут сюда же на дрогах и, по спецразрешению, занесут прямо к платформе не с главного входа – со стороны Лиговки.
Поэт приехал в Ленинград не умирать – жить. Готовить четырехтомник своих стихов (ему должны были прислать сюда гранки, и он гордился, что первым из великих поэтов увидит при жизни свое собрание сочинений), издавать журнал, выписать сюда сестер и мужа одной из них, поэта Наседкина. Именно Наседкину он даже намекнет, что в Ленинграде, возможно, женится, но только уже «на простой и чистой девушке». С внучкой Льва Толстого, последней своей женой, перед отъездом порвет – грубо, бесповоротно. Оскорбит, ударит ее, потом напишет резкое письмо из психушки, куда его вновь затолкают измученные родные и друзья. Оскорбленная Толстая, по слухам, придет к нему в палату с пистолетом и выстрелит в него. «Случай замяли, – пишет поэтесса Сидорина, – но врач Зиновьев расскажет обо всем своей дочери Наташе»[140], поскольку в тот самый день Есенин сбежит из больницы и его придется разыскивать. Правда – не правда, стреляла – не стреляла – это все тайны и псевдотайны последних дней поэта. Но из психушки Есенин действительно сбежит 21 декабря. А уже 24-го, повторяю, в бобровой шапке и шубе, из которой усохшей травинкой тянулась беззащитная шея, он шел по перрону в Ленинграде…
В Москве сказал, что остановится либо у Сейфуллиной, либо у Правдухина, либо у Клюева. И добавил: «Люблю Клюева». Но с вокзала поехал к Вольфу Эрлиху, на Бассейную (ул. Некрасова, 29), двадцатитрехлетнему литератору, с которым приятельствовал и кого накануне просил снять ему для жилья две-три комнаты. Есенин бывал у Эрлиха неоднократно и даже недолго жил у него. Однажды, например, Эрлих был разбужен оттого, что кто-то в комнате бубнил. «Вижу: Есенин в пижаме, босиком стоит у книжного шкафа… и считает: “Сто один, сто два, сто три”». – «Что ты делаешь?» – удивился Эрлих. «“Полтаву” подсчитывал, – ответил Есенин. – Знаешь, у меня “Гуляй-поле” – больше. Куда больше». В другой раз пришел и похвастался огромным медным перстнем, подарком Клюева: «Очень старинный! Царя Алексея Михайловича!» – «Как у Александра Сергеевича?» – выдохнул Эрлих, намекая на Пушкина. Есенин покраснел и тихо промычал: «Только знаешь что? Никому не говори! Они – дурачье! Сами не заметят! А мне приятно». – «Ну и дите же ты, Сергей! – сказал Эрлих. – А ведь ты старше меня». – «Да я, может быть, только этим и жив!» – ответил поэт.
Не застав Эрлиха дома, Есенин ждать его не стал, а, бросив три чемодана, отправился в ресторан Федорова (М. Садовая, 8). Увы, ресторан, видимо, был еще закрыт, и Есенин прикажет извозчику везти себя в «Англетер». Эрлиху потом объяснит, что поехал в «Англетер», поскольку там остановились его друзья Устиновы. Это, кажется, не так: о том, что Устиновы в «Англетере», он узнает от швейцара гостиницы, когда подъедет к ней. Причина, думаю, была в другом: именно в «Англетере» почти четыре года назад, в пору оглушительного успеха своего, жил он с Айседорой Дункан. Он и номер-то снимет теперь именно тот, 5-й, где они останавливались когда-то. Тогда в этой комнате было холодно, не грели трубы, и Есенин с администратором Дункан Ильей Шнейдером попеременно взбирались на письменный стол и, как рассказывает Шнейдер, «щупали руками верхушку трубы отопления, спускавшейся по стене». Да, тогда в номере было холодно, но поэта и танцовщицу окружали тепло и любовь. Теперь в 5-м было даже жарко – это известно из воспоминаний, – но вокруг поэта как-то незаметно образовалась ледяная пустыня. И именно на той трубе под потолком, которая, как давняя знакомая, помнила его ладони, он и захлестнет веревку от чемодана – всего-то полтора оборота…
«Англетер» в те годы назывался «Интернационал» (Б. Морская, 39). Гостиница, как пишут ныне, была «режимной», в нее жильцов вселяло ГПУ. До революции на месте 5-го номера была аптека, а через еще одну дверь в номере – она была заставлена шкафом – можно было пройти на бывший склад аптеки. В подъезде гостиницы теперь стояло чучело горного барана, а в вестибюле – медведя. Там же, в вестибюле, были диван, кресла, французские ковры, зеркала. Вот в обществе этих чучел поэт, обожавший живое зверье, и просиживал по полночи в красном своем халате, в стареньких круглых очках на носу, которых, вообще-то, очень стеснялся. Просиживал, потому что боялся оставаться один в номере – об этом вспоминают почти все.
Четыре дня и три ночи, проведенные Есениным здесь, известны едва ли не по минутам. Это не считая легенд, слухов, сплетен, домыслов, сумасшедших версий… вроде той, что существовал-де подземный ход между «Англетером» и домом напротив, где, говорят, была тайная тюрьма ГПУ и где якобы убили поэта, а потом, протащив его по подземному ходу, уже в 5-м номере инсценировали самоубийство[141].
Да, странностей в смерти поэта хватает. Но все они какие-то косвенные. Исчезли, например, документы гостиницы за 1925 и 1926 годы, а в чудом сохранившейся инспекционно-финансовой книге имени Есенина нет вообще, согласно ей в 5-м номере проживал в это время какой-то Крюков, работник кооперации из Москвы. Странно, что после смерти Есенина многие работники гостиницы, начиная с коменданта, были уволены. Комендант же, вынимавший поэта из петли, с 1 января 1926 года получил прибавку к жалованью, отпуск, но, как рассказывала жена его, долго еще кричал по ночам, хватался за наган под подушкой и много лет не рассказывал ей подробности тех дней. Но главная странность – а может, закономерность? – заключалась в том, что все свидетели, понятые и даже «друзья» Есенина (литературовед Павел Медведев, поэт Василий Князев, литератор Лазарь Берман и даже многолетний приятель по кличке Почем Соль – Григорий Колобов) в той или иной степени, как пишут, имели отношение к ГПУ. То есть, как ни страшно это произносить, но поэт оказался «в петле» ГПУ задолго до петли веревочной. В «мертвой петле», как написал в прощальном слове Борис Лавренев.
Можно много и убедительно рассказывать о последних днях Есенина. Но лучше привести слова, сказанные им здесь. Последние фразы. Например, друзьям скажет: «Бежал из чертовой Москвы». С Устиновой неожиданно разоткровенничается: «Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь “божья дудка”…» – «Как это понимать?» – спросит она. И Есенин ответит: «Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно»[142]. А Эрлиху за день до самоубийства скажет вообще нечто туманное: «Я здесь, потому что я должен быть здесь. Судьбу мою решаю не я, а моя кровь». Эрлиху, кстати, и отдаст последнее стихотворение, написанное кровью, которое до 1930 года так никто и не увидит.
Говорят, в последнюю ночь Есенин стучался к соседям по «Англетеру», друзьям Устиновым. «Мы уже спим… – ответила Устинова. – Извини… я не одета». – «Тетя Лиза, места не нахожу. Что делать? Тоска такая – хоть вешайся». – «Сережа, ночь давным-давно, побойся Бога. Если совсем голову потерял, считаешь, что полегчает, если повесишься, то вешайся. Завтра поговорим, а сейчас иди – спи». Поэт, вспоминают, извинился, что побеспокоил, и ушел. Навсегда ушел…
Потом про самоубийство Есенина Галина Бениславская напишет таинственную фразу: «И знаю еще: уже оттолкнув тумбу, он опомнился, осознал, хотел вернуться и схватился за трубу. Было поздно». Сама она, застрелившаяся, как известно, на могиле поэта, предусмотрела все и написала в записке: «Если финка будет воткнута… после выстрела в могилу – значит, даже тогда я не жалела. Если жаль – заброшу ее далеко…» Стальная женщина, ничего не скажешь…
Впрочем, меня в воспоминаниях о смерти поэта изо всех жутких подробностей резанули две детали. Первая – это слова в медицинском заключении, составленном судмедэкспертом Гиляревским: «…рот сжат, кончик языка ущемлен между зубами». И хотя я знаю (кто этого не знает?!), что повешенные обычно прикусывают язык, перечитать фразу я не мог. Ведь поэт еще недавно спорил о словарях с любимой им Надеждой Вольпин, которая жила здесь, в Ленинграде, и у которой от него останется ребенок, и в запале гордо выкрикнул: «Язык – это я!» Да, речь идет о другом значении слова, но читать заключение дальше было невозможно.
И вторая деталь: когда поэта вынесли из «Англетера» черным ходом во двор (через главную дверь категорически запретило начальство), вынесли на мороз в ночной рубашке, в серых брюках и в носках и положили на дровни, то голова Есенина не поместилась на коротких санях – она свешивалась с них и ударялась о мостовую. «Милиционер, – как пишет свидетель, – весело вспрыгнул на дровни, и извозчик так же весело тронул…»
Убили ли поэта? Не знаю. Знаю другое: скоро никого из тех, кто считался поэтом «есенинского круга», в живых не останется. Пустыня окажется на месте крестьянской поэзии России. Считайте сами: Алексей Ганин – расстрелян в 1925-м, несмотря на то, что в тюрьме сошел с ума; Павел Васильев – приговорен к расстрелу 15 июля 1937 года; Иван Приблудный – расстрелян в том же году вместе с первым сыном Есенина, Георгием; Сергей Клычков – расстрелян 8 октября 1937 года; Николай Клюев – 23 октября того же 1937-го; Василий Наседкин, муж сестры поэта, и Петр Орешин – 15 марта 1938 года…
А что же предсмертные стихи, написанные кровью? Известно, что поэт быстро сунул их в карман пиджака Эрлиха: «Это тебе». А когда тот потянулся прочесть, улыбнулся: «Не читай. Успеешь!» Эрлих, как он вспоминал потом (чему, вообще-то, мало кто верит!), не успел – прочел после смерти поэта. И больше это стихотворение (оригинал, написанный кровью) до 1930 года никто не видел. Через годы Эрлих признается некоей Каминской: он с Есениным вместе договорился покончить с собой; он должен был прийти к поэту в гостиницу, но не пришел. «Когда же я спросила, как это случилось, что он не пришел, – пишет Каминская, – Эрлих… был очень смущен…» Вольфа Эрлиха тоже расстреляют в 1937-м, и он уже ничего не ответит нам, потомкам. Но в воспоминаниях его осталась одна загадочная фраза: «И наконец, пусть он (Есенин. – В.Н.) простит мне наибольшую мою вину перед ним, ту, которую он знал, а я – знаю»… Кто только не ломал голову над этой фразой! Многие сходились на том, что фраза должна была заканчиваться иначе – ту вину, «которую он не знал, а я – знаю». Это «не» даже внесут потом в некоторые переиздания книги Эрлиха «Право на песнь».
Впрочем, важнее другое: исследователи гадают – что же это за вина? Так вот, журналист Вержбицкий, хорошо знавший Есенина, высказал догадку: вина Эрлиха в том, что он не передал предсмертное письмо Есенина Гале, а из тщеславия заявил, что оно было адресовано ему… Так это или нет? Эрлих воспоминаний своих не закончил. На словах вроде бы говорил друзьям, что никогда не утверждал, будто «письмо» посвящено ему Одно ясно: Галя – это Бениславская. А «письмо» – предсмертное стихотворение: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» Неизвестно, догадалась ли Бениславская, перед тем как нажать курок на могиле Есенина, что стихотворение обращено к ней? Известно другое: именно Бениславской едва ли не в последнем своем письме Есенин напишет, как мог бы написать только единственному другу: «Не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью…» Прощание, обернувшееся прощанием с жизнью…
«Ах, доля-неволя, глухая тюрьма. Долина, осина. Могила темна…»
Это не стихи его, это песня, которую он несколько раз принимался петь в 5-м номере «Англетера». Она ему в тот год страшно нравилась…
Что ж, такую песню только в пустыне и петь…
Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен…
Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово…
Гумилева расстреляют в тридцать пять лет. По глухим сведениям, он в тот августовский рассвет, стоя на краю ямы, вырытой на Ржевском артиллерийском полигоне под Петроградом, где-то между поселками Приютино и Старое Ковалево, спокойно выкурил папиросу, улыбался. «Шикарно умер, – скажет один поэт, близкий к чекистским кругам. – Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, конечно, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает». Он, этот поэт (я не хочу называть имени!), просто не знал, что для Гумилева любой человек лишь «настолько человек, насколько побеждает свой страх», не слышал его слов, которые запишет позже художественный критик и искусствовед Эрих Голлербах: «Нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Если приучить себя к этому, ничто не будет страшно…»
В этом – весь Гумилев!
Он – романтик, поэт, дуэлянт, бродяга и денди, авантюрист и любовник – всю жизнь приучал себя идти по линии наибольшего сопротивления. С младых ногтей. Может, оттого, что родился в страшную бурю, да еще на острове. Остров назывался Кронштадтом. А буря стала символом! Нянька поэта, которая верила в приметы, тогда и напророчила ему «бурную жизнь». Да и родословная, к слову сказать, обязывала: прапрадед Гумилева, потомок князя Милюка, сражался под Очаковом, прадед по матери был ранен под Аустерлицем...[143]
Ему было семь лет, когда родители его, переехав из Царского Села, поселились в доме на углу 3-й Рождественской и Дегтярного переулка. Ныне это дом №32 по 3-й Советской улице. В нем, под самой крышей, в квартире номер 8, которая жива и сегодня, и поселился с семьей отец поэта – в прошлом морской врач, а ныне статский советник в отставке.
Гумилев был мальчишкой и в тридцать пять, напишет позднее поэтесса Одоевцева. «Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка, который хотел быть всегда и везде первым». Сам поэт утверждал: у каждого человека есть истинный возраст, независимый от паспорта и прожитых лет. Про себя говорил: «Мне вечно тринадцать лет». Так вот, из этого дома он уедет, когда ему исполнится одиннадцать, но он, смею вас уверить, уже был личностью.
В этой квартире, жизнь еще была расписана не им: «завтрак, разговоры о делах и политике, прогулки, чтение вслух, вечером зажигались свечи, приходили гости, хрустели белые скатерти». Он еще ребенок. Но вот деталь: когда отец, ходивший не раз в кругосветки, начинал рассказывать о морских походах или когда читали вслух о путешествиях, гимназист Коля деловито раскладывал «взрослую» карту и пытался отмечать маршруты героев. Занятная черта, не так ли? Недаром «земные бродяги» – покорители пространств – станут для него идеалом. Кстати, и самые первые стихи его были о путешествиях. Мать поэта бережно хранила их в отдельной шкатулке. Ахматова, будущая жена его, запомнит одно из них: «Живала Ниагара // Близ озера Дели, // Любовью к Ниагаре // Вожди все летели…» А через два десятилетия ему, уже профессиональному путешественнику, именитый абиссинский вельможа Макконен – отец, говорят, будущего императора Эфиопии Хайле Селассие Первого – подарит в Африке целую реку. Найти бы ее сейчас, ведь она течет где-то…
В гимназии Гуревича[144], в уцелевшем по сей день доме на Лиговке (Литовский пр., 1), из-за чего сама Лиговка наводила потом на поэта «бесконечную тоску», Гумилев, помимо географии, полюбит и зоологию. Зверей полюбит настолько, что возненавидит «Крокодила» Чуковского. Всякую обиду зверям будет считать личным оскорблением. «В этом, – пишет в дневнике Чуковский, – было что-то гимназически милое…» Правда, сам обращался с животными, случалось, с детской жестокостью. Например, однажды, на даче в Поповке, под Петербургом, устроил для матери «музей»: поймал четырех лягушек, двух жаб и двух ящериц и, привязав их, еще живых, к шестам, воткнутым в клумбу, привел к ним с закрытыми глазами Анну Ивановну. «Вот, мама, смотри. Это для тебя! Это твой музей!» Мать расплачется: «Скверный, злой, жестокий мальчишка!» Но Гумилев, не поняв ее реакции на «дорогой подарок», убежит от обиды в лес, чтобы его убили разбойники. Еле найдут…[145]
Вообще Анна Ивановна главным считала воспитать в детях вкус. Сущность человека, утверждала, определяется и выражается вкусами, и развивать их – значит формировать характер. Отличный, на мой взгляд, способ вырастить личность! А из методов воспитания признавала лишь доброту. Неудивительно, что Коля и был добр. Удивительно другое: он старался скрывать добрые поступки. В дом Гумилевых, например, многие годы приходила по воскресеньям старушка из богадельни. Ничья бабушка, просто человек. Так вот, Коля за неделю вперед прятал для нее конфеты и пряники, а когда она являлась, крадучись, не видит ли кто-нибудь, отдавал их ей и краснел, если старушка начинала целовать и благодарить его. Он даже играл с ней в лото и домино, что на самом деле просто ненавидел. А когда ему купили велосипед, редкость по тем временам, то на нем катался весь двор. Кстати, однажды, когда какой-то мальчик, как и у сегодняшних мальчишек случается, долго не отдавал велосипед, Коля погнался за ним и крикнул: «Отдай велосипед! Я тебе как дворянин дворянину говорю…»
Смешно, но если быть точным, Гумилев дворянином не был. Отцу его было пожаловано дворянство, но оно не передавалось по наследству. Известно, например, что в январе 1912 года Дмитрий Гумилев, брат поэта, обратился в Сенат с прошением о признании его потомственным дворянином, но получил отказ, «поскольку отец его приобрел на службе лишь личное дворянство, которое по законам Российской Империи на потомков не распространялось». Впрочем, пожалованное дворянство передавалось по наследству, если жалованный дворянин был награжден двумя орденами, а отец поэта две необходимые для этого награды имел. Так что отказ в официальном дворянстве сыновьям его по меньшей мере необъясним…
«Мое детство было… волшебным, – вспоминал Н.Гумилев. – Я был колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Так, у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была – это я один знал – жабой. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство. Или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое». Приметой его детства, своеобразным талисманом, станут для него сказки Андерсена, первая прочитанная им книга. Он будет суеверно хранить ее всю жизнь, до дня ареста. И про книгу эту будут знать почти все друзья его, почти все его женщины…
Когда Гумилевы переедут на новую квартиру (Невский, 97, кв. 12), Коля, как вспоминал Леман, однокашник его, заполнит свою комнату картонными латами, оружием, шлемами, доспехами, а также попугаями, собаками, тритонами и прочей живностью. А в Царском Селе, где семья поселится позже, превратит свое жилье в «морское дно»: выкрасит стены в цвет волны, нарисует русалок, рыб, подводных чудовищ, а посреди этого великолепия устроит фонтан. Теперь он для друзей то Брама-Тама в «тайном обществе», то Нэн-Саиб, герой сипаев в Индии, то Надол Красноглазый из романов Буссенара. Не знаю, как с воспитанием вкуса, которое исповедовала его мать, но вкус живой рыбы он узнал. Когда мальчишки пекли рыбу на костре, Коля на спор откусил голову трепыхавшемуся еще карасю. Статус «вождя краснокожих» обязывал. И, разумеется, честь.
Учился Гумилев скверно: сначала в четвертом, а потом и в седьмом классе сидел по два года. Но вот что поразительно – гордился этим. «Недостатками следует гордиться, – не без апломба повторял он, – это их превращает в достоинства…» Правда, никогда не вспоминал потом, что в гимназии увлекся одно время марксизмом, даже пробовал читать «Капитал». Это случилось, когда влюбился в девочку, Машу Маркс, которой посвятил целую тетрадь подростковых еще стихов. А со следующей детской «любовью» случился просто конфуз. Желая поразить какую-то гимназистку Таню, он, отвечая на вопросы ее девичьего альбома – ваш любимый цветок, писатель, блюдо? – не задумываясь, написал: «Орхидея. Уайльд. Канандер». «Эффект, – рассказывал потом, – получился полный… Все стушевались… Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце». Он так возгордился своей оригинальностью, что даже дома рассказал об этом. «Повтори, Коленька, – спросила Анна Ивановна, – какое твое любимое блюдо?..» – «Канандер, – валено ответил он. – Это, мама, – разве ты не знаешь? – французский очень дорогой и очень вкусный сыр». Мать всплеснула руками: «Камамбер, Коленька, а не канандер!..» Сказать, что Коленька был раздавлен – не сказать ничего. Из героя вечера он мгновенно превратился в посмешище. Всю ночь он крутился в кровати, размышляя, как завладеть проклятым альбомом, как уничтожить его. К утру решил вопрос кардинально – попросту вычеркнул эту Таню из жизни…
Болезненно самолюбивый, он к тому же был страшно, неправдоподобно правдив. Когда на одном экзамене в гимназии его спросили, почему он плохо подготовился, Гумилев с вызовом ответил: «Я считаю, что прийти на экзамен, подготовившись… это все равно что играть… краплеными картами!» Ахматова, услышав от кого-то эти слова, воскликнула: «Узнаю, узнаю… Весь Гумка в этой фразе!..»
А вообще, что с того, что он дважды сидел в седьмом классе, если через год, в восьмом, ухитрится выпустить первую книгу стихов, пусть и за свой счет, пусть и крошечным тиражом! Сам отвез рукопись в типографию (Садовая, 18), сам забрал потом 300 экземпляров отпечатанного сборника, на каждом из которых было крупно набрано название «Путь конквистадоров», то есть «завоевателей»[146]. «Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым», – говорил позже. Он даже некрасивость свою пытался побороть силой воли: часами стоял перед зеркалом, стараясь самогипнозом исправить врожденное косоглазие. Был столь самолюбив, что еще семилетним ребенком рухнул в обморок, узнав, что другой мальчик перегнал его, состязаясь с ним в беге. Играя со старшим братом «в индейцев», именно себя «назначал» вождем, и брат, надо сказать, не возражал. А в одиннадцать лет едва не покончил с собой, когда взрослые неосторожно засмеялись, видя, как неловко он взобрался на лошадь…
Надо сказать, быть первым ему, при физической слабости, было труднее, чем сверстникам. «И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались, – говорил много лет спустя. – Смелость заменяла мне силу и ловкость». Но главное, как рассказывал Георгий Иванов, хорошо знавший поэта, он, «ложась спать, думал об одном: как бы прославиться. Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в гимназию. Он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Безразлично что – только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему. И, от природы робкий, застенчивый, болезненный человек, Гумилев “приказал” себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим два Георгия, заговорщиком». Помните его принцип: «Всегда – линия наибольшего сопротивления»? Он и женщины будет добиваться так же – тараном, через пять ее отказов и две свои попытки самоубийства.
Имя этой женщины – Анна Ахматова. Они познакомятся еще гимназистами в Царском Селе, в сочельник. Он ей не понравится. Но ради нее он и будет всю жизнь совершать свои романтические подвиги.
Однажды там же, в Царском, где жили их родители, он на день рождения подарит ей букет цветов. Пишут, что мать Ахматовой якобы с гримасой вздохнет: «Боже… ведь это уже седьмой букет сегодня!» Гумилев, ни слова не говоря, исчезнет. Через некоторое время появится вновь с еще более пышным букетом. «Как мило, Коля, с вашей стороны осчастливить нас и восьмым букетом!» – рассмеялась мать Ахматовой. «Простите, – холодно отчеканил Коля, – это не восьмой букет, это цветы императрицы!»
Оказывается, как вспоминал свидетель, он перелез через решетку царского сада и опустошил клумбу под самыми окнами флигеля вдовствующей императрицы[147].
Это был поступок, это, пишут, было небезопасно…
А через два года из-за Ахматовой он, уже признанный поэт, бросит в рот довольно крупный, «шершавый на вкус» кусок цианистого калия.
Бросит и зажмет рот рукой… Почему выживет – тайна и по сей день.
В один из августовских дней 1909 года в доме из черного камня на Васильевском острове поселился странноватый, я бы сказал, чудаковатый господин. Первокурсник юрфака Петербургского университета, два года, кстати, отучившийся в Сорбонне, верящий в астрологов, каббалу, амулеты, дрессировщик ящериц и тарантулов, которых таскал в спичечном коробке прямо в кармане, но главное – автор двух поэтических сборников. По названию первого сборника его долгое время называли конквистадор – «завоеватель». Но конквистадор носил пальто в талию а-ля Пушкин, цилиндр, тросточку и, что уж совсем не подобало завоевателю, подводил брови. Более того – красил, представьте, губы. В поэтических кругах того времени так «исправлять природу» было, что называется, в порядке вещей. Необычно было другое: в комнате, которую он на парижский манер называл «ателье», не только развесил шкуры зверей, но завел черепаху, попугая, змей.
К странному господину приходили такие же странные, шумные, не вполне трезвые знакомцы: Толстой, Городецкий, Кузмин, Ауслендер, Потемкин, два его ближайших друга – элегантный поэт Лозинька и лохматый, немного сумасшедший знаток папирусов и ассирийской клинописи Шилей (Лозинский и Шилейко). Приходили и женщины – конквистадор считал себя отъявленным ловеласом. У него было два романа в Париже, а в Царском Селе в него влюбились как-то аж три сестры сразу, одна из которых из-за него бросила даже родной дом, чего строгий отец так и не простил ей всю жизнь[148]. А еще одна из бывавших здесь – художница Надежда Войтинская, которая скоро в Териоках, в нынешнем Зеленогорске, швырнет на лед залива перчатку свою и предложит конквистадору достать ее, и он, рыцарь, называвший ее Дамой, проламывая лед лакированными туфлями, достанет перчатку – так вот, Войтинская именно в этом доме начнет рисовать его портрет. И, кстати сказать, вполне могла не закончить его – из-за другой дамы, некрасивой хромоножки, с которой у конквистадора случилась такая любовь, что хромоту ее он заметит только после разрыва с нею. Я говорю о поэтессе Елизавете Дмитриевой, о знаменитой Черубине, из-за которой он будет драться на дуэли с Волошиным. Поединок, как помните, окажется бескровным, хотя наш ловелас, который просто нарывался на пулю, будет требовать второго, а потом и третьего выстрела противника…
Да, Гумилеву, этому странноватому господину, поселившемуся на Васильевском острове, везло. Иногда – сказочно. Но мы же знаем, что везет именно рисковым. Ведь как раз благодаря дуэли Гумилев, уехав из Петербурга в Киев, вернется сюда женихом той, которую, несмотря на все свои романы, одну и любил. Женихом Ахматовой. В Киеве, в кафе гостиницы «Европейская», она, возмущенная поведением Дмитриевой, которое послужило поводом к дуэли, и возненавидевшая на всю жизнь Макса Волошина, вдруг легко согласится на пятое, очередное предложение Гумилевым руки и сердца. Он как раз недавно написал ей в письме фразу, которую она запомнит навсегда: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам». Ахматова скажет позже: «Это почему-то мне показалось убедительным…» Разумеется, все там было сложнее и темнее в ее отношениях к нему, «круче» с чувствами и переживаниями, но факт остается фактом – он добился ее руки.
Чего только не пережил из-за нее! За обедом, как рассказывал его брат, клялся, что пустит себе пулю в лоб, если любимая его (имя не называл) не выйдет за него замуж. Живя в Париже, бегал через весь город, лишь бы взглянуть на бульвар Севастополь, потому что она жила тогда с матерью под Севастополем. Там же, в Париже, основал журнал «Сириус», первый русский литературный журнал за рубежом (опять стал первым!), в котором напечатал ее стихи. Но она, месяц еще назад написавшая в одном из писем, что готова выйти за него замуж, смеясь, сообщит мужу своей сестры: «…“Сириус”. Это меня приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну! Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа! Бывает!» Ныне покойный Вадим Бронгулеев, написавший толковую книгу о Гумилеве, прочитав об этом, просто взорвался: «Если бы Гумилев все это знал! Может быть, он понял бы, что встретил и полюбил глубоко чуждую ему душу. Ведь вся его последующая жизнь могла бы пойти совсем иным путем».
Не знаю, прав ли исследователь. Мне думается: не было бы этого сопротивления кокетливой, ускользающей, талантливой женщины – не было бы, возможно, и Гумилева, каким мы знаем его сегодня. Она смеялась над посвященным ей стихотворением про озеро Чад, называла его раннюю поэзию «маскарадной рухлядью» (уж не потому ли, как пишет один филолог, что там было маловато строк про нее?). Наконец, издевалась над страстью Гумилева к путешествиям и, когда он, например, начинал перед гостями восхищаться Африкой, демонстративно уходила в другую комнату, бросая на ходу: «Скажи, когда кончишь рассказывать…» А когда он, сорвавшись из Парижа, заняв деньги у ростовщика, чуть ли не в трюме парохода, чуть ли не зайцем приехал к ней с очередным предложением руки и сердца, призналась, что любит другого и – главное – что не невинна. Вот это был удар! Ведь для него она была почти святой. От этого удара он придет в себя только много дней спустя, можно сказать, очнувшись в Булонском лесу[149].
«Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва, – расскажет потом Алексею Толстому. – Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг – деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака – казались мне жесткими, пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю… я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, – он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его… в рот, – мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда…»
Что произошло дальше – неизвестно. То ли Гумилева обманули и это был не яд, то ли какой-то невероятный, но счастливый случай…[150] В одном можно не сомневаться: это было! И не потому, что в его «репертуаре», по словам той же Войтинской, громадную роль играло самоубийство (он считал, что любая женщина может потребовать от него покончить с собой). Просто он уже приучил себя побеждать страх. Толстому, кстати, сказал: «Вы спрашиваете, – зачем?.. Привязалась мысль о смерти. Страх смерти… был неприятен. Кроме того, здесь была одна девушка». Что за девушка, мы уже знаем. Все у него сойдется поразительно!
5 апреля 1910 года Гумилев подаст прошение ректору университета о разрешении вступить в брак. 14-го получит его. 16 апреля выйдет его книга «Жемчуга», которую он повезет невесте в Киев с надписью: «Кесарю кесарево». А 25 апреля в Николаевской церкви села Никольская слободка Остерского района Черниговской губернии он станет мужем Ахматовой. «В тот день, – вспоминала она, – Уточкин летал над Киевом, и я впервые увидела самолет». Заметила ли другое – как летал, не чуя от счастья под собою земли, тот, кто надевал ей в тот день обручальное кольцо?.. Кстати, никого из ее родных на венчании не было – никто не верил, что брак будет долговечным.
А через два года на Васильевском острове, в клинике Отто (Менделеевская линия, 3), на свет появится их сын Лев (по другим сведениям – Ахматова родила его в приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии).
Они жили тогда в Царском Селе. «Проснулась рано утром – толчки, – вспоминала Ахматова. – Заплела косы и разбудила мужа. Поехали в Петербург. С вокзала шли на Васильевский пешком. Гумилев растерялся и забыл поймать извозчика. Пришли к 10 часам утра. А вечером Гумилев пропал. Не ночевал дома. Утром все пришли поздравлять, а мужа нет. Потом явился смущенный, с “лжесвидетелем”». Тоже факт – редкий! Маковский, ссылаясь на троюродного брата Гумилева Кузьмина-Караваева, расскажет потом, что Гумилев кутил в ту ночь до утра, пил в обществе каких-то девиц и настаивал на своем презрении к «брачным узам». Увы, это похоже на правду. Они, Ахматова и Гумилев, давно уже не «уличали» друг друга ни в чем – знали об обоюдных изменах и, кажется, спокойно относились к этому. Более того, можно даже задаться вопросом: а не был ли Гумилев в ту ночь (если сопоставить даты) на улице Глинки?
Там, в двух шагах от Мариинского театра (ул. Глинки, 3), жила актриса Ольга Высотская, с которой у Гумилева уже восемь месяцев продолжался сумасшедший роман. Она тоже вот-вот родит ему сына. Играла в Театре интермедий, в Старинном театре, в териокском театре, в той же Мариинке. Бредила Индией и любила не только зажигать в доме пахучие травы, но и курить какие-то экзотические индусские папироски. Вообще-то они, Гумилев и Высотская, могли быть знакомы еще с 1909 года, когда оба играли в пьесе Сологуба «Ночные пляски» (я рассказывал об этом спектакле в главах о Сологубе), где были, напомню, заняты даже поэты и художники. Высотская в той пьесе играла одну из двенадцати королевен-босоножек, а Гумилев – короля Зельтерского. Могли быть знакомы, но заметили ли друг друга? Ведь влюбятся – это известно точно! – только через три года, в «Бродячей собаке», в день, когда Ахматова впервые читала там свои стихи.
…О, этот день, 13 января 1912 года, окажется памятным многим! В ту ночь в «Собаке» чествовали Бальмонта… без Бальмонта. Сам Бальмонт был в это время в Париже, но вечер в «Собаке» был посвящен ему – к тому времени чуть ли не классику. Шумно, дымно, крикливо – так было в тот вечер в подвальчике. А Высотская, представьте, всего этого даже не заметит – не упомянет в своих воспоминаниях. Зато она, пришедшая сюда с подругой, актрисой Алисой Твороговой, запомнит все, что касалось Гумилева. Весь вечер Гумилев, несмотря на присутствие жены, просидит за столиком Высотской.
Потом, еще до рождения сына от него, Высотская первая порвет с ним и навсегда уедет в провинцию. В документах будет значиться как вдова, хотя юридически таковой не была. И в одном из писем Мейерхольду, с которым подружилась еще до Гумилева, напишет уже из провинции: «Когда я вернусь в Петербург? Мне кажется… никогда… Я была влюблена в город, я так часто бродила ночью, одна, и он знает все мои чувства, все мысли, все, что было эти четыре года. Теперь он умер вместе с моей сказкой… Я не могу приехать. Моя жизнь совершенно изменилась. Судьба. Я ничего не могу изменять в своей жизни». Позже взмолится: «Не надо говорить, чтобы я приехала… Это невозможно, нельзя. Поверьте мне».
Она будет работать режиссером в любительских театрах, преподавать в школе музыку. Но, главное, там, в Курской губернии, родит сына от Гумилева и назовет его Орестом. Ахматова в 1930-х годах, когда обе женщины подружатся, легко убедится в отцовстве Гумилева. «У него, – скажет про Ореста, – Колины руки…» Но самая большая странность, какая-то мистика состоит в том, что сначала Высотская и Ахматова умрут в один год, а потом, через десятилетия, также в один год скончаются и их сыновья – Лев и Орест[151]…
…Гумилев еще вернется в дом на 5-й линии, с которого я начал свой рассказ. Здесь поселится его друг Шилейко, и Гумилев в 1914 году остановится у него. Гумилев приедет из Прибалтики от Татьяны Адамович, с которой у него вспыхнет долгий роман. И вот с нею-то случилось в дальнейшем нечто и вовсе необъяснимое. В 1968 году, уже после смерти Ахматовой, брат Татьяны, поэт Георгий Адамович, уехавший в начале 1920-х в Париж, скажет журналисту Аркадию Ваксбергу, что у его сестры от Гумилева также был сын. «Скорее всего», скажет, от Гумилева! И знаете, как Татьяна его назвала? Орестом – так же, как и Ольга Высотская. Но и это не все. Татьяна, навсегда уехав в Польшу, став там балетмейстером, выйдет замуж и возьмет фамилию мужа – Высоцкая. Два сына с именем Орест от двух женщин с одинаково звучащими фамилиями – не слишком ли даже для Гумилева?
Впрочем, и о Татьяне, и о версии Ваксберга я расскажу у следующего дома поэта.
Этот дом, продуваемый со всех сторон морскими ветрами, может, самый таинственный петербургский дом Гумилева. Я уже писал о нем, рассказывая об Ахматовой. Но не сказал, что нынешняя хозяйка квартиры, где поэт снял комнату в 1912 году, жаловалась мне, что жилье это, когда она въехала сюда, «пошаливало». По ночам здесь раздавались иногда чьи-то глухие голоса, тупились столовые ножи, а собака подолгу лаяла, уставившись в один и тот же угол.
Да, я опять говорю о «Тучке». Ахматова, кстати, чтобы ни утверждали ныне исследователи ее жизни, не только ночевала здесь иногда, но и жила, наезжая сюда из Царского. Но комнату снял тут именно Гумилев, и обойти этот дом в его жизни никак невозможно. Всем, кстати, говорил, что снял комнату здесь, чтобы быть поближе к университету, где к тому времени восстановился. Хотя это лишь одна причина. Мне лично видятся, по крайней мере, еще три. Во-первых, сбежал от сына-младенца, которому только-только исполнился месяц. Во-вторых, в двух шагах отсюда, на квартире его друга Лозинского, образовалась тогда же редакция их общего поэтического журнала «Гиперборей». А в-третьих… Впрочем, о третьей причине я, пожалуй, скажу позже…
Вообще, несмотря на то, что Гумилев рано начал издавать книги своих стихов, он трудно входил в круг петербургских поэтов. В 1935 году мэтр, учитель, законодатель мод Серебряного века Вячеслав Иванов скажет о Гумилеве: «Наша погибшая великая надежда». Какой пафос, однако, какой высокий тон! Убили, дескать, великого поэта. Но тогда, в начале 1910-х, Вячеслав Великолепный не только не считал его великим – едва ли не презирал. «Ведь он глуп, – говорил С.Маковскому, – да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан». Даже Ахматовой, когда она с мужем приходила в его дом, на «Башню», он потихоньку от Гумилева втолковывал, что тот ей не пара. Лукавый был человек! И мнения его тогда не были безобидны – могли уничтожить любого. Их подхватывали на лету, их придерживались многие. Они, эти «многие», и трепали имя Гумилева по салонам да собраниям. И слишком, мол, церемонный, и высокомерный, и заносчивый. Даже друг Гумилева, А.Толстой, и тот напишет: «Длинный, деревянный, с большим носом… В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой». Напыщенность, важность… Хотя на деле, по словам Ахматовой, он был на редкость простым и добрым человеком. И еще, повторю, вечно хотел быть первым. Кстати, состязание за «первенство» в поэзии он, как сын военного, может быть, слишком прямо сравнивал с ранжиром и чинопочитанием. Любил повторять: «Чин чина почитай!» К.Чуковский довольно язвительно напишет об этом в дневнике: «Сейчас вспомнил, как Гумилев почтительно здоровался с Немировичем-Данченко (писателем, братом режиссера. – В.Н.) и даже ходил к нему в гости – по праздникам. Я спросил его, почему. Он ответил: “Видите ли, я – офицер, люблю субординацию. Я в литературе – капитан, а он – полковник”». Горького, кстати, вообще называл «генералом». Не отсюда ли, рискну предположить, кажущаяся важность и чопорность его? «Noblesse oblige» – «положение обязывало». Ведь он был уже и главой акмеизма – придуманного им направления в поэзии, и основателем знаменитого – первого еще – «Цеха поэтов»[152].
Впервые «Цех поэтов» собрался на квартире Городецкого (Фонтанка, 143, кв. 5). Пяст, Кузьмина-Караваева, А.Толстой с женой, Мандельштам, Нарбут, Зенкевич, Василий Гиппиус – всего в «Цех» вошли двадцать шесть поэтов. Был здесь в тот вечер и Блок с женой, которая пришла в «новой лиловой бархатной шубке». Не знаю, говорили ли о направлениях в поэзии, но точно известно, что читали стихи, веселились, даже танцевали. «Было весело и просто. С молодыми добреешь, – запишет в дневнике Блок. – Кузьмина-Караваева танцует. Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже». Смешно… Ведь те же рассказы Толстого – «кто кого побил в Париже» – и через двадцать пять лет отметит у него Михаил Булгаков. Заметит Блок здесь и Ахматову. Правда, случится конфуз. «В то время была мода на платье с разрезом сбоку, ниже колена, – расскажет потом Лукницкий. – У нее платье по шву распоролось выше… Это заметил Блок. Когда вернулась домой, ужаснулась, подумав о впечатлении, которое произвел этот разрез на Блока». Упрекнула мужа. Гумилев пожал плечами: «Я думал – так и нужно… Я ведь знаю, что теперь платья с разрезом носят…»
Впрочем, вернемся в Тучков переулок, а по пути заглянем в дом, который и ныне стоит почти рядом (Волховский пер., 2). На Волховском, в новой просторной квартире друга Гумилева, Михаила Лозинского (до этого он жил тут же, на Васильевском, – Румянцевская пл., 1), расположилась тогда редакция их общего журнала «Гиперборей»[153], где Гумилев опять станет первым: окажется главой журнала. Хотя официально редактором издания значился Лозинский.
Здесь, на Волховском, это отмечают все, было молодо и весело. Чаще всего смеялись тому, что бывавшие тут Мандельштам, Кузмин, Георгий Иванов, молодой Эренбург, Гедройц, – все писали так называемые «Античные глупости», шутливые подражания древним грекам. Про хозяина сочинили: «Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны: // Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей…» Это – Мандельштам, он, задыхаясь от смеха, больше всего и изощрялся в античных глупостях. « – Лесбия, где ты была? – дурачась выкрикивал он и сам же отвечал: – Я лежала в объятьях Морфея. // – Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!..»
В редакции все было и милым, и смешным. Когда Лозинскому, редактору, сказали однажды: «Запаздывает ваш журнал. Что подумают подписчики?» он сначала задумчиво наморщил лоб: «Действительно неудобно», а потом вдруг рассмеялся: «Ну ничего, я им скажу…» Тираж-то был двести экземпляров, а расходилось едва семьдесят. Так что всех «подписчиков» и впрямь можно было предупредить при встрече или, скажем, по телефону. Такой вот почти семейный журнал…
Собирались у Лозинского по пятницам в большом кабинете хозяина с желтыми кожаными креслами, толстым ковром и огромным зеркальным окном на Малую Невку, Тучков буян, вмерзшие парусники и барки на фоне красного зимнего заката. Горничная в наколке разносила чай, бисквиты, коньяк. «Фигурой был, конечно, Гумилев, – писал Георгий Иванов. – В длинном сюртуке, в желтом галстуке, с головой, почти наголо обритой, он здоровался со всеми со старомодной церемонностью… Садился, вынимал огромный, точно сахарница, серебряный портсигар, закуривал. Я не забуду ощущение робости (до дрожи в коленях), знакомое далеко не мне одному, когда Гумилев заговаривал со мною. В те времена я уже был с ним на “ты”, но это “ты, Николай”, увы, сильно походило на “Ваше Превосходительство” в устах подпоручика…» Расходились, когда в чинном кабинете наступал беспорядок. Гурьбой шли по лестнице, гурьбой подходили к «ручке» Ахматовой. Уже застегивая полость саней, Гумилев бросал: «Жоржик, я жду тебя завтра. Осип, не забудь принести мне моего Верлена. До свиданья, господа!..» Через три года они вновь соберутся здесь. Ахматова, как пишут, именно здесь прочтет друзьям свою поэму «У самого моря». Но это будет уже после третьей поездки Гумилева в Африку…
Да, третьей причиной переезда поэта на «Тучку», о которой я обещал рассказать, была именно Африка. Гумилев как раз в 1913 году, уже в четвертый раз, собирался туда. Теперь ехал по заданию Музея антропологии и этнографии Академии наук (Университетская наб., 3). В здании академии на Неве и снаряжали его экспедицию. Даже мать поэта не только дала ему денег, но и, «шурша шелком парадного платья», пошла к знакомым в министерства хлопотать за сына. А сам «чужих небес любовник беспокойный» споро доставал палатки, ружья, седла, лекарства. «Занятый человек тем и отличается от праздного, что успевает все», – любил говорить он. Он успеет к своим двадцати семи годам не только пройти пешком девятьсот километров по Африке, но и за полгода путешествия собрать и передать в Академию уникальные экспонаты[154]. «Интересна коллекция в 128 предметов», – читаем в отчете академика Ольденбурга. Стрелы, колчаны, щиты, копья, ножи, утварь. Мне, когда я как-то зашел в музей, бережно показывали некоторые предметы, привезенные Гумилевым из Африки, – они сохранились.
«Однажды в декабре 1912 года, – запишет в дневнике Гумилев, – я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами, уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога…» Поговорив с ним о львах, гиенах и диких племенах, профессор дал ему рекомендательное письмо в Академию наук. «Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами… и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами. С тех пор, – продолжает Гумилев, – прошло пять месяцев. За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных… кабинетах, на чердаках и в подвалах… этого большого здания над Невой. Я встречал ученых, точно… соскочивших со страниц Жюля Верна…» Они, блестя от возбуждения глазами, говорили поэту и о тлях, и о кокцидиях, и о шкуре красной дикой собаки. «Принципы науки оказались доброжелательными», – делает вывод Гумилев.
Они, эти принципы, добавлю от себя, окажутся доброжелательными и к сыну Гумилева, Льву, который через тридцать пять лет придет работать сюда же, в Музей этнографии. Ну что это, если не всесильные гены?..
За день до отъезда в Африку Гумилев заболел: сильная головная боль, температура – сорок, вспоминал Георгий Иванов. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Не подал руки Иванову: «Еще заразишься». А на другой день Иванова встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».
На рассвете, за два часа до поезда, Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его отговаривали. Но он сам побрился, выпил стакан чая с коньяком и уехал. «Линия наибольшего сопротивления» – помните принцип? А потом Ахматова читала его письмо: «Милая Аничка, я выздоровел, даже горло прошло. Мне не только радостно, а необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину». И что с того, что он не найдет в Африке «золотой двери» и это станет для него ударом, как напишет Ахматова? Поводов «выдвигать в себе мужчину» у него и впредь будет предостаточно. Он, не призывной, скоро из первых окажется на фронте. Но как это случится об этом вновь у другого дома поэта.
…А вот про худенькую, чернявую женщину с серыми глазами – Татьяну Адамович – он позднее скажет язвительно: «Очаровательная. Книги не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька…»
Где-то на Владимирском проспекте была гимназия, в которой Татьяна Адамович преподавала французский. Про «версию» рождения ее сына Ореста-«второго» серьезные ученые говорят: это апокриф, выдумка старого Георгия Адамовича. Или – оговорка Ваксберга. И впрямь: Гумилев расстался с Татьяной задолго до своей смерти и о сыне своем наверняка бы знал. Знала бы о нем и Ахматова. Но, с другой стороны, и родной брат Татьяны не мог не знать, за кого она впоследствии вышла замуж, какую взяла фамилию, как звали ее ребенка и от кого он.
А вообще, из-за Татьяны Гумилев и Ахматова чуть не разведутся. Адамович рвалась за поэта замуж, и Гумилев предложил Ахматовой развестись. «Я сейчас же, конечно, согласилась! – говорила, улыбаясь, Ахматова. – Когда касается расхождения, я моментально соглашаюсь!» Но против развода оказалась мать Гумилева, которая сказала, что любит внука даже больше сына. Тот же Адамович говорил, что сестре его Гумилев «сделал предложение в более чем странной форме. Не испросив ее согласия, сказал: “В первую брачную ночь вы войдете в спальню нагая, а я – через другую дверь во фраке и с хлыстом”… Мы долго гадали, что бы это могло значить».
Впрочем, интересней другое: Татьяна окажется учительницей – знаете кого? – Нины Берберовой! Та, девочкой еще, училась французскому в гимназии на Владимирском, как раз у Татьяны Адамович. И они были больше чем учительница и ученица – почти подруги. Если помнить, что Нина Берберова станет последней любовью поэта, то нельзя вновь не удивиться этим странным совпадениям в жизни Гумилева.
«Смерть нужно заработать», – говорил Гумилев. Мне нравится эта фраза. Нельзя уходить из жизни за понюшку табака. Вот только как поэтам удается чуять, а порой и «видеть» свою смерть? Немыслимо, но Гумилев, оказавшись на фронте, вдруг напишет в письме: «Я знаю, смерть не здесь – не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я ее вижу вдали в скупом и тусклом рассвете». Это не укладывается в голове. Как мог он за семь лет угадать «скупой и тусклый рассвет» на заброшенном полигоне, где его расстреляют чекисты; как мог, в другой раз, в стихах уже, предсказать, что умрет «не на постели, // При нотариусе и враче, // А в какой-нибудь дикой щели, // Утонувшей в густом плюще»?..
На Литейном, в доме №31, в августе 1916 года Гумилев поселяется на три месяца. Приехал в Петроград из действующей армии. Держать в Николаевском кавалерийском училище экзамены на корнета. Экзамены, а их было пятнадцать, не выдержал. Боялся испытания по «артиллерии» (об этом даже написал в записке Ахматовой), но завалил «тактику» и «топографию», а «фортификацию» даже и не сдавал уже. Последний предмет был посвящен исключительно оборонительным сооружениям, а Гумилев, так показала жизнь, не в обороне – в нападении был неотразим. Можно лишь улыбнуться тому, что экзаменов на корнета не сдал человек, который за один только год войны сумел заслужить два солдатских Георгия – за храбрость. Разве не это настоящий экзамен для мужчины?
Удивительно, но Гумилев еще до фронта был уверен, что станет Георгиевским кавалером. Поэт Михаил Зенкевич, встретив его еще в июле 1914 года в Гостином Дворе (Невский, 35), где тот покупал офицерские сапоги для фронта, услышал от него, что он поступил добровольцем в кавалерию, что Зенкевичу надо идти в авиацию (Гумилев бы и сам пошел, да не переносил высоты) и что там, на войне, он непременно получит Георгия. А вообще, Гумилев после Африки выбирал уже магистрали, а не закоулки; дороги, а не тротуары; гордое одиночество, а не мелькавшие перед носом спины толпы. Он и ходил-то теперь исключительно по проезжей части – это замечали многие. Жена его старшего брата, тоже, кстати, Анна Андреевна (опять совпадения!), писала, что он, вернувшись из последнего путешествия, привез не только попугая и чучело черной пантеры, но и шубу себе, сшитую из двух леопардовых шкур (один из леопардов был убит лично им), в которой расхаживал нараспашку «не но тротуару, а по мостовой». И всегда – с папиросой в зубах.
С папиросой в зубах он фланировал, и не раз, по брустверам окопов, за что ему постоянно влетало. Храбрый был человек![155] Много позже, в 1926-м, поэт Бенедикт Лившиц, также храбрый, удостоенный наград воин, а тогда, по словам Чуковского, «полнеющий пожилой еврей», скажет: «Только мы честно отнеслись к войне: я и Гумилев. Мы сражались. Остальные поступили, как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком».
Святая правда! Маяковского, который еще недавно так горласто приветствовал войну, друзья пристроили в автомобильную роту, постоянно квартировавшую в Петрограде, Есенина – в санитарный поезд, Мандельштам и Пастернак вообще «косили» от армии, как сказали бы сегодня, – были больны. Конечно, знаем: война империалистическая, трон презираем, отказом служить можно было даже гордиться. И только Гумилев и Лившиц полезли в самое пекло. Причем Гумилеву этого надо было еще добиваться: он с 1907 года был вчистую освобожден от службы из-за астигматизма, а при поступлении в добровольцы (в «охотники», как тогда говорили) вынужден был еще из-за косоглазия получить разрешение стрелять с левого плеча. Получил, конечно!
«Он был одним из немногих, – пишет критик Левинсон, – чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание». Лозинскому, другу, Гумилев написал с фронта: «Это – лучшее время моей жизни. Оно… напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под обстрелом, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, – я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка». Конечно, кавалеристы, как писал Гумилев в «Записках», которые печатались в «Биржевых ведомостях», – «это веселая странствующая артель, с песнями, в несколько дней, кончающая прежде длительную работу». Конечно, слегка рисовался в письмах к «дорогой Аничке»: «Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин!» А рыжей красавице с зелеными глазами, Вере Неведомской, связь с которой до войны была несомненной даже для Ахматовой (она нашла не поддающееся двойному толкованию ее письмо к Гумилеву), вообще говорил, что война для него – лишь игра, веселая игра, где ставка – жизнь. Все так! Но только в 1916-м он стал посещать церкви почему-то в одиночестве. А однажды под пулями, на полном скаку, бессознательно сочинил какую-то свою молитву Богородице…
«Дорога к разъезду была отрезана, – вспоминал он. – Оставалось скакать прямо на немцев. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась, пули свистели мимо ушей, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Все это я запомнил лишь зрительной… памятью, осознал позже. Тогда я только… бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновению опасности». Да, «смерть надо заработать». Но ведь и честь надо «заработать»…
О, как встречали его в «Бродячей собаке»! Он приехал с фронта в командировку. С Ахматовой пришел в подвал в последний раз – «Собаку» закроют в 1915 году. Сказочный вечер! Свечи, голубые кольца сигарного дыма, тихий звон бокалов, стихи, слова восхищения и опять – стихи… Гумилев был в форме кавалериста и с первым пока Георгием на груди[156]. И форма, и награда очень шли ему, «поэту-ратнику». Над Петроградом кружилась метель, завеса снежного ветра, как занавес между войной и миром, а в подвальчике – музыка, остроты друзей, взрывы смеха, блестящие в полумраке глаза влюбленных в него женщин. Тоже своеобразный фронт, если знать, сколько романов он крутил одновременно. Еще не остыла его любовь к Татьяне Адамович, а он уже флиртует с дочерью архитектора Леонтия Бенуа, тоже, кстати, Анной, кружит голову начинающей поэтессе белокурой Марии Левберг, засматривается на Олечку Арбенину, из-за которой позже будет соперничать с Мандельштамом, выстраивает роман с Магой – поэтессой Маргаритой Тумповской. Наконец, в 1916-м покоряет девушку, которой Мандельштам посвятил мадригал и которую Есенин по-деревенски звал замуж, ту, с кем его через год разведут баррикады революции, – Ларису Рейснер, студентку Психоневрологического института, красавицу, поэтессу.
Познакомятся они в «Привале комедиантов», богемном подвальчике, своеобразном «наследнике» только что закрытой «Бродячей собаки». Отсюда Гумилев пошел провожать ее домой (Б. Зеленина, 28, кв. 42), где она жила с родителями и где выпускала «семейный» журнал «Рудин»[157]. Очень скоро Гумилев стал звать ее Лери, а она его – Гафиз. «Не забывайте меня, – писал ей с фронта. – Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру ваше имя, а снитесь вы мне почти каждую ночь». Лариса отвечала: «Мне трудно вас забывать. Закопаешь все по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь ваше, и… начинается все сначала». Потом письма его станут нежнее: «Я помню все ваши слова, интонации, движения, но мне мало, мало. Это оттого, что я вас люблю».
«Я так его любила, что пошла бы куда угодно», – признавалась Рейснер, считавшая себя его невестой. Через три года она придет к Ахматовой и, как «раненый зверь», расскажет, что «была невинна», а он «очень нехорошо поступил – завез ее в какую-то гостиницу и там сделал с ней “все”…» Предлагал, правда, жениться, но она сказала, что боготворит Ахматову и не хочет сделать ей неприятное. В 1922-м, после расстрела Гумилева, она напишет матери: «Если бы перед смертью его видела – все бы простила ему, сказала бы, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца»…
Лариса найдет себе мужа – Федора Раскольникова, моряка, который в январе 1918 года станет заместителем наркома по морским делам. Ей и самой через два месяца, в марте 1918-го, предложат стать комиссаром Балтфлота, а в 1919-м лично Троцкий назначит комиссаром Морского генерального штаба. Впрочем, Раскольникова Лариса скоро бросит – ради старой коминтерновской «лисы», давно женатого Карла Радека: в «Известиях», куда она придет служить, он был большим начальником.
…В апреле 1917-го Гафиз и Лери встретятся в последний раз. Потом будут только сталкиваться. Гумилев рвался на Салоникский фронт, в русский экспедиционный корпус, в состав особых пехотных бригад, – выбил себе командировку на Запад. Ахматовой сказал на вокзале, что, может, опять попадет в Африку. А Ларисе в короткой открытке, посланной уже с дороги, посоветует: «Развлекайтесь… не занимайтесь политикой». Не послушалась, у нее были уже другие авторитеты…
Говорят, в Лондоне Гумилев стал работать в русской военной разведке – ходят такие слухи среди иных литературоведов. Этим объясняют и его возвращение в революционную Россию. На самом деле свою военную карьеру он завершил работой в шифровальном отделе Русского правительственного комитета в Великобритании. Там же, в Лондоне, познакомился с Честертоном, Йетсом, Лоуренсом, еще не написавшим скандального романа «Любовник леди Чаттерлей», Олдосом Хаксли, который тоже не думал пока о знаменитой антиутопии «О дивный новый мир». «Нового мира» – социализма – просто не существовало еще: Россия только корчилась в предреволюционных схватках. А весной 1918 года в одном кафе собрались несколько русских офицеров. Как-то сразу и вместе решили: делать здесь больше нечего, надо уезжать. Куда? Одни говорили – в Африку, стрелять львов, другие – продолжать войну в иностранных войсках. «А вы, Гумилев, куда?» Поэт ответил: «Я повоевал достаточно, и в Африке был три раза, а вот большевиков никогда не видел. Я еду в Россию – не думаю, чтобы это оказалось опасней охоты на львов». Увы, пишет Георгий Иванов, это оказалось куда опасней!..
Легенда? Возможно[158]. Но разве мы не знаем, что легенды рождаются там, где есть легендарная личность?! Гумилева, утверждают, отговаривали от возвращения, пугали хаосом, разрухой, немотивированными убийствами. Все это он и так знал, не мог не знать как служащий шифровального отдела. Но, как написал о нем Александр Куприн, «ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к Родине, сознание живого долга перед нею и чувство личной чести.
И еще старомодное было то, что он по этим трем пунктам всегда был готов заплатить собственной жизнью…»
Когда бы ни проходил мимо этого углового дома на улице Марата, всегда мне чудится одна и та же картина: глухая ночь, лето 1919-го, пустынный и гулкий перекресток, а из подъезда темного здания бесшумной тенью выскальзывает торопливо хорошенькая молодая женщина. Куда вы, хочется крикнуть ей, вы – дочь знаменитых артистов, золотая медалистка, любимица поэтов, да и сама поэт? Ведь вас, насколько я знаю, даже днем никогда не отпускали одну? Или в квартире, из которой вы бежите и которую в воспоминаниях сравните с «пещерой людоеда», оставаться было страшнее?..
Имя этой женщины уже знакомо нам по рассказам о Мандельштаме – Олечка Арбенина-Гильдебрандт. А дом, откуда она, дождавшись, чтобы заснули хозяева, выбралась в ночь, – дом Гумилева и его молодой жены Ани Энгельгардт. Ее давней подруги и столь же давней соперницы.
Арбенина помнила, как пришла сюда, хотя Гумилев после возвращения в красную Россию был тот и не тот («шпоры не позванивали, шпага не ударялась о плиты, и нельзя было дотронуться до “святого брелка” – Георгия – на его груди»); помнила, как сидели до ночи в «нарядном полумраке» на каком-то полукруглом диване, как гадали на Библии, говорили о магии и как поэт сказал, что на свете настоящих мужчин больше нет – «только он, Лозинский и Честертон». А потом, когда ее уговорили переночевать здесь и отвели в бывшую детскую, беленькую и уютную комнату, к ней со смехом вошла вдруг Аня и сказала: «Слушай! Коля с ума сошел! Он говорит: приведи ко мне Олю…» Я, пишет Арбенина, помертвела и, выждав, пока подруга заснет, выбралась из незнакомой квартиры в ночь. Про «пещеру людоеда», конечно, написала для красного словца. Ведь она все равно придет к нему, ведь их роман только-только начинался…
Вообще здесь, на углу нынешних улиц Социалистической и Марата (Ивановской и Николаевской), в бывшей квартире поэта Сергея Маковского, бежавшего на юг из «красного Петрограда», Гумилев поселится, вернувшись из Лондона в 1918-м. Жил с новой женой, своей матерью, сыном Левушкой и семьей уже тяжело больного старшего брата. И здесь он скажет Георгию Иванову странную фразу: «В сущности, я – неудачник».
Вот тебе и раз – гадают ныне биографы! Делатель судьбы, чуть ли не с детства «державший Бога за бороду», знавший именно удачи в любви, в поэзии, в путешествиях и ратных подвигах (другим такие и не снились!), и вдруг – неудачник? Почему? Да потому, думается, что недооценил большевиков. Потому, что слишком удачливыми оказались как раз они, сумевшие за один всего год сломать в его жизни все: домашнее благополучие, существование его, похожее на бесконечный праздник, его свободу и то, что он особенно любил, – светский стиль жизни: фраки, смокинги, балы и выезды, сервированные столы и изящные вещицы. Теперь, в замершем от бесконечных испытаний Петрограде, один советский чиновник скажет ему, запихивая на его глазах в печь только что открывшегося городского крематория труп какого-то нищего: «Итак, последний становится первым…» Оба при этом посмеются циничной шутке со скрытым смыслом – кто был ничем, помните, тот станет всем. Но, с другой стороны, если последний стал первым, значит, первый, считай, должен стать последним? И не сквозь слезы ли смеялся этой остроте Гумилев? Ведь он всегда хотел быть (и главное – был!) именно первым.
Недооценил большевиков. Не то что его друг – дальновидный Маковский. Тот, знаете, из-за чего убежал из Петрограда? Из-за пустяка, случая, которого Гумилев, возможно, и не заметил бы. Просто как-то утром в феврале 1917-го Маковский вышел из квартиры и, как всегда, кликнул на углу у дома извозчика. «Ко мне подъехал “ванька”, – напишет он позже, – старенький, с седой всклокоченной бороденкой. И не успел он, сторговавшись со мной, отстегнуть полость саней, как слева подошли три каких-то субъекта, одетые в кожу, и большими ножницами (какими деревья подстригают) подрезали у лошадиной морды вожжи. Все – молча. Извозчик мой, значительно как-то посмотрев на забастовщиков, вылез из саней, встал посреди улицы и опустился на колени. Снял шапку, осенил себя знамением и поклонился, лбом прямо в снежную жижу. Откинувшись назад, произнес зычным голосом: “Спасибо, братцы! Началось. Помилуй, Господи!” Ни забастовщики, ни столпившиеся прохожие не отозвались ни словом… Ясно почувствовалось мне, что действительно “началось” и добром не кончится». Маковский почти сразу, упаковав чемоданы, бросив шикарную квартиру, дела, вместе с женой оказался в Ялте, а потом – в эмиграции. А Гумилев, искатель приключений, напротив, в апреле 1918-го вернувшись из-за границы, почти сразу въехал в эту квартиру. Проживет здесь меньше года, но за это время успеет развестись с Ахматовой и вновь жениться, издать новые книги стихов и переиздать старые (он заявил Г.Иванову: теперь его будет «кормить поэзия», и, по крайней мере, поначалу так и было!), перевести «Гильгамеша», основать поэтическую студию и стать членом коллегии издательства «Всемирная литература». Правда, тут он, всегда прежде франтоватый, успеет превратиться из изящного «англичанина» в «элегантном пальто и фетровой шляпе» в типичного петроградца тех лет: лоснящийся костюм, пузырящиеся на коленях брюки и стоптанные ботинки.
Впрочем, к Ахматовой он явится еще франтом. Она жила тогда у школьной подруги Вали Срезневской на Боткинской, и именно там, в одном из корпусов Военно-медицинской академии, в браке двух великих людей была поставлена точка. Накануне, впервые после Лондона встретившись с ним в какой-то комнате, которую он снял (ул. Марата, 2), Ахматова, так пишут, провела у него всю ночь. А на другой день, уже на Боткинской, проведя его в свою отдельную комнату, вдруг решительно сказала: «Дай мне развод!..» Он, вспоминала Анна Андреевна, страшно побледнел: «Пожалуйста». Не просил ни остаться, ничего не расспрашивал даже. Спросил только: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?» Она ответила: «Да». – «Кто же он?» – «Шилейко». – «Не может быть! – крикнул Гумилев. – Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко…»
Так запомнила разговор она. Гумилев рассказывал потом поэтессе Одоевцевой иначе. Он якобы сказал Ахматовой: «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе. Я тоже хочу жениться». Он сделал паузу, мучительно соображая – на ком, о господи? Чье имя назвать? Но нашелся: «На Анне Николаевне Энгельгардт. Да, я очень рад. Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко – катастрофа, а не муж». Знал, кстати, что говорил: Шилейко был одним из самых близких друзей Гумилева. Ахматова разведется потом и с Шилейко, это известно. Неизвестно другое: по любви или «назло», как говорила потом Ахматова, женился Гумилев на Энгельгардт, которую скоро все за глаза начнут называть «Анна вторая»?
У Гумилева было много женщин. И почти всегда – девицы. Этому удивлялась потом Ахматова, даже обсуждала сей факт с Лукницким – дескать, почему. Гумилев словно и здесь непременно хотел быть первым. А может, по-мужски мстил женщинам за то, что у Ахматовой он как раз первым не был. Не знаю. Знаю, что, влюбившись, он либо сразу становился женихом, либо предпринимал такой бурный штурм избранницы, что устоять было просто невозможно.
Смотрите, 14 мая 1916 года на лекции Брюсова в Тенишевском училище он знакомится сразу с двумя девушками – Ольгой Арбениной и Аней Энгельгардт[159]. Вернее, так: сначала он увидел в фойе Арбенину и, обомлев от красоты ее, бросился узнавать, кто это такая. Ему сказали – это Анечка Энгельгардт – девушек часто путали. Он попросил, чтобы его немедленно представили ей. К нему подвели Аню. Она тоже была очаровательной, «но ведь это же не та». И тут в фойе вновь возникла Ольга – та! Арбенина вспоминала: «Я увидела Аню, и рядом с нею стоял Гумилев… "Оля, Николай Степанович Гумилев просит меня тебе его представить”. Я обалдела!.. Известный поэт, и Георгиевский кавалер, и путешественник по Африке, и муж Ахматовой… и вдруг так на меня смотрит…»
Смотрит?! Гумилев действовал с бешеным натиском. Когда она, уже, кажется, нарочно, в третий раз выбралась в фойе, он преградил ей дорогу: «Я чувствую, что буду вас очень любить… Приходите завтра к Исаакиевскому собору…» И как бы между прочим сообщил, что чуть ли не вчера написал стихи дочери царя: «Написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой[160] – завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной». А в одну из следующих встреч специально долго «прогуливал» ее по холодному городу, чтобы она согласилась пойти в ресторан, согреться, да еще в отдельный кабинет, хотя Арбенина, как признается потом, бывала до этого в ресторанах только со своим дедушкой.
Гумилев обольщал юную «дурочку» по всем правилам и как уже признанный поэт говорил ей: «Бальмонт уже стар. Брюсов с бородой. Блок начинает болеть. Кузмин любит мальчиков. Вам остаюсь только я». Правда, по поводу Блока, который отнюдь еще не болел, сказал ей: «Я чувствую себя по отношению к Блоку, как герцог Лотарингии к королю Франции». Ольга с юной дерзостью парирует: «Но я хочу быть королевой французской…»
Словом, вспоминала она, уже в первый день «было сказано все: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи… “Женский голос в телефоне, // Упоительно несмелый. // Сколько сладостных гармоний // В этом голосе без тела…”». «Увы! – напишет она позднее. – Эти самые стихи он через год “отдал” Елене из Парижа…» Только «голос в телефоне» из «упоительно несмелого» превратился вдруг в «неожиданный и смелый»… Арбениной же, девятнадцатилетней неопытной девушке, смелости хватит в тот день лишь на глупый и, как она пишет, «зверский» вопрос к поэту: «Сколько немцев вы убьете в мою честь?..»
…А что же Аня Энгельгардт, начинающая писательница? Она тоже никуда не делась. Брат Анны вспоминал: «Аня окончила курсы сестер милосердия… Очень похорошела, и ей очень шел костюм сестры милосердия с красным крестом на груди… Любила гулять в Летнем саду… с томиком Ахматовой в руках». Однажды за ней зашел Гумилев, в форме и с изогнутой саблей. «Он был мужественный, с серыми глазами, смотревшими открыто ласковым и немного насмешливым взглядом. Я расшаркался (гимназист III класса), он сказал мне несколько слов, взял сестру под руку, и они ушли, счастливые, озаренные солнцем»…
Короче, уже в сентябре Ольга Арбенина узнала: у Гумилева роман и с Энгельгардт. Дневник Арбениной чуть ли не криком кричит: «Он возил ее на острова в автомобиле, они ели в “Астории” икру и груши… безумно целовал ее – как меня… Эти руки! Ее! Эти губы! Ей посвятил пьесу. О ней думал! А я?» Ольга Арбенина, да и Аня, будущая жена его, даже не подозревали, что в это время у Гумилева еще роман и с поэтессой Маргаритой Тумповской, и с Ларисой Рейснер и что последней он тоже говорит: пьеса «Гондла» – о ней. А в Париже, куда скоро уедет, у него возникнет еще один роман, на этот раз с Еленой Дюбуше – «синей звездой», той как раз, которой перепосвятит стихотворение про «голос в телефоне». Но Аня (румяная девушка с белокурыми волосами и наивными голубыми глазами, только не золотая медалистка, как Оля, а, напротив, скверная ученица, шумная и, по словам Арбениной, танцевавшая, «как полотер») окажется, как заметит позднее Ахматова, – «танком». Она станет женой Гумилева, и у них родится ребенок. Рождение дочери случится, правда, когда Гумилев будет жить уже в другом доме. Между прочим, в том доме, где наш «обольститель» доведет до конца отношения и с Арбениной. Ольга Арбенина сама пойдет за ним, пойдет, по ее словам, «как овца на заклание»… Но об этом – в следующей главе.
…Отомстит ему только Лариса Рейснер, о чем я обещал рассказать. На мой взгляд, мелко отомстит. Десятилетиями считалось, что «комиссар Лариса» сама порвала с Гумилевым. Даже Ахматова, которая недолюбливала ее, называла за полные бока «подавальщицей в немецком кабачке», и та говорила, что она ушла от Гумилева, кажется, из-за Татьяны Адамович, с которой он встречался одновременно. Но все оказалось не совсем так. Не Лариса бросила его – он, оказавшись в «красном Петрограде», перестал с ней не только встречаться – раскланиваться. Из-за этого она рыдала, о чем рассказал Ольге Арбениной Мандельштам, в гостях у Рейснеров. Арбенина (повторяю, это стало известно совсем недавно, когда вышли ее мемуары) упрекнула Гумилева: какой же вы джентльмен, если так ведете себя с женщиной, с которой у вас был роман. Имела в виду Ларису. И поэт ответил: «романа не было… а не кланяется с ней потому, что она была в убийстве Шингарева и Кокошкина». Это точные его слова, подчеркнет Арбенина.
Да, в январе 1918 года в Мариинской больнице (Литейный, 56) прямо на больничных койках были зверски убиты (задушены и заколоты штыками) А.Шингарев и Ф.Кокошкин, недавние министры Временного правительства, лидеры кадетов, депутаты Учредительного собрания. Убили их, как тогда же было установлено, разъяренные революционные матросы. В больницу приехали тридцать, а ворвались в палаты пятнадцать моряков, вызванных из флотского экипажа. Имена их ныне известны, но суд, учрежденный советской властью, так и не наказал виновных. Главных из них, О.Крейса и Я.Матвеева, даже не поймали, моряки экипажа так и не выдали их чекистам. Убийство было столь жестоко, что официально его осудил даже Ленин. Но была ли замешана в этом деле Лариса? И как?
Известно, уже в ноябре 1917 года она участвовала в боях под Гатчиной, где познакомилась с будущим мужем Федором Раскольниковым. Известно, что 26 ноября 1917 года Раскольников стал комиссаром революционного морского штаба. Известна фраза наркома юстиции И.Штейнберга по поводу варварских убийств, в том числе Шингарева и Кокошкина: «Стреляли матросы и красноармейцы, но поистине ружья заряжали партийные политики и журналисты». Наконец, известно, что в казармах флотских экипажей как раз и «хозяйничали» Ф.Раскольников и Л. Рейснер. Так что подстрекательство к убийству, возможно, и было. Но прямое участие? Может, Гумилев знал об убийстве в Мариинской больнице нечто большее, чем другие? Знал именно про Ларису? Ведь сказал же – «была в убийстве»?..
Впрочем, не он, повторяю, Лариса отомстит ему, своему Гафизу. По-бабски, трусливо отомстит. Узнав, что Гумилев, спасая себя и семью в годы Гражданской войны, зарабатывал продуктовые пайки лекциями в десятках организаций, в том числе в литературной секции Балтфлота, Лариса, комиссар штаба этого самого Балтфлота, в самый разгар голода отдаст приказ: лишить матросского пайка Гумилева[161]. Так пишут ныне. Но ни ей, ни всему морскому флоту, ни даже победоносной советской власти не удастся другого: сделать его, первого по жизни, последним. Подвести под приговор – удастся, удастся – расстрелять, но сделать последним – нет… Он ведь сказал уже: «Я хочу, чтобы не только мои стихи, но и моя жизнь была произведением искусства».
Символично, но он даже в смерти станет первым из череды убитых потом властью поэтов. Опять – первым!
За полгода до расстрела Гумилев скажет вдруг Георгию Иванову: «Сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал – угадай, кому? – кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно. Один за всех, все за одного. Самое тяжелое – одиночество. А я так одинок…» Скажет эти слова тому, кого и поныне считают близким другом его. Настолько близким, что Гумилев именно его, Иванова, позовет помочь прибраться в квартире перед решающей встречей здесь с последней влюбленностью своей и, ожидая безоговорочной, не иначе, победы (кстати, всего после семи дней знакомства!), самонадеянно скажет: «Свидание состоится в пятницу, 5 августа, на Преображенской, 5, и, надеюсь, пройдет “на пять”…»
Преображенская, 5, – это как раз и есть дом №5 по нынешней улице Радищева, о котором речь и который в целости сохранился до сегодняшнего дня. Что же касается свидания, которого ждал поэт, то увы! Мы не знаем, пришла бы та, кого он ждал, или нет, знаем только, что встреча и не могла состояться. За два дня до нее Гумилева арестуют…
А за два года до этих событий, весной 1919-го, Гумилев с молодой женой действительно въедет в этот дом, в квартиру на втором этаже, которая до него принадлежала, говорят, брату недавнего, «распутинского» еще, премьер-министра России Штюрмера. Квартира была, как сказали бы ныне, «элитная», но что с того, если жить можно было, спасаясь от холода, только в одной комнате да в прихожей, которую поэт превратил в свой кабинет. А ведь оба, и Гумилев, и Аня Энгельгардт, были еще недавно людьми вполне состоятельными. У Энгельгардтов до революции имелся и дом в Смоленске, и земля, и даже дача в Финляндии. Имение как раз и предназначалось в приданое Ане, а дом в Смоленске – ее брату, но все в одночасье пропало. Счастье семейное, впрочем, окажется сомнительным, ибо Гумилев не только почти сразу станет ей изменять, но и довольно быстро потеряет к ней всякий интерес. Вс. Рождественский пишет, например, что Гумилев даже при посторонних мог сказать ей: «Ты, Аня, лучше помолчи! Когда ты молчишь, ты становишься вдвое красивее». Что говорить, если родной брат Ани через полвека напишет в одном письме: Гумилев «ошибся, избрав мою сестру», он «прельстился ее внешностью». Вот-вот! Красивой она была – это, как говорится, факт. И родила ему именно здесь, на Преображенской, красивую дочь. Кстати, поэт присутствовал при родах и вроде бы и хотел, чтобы родилась именно дочь. Пишут, что, передавая новорожденную Гумилеву, врач сказал: «Вот ваша мечта…»
Мечта? Знали бы все они, что в блокаду счетовод совхоза 2-го Медицинского института Елена Гумилева потеряет семейные карточки на хлеб, бросит мать, которая в одиночестве умрет от голода, а потом и сама скончается от истощения в 1942-м… Нет, еще и не так – все было страшнее: жену Гумилева найдут в пустой квартире, обглоданную крысами, и до сих пор неизвестно – умерла ли она от голода или стала беспомощной жертвой длиннохвостых тварей…
Это еще будет. Пока же Гумилев, отослав молодую жену с ребенком к матери в Бежецк, где легче было с едой, одиноко проживет на Преображенской целый год. На что жил? Как признался в одной анкете, распространенной среди писателей, – «рознично распродавал домашние вещи». Жил одиноко, но один бывал нечасто. Навещал Лозинского, переехавшего на новую квартиру (Каменноостровский пр., 75/16), Энгельгардтов, родителей жены, у которых останавливался в первые дни после возвращения из Лондона (ул. Чехова, 18/7), наконец, бывал на Дворцовой площади, в здании Главного штаба, у некоего Бориса Каплуна, куда ходил «забыться» – нюхать эфир[162]. А к нему домой, если не считать женщин, приходили поэты Мандельштам, Белый, Ходасевич, Оцуп. «Квартира была трепаная и обставленная чем попало, – пишет Георгий Иванов. – Хозяйство Гумилев вел весело. Любил приглашать к себе обедать и с церемонной любезностью потчевал пшенной кашей и селедкой. Если обедала дама, обязательно облачался во фрак и белый жилет и беседовал по-французски». Однажды Чуковский упадет от голода в обморок на пороге его подъезда (это, кажется, случится еще на Ивановской, на предыдущей квартире поэта). Очнется, как пишет, в роскошной постели, куда Гумилев торжественно подаст старинное, расписанное матовым золотом, чуть ли не музейное блюдо. «На нем был тончайший, как папиросная бумага, не ломтик, лепесток глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность той зимы». А когда Гумилев станет читать Чуковскому свою пьесу, в доме вырубят вдруг электричество – погаснет лампа. «И тут, – вспоминал Чуковский, – я стал свидетелем чуда: поэт и во тьме не перестал читать трагедию и все прозаические ремарки, стоявшие в скобках…»
Гумилев тоже бывал у Чуковского – тот, с женой и тремя детьми, жил неподалеку (Манежный пер., 6), в угловом доме на третьем этаже с балконом. Однажды у Чуковского встретится с Блоком, отношения с которым были в то время уже достаточно напряженными. Ничего, правда, не случилось, пишет Чуковский, в гостях у него они стали мило «ворковать», Блок говорил Гумилеву любезности, а Гумилев вроде бы сказал Блоку: вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные…
Время было голодное, настолько голодное, что в ноябре 1919 года у самого дома Чуковского пала лошадь, у которой немедленно кто-то вырезал из крупа фунтов десять мяса. Чуковский предположил еще, что это кто-то сделал не для себя – «для продажи». Так вот, в это голодное время, в том же ноябре 1919-го, Гумилев принес «в подарок» детям Чуковского полфунта крупы (продукты были из Бежецка, их привезла в Петербург жена поэта). Это в тот год дорогого стоило. Тогда же обмолвился Чуковскому, что у него кончились дрова и что он только что спалил в печке шкаф, который, увы, жару дал немного. Чуковский предложил взаймы 36 полешек и даже помог их привязать к детским санкам своего сына – иначе Гумилев не донес бы…
Потом, когда с продуктами станет полегче, он в «штюрмерской» квартире на Преображенской, в передней, превращенной в маленький кабинетик, всех угощал хлебом, поджаренным в печке, – накалывал его, как шашлык, на детскую саблю сына. Прямо над диванчиком висела здесь картина, изображавшая предков Гумилева, где какой-то дядя его, томно облокотившись на рояль, был без ног (художник то ли не успел, то ли забыл их нарисовать), и тут же, на полке, стоял детский барабан сына. «Не могу отвыкнуть, – шутил Гумилев, – человек военный, играю на нем по вечерам». Может, и играл, ему ведь вечно было, помните, тринадцать лет. Но за полночь поэты именно здесь читали стихи, спорили о любви. «Гумилев всегда был влюблен, – пишет Иванов. – Не понимал, как может быть иначе. Поэту это еще важнее, чем путешествовать…»
Всегда влюблен! Жена грозила ему из Бежецка, что повесится, отравится, если он не заберет ее к себе, а он весь год невозмутимо принимал здесь женщин. И тех, с которыми «шалил»: поэтессу Одоевцеву (которую посадит однажды на шкаф и забудет снять), Наталью Грушко, Иду Наппельбаум, Ольгу Ваксель. И тех, кого любил нешуточно: певицу-цыганку Нину Шишкину, его «тайную пристань», которой подарил верстку сборника «Жемчуга» с надписью: «Любимейшей из любимых, крови моей славянской, последнему счастью», на чьих коленях, говорят, писал стихи, или знакомую уже нам Олечку Арбенину.
Именно сюда приведет он Олечку, увидев ее после долгого перерыва в Александринском театре, где она служила уже актрисой. Может, зашел и не за ней – он вел какие-то переговоры о своей пьесе. Но вдруг увидел ее в длинном платье «по спектаклю» и в шляпе со страусовыми перьями. Позвал с собой, будто бы послушать стихи. Она накинула старое синее пальто и пошла. «Я была, как мертвая и шла, как овца на заклание». Ольга проведет с ним почти год и, как напишет, сама уйдет к другому. Но сама ли? Ведь годы спустя признается: «Хотела ли я разлучиться с Гумилевым? Нет и нет. Он меня забрал силой, но я ни на кого не хотела его менять». Арбенина не пишет, что он ее бросил. Пишет осторожней: «Не удерживал». И добавляет: «Почему он не сказал простых слов вроде “не уходи” или “не бросай меня”? Что это, гордость? Стыд? Отчего можно говорить раболепные слова, когда надо уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить женщину?» Уходящую женщину, которая на деле никуда уходить не хочет…
Впрочем, она всегда будет писать о нем либо возвышенно: «Он смел, мудр, отважен, как рыцарь. Он идет прямо к цели, побеждая препятствия», либо, говоря о недостатках его («любил врать и сочинять» и «вообще неверный»), прямо-таки с умилением. Как ни странно, пишет современник, но женщины его, некрасивого, «разноглазого», как называл сам поэт свое косоглазие, шепелявого – слово «вчера» произносил как «вцерла», – любили самозабвенно. Может, за страсть его к выдумкам, за бесшабашность, за напор и смелость в отношениях с ними. А может, за независимость и смертельную в те дни браваду…
Вот здесь, в знаменитом доме на Исаакиевской площади (Исаакиевская пл., 5), где при Пушкине царила хозяйкой знаменитая «Клеопатра Невы» графиня Закревская – «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», а позже, перед революцией, уже в особняке «Тоныча», графа Валентина Платоновича Зубова, располагался основанный им же, «Тонычем», Институт истории искусств, на Святках в 1920 году уцелевшие интеллигенты и битые-перебитые эстеты устроили бал. Эдакая ностальгия по недавнему и такому незабытому прошлому.
«В промерзших залах скудное освещение и морозный пар, – вспоминал Ходасевич. – В каминах чадят сырые дрова. Гремит музыка. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танце. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом». Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит (тоже, кстати, «беззаконная комета») по залам. Дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается налево и направо. Беседует в светском тоне. Играет в бал. Вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал…»
В другой раз, на вечере балтфлотцев, неожиданно прочел стихи: «Я бельгийский ему подарил пистолет // И портрет моего государя…» Сумасшедший, вообще-то, поступок! Матросы, говорят, повскакали с мест, хватаясь за маузеры, в зале раздались угрожающие крики. Одоевцева, пришедшая на вечер с Гумилевым, помертвела от ужаса (самосуд в те дни еще случался). А поэт, закончив читать, скрестил руки на груди и неподвижно ждал на сцене развязки. Готов был, кажется, к любой. И – зал взорвался аплодисментами. Вот что удивительно. Сила силу уважает.
Рисковый был человек! Его и тянуло к таким же. Когда какой-то адвокат за бесплатным обедом в Доме литераторов на Бассейной (ул. Некрасова, 11) нашепчет ему о бесстрашном гвардейском офицере по кличке Голубь, который через залив ходит за границу чуть ли не каждый день, переводит людей, носит почту, снимает военные планы, и все это с ледяным хладнокровием, с головокружительной храбростью, Гумилев загорится: «Люблю таких». Разыщет его, вот что удивительно! Георгию Иванову скажет о нем по секрету: «Это выше моей болтливости и твоего любопытства. Тут дело о жизни и смерти, может, всей России. Могу только сказать, что это один из самых смелых и замечательных русских людей…»
Тут вот на чем стоит, думаю, остановиться. Георгию Иванову как мемуаристу с «легкой руки» Ахматовой и Надежды Мандельштам у нас долго не верили. Считали все его «писания» в эмиграции чистой ложью, «пашквилями», как сказал Осип Мандельштам. Мемуары Иванова, действительно, дают повод к упрекам – он сам признавался, что некоторые эпизоды просто придумывал. Но Ахматова и Мандельштамы особенно возмущались всем, что касалось причин ареста и гибели Гумилева. В какой-то степени так они пытались защитить Гумилева, спасти его для читателей. Напрасно! Напрасно спасали, выставляя Гумилева в антибольшевистском заговоре чуть ли не невинной овечкой. Ведь почти все, что написал «выдумщик» Георгий Иванов об участии Гумилева в заговоре, все, что отвергалось Ахматовой как ложь и выдумка, – все подтвердилось документально! И якобы легенда о 200 тысячах рублей, которые, как показал на следствии профессор Таганцев, «глава заговора», на самом деле были даны Гумилеву на расходы. И «сказки» о ленте для пишущей машинки, полученной поэтом от заговорщиков. И прокламации, которые поэт обещал «составить», если «вспыхнет» Кронштадт. И даже обещания его «сколотить» группу интеллигенции для борьбы с большевиками в решающий момент – все это было[163]. Был, представьте, и Голубь. Он, как и Гумилев, погибнет. Их свяжет в общем-то одно дело. Но рассказ об этом многотомном «деле» будет уже у последнего петербургского дома поэта.
…Сюда, на Английскую набережную, придут весной 1921 года и сядут у воды на бревна два поэта – Гумилев и Николай Оцуп. Мимо будут плыть льдины, плыть в залив, к Кронштадту, где только что был подавлен «контрреволюционный мятеж». Оба потрясенно будут думать именно об этом. Они только что видели на Гороховой прогрохотавшие мимо них, осевшие на рессоры, грузовики. На открытых машинах, вспоминал Оцуп, вооруженные курсанты везли сотни обезоруженных кронштадтских матросов – участников мятежа. С одного грузовика кто-то крикнул им: «Братцы, помогите, расстреливать везут!» Я, пишет Оцуп, бессознательно схватил Гумилева за руку. Гумилев перекрестился. И только здесь, на бревнах, тихо сказал Оцупу: «Убить безоружного – величайшая подлость. – И, словно встряхнувшись, добавил: – А вообще, смерть не страшна. Смерть в бою даже упоительна…»
Он будет расстрелян чекистами, как и положено, безоружным.
Но при этом – не ищите здесь противоречия – умрет все-таки в бою…
«Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Гумилев». Восемь слов поэта. Больше не напишет уже ничего. Эту записку в будущее Гумилев нацарапал на стене общей камеры №7 (по другой версии – 77) в Доме предварительного заключения (Шпалерная, 29). Восемь слов его не только навсегда запомнит Георгий Стратановский, также арестованный по «Таганцевскому делу», но и будет хранить их в тайне – уму непостижимо! – семь десятилетий. Рискнет рассказать о них только сыну. Вот в каком сумасшедшем страхе держали страну большевики – те, которые, по словам Гумилева, казались ему когда-то не опаснее львов…
Последний свой год Гумилев прожил, как один день. Год, как день! Я бы сказал – как выстрел. Но вот странность: за весь этот год, на вершине удач в стихах и любви, он, фаталист, ни разу, кажется, не заговорит о смерти. Напротив, с другом Шилейко поспорил, что проживет до пятидесяти трех лет. А Ходасевичу в доме, где потом будет кинотеатр «Баррикада», в последнем своем доме, говорил, что собирается жить аж до девяноста лет. Говорил (непредставимо!) за час до ареста, когда в другом здании, на Гороховой, 2/6, сотрудник ЧК Мотовилов (по другому прочтению – Мотивилов или даже Монтвилло) уже подписал ордер на его арест у председателя ЧК Г.Семенова и даже вызвал машину, чтобы ехать за ним. «Непременно до девяноста! – твердил Ходасевичу. – Мы однолетки, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это потому, что я люблю молодежь. Я со студистками в жмурки играю и сегодня играл»…
Играл – это правда. Но ведь и со смертью – играл. С Немировичем-Данченко, писателем, обсуждал планы бегства из «советского рая». «Я хотел уходить через Финляндию, – пишет Немирович-Данченко, – он – через Латвию… Помирились на эстонской границе… Он… не раз говорил мне: “На переворот в самой России – никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа… Из-за границы спасение тоже не придет… Нет, здесь восстание невозможно… И готовиться к нему глупо…”» О том же вспоминал в Париже и поэт В.Познер. «Вот наступит лето, – говорил ему Гумилев, – возьму в руки палку, мешок за плечи и уйду за границу: как-нибудь проберусь». Эти слова сказал весной 1921-го… За четыре месяца до ареста.
Впрочем, слова словами, а на деле, как я уже говорил, прожил этот роковой, последний год свой беспечно, словно насвистывая. И когда в мае носился на миноносце по Черному морю (его пригласил бывший царский контр-адмирал, военспец Александр Васильевич Немитц, командующий морскими силами республики), и когда раз в неделю регулярно ходил в дом к Горькому пить итальянское вино, водившееся у того, и читать стихи своей поклоннице Варваре Шайкевич и когда прожигал время на медвежьей шкуре у камина в квартире Ирины Одоевцевой на Бассейной (ул. Некрасова, 58-60).
Здесь у нее, своей ученицы, влюбленной в него, скоро скажет: «Я очень надеюсь, что Бог услышит мои молитвы и пошлет мне достойную героическую смерть… Не сейчас, конечно… Ведь я еще столько должен сделать в жизни». А пока лишь жмурился от мирного удовольствия. «До чего приятно, – говорил, греясь у каминного огня, – будто меня шоколадным тортом угощают»…
Замыслы, кстати, и впрямь лелеял грандиозные. Написать историю мира с его сотворения, в двенадцати книгах; пять томов «Искусства поэзии», по триста страниц каждый; поэму «Дракон», тоже чуть ли не в три тома. Когда ему сказали, что такой поэмы никто и не прочтет, он ответил не без веселой угрозы: «Зато когда-нибудь ее заставят зубрить…»
Год, как выстрел, но выстрел – в будущее! Писатель Евгений Замятин скажет про те дни: «Мы были заперты в стальном снаряде и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда». Неслись – верно. Вот только так ли неизвестно – куда? Гумилев, цельная натура, несся (готов поручиться!) к мечте детства – к славе! Смотрите: издал сборник «Шатер», организовал студию «Звучащая раковина», был избран ни много ни мало председателем Союза поэтов. Что говорить, он так летел к славе, что и после расстрела, в тот же год и в следующий, словно по инерции прошибающего время снаряда, вышла в свет его новая книга «Огненный столп» и были переизданы «Жемчуга», «Костер», «Фарфоровый павильон». Небывалый, может, единственный в истории русской и советской цензуры случай! Государственный преступник казнен, а книги его, словно отстреливаясь от палачей, выходят и выходят…
«В шестнадцать лет, – скажет про Гумилева критик Голлербах, – мы знаем: любовь, смерть и стихи – это прекраснее всего на свете. Потом забываем: дела, делишки, мелочи жизни убивают романтические “фантазии”. Но Гумилев не забыл, не забывал всю жизнь». Под этим знаком – «любовь, смерть и стихи» – прошел и последний его день на свободе[164]…
Часов в пять, после игры в жмурки со студийцами, когда в ЧК на Гороховой еще совещались, как брать Гумилева, где оставить засаду, а завотделом учреждения, некто Серов, еще только собирался утверждать и подписывать ордер на обыск, поэт, помахивая пестрым, «африканским» портфелем, отправился провожать свою ученицу и последнюю любовь – Ниночку Берберову. Это была их седьмая встреча. И хотя Гумилев ей решительно не нравился (она едва ли не треть будущих своих воспоминаний посвятит именно этой теме), Берберова тем не менее, зарекаясь встречаться с ним, встречалась-таки. А как иначе?! Он ведь и последней любви добивался так же, как первой, – тараном! В одно из свиданий, свернув с Гагаринской на Неву, они двинулись к Зимнему дворцу. «Мы шли и смотрели на пароходик, на воду, на мальчишек, – вспоминала Берберова. – Внезапно Гумилев остановился и протянул мне только что купленные им книги: Сологуба, Анненского. Я сказала, что не могу принять подарка. “У меня эти книги есть, – настаивал он, – я их выбрал для вас”. – “Не могу”, – сказала я. И тогда он высоко поднял их и широким движением бросил в Неву. Я вскрикнула, свистнули мальчишки. Книги поплыли по синей воде…» Картинный, конечно, жест, но, знаете ли, на женщин производит впечатление! А за четыре часа до ареста, в последнюю встречу с ней, достал вдруг из портфеля черную тетрадку и прочел посвященное Берберовой стихотворение: «Я сам над собой насмеялся // И сам я себя обманул, // Когда мог подумать, что в мире // Есть что-нибудь кроме тебя…» Обещал заполнить стихами в ее честь всю тетрадь, но прочитанное стихотворение оказалось в ней первым и последним. Вообще последним…
Они гуляли до темноты, и он довел ее до дома (Кирочная, 17). «Я вошла в ворота, зная, что он смотрит вслед, – пишет Берберова. – Переломив себя, обернулась и сказала просто и спокойно: “Спасибо вам”… Ночью в постели решила больше с ним не встречаться…»
И – не встретилась! Ибо когда ворочалась в постели, Гумилева уже доставили на Гороховую к Богданову и Гольденко, его уже раздевали донага, деловито досматривали, рутинно фотографировали. Но «любовь, смерть и стихи», помните, — все сошлось у Гумилева в последний день…
Арестовали его в Доме искусств, где было общежитие писателей. Гумилев жил тут с женой в двух перегороженных комнатках, сотворенных из бывшей бани бывшего владельца дома – С.Елисеева, брата «короля гастрономии», купца Г.Елисеева. О бане напоминали мраморные полы и потолки с цветными амурами. И поэт, и Аня, жена его, в тот вечер вернулись поздно: Гумилев – от Берберовой, Аня – от дочери, из детского дома. Еще утром она оставила ему записку, которая так и пролежала на столе. А в одиннадцать вечера оба уже сидели и думали, стоит ли кипятить чай. «Чая не пили, – вспоминала А.Энгельгардт. – Он стал ложиться, попросил стихи Жуковского» (отец Ани пишет, что Гумилев взял на ночь читать Некрасова). Перед тем принес от служителя дома две бутылки лимонаду. Успел ли выпить их?.. Потом в «деле» Гумилева найдут ту утреннюю записку жены: «Дорогой Котик конфет ветчины не купила, ешь колбасу не сердись. Кушай больше, в кухне хлеб, каша, пей все молоко. Ты не ешь и все приходится бросать, это ужасно. Целую. Твоя Аня». Это все достоверно, вплоть до отсутствия запятых в записке его жены. Остальное, увы, и поныне сомнительно и противоречиво. О предательстве и помощи друзей, о провокаторах, об обстоятельствах ареста и следствия существует множество версий, порой взаимоисключающих. Все зыбко, кроме одного – был арестован и был расстрелян. Все прочее, вернее, многое, видимо, в тех 382 томах «Таганцевского дела», которые до сих пор для нас закрыты, – все еще государственный секрет…
Был ли заговор? Действительно ли он был столь масштабен, что к уголовной ответственности привлекли аж 833 человека? Угрожал ли он реально советской власти? Не знаю. Знаю, что глава заговора В.Таганцев,. сын знаменитого профессора Таганцева, к началу 1921 года создал из интеллигенции организацию, которая якобы в ночь на 1 мая подожгла трибуны на Дворцовой площади, 15 мая – взрывом повредила памятник Володарскому (на деле взрывал какой-то сумасшедший) и даже готовила покушение на Зиновьева. 31 мая Таганцева арестовали. В тюрьме, говорят, он пытался повеситься на скрученном полотенце. Тогда же семидесятивосьмилетний отец Таганцева послал письмо Ленину: «Я хорошо знал Вашего покойного отца и Вашу матушку; был в 1857 и 1858 гг. вхож в Ваш дом… Отнеситесь и Вы сердечно к моему сыну…» Ленин якобы переслал письмо Дзержинскому, который ответил: Таганцев – опасный враг. Тогда Ленин командировал в Петроград возглавлять следствие свое доверенное лицо – двадцатипятилетнего Якова Сауловича Агранова (Сорендзона), секретаря Малого Совнаркома и особоуполномоченного по важным делам при Президиуме ВЧК[165].
Один из любимых Гумилевым поэтов, кому он посвящал свои терцины, Леопарди, однажды сказал: «Мир есть не что иное, как обширный заговор негодяев против честных людей». Вот такой «заговор», судя по всему, кажется, и был. Он тысячи лет существовал до Гумилева и существует поныне. Иначе как, например, объяснить, что из двух фотографий поэта из его «дела» – анфас и в профиль – мы даже в последнее, «демократическое» десятилетие могли видеть в публикациях только профильный снимок. А где же второй, гадали специалисты и поклонники поэта. И вот, представьте, второй «выплыл» из чрева спецслужб лишь семь лет назад, в 2002-м. А знаете, почему прятали от нас фотографию? Потому что на тусклом, блеклом – последнем – снимке поэта ясно «читаются» явные синяки и кровоподтеки. Вот чего боялись без малого сто лет современные «заговорщики» – круговая порука негодяев. Они боялись четкого доказательства, что гордого поэта, храброго защитника Родины, отчаянного героя попросту били в родимых застенках.
Ныне известно: допрашивал Гумилева следователь Якобсон – инквизитор, соединявший ум и образованность с убежденностью маньяка. Обсуждал на допросах Макиавелли, «красоту православия», называл Гумилева лучшим русским поэтом, даже читал наизусть его стихи. А после четвертого допроса бестрепетно вывел: «Применить к Гумилеву как явному врагу народа и революции высшую меру наказания – расстрел». Приговор утвердил негодяй из негодяев, на чьей совести жизнь нескольких русских поэтов, – Яков Агранов. Тот Агранов, который вел дела «Народного Союза защиты Родины и Свободы», «Национального центра», «Кронштадтского восстания», а потом – процесс эсеров, дело патриарха Тихона, «Академическое дело», дело «Крестьянской трудовой партии» – Кондратьева, Чаянова, «Ленинградского центра» – убийц Кирова и т.д. Тот Агранов, который станет «основателем и главой «Литконтроля» ОГПУ – самой жестокой в мире цензуры – и добьется «степеней известных»: в 1930-х годах станет замом самого Ягоды и, уже из рук Сталина, получит сначала самую высокую «награду» – квартиру в Кремле, а потом – классические девять граммов свинца в затылок… Да, смерть надо заработать – помните слова Гумилева? – но как по-разному зарабатывают даже пулю, уравнивающую, казалось бы, всех!
…«Я арестован и нахожусь на Шпалерной, – передал Гумилев на волю последнюю записку. – Прошу вас послать мне следующее: 1) постельное и носильное белье 2) миску, кружку, ложку 3) папирос и спичек, чаю 4) мыло, зубную щетку и порошок 5) Еду. Я здоров. Прошу сообщить об этом жене». После были только те восемь слов, нацарапанных на тюремной стене…
Последним видел поэта не Ходасевич, с которым он спорил о долголетии, а Николай Пунин. Пунин тоже был арестован по этому делу, и (вот совпадение-то, вот судьба!) Гумилева и Пунина (один был первым, а второй – последним мужем Ахматовой) отделяли на Шпалерной только несколько камер. Пунина выпустят: расстарается Луначарский[166]. А за Гумилева просили куда менее влиятельные тогда люди да рыдающие поэтессы… Пока им однажды не рявкнули в окошко-амбразуру: «Гумилев? Взят на Гороховую!» Оттуда увозили на расстрел…
«В три часа ночи из гаража чрезвычайки во двор Гороховой, 2, подавался пятитонный грузовик, – вспоминал очевидец подобных акций. – По списку, скованных попарно, выводили во двор… На закрытые борта грузовика тесным кольцом садились вооруженные чекисты. Две легковые машины сопровождали грузовик». Про расстрел участников именно «Таганцевского дела» напишет в эмиграции историк Мельгунов: «Привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана…» Сохранилось и свидетельство фельдшера Роптина, которого ночью доставили на полигон и заставили присутствовать в качестве «медперсонала». «Понимаете ли, – мялся он потом, – одних расстреливают, а другие, уже голые, у костра жмутся, женщины, мужчины, все вместе. Женщины еще мужчин утешают…»
Имена палачей, отличившихся при расстреле, ныне известны. Кроме комендантов Матвеева и Шестакова «это бывший гвардейский офицер, командир роты коммунаров Ал. Ал. Бозе… надзиратели Губчека Балакирев, Бойцов, Серов, Бондаренко, Пу и Кокорев, обязанностью которых было в основном раздевание жертв… Сопровождать приговоренных к месту казни, – пишет В.Шенталинский, – Агранов назначил двух следователей – Сосновского и Якобсона»…
…«Сын жив, я знаю!» – словно бредила потом мать Гумилева. Кто-то убедил ее, что ему удалось бежать и что он пробрался в спасительную Африку. Друзья же поэта догадывались о большем. Алексей Толстой напишет: «Я не знаю подробностей убийства, но знаю, что он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха». Георгий Иванов скажет глубже: «Ужасная, бессмысленная гибель?
Нет – ужасная, но имеющая глубокий смысл.
Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе пожелать…»
Все верно: такую смерть можно заработать только такой жизнью!
…Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать, –
Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью – одно.
Когда и лучшие мгновенья
Мы в жертву звукам отдаем, –
Что ж? Погибаем мы от пенья
Или от гибели поем?
А нам простого счастья нет.
Тому, что с песней рождено,
Погибнуть в песне суждено…
Серебряный век русской поэзии – это, конечно же, Петербург. Но так уж сложилось, что век этот волею судеб отбросил свой серебряный отблеск и на Прагу, и на Берлин, и на Париж. Туда, в эмиграцию, разрывая пуповину, связывающую с родиной, уезжали из России поэты, и в том числе крупнейший русский поэт XX столетия Владислав Ходасевич. Он и умрет там, в Париже.
Многое объединяло литераторов в те годы – и тех, кто остался, и тех, кто оказался на Западе. Но объединял их (это кажется странным, хотя странным на первый взгляд) и общий страх – нутряной, сумасшедший страх завтрашнего дня: мирового пожара, крепнущей цензуры в России, «длинных рук» литературных «чекистов» за рубежами ее.
Скажем, туда, в Париж, через пять лет после отъезда Ходасевича из России, явится то ли в командировку, то ли с делегацией добрая знакомая его по Питеру, уже известная к тому времени писательница Ольга Форш. После объятий, слез, многочасовых воспоминаний она вдруг скажет, что у писателей, оставшихся в СССР, да и у нее, только одна надежда и ожидание. «На что надежда?» – спросит Ходасевич. «На мировую революцию», – ответит Форш. Ходасевич будет сражен: «Но ее не будет…» – скажет он. «Форш помолчала с минуту, – вспоминает Берберова. – Лицо ее, и без того тяжелое, стало мрачным, углы рта упали, глаза потухли. “Тогда мы пропали”, – сказала она. “Кто пропал?” – не понял Ходасевич. “Мы все, – ответит Форш. – Конец нам придет”…» Как в воду глядела: печальный конец пришел и тем настоящим талантам, кто остался на родине, и тем, кто уехал когда-то, людям с вечным клеймом «апатридов»… Кстати, когда на третий день Ходасевич и Берберова пошли в гостиницу к Форш с ответным визитом, то та сказала, что была в советском посольстве, где ей категорически запретили встречаться с Ходасевичем. «Вам надо теперь уйти, – сказала им Форш. – Вам здесь нельзя оставаться…» Мы, пишет Берберова, стояли как потерянные. «Владя, простите меня», – выдавила на прощание Форш…
Так будет. Пока же в Петрограде, на Кирочной улице, в двух почти рядом стоящих домах жили, задумав побег из страны, два поэта: худющий, почти болезненный и почти пожилой от переживаний мужчина, перебравшийся из Москвы два года назад, и юная красавица, внимания которой добивались тогда многие. В первом доме (Кирочная, 11), временно жил Ходасевич, уже подготовивший свой побег на Запад. А в другом, соседнем (Кирочная, 17), который проходным двором выходил на Манежный переулок, жила Нина Берберова, двадцатилетняя начинающая поэтесса. Вообще-то жила с родителями – их пустили в свою шестикомнатную квартиру потомки Глинки: и потому пустили, что хорошо относились к ним, и, главное, потому, что иначе их все равно бы уплотнили – то бишь попросту отняли бы лишнюю жилплощадь…
Именно в этой квартире весной 1922 года Ходасевич впервые прочел Нине Берберовой и ее друзьям, молодым поэтам, стихотворение, которое было сочинено тогда же и которое вполне можно назвать программным. Его попросили прочесть его еще раз. Когда Ходасевич умолк, никому не захотелось больше ни читать, ни слушать кого-то еще. В самом деле, после строк «И вот, Россия, “громкая держава”, // Ее сосцы губами теребя, // Я высосал мучительное право // Тебя любить и проклинать тебя» это было просто невозможно…
Отец Ходасевича, Фелициан Иванович, был выходцем из обедневших дворян (Анна Чулкова, вторая жена поэта, уверяла потом, что своими глазами видела «документы деда, носившего фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом, на котором был изображен лев, стрелы и еще какие-то атрибуты – все яркосинее с золотом»). Писали, что по национальности он поляк, хотя сам поэт однажды, в письме другу, сообщил, что отец его литовец. Фелициан Иванович учился в Академии художеств, был живописцем и даже подавал надежды, но потом как-то забросил искусство и открыл в Москве первый в России магазин фотопринадлежностей. А мать поэта, София Яковлевна Брафман, была чистокровная еврейка. Причем отец ее, говорят, был составителем «Книги Кагала» и «Еврейского братства». Позже, к замужеству, она перешла в христианство и стала ревностной католичкой.
Семья Ходасевичей была счастливой, но кончилось счастье в одночасье. Если коротко, то в Москве, на Тверской, лошади, испугавшись чего-то, вдруг понесли пролетку, в которой ехала мать поэта. Вылетев из экипажа, она ударилась головой о тумбу – смерть была мгновенной. А вслед за ней почти сразу умер и отец, давно страдавший грудной жабой.
Владислав был шестым ребенком в семье (три брата и две сестры), родился, когда отцу было за пятьдесят, а матери – за сорок. Сам признавался потом, что рос, как в гинекее: мама, няня, бабушка, сестра. Любил больше сестер, вообще любил играть с девочками, а сопровождая мать по магазинам, стал так разбираться в моде и в нарядах, что терпеть не мог потом дурно одетых дам. Да и сам стал редким щеголем.
Был насмешлив, остроумен, зол. Более желчного и едкого человека в те годы, может, вообще не было. Его звали «отрицатель» – так, кстати, одним словом, назовет потом свой очерк о нем молодой Николай Чуковский, который постарается доказать, что Ходасевич был поэтом одной темы – «неприятия мира». Действительно, кто, кроме Ходасевича, мог написать: «Счастлив, кто падает вниз головой, // Мир для него хоть на миг, а иной» или: «Мне каждый звук терзает слух. // И каждый луч глазам несносен»?.. Ходасевич и про всю русскую литературу не без ядовитого остроумия заметит: «Идет дождь, и едет поп на тележке. И дождь скучный-скучный, и тележка скучная-скучная, и поп скучный-скучный. Вот и вся русская проза…» Но на вполне нормальное «неприятие мира» едва ли не с юности накладывалась еще и свойственная его характеру злость. Что говорить, Шкловский, хорошо знавший его, однажды горько пошутит: «У вас чахотка, но вы не умираете, потому что вы такой злой, что палочки Коха дохнут в вашей крови…»
Да, язык Ходасевича был меток и остр. Он даже медали в гимназии лишился исключительно из-за «развращающего влияния на товарищей». Но мало кто знает, что настоящий язычок его, тот, что во рту, был еще и с «заплаткой», как назвал ее горячо любимый отец. «Бог шельму метит»… Из-за языка поэт, будучи младенцем, едва не умер. На нем образовалась опухоль, дитя отказывалось есть, и кормилицы одна за другой уходили от него – «не жилец». Выкормила его тульская крестьянка с простой фамилией Кузина. Про нее как раз он и написал свое программное стихотворение. А спас от опухоли англичанин Смит, врач, сообразивший прижечь ее ляписом. На языке от младенческой болезни навсегда осталось затвердение – «заплатка». Кстати, черновик стихов о Кузиной поэт потеряет. Пойдет покупать калоши на Сенной, продав пайковые селедки, вспоминала позднее Берберова, и впопыхах засунет в них листок с черновиком. Только через год, уже в Берлине, Берберова найдет его и будет хранить потом семьдесят лет.
Слово «не жилец» не случайно для Ходасевича. К врожденной тщедушности, болезненности, слабости и прогрессирующей время от времени чахотке прибавится еще и «катастрофа», которая случится с ним в 1916 году. О ней рассказ впереди. Но и тогда, и потом – это удивительно! – спасали поэта женщины. Словно чуяли, кто встретился им. У него было четыре жены, и все были не только красавицы, но натуры «камертонные», как говорили тогда, то есть отзывчивые к своему избраннику, чувствующие его.
В Петроград он переехал со второй женой – Анной Чулковой, поэтессой, переводчицей, младшей сестрой Георгия Чулкова. Переехал в ноябре 1920 года – позвал Горький. Позвал, спасая Ходасевича от призыва в Красную армию, фактически – от фронта[167]. Он еще скажет Ходасевичу, что в Москве все равно надо служить, а здесь, в Петрограде, «можно еще писать». Так начнется не просто дружба Ходасевича с Горьким, а нечто напоминающее почти родственные отношения. Кстати, Горький даже комнату найдет поэту – ту, на Садовой улице, о которой рассказ. Комната, увы, окажется малопригодной для жилья; Ходасевичи проживут в ней около месяца. Но вот что поразительно: переехав в Петроград, поэт вдруг напишет в письме жене, что возвращаться в Москву не хочет совсем. Добавит: «Терпеть ее не могу». Это слова, заметьте, коренного москвича, человека, который родился в самом центре Первопрестольной – Камергерском переулке, в здании напротив МХАТа.
Строго говоря, дом на Садовой не был первым петербургским адресом поэта. Он и раньше живал в Петербурге. Десятилетним мальчиком, например, его родители отправили к дяде; жил он у него на даче – в Озерках. «Пейзаж с горой, поросшей сосновой рощей, с песчаным белесоватым скатом к озеру, с разноцветными дачами – смесь пошлого и сурового – запомнился навсегда», – напишет потом. В словах этих нетрудно узнать именно второе из трех озер этой дачной местности, куда, кстати, и нас, троих детей, мама моя вывозила когда– то на лето. Владя же, ладный гимназистик, которого за рассудительность звали «дипломатом», гулял здесь еще в XIX веке. Где-то рядом была там и дача Майкова, первого поэта, которого он встретил в жизни. До рождения Берберовой, самой щемящей и долгой любви его, было еще пять лет – Нина появится на свет в 1901 году. Родится в семье титулярного советника на самой фешенебельной улице города (Б. Морская, 31). А когда ей исполнится четыре года, Владислав, восемнадцатилетний студент, как раз женится в первый раз – на богатой красавице, шальной «причуднице» Марине Рындиной, может, самой необычной из четырех жен его.
«Одетая в черное или белое платье, с высокой прической, на которую она надевала золотой раздвижной браслет – бирюза с жемчугом, – она напоминала сказочную царевну, – напишет о ней позднее Анна Чулкова. – Хороша была… когда ехала по Кузнецкому мосту на своих лошадях, откинувшись в коляске на бархатные подушки». Меня же лично восхитило другое. На шее у нее, вообразите, было либо дорогое колье, либо прирученный ею… живой уж. Животных обожала. По утрам в своем имении, прямо в ночной рубашке, прыгала на лошадь и носилась по окрестным полям. «Однажды, когда Ходасевич сидел с книгой в комнате, выходящей на террасу, – пишет Чулкова, – раздался чудовищный топот, и в комнату Марина ввела любимую лошадь». Лихо? Но это что! Временами бывала фантастически бесстыдной. «Приходит, бывало, на литературное собрание, – вспоминал очевидец, – идет прямо к столу, в руках какая-нибудь орхидея, сбрасывает шубу и садится за стол голая, ну, совершенно нагишом!» Какой уж после этого разговор «в собрании» о литературе!..
А теперь скажите: можно ли такую особу угнетать, тиранить? Да немыслимо, скажет любой. Но найдется в Москве человек, который, решив, что Ходасевич даже бьет ее, вызовет поэта на дуэль. И знаете кто? Женщина! Вообще Марина уйдет от Ходасевича сама, «уйдет не по правилам», как обмолвится немецкий поэт Гюнтер, имея в виду, видимо, то, что она грубо бросит поэта. Уйдет и станет женой благополучного редактора журнала «Аполлон» Сергея Маковского. Но незадолго до ухода ее от Ходасевича, на каком-то званом вечере в Москве к двадцатилетнему поэту, франту в лакированных туфлях и перчатках, неожиданно подойдет некая пожилая дама и передаст письмо. «Вы угнетаете Марину, – прочтет Ходасевич. – И бьете ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами». И подпись… Мариэтта Шагинян.
Да-да, Ходасевича звала к барьеру Мариэтта Шагинян – впоследствии автор праведных и толстых книг о Ленине и Марксе. «Я сделал вид, – пишет Ходасевич, – что не удивился, но спросил: “Это серьезно?” – “Вполне”, – ответила дама». Ходасевич знал Шагинян лишь в лицо, да и Рындина, жена его, не была с нею знакома; та лишь донимала Марину экстатическими письмами и заявлениями о готовности защищать ее «до последней капли крови». Но тогда, на званом вечере, Ходасевич, спрятав письмо, сказал секундантше: «Передайте ей, что я с барышнями не дерусь». А месяца через три швейцар в гостинице, где временно жил поэт, передаст ему букетик фиалок: «Занесла барышня, чернявенькая, глухая, велела передать, а фамилии не сказала…» «Так мы помирились», – пишет о Шагинян Ходасевич. Кстати, фехтованием Шагинян тогда действительно занималась.
После ухода Марины Рындиной Ходасевич, пишут, впал в долгую и глубокую депрессию. Не дни – годы стали улетать у него на карты (так называемую «железку»), на «прожигание жизни», на вино. Он словно специально изводил себя – похудел, побледнел. Нина Петровская, поэтесса, даже стала называть Ходасевича в письмах «дорогой зеленый друг», «зеленое чудовище» и «молодой скелет»! А приятель Пастернака Константин Локс заметил о нем: «То был худенький молодой человек с какой-то странно-уродливой мордочкой, желтой, как лимон». И ведь все это было до катастрофы, до падения с высоты, после которого у него начнется еще и туберкулез позвоночника. Но он и упадет как-то мистически. Не упадет, а гордо встанет, если можно так сказать.
…Представьте день рождения на даче. Нет, не в Озерках – на подмосковной даче гремевшей тогда поэтессы Любови Столицы. Столица – это псевдоним, фамилия ее была самая что ни на есть обыденная – Ершова. Себя Люба величала «исполинской девой», «богатыркой», «каменной бабой». «Я люблю, – говорила, – чтобы кругом меня дышали атмосферой любви, беспечных схождений, беспечальных разлук», и даже на флирты мужа смотрела сквозь пальцы. В подругах у нее были поэтессы Софья Парнок, Ада Чумаченко, актриса Вера Холодная, балерина Екатерина Гельцер. Язвительный Алексей Толстой напишет, что в волосах у Столицы жемчуг и вся она в бархате, но шеи нет, а на открытой взорам спине рядом с искусственной мушкой вполне натуральный прыщик. И вот день рождения ее – душный, с пылающим камином, с возлежанием на медвежьих шкурах, с какими-то небывалыми ликерами. Ходасевич, спасаясь от жары на даче, выходит на крыльцо и в темноте шагает с него на землю. Высота, писали потом, почти второй этаж. С нее и шагнул. Но не упал, пишет трепетная Чулкова, «встал так твердо, что сдвинул один из позвонков».
Поэта заковали в гипс, подвешивали на вытяжку, отправили лечиться в Крым. Сам он не мог надеть теперь ни носков, ни туфель – не мог нагнуться. Катастрофа – как скажешь иначе? Ведь после нее он из болезней уже не вылезал. Спасла его как раз Чулкова. Пережив голод в Москве, она была рядом с ним в трех лицах: утром – на службе, позже дома – за кухарку, перед сном – за сестру милосердия. «Перевязывала по двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счету)», – благодарно писал он. У него в голод начался страшный фурункулез. Она это не принимала за труд – вышла за него по любви[168]. Ведь это он научил ее «любить небо». Без всякой иронии говорю. Сохранилось ее письмо к подруге, где она приписала: «Есть еще новость: научилась любить небо. Это большое счастье…» В другом письме призналась, что полюбила Ходасевича потому, что у него нет «понятия о женщине как о чем-то низком».
Любила самоотверженно, может, даже слишком, но через два года, уже в Петрограде, он уйдет от нее.
К Берберовой. Не слишком красиво уйдет.
Прямо скажем – сбежит.
Есть в Петербурге дом, который писатели не раз сравнивали с кораблем. «Сумасшедшим кораблем» назвала его все та же Ольга Форш. А юные поэтессы на этот «корабль» молились, считали, что в нем жили чуть ли не боги. «Я была у богов в гостях, – писала двадцатилетняя девчонка, – боги играли Штрауса и ели печенье, и я танцевала среди богов, и лепные купидоны с потолка смотрели на меня»…
Девушку звали Ниной Берберовой, а дом с купидонами – как раз наше здание на Невском. И впрямь похожее на корабль. Но сумасшедший ли? Скорее, город вокруг, опустелый от революций и голода, с трамваями, запутавшимися в собственных проводах, с кострами на перекрестках, у которых пытались согреться рекруты светлого будущего, город, который, по словам Шкловского, как слабый больной, «делал под себя», – он был сумасшедшим. А «дом-корабль», напротив – кипел, бурлил, сверкал и переливался жизнью. Да не просто жизнью – высшими ее формами: литературой, искусством, музыкой.
Диспуты, вечера, концерты, выставки открывались тут чуть ли не ежедневно. Здесь даже выходил свой журнал «Дом искусств». А молодые поэты из гумилевской студии здесь, в зале на втором этаже, играли после занятий в кошки-мышки или валились на пол в кучу-малу. В этом зале под Новый год давали даже бал, на котором мужчины в мятых брюках (в них тогда и спали, не раздеваясь) и «жеваные», по выражению Шаляпина, женщины – беспечно кружились в танцах, улавливая чуткими ноздрями вчерашний уже аромат духов «Убиган» и вспоминая подзабытый французский. Кружились в танцах и кружили голову шампанским, остатки которого, говорят, еще хранились в подвалах хозяина этого дома, два года как сгинувшего на Западе. И об играх студийцев, и о встрече Нового года я еще расскажу. Удивительно другое: Ходасевич, не сговариваясь с Ольгой Форш, тоже назовет этот дом «кораблем», кораблем, назло всем и всему «идущим сквозь мрак, метель и ненастье». На палубе этого «корабля», образно говоря, и разыграется третья, самая большая любовь поэта.
В Петроград он приедет, как я говорил уже, с «милым Нюриком», женой Анной Чулковой. Приедет, распродав в Москве даже мебель. А в Берлин отправится уже с Берберовой, бросив молча, без объяснений, тоже «не по правилам», как бросила его первая жена, ту, которую научил когда-то любить небо. «По правилам» его бросит уже в Париже как раз Нина Берберова…
«Та часть дома, в которой я жил, – вспоминал Ходасевич о “доме-корабле”, – когда-то была занята меблированными комнатами… Комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг». В Дом искусств (так официально назывался наш «корабль») писателей, художников, артистов селили по распоряжению Горького. И поэт, который от Горького не вылезал (а его племянница, художница Валентина Ходасевич, вообще в эти годы жила в квартире Буревестника), легко, конечно, получил ордер на комнату здесь.
Сперва поэта поместили в каком-то углу, куда заходить было нужно со двора, но когда врач нашел у него отек легких, ему с женой предоставили две комнаты в главном корпусе, на четвертом этаже, с окнами на Невский. «У нас 2 комнаты, – пишет он Г.И.Чулкову, – одна наша с Нюрой… другая Гарика, она же столовая… Чисто, прилично, не более. Чудесный вид, вдоль Невского, через Полицейский мост». В другом письме, другу Диатропову, перечислил доставшуюся ему мебель: письменный стол («колоссальный, с полкой»), туалетный столик, ложе двуспальное, зеркальный шкаф, шкафчик для книг, диван, ломберный стол, чулан для сундуков и умывальник, стулья и кресла. «У Нюры, кроме большой подушки, есть думка. У меня нет». Стулья белые с золотом и шелковой обивкой, они, как новые, были обернуты папиросной бумагой, «которую мы выкурили». Дрова, правда, мокрые. Да лампочка под потолком, про которую всем недовольный в Ходасевиче Коля Чуковский напишет: «С середины потолка свисал грязный шнур, на котором болталась загаженная мухами шестнадцатисвечовая угольная электрическая лампочка». Да, именно эту комнату изобразил Ходасевич в стихотворении «Орфей», где были слова: «Гляжу в штукатурное небо на солнце в шестнадцать свечей»… «Но, братья мои, – с энтузиазмом восклицал Ходасевич в письме друзьям-москвичам, – это даром! Братья мои, мы за это благодарим судьбу денно и нощно…»
Вообще весь дом – Дом искусств – был своеобразной коммуной. Такие дома были не только в Петрограде – в этом в известной степени была линия правительства, которое, не без помощи Горького, пыталось поддержать культурную элиту. Скажем, в эти две комнаты к Ходасевичам приходили соседи его по дому: Форш, Зощенко, Мандельштам, Пяст, Нельдихен, Слонимский, Каверин, Тихонов, Гумилев. Коммуна – это взаимопомощь! И все перечисленные то и дело стучали в комнату поэта с вечными вопросами: который час, какое ныне число, нет ли иголочки, когда выдают паек, есть ли спички. Это, конечно, так достало Ходасевича, что он даже вывесил объявление на дверях: «Здесь не справочное бюро и не комбинат бытового обслуживания»…
Вообще, поселившись здесь, он, думаю, не мог не помнить встречу в Кремле, где еще год назад его, Пастернака и Белого принимал в своей квартире нарком Луначарский. «Дворцовая мебель, черная, лакированная, обитая пунцовым атласом, – описывал эту встречу Ходасевич. – Сели мы нескладно, чуть ли не в ряд. Луначарский сел против нас. Позади его помещался писатель Рукавишников, козлобородый, рыжий, в зеленом френче». Речь наркома, запомнит Ходасевич, свелась к тому, что стоны писателей, конечно, до него дошли, но никакой «весны» он людям искусства не обещает. Напротив, власть разрешит литературу, «но только подходящую». Потом слово взял пьяный Рукавишников, который был своим в Кремле благодаря хорошенькой жене-циркачке (ее Луначарский поставит руководить цирковым искусством), и рассказал, как надо переустроить литературу. Оказалось, «надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки, м-м-дааа, дворец из стекла и мрррамора и аллюминия, м-м-дааа, и чтобы всем красивые одежды, эдакие хитоны, – и как его? Это самое, ком-м-мунальное питание. И чтобы тут же были художники. И когда рабоче-крестьянскому правительству нужна трагедия или – как ее там? – опера, то сейчас это все коллективно сочиняют…»
Ирония судьбы – такого дворца, конечно, не построят, но Дом искусств на Невском и станет стихийно возникшей писательской коммуной. Не было хитонов (были пальто из портьеры, платья из маминого канота, рубашки из скатерти), не было коммунального питания, но зато здесь рождалась литература, а не заказанные вождями «трагедии» и «оперы». Здесь Ходасевич сложит «Тяжелую лиру» – сборник, который десятилетия будет потом под запретом советского правительства. Здесь писали Мандельштам, Гумилев, Пяст, Всеволод Иванов, Николай Тихонов, Виктор Шкловский, Зощенко. Здесь Александр Грин напишет «Алые паруса», а прототипом Ассоль станет Муся Алонкина, красавица, «душа Дома искусств». Да, и пишущие, и непишущие девушки крутили здесь романы и романчики с поэтами, и с наступающей темнотой в бесчисленных уголках дома ворковали бесчисленные парочки. Влюблялись так, словно завтра всех ждала смерть. Впрочем, почему «словно»? Многих из них смерть вскоре и настигнет. Ту же Мусю Алонкину, красавицу, по которой в Доме искусств вздыхал не один поэт…
У Ходасевича и Берберовой все началось с сестер Наппельбаум – Иды и Фриды, молодых поэтесс из студии Гумилева. На втором этаже этого дома, перед голубой гостиной молодежь вместе с учителем своим, Гумилевым, устроила однажды после занятий кучу-малу. Тогда-то Фрида и сказала пробегавшему мимо Ходасевичу: «А это наша новенькая студистка, моя подруга Берберова». – «Да которая же? Тут и не разберешь». – «А вот она. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога…»
Берберова через годы будет всячески открещиваться в мемуарах от этой своей детскости. Расскажет, что девочкой, еще когда жила с родителями в богатой квартире (ул. Жуковского, 6), писала пьесы, которые ставили в гимназии, что ее классная дама (а мы уже знаем, что классной дамой ее была Татьяна Адамович) показывала ее ранние стихи Ахматовой и Блоку, а однажды на одном из поэтических вечеров даже познакомила ее, гимназистку, с ними. Все так. Но она же и проговорится в мемуарах невольно – расскажет, что, когда ее семья получит из Ирландии посылку, где было шесть банок сгущенки, она, прямо в шубе, в платке, схватит молоток и гвоздь и, пробив в банке две дырки, одним махом выпьет густую сладкую жидкость. «До дна. Как зверь». Я бы сказал – как звереныш, как маленький голодный ребенок…
А потом наступит 21 ноября 1921 года. В этот день стихи Нины похвалят сначала в студии у Гумилева, а потом – у Наппельбаумов, где поэты читали стихи по кругу. Похвалит и Ходасевич, мэтр, один из ее богов. «Сегодня твой день!» – шепнет ей на ухо Ида. Они, Ходасевич и Берберова, снова увидятся здесь. Теперь она будет потрясена не только его «Балладой», которую он прочтет, но и им самим. Он умел говорить глазами, как ее отец, и был не такой, как стихотворцы из «Цеха поэтов». В них она всегда находила «несовременность, манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркиванья, – напишет потом. – Ходасевич был другой породы…» А через несколько дней уже он подстроит встречу с ней у гостиницы «Астория», на углу Большой Морской…
Она в книге «Курсив мой» все пытается представить себя в те годы гораздо более взрослой, самостоятельной и, конечно же, уже сформировавшейся поэтессой. Извинительный грех. И не рассказывает о том, что напишет в своих воспоминаниях Николай Чуковский, тогда молодой (почти мальчик!) поэт, пишущий под выспренним псевдонимом Николай Радищев. Так вот, он утверждает, что знакомство Нины и Ходасевича – его «рук дело». Он, оказывается, был и единственным посвященным в их роман, и конфидентом ее, и даже – своеобразным «почтовым ящиком» между влюбленными.
Берберова – «рослая, сильная, здоровая девушка с громким веселым голосом», – пишет он, и с расщелинкой «по самой середке ее верхних зубов», очень ее красившей, ни с кем, оказывается, не дружила, кроме Коли. «Дружба наша заключалась… в том, что мы долгими часами то днем, то ночью гуляли вдвоем по пустынному Петрограду и вслух читали друг другу стихи. Ни малейшей романтической подкладки в наших отношениях не было. Я, в те годы весьма неравнодушный к женским чарам, чар Нины просто не замечал». Настолько, добавлю, «не замечал», что когда они забежали к ней домой, чтобы она могла переодеться, то она, заговорившись с ним, раздевалась просто при нем. Когда в комнату неожиданно вошла ее мать и, увидев Нину, стоявшую перед Колей в одном белье, крикнула: «Нина! При молодом человеке!» – она, пишет Коля, едва не отмахнулась от матери: «Какой он молодой человек? Он поэт…»
«Поэт» познакомил Нину с Ходасевичем, но как и при каких обстоятельствах – не сообщает. Просто говорит о том, что к Ходасевичу всегда ходил вместе с ней. «То, что Ходасевич влюбился в Нину, – пишет он, – мне казалось еще более или менее естественным. Но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог… Она почти на целую голову была выше его ростом. И старше ее он был по крайнем мере вдвое. Не к тем принадлежал он мужчинам, в которых влюбляются женщины…» Без невольной улыбки читать это сегодня нельзя. И Наталья Гончарова тоже была выше Пушкина. Не за это любят поэтов. Впрочем, Чуковский вообще уничижительно, почти оскорбительно отзывается о Ходасевиче еще и потому, что тот был ко времени написания мемуаров уже белым эмигрантом, открытым врагом советской власти. А Коля – единственным в семье Чуковских, кто оказался, что называется, правее «папы»…
А что же подстроенная Ходасевичем нечаянная встреча у гостиницы «Астория», решившая его судьбу? Так вот, Нина темнеющим вечером, в валенках, бежала с занятий в студии к себе домой: с Галерной – на Кирочную, и вдруг на углу услышала крик с той стороны улицы: «Осторожно. Здесь скользко». «Из метели, – вспоминала она, – появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть ли не до пят, шубе (с чужого плеча). “Я вас тут поджидаю, замерз, – говорит Ходасевич, – пойдемте греться. Не страшно бегать в такой темноте?”» И она, робея, пошла с ним – худым, и легким, и, несмотря на шубу, изящным. Пошла пить кофе в «низок» – так называлось кафе на Невском, напротив «Диска», Дома искусств, куда недавно еще ее водил Гумилев, ухаживавший за ней.
Так запомнила встречу Нина. Ходасевич запомнит ее иначе. Он действительно поджидал ее после лекции в институте. Но на углу улицы на его глазах она запуталась в мотке какой-то проволоки, и он со смехом стал ее распутывать. Кусок же проволоки незаметно отломал на память. Потом сделает из него памятный браслет для нее. Она потеряет его через несколько лет, купаясь на Балтике. Нечаянно. А потом, уже не нечаянно, будет трудно и долго уходить от него…
Все в их жизни решится в новогоднюю ночь 1922-го. Почти единственную ночь, когда окно Ходасевича на Невском гореть не будет. Оба они будут встречать Новый год в Доме литераторов на Бассейной (ул. Некрасова, 11). Там за их столиком окажутся Замятин, Чуковский, Слонимский, Федин и Всеволод Рождественский. И там Берберова прочтет свое стихотворение, где будут строчки: «Жизнь моя береговая, // И за то благодарю!» «Что значит… “береговая”?» – спросит Ходасевич. «Которая берегом идет, дорога береговая», – ответит она, удивляясь, что он не понимает. «Значит, не настоящая, а так, сбоку, что ли?» – «Если хотите… Не всамделишная», – согласится она. И тут Ходасевич, выждав, когда заговорят окружающие, тихо, для нее одной, скажет: «Нет. Я не хочу быть береговым. Я хочу быть всамделишным». Это шепнет ей как раз перед боем часов. Сказать ему, «что он уже всамделишный, – пишет Берберова, – я не могла. Я еще этого не чувствовала». Но после этих слов они поднялись и пошли на Невский, в Дом искусств, к нему. В час ночи по гололеду празднично, по тогдашним временам, освещенного Невского, смеясь, цепляясь друг за друга, они будут спешить к его комнате под выкрики из всех ресторанов модной тогда песенки: «Мама, мама, что мы будем делать, // Когда настанут зимни холода? // У тебя нет теплого платочка-точка, // У меня нет зимнего пальта!.»
Через семь дней она уйдет от него под утро уже не той, какой была. Напишет про ту ночь: «Мы… просидели до утра у его окна, глядя на Невский, – ясность этого январского рассвета была необычайна, нам отчетливо стала видна даль, с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист, и только у Садовой блестел, переливался и не хотел погаснуть одинокий фонарь, но потом погас и он. Когда звезды исчезли… и бледный солнечный свет залил город, я ушла. Какая-то глубокая серьезность этой ночи переделала меня.
Я почувствовала, что я стала не той, какой была. Мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные…»
Они расстались у окна Дома искусств на Невском, у счастливого окна Ходасевича и Берберовой. Через пять лет в Париже Нина на его карточный выигрыш купит литографию с изображением этого дома, «сумасшедшего корабля». Они повесят ее в нанятой ими квартире. А через десять лет, сварив поэту борщ на три дня, перештопав все его носки, она уйдет от него, уйдет ни к кому, оставив мебель, лампу, чайник, даже вышитого петуха на чайнике, даже эту литографию. Он, еще днем, накануне ее ухода, напугав ее словами: «Не открыть ли газик?» – заберется на подоконник парижской квартиры и будет стоять в полосатой французской пижаме у раскрытого на четвертом этаже окна (на четвертом этаже, как в Петрограде!) и смотреть на нее – уходящую любовь. Навсегда уходящую. Она, как когда-то это делала на Невском, оглянется. «Он стоял, – напишет, – держась за раму обеими руками в позе распятого. Был апрель 1932 года…»
Ровно десять лет назад – в апреле 1922 года – в Михайловском сквере Петрограда, рядом с памятником Пушкину, на какой-то скамейке, он со значением сказал Нине, что перед ним теперь только две задачи: «уцелеть и быть вместе». Или, пыталась вспомнить она, наоборот – «быть вместе и уцелеть». Увы, ни одной из этих задач он не выполнит. Но тогда она ему поверила; она его – худого, слабого и бледного – любила. Любила, пишет, так, что ужасалась: он устает даже от ношения пайков, а ведь они, видит бог, легче перышка…
Знаете, где в Петрограде выдавали поэтам пайки: селедку, муку, спички? В Доме ученых (Миллионная, 27). Вход был со двора, внизу был длинный коридор, в котором по средам – это был день, доставшийся Ходасевичу, – он занимал очередь за пайком. Почти все, что получал, выменивал на папиросы, потому почти ничего не ел. Берберова в мемуарах не раз подчеркнет, что всю жизнь, даже в Париже, он ел только макароны с мясом. Но где же было взять мясо в Петрограде? Впрочем, второй «кормушкой» голодающих писателей был Дом литераторов. Тоже знаковый дом города. Он был бесплатной столовой, местом встреч, клубом, библиотекой, обменным рынком, помещением для скудных торжеств и празднования памятных дат. Именно здесь Ходасевич и Берберова оказались за одним столом в тот свой Новый год, когда между ними все и решилось. Но за год до этого, в снежный февральский вечер 1921 года, Ходасевич вместе с Блоком и другими писателями выступал здесь в годовщину смерти Пушкина. Это памятный день, о нем долго потом перешептывалась уцелевшая интеллигенция. Я бы сравнил тот «пушкинский вечер» с восстанием культуры, бунтом духа, писательским мятежом почище кронштадтского…
Вообще-то революцию Ходасевич на первых порах принял. Здесь он мало отличался от Блока, единственного из современников, кого признавал выше себя[169]. «Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту… “демократическую погань”, – писал Ходасевич в угаре первых дней переворота. – Дайте им волю – они “учредят” республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршинников!.. Будет у нас честная трудовая страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится… К черту буржуев, говорю я. Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу…» И дальше: «Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованным». Он наивно думал еще, что большевики помогут возрождению культуры. Через год, уже в Петрограде, в речи, посвященной Пушкину, Ходасевич скажет о «надвигающемся мраке». Да, на вечере памяти Пушкина в Доме литераторов он, как и его кумир Блок, окажется уже на другой стороне баррикады – они впервые бросят новым властям публичный вызов.
«Предстояли речи Кони, Котляревского, Блока и моя, – пишет Ходасевич. – За столом президиума, в центре Котляревский, по правую руку от него Ахматова, Щеголев и я, по левую – Кони, Кузмин и на конце стола Блок. Черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником, жилистый и сухой, с обветренным красноватым лицом, Блок похож был на рыбака». Власть представлял на вечере некий Кристи, уполномоченный Наркомпроса в Петрограде. Он был даже больше чем власть, он был председатель пайковой комиссии, в его руках бы ли и хлеб, и бесплатная похлебка, и спасительные селедки. Кристи к тому же, взяв слово, оговорился и брякнул: «Общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти». «По залу пробежал смех, – пишет Ходасевич. – Кто-то громко сказал: “И не предполагаем!”..» Но добил представителя власти Блок. В оглушительной тишине он, поворачивая голову именно в сторону Кристи, чеканил: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня. Те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу…» Нет, не так! К.Чуковский записал тогда же в дневнике: «“Матовым голосом” Блок говорил о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а нам, поэтам, теперь – смерть».
Зал неистовствовал. Творилось нечто невообразимое. «Овации не утихали, – вспоминал критик Голлербах. – Блок встал, белея снежным свитером над зеленым сукном стола. Постоял полминуты, аплодисменты стали еще оглушительнее!» Ходасевичу, кстати, хлопали не меньше. Шагинян, которая когда-то вызывала его на дуэль, и через шестьдесят лет кольнет его в своей книге, напишет, что речь его была принята с восторгом только потому, «что была антиобщественна, она зажгла консервативную питерскую аудиторию». Речь, увы, не сохранилась, хотя выходит – хорошо сказал… Но слова Блока о том, что «поэтам теперь – смерть», оказались пророческими: ровно через полгода как раз он тяжело и мучительно уйдет из жизни…
Кстати, о кончине Блока Берберова узнает здесь же, в Доме литераторов. Прочтет еще сырое, только что наклеенное объявление, и из глаз ее невольно брызнут слезы. Так, с невидящим взглядом, дойдет до Фонтанки, где на углу с Семионовской, словно по заказу, обнаружит вдруг цветочный магазин, которого вчера еще не было. Это вообще непредставимо: в августе 1921 года, когда ромашки и одуванчики росли, по словам Ахматовой, лишь в заброшенных галереях Гостиного Двора, – вдруг настоящий цветочный магазин. Может, первый после революции. «Я купила четыре белые лилии на длинных стеблях, – пишет Берберова. – Оберточной бумаги не было, и я понесла лилии на Пряжку открытыми. Мне чудилось: прохожие догадываются, куда я иду и кому несу цветы». Теперь это факт истории. Ведь многие из столпившихся у тела Блока вспоминали потом, что какая-то девушка принесла красивые белые цветы – единственные не полевые…
Последним адресом Ходасевича, о котором я обещал рассказать вам и который упоминал уже в первой главе, стал дом приятеля поэта – художника Юрия Анненкова (Кирочная, 11). «Быть вместе» с Берберовой – эта задача была уже сформулирована им. И может, потому он поселится здесь, за два дома от ее подъезда. Он как раз приехал из Москвы, куда ездил добывать себе и ей заграничные паспорта. Номера на паспортах тоже будут «соседовать»: 16 и 17. Только в графе «причина поездки» у Ходасевича было вписано: «для поправления здоровья», а у Нины – «для пополнения образования».
Занятно, но незадолго до этого он и жену свою, Анну Чулкову, вдруг неожиданно спросит: «А ты со мной поехала бы за границу?» Та, ничего не подозревая, ответит: «Нет, я люблю Россию и надолго с Россией не расстанусь. Поехать на один-два месяца – я бы поехала с удовольствием…» А он – он рвался на Запад вслед за только что уехавшим Горьким. «Горький перед Ходасевичем… благоговел, – вспоминала потом Берберова. – Закрывал глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький… любил его как поэта и нуждался в нем как в друге». Именно Ходасевича Горький потом, со слезами на глазах, попросит написать о себе воспоминания. Чуть ли не слово возьмет с него.
И Горький, и Ходасевич покидали родину добровольно – так считалось, по крайней мере. Пока с большим опозданием не стало известно, что Ленин, отпуская Горького, угрожающе «пошутил»: «Не поедете сами – вышлем». Но ведь и Ходасевич был бы выслан, если бы не уехал: его имя было включено уже в список пассажиров будущего «философского парохода». То есть обстоятельства отъезда почти «родственников» – Горького и Ходасевича – совпадали. Оба оказались нежелательны в новой России. Но вот дальше – дальше пути их стали расходиться[170]. Ходасевич, живя у Горького на вилле Сорренто, впервые понял, что с Горьким ему не по пути, когда узнал, что Максим, сын писателя, не только работал в ЧК в 1918 году, но и вновь собирается служить там. Тот, захлебываясь от восторга, вспоминал о тех днях:
«Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем – здрасьте пожалуйста! Вот мы раз ловили этих эсеров ваших… Мне тогда Феликс Эдмундович подарил коллекцию марок – у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь мать говорит (Екатерина Пешкова и привезла в Сорренто новое предложение Дзержинского. – В.Н.), что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда и покатаюсь!..»
«По привычке все изображать в лицах, – пишет Ходасевич, – Максим… откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысцой. Потом… делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня, и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: “Ту! Ту! Ту!..”» Страшная картина, не правда ли? Взрослый идиот, как иначе скажешь, и – работа в ЧК. Впрочем, из этой истории ничего не вышло: Екатерина Пешкова, мать Максима, не сына привезет в Москву в тот раз, а всего лишь отличный черепаховый мундштук в подарок Дзержинскому. Но с Горьким, повторяю, Ходасевич тогда и разойдется по идейным причинам[171]. Тот, образно говоря, и станет первым «литературным чекистом», находящимся на территории врага, то есть за рубежом. Потом такими «агентами» СССР станут Луи Арагон, Эльза Триоле, Ромен Роллан и подобные им живые «классики»…
Это, впрочем, еще будет. А тогда, в 1922-м, приехав из Москвы в Петербург с готовыми заграничными паспортами, Ходасевич ненадолго поселился здесь, в бывшей квартире какого-то свитского генерала, которую самостийно занял художник Юрий Анненков, друг поэтов[172]. Кстати, именно в этом доме, на Кирочной, Анненков и рисовал знаменитый портрет Ахматовой, а позже, здесь же, ему позировал и Борис Пастернак. Анненков ведь даже Ленина, друга его отца когда-то, рисовал в Москве, по особому заказу, и тот во время сеанса сказал художнику чуть ли не единственную фразу, но зато какую! Куда там распределителю пайков Кристи! «Я, знаете, в искусстве не силен, – сказал Ленин, – искусство для меня что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его – дзык-дзык! – вырежем. За ненужностью».
Позднее, после смерти Ленина, Анненкова вызовут в Москву рисовать вождя в гробу, и он, попав в некий институт, увидит заспиртованный мозг Ленина. «Одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчетливыми извилинами, – вспоминал художник, – другое, как бы подвешенное к первому на тесемочке, – сморщено, скомкано, смято и величиной не более грецкого ореха…» Анненков, кстати, удивлялся потом, куда исчез этот страшный «экспонат»… Так вот, Анненков, возможно, передал Ходасевичу ту фразу вождя о будущей судьбе искусства при советской власти. Впрочем, Ходасевич – умный человек – и сам уже понимал, что вся Россия, чьи сосцы выкормили его когда-то, была теперь и скомканной, и смятой, что надо бежать, иначе и его тоже – «дзык-дзык» – вырежут. Не догадывался о другом – о том, что подлинных поэтов нигде и никогда не ждут. Даже во Франции. И уж, во всяком случае, не жалуют…
Окно на Невский… Угловое окно четвертого этажа, выходящее на Мойку и просматривающийся едва ли не до Московского вокзала проспект. Сколько раз поэт, сидя у этого окна, высматривал летящую к нему по Невскому на очередное свидание свою Нину. Да вся «Тяжелая лира», наконец, весь последний сборник стихов, написанный им в России, сочинен здесь, у этого подоконника. Но перед самым отъездом за границу в последние дни, когда он фактически прятался от жены на Кирочной, в квартире Анненкова, все у того же окна, двое суток ждала его возвращения из Москвы Аня Чулкова, еще жена. Он обманул ее, сказал, что едет в Москву по делам издания «Тяжелой лиры». «Я, – пишет Чулкова, – только спросила: один или с Берберовой? Он сказал: “Конечно, один”. Он уехал. Через несколько дней я встретила Берберову на улице и обрадовалась, что Владя сказал правду. Из Москвы он писал письма, сперва деловые… потом тон… резко изменился – он начал уверять, что нам необходимо разойтись… Последующие письма… были совершенным бредом, с обвинением меня в чем угодно, с советами, как мне надо жить, с кем дружить и т.д. Наконец, я категорически спросила его письмом, вернется ли он в Петроград… В ответ… получила телеграмму: “Вернусь четверг или пятницу”».
Вот эти два дня, четверг и пятницу, она и просидела у окна на Невский, «надеясь увидеть Владю едущим на извозчике с вокзала». За этим занятием ее застанет поэтесса Надя Павлович: «Ты напрасно ждешь, он не приедет…» Чулкова покажет ей телеграмму, но та повторит: «Он не приедет»… Еще через два дня Чулкова получит письмо от «Влади», написанное с дороги. С дороги на Запад. «Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения…» Да, он уйдет от жены, надо сказать, не по-мужски, некрасиво уйдет. Не так, как через десять лет уйдет от него в Париже Нина, честно предупредив его об этом…
В жизни Берберовой были только два человека, которые умели говорить глазами, – Ходасевич и ее отец, который останется с матерью Нины в Петрограде. Это чудо, но она, уехав навсегда в эмиграцию, заглянет еще в отцовские глаза, хотя и никогда не встретит его больше. Для этого даже вступит в эмигрантскую коммунистическую ячейку в Париже и разом заплатит годовой взнос. Просто в 1935 году на Невском к ее старику отцу подойдет знаменитый уже кинорежиссер Козинцев и скажет: «Нам нужен ваш типаж». «И отец мой сыграл свою первую роль», – напишет Берберова в воспоминаниях. В фильме Козинцева изобразил бывшего человека, то есть, видимо, буржуя, по тогдашней терминологии, которого в конце концов, по сценарию, приканчивают. Гримироваться ему, пишет Нина, почти не понадобилось. Через два года после этого Нина найдет в Париже кинотеатр, где членам комячейки (ради этого она и вступала в нее) показывали иногда советские ленты. В затхлом кинотеатришке, замерев в темном зале, она и увидит на экране любимые глаза. Когда в последнем эпизоде фильма его арестуют, он обернется с экрана, и Нине, до мурашек на спине, покажется, что это ей отец, уводимый конвойными, махнул прощально рукой. Через семь лет, в ленинградскую блокаду ее родители уедут в эвакуацию: мать умрет по дороге, а отец – добравшись до конечной станции…
Кстати, тогда, в начале Второй мировой, Берберова заберет себе ту литографию, на которой было изображено их счастливое с Ходасевичем окно на Невском. Заберет даже не после смерти Ходасевича, а когда фашисты, взяв Париж, арестуют Ольгу Марголину, последнею жену Ходасевича, с которой он успеет прожить шесть лет. Ольга погибнет в концлагере. А у Берберовой от поэта только и останется что портсигар, золотые отцовские часы да эта литография.
В книге своей Берберова расскажет о последних днях Ходасевича, когда он не глазами говорил с ней – криком кричал. Он был когда-то, помните, зелено-желтым, как лимон. В Париже, в городской, не частной, больнице Бруссе, где был ад для больных, он, пятидесятитрехлетний человек, станет за полгода до смерти зелено-коричневым. И весу в нем будет сорок девять кило. От морфия бредил. Три темы варьировались в его бреду, напишет Берберова: «Андрей Белый (встреча с ним), большевики (за ним гонятся) и я (беспокойство, что со мной)». Перед смертью, когда его жена, Ольга Марголина, выйдет на минуту, он, с седыми космами, с двухнедельной щетиной (зубов уже и не вставлял), расчесавший себе от боли все тело, с обожженным грелками животом, зная, что умирает, скажет своей Нине, заливаясь слезами: «Быть где-то и ничего не знать о тебе! Быть, где я никогда не буду уже знать о тебе. Только тебя люблю. Все время о тебе, днем и ночью. Ты же знаешь. Как я буду без тебя? Где я буду? Ну, все равно. Теперь прощай…»
Уцелеть и быть вместе… Вместе они теперь окажутся только через пятьдесят лет, когда скончается и Нина Берберова. Умрет в Америке.
Между их могилами – океан. Но разве это преграда для любящих?
Тем более что оба вернутся стихами и книгами и в Петербург – город их любви.
Вина весеннего иголки
Я вновь принять душой готов, –
Ведь в каждой лужице – осколки
Стеклянно-алых облаков…
Мы снова путники! Согласны?
Мы пробудились ото сна!
Как чудеса твои прекрасны,
Кудесница любви, весна!
О глазах его Цветаева сказала: «Два зарева! – Нет, зеркала!» Писатель Ремизов назвал их «вифлиемскими». Таких «адских» глаз в нашей поэзии не было ни до, ни после Кузмина. «Князь тьмы», – сказала про него со значением Ахматова. А Волошин не решался спросить его, сколько же ему лет, опасаясь услышать: «Две тысячи». «В его наружности нечто столь древнее, – записал он в дневнике, – что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь»…
Колдовство и тьма, легенда и загадка, выверт и излом – вот слова, которые сопровождали Михаила Кузмина всю жизнь. Он гордился не просто дворянством своим – тем, что фамилия его пишется без мягкого знака «в отличие от плебейского Кузьмина». Он даже в автобиографии своей, дошедшей до нас, пишет, что родился в 1872 году, потом зачеркивает эту цифру и называет год 1875-й, а затем еще раз, уже карандашом, исправляет и его – на 1874-й[173]. Так сколько же вам лет, Михаил Алексеевич, хочется спросить. Может, и в самом деле две тысячи?..
9-я линия на Васильевском острове, дом №28 – первый из известных мне адресов Кузмина. Здесь начиналось все необычное в нем: розовые еще мечты, голубая любовь, музыка, поэзия. А последний дом в его жизни – на Спасской (ул. Рылеева, 17-19), где он поселится в 1917 году, где проживет дольше всего и откуда увезут его в больницу на Литейном – умирать. Дом, в котором его, необычного человека, «апостола эстетов, денди с солнечной стороны Невского», по словам Георгия Иванова, превратят в обычного гражданина СССР, в бледную, сухую, почти бесплотную тень прошлого. Он переживет здесь арест близкого ему человека, два обыска с изъятием дневников и даже «одеколонных записочек», голод, холод, уплотнение – все, что выпадало на долю любого петербуржца, но при этом достойно доиграет свою роль. Хотя древний актерский род его навсегда прервется именно здесь…
Да, в жилах поэта Михаила Кузмина текла кровь актеров. Французских актеров. Если вы придете на самую красивую улицу Петербурга – улицу Зодчего Росси – и встанете спиной к Александринскому театру, то слева, в том угловом здании, где находится ныне балетное училище, в торце его, на последнем этаже увидите два больших полукруглых окна (пл. Островского, 6). За одним из них, самым крайним, в служебном помещении Императорского театрального училища, жила когда-то бабка Кузмина – прелестная, как говорили о ней, француженка Монготье. Вот она и была актрисой, как и дед ее – знаменитый французский трагик, один из лучших актеров XVIII века Жан Офрен. О нем, прапрадеде Кузмина, есть упоминания даже в письмах Вольтера. Гремел во Франции! Но стоило Екатерине II позвать его обучать актеров – приехал в холодную Россию навсегда. Видимо, строг был, и эта строгость передалась внучке его, актрисе Монготье. А может, и сама была строга потому, что в шестнадцать лет ее, ученицу театрального училища, выдали замуж за инспектора классов Федорова. Через годы внуки ее, это точно, взбирались сюда, под крышу, едва ли не дрожа от страха.
«Бабушку видели по утрам, – писал потом в дневнике Кузмин. – Она принимала детей в кровати, осматривала, чисты ли руки, в порядке ли платье. Все просьбы нужно было приурочивать к этому свиданию, которого они боялись, как экзамена». Говорят, что в гостях у бабки поэта, именно здесь, бывал сам Гоголь, что она была дружна с Арсеньевой, бабушкой Лермонтова. Но одну из дочерей своих[174], Надежду, выдала замуж за старика – в прошлом морского офицера, когда-то красавца и, кажется, прежнего своего любовника. Он и станет отцом поэта. Так что и тонкий вкус, и музыкальный слух, и врожденное изящество – все в поэте было от артистической родни. Впрочем, Кузмин любил повторять: во мне сразу живут двадцать человек…
Здесь же, в трехэтажном доме на 9-й линии, с которого я начал свой рассказ, Кузмину уже тридцать. Он окончил три курса консерватории (учился контрапункту и фуге у самого Римского-Корсакова), пишет романсы, работает над операми «Елена», «Клеопатра», «Эсмеральда», участвует в «Вечерах современной музыки», которые были как бы музыкальным приложением изысканного журнала «Мир искусства». Он уже знаком с художниками Сомовым, Бакстом, Александром Бенуа, пишет стихи, которые скоро опубликует в альманахе «Зеленый сборник», но и утром и вечером, пробегая мимо другого дома на этой же улице (9-я линия, 8), вспоминает невольно юность. Потому что в доме №8, где ныне какой-то детский учебный центр, была когда-то гимназия, в которой он учился. В этом здании нынче все другое; я специально зашел туда и отметил, пожалуй, только сохранившиеся кованые перила, сделанные так, что скатываться по ним ни гимназистам тогда, ни нынешним мальчишкам просто невозможно. На гладкой поверхности металлических перил, через сравнительно короткие промежутки, какой-то умный человек век назад приварил весьма высокие нашлепки: держаться за перила они не мешали, а вот съехать по ним со свистом явно было невозможно. Кстати, таких примет «кузминской» эпохи столетней давности мы с вами найдем в Петербурге еще немало…
«Я рос один, и в семье недружной и несколько тяжелой, с обеих сторон самодурной и упрямой», – вспоминал позднее Кузмин. Не любил игр мальчиков, мечтал о каких-то выдуманных существах, «о скелетиках, о смердюшках, тайном лесе, где живет царица Арфа и ее служанки, однорукие струны». «Братья в Казани, в юнкерском училище, сестры в Петербурге на курсах, потом замужем. У меня все были подруги, а не товарищи, и я любил играть в куклы, в театр, читать или разыгрывать легкие попурри старых итальянских опер… К товарищам… чувствовал род обожания и, наконец, форменно влюбился в гимназиста седьмого класса Зайцева, сделавшегося потом моим учителем». Удивительно, но ему, еще гимназисту, три раза подряд цыганки нагадают, что в жизни его будет много любви. Ее и будет много, и все – однополой, хотя, к слову сказать, и до революции, и после такая любовь была уголовно наказуемой. А помимо Зайцева, в той же гимназии, он влюбится в Юшу Чичерина, будущего наркома иностранных дел СССР (тот станет другом на всю жизнь). Чичерин долго будет считать его «выдающейся натурой» и «менестрелем на готовых хлебах». «На готовых хлебах» потому, наверное, что сам много лет подряд будет выделять другу Мише деньги на жизнь. До 1200 рублей в год выходило порой – приличная сумма по тем временам.
Вообще с Васильевским островом, который Кузмин в дневнике звал просто «Остров», многое связано у него. Судя по дневнику, жил он здесь и раньше, только вот – где?.. В 1905-м запишет: «Сегодня был на Острове. Как-никак там я провел всю юность, и каждая пядь связана с воспоминаниями… Набережная, где я гулял, строя планы, обдумывая новые вещи… лавки, куда ходила моя мама, парикмахерская, где меня стриг Павлуша Коновалов, к которому одно время я был слегка неравнодушен, ресторан, где бывал я с Сенявиным и Репинским… И странно, что идешь не домой, что… не обгоняешь Лизы с провизией, тараторящей у ворот, что не ждет мама, милая мама, и не в старой, с солнцем, комнате за прежним роялем пишешь свои вещи». В другой раз вспомнил, как мама его «метила платки» или вышивала в спальне. «Помню… ужасное время маминой болезни, когда вдруг я узнал другую маму, незнакомую, страшную, строгую; мутные глаза… несвязная речь… Первые ночи дежурства, потом сиделки, тетя, морозные ясные дни, печка по утрам в полутемной еще комнате; как, приехавши… с маслом и мадерой, я встретил у ворот Тимофея с более постным, чем всегда, лицом… “Уж вы не пугайтесь, барин, оне скончались”… Помню панихиды… похороны при весенней ясной погоде, ту же церковь, где отпевали папу. Начало моего одиночного хозяйства, разбор вещей, страх первое время, прелесть покупок самому, сам хозяин. И дальше, дальше…»
Все – загадка, все – легенда в жизни Кузмина. Попытка самоубийства, бегство из дома в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и вновь религия, мечты о монашестве, монастыри[175]. В двадцать лет с новым интимным другом, офицером конного полка, путешествует по Египту, Турции и Греции, потом новая связь, с каким-то юным лифтером в Италии; потом, уже дома, вновь религия, старообрядчество и еще одна попытка самоубийства. Знаете, что толкнуло на суицид? Невозможность широко жить. То есть попросту бедность. «Я накупил лавровишневых капель и, написав прощальное письмо, выпил их, – вспоминал позднее Кузмин. – Было очень приятно физически, но ужас смерти обуял меня, я разбудил маму…»
А вообще, существует легенда (опять легенда!), что стихотворчеству Кузмина учил Брюсов. «Вот вы все ищете слов для музыки, – говорил ему Брюсов, – и не находите. А другие берут первое попавшееся. Почему? Потому, что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять». – «Помилуйте, как же сочинять? – удивился Кузмин. – Мне рифм не подобрать». И мэтр якобы учил тридцатилетнего новичка «подбирать рифмы». А легенда – не только потому, что стихи писал с детства, но еще и потому, думаю, что научиться такой чистой, кристальной поэзии нельзя. Вслушайтесь сами: «Сквозь высокую осоку серп серебряный блестит, // Ветерок, летя с востоку, вашей шалью шелестит. // Мадригалы вам не лгали, вечность клятвы не суля, // И блаженно замирали на высоком нежном “ля”…» Это ранний Кузмин, но куда до него учителю Брюсову! Сам Блок после первого сборника Кузмина напишет ему: «Господи, какой Вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строку и каждую букву понимаю…»
Кузмин скоро станет своим в кругу поэтов, хотя на знаменитую «Башню», в салон изысканного Вячеслава Иванова, его приведут еще в мужицком «прикиде»: с бородой, в поддевке, картузе и сапогах. Это случится 18 января 1906 года. «Поднявшись по лифту в 5-й этаж, прямо против входных дверей – стол с людьми, вроде трапезы, – записывал Кузмин. – В комнате со скошенным потолком, в темно-серых полосатых обоях, горели свечи в канделябрах и было уже человек 40 людей. Хозяйка в красном хитоне встречала гостей. Было красное вино в огромных бутылях, и все пили и ели, как хотели». Что за публика, спросите? Это хорошо известно: Сомов, Брюсов, Сологуб, Ремизов, Тэффи, Бердяев, Мейерхольд, Добужинский… Образно говоря, «пила и ела» тут вся тогдашняя русская культура. Кузмин же пока автор не музыки – «музычки», как сам говорил, и тринадцати весьма изящных сонетов[176]. И никто в салоне, конечно же, не догадывался, что вошедший только что записался в черносотенный «Союз русского народа», что дни проводит в третьеразрядных ресторанах, вечера – в «сомнительных» банях и что на Невском на него часто находит «кальсонное» (его слово) настроение смешливой и истерической развязности. То его, сластену, было не вытащить из фешенебельного района, из знаменитого магазина шоколада «И.Крафт» (Итальянская, 10/5). А то целыми вечерами он просиживал среди гостинодворских купцов да старших приказчиков в «русском ресторане» при Мариинской гостинице (Чернышев пер., 3), где его опасно примут однажды за еврея. Позднее, в революцию 1905 года, запишет уже вполне, кстати, равнодушно – «побить жидов» в России почему-то входит в самые разные революционные программы. И не там ли, в районе Чернышева переулка и мещанской Разъезжей, Кузмина и самого изобьют однажды до полусмерти, когда он, не зная зачем, привяжется доверчиво к каким-то уличным гармонистам?..
Ничего. Синяки его скоро заживут, а на их месте возникнут мушки, как у дам XVIII века, как у бабушки-актрисы. «Наклеили мне к глазу сердце, – радостно записал Кузмин, – на щеку полумесяц и звезду, за ухо небольшой фаллос». Он уже на «Башне» превратится – и довольно скоро! – в утонченного, капризного и манерного эстета. Актерствовал? Не без этого. А потом и сам, уже переселившись в дом к Вячеславу Великолепному, наманикюрив ногти, накинув шелковое кимоно и устало обмахиваясь веером, будет принимать в своей комнате и друзей-поэтов, и мальчиков-миньонов (зеленые обшлага у правоведов, красные – у лицеистов)[177]. Но кончится, кстати, и здесь тем, что его вновь изобьют, и опять «не по делу»…
С богемным Вячеславом, с которым Кузмин затевал когда-то «вечера Гафиза» (раскованные интимные посиделки, когда, развалившись на тюфяках, за бокалом вина они вели поиски мистического в дружбе и любви, когда «собранием» руководил колокольчик, привязанный, представьте, к ноге председателя посиделок Николая Бердяева, и каждому завязывали глаза, чтобы он мог узнать других только по поцелуям), так вот, с Вячеславом Кузмин порвет. Из-за любовного треугольника, конечно, – они легко возникали здесь, на «Башне». После смерти жены Вячеслав скандально женится на своей юной падчерице – Вере Шварсалон. Сначала будет почти открыто жить с ней, а потом женится. И Вера, чей девичий дневник полон смятенных чувств (он частично опубликован), уже беременная от Вячеслава, вдруг признается в любви именно к Кузмину. Вообще-то в нее был влюблен Модест Гофман, юный поэт, на нее заглядывался Велимир Хлебников, который появлялся уже на «Башне», а у Кузмина как раз развивался в то время «трудный», по его словам, роман с неким Сергеем Поздняковым. И вдруг «днем, когда все ушли, – записывал в дневнике Кузмин, – Вера сказала мне, что любит меня, и предложила мне фиктивно жениться на ней. Я был потрясен…». Повторяю, всех, бывавших на «Башне», потрясла именно женитьба Вячеслава Великолепного на падчерице – об этом написали даже пародийную пьесу, которая имела хождение в узких кругах. Однако после признания Веры в любви к Кузмину именно Вячеслав Иванов при всех обругал поэта и даже, пишут, обозвал его «идиотом». В ответ Кузмин, разобидевшись, порвав с Вячеславом, не только немедленно съехал от него, но в отличие от многих не стал скрывать подробностей интимной жизни мэтра. Это, так сказать, история вкратце. Тогда-то его и изобьют вторично, дав сначала положенную прилюдную пощечину…
Где-то здесь, на Адмиралтейской набережной, стоял когда-то Панаевский театр[178], в деревянной пристройке которого, в театре Яворской, 6 декабря 1912 года история, заварившаяся на «Башне», довольно грубо окончилась. По иронии судьбы, здесь в тот вечер шла пьеса, комедия масок, испанского драматурга Хасинто Бенавенте под названием «Изнанка жизни». Впервые ее поставил Таиров, оформил Судейкин, а музыку к спектаклю написал Кузмин. Изнанку богемности, летучих интриг и безобидных, казалось бы, связей в этот вечер неприкрыто увидели все: и зрители, и актеры театра. Но досталось одному Кузмину: именно в этом театре его избил брат Веры Шварсалон – Сергей. Ахматова вспоминала потом, что в антракте в фойе она увидела «человека страшного вида в смокинге». Он ходил из угла в угол. Лицо и губы его были белее бумаги. Ахматова даже не сразу узнала Сергея Шварсалона. За кулисами в это время Гумилев, Зноско-Боровский и другие взволнованно гудели. Полицейский составлял протокол. Кузмина, с разбитым пенсне, с лицом, залитым кровью, отвели в сторону. Стреляться с «кретином Шварсалоном» – так он обзовет его в дневнике – Кузмин не стал, не без остроумия сославшись на «неравенство сословий».
Изнанка богемной жизни… Разбитый нос – еще самое малое, чем случалось платить поэтам за легкость жизни, за свободу слова, жеста, чувства. К этому времени там же, на «Башне», Кузмин сойдется с художником Судейкиным. Образовавшийся любовный четырех-, даже пятиугольник завершится уже не разбитым носом – самоубийством молодого гусара, красавца-поэта.
А винить в этом долго будут опять-таки Кузмина…
Это, впрочем, длинная история – и о ней опять – у следующего дома поэта.
«Поэты только делают вид, что умирают», – сказал как-то француз Жан Кокто. И это святая правда! Я не о стихах говорю, которые остаются в веках, не о письмах, где продолжают жить их страсти и мысли, и даже не о друзьях-свидетелях, которые могут и после смерти поэтов рассказывать об их жизни. Я говорю о витражах в подъезде, при одном виде которых ощущаешь род недуга: о них – цветных стеклышках в окнах на лестнице, писал Кузмин другу Чичерину, когда только-только переехал на Суворовский, 34. Писал, по точному счету, сто два года назад: «Адрес ты знаешь, громадный дом, с цветными мозаиковыми стеклами на лестнице». Мозаиковые стекла! Я был потрясен, когда, поднимаясь в квартиру поэта, своими глазами увидел в оконных проемах лестничного марша осколки этих витражей. И впрямь, разве умирают поэты, если дольше века живут даже хрупкие стекла – вещественное подтверждение: поэт жил здесь, любил и страдал. Да, любил и страдал – это у Кузмина всегда совпадало…
Как-то ноябрьским утром, точнее – в пять утра, мимо этих, тогда еще целых и чистых, витражей, крадучись, словно преступник, торопливо спускался некий москвич. Художник, талант, красавец. Он скоро женится на самой очаровательной женщине Петербурга, той, кому посвятят потом стихи Ахматова, Сологуб, Северянин, Хлебников и наш герой – Михаил Кузмин. «Белокурое чудо» так влюбится в этого москвича, что, когда на вокзале он только поманит ее уехать с ним, она, актриса, у которой вечером должен быть спектакль у Комиссаржевской, не раздумывая прыгнет в поезд. А пока здесь, в доме на Суворовском, на лестнице с витражами, голова кружилась у самого москвича. И было от чего: он только что пережил небывалое приключение – впервые оказался в постели у мужчины, и любовником его стал такой же прожигатель жизни, как и он, поэт Михаил Кузмин. Скандал? Еще какой! Не дай бог, об этом узнают в театрах, где оба подвизались, в салонах, на журфиксах. К счастью, пока не опубликуют дневники Кузмина, об этом почти никто и не узнает. Но эхо этого «грешного ноябрьского утра» не только станет одним из внутренних поводов ахматовской «Поэмы без героя», но и окажется завязкой таких событий, изнанка которых обернется трагедиями и даже самоубийством – поэт и гусар Всеволод Князев выстрелит в себя.
Первыми прочитают дневник (о том, что произошло в доме на Суворовском в 1906-м) четверть века спустя сотрудники ОГПУ. Они придут в последний дом Кузмина на Спасской в 1931-м (Кузмин будет уже худеньким старичком, с лицом, напоминающим «месяц на ущербе») и после обыска дневники заберут. «Видел милого Судейкина, – прочтут они в дневнике Кузмина. – Он сказал, что мог бы заехать ко мне. Дома я читал стихи; потом стали нежны, потом потушили свечи, постель была сделана; было долгое путешествие с несказанной радостью, горечью, обидами, прелестью. Потом мы ели котлеты и пили воду с вареньем… Я безумно его люблю…»
Да, москвичом, торопливо убегавшим утром от Кузмина, был Сергей Судейкин, тогда знаменитый уже театральный художник. Для чекистов их связь была бы уголовным преступлением: Сталин уже ввел статью за гомосексуализм. Но одному преступнику, Михаилу Кузмину, к тому времени было уже шестьдесят, а второй, Судейкин – давно эмигрировал. Кто еще был невольным свидетелем тех событий? Олечка Глебова-Судейкина – та, которая, впрыгнув в поезд, на короткое время окажется женой художника; она в 1931 году будет жить в Париже, где скоро станет собирать окурки на улицах (ее видела за этим занятием жена писателя Замятина). Ахматова в 1931-м уже восемь лет как не печаталась, и ни одной ее строки в печати не появится еще восемь лет. А Князев, красавец-гусар, тот давно, еще в 1913 году, застрелился, но остался жить в поэме Ахматовой, в стихах Кузмина. Поэты ведь только делают вид, что умирают, не правда ли?..
Пишут, что Кузмин познакомился с Князевым в Театре интермедий (Галерная, 33), в самом веселом и изысканном заведении города. Его называли еще «Интимный театр», он открылся в 1910 году на месте бывшего театра «Сказка». Здесь, где в пушкинские времена размещалась Иностранная коллегия, был театральный зал в стиле рококо с эффектной скульптурой Аполлона, бряцающего на лире над порталом сцены, фойе с зеркалами, штофными обоями и золоченой лепкой, мавританская гостиная, грот с гипсовыми сталактитами. Все это, кстати, частично сохранилось, но тогда, в 1910-м, Мейерхольд, Кузмин и Пронин открыли здесь театр маленьких комедий, пантомим и сольных номеров. Театр был необычен уже тем, что вместо кресел в зале стояли столики и можно было заказать вино, чай, пирожные, легкий ужин. «Все было будто в шантанах, но не было пошлости, грязи, отдельных кабинетов, не было той шаблонной эротики, с которой неизбежно встречались посетители “Аквариума”, “Шато-де-флер” и других», – писала игравшая здесь актриса Ольга Высотская, та, которая скоро встретит Гумилева и родит от него сына. Надо ли говорить, что основным режиссером в Театре интермедий был Мейерхольд, драматургом и композитором – Кузмин, именно здесь прозвавший Мейерхольда «доктором Дапертутто», а художниками – Сапунов и уже знакомый нам Сергей Судейкин. Высотская права – шаблонной эротики здесь не было, но я не преувеличу, если скажу, что все тут было пропитано любовью, флиртом, «интимизмом», как говорили тогда. Влюблялись прямо, перекрестно, по диагонали: на вечер, на неделю, на месяц. И не здесь ли Кузмин на прямой вопрос поэта Чулкова, отчего он любит мужчин, ответил: «Очень просто. Я не любопытен». И, подняв свои огромные глаза, добавил: «Мужчин влечет к женщинам любопытство. А я предпочитаю то, что мне уже известно очень хорошо. Я боюсь разочарований…» Чулков помнит, что в ответ расхохотался.
Надо сказать, Кузмин нравился и женщинам[179]. Ведь все видели, как на одной из пирушек ему неожиданно принес две розы от Паллады юный красавец, поэт Всеволод Князев. Кузмин скрупулезно занес в дневник 2 мая 1910 года: «Мне очень понравился проходивший Князев. Вдруг он мне приносит две розы от Паллады. Пошел ее поблагодарить. Звала слушать стихи Князева. Она действительно очень красива…»
К Князеву я еще вернусь, и не раз. А вот про Палладу Старынкевич, самую ветреную и «роковую» поэтессу, стоит рассказать прямо сейчас. Она называла себя «демонисткой», хотя Ахматова о ней скажет коротко: «Гомерический блуд». Не была красавицей, пишет художник Милашевский, но «была неповторима, это больше!» «Когда Паллада шла по улице, прохожие оборачивались… На плечах накидка – ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это, как облаком, окутано резким, приторным запахом “Астриса”… Денег у Паллады мало. Талантов никаких. Воображение воспаленное…» Перья, ленты, амулеты, орхидеи. Но главное – какая-то смелость, даже агрессивность в отношениях с мужчинами. Да, могла «выдерживать» своего поклонника в соседней гостиной по многу часов, но могла «крутить любовь» и с сыном, и с отцом одновременно. Однажды у нее «накопилось» шесть женихов сразу, которые, узнав друг про друга, в ужасе разбежались. А отец ее, генерал-майор, именно в это время писал ей записки, где, представьте, наставлял ее никогда не оставаться в комнате наедине с мужчиной. Дескать, неприлично! Записки эти она показывала подруге: «Бедный папа…» Знал бы папа о ее «подвигах», о которых все громче говорил весь Петербург.
«У Старынкевичей была традиция давать детям древнегреческие имена, – вспоминал потом один из мужей Паллады, граф Берг, – например, инженерный генерал Олимп Иванович, отец Паллады, имел брата Сократа Ивановича… У Паллады был брат Кронид Олимпович, прозванный голодающим индусом (был еще брат Леон и сестра Лидия)…» Когда-то, в молодости, на каких-то курсах, Паллада вошла, например, в кружок эсеров, где встретила Егора Созонова – боевика-бомбиста. 15 июля 1904 года в каких-то меблированных комнатах на Измайловском проспекте она, тогда семнадцатилетняя девчонка, как пишет все тот же Берг, отдалась ему. Но позже стало известно, что Созонов пришел к ней с бомбой. Знала ли она о ней? Ведь выскочив от нее после пылкой ночи, Созонов, рассчитавший время до минуты, прямо тут же, на Измайловском, швырнул снаряд в проезжавшую как раз в это время карету министра, статс-секретаря Плеве. Плеве, ехавший на доклад к царю в Петергоф, был смертельно ранен, Созонов схвачен, а Паллада, сбежав из дома, обвенчалась с каким-то студентом и родила ему близнецов, которых все считали потом детьми бомбиста… А ведь это только один из «подвигов» ее[180].
Пока были деньги отца, Паллада содержала экзотическую квартиру на Фурштадтской, где грум с «фиалковыми глазами» разносил гостям кофе и шерри-бренди, ловко шагая через оскаленные морды леопардовых шкур. Когда деньги вышли, переселилась на Фонтанку (Фонтанка, 126). Завела салон, где бывали князь Сергей Волконский, граф Валентин Зубов, барон Николай Врангель (все люди, как сказали бы сегодня, сферы культуры), где толпились поэты: Бальмонт, Городецкий, Гумилев, Северянин, Лившиц, Георгий Иванов. А потом, приумножив гостей, переехала жить, представьте, в «Казачьи бани», рядом с Гороховой (Б. Казачий пер., 11), где в нее и влюбится тогда гусарский юнкер, но уже – поэт Всеволод Князев[181]. А в Князева – Кузмин.
Георгий Иванов описал все предельно точно: «От Загородного, у самого Царскосельского вокзала, влево — переулок. Переулок мрачный, грязный. В конце его кривой газовый фонарь освещает вывеску “Семейные бани”. Эстет, впервые удостоенный чести быть приглашенным на пятичасовой чай к Палладе, разыскав дом, увидев фонарь, лоток с мылом и губками, эту надпись “Бани”, – сомневается: тут ли? Сомнения напрасны – именно тут. Самое изысканное, самое эстетическое, самое передовое общество (так, по крайней мере, уверяет хозяйка) собирается именно здесь… Смело толкайте стеклянную дверь с матовой надписью “Семейные 40 копеек” и входите. Из подъезда есть дверка во двор, во дворе другой подъезд… Подымайтесь на четвертый этаж, звоните…»
Фантастика, но и бани, и дверка из их подъезда, ведущая во двор-колодец, – все существует до сих пор. Паллада считала, что это «ужас как экстравагантно». «Где вы живете?» – «В бане. Адски шикарно!» «Хозяйка в ядовитых шелках улыбается с такого же ядовитого дивана, – описывал ее жилище Георгий Иванов. – Горы искусственных цветов, десятки подушек, чучела каких-то зверей. От запаха духов, папирос, восточного порошка, горящего на особой жаровне, трудно дышать. Гости толкутся по гостиным, пьют чай, стряхивают пепел с египетских папирос, вбрасывают монокли, чинно улыбаются, изящно кланяются… Хозяйка, откинувшись на диване с папироской в зубах, рассказывает, “как ее принимали”… в Тирасполе. Ведь она – артистка. Декламирует Бальмонта и “танцует” босиком его стихи». Содом! Но именно здесь брат Паллады, Леон, женатый на сестре Князева Ольге, и познакомил юного гусара с Палладой, в которую тот влюбится. А Паллада, как я уже писал, познакомит Князева с Кузминым, который, в свою очередь, влюбится уже в него. Не знаю, бывал ли в «банях» у Паллады Кузмин (свидетельств этому я не встречал), но дневник его просто пестрит двумя этими именами.
«Уговорили ехать в гостиницу, – пишет он. – Какой-то бордельный притон. В соседней комнате прямо занимались делом, причем дама икала, как лаяла. Паллада приставала… Всеволод нервничал, я драматизировал… Паллада так расстоналась, что я впал в обморок… Потом Паллада прибежала в одеяле, потом Всеволод ложился на меня, целовал, тряс и отходил со словами: “Я больше никак не умею”… Потом история в другом номере, Всеволод одет, в перчатках, кричит, что он Палладу разлюбил, что это – публичный дом, – пишет Кузмин и добавляет: – …что же иначе, милый мальчик, разве Паллада твоя – не последняя мерзавка и блядь?».
Короче, Князев («дитя… розовое, белокурое, золотистое в гусарском мундире», по словам Тэффи), разлюбив Палладу и будучи уже соблазненным Кузминым, потеряет вдруг голову от актрисы, танцовщицы, художницы, подруги Ахматовой Олечки Судейкиной. Жуть! Судейкины и Кузмин стали жить вместе под одной крышей на Рыночной улице (Гангутская, 16). И можете представить, что творилось в голове двадцатилетнего Князева бывавшего там.
Он любил Судейкину (и добьется ее); она любила мужа-художника, но уже прочла нечаянно дневник Кузмина и знала о связи Судейкина и Кузмина; Судейкин, в свою очередь, любил уже актрису Веру Боссе-Шиллинг, которая скоро станет его женой; а Кузмин, живя под одной крышей с бывшим любовником, любил нового – Князева. Вот уж действительно Содом и Гоморра! Недаром Ахматова, дружившая много лет с Судейкиной, скажет, что у Кузмина, от чьих поступков у нас «волосы бы стали дыбом», «все превращалось в игрушки». В стихи, рискну поправить я Ахматову, все превращалось в литературу. Трудно поверить, но Судейкин, убегавший утром по лестнице с витражами, тогда же подарит Кузмину в знак любви картонный домик – макет, сделанный им для театра. Тоже – игрушка… Но игрушка ли? Ведь Кузмин тогда же напишет повесть «Картонный домик» – о том, что случилось, о легкой, призрачной, надрывной жизни поэтов. Там, изображая себя и Судейкина, он даже сформулирует нечто вроде «философии» однополой любви – напишет, что оба они своим искусством и жизнью покажут миру «образец пламенной красоты»…
Да, любовь и страдание у Кузмина всегда сопрягались. Он искал в своей «необычной» любви совершенства, но объекты ее, увы, были просто людьми. «Его трагедия в том, – напишет позже Ольга Арбенина, – что он влюблялся в мужчин, которые любят женщин, а если шли на отношения с ним, то из любви к его поэзии и из интереса к его дружбе». И добавит: настоящим его горем было «желание иметь семью, свой дом»…
Знаете, как они любили друг друга: Князев и Кузмин? Весной 1912 года Князев напишет Кузмину стихи: «Я говорю тебе: “В разлуке // Ты будешь так же близок мне. // Тобой целованные руки // Сожгу, захочешь, на огне”..» Кузмин ответит: «Пожаром жги и морем мой, // Ты поцелуев смыть не сможешь, // И никогда не уничтожишь // Сознанья, что в веках ты – мой». Любовь была, пользуясь выражением тех лет, адская. Но, с другой стороны, мог ли Князев, юноша, которого любили женщины, в кого была влюблена даже Ахматова, который и сам очертя голову ответно влюблялся в них, стать семьей, домом для сорокалетнего поэта?.. Конечно – нет! В том и дело, что поэт искал дом, а получался, образно говоря, вечный «картонный домик». Декорация, игрушка…
29 марта 1913 года в Риге, где был расквартирован 16-й Иркутский гусарский полк, Князев выстрелил в себя из браунинга. Ему было двадцать два года. До этого в Ригу к нему приезжал сначала Кузмин, потом Ольга Судейкина. Но последней каплей, толкнувшей к самоубийству, стал какой-то скандал Князева с женщиной легкого поведения (по другой версии, как я писал уже в главах об Ахматовой, с дочерью генерала), которая требовала, чтобы он женился на ней, и жаловалась на него его командирам…
Когда его хоронили на Смоленском кладбище, мать Князева, глядя Судейкиной прямо в глаза, сказала: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать». А сестра красавца-гусара, напротив, просила у Ольги прощения за то, что дурно о ней отозвалась. «Понимаете, – смущенно рассказывала Судейкина, – она просит у меня прощения – у меня, которая сама должна была бы умолять ее об этом!» Ни Судейкина, ни ее наперсница Ахматова уже через восемь лет после похорон не смогут найти на Смоленском могилу «глупого мальчика». «Это где-то у стены», – будет упорно твердить Судейкина.
У стены ли?.. Ведь вечная могила поэта, – в стихах. В «Поэме без героя» Ахматовой, где описана эта история, в портрете Кузмина и Князева кисти Судейкина, в оставшихся нам дивных стихах Кузмина, в мемуарных историях.
Кузмин, кстати, на похороны Князева не придет. У него – новый роман. Эта любовь будет длиться двадцать три года, до самой смерти поэта. Он наконец попытается все-таки создать дом, свою семью. Но между двумя мужчинами опять встанет женщина. Как раз та актриса и художница, из-за которой соперничали когда-то Гумилев и Мандельштам…
Впрочем, о последнем любовном треугольнике поэта, о страдании, растянувшемся на десятилетия, я расскажу у последнего дома Кузмина.
«Князь тьмы» Кузмин умер, как и положено, в полночь. За несколько минут до боя часов. Но в этом нет никакой таинственности, никакой загадочности. Просто врачи Мариинской больницы (Литейный, 56) положили поэта, у которого была грудная жаба (стенокардия), в коридоре, где он получил в дополнение ко всем своим бедам еще и воспаление легких. Незадолго до этого признался: «Легкая, веселая и счастливая жизнь – это не самотек, а трудное, аскетическое самоограничение». Так вот, не знаю, как это и объяснить, умер он тоже, как писал свидетель, «легко, изящно, весело»…
Таинственно и загадочно другое – последними словами его стали: «Любить? На время – не стоит труда, а вечно любить невозможно». Эту строчку Лермонтова прочел с кровати человеку, которого любил двадцать три года, кого воспитал, ввел в литературу, – Юрию Юркуну. И от которого, увы, веселый и легкий в жизни, больше всего и страдал. Потому что Юркун любил не другого – другую. Актрису Олечку Арбенину-Гильдебрандт. Опять, скажете, банальный треугольник? Треугольник – верно. Но не банальный, нет – не банальный…
На набережной Мойки, в доме №91, в двух шагах от Исаакиевской площади, было предпоследнее жилье поэта. Здесь с 1914-го Кузмин вновь стал насельником. Насельник, кто не знает, – тот, кто живет не в своем доме, у чужих. Кузмин, к несчастью, всегда оказывался насельником. Жил у Вячеслава Иванова, у Гумилева с Ахматовой в Царском Селе (было и такое), у Судейкиных и – здесь, у сорокалетней писательницы Евдокии Нагродской, дочери, кстати, знаменитой Авдотьи Панаевой, гражданской жены поэта Некрасова[182].
Я был в 16-й квартире дома на Мойке, когда снимал как-то три серии телефильма о Кузмине, стоял на балконе Нагродской (сохранилась фотография Кузмина на этом балконе) и вспоминал, что легкому Кузмину здесь, у Нагродской, было, по его словам, «уютно, как на елке». Здесь он резвился как мог, над ним теперь, по словам Георгия Иванова, не было «никакого начальства» (Иванов, видимо, имел ввиду жизнь Кузмина у Вяч. Иванова, который для всех поэтов был вроде начальства), никто его «не направлял», его называли «гением и ахали от восторга». «Вы тонкий. Вы чуткий, – говорила ему в глаза Нагродская. – Эти декаденты заставляли вас ломать свой талант. Забудьте то, что они вам внушали… Будьте самим собой»… Но и за глаза высоко ценила его, в письме назовет потом «Гете в прозе» – ни больше, ни меньше…
Хозяйкой Нагродская была веселой и гостеприимной. Наружностью и характером русская барыня, помещица средней руки, болтушка и хохотушка, умеющая «простить и оборвать». Кузмин, сам ребенок (ему, по словам Гумилева, было вечно три года), даже на старости лет, удивлялся «выдумкам» ее, вроде спрятанной на груди электрической лампочки – она утверждала, что сердце ее светится. «Нету сладу, – говорила, шумно дыша. – Постойте, я укрощу его, неудобно выходить к людям». Постоит с минуту, закрыв бюст руками, нажмет кнопку, сердце и перестанет светить. Кузмин, намекая на «свободные нравы» ее (это он-то!), припечатает ее в дневнике: «Она бы отлично спелась с Распутиным». Впрочем, «шуточки» Нагродской, а было нечто и почище «светящегося сердца», не мешали ей упорно заботиться о писаниях самого Кузмина. «Вы должны работать, работать», – говорила она и даже вроде бы приставила к нему секретаря Агашку, считавшего себя ужасно «порочным и тонким», в доказательство чего парень носил лорнет, браслет и клетчатые штаны особого фасона. Увы, Агашка, сам считавший себя писателем, не мог мириться с прозой Кузмина и, что называется, «наводил стиль»… «Женщина подошла к окну», – диктовал ему Кузмин. «Молодая женщина волнующейся походкой подошла к венецианскому окну», – перелагал, записывая за ним, Агашка. Помогал как мог – пробовал «перышко»…
В салон Нагродской вслед за Кузминым, конечно же, перекочевали «эстетические правоведы и юнкера» – его сложившаяся компания. И сюда Кузмин приведет и нового друга своего – Юрочку Юркуна, семнадцатилетнего музыканта из какого-то оркестра. Теперь «часов с трех на Мойке съезд, – язвит Георгий Иванов. – К пяти салон “гудел веселым ульем”. Хозяйка, превозмогая простодушную натуру, толкует о “красоте порока”». Ее подруга, перебивая всех, лепечет что-то о некромантии. А Юрочка, родившийся вообще-то в деревне Седунцы и имевший, кажется, лишь низшее образование, презрительно бросает кому-то, признавшемуся, что любит Леонардо да Винчи: «Леонардо… Леонардо… Если б Аким Львович не написал о нем книги, никто бы и не помнил о вашем Леонардо». Аким Львович – известный балетный критик Волынский, автор монографии о Леонардо да Винчи. Ее, думаю, и подсунул Юркуну «для чтения» лично Кузмин. Он ведь покровительствовал «избранникам», обучал, натаскивал, просвещал юных.
Вообще-то парнишку звали Осипом, а не Юрием, и не Юркун он был, а Юр– кунас. Литовец. Кузмин увидел его впервые в поезде: Юрочка возвращался в Киев. Разумеется, был красив, но вспыхнувшее чувство к нему у Кузмина, думаю, объяснялось и тем, что детство Юры было слишком похоже на его детство. Пишут, что мать Юркуна отдала сына учиться в какой-то иезуитский пансион, где всем руководил суровый патер. А выйдя замуж во второй раз, вдруг захотела, чтобы Юра стал священником, но Юра удрал из монастыря. Актерствовал в Киеве под звучным псевдонимом Монгандри, запросто переплывал Днепр (кстати, потом, уже в Питере, спасет тонувших в Мойке мать и дочь) и мальчиком был влюблен сразу и в родную тетю, и в какого-то студента. Сходилось все в их биографиях, только одному было сорок, а другому – едва восемнадцать. Но главное, Юркун, говорят, не только знал поэзию Кузмина, но на стихи его буквально молился. Короче, 3 марта 1913 года в дневнике поэта появляется запись: «Никак не налажусь с писаньем; самая тесная дружба с Нагродскими, любовь к Юркуну, отъезд от Судейкиных – вот все, что произошло…» А уже через три месяца в ужасе констатирует: «Все знакомые возмущены, что Юркун надо мною издевается, мои деньги тратит на девок, известен в полиции, меня не любит, злобен, порочен до мозга костей… Предложил поговорить с ним завтра. Я согласился. Как, – никогда не видеть Юрочки, не чувствовать его тела, потому что мои знакомые шокированы, какая глупость!..» Странный подход, не так ли, но, как пишут специалисты по Кузмину, «неурядицы первых месяцев только ближе привязывали их друг к другу»…
Теперь Кузмин мечется между салоном Нагродской и домом Юркуна (Кирочная, 48), подсовывает ему книги по искусству, штудирует с ним философов, пестует, да так, что уже через год тот выпускает две повести и сборник рассказов. Третья книга так и называлась – «Рассказы, написанные на Кирочной улице, в доме под №48». Он станет писателем, причем известным не только в Ленинграде. Но как раз литература, искусство, «интимизм» отношений и отнимут его у Кузмина. Между ними опять встанет женщина. И случится это, когда Кузмин, ища как раз уединения, дома, семьи, переберется с Юрочкой сначала в одну квартиру на Спасской (ул. Рылеева, 11), а потом, перед самой революцией, – там же на Спасской – в другую. В последнюю квартиру.
Я говорил уже: именно на Рылеева, 17, сначала в отдельной квартире, а потом, после уплотнения, в двух комнатах коммуналки, Кузмин проживет двадцать лет. В Центральном госархиве мне подтвердили: в домовых книгах дома 17-19, в 9-й квартире значатся Кузмин Михаил Александрович – литератор, и Юркун Осип Иванович – литератор. Внешне здесь все сохранилось и ныне, даже «работающая» печь – нынешняя хозяйка квартиры растопила ее по моей просьбе. Где–то тут стояли когда-то овальный стол с самоваром, шкаф, кушетка, белый рояль, нарочно расстроенный, чтобы походил по звуку на клавесин. «В их общей комнате, – записывал один из гостей Кузмина, – было все как у женщин: зеркала, туалет, мягкая мебель, на туалете пудреницы, флаконы, коробочки, бонбоньерки, ножички, губные и гримировальные карандаши. Полунарядно. Разбросано. Пестро… На стенах картины без рам. Неуютно, но привычно…» И, повторяю, – кафельная печь с изысканным карнизом, у которой Кузмин любил греться в холодные и голодные годы революции. К этому времени его в «эстетных» кругах стали не без намеков издевательски называть «старая тетка». Но достойные люди заботились о нем как могли. «Боюсь за вас, – говорил ему Блок. – Мне хочется оградить, защитить вас от этого страшного мира». Заботились еще и потому, что знали: у него была привычка делиться своим пайком буквально с первым встречным, к нему даже боялись заходить иной раз, зная, что он будет угощать всем, что найдется в доме, оставляя себя и без ужина, и без завтрака… В сути октябрьского переворота он, еще в 1905 году написавший, что ненавидит тех, «кто ногой пинает побежденных», разберется почти сразу. «Безмозглая хамская сволочь, другого слова нет, – скажет о большевиках. – И никакой никогда вообще социальной революции не будет. Наш пример всем будет вроде рвотного…»
Отсюда Кузмин ходил к Брикам (ул. Жуковского, 7), к Анне Радловой (1-я линия, 40), наведывался к поэту Лившицу (Гагаринская, 14). И часто бывал в поэтической студии «Звучащая раковина», у Наппельбаумов (Невский, 72), где в 1925 году будут праздновать его пятидесятилетие и где он сфотографируется в компании Клюева, Лозинского, Федина, Хармса, сидя между двух Анн – соперниц в поэзии: Радловой и Ахматовой. Ахматову с Судейкиной тоже навещал, хотя Ахматова и через сорок лег, в 1960-х, скажет молодому поэту Рейну, что «Кузмин делал иногда зло из одного только любопытства поглядеть, что и как из всего этого получится». Рейн возразит, что слышал от знающих Кузмина людей одни лишь восторги. «Так оно всегда и бывает, – пожмет плечами Ахматова, – так уж устроено в жизни. Одним не прощается ничего. Если горошины у вас на галстуке будут вот настолько больше (Ахматова показала миллиметр на кончике ногтя), чем принято, вам этого не забудут… А вот для Кузмина… дамы сохранили в памяти только коленопреклонение и фимиам»…
Да, дамы его, как ни странно, любили. Даже соперницы его в любви к мужчинам. Ведь здесь же, на Спасской, в проходной тогда еще комнате, начнется, например, едва ли не единственный в истории литературы странный «брак втроем»: Кузмин, Юркун и Арбенина.
Все случится зимой 1921 года. Зимой в жизнь Юркуна и Кузмина войдет «снежная Психея», актриса и художница Ольга Арбенина, та, что была любовью Гумилева и в которую влюбится, приехав в Петроград, Осип Мандельштам. Соперничество двух этих великих поэтов, я уже писал об этом, почти сразу легко, чуть ли не в один вечер, разрешит Юркун. Правда, сразив при этом третьего – Кузмина.
Новый год встречали в Доме литераторов. Тех «литераторов», замечу попутно, кому Кузмин уже дал про себя смешные, а иногда и обидные прозвища. Вяч. Иванова назвал как-то «батюшкой», Блока – «присяжным поэтом из немецкого семейства», Чуковского – «трубочистом», Сологуба – «менялой», Ахматову – «бедной родственницей», а ее соперницу в стихах Радлову – «игуменьей с прошлым». Гумилева и Городецкого – обоих обозвал «дворниками». Причем Гумилев был у него «старший дворник-паспортист, с блямбой», а Городецкий – «младший дворник с метлой»… Кстати, и Чуковский, и Радлова, и сам Гумилев были на том новогоднем вечере. «Посидев дома, отправились в Дом, – записывал в дневнике Кузмин. – Посадили нас к филологам… Юр. (Юркун. – В.Н.) все бегал за Арбениной, вышла там какая-то история с Гумилевым. Я сидел… с Ремизовыми… Еще выпил, а им ничего не досталось. Все там пьяны, пищу всю съели… Юр. все сидел и бог знает что проделывал с Арбениной. Я стоял у печки. Потом настал мрак…»
Арбенина запишет иначе: «У меня было розовое платье… Жестокость в поведении Гумилева была одна – дикая, непонятная… Я помню: мы сидели за столом на эстраде. Соседей не помню. Народу было много. Юра сидел внизу, за другим столом. Закивал мне. Гумилев не велел мне двигаться. Я, кажется, обещала “только поздороваться”. Гумилев… сказал, что возьмет часы и будет ждать. Я сошла вниз – у дверей Юра сунул мне в руки букет альпийских фиалок и схватил за обе руки, держал крепко. Я опустила голову, прямо как на эшафоте. Минуты шли. Потом Юра сказал: “Он ушел”. Я заметалась. Юра сказал: “Пойдем со мной”»…
Она и пойдет. Уйдет к нему от Гумилева навсегда. И, кстати, уже под влиянием Юркуна вновь начнет рисовать. Да так, что не только все репродукции Боттичелли, которые Кузмин вечно развешивал в своих квартирах, окажутся заменены ее «акварелями», но даже сам Станиславский предложит ей потом оформить оперу «Виндзорские кумушки», от чего она, гордая и радостная, «чуть с ума не сойдет»…
«Ревную ли я? – задаст себе вопрос Кузмин, наблюдая за развитием романа между Юркуном и Арбениной. – М. б. и нет, но во всяком случае видеть это мне не особенно приятно». Про Арбенину напишет: «Она милый человек, но гимназистка и баба в конце концов. “И лучшая из змей есть все-таки змея”. Тот же мелкий и поганенький демонизм, что побуждал Оленьку (Судейкину. – В.Н.) отдаваться Князеву на моих же диванах». И будет долго жаловаться листу бумаги: «Сегодня… для меня ужасный день. У Юр., как я и думал, роман с Арбениной, и, кажется, серьезный. Ее неминуемая ссора с Гумом и Манделем (Гумилевым и Мандельштамом. – В.Н.) наложит на Юр. известные обязательства. И потом сплетня, огласка, сожаление обо мне. Это, конечно, пустяки. Только бы душевно и духовно он не отошел». Юркун и не отойдет. Но и Арбенину, которая легкомысленно и простодушно признается, что и «рада была бы побегать на стороне», от себя не отпустит уже, не отпустит до конца – до расстрела…
Словом, так началась эта необычная и яркая любовь: с капризами, жестокостью, дурью, жертвами, радостями, трагедиями и примирениями. Кузмин свыкнется с этой странной любовью. Когда Юра и Ольга будут убегать потом на Охту или на Васильевский остров искать на рынках фарфор, который пытались собирать, Кузмин смеялся им вслед: «Дети побежали на свои помойки…» Грустил, что Юркун мечтал о сыне, которому даже имя придумал – Олег, подшучивал над его страстью к дорогим папиросам и костюмам в клетку «неврастенических цветов». Все было, но главное – была эта «тройная» любовь. И что с того, что по ночам его заедали клопы, что он радовался даже такому подарку, как стекло, положенное на его рабочий стол Юркуном (он восхищался, что в нем красиво отражается небо!). Что через комнату его днем и ночью ходили на кухню соседи, что к телефону в прихожей «выползала» глуховатая пожилая женщина и кричала в трубку под его дверью: «Говорит старуха Черномордик!», а за стеной он слышал порой пение соседских детей, которые, встав в круг, выводили тонкими голосами свою фамилию: «Мы Шпитальники, мы Шпитальники!» Что с того, что его, старейшего русского литератора, не только не позовут на Первый съезд советских писателей, но даже ни разу не упомянут на нем его имя. Что на последний свой вечер в доме Мятлевых (Исаакиевская пл., 9), который чудом состоялся в конце 1920-х годов (люди сидели даже на полу, в конце вечера Кузмина завалили букетами) – он придет, натурально, в дырявом пальто. Что с того?!.. Зато он, как и раньше, был сумасшедше свободным человеком в несвободной уже стране. И мог позволить себе даже такую роскошь, как гордость. Когда в 1926 году он, впервые после революции, встретился со школьным товарищем Юшей Чичериным, уже наркомом иностранных дел, то в дневнике записал: «Юша говорил по-французски. Оптимизм, как у государыни Марии Федоровны, которая была уверена, что можно прожить на 3 рубля в год. “Почему мало печатаюсь, мало пишу”…» На следующий день добавит: «Все удивлены, что я ничего у него не попросил, но я думаю, что так лучше».
Конечно, лучше! Через пять лет после этой встречи однопартийны Чичерина, чекисты, перевернут в этой комнате все и после обыска унесут как раз дневники поэта – душу его. Хорошо хоть, что не начнут потом жечь на кострах его книги, как случится это с книгами гомосексуалистов в 1933 году в Берлине, – их просто изымут из библиотек. Свободных людей, сумасшедше свободных, не терпели ни в одном тоталитарном государстве. Но прежде чем погубить, участливо спрашивали: «Почему мало пишете, мало печатаетесь?» Мудрый поэт уже понял: наступило время, когда можно или писать, или печататься. Он предпочел писать!..
«Он любил жизнь, людей, их суету, праздники и будни, – напишет о нем его современник литератор Басалаев. – Не умел долго сердиться. Ему нравилось ходить в гости. В гостях пить чай, болтать, ахая и сокрушаясь или смеясь и иронизируя… Но никогда не сливался с окружающими. Всегда оставался самим собой, верный своим вкусам и сердцу, влечениям и мыслям».
Незадолго до смерти Кузмин запишет в дневнике, что если люди обычно приходят к вере в Бога к старости, то у него – напротив, «как дело дошло до старости и смерти, так эту веру потерял. Засох и закрылся. Как будто обиделся, что вера не спасает меня от фактической смерти»…
Хоронили Кузмина в снежную бурю. Последнее время он каждую ночь думал об одном: только бы дожить до утра, только бы «промаячить» до весны. Дожил – умер 1 марта. Снежная круговерть над гробом походила то на легкий вальсок, то на печальный полонез. «Жиденький оркестр, набранный наспех», сопровождал катафалк и кучку людей, два десятка едва ли, по Литейному, Невскому, потом по Лиговке – к Обводному. Но, удивительно, с «князем тьмы», с ребенком-мудрецом и тут случится чудо: метель, говорят, замерла на мгновение, и в просвете облаков над раскрытой могилой вдруг мелькнула радуга. Знак, мост, рука, протянутая кем-то поэту, о которой писал в стихах?..
Не знаю. Знаю, что через два года от беспримерного треугольника останется одна Арбенина: Юркуна арестуют и почти сразу расстреляют. Арестуют по «писательскому делу» вместе с Заболоцким, Лившицем, Тагер. Донос, кстати, напишет Лесючевский, будущий директор издательства «Советский писатель». Может, и потому будущий директор!.. Перед арестом Юркун, ничего не подозревая, расстанется с Арбениной на углу 8-й Советской и Суворовского, у дверей продовольственного магазина. А через много лет, уже после смерти Арбениной, в ее бумагах найдут письмо.
«Юрочка мой, пишу Вам, потому что думаю, что долго не проживу. Я люблю Вас, верила в Вас и ждала Вас – много лет. Теперь силы мои иссякли. Я… не жду нашей встречи. Больше всего хочу узнать, что Вы живы, – и умереть. Будьте счастливы. Постарайтесь добиться славы. Вспоминайте меня. Не браните. Я сделала все, что могла…» Она писала эти слова, не зная, что Юркун уже восемь лет как расстрелян, писала, вообще ничего о нем не зная[183]. «Почти все наши друзья умерли, Юрочка. Ваша мама умерла весной 38 года… Я думала о Вас все время. Я боялась и запретила воображать… реальную встречу. Но я молилась о Вас… Мама продала пианино и купила для Вас отрез Вашего любимого коричневого оттенка. Я перештопала все Ваши носки и накупила новых: целый чемодан. Картон для кепок. Купила для Вас чудный темно-красный плед… Синюю пижаму… Было сперва очень страшное время. Всех забирали. Я стояла часами в тюрьмах, у прокуроров… Часто мысленно беседовала с Михаилом Алексеевичем (Кузминым. – В.Н.), как с живым… Моя бедная мама умерла мучительной смертью в голодный, страшный год… Очень любила Вас, ждала Вашего возвращения… Самыми последними… ее словами были, уже в агонии, слова о тысяче рублей, которые она велела мне спрятать от всех – на дорогу к Вам… Сейчас у меня нет никого и ничего. Никаких надежд и даже никаких желаний. Рисовать я больше не могу. Без Вас исчез мой талант. Мои родные – хорошие люди, но далекие мне… Я спасла щенка, подобрав его в лесу; назвала его Гвидоном; это был чудный черненький щеночек, но он погиб, пока мы были в Свердловске. После смерти моей мамы у меня нет никакого долга ни перед кем. А Вам, мне кажется, будет без меня легче. Я ничего, ничего больше не могу дать Вам. Всю жизненную силу, всю волю я отдала на спасение и сохранение наших картинок, наших писем… Я думаю об этом, и не могу, и не хочу, и не смею больше жить…»[184]
Повторяю: дата на письме неопровержима – Юркун восемь лет как расстрелян, Кузмин – десять как мертв. Потом умрет и Арбенина, «снежная Психея», – не жена Юркуна, но вдова. Последних знакомых, посещавших ее, поражала какая-то старая тряпичная кукла, которую она, несмотря ни на что, берегла. Умирая, Арбенина подтвердит слова Кузмина, скажет, что они и впрямь «внешне весело несли свой крест»…
Все трое лягут в землю на разных кладбищах, это известно, – в трех разных концах города. Но невидимые токи, нити между их могилами, тоже образующие треугольник, верю, существуют.
И эти нити, связавшие их, уже никому не оборвать.
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы.
«Гений, гений, гений!» – кричали ему в лицо. А он был «кукушонок», но никто этого не знал. Гением Хлебникова называли задолго до смерти его не читатели – соперники-поэты. «От него пахнет святостью», – скажет о нем Вячеслав Иванов. Хлебников, напишет Маяковский, «великолепнейший и честнейший рыцарь в нашей поэтической борьбе». А кроме того, они, эти поэты, – Вячеслав Иванов, Кузмин, Мандельштам, а затем Маяковский, Каменский и Асеев – все сравнивали его с птицами: с цаплей, аистом, воробьем. Хлебников и сам написал о себе: «Хожу, как журавель». Но на деле был, повторяю, кукушонком. Чужим во всевозможных поэтических «гнездах». И на «Башне» Вячеслава Иванова, и в «салоне» Кузмина, и даже в «шайке» Маяковского. Знаете почему? Потому что сразу взлетел выше кружков, школ и направлений, сразу стал самой поэзией. Его так и числят: Ломоносов, Пушкин, Блок, Хлебников. Все! Других гениев нет! И впрямь, кто мог еще написать: «Мы в ведрах пронесем Неву, // Тушить пожар созвездья Псов…»
Гений и будущий Председатель Земного Шара жил в доме №2 по Гулярной (ныне – Лизы Чайкиной) улице (дом не сохранился, на этом месте ныне детский сад). При рождении его назвали Виктором[185], но на Гулярной он величал себя уже Велимиром, именем, которое дали ему на «Башне» и которое Вячеслав Иванов, знаток и авторитет, расшифровывал ни много ни мало как «повелитель мира». Что ж, там же, на «Башне», Хлебникова сравнили (даже страшно сказать!) с автором «Слова о полку Игореве».
Осип Мандельштам убеждал Бердяева: Хлебников – «величайший поэт мира». Художник Малевич назвал его «астрономом человеческих событий», Маяковский – «Колумбом поэтических материков», Асеев – «словождем», а Каменский, друг последний, – «журчеем поэзии». Так вот, этот «журчей» в плаще на одном плече, высокий, сутулый, с «длинным синим глазом» и «длинной» падающей походкой, весь май 1909 года жил и носился по городу в каком-то полуобморочном состоянии. Матери писал: «Уже 4 ночи совсем не спал. Делаюсь сыном улицы». Сообщал в письме, что в университете, откуда, оказывается, еще не исключен, собирается пешая экскурсия на Кавказ – «охотники, филологи», а в следующем письме неожиданно добавил: а также «фотографы и зоологи»…
Зоологи? Стоп, стоп! В его жизни случайностей не было. Он, например, уже написавший «Заклятие смехом» – одиннадцать строк, сделавших его поистине знаменитым, – но еще студент-естественник университета, год назад в письме домой просил прислать ему вместе с шубой и деньгами (деньги, смеясь, звал «данью» старшего поколения младшему) почему-то учебник зоологии. Поэзия и зоология? Почему бы и нет? Но для Хлебникова приоритеты выглядели еще радикальней: революция, зоология и только потом поэзия. Он ведь, поступив сначала на математический факультет Казанского университета, почти сразу примет участие в студенческих беспорядках, а когда налетит полиция – не убежит, как другие, встанет перед вздыбившейся лошадью полицейского, который занес над его головой палаш. «Надо же было, – скажет, – кому-нибудь и отвечать». Месяц просидит в тюрьме. Но, выйдя оттуда, потрясенный застенком, неузнаваемо переменится[186]. Станет вечно обморочным. «Вся его жизнерадостность исчезла, – будут вспоминать окружающие, – он с отвращением ходил на лекции… и вскоре после этого подал прошение об увольнении». Только летом 1904 года вновь поступил в университет, но уже не на математическое – на естественное отделение, на общую зоологию. И тогда же начал писать, закончил свою первую повесть.
Поэт Асеев годы спустя, пораженный кругозором Хлебникова, напишет, что он окончил не один – три факультета: математический, естественный и филологический. Увы, это не так. Учился на трех – верно, но не окончил ни одного. Сам скажет про «три четверти» университета. Словом, высшего образования не имел[187], но учен, утверждают, был невероятно…
Дом, с которого я начал рассказ, не первый адрес поэта в Петербурге. Он снимал случайные углы в разных концах города (В.О., Малый пр., 19; Институтский пер., 4). Первый дом на Малом проспекте – старенький, двухэтажный, – где в 1908-м Хлебников жил даже не в комнате – коридоре за занавеской, увы, не сохранился. Его, пишут, «встроили» в нынешнее шестиэтажное здание, в котором перед Первой мировой войной откроют кинематограф – кинотеатр на сто десять зрителей. Но отсюда, из первого дома, поэт пошлет родителям почти победную, хотя для них, кажется, сомнительную, «реляцию» – напишет, что был на вечере петербургских поэтов и видел всех: Сологуба, Городецкого и других «из зверинца». И еще из первого дома отправится обморочной походкой на «Башню» Вяч. Иванова, где особенно сойдется с Иоганнесом фон Гюнтером и Михаилом Кузминым. Первый зорко опишет юного поэта: «Стройный, довольно крупный, белокурые волосы расчесаны на пробор; высокий могучий лоб. А под ним пустые, прозрачно-голубые глаза чудака-сумасброда… Он достал из кармана какие–то смятые листки и стал тихо читать… Запинался; но то, что прочел, настолько отличалось от символистской поэзии, что мы изумленно посмотрели друг на друга… Человек казался… не вполне нормальным. Мысль о том, что перед нами природный гений, не приходила нам в голову… Когда уже поздно ночью Хлебников ушел, нам стало ясно, что мы встретились с весьма незаурядным человеком, чей путь будет не из легких…» А Кузмин станет для Хлебникова учителем. «Я подмастерье знаменитого Кузмина, – похвастается Хлебников брату. – Он мой magister», – и посвятит Кузмину стихотворение.
Наконец, в первом еще петербургском доме Хлебников анонимно напечатает в газете «Вечер» некое «Воззвание к славянам», которое вывесит и в университете – пришпилит к стене. «Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян. Приветствуем тебя! – напишет в нем. – Долой Габсбургов! Узду гогенцоллернам!» Предскажет войну с Германией за шесть лет до ее начала. Потом предскажет революцию в России. В 1913 году еще в сборнике «Союза молодежи» скажет: «Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?»
Первое из дошедших до нас стихотворений еще одиннадцатилетнего гимназиста Хлебникова было о птичке: «О чем поешь ты. Птичка в клетке? О том ли, как попалась в сетку?» А первой публикацией, еще в Казани, окажутся не стихи – научная статья, представьте, о кукушках. Статья была почти академической, с латинскими терминами, с изложением истории вопроса. То-то будущий друг его, Давид Бурлюк, назовет его не только математиком и филологом, но и орнитологом. Не потому ли все и сравнивали поэта с птицами? Хотя настоящим знатоком птиц был отец поэта, истый поклонник Дарвина. Но все было не случайно в жизни Хлебникова. Он и сам ведь потом напишет нечто совсем уж загадочное: «Стихи, – будет утверждать, – должны строиться по законам Дарвина…»
По преданию, один из предков поэта был посадником Ростова Великого, другой – членом Государственного совета имперской России. Не знаю, правда ли это? Биографы не подтверждают. Но сам Хлебников напишет, что кто-то в его роду во время поездки Петра Великого по Волге «угощал» царя «кубком с червонцами разбойничего происхождения». И добавит: все пращуры его отличались «своенравием и самодурством». Похоже на правду. Он и сам был горяч. В гимназии, это известно, пригрозит одному юному негодяю, что застрелит его «как куропатку». А повзрослев, не будет кричать: «Зарежу!» – будет просто хватать нож или скоблилку художника и бросаться на обидчика. Ножом едва не зарезал Бурлюка, а скоблилкой – поэта Лившица. Я расскажу еще об этом. Словом, буян и задира был каких поискать. За год шесть, несостоявшихся к счастью, дуэлей.
В 1909-м, сняв угол в новой квартире на Васильевском острове (Донская, 11), он будет «велей злобы» (его слова) из-за «Биржевых новостей», которые обвинят писателя Ремизова в плагиате. «К черту третейские суды, – возмутится, прочитав о нападках на Ремизова, – здесь нужны хмель и пламя. Каждый гордо встанет у барьера защищать его честь и вообще честь писателя». В другой раз вызовет на дуэль генерала-медика, приват-доцента, статского советника и футуриста Кульбина. Возмутится, что Кульбин и другие поэты уж чересчур подобострастно примут в Петербурге поэта Маринетти, отца итальянского – и мирового, как полагали, – футуризма[188].
Николай Кульбин жил в квартире с тяжелой мебелью, канделябрами, бронзовым медведем в Максимилиановском переулке (ул. Пирогова, 16). До пятидесяти лет жил, как все, пока однажды в мутный январский вечер у Троицкой площади, почти на мосту, не увидел лошадь на боку и извозчика, хлеставшего ее по глазам, чтобы встала… «И в эту минуту, – рассказывал он Георгию Иванову, – по всему Каменноостровскому вспыхнули фонари. Еще не стемнело, и вдруг – фонари. Как это прекрасно». – «Ну?» – не понял Иванов. «Все. Больше ничего, – ответил генерал. – В эту минуту перевернулось во мне что-то. Стою и думаю: на что ты убил пятьдесят лет, старый дурак?..»
Тогда-то и изменилось все в жизни Кульбина, «сумасшедшего доктора». Теперь он художник и даже больше – организатор выставок, а в друзьях у него Матюшин, Борис Григорьев, Каменский, братья Бурлюки. После второй, кажется, выставки Кульбин, пытаясь объяснить публике новую живопись, скажет: «Мы… даем на полотне свое впечатление, то есть импрессио… В мире все условно. Даже солнце одни видят золотым, другие – серебряным, третьи – розовым, четвертые – бесцветным…» Его не поймут, публика в ответ завизжит: «Маляры! Нахалы из цирка! Мальчишки в коротеньких курточках!..»
Но с этими мальчишками Кульбин связал себя теперь уже навечно. Отныне в гостиной Кульбина на Максимилиановском все чаще ночевали бездомные поэты-футуристы. В три часа ночи по телефону кто-то требовал денег. В ванне приват-доцента плескался один футурист, другой настаивал, поскольку ему нездоровится, чтобы завтрак ему подали в кровать. Кульбин же среди этого сумбура чувствовал себя превосходно. Пятьдесят лет «убито», зато теперь он художник, и не просто художник, а футурист. Рисует по-новому, на алюминии. «Картины, – будет издеваться в мемуарах Г.Иванов, – мало подходящие для докторской приемной: малиновые, бурые, зеленые, лиловые. Там серый конус на оранжевом фоне, здесь желтый куб на бледно-синем, между ними что-то пестрое, всех цветов…» Рисует и рассуждает при этом совсем не по-генеральски, справедливо рассуждает, что солнечные пятна влияют на революции и что лучше всегда говорить людям: «Ты – гений!» – ибо тогда человек пройдет даже по канату…
«Значит, душа треугольна?» – спрашивал генерал Хлебникова, заглядывая ему в глаза. «Треугольна», – закуривал, бросал папиросу и снова закуривал поэт. «Хорошо, – кивал доктор медицины. – Что потом? Искусство?» Хлебников в ответ сиял: «Искусство – укус-то!» Кульбин тоже в ответ сияет: «Находчиво. Укус-то. Браво-браво!..»
Так насмешливо пишет о разговорах двух не от мира сего язвительный Георгий Иванов. Так они, по его словам, составляли тезисы философского обоснования нового поэтического направления. Правда это или выдумки Иванова, неизвестно. Скорей всего правда. Но именно с Кульбиным у Хлебникова и грянет громкая ссора из-за низкопоклонства генерала перед итальянским футуризмом.
Пик скандала случится в зале Калашниковской хлебной биржи, в третьем доме от Невского (Харьковская, 9). Все произойдет за минуты до сенсационной лекции Маринетти. «Апостол электрической религии, – писали о нем накануне газеты, – просветив свою родину и страны Западной Европы, является просвещать нас». Поэт Шершеневич срочно перевел все манифесты итальянца, которые так же срочно издали. Но, с другой стороны, художник Ларионов поклялся, что закидает его тухлыми яйцами, а Хлебников, составив воззвание против Маринетти, вообще против Европы, кинется накануне лекции срочно печатать его в типографии.
В Калашниках, на Харьковской, куда к вечеру съедется весь литературный бомонд, распорядитель Кульбин, узнавший откуда-то про воззвание, будет, карауля бунтаря, нервно поглядывать на двери. Наконец, когда Маринетти уже взойдет на кафедру, в зал влетит запыхавшийся Хлебников и станет быстро раздавать по рядам листовки. «Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве, – говорилось в них, – припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, они склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы. Люди, не желающие хомута на шее… помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается. Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!..»
Кульбин с проворством, неожиданным для пожилого человека, кинется отбирать и рвать листовки, потом погонится за Хлебниковым. «В первый раз в жизни я видел Кульбина остервенелым, – пишет Лившиц, – он не помнил себя и одним взором, казалось, был способен испепелить… Хлебникова. Что там произошло у них в другом конце зала, не знаю, история умалчивает, но, когда Николай Иванович (Кульбин. – В.Н.) вернулся на эстраду, он производил впечатление человека, выпрыгнувшего из поезда на полном ходу». Вот тогда, после этого вечера, буйный Велимир и вызовет генерала на дуэль. Она, к счастью, не состоится – генерал уклонится от поединка. Но сохранится письмо поэта к Николаю Бурлюку, тоже поклоннику Маринетти. В нем Хлебников назовет Кульбина «слабоумным безумцем», а Бурлюка не только «подлецом и негодяем», но уж и совсем оскорбительно – «овощем». Так и напишет: «До свиданья, овощ!» И закончит: «Письмо не будет тайна. С членами “Гилеи” я отныне не имею ничего общего». Не его, кукушонка, оказалось гнездо… Правда, через год, когда нашего гения «превратят» даже не в «овощ» – в «тупое животное», он обратится за помощью именно к Кульбину. Пошлет одно за другим два письма. Смысл будет один – спасите!
Впрочем, это уже другая история, о ней – у другого дома поэта.
…Как-то на Царскосельском вокзале, уезжая на юг, Хлебников прождал поезда четыре часа. И, возможно, тогда, 10 июня 1909 года, написал письмо Вячеславу Иванову: «Я знаю, что я умру лет через сто, но если верно, что мы умираем, начиная с рожденья, то я никогда так сильно не умирал, как в эти дни. Что я делал? Был в Зоологическом саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с Исламом». И пошлет в письме стихи о Зоосаде… Революция, зоология, поэзия! Детская, чистая душа, он мог, занятый писанием, грызть вместо корки хлеба лесную шишку, в кровь раздирая рот и не замечая этого. Мог часами стоять у витрины с изображением какой-то боярыни, потому что влюбился в нее. Но мог быть и пепельно-злым, как в истории с Маринетти. Как-то даже написал странную фразу: «Русские главным трудом жизни считают доказательство, что они хорошие люди. Русские! Докажите, что вы злые».
Впрочем, в этих словах всего лишь страдание за простодушный народ. Кстати, интуитивно ненавистный Хлебникову Маринетти и эта фраза его странным образом сойдутся потом в истории. Через много лет поэт Лившиц вспомнит в мемуарах, что Маринетти в тот свой приезд сказал ему: «Странные вы, русские. Заметив, что вам нравится женщина, вы три года копаетесь в душе, размышляете, любите ли вы ее или нет, затем три года колеблетесь, сообщить ли ей об этом. Вся ваша литература полна этим. То ли дело мы. Если нам нравится женщина, мы усаживаем ее в авто, спускаем шторы и в десять минут получаем то, чего вы добиваетесь годами…»
Так вот, думаю, именно это уловил нюхом, звериным чутьем в итальянце Хлебников. Ведь для него любовь была трепетом священным, богослужением. Он на изображение боярыни глядел часами, а на живую, милую ему женщину «молчал» уже сутками, неделями. Сидел «птицей с опущенными крыльями, в старом сюртуке, – как подглядит однажды Виктор Шкловский, – и смотрел»…
И, думаю, не было в те дни любви верней!
Для нас разговорный язык – инструмент. Для Хлебникова – Вселенная. Не меньше. Поэт Городецкий, задыхаясь, перечислял: Хлебников «создал теорию значения звуков, теорию повышения и понижения гласных в корнях, теорию изменения смысла корней». Смешно читать это ныне. Городецкий не назвал и десятой части сотворенного Велимиром[189]. Тот не просто опрокинул – разворошил литературу – он мир переименовал. А для забавы сочинял аналоги иностранным словам: литература – письмеса, актер – игрец, поэт – небогрез. А слову «автор», хирургически вылущив смысл его, дал даже два названия: «словач» и «делач».
Так вот, когда в сентябре 1909 года наш «небогрез» поселился в доме №48 по 11-й линии Васильевского острова, его окружали уже только «авторы»: поэты, писатели, художники. Он уже принят в Академию стиха, где преподают Вячеслав Иванов, Брюсов, Кузмин; стихотворения его вот-вот появятся в изысканном «Аполлоне»; ему говорят, что он похож на молодого Тургенева; с ним дружат Гумилев, Маковский, Гюнтер, Алексей Толстой. Но среди уже этого круга можно было вычислить тех, кто станет «словачом», мастером слова, и тех, кто найдет в слове выгоду, расчетливых и деловитых, кого и не назовешь иначе, как именно «делач». Гениально придумано! Автор, а звучит как «делец». Увы, чем дальше, тем больше рядом с Хлебниковым будет именно «делачей» – имитаторов души и таланта.
«Я перешел на филологический, – пишет Хлебников отцу из этого дома. – Моя комната светла. Чай получаю в игрушечном самоваре». Пишет, что ему «прочат большой успех. Но я сильно устал и постарел». В другом письме просит из дома подушку, теплое одеяло, башлык (если есть) и шапку. Конечно, шапку, хотя ползимы проходил в смешном котелке, беспокоясь, что в нем принимают его за человека, который живет под чужим именем.
Через полгода, поселившись у Волкова кладбища, в доме какого-то купца за бесплатные уроки двум его дочкам (Волковский пр., 54), напишет Каменскому, что вообще-то они с ним не люди – «новый род люд-лучей».
«Мы – ребята добродушные, вероисповеданья для нас не больше, чем воротнички (отложные, прямые, остро загнутые, косые)… Сословия мы признаем только два – сословие “мы” и наши проклятые враги, чтоб им пусто было, чтобы на том свете черт лил им в горло горячий свинец! Мы знаем только одну столицу – Россию и две только провинции – Петербург и Москву. Мы – новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы. Как волну, нас не уловить никаким неводом постановлений. Там, где мы, там всегда вокруг нас лучисто распространяется столица…»
Из лап купца и его дочек, из прикладбищенского дома, где в окна глядели только могильные кресты, «люд-луча» Хлебникова буквально вырвет Давид Бурлюк – заедет за ним и увезет к себе. «Быстро собрали “вещи”, – вспоминал Бурлюк. – Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати; наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги или просто углами листов… “Рукописи”, – пробормотал Витя». А дальше случилось нечто, за что русская поэзия обязана Бурлюку по гроб жизни. Уже перешагивая порог дома, таща за руку Хлебникова, он вдруг увидел у двери валявшуюся на полу бумажку. Эта бумажка оказалась автографом стихотворения «Заклятие смехом». «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!..» Бурлюк по чистой случайности подберет с пола именно то стихотворение, которое станет не только самым знаменитым произведением Хлебникова, но, как справедливо пишет биограф поэта С.Старкина, «всего русского футуризма». Стихотворение это, кстати, Бурлюк мгновенно оценит и сразу опубликует в сборнике «Студия импрессионистов». Это произойдет в марте 1910 года. С него и начнется всемирная слава поэта Хлебникова. И с этого момента, переезда Хлебникова к Бурлюкам – начнется его «будетлянство» – связь с будущим.
Уже летом братья Бурлюки увезут поэта на Украину, в Таврическую губернию, в село Чернянка, где отец их служил управляющим в имении графа Мордвинова. Чернянка и станет одной из штаб-квартир русского футуризма. А древнее название этой местности, которое упоминалось еще Геродотом, – Гилея, станет еще одним именем для группы поэтических бунтарей. Кажется, там, в Чернянке, Хлебников придумает название сборнику футуристов «Садок судей», уже без буквы «ять» и, нарочно, без твердого знака в конце слов[190]. «Садок судей», напечатают на оборотной стороне обоев – в знак протеста против роскошных изданий символистов. Триста экземпляров всего. В «Садке» Хлебников опубликует и свой «Зверинец», и первую часть драмы «Маркиза Дэзес», и начало поэмы «Журавль». Журавль в поэме, кстати, не птица – страшный город, пожирающий людей.
Вообще друзья считали, что этим сборником они закладывают «основание новой литературной эпохи». Сборник должен стать «бомбой» на «мирной, дряхлой улице литературы». Критики, писатели, буржуи, обыватели – всякое «старичье» – все встретят его «лаем, свистом, ругательствами, кваканьем, шипением, насмешками, злобой, ненавистью». Брюсов пригвоздит в очередном обзоре литературы: «Садок судей» стоит «почти за пределами литературы». А Василий Каменский, «простой и рыжий, как кирпич», и через годы будет откровенно ликовать: «Это был незабываемый праздник мастеров – энтузиастов-будетлян… Хлебников в это время жил у меня, и я не видел его более веселого, скачущего, кипящего, чем в эти горячие дни». Где жил в то время Каменский, установить не удалось. Позже будет жить в том самом знаменитом доме Адамини, о котором уже много рассказывалось в этой книге (Марсово поле, 7). И там, в доме на Марсовом поле, у Каменского действительно поселится Хлебников, но это будет в 1915 году. Сейчас важно другое: с выходом сборника «Садок судей» Хлебников станет, по словам С.Старкиной, «главным действующим лицом литературных скандалов, которые устраивают его новые друзья».
«Люд-лучи», будущие футуристы, – ватага, про которую кто-то скажет, что «судьба сплела из этих имен один веник», станут собираться сначала у художника Матюшина и его жены поэтессы Елены Гуро на Лицейской улице (ул. Рентгена, 4), а потом – в одной странной мансарде на Петроградской стороне, где все было устроено на парижский манер (Большой пр., 56). Там, под крышей многоэтажного дома, жили художники – Иван Пуни и его жена Ксана Богуславская – «святое семейство», как звали их за любовь и согласие. В этой мансарде, привезя из Парижа «жизнерадостный и вольный дух Монмартра», они устроят настоящий салон футуристов. Здесь «поэты-будетляне» – Маяковский, Бурлюк, Лившиц, Матюшин, даже Игорь Северянин – будут дневать и ночевать.
Центром, к которому тянулись все, была, конечно, она – Ксана. Обаятельная, остроумная, полная энергии. Ксану любили все. Она же любила… плескаться в ванне, это особенно волновало компанию. Но при этом успела на свои деньги выпустить сборник футуристов «Рыкающий Парнас» (он будет конфискован сразу после выхода «за порнографию») и, как пишет Лившиц, «забравшись с ногами на диван, подстрекала составителей манифеста “Идите к черту!”» В мансарде под ее водительством он и сочинялся, этот манифест футуристов. За это любили Ксану еще больше, все любили, но Хлебников – просто влип! Из-за нее он, чье сердце Вячеслав Иванов уже назвал «львиным», чуть не убьет здесь человека. Да, да!
«Хлебников сидел, как унылая, взъерошенная птица, зажав руки в коленях, и либо упорно молчал, либо часами жонглировал вычислениями, – напишет через пятьдесят лет в Париже полупарализованная уже Ксана. – Воображал, что влюблен в меня, но, думаю, оттого, что я рассказывала о горной Гуцулии, о мавках». Это, кстати, тоже правда. С Ксаной связаны многие стихи Хлебникова: «Ночь в Галиции», «Мавка», поэма «Жуть лесная»… Но правда и то, что настоящая «жуть» случится, когда Ксана «нацепит», шутя, на Лившица свое черное жабо и запретит снимать его. Тот так и ходил в нем под бешеными взглядами Велимира, пока однажды, когда Лившиц невинно болтал с Ксаной, Хлебников вдруг не схватил скоблилку художника (считайте, нож!) и, подбрасывая ее на ладони, не рванулся к Лившицу: «Я вас зарежу!..» Хорошо, что Бурлюк вовремя перехватил его руку…
Правда, благодаря инциденту в мансарде случилось нечто невероятное. И гости дома, и даже мы, нынешние, обрели и тут же, увы, потеряли, может быть, великого художника. Ибо Хлебников, остановленный Бурлюком, в тот же миг кинулся к мольберту и схватил кисти. Он запрыгал вокруг него в каком-то заклинательном танце, мешая краски и нанося их на полотно с такой силой, словно в руке его был резец. Когда в изнеможении упал на стул, ноздри его раздувались, он задыхался.
«Мы, – пишет Лившиц, – подошли к мольберту, как подходят к только что отпертой двери. На нас глядело лицо, довольно похожее на лицо Ксаны. Манерой письма портрет отдаленно напоминал… Ренуара… Забывая о технике… я видел перед собой, – заканчивает Лившиц, – ипостазированный образ хлебниковской страсти…» То есть, говоря проще, с портрета Ксаны на всех глядела обнаженная «страсть поэта». Не дверь открытая – здесь было открыто сердце. И, словно догадавшись об этом, будто прикрывая душевную наготу свою, Хлебников, не дав никому опомниться, неожиданно густо-густо замазал холст черной краской… [191]
Потом, в Куоккале, на даче Ксаны, он горько пожалуется молодому Шкловскому: «Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы все. Может быть, нужна слава?» Шкловский промолчит. А Хлебников, охладев к Ксане, легкомысленно пропрыгав осень по камням залива, влюбится в Куоккале сразу в двух Вер. Одна, дочь писателя Лазаревского, была точь-в-точь Наташа Ростова, другая же настолько хороша, что вся литература, по словам Велимира, не дала еще ей равного образа. Ах, как писал он о любви! «Русь, ты вся поцелуй на морозе!» Хотя и в любви вновь окажется кукушонком – чужим в чуждых уютных гнездах…
«Я дорожу знакомством с семьей писателя Лазаревского, – напишет Хлебников домой. – Старый морской волк с кровью запорожцев в жилах. Все же Евреиновы, Чуковские, Репины какая-то подделка в конце концов».
Не стоит, думаю, задаваться вопросом, почему Чуковские и Репины – подделка, а средний писатель Борис Лазаревский, кстати флотский следователь, – писатель настоящий. Объективным поэт не был никогда. Могу лишь предположить, что мнения его могли зависеть и от того, сколько раз на дню Хлебников встречал в Куокалле дочь Лазаревского – Веру. Однажды, в августовский день 1915 года, он, например, столкнулся со своей Наташей Ростовой аж пять раз. На берегу залива, потом на вокзале, потом в ресторане, потом в кинематографе и, наконец, снова на пляже, но уже ночью, в половине двенадцатого. Правда, к сентябрю того же года в его жизни возникнет и другая Вера – Будберг…
Не знаю где, но в нынешнем Репине, на берегу Финского залива, стоял когда-то богатый дом Будбергов. У хозяина – дочки. И с одной из них, с «очаруньи» Веры, Хлебников в сентябре просто не сводил глаз. Первый раз увидел ее 12 сентября 1915 года, а через пять дней, 17 сентября, неожиданно встретил ее на море. С семьей барона Будберга его познакомит друг Матюшин, и поэт станет бывать в доме у залива чуть ли не каждый день. Будет приносить Вере цветы, читать стихи, где и назовет ее «очаруньей», и тут же, впрочем, отрекаться от написанного в ее честь и даже советоваться с ней, как надо писать… Небывалая вещь для него…
«Я сижу рядом с нею. Вера грустна… На ней вязаная желтая рубашка для ходьбы на лыжах, и вся она хрупкая, утомленная. Какая-то трогательная неловкость была в ее руках. Я слишком упорно посмотрел на нее, и она неловко поправила край платья. Говорили о погромах. “И нас будут громить”, – сказала она, куря. И северная воздушность, и голубые глаза, грустная, утомленная, почти обреченная, и твердый взгляд, и усталость после перевязки ран, – ведь она сестра милосердия… Налила мне вина. “Можно?” – спросила. Я краснел, благодарил и смотрел. Оказывается, мы оба любим коз. “Курите, курить мужественно”, – сказала она. Рассказывала про охоту. “Я выстрелила; заряд попал, ну, в зад зайцу. И я просто не знаю, как взяла его за голову и стала его колотить о приклад. Ну, он так кричал, так кричал, просто не знаю. Мне очень жаль было (она закурила) зайца”…» В это время к столу вышла мать Веры и, увидев Хлебникова, крикнула радостно: «Это хорошо – сидеть рядом с невестой: скоро женитесь!» Еще один «выстрел», только на этот раз – в сердце поэта. «Как, – задохнулся он про себя, – Вера – невеста? Признаюсь, слезы подступили к горлу, я заплакал мысленно, как обиженный котенок».
Он снова придет к ней. «Я смотрел на эти воздушные волосы севера – облако прически над лицом, большие голубые глаза, похожие на голубой жемчуг, и слушал». И, сам себя перебивая, напишет: «Радость! На руке еще нет золотого кольца». Некто неизвестный, пришедший вместе с ним, грубовато бросит ей: «Вы где жениха подцепили?» Вера покраснеет и скажет: «Это очень трудно, но…» А Хлебников из-за этого «но», из-за отсутствия кольца буквально воспрянет и даже расскажет о Вере своему другу.
«Попытайтесь ухаживать, – посоветует друг, режиссер и драматург Николай Евреинов, которого Хлебников сначала посчитал “подделкой”. – Не действуйте нахрапом, девушку нужно сломить… Чуть что, звоните мне». Плоские эти рекомендации приведут Велимира в неожиданный восторг. «Мы заговорщики!» – кинется он целовать конфидента. А вечером запишет в дневнике: «Пил за осуществление самых пылких надежд…»
Что было дальше, расскажет Шкловский: «Я разыскал Хлебникова, сказал, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца. Дело простое. Волны в заливе тоже были простые. Хлебников сказал: “Вы знаете, что нанесли мне рану?”» Шкловский опять промолчит. И итоговая строка в «Записках» Хлебникова: «Больше никогда любить не буду…»
Какие там две Веры, ну, какая-такая Наташа Ростова! Ему подошла бы такая же, как он: вольная, сумасшедшая, не от мира сего. Хотите пример? «В каждодневной жизни умозаключения Хлебникова бывали очень неожиданными, – вспоминал, скажем, художник Анненков. – Однажды утром, в Куоккале, войдя в комнату, где заночевал у меня Хлебников, я застал его еще в постели. Окинув взглядом комнату, я не увидел ни его пиджака, ни брюк, ни вообще никаких элементов его одежды и выразил свое удивление.
– Я запихнул их под кровать, чтобы они не запылились, – пояснил мой гость.
Я должен сознаться, – заканчивает Анненков, – что все комнаты моей дачи содержались в очень большой чистоте, и если нужно было искать пыль, то, пожалуй, только под кроватью». Ну, какая женщина, согласитесь, связала бы свою жизнь с таким?..
Нет, он будет еще влюбляться. И, кстати, в женщин с роковым для него именем Вера. Но хорошо с женщиной ему будет, может быть, один только раз. Когда его, длинного и неуклюжего, спеленают, как младенца. Я говорю об одной из пяти знаменитых сестер Синяковых, в каждую из которых поочередно были влюблены русские поэты: в Надю – Пастернак, в Марию – Бурлюк, в Оксану – Асеев, который и женится на ней. В московском доме Синяковых не только собиралась литературная богема слушать «страшные рассказы» сестер, которые они тут же и выдумывали, но в нем, в этом доме, говорят, и родился футуризм. Может быть. Так вот, после революции, когда Хлебников жил на даче Синяковых под Харьковом, Мария (та, в которую был влюблен Бурлюк), когда Хлебников, валяясь на кровати, сказал ей, что он «самый ленивый человек на свете», вдруг предложила: «Витюша, вы… как маленький ребенок. Хотите – я вас спеленаю?» – «Да, это будет хорошо». И Синякова закатала его в простыни и одеяла, связав при этом неуклюжую фигуру несколькими полотенцами. Хлебников, пишет Мария, наслаждался. Она даже всунула ему в рот конфетку: «Вам хорошо?» – «Да, очень хорошо». Именно Мария Синякова, с которой он единственной и целовался (других подобных фактов не зафиксировали ни биографы, ни мемуаристы), подтверждая, что вообще-то поэт нравился женщинам, скажет о нем: «Хлебников был совершенно изумительный красавец… Красивее… я никого не видела… Говорил он тихо и отрывисто, но тех странностей, которые потом у него появились, совершенно тогда не было». А другая Синякова, Надежда, когда поэта арестуют белые за найденный у него документ с подписью Луначарского, пойдет за него хлопотать и освободит-таки Хлебникова из плена. Недаром поэт посвятит сестрам множество стихотворений и даже некоторые поэмы.
Впрочем, от всех бед своих поэт убегал на юг, в калмыцкую степь под Астраханью, где родился. Там, казалось, и было гнездо его. Убегал даже от денег; их и не было у него никогда: не «делач»! Маяковский, устроив однажды издание стихов Хлебникова, был просто сражен: «Накануне дня получения денег я встретил его на Театральной с чемоданчиком. “Куда вы?” – “На юг, весна!..”» – ответил Хлебников беспечно и… уехал.
«Люди поймут, – написал этот предсказатель будущего, – что есть часы человечества и часы отдельной души». Он жил в унисон с человечеством, хотя однажды и разошелся с ним. Просто на часах человечества грянула мировая война. Вот когда он закричит: «Спасите!.. Спасите меня!..» Я обещал рассказать о письмах его к Кульбину, генералу и медику. Да, Хлебникова призовут в армию, и он, забыв обиды и оскорбления, нанесенные генералу, станет слать в Петербург молящие письма: «Пишу… из лазарета “чесоточной команды”… Среди 100 человек… больных кожными болезнями… можно заразиться всем до проказы включительно. Пусть так. Но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов… где ударом в подбородок заставляли меня… держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я не толпа и не стадо… Как солдат я совершенно ничто… Меня давно зовут “оно”, а не “он”…»
А во втором письме прямо напишет: «Освободите меня. Заклинаю: вышлите ответ, ваше мнение будет иметь значение. Если Пушкину трудно было быть камер-юнкером, то еще труднее мне быть новобранцем в 30 лет, в низменной и грязной среде 6-й роты…»
Это он пишет в 1916 году, когда как раз задумал организовать «Товарищество 317-ти членов», куда приглашал Кульбина. Потом товарищество переименует, и все в нем станут «Председателями Земного Шара». Хлебников сформулирует задачу председателей: «Будем избегать средневековых споров о числе волос на бороде бога». То есть о пустом, бренном говорить не будем. Но в том же, 1916-м он встретит того, кто, спасая, погубит его. И выведет на крышке гроба поэта: «Председатель Земного Шара».
Что это за человек? Я назову его имя, но – у последнего дома поэта.
«Трудно тебе умирать?» – спросила Хлебникова за день до смерти Фонка, няня, жившая в деревенском доме художника Митурича. «Да», – ответил «кукушонок». Видимо, это было последнее слово «короля слов» на этой земле.
А за пять дней до смерти на окно глухой бани, где умирал поэт, в сорока километрах от ближайшей станции, прилетел ворон. Клюв его стучал о стекло, как метроном из преисподней. Птица прилетела к птице, ворон – к кукушонку. Да, Хлебников, гениальный поэт, Председатель Земного Шара, открыватель языка, законов времени и космоса, остался кукушонком – чужим не только в гнездах поэтических салонов и ученых собраний, в домах друзей и любимых, он оказался (трудно произнести!) чужим в необъятном гнезде Родины.
За два месяца до смерти сказал Мандельштаму, что не хочет уезжать в глушь, куда его тянет Митурич. Но жить негде. Мандельштам, деливший в те дни в Москве с поэтом ежедневную свою кашу, кинулся к Бердяеву, тогда председателю Союза писателей. Перед Хлебниковым, кричал, «блекнет вся мировая поэзия, он заслуживает комнаты хотя бы в шесть метров». Увы, Бердяев был бессилен. И поэт, не излечившийся еще от малярии, уехал в Санталово. Уехал умирать. Ему было как раз тридцать семь, столько же, сколько Пушкину и Байрону в час смерти.
«Когда будущее становится прозрачным, теряется чувство времени, – объяснял он за три месяца до смерти открытый им закон времени, – кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения. Чувство времени исчезает, оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством…» Поразительно! Это было сказано в унисон с Эйнштейном, и только ныне мы подбираемся к доказательствам этого феномена. Но у Хлебникова впереди были только поле у Санталова и смерть, а позади – поле труда и, признаемся, невзирая на громкие похвалы собратьев на ниве искусства, сплошных унижений.
Последним из известных мне адресов Хлебникова в Петербурге стал дом №53 по 12-й линии. Жил здесь еще в 1911-м. Здесь понял, что город этот – «сплошной сквозняк», замораживающий его славянские чувства, из него он готов бежать хоть на дно моря. Здесь обдумывал сложное произведение свое «Поперек времен». Он, который сам был «поперек времен», поперек всего, уезжал отсюда странствовать, захватив лишь наволочку, набитую рукописями; ночевал порой в лесу на снегу, враждебно относился к телефону, а спать предпочитал на соломе или голом тюфяке. А возвращаясь в Петербург, жил то в Шувалове у озера, то в Куоккале, то в каком-то доме на Большом проспекте Петроградской стороны, в двух шагах от Каменноостровского, где была его последняя комната. «Все убранство каморки, – написал о ней Лившиц, – состояло из железной кровати, кухонного стола, заваленного ворохом рукописей, быстро переползших на подоконник, да из кресла с резьбою из петушков, хлебных снопов и полотенец, неизбежно запечатлевавшейся на ягодицах гостя».
Да, поэт был «поперек всего», прежде всего, – поперек обычных представлений о людях. Он не замечал, что костюм его из-за свалявшегося сукна стал скорее «оперением», что рукава рубашки, как писал Шкловский, разорваны до плеч. Читать свои стихи не мог, ему становилось скучно, и он, застряв на полуслове, говорил устало: «И так далее». Бывал, между прочим, у Ахматовой и Судейкиной на Фонтанке (Фонтанка, 18), где влюбился в Олечку Судейкину, то есть глядел на нее из угла. А в доме художника Анненкова (Б. Зеленина, 9), такого же странного человека, как и он, они оба ночи напролет вели беседы… не открывая рта. Сидели в креслах и разговаривали молча – глазами.
«Было нечто гипнотизирующее в этом напряженном молчании и в удивительно выразительных глазах моего собеседника, – напишет потом Анненков. – Я не помню, курил он или не курил. По всей вероятности – курил. Не нарушая молчания, мы не останавливали нашего разговора, главным образом об искусстве, но иногда и на более широкие темы, до политики включительно. Однажды, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я неслышно встал со стула, чтобы покинуть комнату, не разбудив его.
– Не прерывайте меня, – произнес вслух Хлебников, не открывая глаз, – поболтаем еще немного. Пожалуйста!..
Время от времени наш бессловесный диалог превращался даже в спор, полный грозовой немоты, и окончился как-то раз, около пяти часов утра, подлинной немой ссорой. Хлебников выпрямился, вскочил с кресла и, взглянув на меня с ненавистью, сделал несколько шагов к двери. В качестве хозяина дома, вспомнив долг гостеприимства, я взял Хлебникова за плечо:
– Куда вы бежите в такой час, Велимир?
– Бегу! – оборвал он, упорствуя, но, придя в себя, снова утонул в кресле и в немоте.
Минут двадцать спустя, молчаливо, мы помирились…»
А однажды на обеде у Анненкова Хлебников, воспользовавшись болтовней и смехом гостей, протянул руку к далеко стоявшей тарелке с кильками, взял одну за хвост и медленно проволок ее по скатерти к себе, оставив масляный след. Наступило молчание, пишет Анненков, все оглянулись на Хлебникова. «Почему же вы не попросили кого-нибудь придвинуть к вам тарелку?» – спросил поэта хозяин. «Нехоть тревожить», – произнес под хохот гостей Председатель Земного Шара.
Да, еще весной 1914 года Хлебников написал «солнцеливу» Каменскому: «Все готово. Мы образуем Правительство Председателей Земного Шара. Список присылай…» И сформулировал задачи Правительства: «Преобразование мер. Преобразование азбуки. Предвидение будущего. Исчисление труда в единицах ударов сердца», поясняя, что интернационал людей мыслим через интернационал идей наук. Все хотел объединить людей, хотя теперь делил их уже не на «словачей» и «делачей» – на «изобретателей» и «приобретателей». И утверждал: «Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями». Другу, правда, в те же примерно дни признался: «Зиму провел в толпе, но в полном одиночестве», а знакомой написал еще откровенней: «Я твердо знаю, рядом нет ни одного, могущего понять меня…»
Этот, казалось бы, безумец всегда видел людей насквозь. И, как Воланд в романе Булгакова, мог сообщать людям то, что никто, кроме них, не знал. Помните, Воланд крикнул Берлиозу, которому через минуту трамвай отрежет голову: не пора ли дать телеграмму его дяде в Киев? И тот удивился: откуда он знает про дядю в Киеве? Так вот, почти то же самое, только о дяде Мандельштама, выкрикнул Хлебников в «Бродячей собаке», богемном кабачке.
Вообще в «Собаке», по моим сведениям, Хлебников был всего три раза. Встречал здесь, например, как-то Новый год. Был вместе с литературоведом Романом Якобсоном, автором первой статьи о нем, которому признался, что мечтал изобрести «цветную речь» на основе цветовых сигналов. Они пришли сюда рано, и, когда Якобсон пошел мыть руки, какой-то человек, протянув ему книжечку с отрывными пудреными листками, любезно предложил: «Не хотите ли припудриться? Жарко ведь, неприятно, когда рожа лоснится»… «И мы для смеху, – пишет Якобсон, – напудрились книжными страничками». А потом с другой книжечкой, первым сборником стихов Хлебникова «Ряв», к их столику подошла элегантная дама и, попросив надписать книгу, сказала поэту: «Говорят одни, что вы гений, а другие, что безумец. Что же правда?» Хлебников, еле улыбнувшись, прошептал: «Ни то, ни другое». Так же тихо, почти шепотом, прочел с эстрады и своего «Кузнечика», когда его уж совсем «достали» просьбами. Просидели здесь оба до утра, выпив несколько бутылок какого-то «крепкого, слащавого барзака»…
В другой раз, когда поэт «издалека влюбился» в ученицу театральной студии Лелю Скалой, друг Лившиц сказал ему: верный способ встретиться с ней – это пригласить ее с подругой сюда же, в «Собаку». На любовное предприятие не было, правда, денег. Лившиц предложил сдать в ломбард свой макинтош и цилиндр, но за них предложили копейки. И тогда Хлебников, по словам Лившица, вдруг сказал: а не взять ли денег у Гумилева? «Почему… у него?» – удивился Лившиц. «Потому, что он в них не стеснен, и потому, что он наш противник… Я сначала выложу ему все, что думаю о его стихах, а потом потребую денег. Он даст», – был ответ. И, нацепив для большей торжественности цилиндр Лившица, кинулся на вокзал, в Царское Село, к Гумилеву. Представьте, Гумилев действительно дал ему денег. Ахматова позже, как всегда, возмущалась, говорила, что этого «не могло быть», что и Лившицу, как Георгию Иванову, Ирине Одоевцевой, Сергею Маковскому, Нине Берберовой, ну, в общем, никому и ни в чем нельзя верить, что мемуары их от корки до корки лживы. Но то, что произошло дальше, как мне кажется, очень соответствовало характеру Хлебникова: поэт вместо ужина, вина и фруктов скупил на гумилевские деньги все бутерброды, какие были в буфете «Собаки». Даже на кофе не осталось… «Механика занимательной болтовни была для него, – вспоминал Лившиц, – китайской грамотой. Верный себе, он произнес монолог, в котором все слова были одного корня. Славословил предмет своей любви, и это звучало приблизительно так: “О скал // Оскал // Скал он // Скалон”. Он не докончил еще, как девушки прыснули и поспешили удалиться, не пожелав использовать нас даже как провожатых…»
А в третий раз Мандельштам именно в «Собаке» вызвал Хлебникова на дуэль. Мандельштаму, взбудораженному «делом Бейлиса», которое тянулось два года[192], показалось антисемитским одно из стихотворений Велимира. «Я как еврей и русский поэт считаю себя оскорбленным и вас вызываю! – крикнул он Хлебникову. – То, что вы сказали, – негодяйство!..» Хлебников в дневнике запишет: «Мандельштам заявил, что это относится к нему (выдумка) и что незнаком (скатертью дорога)». Помирил поэтов художник Филонов, назначенный было одним из секундантов. Он сначала накричал на них: «Я буду бить обоих, пока вы не помиритесь!» – а потом якобы сказал вдруг, что повод их к драке ничтожен по сравнению, к примеру, с его задачей. «Какой?» – сверкнули любопытством глаза дуэлянтов. «Я хочу, – признался Филонов, – написать картину, которая сама бы держалась на стенке, без гвоздя». – «И как?» – спросил заинтересованно доверчивый Хлебников. «Падает», – ответил Филонов. «А что ты делаешь?» – «Я неделю не ем». – «И что же?» – «Падает…» Разумеется, после такого интригующего сообщения о дуэли пришлось забыть.
Конечно, Хлебников и Мандельштам помирятся. В начале 1920-х Мандельштам вместе с женой Надей будет ежедневно подкармливать Хлебникова в Москве. Но тогда, в 1913-м, в «Собаке», еще до вмешательства Филонова в их конфликт, произошло то, отчего впору уже удивляться нам: «обморочный» Хлебников, пишут, в пылу ссоры крикнул недругу: «А Мандельштама нужно отправить к дяде в Ригу!» Обомлевший Мандельштам признавался потом своему другу Харджиеву: «Поразительно, в Риге действительно жили два моих дяди. Об этом ни Хлебников, ни кто-либо другой знать не могли. С дядями я даже не переписывался. Хлебников угадал это только силою ненависти…»
Да, у мудрого младенца Хлебникова и любовь, и ненависть были, если можно так сказать, химически чисты. И не стихию революции он позже возлюбит – рынок, торгашей возненавидит. «Сегодня снова я пойду // Туда – на жизнь, на торг, на рынок, //И войско песен поведу // С прибоем рынка в поединок». Он и Керенского возненавидит за то же – за открытие торгашам всех шлюзов. Так возненавидит, что с друзьями будет бросать жребий, кому идти в Зимний дворец давать пощечину премьеру от всей России.
Во дворец не пошли, но из знаменитой 5-й квартиры в столь же знаменитом двухэтажном Деламотовом флигеле за зданием Академии художеств на Неве (4-я линия, 3), где жили его друзья (где встретил он и Митурича, погубившего его, спасая, – помните, я обещал назвать это имя), позвонили в Зимний[193]. «Говорит Союз ломовых извозчиков, – кричал в трубку, придуриваясь, Хлебников. – Как скоро собираются выехать жильцы из Зимнего? Мы к их услугам». – «А больше ничего?» – кисло ответили представители Временного правительства… А больше ничего! Через два дня, заканчивает свидетель разговора, заговорят пушки…
А потом наступит день, когда деятели культуры (кубисты, «мирискусники», футуристы), собрав колонну грузовиков, устроят парад – день «Займа свободы». В грузовике Председателей Земного Шара под плакатом «Против войны!» встанут друзья – Петников и Хлебников, торжествующий и загадочно улыбающийся. Именно их машина, выехав с Дворцовой площади, уже под аркой Главного штаба (где к ним через борт запрыгнет Маяковский) сломает общий строй и, обгоняя всех, первой помчится по Невскому. Потом, прямо из кузова, поэты загорланят стихи. «Кукушонок» прочтет про клюв звезды хвостатой: «Вчера я молвил: “Гуля! Гуля!” // И войны прилетели и клевали из рук моих». Эх, не читал бы, не звал бы страшных птиц…
…Хлебников объездит почти всю взбудораженную революцией страну, побывает на Волге, на Украине, в Баку, даже в Персии. Но где будет жить, возвращаясь в Петроград, не знаю. Хотя именно петроградские друзья откликнутся на мольбу его о помощи, когда он заболеет.
Незадолго до болезни, словно предчувствуя близкую кончину, Хлебников напишет о будущих ощущениях: «Я умер и засмеялся. Просто большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах уравнения бытия знак “да” заменился знаком “нет”. Таинственная нить уводила меня в мир бытия, и я узнал вселенную внутри моего кровяного шарика. Я узнал главное ядро своей мысли как величественное небо, в котором я нахожусь… И я понял, что все остается по-старому, но только я смотрю на мир против течения…»
А из Санталова, где умирал в деревенской бане Митурича, в последнем письме сообщит: «Я пропал. Лишился ног. Не ходят, – пожалуется знакомому врачу он, великий пешеход, “урус дервиш”, как называли его в Энзели, исходивший всю страну. – Хочу вернуть дар походки…» На деле, помимо паралича, у поэта был уже и парез кишок, и гангрена – открытые раны, которые даже и не бинтовали уже. Но «дар походки» хотел вернуть, он был ему особенно дорог. Он мечтал побывать еще в Индии, заглянуть в монгольский мир, в Польшу, мечтал воспеть растения… Может, потому и просил перед смертью цветов, как можно больше цветов – весь предбанник, где умирал, был завален цветами.
Художник Митурич, который увез его в Санталово, где думал откормить его на деревенских хлебах и где поэт смертельно заболел, будет судорожно и спешно слать призывы в Москву, в Питер с просьбой помочь вывезти Хлебникова в город, к врачам, к спасению. «Беда большая, – писал Митурич другу Хлебникова искусствоведу Пунину. – Врач говорит, что его еще можно поставить на ноги, но… необходимо следующее: оплата за уход, лечение и содержание больного… Сообщите об этом Исакову, Матюшину, Татлину и Филонову…» Пунин, получив письмо, уже на другой день отправит в Санталово продукты и медикаменты. Через несколько дней друзья зарезервируют для больного место в Мариинской больнице, заочно выбьют ему академический паек и АРА (американское пособие). Более того, Пунин напишет, что поселит его у себя в квартире на Инженерной улице (Инженерная, 4). Письмо Пунина Митурич успеет еще показать Хлебникову. Но посланные деньги, продукты, лекарства – все это, увы, опоздает. Последней фразой поэта стало признание: «Я знал, что у меня дольше всего продержится ум и сердце». Так и случится – ноги будут разлагаться от гангрены, обнажая кость, когда он был еще в сознании. Потом откажет ум. Останется одно сердце. Оно продержится – сутки…
Да, он жаждал цветов, как можно больше цветов к смерти – их недодали ему при жизни. А помимо цветов, жаждал, помните, объединения людей. «Думаю писать вещь, в которой бы участвовало все человечество, 3 миллиарда, – сообщал другу в Москву. – Но обыкновенный язык не годится, приходится создавать новый». А кроме того, составлял «Доски судьбы», искал закон предсказания событий. Увы, последнюю доску своей судьбы – простую лавку в бане, на которой умер, – не предугадал…
…На крышке гроба его Митурич вывел голубой краской: «Первый Председатель Земного Шара Велимир Хлебников». А в письме Николаю Пунину, в Петроград, написал, что жена его, уже у могилы поэта, вдруг спросила: «И откуда явился такой простой, но прекрасный человек…».
Откуда являются кукушата? Глупый вопрос.
Их подбрасывают в чужие гнезда…
Бывают дни: я ненавижу
Свою отчизну – мать свою.
Бывают дни: ее нет ближе,
Всем существом ее пою…
Я – русский сам, и что я знаю?
Я падаю. Я в небо рвусь.
Я сам себя не понимаю,
А сам я – вылитая Русь!
«Был на Гороховой наш дом…» Так пишет в стихах Игорь Северянин. «Был…» Когда поэт был еще ребенком, дом этот семья потеряла. Но для нас он – трехэтажное довольно изящное здание на Гороховой под №66, в двух шагах от Загородного проспекта, – по-прежнему существует. Под крышей его сто двадцать лет назад, точнее, 4 мая 1887 года и родился «король поэтов», человек, который первым, по сути, впишет в историю русской литературы слово «футуризм». Ведь это он, Северянин, еще в 1911-м, задолго до левых московских кубофутуристов, основал в Петербурге ставшую знаменитой в поэтических кругах «Академию эгофутуризма»…
По матери он был в родстве с поэтом Фетом, с историком Карамзиным, которого смело звал «доблестным дедом». Гордился Георгием Домонтовичем, первым мужем матери[194], чьим предком, в свою очередь, был украинский гетман Довмонт, владевший под Черниговом дворцом в сто комнат. А в стихах написал даже, что каким-то предком его был аж византийский император. Может быть, а что? Вопросы крови, как скажет Михаил Булгаков, самые запутанные в мире.
Слава его была сумасшедшей, повальной, оглушительной. Он в мгновение ока стал «идолом толпы». Трудно представить, но на Невском перекрывали движение, когда он выступал в зале под Думской каланчой – самом престижном месте поэтических вечеров. У окон дома, где жил, ночевали (на улице!) поклонницы, а мужчины, случалось, распрягали лошадей и сами везли его экипаж – так было в Керчи, Симферополе, в городах на Волге. К ногам его летели бриллиантовые браслеты, серьги, брошки обезумевших женщин. «И-и-и– горь!» – визжали они в восторге. «Они пожирали его такими сладострастно восхищенными взглядами, – возмущался литератор Фидлер, – что, наверно, могли забеременеть от одного созерцания»… Словом, купался в поклонении. Но годы спустя скажет: все, что бросали и дарили, – раздавал. Цветы, деньги, драгоценности. Себе оставлял славу. «Но и она оказалась, – добавит, – чертовыми черепками…»
Признаюсь, Северянин как поэт мне не слишком близок, но его нельзя не уважать за редкое умение хранить достоинство до последнего часа. Немногих, увы, можно ценить не за «послесловие» к прожитой жизни – за «послеславие». Карабкаются на вершину известности все одинаково, а вот достойно соскользнуть в пустоту, в забвение, в одиночество живого при живых – это дается не каждому…
Знаете, как говорили в Петербурге про слабо заваренный чай? «Кронштадт виден». Поднимали стакан с чаем на свет и говорили: «Что-то виден Кронштадт…» Так в 1938 году сказал Иван Бунин официанту, когда, неожиданно столкнувшись с Северяниным на эстонской станции Тана, они, оба следовавшие в Таллин, уселись наконец в вагоне-ресторане. Бунин, нобелевский лауреат, совершавший турне по странам Прибалтики, широко предложил поэту: шампанское, вино, пиво. Северянин, у которого билет был в третьем классе, попросил чая. Бунин рассмеялся – ну, как хотите, а официанта за принесенный чай отругал – заварка была никуда. «Кронштадт виден», – сказал, издеваясь. И как-то странно похвалил Северянина, которого никогда не видел раньше. Сказал вдруг: «Настоящий моряк… в глазах море и ветер»…
Достоинство не в том, разумеется, что поэт отказался выпивать за чужой счет. В том, что когда поезд стал подъезжать к Таллину, когда их стали узнавать пассажиры, Северянин вдруг тихо сказал знаменитому спутнику: «Ну, все. Пойду в свой пролетарский вагон». – «Почему? – изумился Бунин. – Вместе выйдем. Сейчас встречать будут». – «Оттого-то… и испаряюсь. Не хочу быть сбоку припека».
Забытый всеми в глухой прибалтийской деревне, «принц фиалок», избранный когда-то «королем поэтов», давно и натурально бедствовал: ходил по квартирам эстонцев и предлагал свои книги – в магазинах не брали. И полная беда наступит, когда в Эстонию вместе с Красной армией придет советская власть. Тогда он станет голодать и продавать последнее. Но, заметьте, когда его давний друг поэт Георгий Шенгели из Москвы предложит написать «программное стихотворение человека, воссоединившегося с родиной, и родиной преображенной», и послать его на имя Сталина: просто – «Москва. Кремль. Сталину», ибо Сталин – «поистине великий человек, с широчайшим взглядом на вещи, с исключительной простотой и отзывчивостью», Северянин, насколько я знаю, так и не сделает этого. Умрет в нищете. И словно сбудется «престранный» детский сон его, который он не мог разгадать, хотя и думал об этом всю жизнь. Сон про «ничьи» аплодисменты…
Историю своей семьи он, «гость из будущего», как величал себя в молодости, расскажет как-то поэтессе Одоевцевой. Жалостную, слезную историю. Дескать, мать его сначала была замужем за стариком-генералом, от которого родилась дочь. Жили полной чашей, дом в Петербурге, летом – собственное имение. Но генерал, ревнивый старик, оставил коварное завещание, по которому все состояние его в случае, если вдова снова выйдет замуж, переходит к дочери, а в случае смерти дочери – родственникам старика. Про завещание как-то забыли, пишет Одоевцева, овдовевшая мать вышла замуж за поручика Лотарева, саперного офицера, потом родился Игорь, и в доме не было разве что «мороженого из сирени», того, которое возникнет в будущих поэзах его. И вдруг, пишет Одоевцева, дочь генерала, сестра Игоря, буквально в три дня умирает от менингита. Мать от горя едва не сходит с ума. И тут-то, как в плохой пьесе, на пороге встает нотариус. Он объявляет ей, что она по тому забытому завещанию лишается отныне и дома, и имения, и капитала. Все это отныне переходит к родне генерала. «Так мать потеряла все, – закончил рассказ Северянин. – Постыдное, тяжелое начало жизни…»
На самом деле все было не совсем так или совсем не так – биографы поэта пишут об этом вполне определенно. Да, мать поэта действительно вышла замуж за генерал-лейтенанта, военного инженера, построившего, кстати, Троицкий мост через Неву. Правда и то, что семья была богатой, что, помимо дома на Гороховой, было чуть ли не три имения. И дочь от генерала была – Зоя. Только не было скорой смерти ее «в три дня» и выбивающей слезу истории с нотариусом. Все оказалось проще. Сам Северянин в поэме о детстве скажет позже, что бедственное существование матери началось не из-за смерти дочери, а после переезда матери к ней, когда Зоя вышла замуж. У Зои, впрочем, и тогда останется во владении огромный доходный дом на Подьяческой. Кстати, мать переехала к ней, когда не только давным-давно скончался первый муж, но когда она и со вторым-то разошлась – с отцом Игоря. Игорь после развода родителей уедет с отцом сначала в Череповец, где в пятом классе бросит реальное училище и на этом закончит свое образование, а потом – на Дальний Восток, откуда в шестнадцать самовольно сбежит в Петербург, к матери, все еще довольно состоятельной и вполне светской даме. В доме бывали писатели, художники, музыканты. И у семьи, например, было постоянное место в Мариинке – нечастая привилегия в Петербурге. Благодаря креслу в этом театре у Игоря и вспыхнет тогда всепоглощающая страсть к опере. Вернее, так: две страсти – сначала стихи, потом – театр.
«Меня стали усиленно водить в образцовую Мариинскую оперу, – вспоминал он позже, – где Шаляпин был тогда просто басом казенной сцены… и об его участии еще никого не оповещали жирным шрифтом… Бывая постоянно в Мариинском театре, в Большом зале консерватории… в Малом (Суворинском) театре… и в Музыкальной драме, слушая каждую оперу по нескольку раз, я в конце концов… не раскрывая программы, легко узнавал исполнителей по голосам… Оперы… очаровали меня… потрясли… запела душа моя… Мягкий свет люстр, бесшумные половики, голубой бархат театра… Вокруг, в партере, нарядно, бархатно, шелково, душисто, сверкально, притушенно-звонко. Во рту вкусные конфеты от Иванова или Berrin, перед глазами – сон старины русской, в ушах – душу чарующие голоса… Как не пробудиться тут поэту, поэтом рожденному?»[195]
Он сидел у самой сцены, на правом балконе. Сорок раз слушал только Собинова. И еще мечтал о славе, знал, что добьется ее и будет «повсеградно оэкранен и повсесердно утвержден»[196]. Правда, в детском еще стихотворении, написанном в восемь лет, четко предсказал судьбу своей недолгой будущей известности: «Вот и звездочка золотая // Вышла на небо сиять. // Звездочка, верно, не знает, // Что ей не долго блистать…» Как тут не поверить, что сам Всевышний водил рукою ребенка!..
Первым напечатанным стихотворением, опубликованным почти случайно, едва ли не по знакомству, будет «Гибель “Рюрика”» – про военный корабль, потопленный в русско-японскую войну. Густой, видимо, патриотизм! А жил наш «патриот» с матерью все больше в Пудости, под Гатчиной, в охотничьем дворце самого Павла I, как хвастливо будет подчеркивать он в письмах. Комнат, напишет, «целых семнадцать, мы же пока занимаем две». Но, живя подолгу в Гатчине, Игорь на всю жизнь полюбит и царский парк, и Приорат, и павильон Венеры. Не отсюда ли страсть его к недоступной «изысканности» – все эти гитаны, грациозы, триолеты и фиалковый ликер?
Именно в Гатчине влюбчивый Игорь (а у него только в детстве было пять «романов») встретит «свою Злату» – девушку «в сиреневой накидке». До нее, Златы, он в девять лет влюбился в соседку по даче Марусю Дризэн (тайные свидания, сплетни кухарок, вспышки ревности); в двенадцать без памяти полюбил «лильчатую Лилю», двоюродную сестру свою, которая была на пять лет старше; потом была какая-то Варя С., которая заболеет и умрет; потом, уже в Череповце, – прелестная горничная, блондинка Сашенька; потом, на Дальнем Востоке, – красавица-японка Кицтаки, дочь местного фотографа… Вел «Любовям» чуть ли не бухгалтерский учет. Это будет делать и дальше. Но первой большой любовью, повторяю, станет Злата, трудолюбивая белошвейка, о разрыве с которой будет жалеть и на старости лет, хотя в юности напишет в стихах (и опять пророчески!): «Ты ко мне не вернешься: // Грезы больше не маги, // Я умру одиноко, // Понимаешь ли ты?!»
Вообще-то Злату звали Женечкой Гутцан. Златой ее, стройную, с золотистыми волосами, окрестил поэт. Познакомился банально, когда распил с отцом ее бутылку водки – тот, старый унтер-офицер, служил и дворником, и сторожем при местном соборе. А возникшая в первый же вечер Женя отчитала восемнадцатилетнего Игоря за то, что он спаивает отца ее. С перепалки и началась любовь.
Женя снимала угол в Петербурге, зарабатывая шитьем у модной столичной портнихи, а к отцу после смерти матери приезжала по воскресеньям «навестить и обиходить». Поэт влюбился в девушку сразу, да так, что однажды весь день шел к ней из Петербурга в Гатчину по шпалам. Ради нее продал любовно собранную библиотеку и уже в городе, где-то на Офицерской, снял комнату, в которой они провели однажды три «сладостных недели». Любил, но подарить мог только стихи да лодку по имени «Принцесса Греза», больше похожую на крейсер, которую соорудил сам. Хотел, чтобы Злата – «незаменимая», «вторая половинка души» его – могла любоваться «малахитовой водой» чистой гатчинской реки Ижорки. Злата, умевшая все «изузорить» (создать уют), в ответ сшила ему, «патриоту» местных вод, Андреевский флаг – память, которую он увезет с собой даже в эмиграцию…
Реки, море обожал, на берегу Финского залива и проживет большую часть жизни. Не зря Бунин учуял в нем душу морскую. Но, катаясь на своем «крейсере», еще в Гатчине вдруг познакомится с тремя хохочущими женщинами, чья лодка застряла под мостом. «Одна из дам была в возрасте, другая – слишком молода, – пишет биограф его М.Петров, – а вот третья оказалась любезной интересной брюнеткой, лет двадцати семи, кокетливой, веселой и пикантной по имени Дина». Была, кажется, кафешантанной певицей. Короче, «вечером, она отыскала Северянина и уговорила его отправиться в лодке на остров голубой и доброй феи». Что за «остров феи», неясно, но там, напишет в стихах уже Северянин, ему совсем не показалось диким, что «женщина, душе моей чужая, меня целует судорожно в губы»… Певица бросит его той же осенью, «найдя ангажемент» в кафешантан в Архангельске[197]. Но из-за Дины у него и рухнет все со Златой. Он не сумеет скрыть увлечения, а она, так утверждают сегодня, пожертвует собой ради любимого. Наговорит на себя с три короба, признается в каких-то «ложных изменах» и, как пишут, будет чуть ли не умолять бросить ее, «падшую женщину». Благородно? Вроде бы да! Примеры такой любви известны. Но по другой версии, мать Северянина уговорит Злату оставить ее сына в покое. Тогда, дескать, девушка и признается ему в «пяти ложных изменах» сразу. По третьей версии, а ныне и она есть, был еще роман Игоря, любвеобильного мальчишки-поэта, с младшей сестрой Златы – Лизой. Это вообще запутанная история, где был какой-то князь-кирасир, которого Лиза ударила в плечо кинжалом и от которого сама прибежала к Игорю… Словом, как было на деле со Златой, точно уже не установить. Ясно лишь, что во всех версиях поэт оказался, мягко говоря, не на высоте.
Впрочем, все не имело бы значения, если бы в парусиновой каюте «Принцессы Грезы» Злата не призналась бы однажды, что беременна. О женитьбе не говорили: обоим по восемнадцать – какая уж тут женитьба? И какое у нее шитье, с ребенком на руках? Словом, Злата сделала то единственное, что могла тогда молодая женщина: «стала содержанкой богатого старика». Он, какой-то банковский чиновник, был старше ее на восемнадцать лет, и значит, было ему тридцать шесть. Но, если помнить фразу Достоевского: «В комнату вошел старик 39 лет от роду», то для Златы в то время он и был стариком. Проживет она с ним семь лет, и семь лет будет презирать его. Но дочь ее от Северянина «старик», представьте, полюбит, а Злата родит ему и еще одну дочь. Поэт же, оставив Злату, тем не менее сразу начнет ревниво попрекать ее за ставшую вдруг сытой жизнь: за бархатные платья, за дачу, за омаров к обеду. Через много лет, в зените славы, он дважды предаст Злату, а свою дочь, Тамару, увидит впервые вообще через шестнадцать лет…
В популярности, в отличие от любви, ему повезет больше. Знаменитым станет в один день. Все случится в Ясной Поляне в январе 1910 года. Просто писатель Наживин, отправившись к Льву Толстому, захватит с собой одну из «брошюрок» поэта. Ради смеха захватит, сам с Северяниным знаком не был.
«В тот примечательный вечер, – напишет Наживин, – Лев Николаевич играл с домашними в винт и выиграл 7 копеек. После игры читали вслух стихи… Толстой много смеялся… слушая чтение какой-то декадентской книжки… Особенно всем понравилось стихотворение, которое начиналось так: “Вонзим же штопор в упругость пробки, // И взоры женщин не станут робки…”[198] Но вскоре Лев Николаевич омрачился. “Чем занимаются!.. Чем занимаются!.. – вздохнул он. – Это литература! Вокруг – виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них – упругость пробки!..”»
Очерк Наживина о его визите к Толстому опубликует «Утро России», и последние слова классика, отбросив фразу, что стихотворение «всем понравилось», перепечатают вдруг чуть ли не все газеты. Словом, на всю Россию грянет лишь гневная отповедь Северянину из уст «матерого человечища»: «Чем занимаются!..»
Вот и все! Судьба поэта была решена. Конечно, вой, улюлюканье, свист, брань, но и успех – ураганная популярность. Еще бы – такой пиар! Пятьдесят изданий сразу попросят его стихи, а за устройство его «поэзо-концертов» станут едва ли не «драться» Университет, Бестужевские курсы, Тенишевка, Психоневрологический институт, Петровское училище, Академия художеств… Слава умопомрачительная, но…
Но именно тогда его и стал тревожить тот «престранный сон», который он видел в детстве. А приснилось ему, что он, в златотканой одежде, читал нечто перед темным, но главное абсолютно пустым залом. И эта безлюдная пасть зала с зубами-креслами не только апплодировала ему, но вызывала его снова и снова.
Так чьи же были аплодисменты?..
Он будет мучиться этим вопросом всю оставшуюся жизнь.
Почему «Северянин»? Откуда этот псевдоним? Разгадку ищут в глубинах Новгородчины: в начале его жизни было имение дяди под Череповцом. Певец Севера – Северянин! А еще говорят, что имя это придумал ему поэт Константин Фофанов.
Северянин познакомился с ним благодаря той самой Зине из застрявшей под мостом лодки, юной любовнице своей. Предание гласит, что однажды в Пудости, в избе, снятой им, он завтракал у Зины с полковником Дашкевичем – известным спиритом и мистиком. Потом читали стихи Фофанова, и полковник вдруг предложил познакомить Северянина с поэтом. Всей компанией в тот же ноябрьский вечер 1907 года двинулись из Пудости в Гатчину и в уже сгущавшихся сумерках у железнодорожного переезда встретили вдруг мужика в валенках, дубленом тулупе и лохматой шапке. При ближайшем рассмотрении им и оказался поэт Фофанов.
Люди, влюбленные в литературу, ценят его как поэта и по сей день. Знаменитый Надсон, чьими стихами бредила молодая Россия, написал, что если б он имел хотя бы одну десятую дарования Фофанова, то «покорил бы мир». Лесков скажет про него: «Это поэт с головы до ног, непосредственный, в нем нет ничего надуманного и деланного; он сочиняет, независимо от своего желания». Наконец, к Фофанову в Гатчину лично приезжали знакомиться из Москвы и Бальмонт, и Брюсов – любимцы читающей России.
«Попали мы к нему в час обеда, – запишет в дневнике Брюсов. – Мещанская обстановка, плохонькие фотографии и лубочные олеографии на стенах, детей содом и очень миловидная жена, хоть и не очень молодая… Нас усадили обедать… Фофанов волновался, суетился. Одно время у него мелькнула было смутная надежда, и он что-то залепетал жене: “Водочки бы…” Та строго… поглядела, и он смолк. После обеда… позвал сына своего Борю, послал его куда-то: “Принеси нам чего-нибудь жидкого…” Увы, Борю по пути перехватили, и он принес лишь вод – ананасных, лимонных, смородинных, квасу клюквенного… Мне, – заканчивает Брюсов, – хотелось всячески хвалить Фофанова, а он принимал это, как дитя… Когда… собрались уходить, Фофанов вздумал нас проводить. Жена его страшно взволновалась, замолила его, в голосе ее раздалось что-то истерическое: “Костя, милый, не ходи!” – “Да что… я только проводить до вокзала”. – “Не ходи!” Она почти рыдала…»
Говорят, что когда Толстого отлучали от церкви, Фофанов в часовне гатчинского вокзала саданул ногой по огромному подсвечнику и крикнул: «Вы жжете здесь свет и отлучаете от церкви Толстого?!» Угодив в лечебницу для душевнобольных, «часами, а то и целых полдня» мог стоять, вытянув вверх палец, и повторять: «Пока я держу палец вот так, мир существует; стоит мне согнуть палец – мир рухнет!..» Мог выскочить на улицу в одном белье навстречу церковной процессии и… изобразить Христа. Мог в Малом театре принять великого князя Владимира Александровича за великого князя Константина Константиновича, известного поэта, и нарочито громко крикнуть: «Вот великий князь, но пиита – малый!..»
«Про Фофанова складывались легенды, – вспоминал Северянин, – но большинству из них я верить не рекомендую… Фофанов был обаятельным, мягким, добрым… и сердечным человеком, очень нравственным, религиозным и даже застенчивым по-детски. Любил своих детей (кстати, девятерых. – В.Н.), в особенности Константина (Олимпова впоследствии…). Кроме своей жены… не знал ни одной женщины… Жена его, подверженная тому же недугу, каким страдал и он сам, иногда где-то пропадала по целым дням, а когда бывала дома, находилась… в невменяемом состоянии… Спрашивают, кто на кого дурно повлиял? Не отвечая прямо на этот вопрос, я укажу только, что пить поэт начал с тринадцатилетнего возраста. Жена же его, происходившая из вполне приличной – в общественном смысле – морской семьи, окончившая Смольный институт, пить начала спустя много лет после брака».
А как умирал в Гатчине Фофанов, опишет Георгий Иванов: «Мещанский кривой домишко, жаркие, заставленные барахлом комнаты, чад кухни, дым дешевых папирос, бульканье водки, человек десять каких-то оборванцев собутыльников и среди этого – нищий, пьяный, грязный, всклокоченный – Фофанов. Умирающий Фофанов… Собутыльники – шулера, взломщики, агенты охранного отделения. Фофанов с искаженным лицом опрокидывает стакан, страшно, дико кощунствуя, тянется к киоту – закурить от лампадки. И, икая, читает стихи… на каждом из которых сквозь вздор и нелепость – отблеск ангельского вдохновения, небесной чистоты. Шулера и агенты… внимательно слушают. На глазах у них слезы. Фофанов шатается. Потом, изможденный стихами, водкой, усталостью, валится под стол, на плевки и окурки, на грязные сапоги сыщиков. Валится с невнятным бормотанием: “Бессмертия мне!..” Это были его последние слова, когда он умирал от белой горячки»…
Вот Фофанов, а потом Сологуб и ввели Игоря в большую литературу. Печатать Северянина стали просто ненасытно. Слава свалилась сумасшедшая, но что–то в ней было не так. Слава была надтреснутой, как дорогая чашка с отбитым краем, какой-то ущербной. Его носили на руках парикмахеры, модистки, приказчики да гувернантки – только у них был популярен. А начиналась эта «слава» на перекрестке Дегтярной и 8-й Советской, бывшей Рождественской. Тут стоял когда-то деревянный дом, где была редакция жалкой газетки «Глашатай». В ней–то и родился эгофутуризм, здесь собирался «Директориат» эгофутуристов. Тот еще театр! И не тогда ли Северянин, коллекционирующий собственные афоризмы, придумал максиму: «Не ждать от людей ничего хорошего – это значит не удивляться, получая от них гадости»?..
На каком углу перекрестка стоял этот дом, установить трудно: на всех четырех углах давно стоят дома каменные. Но здесь Северянину и его поэтам, «фантастам и грезерам», вечному студенту Граалю Арельскому, семнадцатилетнему мальчику с припухлым ртом Константину Олимпову (он и стрелялся, и топился уже), Василиску Гнедову, который, говорили, однажды кулаком убил волка[199], а также почти подростку Георгию Иванову, редактор газеты «Глашатай» Иван Игнатьев и предложил к услугам свое издание. Предложил и деньги. Все это в обмен на славу и для себя. Вот тогда, вслед за почином итальянца Маринетти, которого наши юноши боготворили, и родился футуризм – «Академия Эго-поэзии». Правда, назвал свое «направление» Северянин по-своему – «эгофутуризм», как бы футуризм, но – вселенский.
«“Директориат” решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию, – вспоминал Георгий Иванов. – Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эгофутуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один: “Призма стиля – реставрация спектра мысли”…» Смешно…
Впрочем, довольно скоро, да что там – почти сразу, выяснилось, что все состояние «спонсора» Игнатьева составляли только огромная тройная золотая цепь через жилет и хорьковая шуба. И цепь, и шуба часто отправлялись теперь в ломбард, чтобы выкупить очередную «эдицею» в пятнадцать страниц. Но «революционеров» это не смущало. Шумные «поэзо-вечера» на Лиговке, на Выборгской (Северянин «вылетал» на сцену с цветком в петлице, а Георгий Иванов, по его наущению, – с красным платком на шее) чередовались у них с шумными попойками в редакции «Глашатая». Пирушки звали «поэзо-праздниками», о них извещались журналисты специальными «вержетками» (программками, напечатанными на бумаге верже). Прилагалось и меню ужина: «Крем де Виолетт», «филе молодых соловьев». Поклонявшийся тогда Северянину Маяковский даже ляпнет как-то, что «Крем де Виолетт» Северянина глубже, чем весь Достоевский…
«В действительности, – пишет Г.Иванов, – было проще. Полбутылки Крем де Виолетта украшали стол в качестве символа изящества». А вот водки и вина было так много, что гости скоро становились невменяемы. «В трех… низких комнатах… жара: печи докрасна натоплены, окна… глухо замазаны на зиму. Под висячей керосиновой лампой – растерзанный стол с грязными тарелками и бутылками. По диванам и стульям развалились гости и директориат, опьяненные “Шамбертеном 1799 года” из казенной лавки напротив. Северянина нет, когда “празднество” начинает становиться гнусным, он неизменно уезжает. Его и не удерживают, его умение пить, не пьянея, и барственный холодок стесняют компанию. Но вот он, единственный человек, которого здесь стесняются и побаиваются, ушел. Теперь – гуляй вовсю…» Тогда становились возможны вещи «совсем дикие»: стрельба по голубям на чердаке, раскраска лиц. Одному пожилому уже человеку, «соблазненному футуризмом», выбрили полголовы и, закрасив ее зеленой краской, нарисовав на щеках зеленые вопросительные и красные восклицательные знаки, выпустили на улицу – гуляй, дядя!..
Но чаще всей компанией отправлялись в трактиры или в уже известную нам «Вену» – богемный ресторан. «Какие-то залы, набитые слушателями, – вспоминал Г.Иванов. – Диспут о стихах. Стихи – чушь, споры – бестолковщина. Но кто-то жмет руки, просит автографов, подносит цветы. Потом, по снегу, в шумную и бестолковую “Вену”… шумный, бестолковый, веселый разговор. “Вена” закрывается; снова сани летят куда-то по снегу. В небе звезды, голова кружится от вина, в голове обрывки стихов, в ушах незаслуженные аплодисменты. Завтра опять диспут. Сани летят, и не от одного вина кружится голова – еще от тщеславной мысли: неужели это я?» Уж не в «Вене» ли выкрикивал Северянин: «Я покорил Литературу, // Я, – год назад, – сказал: “Я буду!” // Год отсверкал, и вот – я есть!..»
Увы, эгофутуризм скоро прикажет долго жить. «Денежный мешок» футуристов Игнатьев убьет себя, о чем я еще расскажу, а Иванов и Арельский уйдут к акмеистам – Гумилеву, Городецкому, Ахматовой. Попытаются перетащить и Северянина. Тот даже придет к Гумилеву, чтобы взглянуть «на всю эту бездарь» и показать себя – гения. Гумилев, слушая стихи его, оживится лишь раз, переспросит: «Как? Как? Повторите!» Северянин повторит: «И, пожалуйста, в соус // Положите анчоус». – «А где, скажите, вы такой удивительный соус ели?» Северянин покраснеет: «В буфете Царскосельского вокзала». – «Неужели? А мы там часто под утро едим яичницу из обрезков – коронное их блюдо. Завтра же закажу ваш соус! Ну, прочтите еще!..» Но оскорбленный Северянин, конечно же, отказался и, не дожидаясь ни ужина, ни баллотировки, ушел…
Впрочем, это версия Г.Иванова[200]. По другой версии, видимо куда более верной, Гумилев, напротив, очень уважал Северянина. В «Аполлоне» в 1914 году он впервые и авторитетно заявил, что Северянин – не просто талантливый поэт, а «ошеломляюще новый, небывалый», и, сказав, что люди делятся на людей книг и людей газет, подытожил: «И вдруг люди книг услышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта на воляпюке людей газет. Игорь Северянин… поэт новый. Но нов он тем, что первый из всех поэтов… настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности».
Я лично оценке этой не удивился. К 1914 году Северянина давно признали даже такие авторитеты, как Брюсов и Сологуб. Не признала – и потом не признает – Зинаида Гиппиус. «Он, – скажет о Северянине, – жаждал “изящества”, как всякий прирожденный коммивояжер. Но несло от него, увы, стоеросовым захолустьем». Не признал и Блок, который, оказавшись как-то на совместном вечере на Бестужевских курсах (10-я линия, 33), успел шепнуть соседке: «Ведь это капитан Лебядкин? Новый талантливый капитан Лебядкин». А Сологуб, который ласково будет звать Северянина по-домашнему Игорьком, напротив, пригреет его, посвятит ему триолет и напишет предисловие к первому сборнику поэта «Громокипящий кубок», где назовет его «радостным даром небес» и сравнит приход его в мир с весной. Сборник, кстати, за два года переиздадут семь раз. Такого с поэтами тогда не бывало. У Мандельштама первая книга, вышедшая в те же дни, имела тираж, шестьсот экземпляров. А у Северянина за два года – десять тысяч. И сразу же стал выходить шеститомник его (небывалая вещь!), да еще часть тиража этого шеститомника – на александрийской бумаге, в переплете из парчи. Бешеная, баснославная слава!
Неудивительно, что «шатенному трубадуру» смертельно завидовал Маяковский – «то ли дружий враг, – говорил Северянин, – то ли вражий друг». Нет–нет, они вместе разъезжали по России, читая стихи, пили-ели на банкетах, но Маяковский вечно и мелко задирал поэта – вчерашнего своего кумира. Однажды в Керчи нарушил уговор, вышел на эстраду в желтой кофте. Северянин обиделся и тем же вечером уехал в Петербург. Выйдя с вокзала на Невский, увидел похоронную процессию, какие-то знакомые лица в толпе. «Кого хоронят?» – спросил. «Какого-то футуриста». Хоронили Игнатьева, редактора «Глашатая». Тот в день свадьбы своей зарезался бритвой. Уговаривал умереть с ним и невесту, да та не согласилась. Так он заплатил за сиюминутную славу… Платил за нее и Северянин…
Я уже говорил, что он коллекционировал придуманные им афоризмы – их к концу жизни наберется у него ровно сто. Так вот, один афоризм гласил: «Женщина без прошлого, что рыба без соли». Но у встреченных им женщин самым знаменитым «прошлым» – это подразумевалось – был все-таки он сам, Северянин.
Из-за одной «симпатии», восемнадцатилетней «ингерманландки», которую в поэзах он звал Предгрозей («она томила, как перед грозою воздух»), Северянина чуть не зарежут. «Любились» они, по словам поэта, два лета, пока гатчинский мельник не приревновал ее. Пьяный, он уже занес над головой Северянина нож, но был остановлен четвертым участником «поэтической элоквенции» (так назывались эти загулы) – заведующим гатчинским птичником Петром Ларионовым… Этот спаситель-птичник, которого Фофанов прозовет «перунчик», скоро войдет в кружок эгофутуристов, станет «поэтом», а по вечерам компания будет поить его особой, любимой им водкой – «с запахом махорки»…
Да, платить Северянину придется – и платить жизнью. Забегая вперед, скажу, что перед смертью поэт признается: ему очень мешала в отношениях с людьми его «строптивость и заносчивость юношеская, самовлюбленность глуповатая и какое-то общее скольжение по окружающему. В значительной степени это относится и к женщинам. В последнем случае последствия иногда бывали непоправимыми и коверкали жизнь , болезненно и отрицательно отражаясь на творчестве (курсив мой. – В.Н.)».
Кажется, такой «непоправимой» историей была его первая любовь – Злата. Я обещал рассказать, как предаст он ее. Дело в том, что в самый пик его славы и успеха она, похоронив «старика» и любя поэта по-прежнему, ждала, что теперь-то он женится на ней, теперь-то дела его в порядке. Ведь у нее подрастала дочь Северянина. Увы, поэта цепко держала при себе уже опытная соблазнительница, актриса Балькис Савская (псевдоним, заимствованный из литературы), а в миру Мария Домбровская[201]. «Моя 13-я», – называл он ее. Называл, кстати, для саморекламы, потому что на деле он к тому времени давно уже потерял счет своим победам. Перечислять «романы» его даже до Домбровской – дело хлопотное. Была некая Аруся, княжна Арусян Шахназарова (ей посвящена поэза «Демон»), потом какая-то Вера Жукова («Поэза о Бельгии»), потом гречанка Людмила Керем, певица Британова-Британочка, актриса Гадзевич-Плутоглазка, какие-то Инстасса, Нефтис, Фанни, Ната… Несть им числа…
А Злата, отвергнутая вторично, выйдет замуж за немца, станет Евгенией Гутцан-Меннеке. Муж ее звезд с неба не хватал, но человеком был надежным. Когда начнется мировая война и по России покатятся погромы немцев, супруги уедут в Берлин, где трудолюбивая белошвейка откроет собственную мастерскую. Дочь от Северянина, Тамару, отдаст в балетную школу – та станет профессиональной танцовщицей. А про Игоря почему-то решит, что он погиб в смутные годы революции и Гражданской войны. И вдруг в 1921 году в берлинской газете «Голос России» она натолкнется на его «Поэзу отчаянья», где прочтет слова, что «даже любовь – корыстна». Сначала обрадуется – жив, а потом, по стихам, сердцем поймет – ему плохо. Через редакцию газеты, вот что удивительно, разыщет его в Эстонии. Одно письмо ее из Берлина сохранилось: «Мой дорогой друг… Мой так близко родной. Я ведь не знала, что твой высокий дух не угас. Я думала, что страсть и любовь затмили твою душу… Ты прав, родной, что дух для России нужнее тела. Ты сразу перерос мои мысли, мой взгляд. О, как я люблю тебя за твою душу, Игорь… Сколько ночей я не спала…» Потрясенный Северянин тогда же напишет поэму о первой любви «Падучая стремнина». «Спустя семь лет, в Эстонии, в июле, // Пришло письмо от Златы из Берлина…» Они даже увидятся потом – там, в Берлине. Но как это произойдет – об этом я расскажу теперь уже у последнего дома поэта.
…«Ананасы в шампанском» – кто не знает этого, может, самого известного стихотворения Северянина! Но знаете ли вы, что первую строку его «сочинил» Маяковский? Северянин подхватил ее и, повернувшись к Эсклармонде, сымпровизировал продолжение. Эсклармонда Орлеанская лишь рассмеялась! На самом-то деле никакая она не Эсклармонда, и уж тем более не Орлеанская. Она – минчанка, бестужевка, девятнадцатилетняя блондинка с дерзким взглядом «эмалевых» глаз. Ее звали в компаниях Сонка, а полностью – Софьей Шамардиной. Первым с ней познакомился Северянин на своем вечере. Потом уже, вроде бы в «Бродячей собаке», ее заметит и Маяковский. Северянин гремел на весь свет, Маяковского никто и не знал еще. Но он, презрительно назвавший потом Северянина «Оскар Уайльд из Сестрорецка», отобьет у него Сонку.
Это случится на юге, куда Северянин телеграммой вызовет Шамардину: им с Маяковским на совместных поэтических вечерах потребуется «женский элемент». И то право – два мужика читают по эстрадам южных городов стихи про любовь, про «иголки шартреза» и «фиалковый ликер» и рядом с ними – ни одной «утонченной», «эстетной» и «бутончатой»… Победительно красивая Шамардина, которой они придумают театральное имя Эсклармонда Орлеанская, идеально подойдет для их выступлений. Читая стихотворение «В коляске Эсклармонды», специально написанное для нее Северяниным, сразу, с января 1914 года, ставшее шлягером, «златоблондая» Сонка сводила с ума переполненные залы…
Нет, нет, не будем заблуждаться, залы сводил с ума все-таки Северянин. Особенно девичьи аудитории какого-нибудь Женского педагогического института (М. Посадкая, 6) или Психоневрологического института (ул. Бехтерева, 3). Как это происходило, описал журнал «Женское дело».
«Наконец, появляется он, гений Игорь-Северянин, и начинает “популярить изыски”. Зачарованная и завороженная “дамья” толпа бросается на эстраду, засыпает поэта цветами, загораживает все входы и выходы. Когда поэт скрывается за дверью, с трудом протискиваясь среди своих поклонниц, жаждущих, как счастья, его мимолетного взгляда, случайного прикосновенья, в зале происходит нечто невообразимое. Закроешь глаза, и начинает казаться, что попал в среду беснующихся обезьян. И ведь имя-то какое удобное – Игорь! Удивительно приспособлено для визга. Стук, крики, аплодисменты – все покрывается пронзительным “И”. И-и-и-горь! И-и-и-горь!..» А он стоит и стоит на эстраде, сложив на груди руки и опустив глаза.
После одного такого вечера, но уже в Крыму, и родились «Ананасы в шампанском». Был банкет, или званый вечер, или «суаре», как назвал эту встречу хозяин квартиры, и за столом, где Северянин сидел рядом с Эсклармондой-Шамардиной, Маяковский, в розовом муаровом пиджаке с черными атласными отворотами, вдруг, подцепив на фруктовый нож кусочек ананаса и окунув его в шампанское, крикнул Игорю через стол: «Ананасы в шампанском, удивительно вкусно!» Северянин мгновенно подхватит: «Удивительно вкусно, игристо и остро!..» Так и родятся знаменитые стихи…
Но история с Сонкой, чьи взоры Северянин называл «ароматными» и о которой будет помнить и через четверть века, только-только начиналась еще.
По сути, история схватки между «изысканным грезёром» и «площадным горлопаном».
История сражения с Маяковским.
Главная история Северянина.
У Северянина было четыре больших любви, а малых – без числа. Женщины любили его, как тонко заметил один знакомый поэта, «за умение драпировать» их. Раздеть барышню, написал, – дело нехитрое, а вот украсить, закутать, задрапировать – тут равных ему не было. Оттого и доверялись ему девушки – как своей, скажем, модистке, – оттого и чувствовали в нем родственную душу, и сплетничали, как с подружкой. Он и проститутку делал в стихах королевой, и простую горничную превращал в царицу.
Любовь правила жизнью поэта… и, конечно, слава. Он и в стихах писал: «Кого мне предпочесть из этих дев? Их имена: Любовь и Слава». Любовь разведет его с друзьями, оторвет от родины. Зато она же поможет ему достойно окончить дни свои. Ведь если бы жена его не бросилась ночью через весь Берлин на вокзал, он, возможно, вернулся бы в СССР и, думаю, плохо бы кончил. Кому нужны были его «лесофеи» и «златополдни» в стране социализма? Так что любовь и слава его и сберегли…
До эмиграции, до 1918 года, ровно одиннадцать лет Северянин проживет на Средней Подьяческой улице Петербурга… В моем далеком уже детстве эта ленинградская улица пользовалась дурной репутацией. Мы, мальчишки, сбитые в колючую стаю, горланящие песенку: «Корабли заякорили бухты, привезли из Африки нам фрукты…», эту улицу предпочитали обходить – кулаков не хватило бы на местных хулиганов. И представьте, каково же было мое удивление, когда я прочел, что и в 1912 году и эта улица, и дом, в котором жил Северянин, тоже пользовались дурной славой. И уж вконец я был сражен, когда в стихах его, напечатанных не так давно, вдруг обнаружил эту нашу песенку про корабли, которые «заякорили бухты». Оказывается, его это стихи – Северянина. И значит, он жил, даже после смерти жил в безымянном репертуаре улиц… и толпы… Считайте – в фольклоре!
Поэт с матерью и гражданской женой Еленой Золотаревой-Семеновой [202] (от нее у него тоже, как и от Златы, родится дочь, которую они назовут Валерией – в честь Брюсова) с 1907 года жил в доме №5 по Средней Подьяческой, в бельэтаже, в квартире «на солнечной стороне двора». Бурлюк почти сто лет назад заметил, что лестница к поэту была с «выбитыми ступенями». Представьте, когда я поднимался в эту квартиру, то убедился: лестница и ныне такая, хотя выбоины стали круче – ногу можно сломать…
Квартира, как утверждает приходивший сюда Георгий Иванов, носила 13-й номер. По его словам, «домовая администрация занумеровала так самую маленькую, сырую, грязную квартиру». Кажется, это обычное «преувеличение» Иванова. Михаил Петров, изучивший жизнь Северянина едва ли не по часам, пишет, что не только квартира – весь дом принадлежал когда-то сводной сестре Северянина, Зое Домонтович. Я писал уже, что после смерти Зои доходное здание было продано, но продано с условием, что одна из квартир будет передана в пожизненное пользование матери поэта, Наталье Степановне. Не думаю, что досталась ей самая плохая квартира. Тот же Петров, ссылаясь на слова нынешнего жильца, говорит, что с начала прошлого века квартира была немного перестроена – был сделан сквозной проход из кухни в комнаты. Но, как и раньше, с лестничной площадки и ныне попадаешь именно в кухню. Тут Георгий Иванов против истины не погрешил.
«Мне открыла, – пишет он, – старушка с руками в мыльной пене. “Вы к Игорю Васильевичу?” Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немытой посудой. “Принц фиалок" встретил меня, прикрывая шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с жалкой мебелью был образцовый порядок».
Именно здесь однажды зимой, задолго до встречи с Георгием Ивановым и своей оглушительной известности, когда Северянин только что зажег лампу, старушка (либо мать, либо прислуга – не знаю) коротко доложила ему: «Брюсов». До того Северянин посылал по почте Брюсову в Москву свои стихи и даже льстиво называл его в письмах «Господином Президентом Республики “Поэзия”». Но чтобы мэтр, приехав в Петербург, собственной персоной явился в его трущобу? О, этого ему и в голову не могло прийти.
«Быстро скинув меховую шубу и сбросив калоши, он вошел», – пишет о визите Брюсова Северянин. Мы же добавим от себя, что вместе с мэтром вошло в дом первое серьезное признание поэта Северянина… Скоро Брюсов пригласит его в Москву читать стихи, и Северянин «сорвет» в Первопрестольной первый аплодисмент. Ядовитая Гиппиус заметит тогда же, что Северянин уж чересчур Брюсову подражал. «У… многих людей есть “обезьяны”, – напишет она. – Брюсовская обезьяна народилась в виде Игоря Северянина. Черт даже перестарался… Сделал ее тоже “поэтом”. И тоже “новатором”, “создателем школы” и “течения”… Что у Брюсова… умно и тщательно заперто за семью замками, то… Северянин во все стороны как раз и расшлепывает… Огулом презирает современников, но так это начистоту и выкладывает… Не признает “никаких Пушкиных”… не упускает случая погромче об этом заявить… “Европеизм” Брюсова отразился в Игоре, перекривившись, в виде коммивояжерства… Игорь, как Брюсов, знает, что “эротика” всегда годится, всегда нужна и важна…»
Короче, они подружатся – Северянин и Брюсов. Но через три года, когда Брюсов слегка «критикнет» вторую книгу Северянина «Златолира», тот даст другу резкую и публичную «отповедь в стихах». Более того, скоро, когда на Подьяческой появится безвестный пока Маяковский, Северянин уже сам будет для него примерно тем, кем был ему когда-то мэтр Брюсов…
Кто познакомил Северянина с Маяковским – точно неизвестно. Но поэт Б.Лившиц уж очень красиво опишет, как впервые привел сюда «Маяка». «Жестом шателена Северянин пригласил нас сесть на огромный, дребезжащий всеми пружинами диван…» Кругом были папки, кипами сложенные на полу, несчетное количество высохших букетов по стенам. Темнота, сырость, обилие сухих цветов напоминали склеп. Нужна была действительно незаурядная фантазия, чтобы, живя здесь, воображать себя владельцем воздушных «озерзамков» и «шалэ». «Был час приема поклонниц, – пишет Лившиц. – В комнату влетела девушка в шубке. Северянин взял из рук гостьи цветы и усадил ее рядом с нами…»[203] Потом – еще одна. «Маяковский пристально рассматривал посетительниц, и я уловил то же любопытство, с каким он подошел к папкам с газетными вырезками. Бумажная накипь славы волновала его своей близостью. Это была деловитость наследника, торопящегося подсчитать грядущие доходы». А скоро, в 1913-м, Маяковский уже будет утверждать, что «Крем де Виолетт» Северянина глубже всего Достоевского. Впрочем, еще через год, из-за того же «Крема», в пылу военного патриотизма он «во весь голос» обзовет Северянина «маркитанткой русской поэзии». Торопился, спешил к славе наследник!
Северянин, познакомившись с Маяковским, всем твердил поначалу, что тот – гений, тащил его за собой в поездки по стране, познакомил с Сонкой Шамардиной, той самой Эсклармондой, которую, кажется, действительно любил. Потом ее, тяжело больную, Северянин привезет с юга, где они гастролировали с Маяковским. Сонка скажет, что у нее воспаление почек, а после больницы признается Северянину, что на деле у нее был опасный аборт – беременность от Маяковского. Это был удар под дых! Северянин и через четверть века помнил о нем. Маяковский не женится на Сонке – она впоследствии выйдет замуж за предсовнаркома Белоруссии, которого в тридцатых расстреляют…
Кстати, Лившиц довольно точно опишет Северянина того времени: «Он, видимо, старался походить на Уайльда, с которым у него было нечто общее в наружности… Помятое лицо с нездоровой сероватой кожей – он как будто только что проснулся после попойки и еще не успел привести себя в порядок… Поразила неряшливость “изысканного грёзэра”: грязные, давно не мытые руки, залитые… лацканы… сюртука. Ни одного иностранного языка Северянин не знал, уйдя не то из четвертого, не то из шестого класса гимназии (реального училища, что гораздо хуже. – В.Н.). Однако надо отдать ему справедливость, он в совершенстве постиг искусство пауз, умолчания, односложных реплик, возводя его в систему, прекрасно помогающую ему поддерживать любой разговор. Впоследствии, познакомившись с ним поближе, я не мог надивиться ловкости, с какой он маневрировал среди самых коварных тем».
Да, Северянин всегда был странным, обидчивым, неприспособленным к жизни человеком. Он, например, прожив пятьдесят три года, ухитрился ни разу нигде не работать и не служить. Ему были противны и дух канцелярий, и любое начальство над ним. Существовал за счет родственников, предоставляющих ему бесплатное жилье и 50 рублей ежемесячно. Потом жил за счет жен и женщин. А на службе был лишь в армии, недолго, в Первую мировую. Не на передовой – в Новом Петергофе, в 3-м запасном Каспийском полку[204]. К войне он, призывавший когда-то в патриотическом угаре идти «на Берлин» («Я поведу вас на Берлин!»), отнесется, мягко сказать, прагматично. «Рисковать своей великой жизнью, – на полном серьезе напишет одной актрисе, любовнице своей, – можно только вдохновенно, громогласно, блистательно!..» В Каспийском полку он и за работает «блистательную» кличку Мерси. Ему, рядовому, необученному, так и кричали, смеясь: «Эй, Мерси! Срочно на кухню!» Дело в том, что во время учебной стрельбы из малокалиберной винтовки новобранец Лотарев из пяти выстрелов трижды поразил мишень. Батальонный командир похвалил: «Молодец, солдат!» На что Северянин, пишет его сослуживец Борисов, повернувшись в сторону батальонного командира, небрежно кивнул: «Мерси, господин полковник!..»
Впрочем, эта кличка, возможно, не самая обидная. При советской власти его будут называть и «фон-бароном», и «актером погорелого театра». Но после армии, из которой он то ли дезертирует, то ли его вызволит князь Юсупов, чья жена Ирина была поклонницей поэта, Северянин в 1917-м сначала перевезет в Эстонию семью, мать, Елену Золотареву с дочерью Валерией и «Музу музык», Марго Домбровскую, а затем, бросив свой архив, письма, стихи у своего друга Бориса Верина, переедет туда и сам. Кто же знал тогда, что в 1920-м Эстония станет суверенным государством, а поэт – невольным эмигрантом на долгие годы. Любимую Неву он увидит теперь только тогда, когда его, проездом, навестит в Эстонии Федор Раскольников, бывший муж Ларисы Рейснер и пока еще посол Советской России. Увидит на коробке папирос – были такие папиросы «Нева». Начатую коробку, прощаясь, и оставит ему на память Раскольников…
Там, в Эстонии, в Тойле, в деревенском домике на высоком берегу моря, проживет шестнадцать лет. «Безукоризненная почта, – писал об этом местечке, – аптека, два… приезжающих приличных доктора, струнный и духовой оркестры, два театра, шесть лавок, а за последние годы во многих домах – радио и телефоны… Тойла – и внешне, и нравственно – просто чистая, очень удобная и очень красивая приморская эстонская деревня, до войны даже нечто вроде курорта, так как тогда были в ней и теплые соленые морские ванны, и лаун-теннисные площадки, и пансионы, два из которых, впрочем, функционируют и до сих пор». Не сообщил, правда, что в эту деревеньку не провели электричества, но зато уверял, а скорее, верил, что «в очень хорошую погоду очень хорошие глаза купол Исаакия видят»… Любимый Петербург.
Там, в Тойле, он наконец женится («осупружится»). Но в жены возьмет не Золотареву, не Домбровскую – обвенчается при них обеих с юной дочерью местного плотника Фелиссой Круут, «ненаглядной эсточкой», одной из двух «недооцененных» им, как напишет, женщин. Северянину тридцать четыре, ей – девятнадцать лет, но брак их окажется долгим, продлится без малого полтора десятилетия. Вообще-то Фелиссу он увидел еще в 1913-м – одиннадцатилетней, когда снимал здесь дачу…
Василий Шульгин, известный депутат Государственной думы, монархист, познакомившийся с супругами в Югославии, потом, в 1951 году, напишет: «Ее звали Фелисса, что значит счастливая. Не знаю, можно ли было назвать их союз счастливым. Для него она действительно была солнцем. Но он казался ли ей звездой?.. Она была младше его и вместе с тем очень старше… Относилась… как… мать к ребенку; ребенку хорошему, но испорченному. Она… не смогла его разлюбить; но научилась его не уважать… Была поэтесса; изысканна в чувствах и совершенно “не мещанка”… И была… хоть и писала русские стихи, телом и душой эстонка… А Игорь Васильевич? Он был совершенно непутевый; стопроцентная богема; и на чисто русском рассоле. Она была от балтийской воды; он – от российской водки. Он, по-видимому, пил запоем, когда она стала его женой… Она решила вырвать русскую душу у болярина Петра Смирнова. Ей это удалось… Когда я с ними познакомился, он не пил ничего; ни рюмки!..»
Похоже, это правда. В ней, его «моряне», не было ничего, что обычно нравилось Северянину: ни обаяния, ни игры, ни кокетства, ни изящества. Зато было другое: основательность, практичность, твердость характера и, как пишут, «врожденный дар верности». Редкого характера была женщина. Однажды они с Северяниным, отправившись на Запад, попадут в железнодорожную катастрофу – паровоз и вагон их полетят под откос. «Кажется, гибнем?!» – успеет крикнуть поэт. «По всей вероятности», – спокойно ответит она. Когда же вагон замрет, Фелисса, сидя на спинке какого-то покосившегося кресла, вынет из сумочки зеркало и как ни в чем не бывало начнет пудриться. Дым, люди с факелами, крик изувеченного насмерть машиниста, а она – с зеркальцем. Каково? И она же потом, когда Северянина найдет в Эстонии его Злата, которая по его просьбе «пробьет» две его книги в берлинских издательствах, найдет им в Берлине для временного проживания квартиру, круто потребует вдруг от него не встречаться с первой любовью, и даже с Тамарой, его взрослой дочерью.
Дочь, уже танцовщица, выросла очень похожей на него – совершенно богемной. А вот Злата в отличие от поэта была уже другой: во-первых, она стала членом компартии Германии, а во-вторых, решительно была за возвращение Северянина в СССР. «Ее присутствие, – напишет Северянин, – меня бодрило, радовало. Она нравилась нашему кружку как компанейский, содержательный, умный человек. Ум Ф.М. (Фелиссы. – В.Н.) сводился на нет благодаря ее узости и непревзойденному упрямству». Но именно упрямство Фелиссы и пересилит: Северянин сдастся, расстанется со Златой еще в Берлине…
Они встретятся еще раз, и опять через восемнадцать лет – летом 1939-го. Увидятся в провинциальной Усть-Нарве, которую Злата буквально поразит своим «чесучовым костюмом из блузки и штанишек на пуговицах». Пишут, что встречи этой поэт не хотел, боялся увидеть усохшую старушку. Но… его Злата и в пятьдесят лет была «красива и элегантна», и он, назло уже новой «жене», Вере Коренди, все позже и позже будет возвращался «из гостей» – от нее. Но в конце концов опять предаст. Впрочем, у Златы и без него все будет более или менее хорошо. Она, пережив поэта на одиннадцать лет, умрет в Лиссабоне, на руках обожавших ее дочерей. В том числе и Тамары Игоревны, дочери Северянина, ставшей к тому времени Тамарой Шмук.
А Фелисса, «эсточка», «свежесть призаливная», разведет его не только со Златой, но и с Родиной. Это случится там же, в Берлине, где его, пишут, не «узнавали», да и не признавали братья-писатели: и те, кто наезжал из СССР, и те, кто решил остаться в эмиграции. Впрочем, это неудивительно, ведь и поэт, и Фелисса приехали в Берлин почти нищими: он – в рабочей залатанной куртке, она – в пальто «из одеяла». Об этих днях, кстати, довольно едко пишет Ирина Одоевцева. Поначалу она даже отказалась говорить с Северяниным. Потом он незваным завалился к ней домой, от обиды стал хамить: вошел с папиросой в зубах, потребовал вина, почти силой тянул ее в ресторан, от которого она еле-еле отделалась. А через несколько дней, вспоминала, он пришел вновь, но уже с извинениями, сел на краешек стула, ужасался, что дожил до того, что женщина отказалась принять его: «Подумать страшно, я живу нахлебником у простого эстонца-мыйжника. Только оттого, что женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня и кормит. Ему лестно. А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям – ненюфарам…»
Рассказал, что приехал в Берлин переиздать книги. «Но куда там!.. – махнул рукой. – Объяснили: вы больше никому не нужны и не интересны… Устроить… вечер и то не удалось – Союз писателей отказал наотрез. При встречах притворяются, что не узнают меня. А мерзавец Толстой в ресторане “Медведь”, хлопнув меня по плечу, заголосил, передразнивая меня: “Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!” – расхохотался идиотски во всю глотку и гаркнул на весь ресторан: “Молодец вы, Северянин! Не обманули! Сдержали слово – привели нас, как обещали, в Берлин”…» Впрочем, когда поэт начал читать Одоевцевой стихи, она услышала совершенно нового Северянина. В стихах его была «высокая, подлинная поэзия, – напишет она и признает: прав был Сологуб, прославлявший его, “большого русского поэта”».
Уже купив билеты домой, в Эстонию, Северянин устроит отвальную в одном из ресторанов Берлина. И вот там-то, уже ночью, Фелисса вдруг испугается, что они опоздают на поезд и их эстонские билеты пропадут. Алексей Толстой, Кусиков, все сидевшие за столом этому даже обрадуются, закричат: «Ура – достанем билеты на Москву!..» Все были горой за его возвращение в Россию. Но Фелиссу это «ура» просто подбросит со стула. Она, как угорелая, выскочит из ресторана и кинется вдруг бежать куда глаза глядят. Северянин бросится за ней и догонит ее только на окраине Берлина. Уедут, не вернувшись в ночной ресторан и даже не попрощавшись с друзьями.
Потом Фелисса объяснит: она не хотела ехать в Москву не из-за «коммунизма», нет, боялась, что «русские экспансивные женщины» уведут от нее ее Игоря. А он позже вдруг признается: «Жаль, не нашел тогда в себе силы с нею расстаться: этим шагом обрек себя быть без вины виноватым перед Союзом…» Перед СССР то есть. Признается, когда разведется с «моряной» и сойдется (именно так – иначе не скажешь!) с учительницей Верой Коренди – на самом деле Кореневой – может, самой странной женщиной его. Это, впрочем, отдельная «песнь»[205]. А возвращаясь к Фелиссе, скажу: Северянин о разводе с ней почти сразу пожалеет, будет звать свою «свирель» вернуться к нему. «Я люблю тебя и не хотел от тебя уйти… Спаси меня – говорю тебе тысячный раз!» – писал он ей вплоть до сентября 1941 года, когда до смерти его оставалось два месяца. «Прими меня домой – это твой последний долг перед Искусством и отчасти передо мной…» Но гордая Фелисса, с трудом сводя концы с концами и воспитывая их сына Вакха, этой измены ему так и не простит.
Северянин умрет 20 декабря 1941 года в Таллине, оккупированном к тому времени немцами. Похоронят его на Александро-Невском кладбище, где на могильном камне (вернее, на тонкой мраморной доске, прислоненной к ограде, – именно такой я застал могилу, когда много лет назад навестил ее) было выбито его имя и знаменитое двустишие: «Как хороши, как свежи будут розы, // Моей страной мне брошенные в гроб…»
«Что представляю я из себя в настоящем? – напишет Северянин в одном из своих рассказов. – Человека, не сумевшего вовремя умереть…» Ему надо было умереть в 1918-м, в тот год, когда закончилась его слава в России. Дальше он жил, как в том давнем таинственном сне: аплодисменты ему вроде бы звучали, но кто хлопал ему в пустом и темном мире – теперь было уже и не разобрать…
А ведь тогда, в 1918-м, перед эмиграцией из России, в жизни Северянина произошли два события. Одно – тихое и темное: Северянина запретили печатать на родине. (Блок запишет в те дни: «Издательство в Смольном запретило печатать Северянина. Меня пока не тронули».)
А вот второе событие громкое – громче, кажется, не бывает. Тогда, в феврале 1918-го, его публично, на ристалище Политехнического музея в Москве, избрали «королем поэтов». Последним «королем» русской поэзии, больше их в России не избирали ни разу. И знаете, кого он победил в том «сражении»? Маяковского! «Изысканный грезер» все-таки одолел «площадного горлапана».
Свидетель публичной битвы вспоминал: «Публике раздали бумажки, чтобы после чтения она подавала голоса. Зал был набит до отказа. Поэты проходили тесно, как в трамвае. Северянин приехал к концу, но собрал записок все же больше, чем Маяковский. Третьим был Василий Каменский…» И пусть миртовый венок, который тут же нацепили на шею Северянину, был куплен устроителями поединка в ближайшем похоронном бюро, пусть корона была картонной, но титул «короля» – разве он не был настоящим? Не случайно находчивый и незастенчивый Маяковский даже крикнул с эстрады: «Долой королей – теперь они не в моде!»
Через десять лет в Париже Маяковский признается художнику Анненкову, что… перестал быть поэтом, стал просто «чиновником», – и расплачется. И примерно тогда же Цветаева, тоже в Париже, после двух «поэзо-концертов» нищего Северянина перед Ремизовым, Тэффи, Мережковскими, Оцупом и всей молодой русской эмиграцией напишет ему: «Среди стольких призраков, привидений, вы один жизнь. Вы стали поэтом больших линий и больших вещей!..»
Разве это не победа?!
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек…
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться, жадно дыша?
Дай хоть последней нежностью
выстелить твой уходящий шаг.
Маяковский и Серебряный век – не странно ли? Скорее, он провозвестник, нет, больше – тамбурмажор другого века – железного! И тем не менее родом он все-таки из века Серебряного. А вообще, о нем есть смысл говорить, только решив для себя вопрос: покидает ли творца божественный дар еще до физической смерти его? И если покидает, то мстит ли потом?
…Гроб Маяковского везли в крематорий на грузовике, обитом жестью, под огромным венком, сделанным из каких-то молотков, маховиков, чудовищных болтов и гаек. Идея его знаменитого друга, художника Татлина. «Железному поэту – железный венок!» – написали на ленте. Гениальная, но ведь и зловещая придумка. Мороз по коже! Вообразите, как бездушно громыхал этот катафалк поэта, того, кто пятнадцатилетним подростком получил в полиции кличку Кленовый! Кленовый, конечно, – он ведь был сыном лесничего! Теперь же в последнем венке от Родины не было ни листочка живого. Более того, венок из металлолома словно выставлял напоказ не душу человека – внутренности сломавшейся в одночасье машины. А стихи машины, мертвые, жестяные, давно уже не пели – ухали и громыхали по свету. «Так, приложение к идеологии», – уже сказал о них Есенин. И предупредил: Маяковский «еще ляжет в литературе бревном!..»
Поэт в поэте кончился, на мой взгляд, лет за десять до смерти его. А может, и раньше. Когда на углу Невского и Литейного его окликнула как-то высокая, стройная, с пышной копной золотых волос девушка. Будущая французская писательница Эльза Триоле. Тогда она была Эллой Каган, девятнадцатилетней московской подружкой поэта и младшей сестрой Лили Брик. «Вы здесь?» – удивился поэт и почти сразу «погиб». «Погиб» и для будущей Эльзы Триоле, и для себя самого, и для нас, хотя сам этого не понял и назвал день гибели своей «радостнейшей датой». Был июль 1915 года…
А за три года до этого Маяковский впервые появился в Петербурге. Первую ночь провел на Петроградской стороне (Большой пр., 45) у адвоката Спандикова – надо было уточнить планы приезда. А ранним утром следующего дня разыскал «Гилейский форт Шаброль» – дом №8 по улице Воскова, которая называлась тогда Большой Белозерской[206]. В дом вошел, вспоминал потом Бенедикт Лившиц, странный, экзотического вида господин, не по сезону одетый в черную морскую пелерину с львиной застежкой на груди и широкополую черную шляпу, надвинутую на самые брови. Высокий, темноглазый, он «казался членом сицилианской мафии» или анархистом-бомбометателем. Но стоило, пишет Лившиц, заглянуть в умные, насмешливые глаза его, чтобы увидеть: все это уже поднадоевший ему «театр для себя», которому он слишком хорошо знает цену.
Лившиц прав, Маяковский был тогда представителем не сицилианской, конечно же, но все же своего рода мафии – только что возникшей «мафии» московских кубофутуристов. «Мафии» потому, что по следам любого их дела или выступления катилась баснословная, а главное, скандальная слава. Причем слава, причины и пружины которой были не вполне ясны, а порой и темны для публики. В них тыкали зонтиками, плевались, на их вечерах или выставках устраивали давки и ломали стулья, их полоскали в газетах, и при одном их виде напрягалась полиция. Они же действовали быстро, напористо и даже нагло. Маяковский ведь, приехав в Петербург, пришел в «Соляной городок» (Фонтанка, 10) не сам по себе, он представлял группу художников и поэтов Москвы «Гилея»: братьев Бурлюков, Каменского, Крученых – «речетворцев», уже шокировавших московский бомонд своими сборниками «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Молоко кобылицы». Но кем сам был при этом – художником или поэтом – вот вопрос? Впрочем, ныне известно: в экспозиционный зал так называемого «Соляного городка» он пришел еще художником. Тут, на «Первой выставке картин и этюдов художественно-артистической ассоциации», среди шестисот работ был выставлен и его живописный этюд «Волга». А кроме того, он должен был встретиться здесь с секретарем общества художников «Союз молодежи» И.Школьником и обговорить с ним, как «покруче» теперь шокировать и бомонд первой столицы. Договорился: в Петербурге всего за два месяца «мафия» под его руководством успеет столько наворотить, что небесам станет жарко.
В душе он, конечно же, считал себя уже поэтом. Да, через три года сам Репин, живой классик, признает в нем художника и, увидев свой портрет работы Маяковского, воскликнет: «Какое сходство! И какой – не сердитесь на меня – реализм!» Но в доме на Белозерской, где коммуной жили питерские футуристы, Маяковский, несмотря на этюд и выставки, поселится все-таки как поэт. Формально числился еще студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но именно там уже встретил Давида Бурлюка, тоже наглого, самоуверенного, только с дамской лорнеткой юношу, который, услышав как-то стихи друга, гаркнет ему прямо посреди Сретенского бульвара: «Да вы же ж гениальный поэт!» Маяковский напишет потом: «В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом…»
Где в доме на Белозерской была та комнатка, которую снимали Антон Безваль и брат Давида, Николай Бурлюк, увы, неизвестно. И неизвестно, знали ли они, что к ним явился недоучившийся гимназист, которого «вышибли» из пятого класса, мальчиком снесший берданку отца в «эсдечий комитет», подростком «вступивший в большевики»? Знали ли, что он был трижды арестован, сидел в Бутырке и даже сжевал однажды, вместе с переплетом, блокнот с именами и явками[207]. Известно другое – письмо Бурлюка к Василию Каменскому: «Записались новые борцы – Володя Маяковский и Крученых. Очень надежные. Особливо Маяковский».
Как здесь было тогда, в комнатке-общежитии на Белозерской? Если верить Георгию Иванову, который в те годы также считал себя футуристом, то «мебели не было – сидели на чемоданах, спали на соломе. С утра пили водку – кофе в их коммуне не полагался. Стряхивали папиросный пепел в блюдо с закуской… Крученых, бывший по домашней части, строго следил за этим. Насорят на пол – приборка. А так – закуску съедят, окурки в мусорный ящик, и посуда готова для обеда. Толковали о способах взорвать мир и о делах более мелких. Крученых совещался, что ему читать на предстоящем вечере, а главное – как: просто ли обругать публику или потребовать на эстраду чаю с лимоном, чай выпить, остатки выплеснуть в слушателей, прибавив при этом: “Так я плюю на низкую чернь”». Коммуна была за лимон и за выплеск. Потом шли по делам – занимать деньги, подбирать обложку «под цвет Исаакия», требовать интервью с собой. Давид Бурлюк оставался дома: готовился к лекции о Репине. Надевал куцый сюртук, вращал одним глазом (другой был вставной) и перед зеркалом репетировал: «Репин, Репин, нашли тоже – Репин. А я вам скажу (рычание), что ваш Репин…» – тут он делал привычное движение локтем в защиту «от сырых яиц». Потом, церемонно кланяясь, выходил читать как бы «на бис»: «Как я люблю беременных мужчин, // Когда они у памятника Пушкина…»
А вообще, «мафия» «будетлян» действовала и в самом деле бурно. В считанные дни несколько скандальных вечеров; открытие еще одной выставки в доме на углу Марата и Невского (Невский, 73/2), но уже с Малевичем, Гончаровой, Ларионовым, Татлиным; наконец, публикация манифеста «Пощечина общественному вкусу», коллективно сочиненного в Москве. И, видимо, отсюда, с Белозерской, странная компания «творцов будущего» отправилась как-то в «Художественное бюро» Надежды Добычиной, в известный дом Адамини (Марсово поле, 7)[208], с визитом, после которого наш герой чуть не отдал богу душу.
«Маяковский за столом осыпал колкостями хозяйку, – пишет о визите к Добычиной Бенедикт Лившиц, – издевался над ее мужем, молчаливым человеком, красными от холода руками вызывающе отламывал кекс, а когда Добычина отпустила какое-то замечание по поводу его грязных ногтей, ответил чудовищной дерзостью, за которую, я думал, нас всех попросят». Ничуть не бывало: хозяевам, привыкшим к художническому «зверинцу», импонировал чем-то этот развязный горланящий юноша. Ушли от Добычиной поздно, трамваев уже не было, и в четвертом часу ночи, проголодавшись и продрогнув, встретили на Мытнинской набережной торговца колбасками. Маяковский, бесстрашно погружая руку в уже остывший самовар, пальцами стал вылавливать смертоносные сардельки. «Русское будетлянство, – заканчивает рассказ Лившиц, – родилось под счастливой звездой: и я, и мой сотрапезник, оба отделались только расстройством желудка…»
Наконец, здесь, в Петербурге, в Троицком театре, где ставит ныне свои замечательные спектакли Лев Додин (ул. Рубинштейна, 13), состоялся тогда же диспут «Союза молодежи», на котором Маяковский гремел уже как оратор. Сюда в тот вечер съехался весь город: экипажи, автомобили, очередь тянулась чуть ли не до Невского. Когда двери театра закрыли, толпа прорвалась в фойе. Председателя диспута Матюшина, композитора и художника, специальный наряд городовых предупредил: «Смотрите, в случае чего, вечер будет закрыт». Какое там! Бурлюк, сравнив работы старых мастеров живописи просто с «цветной фотографией», отозвался о Рафаэле и Леонардо как о «пресловутых» (в ответ – свист, крики, топот сотен ног), а Маяковский, вызывающе стоя на сцене, «развенчивал» перед публикой Пушкина и Байрона. Зрители рванулись на сцену, терпеть это было невозможно, драка казалась неминуема, но не растерялся пристав – приказал прекратить «теоретическую дискуссию». Пристав даже не догадывался, что его запрет и был главной целью хулиганов. Ведь газетные заголовки наутро просто кричали: «Нахальство в кубе», «Кубизм и кукишизм», «Вывесочный ренессанс». На Белозерской лишь потирали руки. Впрочем, печатно откликнулся на вечер и авторитетный Бенуа: «Тревога, которую они вносят в нашу эстетическую жизнь, полезна и может куда-то привести…»
Ровно через четыре месяца, 24 марта 1913 года, компания вновь придет в этот театр на свой вечер под названием «Пришедший сам» (многие увидели в этом названии перефразировку книги Мережковского «Грядущий хам») – на этот раз «отрывать головы» самым модным современным литераторам. Оскорбления посыплются чудовищные: Бальмонт – «парфюмерная фабрика», Сологуб – «гробокопатель», Леонид Андреев – «огородное пугало». Но и реакция будет, как принято говорить сегодня, «адекватная». Да и как еще реагировать, если Маяк чуть ли не тогда же выступит и в другом, ныне не существующем, театре, но уже не как оратор, а как поэт – с трагедией, вызывающе названной «Владимир Маяковский». Эпатаж? Дразнилка для публики? Вызов? И то, и другое, и третье! А кроме того – некое мальчишеское хвастовство перед двумя девицами. Писал поэму о себе в Москве, на даче влюбленной в него девушки, а в Петербурге читал уже перед другой, также влюбленной в него. Перед кем? Об этом – в следующей главе повествования…
…Удивительно, кто бы ни вспоминал о Маяковском, обязательно пишет, как он ел. Что-то было в этом, видимо, острохарактерное, западавшее в память. «Ломал кекс» – у Добычиной. «Бросал в рот пирожное, за ним тут же – кусок семги, потом горсть печенья» – у чинного Брюсова в Москве. «Все котлеты сжевал» – у родителей девушки, за которой ухаживал. Наконец, «ел с чужих тарелок прямо руками» – свидетельствует Бунин. Ел, ел, ел… А ведь он был, знаете ли, фактически беззубым. Все зубы у него были гнилые, порченые. Знакомые же нам по фотографиям, вместе с победной улыбкой, ослепительные и крепкие челюсти будут искусственными и появятся у поэта после Октябрьской революции. Жутковатая символика, не правда ли?.. Пришла революция – обнажай крепкие зубы!
Впрочем, кусаться, образно говоря, он научится еще своими зубами. И яростно вырывать деньги под эпатаж, под хулиганство. Эта способность его поразит Лившица, когда Маяковский вновь вернется в дом на Белозерской. «Мы еще нежились в постелях, – вспоминал Лившиц, – когда на пороге показался приехавший Маяковский. Я не сразу узнал его. Гороховое в искру пальто, сверкающий цилиндр…» Маяковский приехал забрать Лившица в Москву на «вечер речетворцев». «Деньги? – изумленно переспросил он. – Деньги есть, мы едем в мягком вагоне, и вообще беспечальная жизнь отныне гарантирована всем футуристам…»
Как в воду глядел. «Футуристы, кроме Хлебникова, не бедствовали», – скажет позже Ахматова. – Особенно Маяковский («этот господин всегда умел устраиваться»)… А уж когда случится революция, то новая власть, которой не нужна была – и даже представлялась опасной! – старая культура, станет платить ему регулярно и помногу[209]. Сестре жены Брюсова, Брониславе Погореловой, Маяковский, встретив ее после революции, скажет: «Вас удивляют мои зубы?
Да, революция тем и хороша: одним она вставляет новые, чудесные зубы, а другим безжалостно вышибает старые!..»
Он писал про флейту, а нутро, душа его просили барабанного ора. Он был слабым человеком, но именно потому хотел казаться сильным. И барабан победил: забил, заглушил, подавил флейту. А придуманный образ «мачо», как сказали бы ныне, закрыл от посторонних глаз и нежную, и на первых порах ранимую, душу. В этом, думаю, трагедия Маяковского. И поэта, и человека.
Трагедия эта будет «аукаться» ему и в отношениях с женщинами. Всегда и со всеми. Слабый, он будет разыгрывать из себя сильного. А флейту любви, образно говоря, даже с ними, женщинами, все чаще будет менять на любовь барабанную – революционную любовь!..
Дольше всех рядом с ним была Лиля Брик. Всегда третьей или всегда – первой. Это как посмотреть. Но знаете ли вы, что, когда она была ребенком и отец ее, богатый юрист Урий Каган, приучая дочь к музыке, покупал ей то скрипку, то мандолину, она, отвергая все, потребовала купить ей барабан. Она тоже любила барабан!
Впрочем, в 1913 году он пока не знаком с ней. Живет в Петербурге на Пушкинской улице, в огромном угловом здании, где тогда была знаменитая гостиница на 175 номеров с пышным парижским названием «Пале-Рояль». Кто только не жил здесь – Чехов, Куприн, Шаляпин. Шаляпин, назвав «Пале-Рояль» «приютом артистической богемы», сказал, что хороша в нем только «отлогая лестница», по которой ему легко было взбираться даже на пятый этаж. Ныне этот дом – сплошная коммунальная квартира. Но и просторный подъезд с лепниной, грубо замазанной синей краской, и действительно отлогая лестница – все сохранилось!
На каком этаже находился номер 126, в котором поселился Маяковский, я, разумеется, не знаю, но, думаю, бегать по этой лестнице поэту было еще легче: ему ведь только-только исполнилось двадцать. Убогие однокомнатные номера были одинаковыми, но в каждом – это подчеркивалось в рекламных проспектах – был альков для спальни. Это было важно, ибо в любой комнате этой вечно нетрезвой гостиницы любви было столько же, сколько клопов. Клопов запомнили и донесли до нас в воспоминаниях почти все постояльцы «Пале-Рояля». Но именно здесь, в этом «клоповнике», перебывали все возлюбленные Маяковского, которых всегда было (одновременно!) не меньше двух. Да-да, это и необычно, это почему-то редко отмечают знатоки жизни Маяковского.
«Ему нужно много мяса, с утра до ночи, круглосуточно, – объяснил недавно причину самоубийства Маяковского поэт Виктор Соснора, подразумевая под “мясом” женское тело. – Он предлагает брак сразу четырем женщинам: Полонской, Хохловой, жене Хосе де Ривера и Яковлевой. Все отказываются. Хуже того, отказываются от брака и женщины на ночь».
Вот так! Какая лестная, казалось бы, для «мачо» версия суицида – самоубийства поэта в тридцать семь лет! Но Соснора долго дружил с пожилой уже Лилей Юрьевной Брик. И… с ее слов рассказывал, как Маяковский уговаривал «женщин на ночь» выйти за него замуж и как получал их отказы. То есть, Лиля Юрьевна, устами Сосноры, как бы передает нам «привет» с того света – убеждает нас и после смерти своей, что к концу жизни поэт никому уже был не нужен. Никому, кроме нее. Удобная версия, не правда ли? Хотя, как мы знаем теперь, именно Лиля стеной вставала между поэтом и его стремлением к семейному очагу… Почему? Да просто выгода – выгода-с!..
Здесь, в «Пале-Рояле», в декабре 1913 года поэт заканчивает трагедию «Владимир Маяковский»[210], сочетая это с драчливыми вечерами футуристов и с репетициями трагедии в театре. «Толкусь!» – коротко напишет отсюда сестре. И сюда же приведет свою любовь – ту, которая сидела в залах, когда он «эпатажно» читал стихи. Я обещал назвать ее имя. Так вот, это Софья Шамардина – Сонка, девятнадцатилетняя «бестужевка», в которую были влюблены Игорь Северянин, поэт Ховин, даже семейный уже тогда Корней Чуковский. В Москве у Маяковского другая любовь – шестнадцатилетняя Верочка Шехтель, дочь знаменитого архитектора. Она, кстати, только что помогла ему выпустить первую литографированную книгу, громко названную «Я», и он, дурея от радости, прыгал вокруг нее на одной ноге и острил: «Входите в книжный: – Дайте стихи Маяковского. – Стихов нет, были, да распроданы»… Это происходило в личном особняке в стиле модерн архитектора Шехтеля на Большой Садовой улице в Москве, на втором этаже дома №4, который и ныне украшает эту улицу. А в Петербурге, повторяю, в «Пале-Рояле» у него уже Сонка.
«Маленький номер с обычной гостиничной обстановкой, – вспоминала она. – Стол, кровать, диван, большое овальное зеркало на стене. Зеркало помню потому, что вижу в нем Маяковского и себя. Подвел меня к нему, обнял за плечи. Стоим и долго смотрим на себя. “Красивые, – говорит. – У нас не похоже на других”…» Не похоже, верно. Возвращаясь откуда-то в санях, он буквально на ее глазах, задрав голову в небо и подбирая слова, сочинил: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают…» Потом, видимо, здесь, в «клоповнике», умолял ее: «Сонка, отдайся!..» Так якобы было написано сначала в поэме «Облако в штанах», где, как говорила позже Лиля Брик, вместо имени Мария должно было стоять Сонка. Это оспаривают[211]. Не оспаривают другого, что Чуковский, услышав в поэме строку–просьбу, сказал Маяковскому, подделываясь под его «хамоватость»: «Что вы! Кто теперь говорит женщине “отдайся”? Просто “дай!”» Так возникло в поэме знаменитое: «Мария, дай!» Грубое, бесстыдное, шокирующее. Но он и хотел быть грубым, и звонким, как барабан. Хотя с Сонкой у него действительно все было не похоже на других.
Познакомил Маяковского и Шамардину Чуковский, по одной версии – в Женском мединституте (ул. Толстого, 6/8), на вечере футуристов. «Высокий, сильный, уверенный… в плечах косая сажень, – вспоминала она о первой встрече с поэтом. – Редкий короткий смешок. Угловатые движения. Любил стихи Ахматовой (“Ахматкина”, – говорил, шутя)». В первый же вечер, провожая Шамардину домой, попытался поцеловать ее в пролетке, но она в ужасе выскочила на ходу. Он догнал ее, извинился и повел в гости к Хлебникову, который до утра станет читать им стихи. С этого дня на всех вечерах он и Сонка стали появляться вместе – их принимали даже за брата и сестру. Но для нее это кончилось опасным, поздним абортом. Из-за нее, уже в 1920-х годах, в Берлине, он так рассорится с Горьким, что крикнет про Буревестника: «Такого писателя в литературе не существует, он мертв!..»
А начиналась их дружба с приглашения на вечер футуристов. Маяковский, Бурлюк и Каменский пришли к Горькому домой (Кронверкский пр., 23) и робко позвонили в квартиру. «Пожалуйста, поэты, прямо к столу», – радушно пригласил их живой классик. Степенно расселись, с притворным ужасом отказались от привычной водки, но кахетинское пили. Жаловались, что старшее поколение поэтов не понимает их, молодых. Когда хозяин сказал, что хотел бы их послушать, первым поднялся Маяковский: «Лев Толстой прав, написав “Не могу молчать”, – я тоже». Горький хмыкнул в ответ: «Ну, хоть Толстого признаете, и то ладно!» Потом, придя на их вечер, Горький негромко, но твердо скажет о футуристах: «В них что-то есть!» – и сравнит их со скрипками, «на которых жизнь еще не сыграла скорбных напевов». А о Маяковском скажет: «Зря разоряется по пустякам!.. Такой талантливый! Надо бы с ним познакомиться поближе».
Познакомится! Так близко, что в ночь большевистского переворота всю ночь просидит в доме Бриков и Маяковского за «теткой» – игрой в карты. А уже через год разнесет по городу слух, что Маяковский заразил Сонку постыдной болезнью.
Считается, что слух этот пустил Корней Чуковский, от которого поэт увел когда-то Сонку. Сохранилось письмо Чуковского к писателю Сергееву-Ценскому: «Водился осенью с футуристами. Теперь же, после того как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку (милую, прелестную, 18-летнюю), и забеременил, и заразил таким страшным триппером, что она теперь в больнице, без копейки, скрываясь от родных, – я потерял к футуристам аппетит…» Горький эту историю раздует, через Виктора Шкловского она дойдет до Лили Брик, и она, прихватив Шкловского, отправится к Горькому – туда же, на Кронверкский.
«Я этого не говорил», – мгновенно отречется Горький. «Тогда я открыла дверь в гостиную, – пишет Лиля, – и позвала: “Витя! Повтори, что ты мне рассказал”». Шкловский, конечно, повторил все. Горького приперли к стенке, но он, сам же учивший недавно Маяковского, что «в драке главное – собрать себя в кулак» и «бить наверняка», не простит этого ни ему, ни Лиле. Даже после смерти поэта в статье о нем намекнет про длительную и неизлечимую болезнь поэта. Два пролетарских классика, оба понимавших толк в «драке» не на жизнь, а на смерть, так и уйдут в вечность – не помирившись…
А Лиля? Спасала ли она таким образом репутацию Маяковского? Или все-таки свою? Не будем торопиться с ответом. Я, во всяком случае, обомлел, когда прочел, как она на старости лет рассказывала, что поэт часто «залетал в сирень». Так называла некие недуги, которые Маяковский время от времени «зарабатывал» от «женщин на ночь». «Сирень» – эвфемизм. Просто однажды, когда Лиля спросила поэта, что он сделал с заразившей его «дамой», тот ответил: «Послал ей букет сирени». Да, Лиля спасала его, когда это было выгодно ей, и беспощадно предала, когда спасать его репутацию уже не было нужды. Впрочем, тот же Шкловский, который хорошо знал ее, однозначно говорил: она ненавидела Маяковского всегда. Не согласуются как-то эти слова с тем, что мы, казалось, знали об этой «великой любви», не правда ли?..
…До знакомства с Лилей, в Куоккале например, под Петербургом, Маяковский был еще поэтом – дерзким, беспечным, лохматым. Здесь, рядом с Финским заливом, жили на дачах друзья его: Каменский, «простой и рыжий, как кирпич», Кульбин, режиссер Евреинов, Чуковский, с которым он еще водил тесное знакомство и в чью жену был влюблен. «Отец вспоминал об этом неохотно, – писал позже сын Чуковского, – мать же многозначительно и с гордостью…» Возможно, дело было серьезней, чем совместное хождение за грибами, чаепития и игры до темноты в крокет, потому что Чуковский выставил однажды поэта из дома просто через окно. Такие вот были «страсти»! Но бедный, в линялом нанковом костюме, Маяковский не унывал: он, как всегда, любил сразу двоих – влюбился в Куоккале еще и в Шуру Богданович, дочь известного издателя. А может, впрочем, не столько в Шуру, сколько в пироги с черникой, которые неповторимо пекла ее мать. Вечно голодный, он придумал здесь свою «семизнаковую систему»: установил очередность семи «кормящих его обедами» домов. «В воскресенье “ем” Чуковского, в понедельник – Евреинова. В четверг хуже – ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень – это не дело»…
Репин, как известно, был вегетарианцем, но раз в неделю поэт все равно приходил к обеду и к нему. И, помните, рисовал Репина, иногда, кстати, обычной спичкой, которую макал в тушь, но так рисовал, что вызывал бурное одобрение живописца. Возможно, хваля Маяковского, старик хитрил. Ибо когда к нему в гости приехал знаменитый психиатр Бехтерев, он попросил того приглядеться к поэту, у которого «что-то такое с головой». На беду, для «установления истины» поэт прочел в этот вечер «Гимн здоровью», где в стихотворных строчках как раз и пообещал нагло «потащить мордами умных психиатров» и бросить их за решетки психушек. Репин оцепенел, а Бехтерев хлопал громче всех и, наклонившись к художнику, поставил диагноз: «Здоров, могуч, и главное – чувствилище у него большое…»
Здесь, в Куоккале, прыгая по береговым камням на границе нынешнего поселка Репино, Маяковский и написал «Облако в штанах» – гениальную поэму, которую первоначально назвал «Тринадцатый апостол»[212]. Известно точное место: бартнеровская стенка на самой кромке залива – обложенный камнями, скрепленными железными прутьями, песчаный откос, предохраняющий берег от размывов. Так вот, удивительно, но эта стенка жива и ныне, и, шагая по этим скользким наклонным камням, легко представить, как, размахивая руками и крича в брызги волн, прыгал тут каждое утро длинноногий поэт, сочиняя свою поэму.
Ровно через тринадцать лет «тринадцатый апостол» Маяковский признается во Франции художнику-эмигранту Анненкову, что он давно уже не поэт, а чиновник. И расплачется. Да, от большого «чувствилища» его останется разве что необычная для такого великана слезливость…
Я люблю смотреть, как умирают дети», – написал однажды Маяковский. И попал, как мне кажется, в дьявольскую ловушку. Ведь как ни ответь на вопрос – искренне это написано или нет? – любой ответ будет, мягко сказать, пугающим. А Маяковский, представьте, однажды ответил. Прямо ответил. Он засмотрелся как-то на играющих детей, а поэт Равич, стоявший рядом, возьми и напомни: «Я люблю смотреть, как умирают дети…» – «Надо знать, – прорычал ему в ответ раздосадованный Маяковский, – почему написано, когда написано, для кого написано…»
Правда, почему и для кого написал эту строку (ее трудно представить, согласитесь, у Пушкина, Тютчева, даже у эпатажных Рембо или Бодлера) – не сказал. И тем самым расставил дьявольскую ловушку, но уже для нас – читателей.
Сначала в эту ловушку, поставленную поэтом, попадали самые чистые. Те же дети. Волосы дыбом встают, но ведь сразу после самоубийства Маяковского тридцать семь мальчиков – по числу прожитых поэтом лет – публично покончили с собой на центральной площади в Тбилиси. Я этому факту не верю, но о нем, тоже со слов Лили Брик, рассказывает Виктор Соснора. Но даже если это легенда, она все равно о многом говорит. Хотя все, думаю, хуже. Дети оказались инфицированы не просто стихом барабанным – всей ложью тех лет, которую и лучше других воспевал, и лучше «строил» как раз Маяковский. Впрочем, к одному ли ему счет?..
Давным-давно, задолго до того как Маяковский поселился в доме №7 по улице Жуковского, две маленькие сестры увидели однажды в театре злую ведьму, которая, заставляя людей подчиняться, поднимала волшебную палочку и начинала считать до трех. При счете «три» ведьма-актриса громко кричала: «Крэке!» – и люди тут же превращались в камни, деревья. Страшная сказка, но – сказка. Увы, одна из сестер, которая была старше, быстро смекнула: а что, это же прекрасный способ управлять сестрой! Не хочется закрывать дверь в спальне, когда обе уже легли, – «Крэке!». Не хочется складывать игрушки – опять-таки «Крэке!». От «желтого дома» (сегодня сказали бы, от психушки) младшую сестру спасла мать девочек, вовремя заметившая тиранию одной дочери над другой. Но, по сути, это ничего не изменило: власть старшей тем не менее сохранилась оглушительная. На всю жизнь власть. Во всяком случае, когда младшая, будущая Эльза Триоле, привела в июле 1915-го в дом на Жуковского своего возлюбленного Маяковского, нежданно-негаданно встретившегося ей на углу Невского и Литейного, старшая лишь строго посмотрела на нее и – легко забрала себе того, кто уже два года обхаживал младшую[213]. «Крэке!» – и никаких хлопот. Впрочем, страшнее другое: эта же власть старшей сестры («Считаю до трех!») станет безграничной и над впечатлительным, оказавшимся слабым перед чужой агрессивной волей поэтом. Вот когда весь его бравый футуризм станет явственно отдавать самоубийственным свинцом.
Я говорю, разумеется, о Лиле Брик, старшей сестре Эльзы Триоле, рыжей «ведьме» (уже не из сказки!), у которой с детства был, простите за цитату, «колоссальный сексапил», зов пола, инстинктивно проявляющийся дар притягивать мужчин. Хотя в этом доме, о котором рассказ, она уже чинно жила с мужем, Осипом Бриком, теоретиком и порохового футуризма, и свободной любви. И «ведьма», кстати, не мое слово – писателя Михаила Пришвина. Это он позже напишет: «Маяковский – это Ставрогин, но Лиля Брик – это ведьма… Ведьмы хороши у Гоголя, но все-таки нет и у него и ни у кого такой отчетливой ведьмы, как Лиля Брик». Еще бы! Десятки разведенных ею мужчин, сотни затянутых ею в постель и миллионы одураченных до сих пор из «широкой общественности». Что хлопотать-доказывать, если она самого Сталина дважды обвела вокруг пальца, о чем я расскажу еще.
Огромные глаза («наглые», по словам Ахматовой), ослепительная улыбка на лице (на «истасканном лице», по словам Ахматовой), огненная прическа («волосы крашеные», по словам Ахматовой, которая видела ее почти в то же время)… Жила Лиля с мужем сначала в двухкомнатной квартире 42, на последнем этаже дворового флигеля, а после 1917 года – в том же доме, но уже в шестикомнатной квартире под номером 35. В квартире бывшего «буржуя» – реквизированной. Не квартира – апартаменты, я побывал там недавно, видел двери с витражами, сохранившиеся до сих пор.
Вообще в Петрограде Лиля и муж ее объявились, когда над юристом-коммерсантом Осипом Бриком реально навис призыв в армию: в столице же Собинов, великий тенор, обещал устроить его в автомобильную роту. Представьте, устроил! Жили сначала на Загородном (Загородный пр., 23), а потом переехали на Жуковского. Ужасно удобно: днем казарма, вечером неслыханный комфорт этого дома – телефон, лифт, ванна, богатые дамы и какие-то банкиры в приятелях. Лиля даже зеркальную стенку «завела» себе здесь для «балета». Занималась танцем под «управлением» балерины Доринской и танцовщицы Катеньки Гельцер, с которой будет дружить всю жизнь.
«Не глупы, немножко слыхали про символизм, про Фрейда, – писал о Бриках тех лет Виктор Шкловский, – едят какие-то груши невероятные, чуть ли не с гербами, чуть ли не с родословными, привязанными к черенкам плодов. Она любит вещи, серьги в виде золотых мух, у нее жемчужный жгут». А на рояле, добавим от себя, стояло игривое напоминание о службе мужа – макет автомобиля из игральных карт величиной с кубический метр. Впрочем, в карты здесь любили и играть: резались на деньги в «железку», «девятку», «тетку». Иногда ссорились. Однажды Лиля ушла из дома и, пьяная, вернулась под утро, вспоминал друг дома литератор Левидов. «Пошла гулять, – рассказывала потом Осе, – ко мне привязался офицер, позвал в ресторан. Отдельный кабинет. Я ему отдалась. Что мне теперь делать?» И Ося, закончил Левидов, невозмутимо посоветовал: «Принять ванну…»
Именно в этой квартире приведенный Эльзой Маяковский – голубая рубашка, воротник расстегнут – вдохновенно начнет читать «Облако в штанах». «Мы подняли головы, – напишет потом Лиля, – и до конца не спускали глаз с невиданного чуда». «Даже если вы больше ничего не напишете, вы уже – гениальный поэт!» – крикнет Маяковскому Брик и, как человек деловой, сразу же даст деньги на издание поэмы. Тогда же поможет выпустить и сборник «Взял. Барабан футуристов» – других музыкальных инструментов у них, видимо, все-таки не было. И тогда же начнет выдавать поэту по 50 копеек за каждую впредь написанную строчку – это тоже правда! Поэт, разумеется, вернет потом эти копейки с лихвой – не только гонорарами («кормильцем семьи» назовет поэта друг детства Бриков, будущий основоположник структурной лингвистики, профессор Гарварда, почетный член многих академий Роман Якобсон), но и громкими знакомствами своими уже здесь, в этой квартире. Горький, Хлебников, Пастернак, Кузмин, Мейерхольд, Татлин – разве все они ходили бы сюда, к одиноким Брикам, «на чай»? Они ходили к Маяковскому. А для Лили с его появлением мгновенно сбудется давняя мечта: поэт тут же посвятит ей «Облако». Алекс Григ, близкая ее подруга (на самом деле ее звали Александра Гринкруг, и она была родней друга Бриков, Льва Гринкруга), скажет потом, что Лиля просто мечтала «войти в историю литературы благодаря любовному союзу и лучше – с большим поэтом». Правда, когда Маяковский переедет на улицу Жуковского, то Брики поселят его в маленькой темной комнате для прислуги. Он и станет у них за прислугу на всю оставшуюся жизнь, да еще, как жаловался Осип, не очень понятливую прислугу. Более того, Лиля всю жизнь и всем говорила, что к появлению Маяковского ее «семейная жизнь» с Бриком как-то «расползлась». Но на старости лет вдруг скажет молодому Андрею Вознесенскому: «“Я любила заниматься любовью с Осей (тут Лиля Юрьевна, как это бывает с дамами, смакуя, употребила запредельный глагол). Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал”. После такого признания, – ужаснулся Вознесенский, – я полгода не мог приходить к ней в дом. Она казалась мне монстром»… Вот так захлопнулась ловушка для поэта. Отныне, с первого вечера здесь, он все написанное будет посвящать только Лиле. «Крэке!» – и очередное стихотворение, «Крэке!» – и новая поэма.
Лиля почти сразу научит поэта «подавать себя», в чем, как вы поняли, она знала толк. Однажды, сидя на подоконнике за шторой, отделявшей их от гостей, он начнет гладить ее ноги, прося о свидании наедине. «Вспомни – за этим окном впервые, ноги твои, исступленный, гладил…» Лиля, представьте, строго скажет ему: «…ноги – это в быту, а тут поэзия, нельзя же подавать себя, как в действительности». И он заменит «ноги» на «руки». А потом, по ее слову, будет менять все. Зубы и привычки, взгляды и мнения, маршруты поездок и направления творчества, друзей (прогонит, например, из квартиры по ее требованию Пастернака) и любимых, которые почудятся опасными для Лили. «Лиличка сказала», «Лиличка посоветовала», «Лиличка приказала»… Про один роман его с девицей она напишет ультимативно: через две недели буду дома «и требую: чтобы все было ликвидировано». И он мигом все ликвидирует. Это при том, что сама в романах и адюльтерах себя не связывала никогда и даже любила повторять, как пишет друг дома Лавинская: «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей…» К поэту это, видимо, не относилось. Однажды она даже проговорится: хочу, скажет, чтобы Володя не просто подчинился моему желанию, а «был бы рад» этому.
Усмирение строптивых… Ведь еще недавно поэт запредельно буянил в «Бродячей собаке»[214]. Мать Лидии Либединской, журналистка Толстая-Вечорка, писала, что когда поэт прокричал здесь стихи: «Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду!» все застыли, кто с рюмкой, кто с цыпленком. Женщины бухались в обморок, мужчины свистели. Поэт же, бледный, стоял и стоял на эстраде. Позже будет добавлять в таких ситуациях: «Желающие получить бесплатно по морде, пожал те в очередь!» В другой раз, поссорившись с поэтом Беленсоном, встретит его на Невском, подзовет к себе и влепит оглушительную пощечину. Тот вызовет поэта на дуэль, но Маяковский скажет, что кодекс чести запрещает ему, дворянину, «драться с кем попало». Наконец, на приеме после выставки картин финских художников, вдвинув свой стул между Буниным и Горьким, станет просто есть с их тарелок. «Я отодвинулся», – пишет Бунин. «Вы меня очень ненавидите?» – весело спросит Маяковский. Потом, когда для тоста поднимется Милюков, тогда министр иностранных дел во Временном правительстве, Маяковский, вскочив на стул, так похабно заорет, что Милюков лишь разведет руками. Встанет французский посол, уверенный, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. «Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. И вдруг, – заканчивает Бунин, – все покрыл трагический вопль какого-то финна, похожего на бритого моржа. Уже хмельной, он, потрясенный излишеством свинства, стал что есть силы и со слезами кричать одно из русских слов, ему известных: “Много! Много! Много!”» Так и осталось недосказанным – много чего? Хотя ясно, заканчивает Бунин, много, конечно, хамства, нахрапа, хвастовства и угрозы…
«По улицам носился, задрав хвост, – с интонацией дрессировщицы напишет про эти годы поэта Лиля, – и лаял зря на кого попало, и страшно вилял хвостом, когда провинился…» Действительно, лаять зря и на кого попало – не дело. Тем более что завтра само государство начнет, как Лиля, «считать до трех» и грозить уже не сказочным – реальным и неотвратимым словом «Крэке!» Впрочем, ему и грозить уже не надо было. Он вместе с Бриками и сам, засучив рукава, без понукания и подсказок, вот-вот начнет одинаково весело строить застенок для старого искусства и фабрику оптимизма – для нового…
«Бей, барабан!.. – напишет тогда в поэме “150 000 000”, – Пропал или пан! Будем бить! Бьем! Били! В барабан! В барабан! В барабан!..»
Бог с ним, с барабаном, любимой игрушкой Маяковского и Лили. Но вот строка «Пропал или пан!» – выскочившая невольно проговорка – думаю, точно выражает рисковое положение, в котором окажется поэт после большевистского переворота. Будет революция, будет СССР – будет и он. Он сам выбрал эту жизнь: от револьвера – до револьвера…
Через год после знакомства с Лилей он впервые попытается застрелиться. Из своей еще комнатки в Петрограде на Надеждинской (ул. Маяковского, 52) Маяковский ранним утром вдруг позвонит ей: «Я стреляюсь, прощай, Лилик». Ее рассказ об этом известен в деталях. «Подожди меня!» – якобы крикнула она поэту, примчалась к нему, убедилась, что была осечка, и увела к себе, где они от волнения стали бешено резаться в гусарский преферанс. Все! Так она рассказывала всем десятилетиями. И вдруг в 1990 году ее друг Соснора публикует совершенно другой рассказ Лили. В нем она – геройская женщина, а поэт – размазня и тряпка. «Где револьвер?!» – якобы крикнула Лиля, ворвавшись в комнату на Надеждинской. «Она была очень правдива: стреляться так стреляться. Лиля взвела курок, приставила к виску (верите ли, своему! – В.Н.) и выстрелила. Осечка (как и у поэта)». Вот тогда она и взбесилась: «Вы лгун, негодяй, провокатор, скотина! – закричала Маяковскому. – Я вас изобью вашим дулом! Трус!» Потом якобы он отдал ей ее патрон с осечкой и показал свой, тоже с осечкой…
Вы поверили в эту историю? Я – нет! При жизни Маяковского Лиля рассказывала иначе. Иначе говорила и при жизни Брика (он умрет в 1945 году, упадет на лестнице их московского дома). Иначе говорила даже при жизни младшей сестры своей, Эльзы. Может, потому, что эти трое слишком знати ее? Но меня потрясло даже не это – слова Сосноры о ней: «Она была очень правдива». Она, научившая поэта лгать во всем: в словах, чувствах, стихах? Она, на лжи сделавшая его одиноким, и вдруг – правдива?!
Правдива, думаю, она бывала только в одном месте. Там невозможно было солгать – шкурой ответишь. Где, спросите? Там, где браво работали могильщики не только Маяковского – всех поэтов Серебряного века!
Но это последняя история. Ее я и расскажу у последнего дома поэта.
Не смогу сказать, где именно начинался Серебряный век, – такого одного дома из десятков, о которых я рассказал в этой книге, наверное, и нет. Но зато точно знаю, где время этого века скоропостижно оборвалось. В доме Адамини на Марсовом поле – в «Привале комедиантов», кабаре поэтов, которое закрылось в апреле 1919-го.
Как это было? Может, так, как пишет Георгий Иванов: «Холодно. Нет ни заказных столиков, ни сигар… Электричество не горит – оплывают свечи. С улицы слышны выстрелы. Вдруг топот за стеной, стук прикладов. Десяток красноармейцев, под командой увешанной оружием женщины, вваливается в “венецианскую залу”. – Ваши документы! – Уходят, ворча: доберемся до вас. И снова – свечи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье»… А может, все оборвалось раньше, когда за одним столом здесь, в «Привале комедиантов», сиживали, случалось, и палачи, и их будущие жертвы: Колчак и Савинков, Троцкий и Луначарский. Да, сидели, так говорят. И не ирония ли судьбы, что хозяевам волшебного подвальчика – поэтам, актерам, музыкантам – комедиантам игры, страсти, таланта, вдруг померещилось, что их и впрямь ожидает «привал». То есть отдых после дороги и перед будущей дорогой? Какой там привал-перевал? Вал, а лучше сказать – ров, где и покончили с их искусством. И благополучно перескочить этот ров удалось лишь тем, кто готов был стать именно палачом. Остальных – неповторимых, тонких, блистательных – ждали пуля, эмиграция, лагеря. В лучшем случае – глухое забвение на десятки лет.
Бывал ли здесь Маяковский, чей портрет один и висит ныне в восстановленном, нет, лучше сказать, возобновленном (не восстанавливается тонкая материя!) сегодня «Привале комедиантов»? Бывал – тому есть подтверждения в многочисленных воспоминаниях.
«Посыльный из “Привала”, – пишет в дневнике Кузмин о 39-м вечере поэтов, который состоялся здесь 20 февраля 1919 года. – Поехали Брики, Беленсоны, Оленька Судейкина. Читали мрачно. Потом вылез Маяковский, и все поэты попрятались в щели…» Вот как! А ведь стихи в тот вечер – это известно – читали, между прочим, Блок, Георгий Иванов, Оцуп, Радлова. «Маяковский с большим апломбом, – пишет Кузмин, – бранил поэтов, противополагая им себя». Потом читал стихи, от которых и впрямь хочется спрятаться, чтобы не видеть и не слышать: «А мы не Корнеля с каким-то Расином, // Отца, – предложи на старье меняться, // Мы и его обольем керосином, // И в улицы пустим для иллюминаций…»
Сильно сказано! Отец здесь, конечно, условный (помните его принцип: надо знать, когда и для кого написано). А вот «старье», сидящее в зале, было реальным. Но он знал – эти обречены. Знал это и Осип Брик (он через год станет работать в ЧК), знала и Лиля, сидевшая здесь (она чекистскую «корочку», удостоверение за номером 15073, получит через три года)[215].
Опять ирония судьбы, но именно здесь, в «Привале», Лиля как-то забыла свою сумочку. Маяковский вернулся за ней. Видевшая это Лариса Рейснер скажет ему в ту же секунду не без яда: «Теперь вы будете таскать эту сумочку всю жизнь». – «Я эту сумочку, – рявкнет он ей, – могу в зубах носить. В любви обиды нет». Но штука не в этом. Как гоголевская Тройка-Русь везла бричку, а в бричке, оказывается, сидел Чичиков, так в сумочке, которую «носил в зубах» первый поэт страны, рядом с дамским вальтером, с которым Лиля не расставалась, лежало, оказывается, и удостоверение сотрудницы политической полиции, приставленной для слежки и к нему. Удостоверение ЧК было выдано Лиле в 1922-м, но о слежке поэт догадался позже, когда в Америке у него родилась дочь от двадцатилетней Элли Джонс, и он, попросив ее писать ему на адрес сестры, назвав Лилю «злым гением» своей жизни, скажет вдруг, что Лиля, похоже, «о каждом его шаге сообщает в НКВД»… Что-то этот факт не поминают и сегодня те, кто выпускает восторженные книги о Лиле Брик и кто снимает о ней и ее «великой любви» бесчисленные фильмы! Да, поэта до самой смерти вели, о чем я еще расскажу, но чтобы этим занималась женщина, которую он любил, кого называл Музой, – это не укладывается в голове. Какая там Беатриче, Лаура, с которыми умильно сравнивали Лилю ее окружение и досужие «маяковеды»! Секретный сотрудник (на советском жаргоне – сексот), у которой постель – «ответственная работа» по ведомству литературы и искусства…
Новое искусство поэт «делал» в «Окнах РОСТА» (снова, кстати, служба, защитившая его от мобилизации, но уже в Красную армию!), где, изгоняя душу из поэзии, воспевая торжествующее насилие и предугадывая желания властей, Маяковский, мне кажется, и умер как поэт. За десять лет до самоубийства… Стратегия пути к тогдашнему Олимпу, в том числе и поэтическому, была проста: оговорить, ошельмовать, свергнуть, а самому – взгромоздиться. И вырвать зубами покровительство власти.
Работали вновь, как в молодости: быстро, слаженно, нагло. Когда еще в 1918-м критик Левинсон честно «пискнул» в газете о «громких и полых, как барабан, стихах» Маяковского, за которыми «зияет душевная пустота», то поэт не спорить кинулся в печати – потребовал от наркома просвещения употребить власть и оборвать критика. Чтоб лично Луначарский, не меньше… Подсобил и Осип Брик. С группой товарищей в другой газете назвал статью Левинсона «саботажем», за который и к стенке ставили тогда. Но я не стал бы поминать это (таких примеров, что называется, пруд пруди), если бы после смерти Маяковского тот же Левинсон, к тому времени уже эмигрант, не написал вновь о поэте нелестно, но уже в парижской газете. Думаете, там, за границей, где свобода слова, это, наконец, сошло ему с рук? Как бы не так! Его одернул, и крепко, французский поэт-коммунист Луи Арагон: не позволю, дескать, «оскорблять поэзию»! Тот Арагон, который в поэме «Красный форт» не только воспел расстрелы и террор, но призвал ГПУ явиться и в Париж с карающим мечом. Теперь же защищал от Левинсона не просто поэта Маяковского, нет – родню. Арагон к тому времени фактически был уже мужем сестры Лили Брик – Эльзы Триоле. Так что «длинные руки» Бриков, этого интернационального «семейного предприятия», не миф, далеко не миф…
Внелитературные средства борьбы в литературе родились после Октября. Инструментом борьбы стало ГПУ, главным вожаком борьбы – Маяковский.
Пишут, например, и довольно часто, что он был брезглив. Носил с собой стаканчик для питья, обтирал руки одеколоном после рукопожатий, даже за перила, поднимаясь по лестнице, держался через полу пальто. Но, увы, в главном своем деле – литературе – мало чем брезговал. Теперь, приезжая в Питер, он останавливался только в «Европейской», и всегда в 25-м номере. Здесь заготовил фразу, с которой прогремит в 1926-м: «Мы случайно дали возможность Булгакову пискнуть – и пискнул». Речь шла о Михаиле Булгакове и его бессмертной пьесе «Дни Турбиных». Здесь назовет Ахматову и Мандельштама «внутренними эмигрантами». Натуральный донос! Потом по отмашке власти возглавит травлю Пильняка и Замятина – первую всесоюзную кампанию такого рода. Да, Серебряный век был отстрелян, под прицел ставилась теперь вся неподдельная литература. И неудивительно, что в «салоне» Бриков, в доме поэта все теснее стали топтаться чекисты: Горб, Горожанин, Эльберт, супруги Воловичи и главный спец по культуре – Яков Агранов, Янечка, «милый и застенчивый». У «милого Янечки» были неприятные руки, пишет Галина Катанян, «покрытые каким-то пухом, и короткие тупые пальцы». Знала бы, что эти руки были по локоть в крови. Этот «эпилептик с бабьим лицом», как скажет о нем Роман Гуль, стал «палачом русской интеллигенции». Жданов, растерзавший в 1946-м Ахматову и Зощенко, дитя рядом с ним. В 1919-м Агранов арестовывает и ведет «дело» дочери Льва Толстого (приговор: три года концлагеря). В 1921-м руководит следствием по «Таганцевскому делу» (расстрелян Гумилев и еще шестьдесят шесть человек). Он занимается «делами» патриарха Тихона, ученых Кондратьева и Чаянова, поэта Ганина, которого без шума расстреляют в 1925-м. А вообще, его имя и имена чекистов, «гонявших чаи» у Бриков, мелькают в «делах» Мандельштама, Клюева, Бабеля, Лившица, Васильева, Пильняка, Мейерхольда, Заболоцкого. Я называю лишь процессы, касающиеся литературы, хотя Агранов вел все сколь-нибудь значительные «дела» – от Кронштадтского мятежа до «Ленинградского центра». Недаром «милый и застенчивый Янечка» довольно быстро стал начальником секретнополитического отдела ГПУ, а затем и замом самого наркома Ягоды. И он же, первый надсмотрщик над литературой, основатель и глава Литконтроля, самой жестокой за всю историю человечества цензуры, он – это кажется непредставимым – стал близким другом первого поэта. А еще, как утверждают ныне, любовником Лили, той, кого Маяковский упрямо звал женой. Защитники ее опровергают это, но сама она на вопрос литературоведа Дувакина об этой «молве» промолчала. «Если бы молва была молвой, – пишет журналист Ваксберг, – Лиля решительно заявила бы, что речь идет о сплетнях». Она никогда не скрывала своих «любовей», но про Агранова молчала… Молчала, но и не опровергала[216].
Итак, подобьем итог: хитроумный теоретик революционного искусства Осип Брик; «чемпионка среди ведьм», по выражению поэта Вознесенского, Лиля Брик; «шурующий» за границей коммунист Арагон; мастер как одиночных «экзотических» убийств, так и вселенских политических шабашей Агранов и первый поэт революции Маяковский – все они одна семья. Кто мог устоять против такого «семейного предприятия»? Но именно этот союз могильщиков литературы стал, не мог не стать ловушкой для всех пятерых.
Для поэта он кончился пулей. Цветаева еще в 1927-м в письме Пастернаку назовет его «падшим Ангелом» и для себя в своих тетрадях запишет: «Маяковский ведь бессловесное животное, в чистом виде СКОТ… Было – и отняли (боги). И теперь жует травку (любую)». А Бунин после смерти поэта скажет: «Думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевистских лет как самый низкий, циничный и вредный слуга советского людоедства, по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь… И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваления ее, за всяческую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов». Сам Маяковский, летящий к стремительному концу своему, кажется, только начинал ощущать это. А вот другие самоубийство его предчувствовали заранее. Вновь ирония судьбы, но именно из «Европейской», за год до самоубийства поэта (!), вышел с компанией писателей Зощенко и, говоря о Маяковском, вдруг сложил молча два пальца у виска, показав, что именно так поэт и застрелится[217]. Ошибся в малом – поэт стрелял себе в сердце…
Лиля в старости напишет сестре: «История дала нам по поэту». Дала?! История ничего им не давала. Они сами выцарапали и крепенько держали и Маяковского, и Арагона в своих ручонках. Это даже скучно доказывать. Но даже если бы и дала, что они сделали с ними? Маяковский, запутавшись во лжи, застрелился. Арагон, изменив интересам своего народа, признался перед смертью: «Моя жизнь – страшная игра, в которой я проиграл. Я испортил ее с начала до конца». Повинится перед смертью и Эльза Триоле: «Муж у меня коммунист, коммунист по моей вине; я орудие в руках советских правителей, а еще я люблю драгоценности, люблю выходить в свет, в общем, я дрянь…» Но главная виновница и перед смертью не раскается. Правда, завещает распылить свой прах над полем – не оставлять могилы. Кстати, в 1968 году не случайно в письме к Эльзе обмолвится: «Жить здорово надоело, но боюсь, как бы после смерти не было еще страшнее».
Что ж, заканчивая книгу о поэтах, признавшись в любви к Блоку, Гумилеву, Мандельштаму, Есенину, ко всем остальным, чей гений загубила тупая власть, признаюсь и в другом: да, я ненавижу прямых и косвенных убийц их! А эта «компания», с Лилей и Аграновым, именно командой убийц Серебряного века и была… И этот факт не опровергнуть уже ничем…
Друг Маяковского и Бриков Бурлюк сказал: «Любовь и дружба – слова. Отношения крепки, если людям выгодно друг к другу хорошо относиться». Так Лиля к поэту и относилась. В письмах она «милого волосика» (так называла Маяковского) целовала и тысячу раз, и миллион – в зависимости от того, что просила (духи, пижамку или автомобиль из Парижа), а на деле презирала. «Разве можно, – говорила, – сравнивать его с Осей? Осин ум оценят будущие поколения». А Володя? «Какая разница между ним и извозчиком? Один управляет лошадью, другой – рифмой». Это ее слова! Дословно! Но поэт нужен был ей ради сытого благополучия, проще – из-за денег[218].
Деньги, выгода-с, вот и вся любовь! В предсмертном своем письме поэт подчеркнул: «Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская» и попросил устроить им «сносную жизнь». И что же? Сначала Лиля участливо посоветует юной Полонской, растерявшейся после самоубийства поэта, не ходить на похороны его: «Не отравляйте… последние минуты прощания с Володей его родным», а потом, ссылаясь на этот факт, на отказ присутствовать на похоронах, порекомендует Веронике не претендовать и на наследство. Все, как видите, просто, и все – подло!
«В середине июня 1930 года меня пригласили в Кремль, – вспоминала Полонская. – Принял человек по фамилии Шибайло. Сказал: “Вот Владимир Владимирович включил вас в свое письмо и сделал наследницей. Как вы к этому относитесь?”» Полонская, по сути девочка еще, вновь растерялась. «Я попросила его помочь мне, – пишет она, – так как сама не могу ничего решить. Трудно очень… “А хотите путевку куда-нибудь?” – ответил он. Вот и все», – заканчивает она эпизод своих воспоминаний.
Нет, не все, далеко не все. Наивная Полонская, возможно, так и не узнала, что через месяц вышло два постановления Совмина РСФСР: открытое и закрытое. В открытом наследниками признавались Лиля, мать и две сестры поэта. Каждой полагалась четвертая часть пенсии в размере 300 рублей. А вот доли в авторском праве были определены другим, секретным постановлением, и оно закрепляло за Лилей уже половину прав, а за тремя остальными, подчеркну, прямыми наследниками поэта, вторую половину. Каково?! Совет министров принял! Это решение в кругу Бриков отмечали широко. На фотографии торжества сияют все: и Лиля, и Агранов с женой, и чекист Лев Эльберт, и Михаил Кольцов, тоже, как пишут ныне, чекист[219]. «Все глядятся как одна семья, в дом которой пришла нечаянная радость, – пишет Аркадий Ваксберг. – Чем счастливее лица, запечатленные фотокамерой, тем тягостнее разглядывать сегодня этот кошмарный снимок»… Впрочем, и это оказалось еще не все. Совет министров «семейным предприятием» был подмят, впереди был только Сталин…
Через шесть лет, в 1936-м, Лиля опять будет жить в Ленинграде (ул. Рылеева, 11), где сестры вновь свидятся. Здесь, в доме на Рылеева, на втором этаже, жил Виталий Примаков, заместитель командующего Ленинградским округом, – новый муж Лили. Лето, белые ночи, цветы, светская жизнь. Эльза с Арагоном, вызванные из Парижа Кольцовым. Подскочит из Москвы и Ося. Лиля – вновь важная дама. Нет, не потому, что она жена высокопоставленного военного. И не потому, что только ей (факт, не имеющий объяснения и сегодня!) позволили выехать с Примаковым в качестве «жены», которой, кстати, она не была, в составе делегации высшего военного командования в Берлин. Настоящим женам даже командующих округами не позволили, а ей, псевдожене всего лишь командира 13-го стрелкового корпуса, разрешили. Нет, теперь она вновь важная дама по другому, гораздо более весомому поводу. Потому, что только что обвела вокруг пальца самого Сталина. В Кремле на квартире Агранова (по другой версии – на даче еще одного друга-чекиста, некоего Герсона, в Серебряном Бору) она только что составила письмо к вождю о пренебрежении к наследию «ее» поэта – Маяковского. Агранов получил хрестоматийную резолюцию у вождя: «Маяковский был и остается лучшим…» И Лиля в мгновение ока стала неофициальной вдовой поэта, редактором, составителем и комментатором всех его будущих книг и собраний сочинений. Надо же было получать свою половину гонораров от хлынувших, как по мановению волшебной палочки, изданий поэта. «Крэке, крэке, крэке!..» «И без всякой любовной мороки, – иронизирует историк Безелянский. – Одни дивиденды». Впрочем, она обведет вождя еще раз…
Просто когда-то, еще в 1918-м, Маяковский в самый разгар их романа перехватил письмо любовника Лили Яши Израилевича, известного «прожигателя жизни» и литературного прихлебателя. Ревнивец Маяковский отыщет Яшу, и они прямо на улице так сцепятся, что оба с синяками окажутся в милиции. А через восемнадцать лет, когда в 1936-м арестуют Примакова (кстати, его дело вел в НКВД ближайший друг и Лили, и Примакова – все тот же Агранов), возьмут и Яшу. Знаете, за что арестуют? «За знакомство с женой Примакова». Но, постойте, это же с Лилей – за то давнее знакомство восемнадцать лет назад! Чисто мела ЧК! Только вот саму Лилю, «жену Примакова», почему-то не тронули. За давнее знакомство с ней брали, а саму не тронули… Оказывается, Сталин, листая списки на арест по делу «заговора» военных, сам вычеркнул Лилю: «Не будем трогать жену Маяковского». А ведь она не была женой поэта, она была «дрессировщицей» (по словам Андрея Вознесенского – «с хлыстом»), и дрессировщицей, несомненно, талантливой. И рискну предположить, главный «дрессировщик» страны – Иосиф Сталин! – именно за это и ценил ее. Впрочем, мы узнаем правду, пусть только откроют архивы. Узнаем и то, как иезуитски обвела Лиля главного иезуита страны, и то, за что все-таки получила баснословную награду – жизнь!
А пока – пока опубликованы донесения лишь самых мелких из агентов, следивших за поэтом. В одном из них некто Михайловский сообщает, что поэт на последнем вечере сказал: «Трудно жить и творить поэту в наши “безнадежные дни”».
А в другом некто по кличке Арбузов докладывал: «В Маяковском произошел перелом, он не верит в то, что пишет, и ненавидит, что пишет».
И дата: 14 апреля 1930 года.
В этот день поэт и выстрелил себе в сердце.
Агеева Л. Неразгаданная Черубина. М., 2006.
Агеева Л. Петербург меня победил… СПб., 2003.
Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб., 1993.
Азадовский К. Жизнь Николая Клюева. СПб., 2002.
Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1-2. М., 1980.
Анна Ахматова в записях Дувакина. М., 1998.
Анненков Ю. Дневник моих встреч. М., 2001.
Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1998-2002.
Барон и Муза: Николай Врангель, Паллада Богданова-Бельская. СПб., 2001.
Бахрах А. Бунин в халате. М., 2000.
Бахтин М. Беседы с В.Д.Дувакиным. М., 2002.
Бекетова М. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990.
Белкина М. Скрещение судеб. М., 1999.
Белый А., Блок А. Переписка 1903-1919. М., 2001.
Белый Андрей о Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. М., 1997.
Белякаева-Казанская Л. Эхо серебряного века. СПб., 1998.
Бениславская Г. Дневник. Воспоминания. Письма к Есенину. СПб., 2003.
Берберова Н. Курсив мой. М., 1996.
Бережков В. Питерские прокураторы. СПб., 1998.
Бобышев Д. Я здесь (Человекотекст). М., 2003.
Богомолов Н. Михаил Кузмин: Статьи и материалы. М., 1995.
Богомолов Н., Малмстад Д. Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. СПб., 2007. Богомолов Н. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999.
Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов (1917-1956). М., 2005. Борисов Л. За круглым столом прошлого: воспоминания. Л., 1972.
Брик Л. Из воспоминаний. С Маяковским. М., 1934.
Брик Л. Пристрастные рассказы. М., 2003.
Брик Л., Триоле Э. Неизданная переписка. М., 2000.
Бронгулеев В. Посредине странствия земного: Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. М., 1995.
Бунатян Г., Чарная М. Литературные места Петербурга: Путеводитель. СПб., 2005.
Бунин И. Воспоминания. М., 2003.
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста: Письма. Стихотворения. СПб., 1994.
«В том, что умираю, не вините никого»?.. Следственное дело В.В.Маяковского: Документы. Воспоминания современников. М., 2005.
Ваксберг А. Гибель Буревестника. М.Горький: Последние двадцать лет. М., 1999.
Ваксберг А. Лиля Брик. Жизнь и судьба. М.; Смоленск, 1998.
Варламов А. Алексей Толстой. М., 2006. (ЖЗЛ).
Вейс З., Гречнев В. С Маяковским по Санкт-Петербургу. СПб., 1993.
Вечорка (Толстая) Т. Портреты без ретуши. М., 2007.
Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике: 1917-1953 гг. М., 1999.
Волконский С. Родина: Воспоминания. М., 2002.
Волошин М. Жизнь – бесконечное познанье… М., 1995.
Волошин М. История моей души. М., 1999.
Волошина М. Зеленая Змея: История одной жизни. М., 1993.
Волошина М. О Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма. М., 2003.
Вольпин Н. Блудный сын. 1923-1925: Воспоминания о С.Есенине // Минувшее: Исторический альманах. 12. М.; СПб., 1993.
Воспоминания о Добужинском. СПб., 1997.
Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992.
Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993.
Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995.
Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.
Встречи с прошлым: Сборник материалов ЦГАЛИ. Вып. 1-4. М., 1970-1982.
Высотская О. Мои воспоминания // Театр. 1994. №1.
Высотский О. Николай Гумилев глазами сына. М., 2004.
Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК – ГПУ 1921-1923 гг. М., 2005.
Вячеслав Иванов: Архивные материалы и исследования. М., 1999.
Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998.
Герцык Е. Воспоминания. М., 1996.
Гильдебрандт-Арбенина О. Девочка, катящая серсо… М., 2007.
Гинзбург Л.Я. Записные книжки. М., 1999.
Гиппиус З. Воспоминания. М., 2001.
Гиппиус З. Дневники. Т. 1-2. М., 1999.
Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб., 1998.
Голованов Я. Заметки вашего современника. Т. 1-3. М., 2001.
Гречишкин С., Лавров А. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004.
Грибанов Б. Женщины, любившие Есенина. М., 2002.
Громова Н. Все в чужое глядят окно. М., 2002.
ГульР. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1-3. М., 2001.
Гуро Е. Из записных книжек (1908-1913). СПб., 1998.
Гусляров Е., Карпухин О. Есенин в жизни. Т. 1-2. Калининград, 2000.
Давидсон А. Николай Гумилев: Поэт, путешественник, воин. Смоленск, 2001.
Данько Е. Воспоминания о Федоре Сологубе // Лица: Библиографический альманах. 1. М.; СПб., 1992.
Две любви, две судьбы: Воспоминания о Блоке и Белом. М., 2000.
Добужинский М. Воспоминания. М., 1987.
Дурылин С. В своем кругу. М., 2006.
Есенин глазами женщин: Антология. СПб., 2006.
Есенина Т. О В.Э.Мейерхольде и З.Н.Райх: Письма К.Л.Рудницкому. М., 2003.
Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990.
Желвакова И. От девичьего поля до Елисейских полей. М., 2005.
Зайцев Б. Мои современники: Воспоминания, портреты. М., 1999.
Занковская Л. Новый Есенин: Жизнь и творчество поэта без купюр и идеологии. М., 1997.
Зинаида Гиппиус: Новые материалы. Исследования. М., 2002.
Злобин В. Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания. М., 2004.
Золотоносов М. Братья Мережковские: Книга 1. Orinepenis Серебряного века. М., 2003.
Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994.
Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
Иванов-Разумник Р. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000.
Ивнев Р. Богема. М., 2005.
Кантор К. Тринадцатый апостол. М., 2008.
Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского (филологический роман). Эссе. М., 2000.
Карохин Л. Вольф Эрлих – друг и ученик С.Есенина. СПб., 2007.
Карохин Л. С.Есении и А.Ахматова. СПб., 2001.
Катанян В. Лоскутное одеяло. М., 2001.
Катанян В. Распечатанная бутылка. Н.Новгород, 1999.
Катанян В. Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины. М., 1998.
Книпович Е. Об Александре Блоке: Воспоминания. Дневники. Комментарии. М., 1987.
Коваленко С. «Звездная дань»: Женщины в судьбе Маяковского. М., 2006.
Коган Д. Сергей Юрьевич Судейкин. М., 1974.
Колоницкая А. Все чисто для чистого взора: Беседы с И.Одоевцевой. М., 2001.
Кралин М. Артур и Анна: Роман в письмах. Л., 1990.
Кралин М. Победившее смерть слово. Томск, 2000.
Крандиевская-Толстая Н. Воспоминания. Л., 1977.
Крейд В. Георгий Иванов. М., 2007. (ЖЗЛ).
КрученыхА. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М., 2006.
Кудрова И. Путь комет. Т. 1-3. СПб., 2007.
Кузин Б. Воспоминания. Переписка с Н.Мандельштам. СПб., 1999.
Кузмин М. Дневник 1921 // Минувшее: Исторический альманах. 12. М.; СПб., 1993.
Кузмин М. Дневник 1934. СПб., 1998.
Кузмин М. Дневник 1905-1907. СПб., 2000.
Кузмин М. Дневник 1908-1915. СПб., 2005.
Кузнецов В. Тайна гибели Есенина. М., 1998.
Лавров А. Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995.
Лавров А. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007.
Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., 1969.
Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде: О.Ваксель. СПб., 2002.
Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама: Документальное повествование. СПб., 2003. Летопись жизни и творчества С.А.Есенина. Т. 1, 2, 3-1. М., 2003.
Либединская Л. «Зеленая лампа» и многое другое. М., 2000.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989.
Литературная жизнь России 1920-х годов. Т. 1. Ч. 1-2. Москва и Петроград. 1917-1922 гг. М., 2005.
Литературное наследство. А.Блок: Новые материалы и исследования. Т. 92, кн. 3. М., 1982.
Литературное наследство. А.Блок: Новые материалы и исследования.Т. 92, кн. 4. М., 1987.
Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890-1917 годов: Словарь. М., 2004.
Лосев А. Владимир Соловьев и его время. М., 2000.
Лукницкая В. Любовник. Рыцарь. Летописец. Три сенсации из Серебряного века. СПб., 2005.
Лукницкая В. Николай Гумилев: Жизнь поэта. Л., 1990.
Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой. М.; Париж, 1997.
Маковский С. Портреты современников. М., 2000.
Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999.
Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990.
Мандельштам Н. Третья книга. М., 2006.
Мандельштам Н. Об Ахматовой. М., 2007.
Мандельштам О. Воронежские тетради: Стихи. Воспоминания. Письма. Документы. Воронеж, 1999.
Мандельштам О. Шум времени. М., 2002.
Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича,Грузинова. М., 1990.
Мец А. Осип Мандельштам и его время: Анализ текстов. СПб., 2005.
Миклашевская Л., Катерли Н. Чему свидетели мы были: Женские судьбы. XX век. СПб., 2007.
Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования 1911-1998. М., 2000.
Митурич П. Записки сурового реалиста эпохи авангарда: Дневники, письма, воспоминания, статьи. М., 1997.
Мок-Бикер Э. Коломбина десятых годов: Книга об Ольге Глебовой-Судейкиной. Париж; СПб., 1993.
Мочалова О. Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004.
Н.Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994.
Н.Гумилев, А.Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П.Лукницкого. СПб., 2005.
Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989.
Наппельбаум И. Угол отражения. СПб., 1999.
Неизданный Федор Сологуб. М., 1997.
Николаев П. Брюсовский переулок: люди и судьбы. М., 2007.
Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990.
Николай Клюев: Исследования и материалы. М., 1997.
Николюкин А. Голгофа Василия Розанова. М., 1998.
Никулин Л. Годы нашей жизни. М., 1966.
Новое о Замятине: Сборник материалов. М., 1997.
Обер Р., Гфеллер У. Беседы с Д.В.Ивановым. СПб., 1999.
Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989.
Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989.
Озеров Л. Дверь в мастерскую. Париж; М.; Нью-Йорк, 1996.
Орлов Вл. Поэт и город. Л., 1980.
Осип Мандельштам и его время: Сборник воспоминаний. М., 1995.
Осоргин М. Времена. Екатеринбург, 1992.
Оцуп Н. Николай Гумилев: Жизнь и творчество. СПб., 1995.
Оцуп Н. Океан времени: Статьи и воспоминания. СПб., 1994.
Павлова М. Писатель-инспектор. Федор Сологуб… М., 2007.
Пайман А. История русского символизма. М., 1998.
Панфилов А. Непридуманный Есенин. М., 1997.
Пастернак Е. Борис Пастернак: Материалы для биографии. М., 1989.
ПерцовП. Литературные воспоминания. М., 2002.
Петелин В. Жизнь Алексея Толстого. М., 2001.
Петербург Ахматовой: В.Г.Гаршин. СПб., 2002.
Петербург Ахматовой: Семейные хроники: З.Б.Томашевская рассказывает. СПб., 2000. Петербургский диагноз: Седьмые Ахматовские чтения. СПб., 2002.
Петербургский текст. Вып. 2. Из истории русской литературы XX века. СПб., 2003. Петров М. Донжуанский список Игоря Северянина. Таллинн, 2002.
ПетровскаяН. Воспоминания // Минувшее: Исторический альманах. 8. М., 1992.
Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма. М., 2002.
Пинаев С. Максимилиан Волошин, или Себя забывший Бог. М., 2005. (ЖЗЛ).
Полушин В. В лабиринтах Серебряного века. Кишинев, 1991.
Полушин В. Гумилевы. 1720-2000. Семейная хроника: Летопись жизни и творчества Н.С.Гумилева. М., 2004.
Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. СПб.; Париж, 1993.
Попова Н., Рубинчик О. Анна Ахматова и Фонтанный дом. СПб., 2000.
Пржиборовская Г. Лариса Рейснер. М., 2008. (ЖЗЛ).
Пришвин М. Дневники. 1914-1917. СПб., 2007.
Пунин Н. Мир светел любовью: Дневники. Письма. М., 2000.
Пяст Вл. Встречи. М., 1997.
Раков Ю. Петербург – город литературных героев. СПб., 1997.
Рейн Е. Заметки марафонца. Неканонические мемуары. Екатеринбург, 2003.
Ремизов А. Дневник 1917-1921 // Минувшее: Исторический альманах. 16. М.; СПб., 1994.
Ремизов А. Петербургский буерак. М., 2003.
Рождественский В. Страницы жизни: из литературных воспоминаний. М., 1974.
Русское зарубежье о Есенине: Воспоминания. Т. 1-2. М., 1993.
С.А.Есенин: Материалы к биографии. М., 1992.
Санжарь Н. Письма к Блоку // Лица: Библиографический альманах. 7. М.; СПб., 1996.
Сарнов Б. Владимир Маяковский. М., 1998.
Сарнов Б. Заложник вечности. Случай Мандельштама. М., 2005.
Свирская М. Из воспоминаний // Минувшее: Исторический альманах. 7. М., 1992.
Северянин И. Царственный паяц: Автобиографические материалы. Письма. Критика. СПб., 2005.
«Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома: Материалы. Исследования.Публикации. СПб., 1998.
Серебряный век: Мемуары. М., 1990.
Серпинская Н. Флирт с жизнью. М., 2003.
Скорятин В. Тайна гибели Маяковского. М., 1998.
Сосинский В. Рассказы и публицистика. М., 2002.
Старкина С. Велимир Хлебников. Король времени: Биография. СПб., 2005.
Степун Ф. Портреты. СПб., 1999.
Стогов Э. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М., 2003.
Судейкина В. Дневник. Петроград, Крым, Тифлис. М., 2006.
Тагер Е. О Мандельштаме // Звезда. 1991. №1.
Тименчик Р. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Торонто, 2005.
ТиминаС. Культурный Петербург: Диск. 1920-е годы. СПб., 2001.
Толстой И. Мои воспоминания. М., 2000.
Томпсон П. Маяковский на Манхэттене. М., 2003.
Тыркова-Вильямс А. То, чего больше не будет: Воспоминания. М., 1998.
Тэффи Н. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания. М., 1991.
Фарджен А. Приключения русского художника: Биография Бориса Анрепа. СПб., 2003.
Федин К. Горький среди нас: Картины литературной жизни. М., 1977.
Федоров А. Иннокентий Анненский: Личность и творчество. Л., 1984.
Фидлер Ф. Из мира литераторов. М., 2008.
Фрезинский Б. Судьбы серапионов: (Портреты и сюжеты). СПб., 2003.
Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие: Дневники, воспоминания, письма А.Ахматовой. М., 1991.
Хлебников В. Проза. Статьи. Декларации. Заметки. Автобиографические материалы. Письма. СПб., 2001.
Ходасевич Вал. Портреты словами. М., 1991.
Ходасевич Вл. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1997.
Цветаева А. Воспоминания. М., 1971.
Цветаева М. Неизданное: Записные книжки. Т. 1-2. М., 2000.
Цветаева М. Неизданное: Сводные тетради. М., 1997.
Цветаева М. Неизданное: Семья. История в письмах. М., 1999.
Цензура в России в конце XIX – начале XX века: Сборник воспоминаний. СПб., 2003.
Чегодаева М. Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых. Вера и Петр. М., 2004.
Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М., 2008.
Черубина де Габриак. Исповедь. М., 1998.
Чулков Г. Годы странствий. М., 1999.
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1-3. М., 1997.
Чуковский К. Дневник 1901-1929. М., 1997.
Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989.
Шенталинский В. Донос на Сократа. М., 2001.
Шенталинский В. Преступление без наказания: Документальные повести. М., 2007.
Шенталинский В. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М., 1995.
Шервинский С. Стихотворения. Воспоминания. Томск, 1997.
Шилейко В. Последняя любовь: Переписка с А.Ахматовой и В.Андреевой. М., 2003.
Шкловский В. Гамбургский счет. Третья фабрика. Жили-были. СПб., 2000.
Шнейдер И. Встречи с Есениным. М., 1966.
Шульц С. мл. «Бродячая собака». СПб., 1997.
Шульц С. мл. Невская перспектива. СПб., 2004.
Энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб.; М., 2006.
«Я всем прощение дарую…» Ахматовский сборник. М.; СПб., 2006.
Янгфельдт Б. Любовь это сердце всего: В.В.Маяковский и Л.Ю.Брик. Переписка 1915-1930. М., 1991.
В.Черных настаивает, что это была всего лишь служебная квартира отца Анны Ахматовой, Андрея Антоновича Горенко, в прошлом капитана 2-го ранга, старшего штурмана, а в 1891-м, в год жизни здесь, чиновника для особых поручений Государственного контроля и коллежского асессора. Вполне возможно, хоть и не ясно, что понимать под словом «служебная»: ему дали ее от службы для проживания в ней, дали исключительно для служебных встреч или он сам снял ее, чтобы быть поближе к работе? Почему же не предположить, что семья его бывала здесь, когда приезжала в Петербург? Или даже останавливалась по этому адресу на день-другой? Подтверждений, конечно, этому нет. Это мое предположение. В Петербурге семья могла останавливаться и у сестры отца, у Анны Антоновны Горенко (8-я Рождественская, ныне 8-я Советская ул., 28).
(обратно)Сведения об Аспазии Горенко и Николае Желвакове я почерпнул из прекрасной книги Ирэны Желваковой «От девичьего поля до Елисейских полей», изданной в 2005 г.
(обратно)См.: Черных В. А. Родословная Анны Андреевны Ахматовой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1992. - М., 1993. - С. 80. Впрочем, иные ахматоведы коленопреклоненно готовы «оправдать» или «не заметить» и не такие факты в жизни Ахматовой. Хотя она, как мне кажется, давно не нуждается в чьих-либо оправданиях или слепом поклонении. Была такая, какая была. И это, во-первых, уже непоправимо, а во-вторых, нисколько не умаляет ее как поэта.
(обратно)«Скажу только, - напишет о них, например, поэт Д.Бобышев, один из четверки молодых учеников пожилой Ахматовой, - что в “тихом омуте” у нее давно уже водились черти... Несомненно, у нее был роман с Амедео... Было от чего ее мужу (Гумилеву. - В.Н.) сбежать в Африку и разряжать ружья в невинных носорогов! Было от чего лишать девственности своих учениц в сугробах Летнего сада... Скандал - мировой... и притом - какой дерзкий! Что по сравнению с ним последующие выходки имажинистов или футуристов... Детский лепет». Кстати, Бобышев пишет, что ныне почти доказано: Ахматова там же, в Париже, позировала и, представьте, опять обнаженной, другу Модильяни, скульптору Жаку Липшицу. Он, доказывают, изобразил «тихоню» Ахматову девушкой-рыбачкой...
(обратно)Алексей Толстой, кстати, хорошо знавший А.Ахматову и Н.Гумилева (он был даже на их свадьбе), описал обоих в так и не опубликованных ранних пьесах, рассказе «В степи», фрагменте «Обезьянка» из подготовительного материала к «Егору Абозову». Ахматова в них «честолюбивая, холодная, бессердечная и бисексуальная “роковая женщина”». Об этом можно узнать в статье Е.Д.Толстой «Литературный Петербург в ранней пьесе Алексея Толстого». В пьесе Толстого Ахматова - «фатальная женщина, которая холодна, как лед», но при этом соблазняет людей, «чтобы воспользоваться ими для литературного и социального успеха». Ее мечта - слава, пусть дурная, лишь бы стать «над другими, пусть на час». Примерно о том же были высказаны недавно и мнения литературоведов А.Жолковского, О.Лекманова, и автора книги о Толстом А.Варламова.
(обратно)Та же Н.Мандельштам, кстати, напишет: «В ней было больше самопоглощенности и несравненно меньше самоотдачи... Взять хотя бы ее отношение к зеркалам. Когда она смотрелась в зеркало, у нее как-то по-особенному складывались губы. Это она сказала: “Над столькими безднами пела и в стольких жила зеркалах”. Она именно жила в зеркалах, а не смотрелась в них». Вообще об отношениях Ахматовой с зеркалами можно написать восхитительную повесть или на худой конец кандидатскую. Кажется, первым на зеркала обратил внимание Ахматовой литературовед Р.Тименчик. Помните, Кардовская, художница, подсмотрела, как Ахматова ловила в зеркале свой же влюбленный взгляд? Поэт Пяст отмечал, что блестящие выступления Ахматовой на публике были следствием не импровизации, как у других, а итогом серьезной работы. «Она подолгу готовилась, даже перед большим зеркалом, к каждому своему “выступлению”, - пишет он. - Всякая интонация была продумана, проверена, учтена...» А многолетний друг Мандельштамов Борис Кузин, не принимавший стихов Ахматовой, говорил, что «решительно каждое ее стихотворение как бы произносится перед зеркалом. “Вот я грущу. Красиво грущу?” “Вот я села. Красиво села?..”» И добавлял: «Забота о своем портрете не может быть основой творчества великого художника...».
(обратно)С Лозинским Ахматова познакомилась в 1911 г. на третьем заседании «Цеха поэтов», которое состоялось в доме Софьи Борисовны Пиленко, урожденной Делоне (Манежный пер., 12). На доме сейчас висит мемориальная доска, но не потому, что там бывали Ахматова или Гумилев, а потому, что здесь жила дочь Пиленко, - Елизавета Кузьмина-Караваева, поэтесса, чья первая книга стихов «Скифские черепки» вышла в один год с первой книгой Ахматовой, участница французского Сопротивления, но, главное, та знаменитая Мать Мария, которая, спасая людей, попадет в лагерь Равенсбрюк и, уже в 1945-м, при отборе трудоспособных заключенных незаметно поменяется с незнакомой молодой девушкой, попавшей в группу смертников, и вместо нее - шагнет в газовую камеру... Ей было 53 года. Об этом пишет В.Кострова, актриса, которая не только хорошо знала Мать Марию до войны, но и встречалась с бывшим ее мужем, Д.А.Скопцовым, в 1951 г.
(обратно)После Второго съезда писателей, который, как известно, состоялся в 1954 г., Ахматова пометила в «Записной книжке»: «Городецкий хуже, чем мертв». Михаил Ардов, сын Ардовых, у которых часто жила в Москве Ахматова, вспоминал потом ее рассказ, как во время обеда на съезде к ее столику подошел С.Городецкий. «Поздоровался и сказал: “Я хочу представить вам своего зятя”... Отошел к другому столику, потом вернулся и говорит: “Мой зять отказывается. Он сказал: «Я не хочу знакомиться с антисоветской поэтессой»”. Я безмятежно улыбнулась и говорю: “Не расстраивайтесь, Сергей Митрофанович. Зятья - они все такие”».
(обратно)В отчете об этом вечере газета «День» от 1 апреля 1915 г. написала: «Много аплодировали Ахматовой»... Лишь позже мы узнаем: на этом вечере впервые появился никому не известный еще Есенин. Нет, он не выступал, он только что приехал в столицу за славой. «Я, - напишет потом В.Чернявский, друг Есенина, - увидел подымающегося по лестнице мальчика, одетого в темно-серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко остриженными волосами, прядью завивавшимися на лбу. Его спутник (кажется, Городецкий) остановился около нашей группы и сказал... что это деревенский поэт из рязанских краев... Мальчик, протягивая нам по очереди руку, назвал каждому из нас свою фамилию: Есенин...».
(обратно)Что касается отношений Ахматовой и художника Сергея Судейкина, то это и нынче тайна, окутанная туманом догадок и предположений. Известно, что Ахматова посвятила ему по меньшей мере четыре стихотворения, в том числе «Безвольно пощады просят глаза...» Что была какая-то ночь в 1910-м, когда после вечера в Доме интермедий на Галерной улице (где она восхищалась оформленным Судейкиным спектаклем) они вроде бы переправлялись на лодке или каком-то суденышке через бурную Неву. Что Ахматова в ту ночь оказалась у него в мастерской. Мастерская находилась тогда на Васильевском острове (3-я линия, 20). Было - не было? Отгадка, впрочем, в стихах Ахматовой: «Сердце бьется ровно, мерно. // Что мне долгие года! // Ведь под аркой на Галерной // Наши тени навсегда». И может быть - в характере Судейкина. Он ведь в молодости был «донжуан №1». Так с чьих-то слов пишет О.Арбенина: «Порченный был перепорченный! донжуан №1». Да и вторая жена его, Вера Судейкина-Стравинская, запишет в дневнике слова его: в молодости «дня не проводил, не употребив две-три женщины».
(обратно)По семейному преданию, в 1710 г., во время Северной войны, капитан шведской армии Фредерик Вильгельм 1 фон Анреп попал в плен, был доставлен в Москву и с тех пор остался в России. Говорят даже, что какая-то внебрачная дочь Екатерины Великой была выдана замуж за одного из Анрепов, и, следовательно, наш герой оказался в родне с царской фамилией. Отец Бориса, Василий Анреп, беспутно проведя молодость (скачки, карты, вино, женщины), окончил университет в Гейдельберге и стал профессором Военно-медицинской академии в Петербурге. Первым применил кокаин для местной анестезии, основал первый Женский медицинский институт, а позже - и Институт экспериментальной медицины. Избирался депутатом III Государственной думы, служил Главным врачебным инспектором России, стал тайным советником, а во время войны 1914 г. - консультантом при Верховном главнокомандующем, то есть при Николае II.
(обратно)В откровенной биографической книге о нем Аннабел Фарджен (ох уж эти смелые европейские биографии!) пишет, что в семь лет Борис, читая книгу об индейском племени, впервые испытал эротическое чувство. Годовалого брата его, Глеба, кормилица в это время как раз держала у груди, и Борис, увидев обнаженное тело, бросился, как вспоминал, на молодую женщину и на манер индейцев стал целовать ее. «Женщина развеселилась и, - как пишет Фарджен, - не стала отказывать себе в этом маленьком удовольствии». Потом в Основе, ярославском имении отца, он и братья его не давали прохода местным молодкам, а те, в свою очередь, даже почетным считали переспать с кем-нибудь из них. Позже, решив, что светский человек просто обязан иметь роман с балериной, Борис влюбился в танцовщицу кордебалета Мари- инки Целину Спрышинскую, писал ей стихи, встречал ее после спектаклей в отцовском экипаже, сделал даже предложение, которое было немедленно принято, но вовремя одумался (Спрышинская выйдет впоследствии замуж за Кшесинского, брата знаменитой Матильды). А в другой раз, потеряв голову от красавицы-гувернантки, он кинется за ней на край света, в Мексику, но, кроме желтухи, приковавшей его на несколько месяцев к постели, ничего из путешествия не вынесет. Словом, сердечная жизнь Анрепа была сложной и разнообразной не только до встречи с Ахматовой - даже до первой женитьбы его.
(обратно)Воевал Анреп в 7-м кавалерийском корпусе в Галиции, служил в штабе, ходил в разведку, стал офицером связи между корпусами и на «великолепном коне» носился под пулями вдоль окопов. Храбр был от природы - пять боевых наград. «Ужасы войны, - напишет о нем Олдос Хаксли, - его только развлекали». Сам Анреп о боях скажет странную фразу: война - «всего лишь балет, люди бегут, падают, всего лишь балет...».
(обратно)Курсивом я выделил слова, которые в семисотстраничном сборнике «Воспоминания об Анне Ахматовой» (М.: Советский писатель, 1991) оказались кем-то и почему-то изъятыми. Цензуры в тот год, сколько помню, уже не было, да и не цензурное это - «нравственное» сокращение. Кто-то заботился то ли о нашей морали, то ли - страшно подумать! - о морали Ахматовой. Словно ощущаешь чье-то тайное «превосходство» - нам, ахматоведам, можно знать все, а вам, читатель, только то, что мы позволим. Примерно так же сотрудники КГБ, как рассказывал мой приятель литературовед Шенталинский, уничтожив в начале перестройки девятисотстраничное «Наблюдательное дело» об Ахматовой, сказали ему, оправдываясь: «Ну, нельзя же порочить Анну Андреевну». Как будто они, возмущался Шенталинский, могут ее опорочить...
(обратно)Флигель (огромное само по себе здание) был когда-то служебным помещением дворца. После Февральской революции здесь располагался аппарат уполномоченного Наркомпроса, потом Академия материальной культуры, а после того как Ахматова съехала отсюда, уже в 1930-х, здесь (вот насмешка судьбы!) открылся Рабочий литературный институт. Сам же Мраморный дворец был построен Екатериной II для своего фаворита Григория Орлова. Позже Павел I поселит в нем свергнутого к тому времени польского короля Станислава Понятовского. А в конце XIX в. в Мраморном дворце будет жить внук Николая I, великий князь Константин Константинович, известный и ныне поэт, подписывавший стихи инициалами «К.Р.».
(обратно)Кстати, В.Шилейко был на два года младше Ахматовой. Он родился 2 февраля 1891 г. По некоторым сведениям, родился в Петергофе и там же учился в гимназии. Дело в том, что в Петергофе служил уездным исправником его отец - Казимир Донатович Шилейко. Тоже, кажется, не простой человек: он, например, сначала окончил пехотное училище, а через тридцать лет, в 1911 г., неожиданно для всех поступил вдруг в Археологический институт.
(обратно)О Григории Герасимовиче Фейгине известно, к сожалению, немного. В 1915-1916 гг. он не был уже актером - служил секретарем в журнале В.Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам». Кстати, и экспериментальная студия Мейерхольда, где он актерствовал, и, видимо, редакция журнала с 1913 по 1918 г. располагались в Доме инженеров путей сообщения (Бородинская, 6), где, кажется, бывала и Ахматова. В советский период в этом доме находился железнодорожный техникум, а когда-то великий режиссер ставил в нем «Незнакомку» и «Балаганчик» А.Блока и приглашал сюда читать стихи молодого В.Маяковского.
(обратно)Г.Иванов писал мемуары в эмиграции, когда был недосягаем для тех, кого упоминал. А.Ахматова его «писания» возмущенно назовет «выдумками», О.Мандельштам, шутя, - «страшными пашквилями». Но сын Шилейко от последней его жены Веры Андреевой, Алексей, впоследствии профессор, доктор технических наук, назвав все это «беллетристикой», осторожно подчеркнул: «Крупицы действительных фактов... утопают в выдумке».
(обратно)Поэтесса Мария Петровых, хорошо знавшая Ахматову, говорила потом, что Анна Андреевна и в сорок лет «не помнила», где надо ставить одно и где два «н»: «Порядок с эн и с пунктуацией в ее поэзии наводили Лидия Корнеевна (Чуковская. - В.Н.), Ника Глен и я...».
(обратно)Дом назван по имени архитектора Доменико Адамини, построившего его в 1827 г. В XX в. здесь жили писатель Леонид Андреев (3-й этаж, шесть окон на Мойку, остальные на Марсово поле), критик А.Волынский, поэты В.Хлебников и В.Каменский, режиссер Н.Евреинов, художник С.Судейкин с Ольгой Судейкиной, а потом и с новой женой, Верой де Боссе (по первому мужу - Шиллинг). Жил здесь и Борис Пронин, «доктор эстетики» (устроитель сначала «Бродячей собаки», а потом и кафе «Привал комедиантов», которое открылось в апреле 1916 г. в подвале этого же дома).
(обратно)Она была в «Привале» на спектакле Театра марионеток в апреле 1916 г. Потом, в том же 1916-м, читала тут стихи. Здесь столкнулась с юной поэтессой Ларисой Рейснер, у которой был в то время роман с Н.Гумилевым, из-за чего Рейснер вдруг очень смутилась. Наконец, здесь встретил ее перед отъездом в эмиграцию поэт Георгий Адамович. Пишет, что видел именно в «Привале», что наговорил ей кучу комплиментов и что она «ласково улыбнулась, протянула... руку и, наклоняясь, будто поверяя что-то такое, что надо бы скрыть от других, вполголоса сказала: “Стара собака становится...” Эту “собаку”, я запомнил... точно... Это были последние слова, которые я слышал от Ахматовой в России».
(обратно)Судейкина была старше Ахматовой на четыре года. Родилась в Петербурге, дед был крепостным крестьянином Ярославской губернии, отец служил в Горном институте. Кстати, звала себя «неблагородной девицей», ибо, как и Ахматова, училась в Смольном институте благородных девиц, но на отделении, специально открытом для учениц из мещанской среды. В семнадцать лет поступила в Императорское театральное училище. С 1905 г. - в труппе Александринского театра, с 1906 г. - в драмтеатре В.Комиссаржевской. Здесь встречает С.Судейкина, художника. Влюбляется в него так, что, провожая его в Москву, «забыв» о спектакле вечером, вскакивает в его отходящий поезд. Когда вернулась в Петербург, Комиссаржевская уволила ее. После этого она окажется в Малом театре А.Суворина, где с 1909 по 1913 г. сыграет с десяток ролей. Став в 1907 г. женой С.Судейкина, она уже через год услышит: он не любит ее и обманывает ее «даже с девушками легкого поведения». Но разъедутся они к 1915 г. «Со слов Ю.Юркуна и М.Долинова... у четы Судейкиных были дикие скандалы, - пишет О. Арбенина. - Будто бы... Судейкин из ревности обмотал вокруг руки длинную косу Ольги и вышвырнул ее за порог на улицу. Будто бы в другой раз Ольга (из ревности) вскочила на подножку извозчика и зонтиком набила Сергея и его даму!..». Впрочем, О.Судейкина станет великолепным художником и скульптором, ее куклы и статуэтки хранятся ныне в музеях России, Франции, Бельгии. В 1924 г. она эмигрировала. А в январе 1945 г. в парижской больнице умерла от чахотки. Художник Н.Милиотти, бывший когда-то свидетелем на ее свадьбе с С.Судейкиным и видевший ее после смерти, напишет: «Не могу отделаться от ужаса воспоминаний того крохотного, точно из темного воска личика с какими-то растрепанными, мертвыми, как у плохой куклы, волосами...». Когда-то, еще до отъезда в эмиграцию, Судейкина сказала вдруг Ахматовой: «Вот увидишь, Аня, когда я умру, от силы четырнадцать человек пойдут за гробом...» Это невероятно, но на кладбище проводить ее придут как раз четырнадцать друзей ее. А в расходах на памятник примут участие С.Судейкин и А.Лурье - два бывших мужа ее, два эмигранта.
(обратно)Эти слова о желании смерти она будет произносить и позже. Н.Мандельштам вспоминала, как Ахматова однажды сказала об этом литературоведу и общему другу их Н.Харджиеву. «А ему, - пишет Н.Мандельштам, - надоело это слушать, и он вдруг как-то сказал: “Бросьте, Анна Андреевна, вы очень любите жизнь, вот поверьте мне, вы до старости доживете и всегда будете прыгать...”» Она вдруг замолчала, пишет Мандельштам, и очень внимательно на него посмотрела. «Ведь мы же знали, - заканчивает Н.Мандельштам, - ее неслыханную, необъяснимую, неистовую жажду жизни... Она впивалась в жизнь, она когтила жизнь, каждый глоток воздуха был для нее не просто вдохом, а каплей жизни, впитанной... и истраченной с диким вожделением...».
(обратно)Павел Николаевич Лукницкий (1900-1973), ставший «Эккерманом» Ахматовой, родился в дворянской и состоятельной семье. Отец - военный инженер, генерал-майор, доктор технических наук, строитель Волховской ГЭС, мать - художница, увлеченная техникой (в молодости даже летала на самолете с Уточкиным и была одной из первых женщин-автомобилисток). Сына отдали в Пажеский корпус, он вместе с матерью успеет побывать в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Греции. В феврале 1917 г., оставит учебу, прибавит себе два года и станет рабочим - сначала на строительстве железнодорожного моста, а в шестнадцать лет - помощником машиниста паровоза. Потом работал продавцом газет, слесарем, грузчиком, кочегаром, строил железные дороги в Средней Азии. В Ташкенте, в университете, познакомится с Б.Лавреневым, а в 1922 г. переведется в Петроградский университет. Именно тогда «заболеет» Н.Гумилевым, о котором соберет редкий по богатству архив, названный им «Труды и дни». В 1929 г. был на три дня арестован ОГПУ (о чем я еще расскажу). Пишут, что тогда и стал секретным сотрудником органов. Возможно, это слухи. Но, во-первых, ему в 1930-х было почему-то поручено руководить укреплением пограничных районов. Во-вторых, на него как на «секретного сотрудника» намекнет генерал КГБ О.Калугин, который читал «дело» Ахматовой, уничтоженное в начале 1990-х гг. А в-третьих, об этом говорил сын А.Ахматовой, Л.Гумилев, который прямо называл П.Лукницкого «майором КГБ при моей матушке»... П. Лукницкий, порвав с Ахматовой, станет членом КПСС, членом Союза писателей (издаст более тридцати книг) и действительным членом Географического общества СССР. Добьется известности как путешественник и альпинист (его именем назван пик на Памире, а другую вершину он уже сам назовет «Ак-Мо» - так зашифрует имя Ахматовой в годы забвения ее при жизни). Во время войны уйдет добровольцем на фронт. А в 1948 г. встретит в поезде девушку по имени Вера, которой начнет читать стихи Н.Гумилева. В поезде они и поженятся. «Прямо в вагоне дальнего следования, - напишет она, - пригласил пассажиров на вагонную нашу “свадьбу”». Ему было 46, ей - 21 год.
(обратно)«Я рад, - напишет в письме к Ахматовой, - неделе общения... после стольких лет разнобережной жизни... Между мною и Вами появилась тектоническая трещина внутреннего... несогласия в отношении... к окружающей нас “современности”. Мне показалось, что Вы не поймете того, что... открывалось все шире мне, не переступите через трагизм и боль нанесенных Вам этим новым миром обид... Но... Вы нашли в себе мужество, волю и разум подчинить личное общему...» Такое вот письмо.
(обратно)Н.Пунин, оказавшись в Японии, написал оттуда Ахматовой: «Когда я немного познакомился с японским языком, мне твое имя “Акума” стало казаться странным... Я спросил одного японца, не значит ли что-нибудь слово “Акума”, он, весело улыбаясь, сказал: это значит “злой демон”, “дьяволица”... Так окрестил тебя В.К. (Шилейко. - В.Н.) в отместку за твои речи...».
(обратно)Вера Андреева (1888-1974) была на три года старше В.Шилейко. Окончив Московские высшие женские курсы, работала в Румянцевской галерее, а затем до 1949 г. - в Государственном музее истории искусств. Доцент Московского городского педагогического института. Написала докторскую диссертацию о влиянии древнекитайской живописи на живопись Раннего Ренессанса, но защитить ее из-за резко ухудшихся отношений между СССР и Китаем ей не позволили. Вышла замуж за В.Шилейко в 36 лет, когда он окончательно перебрался в Москву. В письмах Шилейко звал ее «графинюшкой», «птицей», «кенгурочкой», а когда она, будучи беременной, видимо, высказала некие ревнивые чувства по отношению к Ахматовой, написал ей: «Если ты полагаешь, что я вообще никогда больше не должен видеть Ахматовой, - напиши мне, мы об этом поговорим»... Правда, ревновал и саму Андрееву. Ей, не юной уже даме, писал: «Последний раз тебя прошу, Веруся: не показывайся никуда в коротких и открытых платьях. Это - крайняя моя просьба...».
(обратно)Правда, Ахматова после развода на какое-то время окажется вообще без фамилии. История изложена в письме П.Лукницкого к В.Шилейко от 4 января 1927 г. Написав ему, что он все перепутал с милицией и народными судами, что в Ленинграде не нашли их с Ахматовой брачного свидетельства, протокола суда и соответствующих записей в книге регистрации браков, Лукницкий сообщает Шилейко «страшный» факт. «1) А.А(хматова). не может пользоваться фамилией, ей не принадлежащей, - управдом отказывается прописать ее под фамилией Шилейко; 2) до внесения исправлений в трудкнижку А.А. не может пользоваться и фамилией “Ахматова", и управдом также отказывается прописать А.А. под этой фамилией; 3) в данный момент А.А. официально не имеет фамилии вообще, т.к. фамилия “Шилейко” от нее по суду отторгнута, а право ее на фамилию “Ахматова” не подтверждено никакими документами...» Следовательно, заканчивает П.Лукницкий, «исправления в трудкнижку А.А. могут быть внесены только тем Моск. Отд. ЗАГСа, которое внесло аналогичные исправления (отметка о разводе) в Вашу трудкнижку... А.А., не желая действовать... без Вашего ведома, обращается к Вам за содействием в разрешении этого вопроса...». Вот так. По моим подсчетам, она жила «без фамилии» - виртуально, как сказали бы ныне, - более полугода: от заочного развода в июне 1926 г. до января 1927 г. Именно тогда скажет: «У меня даже фамилии нет - этого уж, кажется, и у тягчайших преступников не отнимают...».
(обратно)Легенд, которыми А.Ахматова «украшала» потом свою жизнь, как я уже говорил, - множество. Скажем, вспоминая о безумной ревности Шилейко, Ахматова позже, в Ташкенте, в эвакуации, сказала Т.Луговской, сестре поэта, что «ревнив» был и сенбернар Тап, который во всем копировал любимого хозяина. «Шилейко умер, прошло время траура, - пересказывала Луговская ее рассказ, - днем у Ахматовой собрались гости на чашку кофе. Как только сели за стол, на кресло Шилейко вспрыгнула собака. Шла общая беседа, но стоило только Анне Андреевне оживиться и вступить в разговор, как собака Шилейко, рыча, ударила лапой об стол, приподнялась и строго посмотрела на свою хозяйку. Анна Андреевна говорила, что ей стало очень страшно и что она этого взгляда никогда не забудет...» Еще одна легенда?
(обратно)До Волконских, насколько удалось выяснить, в этом доме жил М.Сперанский - тот, кого декабристы хотели привлечь в свое будущее правительство. Позже домом владели разные именитые люди: Сумароков (внучатый племянник драматурга), Мордвинова, жена великого медика Боткина, и, наконец, с 1894 г. - Волконские, потомки декабриста-каторжника. До этого семья Волконских жила на Васильевском острове (4-я линия, 17), в прелестном особняке с верандой. Там у отца С.Волконского, крупного чиновника при царском правительстве, бывали Ф.Тютчев, Н.Некрасов, И.Гончаров, А.Майков, Я.Полонский.
(обратно)«Историю» с Зиновием Гржебиным в какой-то мере проясняет дневник К.Чуковского. 30 марта 1920 г. он записывает: «На днях Гржебин звонил Блоку: “Я купил Ахматову”. Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же - к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей...». Не думаю, что все было так просто, хотя разбираться в чужих издательских договорах, да еще век спустя, - дело безнадежное. Но ныне называют другую сумму - 40 000 рублей, пишут, что З.Гржебин обязался издать ее книги в течение двух лет, но не издал, что не только не хотел передавать права другому издательству, но решил увезти договоры на ее книги за границу - в эмиграцию. Тогда Ахматова, говорят, попросила помочь ей своего друга, пушкиниста Щеголева, который, сказав Гржебину некое «рыбье слово» (так написано!), и вырвал у того договоры буквально в последний момент...
(обратно)Жерар де Нерваль (1808-1855), автор автобиографической новеллы «Аврелия, или Мечта и жизнь», полной трагического безотчетного движения чувств, написанной за год до смерти, не только, утверждают, сошел с ума, но, по слухам, в душевном расстройстве покончил собой.
(обратно)Георгий Судейкин (1850-1883), отец художника, жандармский офицер, инспектор секретной полиции (должность, созданная в 1882 г. специально для него), был убит на квартире народовольца, ставшего провокатором, С.Дегаева (Гончарная, 12). Г.Судейкин был причастен к разгрому «Народной воли». Приговор революционеров был, как пишут, приведен в исполнение Н.Стародворским и В.Конашевичем. Публицист В.Буренин в 1917 г. рассказывал К.Чуковскому, что видел полковника Судейкина за неделю до его убийства. «Я был тогда редактором какого-то журнальца, выходившего при “Новом времени”. И вот меня пригласили в Охранку... Вышел ко мне ну совсем Иисус Христос. Такая же прическа, как у тициановского Христа... Такая же борода. Только глаза нехороши: сыщицкие... А через неделю Дегаев заманул Судейкина в конспиративную квартиру и укокошил... Я рассказывал сыну Судейкина всю эту историю...» А.Тыркова-Вильямс сообщает в мемуарах, что муж ее сестры Ю.Антоновский был даже ненадолго арестован в связи с убийством Г.Судейкина. «Революционеры, - пишет А.Тыркова-Вильямс, - под угрозой смерти приказали Дегаеву вызвать Судейкина на конспиративную квартиру и убить его. Судейкин отчаянно сопротивлялся. Убийцы - их было несколько - гонялись за ним по квартире и наконец, если память мне не изменяет, прикончили его ломом...» Сыну Г.Судейкина, Сергею Судейкину, было тогда меньше двух лет, но судьба отца станет глубокой травмой для художника на всю жизнь.
(обратно)И.Грэм, к мемуарам которой специалисты подходят с известной осторожностью, пишет, что Ленин якобы вызвал Луначарского и спросил: «Что это за мальчики командуют у вас в музыкальном отделе?» - «А вот вы вызовите одного из них, и сами увидите, что это за мальчики», - засмеялся Луначарский. «Через несколько дней, - рассказывал потом Лурье Грэм, - я получил вызов к Ленину. Он встал из-за своего рабочего стола и пошел мне навстречу. Ни слова не говоря о московской ябеде, Ленин стал расспрашивать меня о моей работе, планах; я увлекся и провел у Ленина часа полтора или два... При прощании он сказал: “Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь прямо ко мне; просто напишите мне записочку, она до меня дойдет...”» Насколько это правда - неизвестно. Зато точно известно, что в 1918 г. Лурье написал музыку к стихотворению В.Маяковского «Наш марш», который после этого распевали в Петрограде на каждом углу. Это сочинение «аукнется» Лурье, когда он окажется в эмиграции. «Хромой этот марш, - вспоминал потом Лурье, - доставил мне впоследствии много неприятностей. Когда в 1922 году я приехал за границу, то эмигранты ничего лучше не придумали, чем объявить мой марш “гимном большевистской революции”». А как же его еще, сами подумайте, можно было назвать?
(обратно)Эти слова Лурье об Ахматовой и Цветаевой приводит Г.Адамович: «Цветаева по отношению к “златоустой Анне всея Руси” была Шуманом...» Да, М.Цветаева в то примерно время, прочитав ахматовскую «Колыбель», утверждала, что за одну строчку оттуда - «Я дурная мать» - «готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет...» Правда, потом, спустя десятилетия, мнения их друг о друге поменяются. Цветаева после встречи с Ахматовой в 1941-м скажет о ней - «просто дама». А.Ахматова на старости лет, напротив, признается, что как поэт Цветаева «сильнее ее...».
(обратно)В 1963 г. А.Лурье напишет Ахматовой из США: «Моя дорогая Аннушка, недавно я где-то прочел о том, что когда д’Аннунцио и Дузэ встретились после 20 лет разлуки, то оба они стали друг перед другом на колени и заплакали. А что я могу тебе сказать? Моя “слава” тоже 20 лет лежит в канаве, т.е. с тех пор, как я приехал в эту страну... Живу в полной пустоте, как тень. Все твои фотографии глядят на меня весь день. Обнимаю и целую тебя нежно. Береги себя. Жду от тебя вестей. А.».
(обратно)В семье Анну Аренс звали двумя именами - Анна-Галя. Свадьба ее с Н.Пуниным состоялась 3 июля 1917 г., жить стали на Обводном канале (Обводный, 10), но, видимо, жили не одни, ибо 28 августа он записывает в дневнике: «Не ночую дома у жены, ночую в своей комнате (Галя уехала). Зарядил револьвер, ложась спать. Одиночество, тоска, страдания, Россия... Жду, что утром будет бой на улицах...» В то время Пунин жил где-то в Казачьем переулке («Так одиноко было только тогда, - запишет потом в дневнике, - когда жил на Казачьем в 1918 году»), а уже в 1919 г. у него своя комната на Инженерной ул., 4, кв. 5.
(обратно)Из пятерых детей Наппельбаумов три дочери - Ида, Фрида и Ольга - станут поэтессами. Ида в 1924 г. войдет в ленинградское отделение Всероссийского Союза поэтов, а в 1925 г. - во Всероссийский Союз писателей. В 1927 г. опубликует первый сборник стихов «Мой дом». Выйдет замуж за писателя и поэта М.Фромана, родит дочку (нынешняя хозяйка квартиры на Невском - Е.Царенкова), переживет блокаду и эвакуацию. А в 1951 г. ее арестуют. «Вас мы не добрали в 37-м», - скажет ей на допросе следователь. Считается, что одним из поводов ареста стал донос о висевшем когда-то в ее квартире портрете ее кумира Н.Гумилева работы художницы Шведе-Радловой. Она своей любви к Гумилеву не скрывала и, в отличие от И.Одоевцевой, бумаг, связанных с ним, не уничтожала. Иду приговорят к десяти годам лагерей строгого режима и освободят лишь после смерти Сталина в 1954 г. Жить станет в двух шагах от студии, в доме, который ленинградцы нарекут «Слезой социализма» (ул. Рубинштейна, 10). Он тоже, хоть и обветшал, ныне цел. Фредерика переедет к отцу, станет помогать ему в фотолаборатории. Когда ночью 1958 г. скоропостижно скончается ее отец, Фредерика, потеряв в тот же миг сознание, умрет вслед за ним. А Ольга, выйдя замуж, станет довольно известным литератором - Ольгой Грудцовой.
(обратно)Сохранилась, например, записка А.В.Луначарского, адресованная ему: «Комиссару Русского музея Н.Н.Пунину. 31 июня 1918 года. Москва. Ввиду коренной реорганизации Эрмитажа, Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины выделила из своего состава комиссию с особыми полномочиями для всестороннего ознакомления с постановкой музейного дела в Эрмитаже. Так как комиссар Эрмитажа т. Г.С.Ятманов перегружен работой по коллегии в Петрограде и Москве... уполномачиваю Вас, товарищ, временно исполнять обязанности комиссара Эрмитажа, оставаясь в то же время комиссаром Русского музея. Народный комиссар АЛуначарский».
(обратно)Это был первый арест Н.Пунина. А вообще, кто из нас не замечал - слова мстят нам даже спустя десятилетия. Тот же Н.Пунин в том же 1918 г. вместе с неким Е.Полетаевым выпустил книгу «Против цивилизации», в которой, в частности, были строки: «Отдельные индивиды могут, конечно, пострадать или погибнуть, но это необходимо и гуманно, и даже спорить об этом - жалкая маниловщина, когда дело идет о благе народа, и расы, и в конечном счете человечества...» Разве он знал тогда, что он будет еще дважды арестован и найдет смерть свою в ГУЛАГе. Погибнет и его соавтор - Е.Полетаев. Оба они и стали теми «отдельными индивидами», которые «гуманно» погибли и которых им самим в 1918-м было, разумеется - теоретически, совсем не жалко...
(обратно)Наивным! Именно после этого разговора он станет вдруг постоянно встречать ее на улицах. «Сегодня, едва я успел выйти, встретил ее, - пишет он, - она покраснела и поздоровалась на ходу сдавленным голосом... Днем я шел на лекцию, она встретилась мне на Невском, поздоровались за руку и разошлись. Теория вероятности!.. Что это значит?..» Он даже встретит ее однажды в час ночи, когда, провожая друга, выйдет за папиросами. «Еще раз, что это значит? - будет задаваться вопросом в дневнике. - Кто толкает меня и ее, что же это - предопределение?..» Он не знал, что Л.Брик не только с ним, со всеми мужчинами привыкла добиваться своего. И что через два года, в марте 1923-го, он, увидев ее в Москве, запишет: «Л.Б. говорила о своем еще живом чувстве и о том, как много тогда “ревела" из-за меня. “Главное, - говорила она, - совсем не знала, как с вами быть; если активнее - вы сжимаетесь и уходите, а когда я становлюсь пассивной, вы тоже никак не реагируете”. Но она одного не знает, - подчеркнет Пунин, - что я разлюбился, что вообще ничего не могло быть без влюбленности, какая бы она, Лиля, ни была...».
(обратно)В конце 1917 г., когда они часто встречались, Ахматова сказала вдруг Мандельштаму, что во избежание сплетен им нужно видеться пореже. «Если б всякому другому сказать такую фразу, - жаловалась она впоследствии П.Лукницкому, - он бы ясно понял, что он не нравится женщине... Ведь если человек хоть немного нравится, женщина не посчитается ни с какими разговорами». И добавила: «Он был мне физически неприятен. Я не могла, например, когда он целовал мне руку». «Следов» этой ссоры он, видимо, и опасался, идя к Ахматовой на Казанскую.
(обратно)Кстати, в доме Бауэра, но за полвека до Ахматовой, жила семья генерала, тайного советника С.И.Мережковского, чей сын Дмитрий станет всемирно известным писателем. В семье Мережковских было шесть сыновей, и о каждом можно было бы долго рассказывать. Старший, Константин, станет профессором ботаники Казанского университета и одновременно писателем, автором профашистской утопии «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь: сказка-утопия XXVII». Средний, Николай, будет служить в Отдельном корпусе жандармов. А самый младший, Дмитрий, сначала станет поэтом, первым символистом, даже теоретиком символизма, и лишь потом тем знаменитым прозаиком, о котором мы знаем сегодня. Образно говоря, с его появления в литературе и начался Серебряный век. Ибо манифестами «нового искусства» - модернизма - в России станут философский трактат «При свете совести» Н.Минского (1890 г.), лекция Дм. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе» и его сборник стихов «Символы» (1892 г.), а также три антологии юного еще москвича В.Брюсова «Русские символисты» (1894-1895). Впрочем, здесь Д.Мережковский будет жить до шестнадцати лет, до 1881 г. Потом вместе с родителями переедет отсюда на Знаменскую (Знаменская, 35/40). Но про этот дом у моста он, кстати, напишет стихотворение, которое войдет потом в его сборник «Старинные октавы».
(обратно)Революция застала Виктора Горенко в Севастополе, на Черноморском флоте. Там тоже расстреливали морских офицеров, но Виктору удалось избежать казни. Н.Мандельштам напишет потом: «Про второго брата, Виктора, ей (Ахматовой. - В.Н.) сказали, что он расстрелян в Ялте. Слух шел такой: тела сбросили с мола в море...» К счастью, Виктор, раздобыв штатскую одежду, выбрался из Крыма и бежал на Сахалин. Там, в построенном им доме, жил до 1929 г., принимал у себя приехавшую к нему мать (она прожила у него три года), а в 1929-м, когда на Сахалине начались аресты, бежал сначала в Китай, а затем, в 1947 г., через двадцать лет, в США. Ахматова знала, разумеется, о его бегстве на Запад, и когда с 1953 г. он стал писать ей письма - она ни на одно за десять последующих лет не ответила. Написать ему решилась только в 1963 г., за три года до своей смерти. Боялась.
(обратно)Тогда Анненков сделал сразу даже два портрета-наброска Ахматовой. Один - тушью и черной акварелью, другой - гуашью. Про первый Е.Замятин напишет: «Траур волос, черные четки на гребнях», а Л.Чуковская скажет, что он «является знаком всей поэзии Ахматовой». Второй же портрет Ю.Анненков закончит в эмиграции и через много лет пришлет Ахматовой его фотографию. А вообще, в те годы она позировала нескольким художникам. До революции Савелию Сорину на его квартире (канал Грибоедова, 83), в 1922 г. ее в своем доме рисовала З.Серебрякова (Никольская, 15), тогда же ее рисовал К.Петров-Водкин в своей мастерской (18-я линия, 9) и в том же году - Лев Бруни. Он свой знаменитый акварельный портрет создаст в гостях у Ахматовой (Фонтанка, 18), в доме, о котором я уже рассказал.
(обратно)Тогда же скажет П.Лукницкому о Есенине: «Он плохой поэт. Он местами совершенно неграмотен. Я не понимаю, почему так раздули его... Он был хорошенький мальчик раньше, а теперь - его физиономия! Пошлость. Ни одной мысли не видно... И потом такая черная злоба. Зависть...» А после самоубийства поэта в декабре 1925 г. заметит: «Он страшно жил и страшно умер... Как хрупки эти крестьяне, когда их неудачно коснется цивилизация... Но чем культурнее человек, тем крепче его дух, тем он выносливее...» Кстати, не считала, что Есенина «загубили приятели»: «Он сам плодил нечисть вокруг себя. Клюев же не поддался такой обстановке!..»
(обратно)Они заведут так называемую «разговорную книжку», в которой будут писать друг другу записки. В ней, еще в мае 1923 г., Пунин запишет: «Ан., родная. Ноченька. Я не могу больше так. Обещай мне, что больше никогда не будешь ездить в Мариинский театр и видеть М.М. (Циммермана. - В.Н.). Если не можешь - напиши...» А Ахматова позже и по другому поводу напишет в этом блокноте: «Сегодня наконец К.М. (Котий-мальчик, так она звала Н.Пунина. - В.Н.) предложил мне конституцию (видеться понедельник, четверг, субботу вечером). Предложение принято. Ахм.
(обратно)Накануне принятия постановления ЦК нарком просвещения Луначарский напишет знаменитые «Тезисы о политике РКП в области литературы». «Гораздо более спорным, - напишет в них, - является вопрос о ныне живущих старых писателях, обладавших в прежнее время порою довольно большой литературной известностью... В этой группе сменивших вехи писателей вряд ли можно найти хоть одного, который действительно сознательно делал бы свое литературное дело во имя революции. Можно сказать с уверенностью, что если бы дать им полную свободу слова, полную гарантию безопасности за все, что они ни писали бы, то из-под их пера вышли бы ужасающие нападки на весь наш строй и быт, которые, конечно, им самим субъективно казались бы самой настоящей художественной правдой». Эти слова - и про Ахматову. Так что фраза хорошо осведомленной М.Шагинян вряд ли была случайна. Шагинян знала, что делается и что планируется в коридорах власти.
(обратно)До того как стать ректором, А.Н.Бекетов жил с семьей хоть и в университете, но в здании «Двенадцати коллегий», в профессорской четырехкомнатной квартире, выходившей окнами в сад, который тянулся вдоль всего здания университета. Вход в квартиру на четвертом этаже был, как писала тетка поэта, «со двора, в конце университетской галереи».
(обратно)У бабки А.Блока по матери - Елизаветы Карелиной-Бекетовой, была сестра Александра, которая вышла замуж за М.Коваленского. У них, в свою очередь, было три сына и три дочери, одна из которых, Ольга, выйдет замуж за москвича М.С.Соловьева - сына знаменитого историка С.М.Соловьева, автора двадцатидевятитомной «Истории России с древнейших времен» и ректора Московского университета. Таким образом, родившийся у молодых Соловьевых сын, внук историка, названный в честь деда Сергеем, стал троюродным братом Блока. У троюродных братьев будет много общего. Во-первых, их деды будут ректорами двух главных университетов страны. Во-вторых, оба брата станут поэтами. А в-третьих, и Блок, и Соловьев еще в юности подружатся с третьим поэтом - Андреем Белым (Борисом Бугаевым). Более того, Сергей Соловьев и Андрей Белый не только в детстве будут жить в Москве в одном доме (Арбат, 55), где Александр Блок и познакомится с обоими, но и женятся впоследствии на родных сестрах Тургеневых.
(обратно)Ахматова, хорошо знавшая Блока, много позже в Ташкенте, в эвакуации, скажет, вспоминая: «У него (у Блока. - В.Н.) была красная шея римского легионера...»
(обратно)Дуэль предположительно была назначена на 10 августа 1906 г. Вызов Блоку привез в Шахматово друг Андрея Белого - Лев Эллис. Но поединок расстроила Люба. Она сказала гонцу, что у них с мужем секретов нет, а когда Эллис выложил им причину своего приезда, именно она «пристыдила его», посмеялась, а потом просто усадила обедать. «К концу обеда, - вспоминала, - мой Лев Львович сидел уже совсем прирученный, и весь вопрос о дуэли был решен... за чаем. Расстались мы все большими друзьями...» Андрей Белый напишет потом, что Эллис, вернувшись из Шахматова, передал ему «недоумение Блока по поводу вызова», а потом заверил Андрея Белого, что Блок на самом деле хороший, что он «приютил его на ночь, а ночью пришел к нему в комнату, сел на постель и беседовал... О себе, обо мне и о жизни...». Так закончилась первая дуэльная «история» между вчерашними друзьями. Ровно через год - в августе 1907 г. - уже Блок будет угрожать дуэлью Белому...
(обратно)Не самую достойную роль в любовном треугольнике Блока, его жены и Андрея Белого играла З.Гиппиус. Даже из Парижа, куда скоро уедет А.Белый, она 16 мая 1907 г. напишет ему про Л.Менделееву-Блок: «Если бы вы оставили мысль “завоевать” ее, вырвать оттуда и увезти вон, - это бы значило предать свое царство любви... “Завоюйте” Любу тихой твердостью, без лжи и приспособления, возьмите ее оттуда и приезжайте к нам в Париж. Что будет дальше - будет видно, это не конец борьбы, но это первый необходимый шаг к чуду в атмосфере царской любви...» Странная роль - роль почти сводни. А ведь Гиппиус, во-первых, была невысокого мнения о жене Блока. В феврале 1908 г. напишет Белому о ней: «Она сначала была некрасивой дочерью (не она лично) знаменитого Менделеева, затем прекрасной дамой (не она лично), затем женой Блока (не она лично), тоже знаменитого. Затем бы перешла к вам, опять к Андрею Белому. А она - все помощница, сама ничто и дела никакого. Все выкрутасы - бунт. А исковерканные “безобразы" оттого, что она ломает себя, внутри хорошее в себе как бы задавливает. И вас боится, как свидетеля хорошего...» Ну а во-вторых, все это писалось З.Гиппиус, когда она и ее муж Д.Мережковский самым тесным образом дружили с Блоком, принимали его у себя, восхищались его стихами, уверяли его в своей искренности и откровенности и того же, заметьте, требовали от поэта... Впрочем, у Мережковских это было, кажется, в крови. Ведь и сестра З.Гиппиус, Т.Гиппиус, не раз брала на себя в этой истории роль лукавой «наперсницы-провокаторши» А.Белого. Тому есть много примеров, да приводить их скучно...
(обратно)Дом, где с осени 1831-го по весну 1832 г. жил Пушкин, - его, по сути, первая семейная квартира в Петербурге - принадлежал вдове сенатора и тайного советника Брискорна. Дом сохранился в первозданном виде, и два балкона на третьем этаже как раз пушкинские - он поселился здесь в квартире из девяти комнат. Знал ли об этом Блок? Мемориальная доска на этом доме установлена, кажется, при советской власти. А вообще, на Галерной жили: критик В.Стасов (Галерная, 40), Н.Миклухо-Маклай в том же доме, где когда-то жил Пушкин (Галерная, 53), наконец, в самом конце улицы был построен дворец графов Бобринских (Галерная, 58-60). В доме графа А.Бобринского, кстати, считавшегося внебрачным сыном Екатерины II и Г.Орлова, в 1830-е г. часто бывал А.Пушкин. В его дневниках помечено: 6 декабря 1833 г.: «Обедал у гр. А.Бобринского... Мятлев читал уморительные стихи». 17 января 14 г.: «Бал у гр. Бобринского, один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его...» Упоминается в дневниках и «старуха Бобринская», не раз выручавшая поэта, когда он невольно нарушал какие-нибудь правила придворного этикета. 18 декабря 14 г.: «На лестнице Аничкова дворца встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами)».
(обратно)Н.Волохова, урожденная Анцыферова (1878-1966), еще за пять лет до встречи с Блоком, будучи в 1902 г. ученицей студии МХАТа, без памяти влюбилась в великого актера Василия Качалова. Любила его, кажется, всю жизнь. Во всяком случае, так призналась на склоне лет подруге своей дочери Н.Сытиной. «Наташа Сытина неоднократно видела изображения молодой Волоховой, - пишет москвовед П.Николаев, - и поэтому, когда попала в дом Качалова, без труда узрела за стеклом книжных полок фотографию Натальи Николаевны. Случилось это накануне Великой Отечественной войны... Она поделилась своей радостью с подругой и ее матерью. Вот тогда шестидесятидвухлетняя Волохова и рассказала девушкам о своем романе сорокалетней давности». Оказывается, любовь с Качаловым была взаимной. Ко времени знакомства с Волоховой Качалов был женат на актрисе Н.Литовцевой. Как человек порядочный, он не смог и не захотел таиться, скрывать от жены своего чувства к двадцатитрехлетней Волоховой. Но разводу с Литовцевой помешал случай. Находясь на гастролях, она повредила йогу, да так сильно, что всю оставшуюся жизнь вынуждена была носить большой и уродливый башмак. К тому же в то время она ждала ребенка. «При стечении таких обстоятельств Василий Иванович счел неблагородным оставлять жену, - пишет П.Николаев. - Любовники расстались»... Видимо, тогда Волохова и перебралась в Петербург, в театр В.Комиссаржевской, где отыграла три сезона. А после романа с Блоком (романа с его стороны) вновь уехала в Москву. Жила в Москве в Малом Власьевском переулке, недалеко от дома Качалова, но у него так ни разу и не была.
(обратно)А.Ахматова, которая близко дружила с Щеголевыми, говорила Ю.Оксману, правда уже в 1965 г., что Блок «уговаривал» Щеголеву отправиться с ним за границу. Та, по словам Ахматовой, была увлечена этой идеей, но муж ее, П.Щеголев, находился в это время в Крестах, а маленького сына их, Павла, «не на кого было оставить».
(обратно)В перевернувшейся лодке были три девушки - художницы Яковлева и Бебутова и двадцатилетняя курсистка, актриса Бела Назарбек (Елена Назарбекян). Ее накануне привез из Петербурга Сапунов, и вслед за ним все звали ее почему-то «принцессой». Бела была дочерью Авета Назарбекяна, одного из организаторов социал-демократической партии Армении, доброго знакомого, между прочим, Ленина. Позже она выйдет замуж за Левона Лисициана, историка, которого зверски убьют дашнаки в 1921 г., а затем, в конце 1920-х, станет женой писателя Григория Санникова. «Принцессу», как и всех, в ту белую ночь на заливе спасет случайный матрос, вынырнувший из тумана на своей лодке. Но от судьбы не уйдешь - через много лет, в 1941 г., Елена Санникова повесится в Чистополе через два месяца после самоубийства Марины Цветаевой. Более того, как пишет Б.Алперс, театровед, друг семьи Санниковых, у них - Санниковой и Цветаевой - была договоренность уйти из жизни вместе. Обе были потрясены началом войны, обе страшились будущего, и обе считали, что их несовершеннолетним детям (а у Санниковой было двое сыновей - двенадцати и десяти лет) без них будет не то чтобы лучше - сытнее. Впрочем, муж Санниковой писал потом, что она покончила с собой, решив, что он погиб на фронте - от него из-под Ржева уже месяц как не было писем.
(обратно)Театр-варьете «Аквариум» существовал на месте будущего «Ленфильма» с 1908 г. Это был самый большой театр-варьете в России (на триста столиков). Здесь выступали певицы В.Панина, А.Вяльцева, Н.Плевицкая, знаменитые цыганские хоры Н.Шишкина и А.Масальского. Кстати, первый конкурс красоты прошел в России не после перестройки 1985-1990 гг., а в 1908 г., и как раз в «Аквариуме».
(обратно)Вообще питерские краеведы Л.Бройтман и А.Дубин пишут, что С.Алянский с 1917 по 1923 г. жил на Знаменской улице (Восстания, 22). Здесь же, в Толстовском доме, утверждают они, располагалось издательство С.Алянского «Алконост».
(обратно)История здания ЧК темна и страшна. Дом этот на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта построил когда-то Джакомо Кваренги для потомка магистров Тевтонского ордена барона Ивана Федоровича фон Фитингофа (1720-1792), назначенного тогда главным директором Медицинской коллегии. Так вот дочь Фитингофа (кстати, знатока магии и алхимии), Юлия, которая прославилась тем, что в Париже пыталась спасти от смерти Людовика XVI и Марию-Антуанетту, станет потом пророчицей и еще в 1813 г. скажет, что через сто лет Россия повторит революционную судьбу Франции, но «ужасы, которые ей придется пережить, и количество погибших будут несоизмеримы с французскими». Так пишет в книге «Невская перспектива» ныне покойный знаток города Сергей Сергеевич Шульц. Позже, вернувшись в Петербург, Юлия посетит дом отца на Гороховой, и в бывшей детской своей ей вдруг привидится кровь, ручьями текущая по стенам. «После этих видений, - пишет Шульц, - она окончательно уверилась, что реки крови, грозящие России в будущем, начнут проливаться именно здесь, в доме ее отца на Гороховой»... Потом, в 1870-х, дом станет канцелярией градоначальника Петербурга. В нем, кстати, Вера Засулич, молоденькая учительница, 24 января 1878 г. будет стрелять в первого градоначальника города Ф.Ф.Трепова. Канцелярия градоначальника просуществует здесь до 1917 г. А 7 декабря 1917 г. сюда «въедет» созданная тогда же Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сбудутся пророчества Юлии Фитингоф - кровь здесь (во всяком случае, в первые месяцы работы ВЧК, когда людей еще расстреливали прямо в этом здании) действительно польется рекой. Кстати, тогда же, в 1917-м, - и об этом мало кто знает из петербуржцев - Гороховую спешно переименуют в Комиссаровскую улицу.
(обратно)«Лариса жила, - пишет поэт Вс.Рождественский, - в пышной и холодной квартире. Дежурный моряк новел нас по темным, строгим коридорам... Перед дверью в личные апартаменты Ларисы робость и неловкость овладели нами, до того церемониально было доложено о нашем прибытии. Лариса ожидала нас в небольшой комнатке, сверху донизу затянутой экзотическими тканями. Во всех углах поблескивали бронзовые и медные будды калмыцких кумирен и какие-то восточные майоликовые блюда. Белый войлок каспийской кочевой кибитки лежал на полу вместо ковра. На широкой и низкой тахте в изобилии валялись английские книги, соседствуя с толстенным древнегреческим словарем. На фоне сигнального корабельного флага висел наган и старый гардемаринский палаш. На низком восточном столике сверкали и искрились хрустальные грани бесчисленных флакончиков с духами (она и после революции просила привозить ей любимые духи «Убиган - Роза Франции». - В.Н.) и какие-то медные, натертые до блеска, сосуды и ящички, попавшие сюда, вероятно, из тех же калмыцких хурулов».Эту же комнату запомнил и писатель Л.Никулин: «Лариса обычно работала в большой, в четыре окна (в пять, но на Неву выходили только два окна, - Ахматова ошиблась. - В.Н.) светлой комнате, и всегда здесь был некоторый беспорядок - книги, черновые наброски, пишущая машинка, полевой бинокль, карта-трехверстка на письменном столе, придвинутом к окну... Именно в этой комнате рисовал Ларису... художник-миниатюрист Чехонин... В то время она работала над пьесой... диктовала пьесу машинистке, даме “из бывших"... Дама покорно стучала на машинке, но лицо ее выражало явный протест против доводов, которые приводила жена коммуниста...»
(обратно)Г.Иванов так описывал один из «приемов» уже не в рабочей комнате Л.Рейснер - в парадных покоях Адмиралтейства. «Пышные залы... ярко освещены, жарко натоплены. От непривычки к такому теплу и блеску (1920 г., зима) гости неловко топчутся на сияющем паркете, неловко разбирают с разносимых щеголеватыми балтфлотцами подносов душистый чай и сандвичи с икрой... Прием как прием: кавалеры шаркают, дамы щебечут, хозяйка мило улыбается направо и налево. Некоторых... берет под руку и ведет в небольшой темно-красный салон, где пьют уже не чай, а ликеры. Это для избранных. Удовольствие выпить рюмку бенедиктина несколько отравляется необходимостью делать это в обществе мамаши Рейснер, папаши Рейснер и красивого нагловато-любезного молодого человека - “самого” Раскольникова. Компания, что и говорить, высокопоставленная... Я, увы, попадаю в число “избранных”. Ведя меня через министерские покои, Лариса Рейснер роняет тоном леди Асквит: “Какое безобразие эти позолота, лепка. Вкус нашего предшественника адмирала Григоровича. Все надо отделывать заново, все...”» А заканчивались эти «приемы», на которых она «идейно спорила» с гостями, тем, что она, как «проговаривается» один близкий ей писатель, облегченно вздыхала: «Когда же они уходили (надо полагать, - Блок, Ахматова, Мандельштам, Кузмин, Г.Иванов. - В.Н ), она произносила: "Уф!”, комически вздыхала и язвительно, зло и ядовито критиковала своих оппонентов»...
(обратно)Оба эти факта подтверждает и книга о Л.Рейснер Г.Пржиборовской, выпущенная в серии «ЖЗЛ» в 2008 г. Книга, к сожалению, чересчур апологетична и предпочитает просто не упоминать иные «неудобные» факты из жизни комиссара. Хвалит автор, увы, и два сусальных фильма о Рейснер - особенно документальную ленту «Ариадна» (1989), о любви Л.Рейснер и Н.Гумилева, где даже намеком не говорится о причинах их разрыва и обоюдной ненависти. Наконец, в книге говорится, что Рейснер приветствовала революцию и «пошла» в нее «прежде всего за открывшуюся возможность для каждого человека, независимо от происхождения, пользоваться всем богатством культуры, созданной человечеством». Фраза похожа на известную ленинскую мысль о богатстве, «выработанном человечеством». Но как к этому «богатству» относилась сама Рейснер, лучше всего говорят мемуары ее друга, писателя Л.Никулина. Он вместе с Ларисой заехал как-то в Дом искусств, где выступал последний избранный ректор Петроградского университета, доктор истории и богословия Лев Карсавин. «Здесь, - пишет Л.Никулин, - в тишине перед сборищем бородатых мрачных личностей и старых дев профессор Карсавин елейно журчал о “вечном, незыблемом и прекрасном”, “о гуннах, которые прошли и пройдут”... Лариса Михайловна вошла, постукивая каблучками, села в первый ряд, с иронической улыбкой слушала оратора, потом бросила несколько реплик под сердитое шипение и негодующие возгласы. Это ее не смутило, она встала, оглядела маленький зал и вышла, все так же вызывающе стуча каблуками... Мы продолжали путь к Таврическому...» Там в тот день выступал Ленин. «Именно это было главное и вечное, а не елейное и невразумительное бормотание философа, который спустя недолгое время оказался в белой эмиграции...» Как Л.Карсавин оказался «в эмиграции», Никулин не пишет, но мы-то знаем: его арестовали в коридоре университета, отправили в тюрьму, а потом выслали на знаменитом «философском пароходе». Высылка, кстати, началась с того, что в мае 1922 г. Ленин, редактируя Уголовный кодекс, написал: «По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)... А за неразрешенное возвращение из-за границы - расстрел!» Карсавина вывезут насильно. А потом, в 1949-м, в Прибалтике, где он преподавал, арестуют вновь и отправят сначала в Ленинград, а потом в концлагерь Абезь у Полярного круга, где он и умрет от туберкулеза. Вот «культура», которую несла в мир и Л.Рейснер.
(обратно)Вообще у нашей «легендарной» героини Гражданской войны было какое-то странное пристрастие ко всему «царскому». Блок не мог знать, что и до встречи с ним, еще на фронте, в Свияжске, как пишет некий Л.Берлин, «комиссар Лариса» отправилась в Нижний Новгород по Волге на бывшей царской яхте «Межень». «Она, - пишет Л.Берлин, сопровождавший ее в этой поездке, - по-хозяйски расположилась в покоях бывшей императрицы и, узнав из рассказов команды о том, что императрица нацарапала алмазом свое имя на оконном стекле кают-компании, тотчас же озорно зачеркнула его и вычертила рядом, тоже алмазом, свое имя».
(обратно)Сорокалетний Жорж Дельвари (на самом деле - Георгий Кручинский), в прошлом артист цирка, клоун и акробат, в 1920-1922 гг. служил в Театре народной комедии (в бывшем Народном доме - на Кронверкском). Именно в этот театр поступила работать актриса Басаргина (театральный псевдоним Л.Менделеевой-Блок). Ставили, помимо классики, пьесы на потребу публике, например спектакль «Последний буржуй». «Репетиции несерьезные, костюмы - карикатурные, - писала мать А.Блока. - Но Люба все-таки довольна в общем и поэтому мало устает». Ж.Дельвари в спектакле играл слугу - наводчика бандитов-налетчиков. Коренастый, со вздернутым носом и хитрыми глазками, он мастерски делал несколько сальто подряд, умел потешать публику и «срывал» аплодисментов больше всех, из-за чего считал себя премьером труппы. Но над романом жены А.Блока и Жоржа Дельвари откровенно потешались. Некая Л.Миклашевская, будущая любовь М.Зощенко, напишет: «Ничего нелепее нельзя было представить. Ну, Дельвари, возомнивший себя гениальным артистом, мог из тщеславия завести роман с женой знаменитого поэта, но она - что могло ее прельстить в этом уродце, тупом самовлюбленном хаме, умеющем ходить колесом?..» А племянница поэта, Владислава Ходасевича - Валентина Ходасевич, художница, кстати, оформлявшая «Последнего буржуя», смеясь, рассказывала в доме Горького о «дуэли на зонтиках», когда прямо на ступенях театра на Л.Блок набросилась, размахивая зонтиком, выследившая ее жена клоуна. «Наши “соперницы” дрались зонтиками», - смешила М.Горького художница. Блок в дневнике от 7 января 1921 г. запишет: «Люба веселится в гостях у Дельвари».
(обратно)Отчество Александре Павловне Сакович (по мужу - Люш. - В.Н.) «дал» Павел Монахов, брат знаменитого артиста БДТ Николая Монахова. У М.Сакович с П.Монаховым был роман, который ничем не кончился, но возражать против своего отчества для приемной дочери Сакович он не стал.
(обратно)Отец поэта, Эмиль (Хацкель) Мандельштам, родился в 1852 г. в местечке Жагоры Ковенской губернии. Его, как напишет позже поэт, «натаскивали на раввина», но он «вместо Талмуда читал Шиллера». Впрочем, Шиллера забросил, когда женился на учительнице музыки Флоре Вербловской, и уже как глава семьи занялся изготовлением перчаток. А спустя месяц после рождения Осипа получил аттестат, «что... признается достойным мастером Перчаточного дела и сортировщиком кож». К.Чуковский запомнит потом «черные руки» его от постоянной работы с кожей: «Это были руки чернорабочего». Удивительно, но как раз к 1917 г. дело его разорится - он как подгадает. А может, разорится потому, что любил повторять: «Для еврея честность - это мудрость и почти святость...» Кстати, в отличие от Б.Пастернака, который всю жизнь изживал в себе еврейство, Осип Мандельштам и в 1926 г. напишет жене: «Я люблю только тебя... и евреев»...
(обратно)Училище и впрямь было необычно. Никаких дневников и кондуитов, отсутствие наказаний, два театральных зала, лаборатории, обсерватория, оранжерея, бассейн с рыбками, даже подоконники с паровым подогревом. Видимо, чтобы мальчики не простудили ненароком попки. Наконец, экскурсии - и не только в Ботанический сад, но даже на Путиловский завод, и поездки - не просто на Селигер - в Финляндию. Но главное - не поверите! - ученикам разрешалось курить (и именно поэтому, разумеется, никто почти и не курил).
(обратно)Впрочем, возможно, той осенью Мандельштамы жили уже на Ивановской улице (Социалистическая, 22). Для тех, кому это интересно, скажу, что с 1901 по 1908 г. Мандельштамы жили соответственно: на Литейном, 49, на Можайской, 1, на ул. Жуковского, 6, на Литейном, 15, наконец, на ул. Чайковского, 60, бывшей Сергиевской.
(обратно)Крестился О.Мандельштам в 1911 г. в Выборге. Брат Осипа, Евгений, писал: «Для поступления в университет надо было преодолеть одно препятствие: аттестат зрелости у брата был неважный... Это, при существующей тогда процентной норме для евреев... лишало его возможности попасть в университет. Пришлось подумать о крещении. Оно снимало все ограничения... Мать по этому поводу не слишком огорчалась, но для отца крещение Осипа было серьезным переживанием». Тем не менее 14 мая 1911 г. Мандельштаму, сыну Эмиля-Хаукеля, был вручен документ: «Сим свидетельствую, что Иосиф Эмильевич Мандельштам, родившийся в Варшаве 8/20 января 1891 года, после произведенных над ним... постановленных согласно Св.Евангелию допросов, касающихся веры и обязанностей жизни христианина, окрещен сего дня нижеподписавшимся пастором Н. Розеном, Епископско-Методистской церкви, находящейся в г. Выборге (Финляндия)». Загадка: записан не Осипом, а Иосифом. Как Сталин, «кремлевский горец» его. Впрочем, важнее, думаю, другое: то, что в письме другу Мандельштам сразу напишет, что крестился не столько в христианство, сколько в «христианскую культуру».
(обратно)«Экскурсантам», следующим за мной по адресам поэтов, скажу: Алексеевских улиц в Петербурге было ровно шесть, если не считать одноименного проспекта, но Чудовские, как мне кажется, жили на той, которая ныне переименована и называется улицей Писарева.
(обратно)«Подростка» оставим на совести Г.Иванова - ибо поэту в 1916-м было уже 25 лет.
(обратно)«Издание “Камня”, - напишет брат поэта Евгений, - было “семейным” - деньги на выпуск книжки дал отец. Тираж - всего 600 экземпляров. Помню день, когда Осип взял меня с собой... и мы получили готовый тираж. Одну пачку взял автор, другую - я. Перед нами стояла задача... как распродать книги... Книгопродавцы сборники стихов не покупали, а только брали на комиссию... После долгого раздумья мы сдали весь тираж на комиссию в большой книжный магазин Попова-Ясного, угол Невского и Фонтанки (Невский, 66. - В.Н.)... Время от времени брат посылал меня узнавать, сколько продано экземпляров, и когда я сообщил, что раскуплено уже 42 книжки, дома это было воспринято как праздник».
(обратно)Так напишет о друзьях Рюрик Ивнев: «И тому и другому, очевидно, нравилось “вызывать толки”...» Что за «толки»? - задаются вопросом исследователи. И почему в стихах Мандельштама «От легкой жизни мы сошли с ума...», посвященных Г.Иванову, появятся странные строки: «В пожатьи рук мучительный обряд, // На улицах ночные поцелуи...»? Совпадения? Возможно. Но, зная «вавилонские» нравы 1913 г., когда изменами гордились, когда замужней женщине иной раз было стыдно признаться, что она замужем, зная, наконец (это давно не тайна!), что Г.Иванов был бисексуален, а Р.Ивнев - гомоэротичен, можно предположить, что «соблазна» подобных контактов не избежал в юности и Мандельштам. Ведь эти стихи он не включал в книги, а однажды, перечеркнув их, написал: «Ерунда». И недаром жена поэта, Н.Я.Мандельштам, незадолго до смерти, опасаясь каких-то любовных разоблачений, напишет драматургу А.К.Гладкову: «И наконец, последнее, очень интимное. О.М. мне клялся в очень странной вещи... в которую я не верша и не верю, но если это правда, то она могла быть очень дико истолкована...» И добавила: «Проклятое легкомыслие и распутство юности...» Добавлю от себя - по тому времени вполне извинительное распутство.
(обратно)Это был один из самых известных салонов дореволюционного Петербурга. Об этом «патрицианском» доме, по выражению поэта М.Кузмина, о семье Каннегисеров можно рассказывать долго. «Дом открытый, - вспоминала потом Н.Блюменфельд, - голодные поэты там ели и пили». Принимали в доме от царских министров до революционеров-террористов. Были дружны с Германом Лопатиным, Борисом Савинковым. Прямо в квартире ставились иногда домашние спектакли - скажем, в 1910 г. в каминном зале играли «Балаганчик» А.Блока. А на почти ежедневных вечерах, которые здесь начинались не раньше полуночи, сходились Тэффи, Ходасевич, Кузмин, Адамович, Алданов, Гумилев, Липскеров, Есенин, Ивнев, Инбер и десятки менее известных людей. Читали стихи, слушали романсы, танцевали фоксы, чарльстон, регтайм - все, что только-только появлялось в России и мире. Глава семьи - инженер, потомственный дворянин, титулярный советник - занимал важные и «хлебные» должности. В жизнь троих детей почти не вмешивался. Все трое, кстати, кончат жизнь ужасно. Дочь уже в эмиграции будет арестована фашистами и в 1943 г. погибнет в Освенциме. Старший сын, Сергей, застрелится в 1917 г., а младший - Леонид Каннегисер, после убийства М.Урицкого будет расстрелян в 1918 г., по слухам - в Кронштадтской крепости.
(обратно)Надо сказать, что о Леониде Каннегисере пишут сегодня либо возвышенно: поэт, герой, подвиг (см., например, очерк «Поэт-террорист»: Шенталинский В. Преступление без наказания. Документальные повести. М., 2007), либо не без скрытой издевки: богатый бездельник, хлыщеватый молодой человек, циник, гомофоб. На его счет даже Цветаева ошиблась. «После Лени, - написала потом, - осталась книжечка стихов - таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности - поверила...» Истина, на мой взгляд, лежит посередине: он - типичный продукт эпохи, сначала, как и многие поэты, звавший революцию, а потом, ужаснувшись результата, пытавшийся с ней бороться. Мандельштам, кстати, узнав о теракте Каннегисера, убившего председателя Петроградской ЧК, сказал жене: «Кто поставил его судьей?» Так, по ее словам, выразилось его неприятие «всех видов террора». От своих детских эсеровских взглядов, от симпатий боевикам Мандельштам к тому времени давно отказался. Одно можно сказать о Каннегисере определенно: человек был, безусловно, храбрый и смерть, как сообщают разные источники, встретил мужественно.
(обратно)Короткий роман между ними оставит, к счастью, блестящие стихи. Но отношения закончатся приездом Осипа в Александров, где Цветаева гостила у сестры. Там в нем разочаруется не только Цветаева. Даже няня дочери ее, простая крестьянка, посоветовав ему жениться («Ведь любая за вас барышня замуж пойдет»), потом, увидев удивленные глаза Цветаевой, добавит: «Да что вы... это я им для утехи, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чуден больно!..» Через год, кстати, столкнувшись с Мандельштамом в Феодосии, Цветаева вроде бы тихо скажет сестре и своим спутникам: «Пожалуйста, не оставляйте нас вдвоем...» Вот и вся «любовь», хотя в истории этой жалко почему-то как раз «Осипа Емельевича» - как звала поэта та крестьянка из Александрова.
(обратно)Вообще знаменитый ресторан «Донон», открытый в 1849 г., где устраивались «дононовские субботы», был в 1910 г. переведен новым хозяином на Английскую наб., 36. В 1914 г. его закроют. А старый ресторан на Мойке (он, кстати, находился во дворе того дома, где располагалась когда- то редакция журнала «Аполлон») именно в 1910 г. стал называться «Донон, Бетан и Татары» (татарская артель отказалась переехать в новое здание). В 1917 г. и он был временно закрыт, но почти сразу открылся и просуществовал до начала 1920-х.
(обратно)Не зря Надежда Мандельштам, правда, уже во «Второй книге» своих мемуаров скажет откровенней: «Я хочу говорить правду, только правду, но всю правду не скажу...».
(обратно)Майя Кудашева - Мария Павловна Кювилье (1895-1985), поэтесса, знакомая М.Волошина, Вяч. Иванова, К.Бальмонта, М.Цветаевой, А.Толстого, И.Эренбурга, в 1919 г. вышла замуж за князя Сергея Кудашева, подпоручика Донского броневого дивизиона, который через полгода умер от тифа. С 1926 г. - сотрудница посольства Франции в Москве, секретарша французской секции Коминтерна. Настойчиво, навязчиво заводила знакомства в Москве с французскими писателями Дюамелем, Дюртенем, Клоделем, Вильдраком. «Ни на шаг от нас не отходивший московский гид», - не без иронии напишет о ней в дневнике поэт Ж.Дюамель, кстати, не сомневавшийся в ее работе на Лубянку. В середине 1920-х г., будучи скромной секретаршей, вдруг пообещала в письме Р.Роллану «организовать» выпуск в СССР его собрания сочинений (и в 1929 г. 12 томов этого собрания, представьте, вышли!). Потом, якобы «вырвавшись» в Париж, вышла за него замуж. Постоянным куратором «княгини Кудашевой» на Западе стал, пишут, Луи Жибарди (Ласло Добош), принадлежавший к разведывательному крылу Коминтерна. О связи ее с органами НКВД писали: В.Серж, Б.Суварин, А.Жид. Американец С.Кох в книге «Конец невинности. Интеллектуалы Запада и искушение сталинизма. 30 лет тайной войны» сообщает: «Кудашева была агентом, находившимся в непосредственном подчинении советских секретных служб... Ей удалось должным образом направлять всякое публичное выступление писателя, в чем она преуспевала до самой его смерти, после которой... унаследовала и легенду о нем, и его архивы». А жена убитого Лубянкой члена ЦК германской компартии Вили Мюнценберга, Бабета Гросс, также подтвердив, что Кудашева-Роллан была штатной сотрудницей НКВД, добавила: «Это не версия, это известный мне достоверный факт».
(обратно)Кстати, словом «Аониды» хотел назвать свою вторую книгу «Tristia».
(обратно)Мандельштам увидится с Саломеей еще раз именно в Крыму. Летом 1917 г. в Алуште соберется вдруг весь петербургский бомонд. Мочульский, Недоброво, братья Радловы, Жирмунский, художник Шухаев, поэт Константин Олимпов, Судейкин с новой женой Верой Артуровной. И удивительно: там, в этом «цветнике красавиц» из его прошлого, рядом с Саломеей увидит Мандельштам и Анну Зельманову - первую свою петербургскую любовь.
(обратно)Приятельница Надежды Мандельштам, Иза Ханцын, напишет потом, что самому поэту никакой обстановки было не нужно: стихи он писал и на кухонном столе, и на подоконнике. Но в 1924 г. у «безбытной» семьи, видимо, возник соблазн пожить наконец «как люди». Они не только привезли мебель, но, как пишет Надежда Яковлевна, «что-то докупили в Ленинграде - город был завален брик-а-браком - и зажили среди красного дерева, корня карельской березы... Эту муру я находила на Апраксиной рынке, хищным глазом подмечая “удачи”»... Про «муру» могу дополнить. В книге Л.Миклашевской, жены известного режиссера, родовитого аристократа К.Миклашевского (сына, между прочим, гофмейстера Императорского двора), чудом сохранившего после революции и квартиру, и изысканную мебель, прочел недавно, что, собравшись в «командировку» на Запад (уезжали, разумеется, навсегда), беглецы случайно встретили на улице Мандельштамов. «Они, - пишет Миклашевская, - устраивались на новой квартире, у них не было никакой обстановки». К.Миклашевский привел их в свою шестикомнатную квартиру (Моховая, 7) и предложил взять что захотят. «Взяли разные вещи, - пишет мемуаристка, - особенно их привлек умывальник серого мрамора и большой фаянсовый таз в цветах. Мне почудилось, что Осип Эммануилович (так! - В.Н.) смотрит на эти вещи, как на осколки ушедшей эпохи, может быть, они напоминали ему его детство?..» Вряд ли дорогая «мура» напоминала Мандельштаму его детство, а вот Н.Я.Мандельштам в мебели, думаю, разбиралась - ее отец заказывал когда-то обстановку не где-нибудь - в самой Англии...
(обратно)Арсений Арсеньевич Смольевский, сын Ольги Ваксель, незадолго до смерти сказал мне, что квартиру, где жила его мать, потом ставшую коммуналкой, задолго до нее, в 1906 г., занимали только что поженившиеся М.Волошин и М.Сабашникова. В квартире вообще-то располагалась художественная школа Елизаветы Званцевой, и Макс, подружившись с Вяч. Ивановым, став завсегдатаем его салона, просто спустился однажды этажом ниже и договорился со Званцевой о найме двух комнат. В его крохотной комнате не помещался даже стол - он, как и Мандельштам, писал на подоконнике. А жена его, кстати, дочь богатого чаеторговца, увидев свою комнатку-пенал, сказала, подняв глаза к потолку: «Что теснота, если прямо над нами боги справляют свои пиры!..».
(обратно)Он видел ее в Коктебеле в июле 1916 г., когда вместе с братом Александром гостил у М.Волошина. Ольга была там с матерью, Ю.Львовой, что даст последней право звать его потом своим «старым другом»...
(обратно)В 1923-м, за год до встречи с Мандельштамом, Ольга с небольшим театриком уехала на Дальний Восток. «Там, усталые от дороги, немытые, голодные, мы дали три спектакля в один вечер... На прощание нам закатили роскошный ужин; было весело, если бы не мрачная мысль о том, как мы доберемся обратно. В самый разгар тостов и когда все были очень жизнерадостно настроены, я сняла с себя кружевные штанишки, вылезла на стол и, размахивая ими, как флагом, объявила, что открываю аукцион...» Нэпманы поморщились, а Лютик лишь хохотала да хлопала в ладоши, когда назывались все новые суммы. «Эта игра всем очень понравилась, - заканчивает она, - моей выдумке пытались подражать, но неудачно, за свои штанишки я выручила столько, что смогла купить себе пыжиковую шубу»... Да, она пила водку наравне с мужчинами, эпатировала публику прозрачными одеждами, бравировала бесконечными и не вполне разборчивыми связями. Но - выскажу предположение! - может, поэт и любил ее за эти фантастические по тем временам сумасбродства?
(обратно)Осведомленная Эмма Герштейн, близкий друг семьи, напишет потом: «У Мандельштама было в молодости достаточно аномалий... но в первые годы его гражданского брака с Надей у обоих был самый банальный адюльтер. Она собиралась уходить к художнику Т., а Осип Эмильевич сменил период вдохновенной работы... на жадное зарабатывание денег... На эти деньги он выплачивал какие-то моральные долги Наде, а главное - снимал номер в гостинице, где и встречался с О.А.Ваксель, прозванной Лютиком. Роман был в таком разгаре, что мать Лютика чувствовала себя вправе требовать от О.М., чтобы он вез ее дочь куда-то на юг, в санаторий. Но когда в эту связь вклинилась Надежда Яковлевна со своим бисексуализмом, она и превратилась из “дочки” и “ласточки” - в “куму”».
(обратно)В этом доме, где ныне висит мемориальная доска, на шестом этаже жил с семьей брат поэта Евгений и перебравшийся к нему отец братьев, Э.Мандельштам. Приезжая в Ленинград, О.Э. неоднократно останавливался здесь. 18 февраля 1926 г. писал отсюда жене: «Ты не поверишь: ни следа от невроза. На 6-й этаж поднимаюсь не замечая - мурлыкая...» К сожалению, в первой половине 1930 г. отношения между братьями осложнились, и поэт вынужден был останавливаться у друзей, знакомых, иногда в гостиницах.
(обратно)Насколько я помню, первым публично назвал Ахматову и Мандельштама «внутренними эмигрантами» еще Маяковский - в 1923 г. В 1929-м он назовет стихи Мандельштама «наиболее печальным явлением в поэзии». Журналы охотно подхватят: «Поэзия агрессивной буржуазии», а стихи Мандельштама - сознание «идейной и психологической смерти, ощущение краха своего».
(обратно)В тот год он дважды выступил в городе. Еще один вечер О.Мандельштама состоялся в зале Ленинградской хоровой капеллы (Мойка, 20).
(обратно)Речь идет о писателе Михаиле Козакове, муже упомянутой Зои Никитиной и отце актера М.Козакова. Пишу об этом не без горечи, но и без смущения. Актер и сам, кажется, не скрывает этой «истории». Кстати, пощечину Толстому многие тогда, даже вполне приличные люди, называли однозначно «вылазкой врага». То есть Мандельштама.
(обратно)Мандельштам узнает о ее смерти через три года, а о самоубийстве не узнает вообще.
(обратно)Дом этот невероятно знаменит. В 1799 г. он был куплен придворным Императорского двора Луи Бенуа и по наследству перешел к сыну Николаю, ставшему архитектором. Здесь в конце XIX в. начиналось легендарное объединение «Мир искусства», идейным вдохновителем которого был младший сын Николая - Александр Бенуа. Здесь жили и работали внуки Николая Бенуа, знаменитые русские художники Зинаида Серебрякова и Евгений Лансере. В начале 1920-х г. над квартирой Серебряковой получил жилье художник Н.Тырса, за стеной его квартиры поселился художник Д.Бушен. Все трое - Тырса, Бушен и Серебрякова - хоть и в разные годы, но рисовали Ахматову. Здесь в декабре 1922 г. она и позировала Серебряковой. Наконец, здесь жила семья художника П.Басманова, ученика и друга поэта М.Кузмина, чья дочь, Марина, также художница, станет в 1960-х г. любовью и музой поэта И. Бродского.
(обратно)«Земля настолько маленькая планета, - говорил М.Волошин, - что стыдно не побывать везде». Но, разъезжая по миру, любил повторять: «В путешествии количество истраченных денег обратно пропорционально количеству полученных впечатлений».
(обратно)Дом №35 (совр. нумерация) по Таврической, построенный в 1904 г., стал в начале XX в. духовным центром литературно-художественной элиты. Вестибюль с античными статуями, лестницы в коврах, изящные итальянские витражи, лифт, швейцар внизу, у которого был телефон. В квартире Вяч. Иванова на шестом этаже, к которой вскоре были присоединены две соседние квартиры справа и слева, к полуночи собиралось порой до ста человек гостей. «Башня» - это скошенные потолки, полукруглые стены в кроваво-красных обоях, ковры и подиумы вместо стульев и диванов, свечи в тяжелых шандалах, огромные, четвертные бутыли вина на столах. Но главное - здесь были «умные разговоры». Смешно, но кухарка, не раз слышавшая споры «господ», шептала на кухне дочери Вяч. Иванова Лидии: «Странно! Странно! Говорят по-русски? А ничего нельзя понять!..» Сближению литераторов и художников способствовало и то, что прямо под квартирой Иванова помещалась основанная в 1906 г. художественная школа Е.Званцевой, где преподавали Бакст, Добужинский, Петров-Водкин, а учились Шагал, Матюшин, Елена Гуро, та же Маргарита Сабашникова...
(обратно)Вяч. Иванов, это известно, утверждал, что, в сущности, чуть ли не вся человеческая деятельность сводится к эросу, что эротика способна заменить и этику, и эстетику и что все, рожденное Эросом, свято. «Искали экстазов, - напишет позже Н.Бердяев, участник этих вечеров. - Эрос решительно преобладал над Логосом... В петербургском воздухе того времени были ядовитые испарения...»
(обратно)Н. Бердяев писал о Вяч. Иванове: «Это был самый замечательный, самый артистический позер, какого я в жизни встречал, и настоящий шармер... Дар дружбы у него был связан с деспотизмом, с жаждой обладанья душами... Его пронизывающий змеиный взгляд на многих, особенно на женщин, действовал неотразимо. Но в конце концов люди от него уходили. Его отношение к людям было деспотическое, иногда даже вампирическое, но внимательное, широко доброжелательное...» Примерно так же говорила о нем и А.Минцлова: «Он губит, ломает людей... Он сеет разрушения вокруг себя... Нельзя так относиться к людям... У него нет учеников. Ему некому говорить. В этом ужас...».
(обратно)С Лидией Зиновьевой-Аннибал, женой Вяч. Иванова, автором скандальной повести «33 урода» (ныне охотно и часто издаваемой), все было, конечно, сложнее. Во-первых, у нее, как и у Вяч. Иванова, это был второй брак. Было четверо детей. Во-вторых, она была родовита, богата и талантлива. Ее брат, например, был губернатором Петербургской губернии, предки, якобы находились в родстве с самим Пушкиным, а она кроме литературного дара имела еще и недурной голос и, говорят, брала уроки у знаменитой Полины Виардо. А в-третьих, что касается «тройственного союза», то, как предполагала потом Сабашникова, для Зиновьевой-Аннибал это был единственный путь остаться рядом с мужем. Похоже на правду. «Когда я тебя не вижу, - говорила она Сабашниковой, - во мне поднимается протест против тебя, но когда мы вместе - все опять хорошо и спокойно». Сабашникова пишет: любой женщине в подобной ситуации была бы вполне понятна такая формулировка.
(обратно)Она напишет потом: «В первый раз я увидела Н.С. (Николая Степановича Гумилева. - В.Н.) в июне 1907 года в Париже (здесь Е.Дмитриева ошибается, ибо речь надо вести об июле, поскольку Гумилев оказался в Париже в двадцатых числах июля. - В.Н.), в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он (Гумилев. - В.Н.) был еще совсем мальчик, бледное манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, Н.С. читал стихи... Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик, Н.С. купил для меня такой букет, а уже поздно ночью мы все втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Н.С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и все. Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он»...
(обратно)«Трудно, почти невозможно поверить в телепортацию, - пишет Лариса Агеева, - но еще в 1622 году отец Алонсо де Бенавидес, прибывший в племя юмя, был поражен, узнав, что опоздал: индейцы уже были христианами. Он обратился к папе Урбану VIII и королю Франции Филиппу IV с просьбой выяснить - когда и как это произошло. Отрядили комиссию Индейцы рассказали, что обращение в христианство совершила европейская “женщина в голубом". Она оставила им крест, четки и потир. Комиссия продолжила расследование и обнаружила, что потир принадлежал монастырю в Агреде. В 1630 году де Бенавидес настоял на разрешении посетить монастырь и встретиться с сестрой Марией. Она рассказала ему о своих путешествиях в Мексику. Ее рассказ полностью совпал с тем, что увидел отец Алонсо в Мексике. Монахиня также подробно описала обычаи и одежду индейцев. Сестра Мария вела дневник, в котором рассказала о своих путешествиях и описала Землю в виде шара, что в те времена считалось ересью. Более того, она описала десять небесных сфер, невидимых человеческому глазу». Историки, исследовавшие жизнь Марии, сообщает Агеева, утверждают: та действительно многократно бывала в Мексике, причем иногда по четыре раза в день, что подтверждали индейцы разных племен, живших иногда на расстоянии многих сотен миль друг от друга. Эти мистические легенды не только отразятся на сознании Е.Дмитриевой, но, как верно пишет Л.Агеева, в полной мере проявятся потом в ее мистификации, когда она превратится в таинственную Черубину.
(обратно)В дневнике за июль 1909 г. Волошин пишет: «Это было вчера. Лиля пришла смутная и тревожная. Ее рот нервно подергивался... Мы сидели на краю кровати, и она говорила смутные слова... Она садится на пол и целует мои ноги. “Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс”...».
(обратно)Раньше И.Гюнтера об авторстве стихов Черубины догадался Алексей Толстой, который слышал, как их, еще в Коктебеле, читала Е.Дмитриева. Он случайно запомнил отдельные строчки. Догадывался об авантюре и вдумчивый Михаил Кузмин. Но оба, опасаясь быть втянутыми в скандал, предпочитали до поры до времени молчать о своих догадках...
(обратно)Будем справедливы: А.Толстой, хорошо знавший Н.Гумилева, утверждал, что приведенных оскорбительных слов в адрес Е.Дмитриевой он не произносил. «Однако из гордости и презрения, - пишет Толстой, - молчал, не отрицая обвинения». О каких словах Гумилева идет речь - неясно. Фраза Гумилева, приведенная в книге И.Гюнтера, вряд ли сильно искажена - он был свидетелем, и не единственным, этой встречи. Скорее всего Толстой имеет в виду некий «пренебрежительный» отзыв о Дмитриевой, «брошенный» где-то Гумилевым, который и стал поводом для объяснения на Ординарной.
(обратно)Из книги Л.Агееевой «Неразгаданная Черубина» я узнал, что Гумилев действительно мог учить Волошина некоторым дуальным правилам. Оказывается, за семь месяцев до их ссоры, ставшей причиной дуэли, в марте 1909 г., мирный, мягкий, благодушный Волошин «едва не вызвал на дуэль» некоего К.Лукьянчикова, который якобы оскорбил его мать. Секундантами в той несостоявшейся дуэли, как пишет Агеева, «должны были быть Н.Гумилев и А.Толстой».
(обратно)О М.Заболоцкой, об этой «юродивой» и «святой», всего не расскажешь. Приведу лишь слова самого Волошина, написанные им в письме в 1923 г. М.Сабашниковой - первой жене. «Хронологически ей 34 года, духовно 14. Лицом похожа на деревенского мальчишку этого же возраста... Не пишет стихов и не имеет талантов. Добра и вспыльчива. Очень хорошая хозяйка, если не считать того, что может все запасы и припасы подарить первому встречному. Способна на улице ввязываться в драку с мальчишками и выступать против разъяренных казаков и солдат единолично. Ей перерубали кости, судили в Народных трибуналах, она тонула, умирала ото всех тифов. Она медичка, но не кончила (медицинского факультета. - В.Н.), т.к. ушла сперва на германскую, потом на гражданскую войну. Глубоко по-православному религиозна... Ее любовь для меня величайшее счастье и радость».
(обратно)Э.Голлербах познакомится с М.Волошиным в доме знаменитой художницы Елизаветы Кругликовой (пл. Островского, 9), которую Волошин знал еще по Парижу и кого обязательно навещал в Ленинграде.
(обратно)Встретив в Феодосии Гумилева, Волошин сказал: «Со времени нашей дуэли прошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки». Гумилев пробормотал что-то в ответ, и они пожали друг другу руки. Но Волошину зачем-то захотелось выговориться: «Если я счел тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, - начал он объясняться, - то не потому, что сомневался в правде ваших слов, но потому, что вы об этом сочли возможным говорить вообще...» - «Но я не говорил, - крикнул Гумилев. - Вы поверили словам той сумасшедшей женщины... Впрочем... если вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда...».
(обратно)Кстати, требование Н.Гумилевым второго, а затем и третьего выстрела объясняется дуэльным кодексом. По нему отказ от выстрела или выстрел в воздух расценивались как оскорбление противника. М.Волошин после дуэли в письме А.Петровой сообщил: «Надо ли говорить, что я целил в воздух»... А Е.Дмитриева (Черубина) той же Петровой сразу после поединка написала: «Макс прямо сияет, он все время держал себя великолепно». А вообще, никакие кодексы ни до, ни после не могли заставить Волошина нанести вред не только человеку - злому зверю. Однажды в горах Крыма на него напала стая диких овчарок, которые, говорят, легко разрывают человека на части. «Как же ты отбился?» - спросили Волошина. «Не буду же я, в самом деле, драться с собаками! - ответил он. - Я с ними поговорил».
(обратно)Этот факт поминают часто. Но факт, к сожалению, ничем пока не подтвержден; он был в письме Волошина к своему однокашнику в Берлин А.Ященко. Письмо читали многие, многие помнили его, но сам текст письма, увы, не дошел до нас.
(обратно)Кстати, за год до «визита» Волошина в Кремль в той же квартире, только у жены Л.Каменева, заведующей Театральным отделом Наркомпроса, успеет побывать и М.Сабашникова - она после революции работала в секции театра для детей. Ее, в отличие от Волошина, даже угостят чаем с ломтиком хлеба из чашек с царскими коронами. А вообще Сабашникова довольно скоро окажется в эмиграции, жить будет в Штутгарте, умрет 2 ноября 1973 г., пережив Волошина ровно на сорок лет.
(обратно)«Вырождение» - так называлась знаменитая книга венгерского психолога и политолога Макса Нордау, который в конце XIX в. утверждал: человечество движется к своему вырождению. Признаками его считал ущербность, апокалипсические предчувствия, национальное мессианство, рождение таких понятий, как «раса господ» и «сверхчеловек». Нордау считал «вырождение» болезнью, призывал бороться с ней, но подчеркивал - оно не противоречит таланту и даже гениальности. Больное сознание, невнятная музыкальность сумасшедшего, извращенные наклонности дегенерата-художника, в отличие от дегенерата-преступника, проявляются не в убийствах и разбое, а в том, что художник заражает общество своими опасными мечтами и стремлениями. Имел в виду Бодлера, Рембо, Верлена, Уайльда, Эдгара По, даже Метерлинка и Ибсена. А Верхарна вообще называл «нравственным кретином». От них, писал, «нравственно подташнивает», и считал, что общество должно защищаться от такой литературы. Русский декаданс в литературе - это прежде всего символизм. Весь Серебряный век вышел из него. В поэзии первыми символистами стали Д.Мережковский, К.Бальмонт, В.Брюсов, З.Гиппиус. И - Ф.Сологуб.
(обратно)На авторство псевдонима Сологуба претендовал и критик Аким Волынский. Выступая в 1924 г. на собрании по случаю сорокалетия творческой деятельности Ф.Сологуба, он со сцены театра сказал: «Примите, дорогой друг, приветствие от вашего литературного крестного отца. Мне выпало на долю дать вам псевдоним, который прославил вас в литературе...».
(обратно)Семья Тетерниковых, когда Феде было четыре года, жила на Могилевской улице (Лермонтовский пр., 19), потом - в Минском (Минский пер., 3), Прачечном (Прачечный пер., 10) и Климовом (Климов пер., 7) переулках. Мать - прачка у господ. Отец - портной, крепостной малоросс. Дед, по слухам, был внебрачным сыном некоего помещика Иваницкого из Полтавской губернии, про деда говорили, что видно было - он «не из простых мужиков»...
(обратно)М.Павлова, написавшая книгу о Ф.Сологубе, утверждает, что после смерти матери сестра поэта, Ольга, «взяла на себя роль “женщины-палача”», то есть стегать розгами будущего классика стала уже она. Так что слова о том, что она «побаивалась» брата, видимо, надо «делить на два», как говорят ныне. Но любили они друг друга, несмотря на это, беззаветно. Сологуб после смерти сестры напишет в одном из писем: «С сестрой была связана вся моя жизнь, и теперь я словно весь рассыпался и извеялся в воздухе. Как-то мне дико, что умер не я...» (курсив мой. - В.Н.).
(обратно)Писательница и художница Е.Данько, последняя любовь поэта, пишет в воспоминаниях, что для Сологуба было характерно «использование не жизненных материалов и наблюдений, а литературных, уже созданных, уже готовых образов». Сам Сологуб в письме к А.Измайлову еще до революции высказался однозначно: «Если бы я только тем и занимался, что переписывал бы из чужих книг, то и тогда мне не удалось бы стать плагиатором, и на все я накладывал бы печать своей достаточно ясно выраженной литературной личности». Потом вообще скажет фразу, на первый взгляд ошеломляющую: «Новым Пушкиным будет только такой поэт, который беззастенчиво и нагло обворует всех своих современников и предтечей».
(обратно)До встречи с Ф.Сологубом А.Чеботаревская давала частные уроки, служила в Статистическом комитете, писала, переводила, бегала по редакциям и конторам. С 1902 г. училась в Париже в Русской Высшей школе общественных наук. Вернувшись в Петербург в 1905 г., стала работать в редакции «Журнала для всех». Кстати, первой в России перевела роман «Красное и черное» Стендаля. А весной 1907 г. задумала подготовить книгу автобиографий писателей. С мнительным, обидчивым Сологубом сходилась, кажется, сложно. Подруга ее, уже знакомая нам В.Щеголева, писала ей 26 июля 1908 г.: «Рада за Вас, моя хорошая, ничего, что трудно подчас уступать, без этого нельзя, одинаковых индивидуальностей нет, а Сологуб - слишком крупная и положительная сила... Его нужно любить, и он стоит этого... Может быть, только к 30 годам мы и научаемся по-настоящему ценить людей»... Короче, осенью 1908 г. Чеботаревская окончательно переезжает к Сологубу. Официально мужем и женой они станут только в 1914 г.
(обратно)Маскарады у Сологубов были регулярны и, в духе времени, довольно свободны. Скажем, 3 января 1910 г. Ф.Сологуб, собрав писателей на костюмированный бал, сам нарядился в костюм римского сенатора, Волошин оделся тибетцем, Толстой - Вакхом в леопардовой шкуре, а Тэффи - вакханкой (более обнаженной, чем одетой, как отмечает Фидлер). «Она столь цинично позволяла касаться различных частей ее тела и сама столь бесстыдно хватала других, что я, - пишет о Тэффи Ф.Фидлер, - был безмерно счастлив оттого, что не взял с собой дочь. В разных углах дивана сидели и обнимались парочки, не преступая, впрочем, запретной черты; особенно привлекали внимание актер Нувель с женой А.Толстого. Потемкин в черном трико, худой и долговязый, катался по полу возле женских ног, он стоял на руках и тянул ноги кверху, стараясь держать их ровно... целую минуту кружился вокруг своей оси, как волчок». Ужин, добавляет не без разочарования Фидлер, подали только в пять утра, и он оказался столь скудным, что многим ничего не досталось...
(обратно)В.Смиренский, хорошо знавший Ф.Сологуба в последние годы его жизни, в своих коротких воспоминаниях пишет: «Он рассказал мне... что целый ряд его пьес и рассказов, напечатанных под его именем, принадлежит не ему, а его покойной жене Анастасии Чеботаревской. Он вскоре после ее смерти (в 1922 году) даже печатно заявил об этом. Мне же объяснил простую причину этого: Сологубу платили значительно больше, чем его жене, и потому он часто подписывал ее произведения своим именем...».
(обратно)А.Чеботаревская, как напишет ее племянница Т.Черносвитова, страдала «припадками циркулярного психоза». «Заболевание это выражалось в настойчивом желании покончить с собой, столь настойчивом, что близким приходилось неусыпно стеречь больную, не отходя от нее ни днем, ни ночью. Особенно трудно было устеречь от попытки самоубийства по той причине, что внешне болезнь для постороннего глаза совершенно не заметна - никаких странностей, ничего от “сумасшедшего”, только бледность, вялость, угнетенный вид и одна навязчивая идея, которая хитро скрывалась от окружающих». Три раза повторялись припадки ее: первый раз в молодости, второй - во время войны в 1914 г. и третий - в 1921 г., когда все закончилось смертью. Мать Чеботаревской также покончила с собой, будучи совсем молодой. А через несколько лет после Чеботаревской в силу, похоже, той же болезни и тем же способом покончит самоубийством и ее родная сестра.
(обратно)Ф.Сологуб, чтобы «раскрутить», как сказали бы сегодня, И.Северянина, организовал даже первое турне его по городам России. Сам с ним поехал. «И не ошибся: их совместные выступления производили бум. Успех был оглушительный, но Северянин вдруг заскучал, закапризничал и, не предупредив Сологуба, вернулся в Петербург». Тогда они и поссорились впервые. «Не люблю, - сказал о Северянине Сологуб, - когда при мне кладут ноги на стол!..».
(обратно)Помните, Тэффи писала, что Сологуб «никогда не смеялся»? Она не оговорилась. Не смеялся до встречи с Чеботаревской. Тот же Ф.Фидлер утверждает: в 1914 г. Сологуб уже хохотал. «Мы вообще почти все время хохотали - причем громче и искреннее других Сологуб (широко открывая рот, так что дыра, образованная двумя отсутствовавшими верхними зубами, прямо-таки зияла). Я убежден, - пишет Фидлер, - что человек, способный так невинно, непосредственно, от души смеяться, не может обладать злым сердцем».
(обратно)В салоне Сологуба затевались даже самострелы ради рекламы. Одна актриса, подруга Игоря Северянина, всерьез просила его выстрелить в нее из револьвера, но так, чтобы пуля ее не задела. «Это было бы отлично для рекламы», - прямо пояснила она.
(обратно)А.Варламов в книге об А.Толстом утверждает, что накануне маскарада у Сологубов у Толстых был устроен «вечер ряженых». И именно для этого вечера Чеботаревская по просьбе Толстого, раздобыла ему обезьяньи шкурки. Жена Толстого, С.Дымшиц, в неопубликованных мемуарах пишет, что хвосты от шкурок отрезали не Толстой или Ремизов, а Александр Бенуа, который, несмотря на свой возраст, был «довольно авантюрным человеком». Хвосты он якобы отдал мужчинам, а шкурки обезьян - женщинам, которые заворачивались в них. И именно в этих «костюмах» все назавтра отправились к Сологубам. К счастью, у Бенуа нашлось нечаянное алиби - Ремизов в письме к Чеботаревской сообщил, что Бенуа пришел к Толстым не только когда там был уже сам Ремизов, но когда хвосты уже были отделены от шкур. Словом, восстановить истину нельзя и сегодня. Я опускаю подробности «третейского суда», где посредником был Блок, а арбитром Вяч. Иванов, опускаю подробности, иногда смешные, иногда горькие. Скажу только, что Варламов, разбиравшийся в этом «деле», пришел к выводу, что весь сыр-бор разгорелся не из-за вражды Толстого и Сологуба, а исключительно из-за их жен, которые остро ненавидели друг друга...
(обратно)Таким запомнил Ф.Сологуба Н.Оцуп. В феврале 1921 г. он встретил его у гостиницы «Астория». «Снег виднеется между колоннами Исаакиевского собора, снег лежит на крышах “Астории”, у дверей которой стоит чистенький автомобиль Зиновьева, снег хрустит под полозьями каких-то чудовищных саней... На санях лежит несколько огромных бурых бревен, и старичок, обмотанный женским платком, кряхтя, тащит за собой поклажу. Я вглядываюсь в лицо старичка - Сологуб... Я здороваюсь и вызываюсь помочь... “Где достали бревна, Федор Кузьмич?” - “За Нарвской заставой... Анастасию Николаевну надо порадовать. Она больна”. - “Что с ней?” - “Нервы. Скоро поедем в деревню. Даст бог, поправимся”».
(обратно)Ныне опубликовано постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 20 декабря 1919 г., в котором в пункте №14 говорится: «Переданное т. Троцким ходатайство Сологуба о разрешении ему выехать заграницу (так в тексте. - В.Н.) отклонить. Поручить комиссии по улучшению условий жизни ученых включить в состав обслуживаемых ею 50 крупных поэтов и литераторов, в том числе Сологуба и Бальмонта»... В начале 1921 г. разрешение на выезд было получено, но затем вновь аннулировано... Известно, что на 10-ю линию в конце концов пришло официальное письмо: «Согласно постановлению заседания секретариата ЦК №34... ходатайство Ваше о разрешении на выезд за границу отклонено»...
(обратно)А.Чеботаревская чувствовала, что «заболевает». Сестре Ольге написала накануне: «Милая Оля, очень прошу тебя, если возможно - приди сегодня к нам, я очень плохо себя чувствую, боюсь, что заболею, как тогда, и что тогда делать - кто будет за мной ходить - лучше бы уж заблаговременно куда-нибудь в санаторий, а то бедному Федору Кузьмичу, и так больному, со мной возиться не под силу... Кроме тебя, мне не к кому обратиться... Буду сегодня ждать, может, это только временное переутомление»... И Ольга, и ее дочери Татьяна и Лидия сразу после этого письма стали ежедневно дежурить у больной, но трагического конца не предотвратили.
(обратно)Трагедия случится в Москве в 1925 г. на похоронах историка литературы М.Гершензона. Некая Ольга Дешарт пишет, что уже на панихиде по Гершензону Александра Чеботаревская (ее знали как переводчицу) вдруг кинулась к гробу его и, указывая простертой рукой на умершего, закричала: «Вот он! Он открывает нам единственно возможный путь освобождения от всего этого ужаса! За ним! За ним!..» И стремглав выбежала из зала. За ней якобы «в течение нескольких часов гонялись... по улицам, подворотням, лестницам» друзья ее - Ю.Верховский и Н.Гудзий. Но «хитростью безумия» ей удалось скрыться, и в тот же вечер она бросилась с моста. Вл. Ходасевич, с чьих-то слов, утверждал, что она после панихиды, напротив, появилась на кладбище. Речей у могилы решено было не произносить, но «какой-то коммунист, растолкав присутствовавших, подошел к могиле и стал говорить о том, что хотя Гершензон был “не наш”, все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна (Чеботаревская. - В.Н.) не выдержала и тут же высказала все, что накипело у нее на душе». А вечером, после нервного припадка, добрела до Большого Каменного моста, «осенила крестным знамением Москву... и бросилась... в полынью... Ее вытащили, но час спустя она скончалась... от разрыва сердца».
(обратно)Есенин жаловался Чернявскому, что Клюев и впрямь ревновал его к женщине, с которой у него был первый роман в Петрограде: «Только я за шапку, он - на пол... сидит и воет во весь голос по-бабьи; не ходи, не смей к ней ходить!..» Клюев, выходец из хлыстов, не скрывал своих гомоэротических наклонностей. И.Кон, известный сексопатолог, пишет в своей книге, что «со стороны Клюева эта дружба определенно была гомоэротической». Есенин называл Клюева своим «учителем», «дяденькой», приставленным к нему, но С.Городецкому однажды сказал вдруг с ненавистью: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!..».
(обратно)Рассказы Есенина о первой встрече с Блоком не только чересчур литературны, но, кажется, и приукрашены им. Специалисты пишут, что Есенин, не застав Блока, оставил, оказывается, записку: «Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С.Есенин»... Записку эту потом так и не нашли, а пометой Блока был сопровожден другой есенинский текст: «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять». Именно эти слова записки повторит потом в комментариях к записным книжкам Блока В.Орлов. Ныне считается, что короткий этот текст (одно предложение) - всего лишь пересказ А.Блока той, первой записки Есенина.
(обратно)Впрочем, поэтические амбиции 1920-х г. были у Есенина уже гораздо скромнее амбиций 1915 г. Если в 1920-х он ставил себя выше Блока, то в октябре 1915-го на квартире старейшего писателя И.Ясинского (Лисичанская, 9) Есенин, еще ничего почти не напечатавший, тем не менее в ответ на совет И.Ясинского больше читать Пушкина, сказал: «Что мне Пушкин! Разве я не прочел Пушкина? Я буду больше Пушкина!..» Когда дочь Ясинского упрекнула его за самоуверенность, он неожиданно мягко ответил: «Если бы Иероним Иеронимович упрекнул меня наедине... сказал бы с глазу на глаз... А то сидит Федор Сологуб с бородавкой на щеке и думает, что я не читал Пушкина. А я Пушкина люблю. Но сейчас России нужны другие стихи, иная поэзия...».
(обратно)Реально помог ему Городецкий. Он, как установлено, обратился к уполномоченному Ее Величества полковнику Ломану с просьбой зачислить поэта в санитары. Д.Ломан был всесилен - оба его сына, например, были крестниками царя и царицы. По его просьбе Есенин был назначен в 6-й вагон санитарного поезда. Ему присвоили личный знак №9999, выдали фуражку, гимнастерку, погоны, шинель, ремень, две пары рубашек нижних, три пары портянок и флягу. Кажется, с помощью Д.Ломана поэт станет позже и писарем. Сам Есенин в автобиографии напишет: «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам».
(обратно)С дезертирством путаницы в биографии Есенина еще больше. По «делам поезда» он якобы был командирован в Могилев. «В пути меня застала революция, - писал он позже. - Возвращаться в Петербург я побоялся... Пришлось сигануть в кусты; я уехал в Константиново. Переждав там недели две, я рискнул показаться в Петербурге и в Царском Селе. Ничего, обошлось...» В «Автобиографии» подчеркнет: «В революцию покинул самовольно армию Керенского», а в поэме «Анна Онегина» напишет, что, когда сгоняли «на фронт», он, «под грохот и рев мортир», другую проявил отвагу - «был первый в стране дезертир». По одной версии, был арестован на десять суток, по другой - просидел на гауптвахте полгода, по третьей - был отправлен в дисбат, ибо отказался писать оду на 6 декабря 1916 г. - именины царя. Что тут правда - неизвестно. Когда в 1920 г. его арестуют, то на допросе в МЧК Есенин скажет: «Был призван на военную службу в 1915 г. С 29 августа 1916 по февральскую революцию сидел в дисциплинарном батальоне, то есть 5 с лишним месяцев был под арестом». На следующем допросе, видимо, войдя в роль борца с царизмом, он смело прибавит себе еще полгода наказания: «За оскорбление престола, - заявит, - был приговорен на 1 год дисциплинарного батальона».
(обратно)На этом доме ныне - мемориальная доска. Но, судя по воспоминаниям друзей поэта, первой его комнатой, куда он привел жену, была комната, снятая им же на Литейном (Литейный, 49), но ближе к Невскому. Об этом пишут В.Чернявский и Н.Никитин. Оба помнят, что окна первой комнаты выходили именно на проспект. «Однажды с Есениным мы ехали на извозчике по Литейному, - вспоминал Никитин. - Увидев большой серый дом в стиле модерн на углу Симеоновской, он с грустью сказал: “Я здесь жил когда-то... Вот эти окна!.. Тогда у меня была семья. Был самовар. Как у тебя. Потом жена ушла”»...
(обратно)Видимо, здесь Есенин записался в боевую дружину, которая формировалась в бывшем Пажеском корпусе (Садовая, 26). А.Блок 21 февраля 1918 г. отметил у себя в дневнике: «Есенин записался в боевую дружину». Д.Семеновский утверждает, что в ответ на обращение В.Ленина «Социалистическое отечество в опасности», написанное в связи с немецким наступлением в 1918 г., «Есенин записался в дружину». Сам Есенин позже скажет: «Блок и я - первые пошли с большевиками». Потом опровергнет это: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее...» Но заявление «в большевики», как утверждал его старший друг Г.Устинов, бывший тогда секретарем газеты «Правда», в январе-феврале 1919 г., кажется, подавал.
(обратно)Кстати, отношения между Есениным и Миной Свирской, будущей известной эсеркой, были настолько чисты, что лишь через год, на дне рождения поэта, как вспоминала Мина, они впервые перешли на «ты»: «Есенин настоял, чтобы я с ним и с Алешей выпила на брудершафт, - напишет об этом вечере Мина Свирская. - Мы выпили. Ганин стал придумывать для меня штраф, если я буду сбиваться с "ты” на “вы”».
(обратно)Пьеса называлась «Крестьянский пир». Уничтожил ее, по некоторым сведениям, уже «в корректуре». «Андрей Белый, - вспоминал Есенин, - до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею...».
(обратно)Кстати, имя героини этой поэмы Есенин позаимствовал у некой писательницы О.Онегиной (настоящая фамилия - Сно), в петроградском доме которой (Херсонская ул., 1, кв. 8) еще до революции, конечно, и бывал, и читал стихи.
(обратно)Квартиры Н.Ходотова, актера и писателя, где бы ни жил он (Коломенская, 42, Глазовская, 5, и т.д.), всегда были не просто местом встреч интеллигенции, но, как ни странно, и местом «выяснения отношений». Хозяин не мог не помнить, например, как еще в 1911 г. Куприн, разгоряченный водкой, едва не придушил у него другого классика - Леонида Андреева. Того еле вырвали из рук Куприна, который применил какой-то запрещенный в борьбе прием (кажется, «удавку»), А успокоили драчуна лишь тогда, когда четыре человека (!) натуральным образом уселись на него... В 1924 г. уже Есенин тут, на Невском, после вечера Рины Зеленой, устроил скандал. «Часа в три ночи... - пишет Л.Гинзбург, - в зал вваливается Есенин... Некоторое время сидит покачиваясь, потом... разражается невероятнейшей матерщиной. Дамы поднимают визг, мужчины бросаются к Есенину... Рина великодушно попыталась спасти положение; она взобралась на стол и потребовала, чтобы ей дали слово. Когда установилась... тишина, она дружески обратилась к “знаменитому поэту": “Дорогой Есенин, перестаньте. Ваши трехэтажные ругательства здесь не пройдут. Петербург никогда не поймет Москву!..” Это положения не спасло, и один драматург (М.Волобринский. - В.Н.) дал пьяному поэту по физиономии»... По словам В.Эрлиха, ударил со словами: «Ты жидов ругаешь? Получай!..» Говорят, на другой день Есенин поехал к Рине и полчаса на коленях молил ее о прощении.
(обратно)15 июля 1924 г. Есенин пишет ей: «Галя милая! Ничего не случилось, только так, немного катался на лошади и разбил нос. У меня от этого съехал горб (полученный тоже при падении с лошади). Хотели справить, но, вероятно, очень трудно. Вломилась внутрь боковая кость. Очень незаметно с виду, но дышать плохо. В субботу ложусь на операцию. 2 недели пролежу...».
(обратно)П.М.Зиновьев, психиатр. Работал в психиатрическом отделении. Был лечащим врачом Есенина. Его старшая дочь, Н.П.Милонова, и ее муж, поэт Иван Приблудный, друг Есенина, уговорили Зиновьева спрятать Есенина в больнице от чекистов (см.: Мой дед прятал Есенина от чекистов // Известия. - 2008. - 28 марта).
(обратно)А.Мариенгоф, хорошо знавший С.Есенина, напишет в книге «Мой век, мои друзья и подруги»: «К концу 1925 года решение “уйти” стало у него (Есенина. - В.Н.) маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом». Разумеется, можно спорить и доказывать, что поэта все-таки «убили», что он «не сам» полез в петлю, что кому-то «очень мешал» (и факты иногда подтверждают это), но от свидетельства Мариенгофа нам все равно не уйти. Ведь все попытки Есенина покончить с собой, которые приводит Мариенгоф, да и те, которые не приводит, на самом деле были.
(обратно)Повторяю, загадок, вокруг смерти Есенина, много. Одна из них связана с этой семейной парой - с Устиновыми. Он (журналист спецпоезда Л.Троцкого, сотрудник «Правды» и «Известий», как помните, принимал когда-то от Есенина заявление в партию) был одним из немногих свидетелей событий в «Англетере». И вдруг 10 декабря 1932 г., Г.Устинов, как и Есенин, - вешается. Причем вешается - вот загадка! - на другой день после того, как в частной беседе обещает наконец рассказать о последних часах жизни Есенина. Случайность? Возможно. Но таких случайностей, повторяю, слишком много...
(обратно)В.Шубинский, написавший книгу о поэте, утверждает, что фамилия Гумилев происходит от слова «гомилетика», что означает «искусство составления проповеди» (предмет в семинариях). По второму варианту - от латинского humilis - «скромный», «низкий», «незначительный». Пишут о том, что изначально фамилия Гумилев произносилась с ударением на первом слоге. Случалось, так обращались и к поэту. Правда, сам он этого не выносил, и когда в гимназии его порой называли так, он не только обижался, но даже «не вставал с места».
(обратно)В гимназии Я.Гуревича учились многие, в частности И.Стравинский и Ф.Юсупов, будущий убийца Г.Распутина. Русский язык здесь преподавал (правда, задолго до Гумилева) поэт И.Анненский. Гумилев станет учеником его, но позже, когда Анненского назначат директором царскосельской гимназии. А во времена Гумилева здесь преподавал Ф.Фидлер, литератор, переводчик, друг едва ли не всех русских писателей - от Чехова до Бунина. Так вот, в дневнике Фидлера за 1911 г., когда он впервые услышал о «модном» молодом поэте Н.Гумилеве, появилась запись: «Упомянутый Гумилев был лет пятнадцать назад моим учеником в гимназии Гуревича... обратив на себя внимание всех учителей своей ленью. У меня он получал одни двойки и принадлежал к числу самых неприятных и самых неразвитых моих учеников...».
(обратно)Удивительно, что «вытворяют» с нами гены. Вообразите, через два года после расстрела Н.Гумилева его сын, двенадцатилетний Лев, знаменитый в будущем ученый, напишет матери из Бежецка: «Я заведую музеем, у нас музей естествознания, мы собираем камни, насекомых, скелеты рыб и листья». И в этом же письме сообщит: «Я увлекаюсь индейцами, и у нас создалось племя из четырех человек, в котором я состою колдуном, я вылечил вождя и тетю Шуру...» Он, как и отец, не только будет играть «в индейцев», но и ребенком еще научится «читать» немые карты, что требовало, как известно, немалых знаний в географии.
(обратно)В 1920 г. Гумилев признается поэтессе И.Одоевцевой: жалел, что выпустил столь слабый сборник. «Скупал его, - скажет ей, - и жег в печке...».
(обратно)Про «букет» рассказал в мемуарах поэт Вс. Рождественский, чей брат был, кстати, однокашником Гумилева в царскосельской гимназии. И.Одоевцева, которая все, конечно, знала о Гумилеве, отвергнет этот факт. «Если бы такой случай действительно имел место, то Николай Степанович не удержался бы сообщить о нем мне, так как любил производить впечатление». Та еще, согласитесь, аргументация. Более серьезны претензии к мемуарам Вс. Рождественского у А.Ахматовой. В опубликованных ныне записях И.Михайлова, который встречался с нею в 1960-х г., Ахматова, на вопрос о мемуарах Рождественского, сказала: «Ну, это, конечно, чепуха, как все, что вылетает из этого мутного источника... Вечно он все перепутывает, выдумывает... Он, например, однажды рассказывал, будто на мои именины преподнесли шесть одинаковых букетов и Гумилев, который принес такой же, увидев это, забрался под окна императрицы и нарвал мне цветов там. А как же это могло быть, если мои именины на зимнюю Анну, зимой?..» Да, именины Ахматовой приходились на 16 февраля. Но ведь автор воспоминаний пишет о дне рождения, который, как известно, был в июне. Я, со своей стороны, почти уверен, что подобный поступок был. Во-первых, он, что называется, в духе Гумилева (таких «безумств» у него не счесть). А во-вторых, Ахматова, которая и позже мало обращала внимания на поэта, вполне могла в пылу праздника «не заметить» этого эпизода, не услышать, о чем переговаривалась ее мать с Колей.
(обратно)Имеются в виду сестры Аренс, дочери барона и свитского адмирала Е.Аренса: Зоя, Вера, Анна и их двоюродная сестра - Лидия. Все, кроме Анны, были в Гумилева влюблены. Гумилев дружил с Верой Аренс, поэтессой и переводчицей, а Лида, с которой у него возникнет роман, и есть та девушка, которая из-за него уйдет из родного дома. Ахматова узнает о давнем романе Гумилева и Лиды Аренс только в начале 1920-х г. - от Н.Пунина, который был женат как раз на Анне Евгеньевне Аренс.
(обратно)Это возвращение в Париж Гумилев опишет в письме к В.Брюсову как цепь то ли мифических, то ли действительно бывших приключений. Оказывается, он прожил неделю в Константинополе, «в Смирне имел мимолетный роман с какой-то гречанкой, воевал с апашами в Марселе и только вчера, не знаю как, не знаю зачем, очутился в Париже. В жизни бывают периоды, когда утрачивается сознание... цели, когда невозможно представить своего “завтра’’ и когда все кажется странным, пожалуй, даже утомительным сном...» Понятно его настроение. Но что за гречанка, что за роман, про который даже Ахматова недоуменно пожмет плечами? Биограф Гумилева В.Шубинский, выпустивший семисотстраничную книгу «Жизнь поэта», пишет: «Почему Гумилев (как правило, не рассказывавший знакомым и даже друзьям о своих отношениях с женщинами) счел необходимым поведать Брюсову о “мимолетном романе”. Можно предположить одно... - утверждает биограф, - будущий неутомимый ловелас в двадцать один год, несмотря на... гимназисток, был еще, в отличие от своей возлюбленной (А.Ахматовой. - В.Н.), “невинен". В Смирне он (обиженный и уязвленный тем, что узнал...) спешно потерял девственность с первой же портовой девицей. О таком важном событии, конечно, подмывает рассказать хоть кому-то...».
(обратно)Тот же В.Шубинский считает, что этот рассказ - всего лишь «беллетристический опыт» молодого А.Толстого, а описанные «ощущения отравившегося», по словам исследователя, «наводят на мысль скорее не о цианиде, а о наркотиках». Возможно, об «ощущениях» - какие и от чего они бывают - автор биографии поэта осведомлен лучше, но я, несмотря на некоторое несовпадение рассказа в датах, верю Толстому, лично и хорошо знавшему Гумилева. Более того - допускаю, что яд, который он принял, сам Гумилев считал цианистым калием. Прецеденты «чудесного спасения» бывали в истории: тот же Г.Распутин, кого убийцы, как известно, травили пирожными, «набитыми» цианидом.
(обратно)Почему Орестом? В ее воспоминаниях, кажется, есть ответ. «В 1913 году, - пишет она, - Мейерхольд ставил в Мариинском театре оперу Рихарда Штрауса “Электра”. Мне он дал мимическую роль...» Роль гадалки. А вообще, Электра, по греческой мифологии (а не по дошедшим до нас античным пьесам), не сестра - кормилица Ореста, который, мстя за убитого матерью отца, убивает и мать свою, Клитемнестру, и ее любовника. Орест мстит матери за отца. В известной мере, зная, что О.Высотская порвала с Гумилевым, но при этом родила от него сына, она как бы «убила» отца для собственного сына. С другой стороны, Орест (возможно, такова была логика этой и тонкой, и умной женщины) своим рождением как бы навсегда «убил» и жизнь матери, которая не только никогда не выйдет замуж, но и всю оставшуюся жизнь проживет одиноко. Кстати, факт расстрела Гумилева Высотская будет скрывать от сына до 1924 г., уверяя его, что отец «найдется» после Гражданской войны. Потом она встретится с Ахматовой, Орест и Лев, братья по отцу, подружатся, вместе будут арестованы, но оба выживут. И, образно говоря, Орест сполна «отомстит» за расстрелянного отца. Несмотря на то что сам станет всего лишь директором мебельной фабрики, он тем не менее составит генеалогическое древо Гумилевых, опубликует «Африканский дневник» его и, главное, напишет блестящую книгу «Николай Гумилев глазами сына». Глазами, которые никогда не видели отца.
(обратно)Андрей Белый утверждал потом, что акмеизм придумал на «Башне» у Вяч. Иванова как раз он. «Вячеслав любил шуточные поединки, стравляя меня с Гумилевым, - пишет он. - Раз, подмигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу... С шутки начав, предложил Гумилеву я создать “адамизм” и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово “акмэ”, острие: “Вы, Адамы, должны быть заостренными” (более точный перевод слова “акме” - высшая степень, цветущая пора. - В.Н ). Гумилев, не теряя бесстрастия, сказал, положив нога на ногу; “Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию - против себя: покажу ужо вам «акмеизм»!" Так он стал акмеистом», - заканчивает А.Белый. Позднее этим, кстати, как всегда, возмутилась Ахматова: «Более отчаянной и бессмысленной выдумки я никогда не слыхала». На старости лет скажет Л.Озерову, что акмеизм придумали все вместе: «Гумилев поспорил и поссорился с... символистами. Молодежь - шесть человек - отделилась. Собрались, искали название. Потянулись к греческому словарю. Мне было приказано запомнить новый термин - “акме”». Увы, «возмущение» Ахматовой отнюдь не противоречит словам Белого. Ведь само слово «акме» вполне могло прозвучать впервые в разговоре с Вяч. Ивановым и Белым - в образованности обоим не откажешь. Гумилев словечко отметил, потом все вместе порылись в словарях и... приказали Ахматовой запомнить термин...
(обратно)Редакция «Гиперборея» вскоре переедет отсюда к Пяти углам (Разъезжая, 3). А в доме на Волховском, «увешанном» мемориальными досками, жили когда-то композитор П.Чайковский (с 1848 по 1849 г.), художники М.Клодт (с 1870 по 1910 г.), Г.Мясоедов (1888 г.), И.Крамской (с 1869 по 1887 г.), А.Куинджи (с 1897 по 1910 г.).
(обратно)А.Аверченко, известный сатирик, однажды не очень ловко пошутил. Когда Гумилев по просьбе сотрудников «Аполлона» делал доклад об этом путешествии, Аверченко, подойдя к столику, на котором лежали экспонаты и шкурки убитых зверей, и повертев их в руках, издевательски спросил: а почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо городского ломбарда? «В зале поднялось хихиканье, - пишет К.Чуковский, - очень ехидное, ибо из вопроса сатириконовского насмешника следовало, что все африканские похождения Гумилева - миф, сочиненный им здесь, в Петербурге. Гумилев ни слова не сказал остряку. На самом деле печати на шкурках были поставлены отнюдь не ломбардом, а музеем Академии наук, которому пожертвовал их Гумилев...» А вообще, Гумилев целую неделю сдавал в этнографический музей свой бесценный багаж. Известный африканист Д.Ольдерогге позднее расскажет: «В результате заказчику были переданы три коллекции, зарегистрированные под номерами 2154, 2155 и 2156. Первая коллекция - Харрара (домашняя утварь, одежда, кожаные переплеты для рукописей и книг, ступка с пестиком). Вторая коллекция - Сомали (оружие, щиты, колчаны, копья, палицы, ножи). Третья - Мета, Бали, Аппия и Арусси (кувшины, корзины, украшения женские, чернильницы, ткацкий станок). Кроме того, он привез картины абиссинских мастеров...».
(обратно)Странно, но позже Гумилев не раз говорил про себя: «Я - трус». Ахматова скажет на это: «В сущности - это высшее кокетство». «Николай Степанович, - запишет потом П.Лукницкий, - говорил о “физической храбрости”. Он говорил о том, что иногда самые храбрые люди по характеру, по душевному складу бывают лишены физической храбрости... Например, во время разведки валится с седла человек - заведомо благородный, который до конца пройдет и все, что нужно, сделает, но все-таки будет бледнеть, будет трястись, чуть не падать с седла... Мне думается, что он был наделен физической храбростью...».
(обратно)13 января 1915 г. приказом по Гвардейскому кавалерийскому корпусу от 24 декабря 1914 г. за №30 Н.Гумилев награжден Георгиевским крестом 4-й степени. 15 января 1915 г. за отличие в делах против германцев произведен в унтер-офицеры. В июле 1915 г. награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В августе - орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. В декабре 1915 г. - вторым Георгием 3-й степени (спас под огнем брошенный отходящей пехотой пулемет).
(обратно)Дом, в котором поселилась семья Рейснеров в 1907 г. и где она проживет до 1918 г., выстроенный в стиле модерн, стоит и по сей день. Он был построен для герцога Лейхтенбергского, правнука Николая I. У профессора М.Рейснера была здесь четырехкомнатная квартира на пятом этаже - шикарная по тем временам: электричество, телефон, ванна. В доме, как пишут, «все было чопорно, точно, сдержано. Перепутать вилки за накрытым ослепительной скатертью столом - грех, положить локти на стол - великий грех, есть с открытым ртом - смертельный грех, не прощавшийся никогда». Он - профессор государственного права, его жена, мать Ларисы, - автор рассказов, «пропахших меблирашками», по словам А.Блока. Живя здесь, Лариса окончила гимназию с золотой медалью, бегала к нынешнему Чкаловскому проспекту на каток (его заливали на месте станции метро), а к Малой Невке - играть в парке в лаун-теннис. После школы поступила в Психоневрологический институт, но одновременно посещала лекции в университете. Кругом отличница. А когда напечатала первое стихотворение, в доме был, как пишет Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева, живший в семье Рейснеров, праздник на целую неделю.
(обратно)Вообще о причинах возвращения Гумилева в 1918 г. в Россию существуют разные мнения. Сын поэта Орест Высотский утверждал, что отец вернулся из патриотических соображений. Писали, что вернулся «бороться с большевиками», что был задействован «в русской разведке». Но в реальности все было, кажется, гораздо проще. Во-первых, это был приказ его начальства в Лондоне, основанный на финансовых затруднениях русской военной миссии, во-вторых, на возвращение Гумилева повлиял отказ Франции не только принимать у себя русских офицеров, оказавшихся по делам службы за рубежом, но даже пропускать их через свою территорию транзитом. А в-третьих, и это, возможно, главная причина, - банальное отсутствие денег на жизнь, ибо выплата жалованья и резко, и навсегда была прекращена. Известно, И января 1918 г. русский военный агент в Англии генерал Ермолов писал другому генералу - Занкевичу: «За невозможностью откомандирования его (Н.Гумилева. - В.Н.) обратно во Францию отправляю его первым пароходом в Россию». Поэту было выдано на дорогу, кажется из личных средств генерала Ермолова, 54 фунта стерлингов, на которые он протянул до мая 1918 г., пытаясь найти работу в Лондоне, но в конце концов вынужден был вернулся в Россию - пароходом, через Мурманск.
(обратно)О.Арбенина родилась и выросла в театральной семье, родители ее - артисты Малого театра, перебравшиеся из Москвы. Отец, Николай Гильдебрант, из шведов, из дворян, «был настоящим рыцарем чести», а мать, Глафира Панова, выросшая в балетной семье, была, по словам Ольги, «подлинно тургеневской женщиной» в том смысле, что осуждала «кокетство, адюльтеры, вольные разговоры». И отец, и мать дружили с великой Ермоловой, причем столь тесно, что даже свадьба их была устроена в доме Ермоловой в Москве. Мать Ольги, еще до замужества, была знакома с А.Островским, А.Чеховым, и если К.Станиславский был крестным старшей ее дочери, то младшую, Ольгу, крестил К.Варламов - знаменитый актер. Ольга при поступлении в 1916 г. в Императорское театральное училище взяла псевдоним отца и стала Арбениной. Писала стихи, посылала их на отзыв В.Брюсову. Потом стихи ее прочтет М.Кузмин и запишет: «Будто пятилетняя писала. Смешно, но даже не оскорбительно...» А Анна Энгельгардт была дочерью знакомого Гумилева, писателя Николая Энгельгардта, и двоюродной сестрой литературоведа и переводчика Бориса Энгельгардта. Когда-то ее отец познакомился с К.Бальмонтом, тогда безвестным поэтом, который после знакомства посмеялся над ним в письме к жене Ларисе Гарелиной: «Но... он холост и жениться не хочет никогда (о, глупец!)». На деле Н.Энгельгардт был влюблен в москвичку Катю Андрееву, которую звал замуж, но получил отказ. Ни Бальмонт, ни «глупец» Энгельгардт и вообразить не могли, что Екатерина Андреева станет вскоре второй женой как раз Бальмонта, а на первой его жене, Ларисе Гарелиной, женится Энгельгардт. Такой вот произойдет «обмен». Энгельгардт станет отцом сыну Бальмонта - Николаю, а от самого Энгельгардта у Гарелиной родится двое детей - дочь Анечка (будущая жена Гумилева) и сын Александр. Многие, правда, считали, что Анечка была все-таки дочерью Бальмонта, но родилась, когда Гарелина ушла к Энгельгардту. Не знаю, повлияло ли это обстоятельство в дальнейшем на выбор Гумилева, но в сравнении с Ольгой Арбениной, своей соперницей, Анна Энгельгардт оказалась более податливой бешеному напору поэта, и, как пишет, биограф его, уже через месяц после знакомства с ней тому было «нечего больше добиваться»...
(обратно)Весной 1916 г. Гумилева, заболевшего бронхитом (у него, пишут, обнаружили процесс в легком), кладут на лечение в лазарет Большого дворца в Царском Селе. Здесь поэт знакомится с дочерьми Николая II - великими княжнами Татьяной и Ольгой.
(обратно)Это было, кажется, «семейное». Георгий Иванов встречал профессора М.Рейснера на собраниях в Доме ученых после революции, где «папа Ларисы» говорил о святой науке и, «попутно, о своих заслугах перед ней: “Достаточно сказать, что в числе моих учеников есть трое ученых с европейскими именами, десять командиров Красной армии, четыре (особенно бархатная модуляция) председателя Чека”». «Что-то неуловимое их (Рейснеров. - В.Н.) отличало, - пишет Г.Иванов. - Это не было мое личное впечатление». Как раз об отце Ларисы Рейснер Гумилев как-то, смеясь, сказал Г.Иванову: «Знаешь, смотрю я на него, и меня все подмывает взять его под ручку: “Профессор, на два слова” - и, с глазу на глаз, ледяным тоном: “Милостивый государь, мне все известно”. ...Затрясется, побледнеет, начнет упрашивать». - «Да что же тебе известно?» - нетерпеливо перебьет Гумилева Иванов. «Ничего решительно. Но уверен, смутится. Обязательно какая-нибудь грязь водится у него за душой. Теперь... большинство профессоров и доцентов с этим мистическим “душком” составляет ныне цвет “марксистской профессуры”...».
(обратно)Об этом пишут несколько очевидцев. Б.Каплун, несмотря на свои 26 лет, был, что называется, «старый большевик». Племянник М.Урицкого - какой-то чин в управлении Петросовета, - он любил принимать у себя поэтов, писателей, художников. «Это приятный - с деликатными манерами, тихим голосом, ленивыми жестами - молодой сановник, - писал о нем К.Чуковский. - Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни...» А Ю.Анненков вспоминал, как Гумилев позвал его сюда «подышать снами». «А почему бы и нет? Понюхаем!» - сказал друзьям Каплун и принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром. «Гумилев прилег на турецкую оттоманку; Каплун - в кресло около письменного стола; я сел на диван чиппендалевского стиля... Все поднесли флакончик к носу. Я... твердо заткнув горлышко пальцем... Гумилев не двигался. Каплун закрыл свой флакончик, сказал, что хочет “заснуть нормальным образом”, и, пристально взглянув на Гумилева... вышел из кабинета, сказав, что мы можем остаться в нем до утра. Гумилев лежал с закрытыми глазами, но через несколько минут прошептал, иронически улыбаясь: “Начинаю грезить... вдыхаю эфир”... Вскоре, - заканчивает Анненков, - он действительно стал впадать в бред и произносить какие-то непонятные слова или, вернее, сочетания букв. Мне стало не по себе, и, не тревожа Гумилева, я спустился по лестнице и вышел на площадь...» О пристрастии Гумилева к наркотикам пишет и Э.Голлербах: «Однажды попросил у меня трубку для курения опиума, потом раздобыл другую, “более удобную”. Отравлялся дымом блаженного зелья. Многие смеялись над этими его “экспериментами”. Он же смеялся над современниками, благополучными обывателями. Отраду видел именно в том, что их только смешило...».
(обратно)И.Одоевцева в книге «На берегах Невы» пишет, что Гумилев говорил ей, что «участвует в заговоре», что однажды ходил на конспиративную встречу. Она же, слушая как-то стихи в его доме, машинально выдвигая и задвигая ящики стола, обнаружит в одном из них огромное количество банкнот. То же написал и Георгий Иванов: «Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов. “Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал”. - “Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. Месяца через два Иванов увидел его кабинет, перевернутый вверх дном: Гумилев что-то упорно искал. «Помнишь ту прокламацию? - спросил Гумилев друга. - Рукопись мне вернули. Сунул куда-то... Черт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе... Терпения не хватит...» «Терпения» у чекистов, как мы знаем сегодня, хватило. Они нашли и деньги, и ленту для пишущей машинки. Эти «вещдоки» фигурировали потом в его расстрельном деле.
(обратно)А ведь его, надо сказать, предупреждали об аресте. Та же О.Арбенина пишет, что влюбленный в нее Ю.Юркун, услышав от известного сплетника П.Сторицына про возможный арест Гумилева, подошел к поэту на улице и сказал: «Николай Степанович, я слыхал, что за вами следят. Вам лучше скрыться...» Гумилев в ответ лишь пожал ему руку. Известно, что Гумилеву предлагали даже бежать, но он ответил: «Благодарю вас, но бежать мне незачем...» Наконец, невольно предупредила его и власть, опубликовав в «Петроградской правде» доклад ВЧК, где были даны первые сведения о «Петроградской боевой организации» (ПВО), а В.Таганцев даже назван уже главой заговора. Доклад был опубликован 26 июля 1921 г.
(обратно)В.Таганцев - ученый, преподаватель университета, географ, был сыном крупнейшего юриста, основоположника и классика уголовного права, сенатора и члена Госсовета Н.Таганцева, на квартире которого еще в 1871 г. тайно собирались Чайковский, Перовская, Михайловский и др. народовольцы. В 1887 г. он помогал матери Ленина получить свидание со старшим сыном, в 1898 г. вызволял М.Горького из Метехского замка. Ему даже предлагали стать министром просвещения, а на четверговых обедах у него бывали А.Кони, В.Гаршин, В.Короленко, А.Блок, Б.Кустодиев... А.Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» говорит, что арестованный В.Таганцев 45 дней не давал показаний, а потом Я.Агранов предложил заключить соглашение. В.Шенталинский, официально допущенный в архивы КГБ СССР, ссылаясь на некоего Б.Сильверсвана, приводит текст этого «договора смерти»: «Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего. Не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Все это я делаю для облегчения участи участников нашего процесса. Я, уполномоченный ВЧК Яков Соломонович (так! - В.Н.) Агранов, при помощи гражданина Таганцева, обязуюсь быстро закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд, где будут судить всех обвиняемых... Обязуюсь, в случае исполнения договора со стороны Таганцева, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания...» Надо ли говорить, что Я.Агранов обманул ученого. Ведь он, утверждают, подписав договор, тут же переговорил по прямому проводу с Ф.Дзержинским, а тот, в свою очередь, на следующий уже день доложил Ленину. Об успехе доложил...
(обратно)Не только Н.Пунина удалось вытащить из этого «дела». Пишут, что был освобожден геолог Яворский, гидрогеологи Погребов и Бутов - за них просила Н.Крупская. Избежал расстрела инженер Названов - за него просил Ленина Г.Кржижановский. Наконец, по просьбе Горького (!), с подачи академика Вернадского, был освобожден химик А.Горбов. А ведь подпись М.Горького стояла (ее видел в документах тот же В.Шенталинский) и под коллективной просьбой писателей об освобождении Гумилева. Так что же - не заметили, не учли, не захотели обратить внимание?.. Или, как утверждают, была у Горького какая-то договоренность с властями, что на коллективные письма - даже с его подписью - реагировать не надо? Не знаю. Впрочем - главная причина была, кажется, в другом. Некий Л.Берман, молодой поэт, которого поддерживал Гумилев, «имел случай», как пишет В.Шенталинский, поговорить с Я.Аграновым и спросить: за что же так жестоко покарали участников заговора Агранов якобы ответил: «Семьдесят процентов петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врагов. Мы должны были эту ногу ожечь...» Да, расстрелять надо было в первую очередь тех, кто был известен, кто был примером, кто ни при каких обстоятельствах не согнулся бы перед властью. Тогда - да, тогда Гумилев - лучшая кандидатура для показательного расстрела. «Ожгли», на десятилетия «ожгли»...
(обратно)Опасность призыва и впрямь была реальна, несмотря на освобождение В.Ходасевича от воинской службы (у него была куча болезней). Одна из врачебных комиссий в Москве попалась, как пишут, на взятках. Нескольких врачей «быстренько» расстреляли, а всех обследованных ими послали на переосвидетельствование. Напуганные новые врачи, перестраховываясь, уже не глядя, отправляли на фронт поголовно всех. Грозило это и Ходасевичу. Горький, к которому в панике обратился поэт, велел не только написать письмо самому Ленину, но и лично отвез его в Кремль. Когда вся эта история закончилась, Горький и посоветовал поэту перебраться в Питер. Уезжал Ходасевич из Москвы по командировке Горького и даже в международном вагоне.
(обратно)А.Чулковой, когда она станет женой поэта, было 25 лет. Считалась поэтессой, печаталась под псевдонимом Софья Бекетова. После первого брака, от которого у нее был сын, дважды была гражданской женой друзей Ходасевича - Б.Диатропова, а затем брата Валерия Брюсова Александра. Все они были, говорят, одной компанией: Брюсовы, Чулковы, Диатроповы, Ходасевичи. Вместе снимали дачи, отдыхали, гуляли. В Петроград семья переедет в полном составе - третьим был сын Чулковой, Эдгар (Гарри) Гренцион. Он станет в Ленинграде артистом Агиттеатра при областном политпросвете. Женится и в конце 1920-х гг. будет жить на Морской улице (Б. Морская, 14), по соседству с домом, где родилась «разлучница» - Н.Берберова. Там у него, думаю, и останавливалась А.Чулкова, не раз наезжавшая потом в Ленинград.
(обратно)Н.Чуковский вспоминал, что однажды они вместе с Ходасевичем перелистывали только что вышедший сборник стихов Блока. И, наткнувшись там на какое-то стихотворение, Ходасевич «вдруг побледнел от волнения: “Как бы мне хотелось, чтобы я написал эти стихи!.. Я умер бы от счастья!”» В это же примерно время Ходасевич напишет в Москву своему приятелю, писателю В.Лидину, что, на его взгляд, в живых, т.е. тех, кто еще может что-то написать, осталось в России только три стихотворца: «Белый, Ахматова да - простите - я. Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Вяч. Иванов - ни звука к себе не прибавят. Липскеровы, Г.Ивановы, Мандельштамы, Лозинские и т.д. - все это “маленькие собачки”... Футур-спекулянты просто не в счет. Вот Вам и все». Правда, в конце письма добавит, что ни Белому с Ахматовой, ни ему «до Блока не допрыгнуть».
(обратно)Ходасевич и Берберова «догонят» Горького в Берлине, потом долго будут жить на вилле Горького в Сорренто, но чем дальше, тем больше пути их будут расходиться. И «прекрасный поэт» Ходасевич, прямой и «исключительно правдивый», превратится для Горького, по мере лукавого сближения того со Сталиным, в «типичного декадента, человека физически и духовно дряхлого», «преисполненного мизантропией и злобой на всех людей». Более того, М.Горький о единственно близком ему человеке и писателе скажет в конце концов нечто прямо противоположное тому, что говорил еще недавно: «Он не может - не способен - быть другом или врагом кому или чему-нибудь, он “объективно” враждебен всему существующему в мире, от блохи до слона, человек для него - дурак, потому что живет и что-то делает».
(обратно)Все у Горького банально свелось к деньгам. Жить ему в Италии было особо нечем. В начале эмиграций Политбюро ЦК РКП(б), по настоянию лично Ленина, дважды принимало - в 1921-м, а затем и в 1922 г. - решения «Об отпуске денег А.М.Горькому для лечения за границей» и «Об оказании материальной помощи А.М.Горькому». Потом и «акции» классика, а за ними и перспективы существования его за рубежом становились все более и более туманными. В 1925 г. Ходасевич и Берберова съехали с виллы Горького. Как оказалось, навсегда. «И когда коляска покатила вниз, к городу, - пишет Н. Берберова, - Ходасевич добавил с обычной своей точностью и беспощадностью: “Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева (главного врага Горького в СССР. - В.Н.) уберут, и он вернется в Россию...”» Так и случится, и не «поменять» мнения не только о «друге Ходасевиче», но практически обо всем слабеющий духовно Горький уже не мог. Он сам загнал себя в ловушку, в «золотую клетку» подарков и привилегий...
(обратно)Он действительно был другом поэтов. На даче Анненковых в Куоккале у него не раз ночевали именитые уже друзья его: В.Маяковский, М.Кузмин, В.Каменский, О.Мандельштам, В.Шкловский, Л.Никулин, Б.Лившиц, В.Пяст, В.Хлебников, С.Есенин. «Литературная дача» - звали дом Анненковых в Куоккале с незапамятных времен. Ведь и у отца художника здесь подолгу жили В.Короленко, Е.Чириков, К.Чуковский, С.Городецкий, бывали Л.Андреев, А.Куприн, И.Репин, Ф.Шаляпин, В.Мейерхольд. Кстати, именно Юрию Анненкову принадлежат слова, многое объясняющие в поэзии Серебряного века: «Настоящее художественное творчество начинается тогда, когда художник приступает к битью стекол...».
(обратно)«Краткая литературная энциклопедия» указала когда-то 1875-й год рождения поэта. Ошибку повторила потом «Большая советская энциклопедия», а вслед за нею и многие другие издания. Но в статье «Архивист ищет дату», вышедшей в 1978 г., К.Суворова установила год рождения точно - 1872-й. Что же касается самой попытки М.Кузмина ввести современников в заблуждение, то это, как пишут исследователи жизни поэта Н.Богомолов и Д.Малмстад, было ему столь свойственно, что иногда нельзя доверять сегодня даже фактам, приводимым им в письмах, даже словам его интимных дневников, которые он вел всю жизнь. Такой уж был человек - и выдумщик, и «шифровальщик» своего бытия!
(обратно)Было три дочери, все учились в пансионе, который располагался в уже упомянутом нами в главах о М.Волошине фамильном доме Бенуа (ул. Глинки, 15).
(обратно)Так, через запятую, перечисляет эпизоды жизни М.Кузмина в своих мемуарах Г.Иванов. Не всему здесь можно верить - Иванов, как я не раз писал уже, с удовольствием «беллетризировал» жизнь своих знакомых, то есть попросту привирал. По крайней мере, о приведенной мной фразе, которую я, ради краткости, не «заковычил», можно сказать, что ничего ныне не известно ни о «скитаниях» молодого Кузмина по России, ни о жизни его в монастырях.
(обратно)Его «музычка», в которой, по его словам, «был яд», всегда, непонятно почему, производила «чарующее впечатление». Вроде бы не играл, а скорее, «бренчал» на рояле, вроде сочинения его были, как пишут, «пусты и глуповаты», а голос - не без картавинки и пришепетывания, но что-то во всем этом было такое, что слушатели не только аплодировали ему, но и всякий раз просили играть снова и снова. А специалисты только удивленно пожимали плечами. Подражательно? - Да. - Банально? - Несомненно. - Легковесно? - Еще как! Но... Сыграйте еще, еще, пожалуйста!
(обратно)Здесь, на «Башне», начиналась гомоэротическая «кутерьма» его жизни. Здесь все, надо сказать, к ней располагало. Дневник М.Кузмина пестрит прозвищами его случайных знакомых, молодых людей: «гороховый эротоман» (студент с Гороховой улицы), еще кто-то, кого называет «чучелой», потом какой-то «мордальон» и г.д. Но Кузмин не только, скажем так, «шалит» с ними, он еще старательно «протежирует» своим любовникам - тянет их в литературу. Сохранилось, например, письмо С.Городецкого к нему, где тот пишет, что рассказ некоего С.Позднякова ну никуда не годится: «Кроме непристойностей и пародирования Вас, в рассказе ничего нет. Не Вашему бы милому голосу защищать его...».
(обратно)Панаевский театр, открывшийся в 1888 г., в котором пел однажды даже Ф.Шаляпин, 23 сентября 1917 г. сгорел дотла. Позже на месте его (Адмиралтейская наб., 4) было построено здание школы и разбит сквер.
(обратно)Скажем, ироничная Н.Тэффи пишет без иронии: «Он был любим. У него не было литературных врагов». В Кузмине ее поражало: «Странное несоответствие между его головой, фигурой и манерами. Большая ассирийская голова... и маленькое, худенькое, щупленькое тельце... и ко всему этому какая-то “жантильность” в позе и жестах, отставленный мизинчик не особенно выхоленной сухонькой ручки, держащей, как редкостный цветок, чайную чашку. Прическа вычурная - старательные начесы на височки жиденьких волос... все придумано, обдуманно и тщательно отделано. Губы слегка подкрашены, щеки откровенно нарумянены... Было сознание, что все это для того и сделано, чтобы люди смотрели, любовались и удивлялись... И представьте себе, - заканчивает Тэффи, - все это вместе взятое было очаровательно (курсив мой. – В.Н.)».А одна москвичка, поэтесса Нина Петровская, познакомившись с Кузминым примерно в это же время, восторженно напишет В.Брюсову: «Я очарована им. У него действительно есть легкость, настоящая лучезарность души, от которой каждое сказанное слово, даже пустое и обычное, чем-то озаряется...»
(обратно)Журнал «Русская жизнь» в феврале 2008 г. (№4) устами подруги Паллады, Веры Гартевельд, сообщил то, что в общих чертах было известно и раньше, о самоубийстве из-за любви к Палладе двух студентов. Один якобы застрелился под ее портретом, другой - вызвав ее на улицу, на глазах прохожих. Так вот, В.Гартевельд, родственница композитора Балакирева и жена композитора Г.Гартевельда, дружившая с Палладой восемь лет, пишет, что один из студентов был сыном генерала Головачева, а другой - внуком драматурга А.Островского. «Головачев грозил Палладе самоубийством по меньшей мере месяц, и она просила меня... попытаться его успокоить. Я, - рассказывает В.Гартевельд, - была еще очень молода и не представляла себе, как это сделать. И пока я колебалась, он решился... Два года спустя настала очередь Островского... Я получила телеграмму, где сообщалось, что Островский пытался покончить самоубийством, но неудачно. Я сообщила об этом Палладе, и она заставила его немедля прийти в дом его родителей, где они изредка встречались. Когда она была на пороге дома, он преградил ей путь и раскинул руки, чтобы задержать; это рассердило Палладу. Тогда он спросил: “Я должен застрелиться?”, на что она сухо ответила: “Да, Островский, стреляйтесь”. После этих слов он выстрелил из пистолета и замертво упал у ее ног...»
(обратно)В 1915 г. в Палладу, тридцатилетнюю женщину, влюбится девятнадцатилетний Л.Каннегисер, о котором я уже рассказывал. Она обрушит на него «все свое неистовство». «Я не могу жить без выдумки, Леня, - напишет ему, - не могу... без мечты и страсти, а люди должны мне помогать в этом, иначе я не верю в свои силы… В другом письме скажет: «Да, я аскетка, и если бы не мое здоровье, я бы надела власяницу»... А фотографию подпишет так: «Милому Ломаке - от такой же». Через два года, в апреле 1917 г., в часовне Академии художеств, будет венчаться с очередным мужем - скульптором Г.Дерюжинским. Тогда же войдет в круг знакомых Феликса Юсупова, однокашника Г.Дерюжинского, с которым у нее также возникнет роман. Все трое после революции окажутся в белом Крыму, где встретят С.Судейкина и его новую жену Веру Судейкину-Шиллинг. В опубликованных ныне мемуарах последней, говорится, что Паллада в Крыму травилась от любви, была контужена, отчего ее голова держалась набок, что ее дважды арестовывали (сначала белые, потом красные) и что она, в это трудно поверить, участвовала в казнях немцами большевиков. «Мы поражаемся, - пишет в дневнике Вера Судейкина, - как у нее хватило духу на рассвете идти за осужденными далеко за город, смотреть каждому в лицо и выслушивать их выкрики со строгим лицом. “Ни слез, ни истерики, - предупредили ее немцы, - а то будет скандал”. “Матушка-барыня, - вопил один из осужденных, - ведь вы добренькая. Вы все поймете, заступитесь, голубушка"... Читались бумаги... отдавались приказания... и несколько часов смотрела на это гнусное зрелище Паллада в шелковом платье, с ярко накрашенным лицом, со стеком в руках, стоя в группе офицеров и делясь с ними впечатлениями...» И муж ее, и Ф.Юсупов, оба бросят Палладу и уедут на Запад. А она в 1921 г. вернется в Петроград, где в последний раз выйдет замуж за искусствоведа В.Гросса. Проживет в Ленинграде (пр. Ветеранов, 67) до 1968 г. Жена одного из ее сыновей скажет: «Прожила тяжелую жизнь, и морально, и материально... Перенесла... вызовы в КГБ, аресты... жизнь в коммунальной квартире... Всегда оставалась женщиной - всегда ухожена, с прической, в шляпках, шарфиках, несмотря на тяжелое состояние здоровья...» Напоследок напишет письмо Ахматовой: «Наверно, я в корне умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать - а я теперь тень безрассудной Паллады. Страшная тень и никому не нужная...».
(обратно)Е.Нагродская была дочерью А.Панаевой от последнего мужа ее - А. Головачева. Овдовев в 19 лет, Е.Нагродская, чтобы прокормить двоих детей, работала на кухне, торговала ягодами, пела в оперетте. А выйдя второй раз замуж за инженера путей сообщения, стала содержать журнал «Петроградские вечера», начала писать и печатать стихи, повести, даже романы. «Писания» ее к серьезной литературе никто не относил. Но один роман, «Гнев Диониса», за шесть лет выдержал десять изданий.
(обратно)Одним из первых арестуют поэта Б.Лившица (25 октября 1937 г.). В протоколах допросов он среди «контрреволюционно настроенных» писателей назовет Мандельштама, Кузмина (к тому времени уже покойного), Юркуна, Ахматову, Федина, Козакова, Стенича, Жирмунского, Оксмана, Эйхенбаума, Эренбурга, Тихонова, Вагинова, Заболоцкого, Корнилова, Пастернака и еще два десятка имен. Протокол подпишет начальник 4-го отдела УГБ УНКВД ЛО капитан Г.Карпов, тот, который «сначала молотил арестованных табуреткой, а затем душил ремнем, медленно его закручивая». Его помощник оправдывался потом: «Я допрашивал арестованного, в это время вошли Карпов и Степанов (зам. Карпова). Они спросили: “Арестованный дает показания?” Я ответил, что не сознался... Карпов приказал принести бутылку нашатырного спирта и полотенце. Намочили полотенце нашатырным спиртом и завязали им рот арестованного, а сами начали избивать его: “Такой метод хорошо помогает и безопасен для здоровья”». Так допрашивали Б.Лившица. Позже на Георгия Карпова, «выросшего» до начальника Псковского окротдела НКВД, суд четырежды заводил дело о привлечении к ответственности за фальсификацию дел в 1937-1938 гг. Привлекли всех, а Карпова перевели в центральный аппарат НКВД в Москву. Только в 1956 г. ему вынесли строгий выговор с предупреждением (заметьте, решением Секретариата ЦК КПСС). Думаете, чудо? Нет. Просто в 1943 г. лично И.Сталиным полковник Г.Карпов был назначен председателем Совета по делам Русской православной церкви и оставался в этой должности до 1960 г. Умрет генерал-майор Карпов в своей постели в 1967 г. и похоронен будет на Новодевичьем кладбище в Москве. Ю.Юркуна арестовали 3 февраля 1938 г. По «писательскому делу» были арестованы В.Стенич (14 ноября 1937 г.), В.Зоргенфрей (4 января 1938 г.), Н.Заболоцкий (19 марта 1938 г.), а также Ю.Берзин, Д.Выгодский, Г.Куклин, Е.Тагер и др. Расстреляли Ю.Юркуна 21 сентября 1938 г. Реабилитировали в марте 1958 г.
(обратно)О.Арбенина за месяц до войны уедет с матерью на Урал, где пробудет до 1949 г. В Ленинграде потеряет квартиру, имущество и, как пишет, «даже все документы растренькает». Квартиру М.Кузмина также найдет разграбленной. А что сохранится - «бережно пронесет сквозь оставшуюся жизнь». Уезжая на Урал, оставит некоей Е.Шадриной на сохранение чемоданы, в которых, помимо носильных вещей и серебра, были рисунки и литографии Юркуна и Арбениной, переписка ее с Гумилевым, дневники М.Кузмина, фотографии родных и близких. Все это Е.Шадрина «украла и растратила, - пишет О.Арбенина. - Все это погибло...» Вернувшись в Ленинград, Арбенина станет жить у подруги Ю.Полаймо, в коммунальной квартире, над левой аркой костела Святой Екатерины (Невский, 32). В 1950-х г. будет работать в Эрмитаже, в библиотеке. Вот все, что пока известно мне.
(обратно)Родился он в Малодербетовском улусе под Астраханью. «В стане монгольских... кочевников, - писал поэт, - имя “Ханская ставка”, в степи - высохшем дне исчезающего Каспийского моря». Его отец, В.А.Хлебников (1857-1934), - из старинного купеческого рода (дед поэта был купцом первой гильдии и добился для детей и внуков звания потомственных почетных граждан Астрахани, что освобождало от рекрутской обязанности, подушной подати и телесных наказаний), был ученым, орнитологом, лесоведом, основателем и директором Астраханского заповедника - первого заповедника в России. Окончил Петербургский университет, служил попечителем Малодербетовского улуса управления калмыцким народом. Щепетильным был до крайности, когда, например, случайно подстрелил «запретную» птицу, то сам себе выписал штраф. В отставку вышел в чине статского советника (чин давал право на личное дворянство). А мать поэта, Е.Н.Вербицкая (1849-1936), которая была на восемь лет старше мужа, родилась в семье капитана гвардии. В.Хлебников писал, что училась в Смольном институте и была близка к «Народной воле», ее двоюродный брат, А.Михайлов, был, как А.Желябов и С.Перовская, казнен на Семеновском плацу. У Хлебникова было два брата и две сестры. Младшая, Вера, станет известной художницей. А самому поэту, в наше уже время, в Малых Дербетах, на месте его рождения, поставят памятник работы калмыцкого скульптора С.Ботиева.
(обратно)Сестра поэта, Вера Хлебникова, вспоминала: «Он как-то запер свою комнату на крюк и торжественно вынул из-под кровати жандармское пальто и шашку, так, по его словам, он должен был перерядиться с товарищами, чтоб остановить какую-то почту, затем это было отложено. И однажды он с моей детской помощью зашил все это в свой тюфяк подальше от взоров родных!» А что касается беспорядков, после которых Хлебникова в числе тридцати пяти других студентов арестовали, то в них «вылился» невинный музыкальный вечер 5 ноября 1903 г., посвященный 99-й годовщине университета. Возбужденные студенты выбежали на улицы и, распевая «Гаудеамус» и «Дубинушку», двинулась к театру. Тогда-то на них и налетела конная полиция. В тюрьме, кстати, Хлебников нарисовал на стене общей камеры огромный портрет Герцена. «Вот... мое прошлое, которым я горд», - напишет потом.
(обратно)«По постановлению Правления Императорского С.-Петербургского Университета от 17 июня 1911 года Хлебников Виктор Владимирович уволен из числа студентов Университета, как не внесший плату за осень 1910 года». Так написано в сохранившемся личном деле студента В.Хлебникова, и именно тогда рухнули надежды отца поэта на образование сына. Зато накануне «увольнения», в апреле 1911 г., поэт пишет другу: «Все время... работаю над числами и судьбами народов, как зависимыми переменными чисел, и сделал некоторые шаги...» Сами понимаете - какой уж тут университет?!
(обратно)Филиппо Томмазо Маринетти (1876-1944), глава и теоретик футуризма, ныне считается одним из идеологов итальянского фашизма. С чем я лично согласен. В 1919 г., когда возникнет фашистская партии Италии, Т.Маринетти не только станет единомышленником Б.Муссолини, но провозгласит родственность футуризма и фашизма. В литературных манифестах итальянец призывал прославлять наступательное движение, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака. Мир, писал, обогатился новой красотой - «красотой быстроты». Рычащий автомобиль прекраснее Ники Самофракийской. «Мы хотим, - писал Маринетти, - прославить войну - единственную гигиену мира - милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов... Мы хотим разрушить музеи, библиотеки... Мы воспоем толпы, движимые работой, удовольствием или бунтом». Как похоже на В.Маяковского и его компанию, не правда ли? В России в начале XX в. Маринетти принимали с восторгом. В своих лекциях в Москве и Петербурге он льстил русской публике, говорил, что очарован Россией. «Это страна футуризма, - восклицал в битком набитых залах. - Здесь нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхаются страны Европы». В известном смысле мы и станем «страной футуризма», разрушившей в культуре все, что можно. Но вот странность: в России Т.Маринетти не принял только, может, самый радикальный в воззрениях - В.Хлебников и, частично, поэт Б.Лившиц.
(обратно)На деле, как пишет биограф поэта С.Старкина, идеи Хлебникова, иногда бредовые при жизни, ныне, через восемьдесят лет, только начинают находить признание. Он «говорил о связи времени и пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человека и природу, о закономерностях расселения народов в Европе. Он размышлял о происхождении и развитии языка, об условности языкового знака... о строительстве железных дорог, о современной архитектуре, о значении кино и радио. Он высказывался по проблемам экологии и атомной энергии... Хлебников, - подчеркивает Старкина, - намного опередил свое время...»
(обратно)Семья Бурлюков состояла из восьми человек: кроме родителей - три брата и три сестры. Давид и Николай станут поэтами, Владимир - художником. Художницей станет и старшая сестра братьев - Людмила. В Чернянке у Бурлюков все, как пишут, принимало «гомерические размеры». Количество комнат, прислуги, особенно женской, которая «производила впечатление гарема», количество пищи, поглощаемой за столом. Особенно радовала Хлебникова семейная библиотека Бурлюков. Пользовался он ею, правда, своеобразно. Экономка часто видела, как далеко за полночь Хлебников с книгой в одной руке и свечой в другой бродил по аллеям парка. «Прочитав страницу, он вырывал ее и бросал на дорожку». Однажды экономка спросила его, зачем он рвет книги. «Раз она прочитана, - ответил поэт, - она мне более не нужна...»
(обратно)Недавно в переписке Лили Брик и ее сестры, Эльзы Триоле, наткнулся на имя К. Богуславской. Оказывается, Э.Триоле в 1970 г. нашла в Париже Ксану и сообщила в Москву Л.Брик: «Была вчера у Ксаны Пуни. Она живет за городом, у нее был удар, и она почти парализована, квартира же в Париже, на 4-м этаже. Ей необыкновенно повезло в том отношении, что в больнице к ней привязалась ночная сестра, с которой она сейчас живет и которая за ней ухаживает, как мать родная. Была у нее Надя (русская жена художника Фернана Леже. - В.Н.) и выудила у нее две картины для Москвы или Ленинграда. Ксана ее видеть не могла до сих пор, но икра, московские конфеты плюс две певицы из Большого театра покорили немедленно Ксанино сердце на несколько миллионов. Тут же ей Надя объяснила, что она к нам ни ногой, оттого что мы ненавидим Россию...» Редкие, кстати, строчки в многостраничной переписке сестер, когда они не говорят «о тряпках». Правда, об икре и московских конфетах не удержались - помянули...
(обратно)«Дело Бейлиса» началось в 1911 г., когда приказчика-еврея Менделя Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве русского мальчика Андрюши Ющинского. Убийство было совершено якобы для использования христианской крови в сакральных целях киевского еврейства. Дело инициировали черносотенцы, которых неожиданно для всех поддержал министр юстиции России И.Щегловитов. То, что дело было сфабриковано, стало ясно уже на предварительном следствии, однако процесс тянулся до октября 1913 г. «Процесс Бейлиса» разделил на два лагеря не только страну, но и художественную интеллигенцию. Обвинение в адрес Бейлиса поддержал, например, философ и писатель В.Розанов. А против его осуждения и с разоблачением позорного факта неоднократно и страстно выступал В.Короленко, чей авторитет после оправдания судом присяжных М.Бейлиса только возрос.
(обратно)О, это знаменитая в Петербурге квартира! Только о ней можно написать отдельную книгу. Здесь жил С.Исаков, помощник хранителя музея Академии художеств. Но именно у него и его пасынков Николая и Льва Бруни собирались здесь те, кого можно было назвать художниками «левого искусства». По словам Н.Пунина, искусствоведа и будущего мужа А.Ахматовой, здесь постоянно бывали до революции художники Альтман, Тырса, Малевич, Митрохин, Татлин, Митурич, поэты Бальмонт, Клюев, Хлебников, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Городецкий. Бывал здесь и Артур Лурье (единственный музыкант среди них). Центром своеобразного кружка был художник Лев Бруни (1896-1948), по словам Лурье, «выдающийся молодой человек». А старший брат его - Николай Бруни (1891-1938), был поэтом и прозаиком, членом первого еще «Цеха поэтов». Кстати, здесь в 1914 г. и состоялось последнее заседание первого еще «Цеха поэтов». Наконец, здесь В.Хлебников окажется в мае 1917 г., приехав из Красной Поляны. Он даже поселится тут вместе с другом-поэтом Г.Петниковым. И здесь «произведет впечатление» не только на художников и поэтов - даже на неграмотную кухарку Акулину. Она скажет про Хлебникова своей хозяйке: «Ах, барыня! Какой он горящий! Ах, какой горящий!..» Под словом этим, пишут, имела в виду - и «терпящий горе», и «горящий огнем»...
(обратно)Мать поэта, Наталья Шеншина (1837-1921), была дочерью предводителя дворянства Щигровского уезда Курской губернии. Первым мужем ее был генерал-лейтенант, военный строитель Г.Домонтович - родной, между прочим, дядя Александры Коллонтай.
(обратно)Много лет спустя поэт В.Адамс рассказал биографу И.Северянина М.Петрову, автору книги «Донжуанский список Игоря-Северянина», что поэт всегда мог «без всякой подготовки, почти профессионально исполнить любую оперную партию: “А голос у него был концертный, - подчеркивал Адамс, - стены дрожали!..”»
(обратно)С 1904 г. И.Северянин, которому было семнадцать лет, упорно рассылал свои стихи по различным редакциям, откуда их ему неизменно возвращали. «Продолжалось это до 1910 г., когда я прекратил рассылы окончательно... За эти годы мне “посчастливилось” напечататься только в немногих изданиях. Одна “добрая знакомая” моей “доброй знакомой”, бывшая “доброй знакомой” редактора солдатского журнала “Досуг и дело”, передала ему (ген. Зыкову) мое стихотворение “Гибель «Рюрика»”, которое и было помещено... под моей фамилией: Игорь Лотарев». После этого он придумал себе красивый псевдоним Игорь-Северянин (по другой версии, его придумал известный поэт К.Фофанов). Под этим именем, которое изначально писалось через дефис (так значилось и на визитках его, и даже на медной доске на дверях квартиры, хотя в печати этот «манер» его не приживется), он станет выпускать тоненькие тетрадки стихов, которые будет звать почему-то брошюрами. Они выходили с 1904 по 1912 г. Тираж их был 100 экземпляров, а вышло их чуть больше тридцати.
(обратно)Через год у И.Северянина начнется роман с ее сестрой, Зиной, девушкой с «голубыми ленивыми глазами», которая тоже была в той лодке, застрявшей под мостом. Зинаида, а ей только что исполнилось семнадцать, сама напишет ему письмо и назначит свидание у Зимней канавки. Весь роман с ней будет описан с пикантными подробностями в эротической поэме «Винтик» (там Зинаида выведена под именем Раисы) и более сдержанно в романе «Падучая стремнина». Ради встреч с нею поэт снимет половину избы в Пудости. Именно Зинаиде Северянин в своем «донжуанском списке» присвоит потом третий номер. А старшей сестре ее, Дине, номер второй... Разрыв с Зинаидой также описан в стихах: герой поэмы застанет ее в компании местного телеграфиста, писца и прочих за «делами», от которых, как пишет, «в избе краснеют стены». «И девушка, - заканчивает поэт, - пошла по ним, по всем...» А в прозе признается потом: она «оказалась мещанкой в полном смысле» слова.
(обратно)Строки из стихотворения И.Северянина «Хабанера II» (оно было напечатано с посвящением некоей «Синьоре Za») цитируются в очерке И.Наживина не точно. Надо: «Вонзите штопор в упругость пробки...»
(обратно)И Константин Олимпов (1889-1940), сын К.Фофанова, и Василиск Гнедов (1890-1978) считали себя поэтами. Олимпов после революции служил в Красной армии, в 1930-х г. был арестован и сослан в Барнаул. Умер в Омске, накануне войны. Что же касается Василиска (на деле, разумеется, Василия) Гнедова, то он, кого В.Хлебников, кстати, «назначит» одним из Председателей Земного Шара, будет призван на Первую мировую в ополчение, где за храбрость получит Георгиевскую медаль. Окончив военное училище, станет прапорщиком и в 1917-м, примкнув к революционным солдатам, будет назначен начальником караулов арсенала Кремля. Говорят, именно он командовал красной артиллерией, обстреливавшей Кремль, и его пушки пробили купол Успенского собора. После революции служил народным судьей Сокольнического района, в 1925 г. вступил в ВКП(б), а в 1936-м был арестован и провел в заключении около двадцати лет. После реабилитации, всеми забытый, жил в Киеве, потом в Херсоне, где и умер.
(обратно)И.Северянин, познакомившись в эмиграции с мемуарами Г.Иванова, откликнется на них фельетоном под оскорбительным названием «Шепелявая тень». «К сожалению, “вечный Иванов” - да и то второй! - в своих “теневых мемуарах” неоднократно, но досадно “описывается”... Вводить же меня, самостоятельного и... непреклонного, в Цех, где коверкались жалкие посредственности, согласен, было действительно нелепостью, и приглашение меня в Цех Гумилевым положительно оскорбило меня. Гумилев был большим поэтом, но ничего не давало ему права брать меня к себе в ученики...».
(обратно)Мария Домбровская-Волнянская (1885-1939) - дочь офицера, исполнительница цыганских романсов, которой поэт посвятил шестой том своих сочинений, была музой поэта почти семь лет. У нее много имен, поэт звал ее Муринька, Балькис Савская, Муза музык. Северянин расстанется с ней в 1921 г. в Эстонии, напишет в письме своей финансовой покровительнице А.Барановой: «Я жалею ее, но виноватым себя не чувствую... Жить с поэтом - подвиг, на который не все способны...» «Подвигом», видимо, называл четырехлетнюю жизнь ее в одном доме с гражданской женой поэта Е.Золотаревой. Расставшись с ними, Домбровская, по слухам, стала петь в ревельском ночном кабаре, бедствовать. Общие знакомые высылали ей и старое пальто, и материю на платье, и даже белье.
(обратно)Елена Золотарева-Семенова была гражданской женой поэта с 1912 по 1915 г. Летом 1914 г. они вместе были в Тойле, в Эстонии, где Семенова, приревновав Северянина к какой-то Ляле М., попыталась повеситься на чердаке. Потом, уже разойдясь с ней, в январе 1918 г., он, спасая ее и дочь от голода, возьмет их с собой в Эстонию, но уже - в эмиграцию.
(обратно)Насчет «часов приема» у поэта на Средней Подьяческой Лившиц, кажется, против истины не погрешил. Пишут, что Северянин действительно принимал молодых поэтов по четвергам, издателей - по средам, поклонниц - по вторникам. Так что Маяковский пришел, видимо, во вторник вместо «положенного» четверга...
(обратно)Каспийский полк располагался под Петроградом, в военном городке, прямо напротив перрона станции «Новый Петергоф». Ныне он называется «Суворовский городок», ибо в нем долгие годы до 1961 г. располагалось Ленинградское суворовское пограничное училище, где в далеком детстве несколько лет проучился и я. Кстати, когда «городок каспийцев» возводился, то в комиссию по его строительству входили генерал-майор П.Дягилев, отец С.Дягилева, и исправник К.Шилейко, отец ассириолога В.Шилейко, мужа А.Ахматовой. А службу в Каспийском полку проходил не только И.Северянин, но и - задолго до него - поэт С.Надсон. По моим данным, здесь в Первую мировую войну проходил полугодичную военную переподготовку и муж М.Цветаевой, прапорщик Сергей Эфрон.
(обратно)Вера Коренди-Коренева (урожд. Запольская), окончив университет в Дерпте по специальности «французский язык», была школьной учительницей. Северянин считал ее «очень образованной» и прожил с ней последние семь лет. В.Коренди была замужем, и у нее была дочь, родившаяся за три года до встречи с поэтом, которую, как и дочь Северянина от Е.Золотаревой, звали Валерией. На старости лет Коренди вдруг стала утверждать, что отец Валерии - Северянин. Более того, когда в 1982 г. дочь умерла, Коренди на могиле ее написала: «Валерия Северянина», правда, не обозначив года рождения дочери. Биограф поэта М.Петров успел спросить Коренди, почему не поставлена дата рождения. В ответ услышал: «Это символ. Он так хотел. Дочь поэта принадлежит Вечности». Так Валерия Порфирьевна Коренева превратилась после смерти в Валерию Игоревну Северянину. Более того, уже сын Валерии, внук В.Коренди, в наше время стал, представьте, Игорем Северяниным-младшим... Вообще В.Коренди рассказывала при жизни весьма странные истории. Например, что в начале войны, когда Эстония стала советской, сам А.Жданов, секретарь ЦК КПСС, присылал за больным поэтом машину в Нарву. Что по приказу лично И.Сталина сожгли дом в Усть-Нарве, где жил поэт и где погибла часть его архива. Наконец, что в оккупированном фашистами Таллине немецкие солдаты отдавали честь гробу его, который везли на кладбище. А потом, дескать, ее допрашивали в гестапо, ибо Северянин работал с Москвой в 1940-м. Весь этот бред преподносился всерьез, и в конце 1980-х его, как ни странно, печатали газеты и журналы. А ведь это лишь устные рассказы - мемуары В.Коренди, умершей в 1990 г., до сих пор не опубликованы... Кстати, настоящая дочь поэта, Валерия Золотарева-Семенова, всю жизнь проживет в Усть-Нарве и до дня своей смерти в 1978 г. будет работать в рыболовецком совхозе «Oktoober». А сын от Ф.Круут, Вакх Лотарев, умрет в Швеции, где и ныне живут его внуки и правнуки.
(обратно)Здесь снимали комнату студент Петербургского университета Николай Бурлюк, младший брат футуриста Давида Бурлюка, и Антон Безваль, жених Нади Бурлюк, секретарь «Гилей» - объединения футуристов. Между собой они звали свое жилье «Гилейский форт Шаброль», по аналогии с улицей Шаброль в Париже, где стоял дом, названный позже «фортом», поскольку в нем обосновалась некая «антисемитская группа», оказывавшая сопротивление властям в знак протеста против пересмотра знаменитого «дела Дрейфуса».
(обратно)«Семья Маяковских... была настоящей революционной семьей, - писал некий И.Морчадзе. - Слово “революционер” - это был уже пропуск, чтобы попасть в семью Маяковских». В Кутаиси в 1905 г. гимназист Володя Маяковский принимал участие в революционных митингах и демонстрациях. Имел партийные клички Длинный, Товарищ Константин, а также Кленовый. В 1908 г., уже в Москве, пятнадцатилетний поэт вступил в РСДРП и за два года был трижды арестован. Последний раз отбывал наказание в одиночной камере.
(обратно)Я не раз писал уже о доме Адамини. Что касается В.Маяковского, то он бывал здесь много раз. Помимо «ателье» Н.Добычиной, неоднократно навещал здесь своего друга В.Каменского, который одно время жил в этом доме. Бывал здесь у художника С.Судейкина и его жены О.Глебовой-Судейкиной - известно, например, что присутствовал у них на чтении стихов М.Кузмина, на которые тут же откликнулся экспромтом: «Приятно марсовом вечером пить кузминской речи ром...» Наконец, позже, когда в подвале этого дома откроется кафе «Привал комендиантов», Маяковский неоднократно будет читать в нем стихи.
(обратно)Не могу не привести мнение А.Толстого, высказанное им в статье о футуристах в 1919 г. во Франции, которую недавно републиковала Е.Толстая: «Они появились в России года за два до войны как зловещие вестники нависающей катастрофы. Это были прожорливые молодые люди, с великолепными желудками и крепкими челюстями. Один из них - “учитель жизни” - для доказательства своей мужской силы всенародно ломал на голове доски и в особых прокламациях призывал девушек отрешиться от предрассудков, предлагая им свои услуги... Над футуристами тогда смеялись. Напрасно. Они сознательно делали свое дело - анархии и разложения. Они шли в передовой линии большевизма, были их разведчиками и партизанами. Большевики это поняли (быть может, знали) и сейчас же призвали их к власти. Футуризм был объявлен искусством пролетарским...» Справедливости ради, скажу: и А.Толстой, вернувшись в СССР, быстро сообразит, где «деньги лежат», а в литературе кое в чем даже «перещеголяет» В. Маяковского.
(обратно)Представляя трагедию в цензурный комитет, он не успел дать ей названия. Хотел назвать «Железная дорога» или «Бунт вещей», но так ни на чем и не остановился. Трагедия была наскоро поставлена в «Луна-парке», театре на Офицерской улице (дом не сохранился). Отзывы о ней были прямо противоположные. В какой-то степени их суммировал «Петербургский листок», назвавший трагедию «спектаклем для душевнобольных»!..
(обратно)Все, конечно, знают ныне, что героиней «Облака» была не С.Шамардина, а другая «любовь» поэта - художница Мария Денисова, с которой он действительно познакомился в Одессе. Поэма ведь начинается словами: «Это было. Было в Одессе...» М.Денисова выйдет замуж за инженера В.Строева, будет жить в Швейцарии, потом, в революцию, вернется в Россию и уйдет в Первую конную армию, где станет руководителем художественно-агитационного отдела армии. За храбрость будет награждена наганом и кожаной курткой. Выйдет замуж за Е.Щаденко, члена Реввоенсовета Первой конной, а после Гражданской войны - замнаркома обороны. А потом, став довольно успешным скульптором-монументалистом (ее работы будут выставляться на выставках в Женеве, Венеции, Варшаве, Цюрихе, Берне, Копенгагене), Денисова по личным мотивам, так пишут, покончит с собой в 1944 г., выбросившись из окна десятого этажа. Ей было 47 лет.
(обратно)Удивительно, но поэтическое заглавие поэмы «Тринадцатый апостол» многие и ныне не только понимают буквально, но и впрямую связывают его с христианским учением. Известный философ К.Кантор, влюбленный в поэта с детства, в 2008 г. выпустил книгу о нем, в которой написал, что в России только Маяковский «показал внутреннюю связь учений Христа и Маркса... Миссия тринадцатого апостола состояла в том, чтобы провести линию преемственности от Христа к Марксу через Ренессанс. Он это сделал... Только он среди поэтов выполнил наставления Спасителя (!) приводить Его заповеди в соответствии с новыми обстоятельствами... создал сплав двух величайших революционно-коммунистических доктрин Назорея и Трирца (т.е. Маркса. - В.Н.)». Более того, философ (и это в наши дни) утверждает, что поэт не только на словах был проводником идей Христа, он реально претворял их, очищая мир от скверны. «Можно назвать себя апостолом, - пишет К.Кантор, - но при этом палец о палец не ударить, чтобы сделать что-то для живой жизни... Ни Блок, ни Пастернак, ни Булгаков подлинными апостолами не стали, сколько бы молитвенных слов они ни написали о Христе. Поэтому понять Маяковского Пастернак не мог, а Блок и Булгаков и не пытались...» Вот так! Да, защитники коммунизма, несмотря на печальный опыт построения его в разных странах, не раз спекулятивно утверждали, что марксизм - всего лишь «светское обличье христианства». И их не раз поправляли. «Истинный христианин стремится усовершенствовать себя, - пишет, например, драматург Л.Зорин, и с ним нельзя не согласиться, - а убежденный коммунист - окружающих. (Сам он, естественно, совершенен.) Если насилие - это и есть светское обличье смирения, то, разумеется, разницы нет...»
(обратно)У Эльзы и поэта все было, надо сказать, серьезно. В книге «Тетрадь, зарытая под персиком» (1944 г.), где все действующие лица названы своими именами, Э.Триоле пишет о Маяковском: «В течение двух лет у меня не было никакой другой мысли, кроме как о Владимире, я выходила на улицу в надежде увидеться с ним, я жила только нашими встречами. И только он дал мне познать всю полноту любви. Физической - тоже...»
(обратно)Попутно замечу, что в мансарде дома, где находилась «Бродячая собака», Маяковский в 1914—1917 гг. не только часто бывал у художника-карикатуриста А.Радакова (Итальянская, 4/5, кв. 34), с которым подружился как раз в «Собаке», но одно время даже жил у него. Кстати, Радаков приведет поэта и в журнал А.Аверченко «Новый Сатирикон» (Невский, 88), где Маяковский будет сотрудничать два года и опубликует 26 стихотворений.
(обратно)Разумеется, рано или поздно, мы узнаем всю правду о сотрудничестве семейства Бриков с ЧК - ОГПУ - НКВД, которую так старательно затушевывали близкие к Маяковскому круги. Но некоторые подробности уже известны. Я не буду приводить мнение АЛуначарского об О.Брике как об особо «ценном» сотруднике ЧК. Не буду говорить, как О.Брик благодаря службе в органах получил в центре Москвы, заметьте, в 1920 г. квартиру, в которой поначалу специально собирались к ужину послушать его, ибо «Осип любил рассказывать о кровавых пыточных ужасах, коим был свидетель»... Я приведу рассказ друга Маяковского, поэта-футуриста А.Крученых: «Ося Брик... каким-то образом - это было уже в годы нэпа... вызнавал фамилии лиц, намечавшихся к аресту. И, прихватив с собой Лилю, отправлялся по известным адресам. Затаившиеся богачи принимали Осю, естественно, за своего. А он, намекнув о предстоящем аресте, сетовал на жестокости властей и тут же предлагал свою помощь. Пока не утрясется - спрятать фамильные ценности. Выхода не было. Ему верили. Тем, кому удавалось вырваться из лап ГПУ, Брик возвращал взятое на сохранность. Но “вырывались” не все»... В это трудно поверить, но факт этот, ссылаясь на родственника Бриков Л.Юдавина, мне подтвердила недавно известная московская писательница, искусствовед и краевед Н.Молева.
(обратно)Кстати, журналист А.Ваксберг высказывает подозрения о работе на ЧК - ОГПУ и самого Маяковского. 9 ноября 1924 г., ожидая визу в Америку, Маяковский пишет из Парижа Л.Брик: «...Ничего о себе не знаю - в Канаду я не еду и меня не едут, в Париже пока что мне разрешили обосноваться на две недели». «Что означает, - задается вопросом А.Ваксберг, - фраза: “В Канаду я не еду и МЕНЯ НЕ ЕДУТ”, то есть в переводе с хорошо понятного жаргона на нормальный язык - не отправляют. Кто этим занимался - в Париже? И... почему же поэт “ничего о себе не знает”?.. Все эти вопросы, - заканчивает А.Ваксберг, - станут еще более загадочными в свете того, что... Маяковский имел неофициальную, никак не афишированную, нигде не отраженную встречу с председателем сенатской комиссии по русским делам Анатолем де Монзи, который тремя месяцами раньше посетил Москву и был принят на очень высоком уровне». Поэт ездил к нему в Париже в сопровождении двух французов, одним из которых был Жан Фонгенуа - частый гость Бриков в Москве. И при этом, уж совсем странно, подчеркивает А.Ваксберг, на встречу с председателем сенатской комиссии не ездила обычная «переводчица» поэта во Франции Эльза Триоле. Более того, Маяковский даже не поставил ее в известность об этой встрече. Действительно, странно.
(обратно)Не хотелось бы ввязываться в выяснение обстоятельств гибели Маяковского, но... помимо предчувствия М.Зощенко, есть, увы, и другие малообъяснимые факты. Скажем, М.Светлов вспоминал, что накануне смерти Маяковского, встретив его на Мясницкой, вдруг услышал от него изумленное: «Неужели меня арестуют?..» Разумеется, М.Светлову не было резона придумывать это - такие «выдумки» были и небезопасны тогда. С.Эйзенштейн, хорошо знавший поэта, в личных записях неожиданно написал: «Его надо было убрать. И его убрали...» Таких фактов много. Наконец, в книге Н.Громовой «Узел. Поэты: дружбы и разрывы», изданной в 2006 г., я прочел свидетельство жены поэта Н.Асеева, О.Асеевой-Синяковой. Она на старости лет уже «под страшным секретом рассказывала Наталье Шмельковой, что накануне самоубийства Маяковский раз 15 ночью звонил им и повторял: “Коля, я знаю точно, меня все равно убьют”...» Маяковский с дореволюционных времен тесно дружил с Асеевыми. Не верить словам О.Асеевой нельзя. Но ведь и верить - невозможно!..
(обратно)Вообще Л.Брик можно даже понять. Несмотря на то, что она потом поддерживала общее мнение, что В.Маяковский был необычайно остроумен, на самом деле и это «большая легенда». К.Чуковский, хорошо знавший поэта, напишет, что поэт не был тонким человеком. «За обедом, - пишет Чуковский, - он рассказал мне: 1. Что Лито в Москве называется Нето. 2. Что еврей, услыхав в вагоне, что меняют паровоз, выскочил и спросил: на что меняют? 3. Что другой еврей хвалил какую-то даму: у нее нос в 25 каратов!» Вот такой «юморок» был у поэта - повесишься с тоски. Литературовед Л.Гинзбург пишет (это опубликовано в 2002 г.), что Маяковский всегда шутил плоско и всегда оскорбительно. «Пострадавшим же вменяется в обязанность понимать, что его плоскости умышленны (что вероятно, потому что он остроумен), а оскорбления неумышленны (что тоже вероятно, потому что он давит людей не по злобе, а по органическому неумению проявлять свое величие иным способом)»...
(обратно)Кстати, М.Кольцов, кажется, не заблуждался насчет Бриков. Когда его арестуют, он в НКВД своей рукой напишет: «Оговаривать я никого не намерен и говорить буду только правду... Супруги Брики приложили большие усилия, чтобы закрепить за собой редакторство сочинений Маяковского, и удерживали его в течение восьми лет. А вообще-то Брики в течение двадцати лет были самыми настоящими паразитами, базируя на Маяковском свое материальное и социальное положение...» Не заблуждался и Б.Пастернак - в Чистополе, в эвакуации, говорил драматургу А.Гладкову: «Когда-нибудь биографы установят их (Бриков. - В.Н.) гибельное влияние на Маяковского».
(обратно)