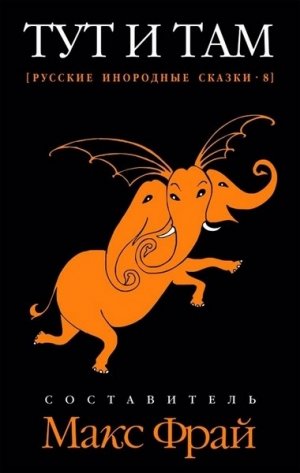
Окна напротив
Обычный будний день обычной среднестатистической женщины. Такой же день, как вчера, такой же, как завтра.
Она шла мимо витрин, поглядывая на своё отражение, старалась не сутулиться и ступать грациознее. Потом забывала, опускала плечи, между бровей появлялась глубокая морщинка, а в душе ныла какая-то заноза. Впрочем, всё ведь хорошо. Нормально всё…
Ночью приснилось, что кто-то положил ей на грудь каменную плиту. Плита была тяжёлая и большая, давила на рёбра и не давала подняться…
Ей редко снились кошмары. Да и вообще, с тех пор, как кончилось детство, снов почти не было. А если и были, то сразу забывались. Бабушка когда-то говорила: «Если сны блёклые, значит, жизнь яркая!» (ах, бабушка, если бы всё было так, как в твоих сказках да прибаутках!)
Плита давила на грудь, женщина стала задыхаться и проснулась от собственного кашля. Лежащий рядом мужчина не шевельнулся. Только кошка, спавшая в ногах, подняла голову и внимательно посмотрела из темноты.
Женщина села на кровати, ещё не совсем понимая, где находится, и приложила ладонь к груди — сердце билось часто-часто. Она нащупала ногой тапочки и пошлёпала на кухню. Кошка вздохнула, потянулась и побрела за ней…
Воды в кране не было. Она налила в чайник ту, что осталась в пластиковой бутылке, и поставила на огонь. Включила настольную лампу, села у стола и вдруг вспомнила, как это бывало в детстве.
Лежишь в кровати, укрытая по самые глаза, а луна светит в щель между гардинами. Одежда на стуле обретает какие-то жуткие очертания. А тебе лет шесть, и бабушка в кухне ещё суетится, и радио там играет, и свет горит… но через целый коридор от тебя. А у тебя тут темно и страшно. И за шкафом, прямо у дверного косяка, как будто стоит кто-то.
— Бабуля, бабуль! — зовёшь тихонько. — Ты скоро?
А она не слышит, далеко. Почти за тридевять земель.
И ты садишься в постели, всё ещё укутанная в одеяло, всматриваешься в темноту за шкафом, а ноги спустить страшно. Долго собираешься с духом, настраиваешься, а потом — р-раз! — одним рывком к двери. А там уже свет сочится, и музыку слышно. Выходишь в кухню, щуришься, лохматая вся, жалостная, босыми ногами на кафеле переминаешься …
— Ой, батюшки! — всплеснёт бабушка руками. — Чего же это ты?
— Ба, а ты скоро? — и всхлипнешь картинно. — А то не засыпается…
— Скоро, деточка, совсем уже скоро, — и обнимет тебя.
А руки у бабушки сухие и тёплые. Уткнёшься носом в фартук, а он пахнет пирогами, парным молоком, хозяйственным мылом, корицей…
А тебя уже ведут в комнату, в кровать укладывают, укрывают заботливо.
— А что это там за шкафом, ба?
— А ничего там нет, милая, это тень от шторы ложится. Никак боишься?
Бабушка присаживается рядом и начинает тихонько петь, и гладит тебя по голове. И вот уже по комнате начинают плясать искорки, и то там то сям вспыхивают золотые мотыльки, и ты хочешь рассмотреть, увидеть, и почти слышишь мягкий шелест крыльев… и уже вот-вот!.. Но ватные веки смыкаются, ты медленно тонешь в густом тумане, медовом, тёплом, кисельном, карусельном…
— Ба, ты тут? — только и успеваешь вымолвить.
Женщина встала, достала из заначки сигарету и стала мять её в пальцах (бросила курить, да, почти бросила! но отчего-то держала полпачки на полке, за банкой с крахмалом).
— Опять?
Она вздрогнула от неожиданности и обвела взглядом кухню.
— Опять, говорю, куришь? — кошка на подоконнике недовольно повела плечом.
— Ну, просто очень захотелось, — стала оправдываться женщина. — Это в последний раз!
Она затянулась, подошла к окну, открыла форточку. Кошка фыркнула и медленно перетекла с подоконника на табуретку.
В доме напротив горел свет в окне четвёртого этажа. Кто-то стоял на балконе.
— Курит, — подумала она, — мужчина или женщина?
С такого расстояния было не разобрать.
— Мужчина, — решила она, — пусть будет мужчина. Конечно, кому там ещё быть?
Мужчина не уходил. С балкона полетел оранжевый огонёк и погас, не долетев до земли. Ей показалось, что мужчина кивнул головой и улыбнулся. Она была почти уверена. Женщине стало как-то неловко, и она спряталась за занавеску.
— Думаешь, тебя не видно? — хмыкнула кошка. — Странные вы, люди…
— Ну, неудобно же. Вроде, как подглядываю.
— Да ладно, подумаешь. Это же наша кухня, наше окно. Куда хотим, туда смотрим! — сказала кошка и стала старательно вылизывать заднюю лапу.
Вскипел чайник. Женщина сняла его с огня и сразу вернулась к окну. На балконе уже никого не было… Чая больше не хотелось. Она ещё немножко постояла, пока в окнах напротив не погас свет, и пошла в спальню. Кошка вздохнула, спрыгнула на пол и, покачиваясь, побрела за хозяйкой.
День пролетел за какими-то заботами — суета-суета, работа, проблемы, приятельницы, звонки, покупки, готовка, стирка…
Сегодня её мучила бессонница. Долго ворочалась в постели, долго смотрела в потолок, мысли наползали одна на другую. Женщина тихонько тронула спящего рядом мужчину за плечо. Тот засопел и повернулся к стенке. Женщина встала, прошла на кухню и сразу потянулась к полке за сигаретой.
— Никому нельзя верить! — сказала кошка в спину. — Никто не держит слова. Ну и как с вами жить?
— Ну, мы же как-то живём друг с другом, — женщина чиркнула спичкой.
— Да видела я, как вы живёте…
Женщина подошла к окну и замерла. На балконе напротив курил вчерашний мужчина. Он кивнул ей, как старой знакомой. Она кивнула в ответ и отчего-то смутилась (какие глупости! веду себя, как девчонка!).
При всём желании рассмотреть лицо мужчины было невозможно — далеко.
— У него карие глаза, — решила она. И даже повторила вслух.
Кошка свернулась калачиком на табуретке, но тут подняла голову и удивлённо посмотрела на хозяйку:
— Это имеет значение?
— Тебе не понять. Для людей всё имеет значение.
— Куда уж мне! — обиделась кошка. — Зато вы, люди, всё понимаете! Поэтому все как один живёте дружно и счастливо.
— Я бы на твоём месте не лезла не в своё дело!
Кошка демонстративно потянулась, потом выгнула спину, спрыгнула с табуретки и пошла к двери. Но в последний момент передумала, села возле холодильника и посмотрела на хозяйку. Та водила пальцем по стеклу, выписывая невидимые буквы.
Мужчина на балконе снова кивнул ей головой и поднял руку. Если улыбку она могла и придумать, то этот жест иначе расценить невозможно. Она помахала рукой в ответ, улыбнулась и снова засмущалась.
Они выкурили еще по сигарете. Несколько раз обменялись кивками (или им показалось). Потом мужчина сложил вместе ладошки и прислонил к щеке — так делают маленькие дети, когда их укладывают в кроватку. «Спать» — догадалась она.
Женщина подхватила кошку, поцеловала её в нос и покружилась по кухне.
— Ну всё, всё! — примирительно заурчала кошка. — Сейчас ещё уронишь! Пошли уже.
Она проснулась, когда рядом никого не было. Кошка умывалась на подоконнике. В окно светило солнце. Женщина всегда просыпалась позже всех. На кухне ей оставили чашку остывшего кофе и бутерброд.
«Заплати за квартиру, я задержусь на совещании! Позвоню с работы. Целую!» — висело на холодильнике.
Она подошла к окну. Балкон в доме напротив был пуст. Она постояла минутку в нерешительности и засобиралась.
— Я просто схожу туда. Просто так. Скажу, например, спасибо за компанию. Или еще что-нибудь скажу. Или спрошу, есть ли у них вода в кране?..
Кошка потёрлась о ноги.
— И не отговаривай меня! — сказала женщина. — Я просто схожу, а что такого?
Она шла через двор, глядя вверх, на балкон напротив. Сердце стучало в волнении. Она мысленно высчитывала квартиру на лестничной площадке четвёртого этажа.
Навстречу ей через двор шла женщина. Шла, не глядя под ноги, и рассеянно улыбалась, рассматривая окна напротив.
Что-то очень знакомое было в её силуэте…
— Опять?
Она вздрогнула от неожиданности и обвела взглядом кухню.
— Опять, говорю, куришь? — кошка на подоконнике недовольно повела плечом.
— Ну, просто очень захотелось, — стала оправдываться женщина. — Это в последний раз!
Она затянулась, подошла к окну, открыла форточку. Кошка фыркнула и медленно перетекла с подоконника на табуретку.
В доме напротив горел свет в окне четвёртого этажа. Кто-то стоял на балконе.
— Курит, — подумала она, — мужчина или женщина?
С такого расстояния было не разобрать.
— Мужчина, — решила она, — пусть будет мужчина. Конечно, кому там ещё быть?
Мужчина не уходил. С балкона полетел оранжевый огонёк и погас, не долетев до земли. Ей показалось, что мужчина кивнул головой и улыбнулся. Она была почти уверена. Женщине стало как-то неловко, и она спряталась за занавеску.
— Думаешь, тебя не видно? — хмыкнула кошка. — Странные вы, люди…
— Ну, неудобно же. Вроде, как подглядываю.
— Да ладно, подумаешь. Это же наша кухня, наше окно. Куда хотим, туда смотрим! — сказала кошка и стала старательно вылизывать заднюю лапу.
Вскипел чайник. Женщина сняла его с огня и сразу вернулась к окну. На балконе уже никого не было… Чая больше не хотелось. Она ещё немножко постояла, пока в окнах напротив не погас свет, и пошла в спальню. Кошка вздохнула, спрыгнула на пол и, покачиваясь, побрела за хозяйкой.
Тётушка Мо
— Почему же она не плачет? — волнуется тётушка Мо. — Это же ненормально. Младенцам положено плакать!
Она разглядывает маленькое розовое личико, откинув кружевной уголок конверта.
— А вот и нет! Мама говорит, что я совсем не плакала. Ну вот ни капельки! А только всегда молчала и улыбалась! — в доказательство Кора широко улыбается, показывая мелкие смешные зубы и прелестную ямочку на левой щеке.
Такая же ямочка есть у её матери. Тётушка Мо говорит, что это поцелуй ангела.
Кора сидит в коридоре на широком подоконнике, и ей хорошо видно тётушку Мо через открытую дверь. Та склонилась над пеленальным столиком и поправляет крошечный чепчик на детской головке.
— Поешь немножко, а то мама опять будет сердиться, — говорит Кора.
Тётушка вздыхает, садится на кровать и берёт с тумбочки миску. Какое-то время она уныло ковыряет ложкой рисовую кашу, разгоняя остывшие молочные пенки.
Поверх зелёного в клеточку халата на тётушке надета тёплая длинная кофта с большими карманами, которую мама связала ей на прошлое Рождество. Из-за этой кофты они не разговаривали два месяца.
— Ты специально связала мне кофту без карманов! — плакала тётушка Мо. — Хотя прекрасно знаешь, что я не могу без карманов! Это тебя Найман подговорил?
— Тётя, ну что ты такое говоришь? — возмущалась мама. — Просто это такой фасон. Сюда карманы никак не подходят. Видишь, вот тут специальный клинышек и выточка. А если вот так застегнуть…
Но тётушка была непреклонна, она разобиделась не на шутку и отказывалась от визитов до тех пор, пока мама не довязала к кофте два больших уродливых кармана. И даже расшитые бисером, они выглядели отвратительно.
Вся одежда тётушки Мо должна быть с карманами. В этом Кора её поддерживает. Надо же куда-то складывать всякие интересные штучки, которые, так или иначе, подворачиваются под руку. По дороге от автобусной станции, например, Кора успевает разжиться несколькими цветными стёклышками (зелёным, коричневым и ещё одним зелёным), двумя камешками интересной формы, красной картонной биркой с пластиковым язычком и пустым пузырьком из-под таблеток.
Кора аккуратно слезает с подоконника (сперва перевернувшись на живот и нащупав ногой уступчик над трубой отопления), заходит в комнату и выворачивает содержимое карманов на кровать.
— Смотри! Хочешь что-нибудь?
Тётушка Мо отставляет миску и с интересом рассматривает «добро». Морщинистый палец поочерёдно касается каждого предмета и останавливается на пузырьке.
— Можно?
— Я так и знала! Я так и знала! — радуется Кора и распихивает всё остальное обратно по карманам.
У тётушки Мо сегодня хороший улов. Она с утра успела заглянуть в соседнюю комнату и тихонько ссыпать таблетки из двух стаканчиков. Если вечером её забудут обыскать, она сможет набить почти доверху новый пузырёк. Ещё у неё в кармане несколько ватных тампонов, чайная ложечка, несколько пустых бланков для анализа крови и одноразовый шприц (новенький, в упаковке).
Тётушка перебирает в кармане своё богатство, задумчиво глядя в одну точку, потом спохватывается и возвращается к младенцу.
— Почему она так долго спит? — снова волнуется она. — Если я её разбужу, может, она заплачет?
Кора подходит к пеленальному столику, встаёт на цыпочки и заглядывает в конверт. Детка хорошенькая — носик вздёрнутый, пушок на лбу — сладко спит, подрагивая ресницами.
Мама приводит дежурную нянечку, и та начинает перестилать постель.
— Праздники у них, — ворчит она себе под нос. — У других работа, а у этих всё праздники.
— Пойдём-ка, сходим пока к доктору Найману, поболтаем о том, о сём? — говорит мама тётушке Мо и берёт её под руку.
Тётушка высвобождает руку и прячет её в карман.
— Не пойду я к Найману. У него потные ладони. И вообще… Мне не с кем малышку оставить.
— Кора давно уже не малышка, ничего с ней не случится.
— При чём тут Кора? — тётушка раздражается. — Твоей маленькой кузине уже две недели, а ты упорно игнорируешь этот факт! Ты и в прошлый раз была такой же чёрствой и бесчувственной! Каждый раз, как будто специально!
— Да, я игнорирую выдуманные факты и выдуманных кузин! — мама ещё раз, на всякий случай, бросает взгляд на совершенно пустой стол у окна. — И вообще, ты меня пугаешь!
— Не кричи, разбудишь ребёнка!
Мама долго с участием смотрит на тётушку Мо и устало вздыхает.
— Тётя, ну что ты такое говоришь? — она снова потихоньку берёт её под руку и старается говорить спокойно. — Тебе почти восемьдесят лет. У тебя есть только мы с Корой. И мы тебя очень любим. Ну что ты, в самом деле?
— Роженица, твою мать… старая маразматичка, — бормочет дежурная нянечка, проходя к двери с ворохом несвежего белья.
Но тётушка Мо всё слышит и провожает её ненавидящим взглядом.
Кора гладит младенца по тёплой розовой щёчке и размышляет, как лучше назвать детку — Жоаной или Марти. Потом подходит к тётушке, дёргает её за рукав и говорит шёпотом:
— Ты иди, я присмотрю, не бойся. Она всё равно ещё спит.
Тётушка гладит Кору по голове и позволяет её маме вывести себя в коридор.
— А где твоя детка, которая была в том году? — кричит Кора ей вслед.
Тётушка на мгновенье застывает, видно как напрягается её спина, а рука в кармане быстро-быстро перебирает мелкие предметы. В тишине слышно, как звенят пробирки в процедурном кабинете, как открываются дверки лифта этажом ниже…
Тётушка Мо шумно выдыхает, опускает плечи и продолжает медленно идти по коридору.
Она не оглядывается, даже когда ребёнок в кружевном конверте начинает тихонько плакать.
И мама не оглядывается.
И даже Кора.
Никто
Мия сидит у стенки на узкой кушетке-лавочке, обтянутой коричневым дерматином. У её ног стоит открытая чёрная сумка с надписью «la sportiva». Время от времени Мия наклоняется и аккуратно, двумя пальцами, выуживает из недр сумки маленькую печенюшку, отправляет её в рот и, закрыв глаза, облокачивается о стенку.
На той же лавочке сидит ещё одна барышня. Она, похоже, нервничает и пытается согреть ладони, сложив их лодочкой между коленок. Барышню отделяет от Мии пустое место. На нём лежит свёрнутый плащ непонятного цвета с серой подкладкой.
— Как-то зябко тут, — говорит барышня как бы сама себе, выпрямляя спину и поводя плечами.
Мия наклоняется к сумке, достаёт ещё одну печенюшку и думает о том, что тут, в коридоре, акустика почти такая же, как в аптеке рядом с домом.
— Это нервное, — говорит Мия, чуть растягивая гласные.
Она не столько отвечает барышне, сколько хочет послушать, как звучит её собственный голос в этом пространстве.
Какое-то время они обе молчат, глядя на дверь напротив. На двери висит круглая белая блямба с номером «23». Если долго смотреть на неё, прищурившись, то цифры наползают одна на другую, образовывая то «8», то «6»… Вдруг блямба резко отъезжает вправо. Мия вздрагивает от неожиданности, но это просто открылась дверь.
— Кто на 16.30? — Мия не видит обладательницу высокого металлического голоса, а лишь локоть в белом рукаве и носок чёрной туфли-лодочки с ободранным лаком на кончике.
Барышня рядом как-то поспешно вскакивает, бледнеет, что-то говорит беззвучно, одними губами, и исчезает в кабинете.
Когда за ней закрывается дверь, Мия достаёт ещё одну печенюшку, медленно кладёт её на язык и облокачивается о стенку. Откуда-то слева доносится тихое мерное тарахтение, которое становится всё громче и громче.
Вдоль коридора неспешно идёт девочка лет пяти и тянет за собой пластмассовую машинку на верёвочке. Это некогда грузовик, у которого теперь нет кузова, а лишь потёртая зелёная кабина и пустая платформа с двумя торчащими штырями-обрубками.
— Я тебя умоляю, прекрати уже тарахтеть! — говорит Мия громко, не поворачивая головы и даже не открывая глаз.
— Я не могу прекратить, — так же громко отвечает девочка.
Она идёт, не глядя под ноги, а лишь всё время назад, на грузовик, поэтому её заносит то влево, то вправо. Машинка переворачивается каждый раз, когда ударяется о стенку или ножку кушетки.
— Всегда можно что-то прекратить, — говорит Мия. — Ты просто не хочешь! Тут, вообще, нельзя шуметь.
— Я не шумлю, я везу больного. Я «скорая помощь», — говорит девочка, приседая возле перевернувшегося грузовика.
— Ну что ты, прямо, как мальчишка с этой машинкой… Может, ты мальчишка?
Девочка ставит грузовик на колёса, встаёт, поудобней перехватывает верёвочку и молча продолжает идти по коридору. Поравнявшись с Мией, она вдруг останавливается и говорит:
— «Скорой помощи» везде можно шуметь. Она даже специально шумит, чтобы ей давали дорогу! Ты ничего не понимаешь! Ты, вообще, никогда ничего не понимаешь!
— А что это ты со мной так разговариваешь? — Мия начинает раздражаться. — Мелюзга! Ты, вообще, никто!
— Нет я кто! Нет я кто! — кричит девочка чуть не плача и бежит по коридору, волоча за собой машинку.
— Ну-ка, иди сюда! — Мия встаёт с лавочки. — Я кому говорю?
Из кабинета номер «23» выходит знакомая уже барышня, прикрывает дверь и несколько секунд стоит, прижавшись спиной и затылком к стене.
Мия и девочка замолкают и смотрят на неё в ожидании.
Барышня раз пять глубоко вдыхает и выдыхает, дрожит подбородком, делает несколько шагов к лавочке и, не дойдя до неё, начинает плакать, прямо стоя посреди коридора и закрыв лицо руками.
Мия разочарованно вздыхает и отворачивается, потеряв к барышне всякий интерес.
Она берёт с пола свою сумку, ставит её на лавочку, медленно застёгивает молнию, придерживая сумку коленом. Так же медленно она берёт и разворачивает плащ, встряхивает его и надевает. Потом перекидывает сумку через плечо и идёт к лифту.
Кроме плачущей барышни в пустом коридоре остаётся лежать на боку пластмассовый грузовик без кузова. Но когда Мия оглядывается, дойдя до стеклянной двери, то успевает увидеть только верёвочку от него.
Да и то лишь на мгновение.
Дорогой, милый Джику…
Почти всю осень каждое утро Нуца выходит из дому, чтобы броситься под восьмичасовой кишинёвский поезд.
Даже когда идёт дождь, и на улице совсем противно и зябко.
У Нуцы есть зонт и короткие резиновые сапожки лилового цвета. Она застёгивает пальто на все пуговицы, повязывает длинный серый шарф и зачем-то берёт сумочку. Ах, ну да, в ней же документы и прощальное письмо. А ещё два кусочка «докторской» колбасы, завёрнутой в целлофановый пакетик (для недавно ощенившейся дворовой суки). Можно всё это положить в карман, но сумочка очень подходит к сапожкам, поэтому пусть будет.
Нуца очень обстоятельно подходит к делу.
Она не завтракает. Кто знает, вдруг состав рассечёт её ровно посередине? А там какая-нибудь яичница с беконом или овсяная каша. Нет-нет, это некрасиво!
С вечера Нуца гладит серое платье (отложной воротничок, два карманчика, узкие манжеты), аккуратно красит ногти бледным перламутровым лаком, складывает на стул рядом с кроватью чистенькие колготки телесного цвета и бежевые махровые носочки.
Просыпается Нуца без будильника и выходит из дому ровно в семь десять. Она отдаёт колбасу собаке и стоит рядом, пока та ест. Потом пересекает двор, проходит две коротких улочки и долго идёт через пустырь до ближайшей станции.
«Дорогой Джику! — проговаривает Нуца своё письмо в голове. — Вы напрасно полагали, что женщина скромная, домашняя и воспитанная — непременно боязлива и неспособна к поступкам странным и безрассудным. Говоря о смене нравов и потере интереса ко всему классическому, Вы смели заметить…»
— «Смели заметить» — как-то по-дурацки звучит! — думает Нуца. — Нет, в самом деле, звучит как-то не очень.
Она останавливается посреди пустыря, достаёт из сумочки письмо, разворачивает и пробегает глазами. Потом прячет обратно в сумочку и оглядывается по сторонам.
Дворовая грязно-рыжая сука, которая плелась за Нуцей от самого дома, садится чуть поодаль.
— «Смели заметить»! — говорит Нуца вслух и всплёскивает руками.
Собака поджимает хвост и отбегает подальше.
— Это надо исправить! — говорит Нуца, обращаясь к собаке. — Это никуда не годится. И лучше было бы написать «милый», да-да, именно! «Милый Джику»! Я ещё на прошлой неделе хотела, но совсем вылетело из головы.
Нуца разворачивается и идёт обратно. Собака какое-то время медлит, вздыхает и семенит следом.
Машинист пассажирского поезда «Окница-Кишинёв» Джику Чобану задумчиво смотрит в окно и слушает свежую байку в исполнении своего помощника Мирчи. Каждый раз, приблизительно в одно и то же время, у Джику вдруг начинает сосать под ложечкой, и слегка подташнивает.
— Надо, наконец, сходить к врачу, провериться, — думает он. — И перестать уже пить кофе на голодный желудок.
Минуя железнодорожный переезд, Джику успевает сосчитать легковушки по обе стороны полотна.
— А может, вовсе сменить работу, — думает он, — и совершить уже какой-нибудь поступок, как-нибудь всё это поменять, что ли!
Но вслух говорит:
— Мирча, помолчи уже, а? И так голова раскалывается…
Помощник машиниста обиженно сопит, отворачивается к окну и закуривает.
Сегодня состав опять идёт с опережением графика.
Безнадёжный
Нет ничего переменчивей, чем стабильность.
В этом Яцек Левандовски убедился, когда в понедельник вышел из своего дома номер сорок два по улице Вольской, чтобы перейти на другую сторону, купить в киоске свежий номер «Życie» и сесть, как обычно, в седьмой трамвай до центральной галереи.
Перед этим Яцек выпил стакан кефира, тщательно вымыл чашку, набриолинил волосы и начистил до блеска туфли.
Он прекрасно помнил, как проверил карманы пальто и запер дверь на оба замка (сперва нижний, потом верхний), как не стал вызывать лифт, а пошёл пешком, как проверил почтовый ящик и поздоровался с усатым консьержем Томашем.
Яцек вышел на улицу и шагнул прямо на зелёный газон у крыльца, по привычке начав отсчитывать шаги до остановки. И даже досчитал до пяти, не сразу осознав, что куда-то делся асфальт, и канализационный люк с надписью «kanalizacja deszczowa Gdańsk», и даже трамвайные рельсы…
Перед ним расстилалась огромная парковая лужайка, испещрённая узенькими мощеными дорожками, по которым неспешно прогуливались горожане.
— Надо же, какой красивый правдоподобный сон! — с восхищением подумал Яцек.
Он постоял ещё минутку, наблюдая за этой картиной и щурясь на солнце, потом посмотрел на часы и пошёл обратно.
Яцек Левандовски вызвал лифт, стараясь не смотреть по сторонам. И будь он чуть более внимательным, то заметил бы, что на стене слева больше нет почтовых ящиков, а в углу справа нет никакого консьержа. Но кто же отслеживает такие мелочи во сне? Поэтому Яцек просто поднялся на четвёртый этаж, открыл дверь (сперва верхний замок, потом нижний), прошёл в спальню, разделся и лёг в постель.
Гражина Грабска, по обыкновению, выскочила из своего подъезда по улице Мицкевича, на ходу застёгивая курточку и вспоминая, все ли документы она уложила в папку.
Гражина сегодня снова опаздывала. Но ведь это не повод, чтобы не заскочить в ближайшую «кавярню» и не выпить чашечку утреннего кофе от пани Баси. Там можно будет съесть сметанный коржик и попутно подкрасить ресницы.
— Гражка-Гражка, — ругала она себя мысленно, дёргая непослушную застёжку на куртке, — так тебя скоро выгонят с работы! И это тебе ещё повезло, что контора в двух кварталах от дома, а не на другом конце города!
Она подняла голову, чтобы посмотреться в большую зеркальную витрину парикмахерского салона «Ruża», но вместо витрины почему-то увидела проходящий мимо красный трамвай номер семь, и журнальный киоск на другой стороне улицы.
— Мамочки! — сказала Гражина вслух и выронила папку.
Она быстро собрала бумаги и попятилась к двери. Споткнувшись о канализационный люк, Гражина ойкнула и заскочила в подъезд. Там она прислонилась спиной к стене, закрыла глаза и стала читать шёпотом «Богородица дева».
— Хорошая сегодня погода, пани Гражина, — усатый консьерж улыбался из-за стеклянной перегородки.
Гражина открыла глаза и поняла, что находится в незнакомом подъезде.
— Мамочки! — опять сказала она про себя. — Это всё, должно быть, от вчерашнего лимонного ликёра.
Гражина больно ущипнула себя за бедро и в ту же секунду на глаза навернулись слёзы.
— А вы кто? — всхлипнула она.
— Я ваш консьерж. Меня зовут Томаш, не узнаёте?
И прежде, чем он успел выйти из-за перегородки, Гражина Грабска потеряла сознание.
Франек Цибуш просыпался обычно поздно. Он медленно задумчиво одевался, обстоятельно завтракал и потом долго чистил зубы, разглядывая себя в зеркале. В прихожей он замечал, что надел свитер наизнанку, или носки разного цвета, или подтяжки задом наперёд.
Спустившись этажом ниже, Франек вдруг спохватывался, что забыл очки, или портмоне, или записную книжку.
Потом он выходил из дома и попадал сразу к задним воротам городского парка, проходил его насквозь, выкуривал, наконец, первую сигарету и садился в автобус.
Окончательно Франек просыпался, когда из окна был виден Костел Святой Бригиды, и водитель объявлял остановку «улица Профессорска».
Сегодня Франек шёл вдоль улицы Мицкевича, удивлённо озираясь по сторонам. Ни парка, ни ворот, ни автобуса он в это утро не обнаружил.
— Либо я потерял память, либо рассудок, — думал Франек.
И то и другое, безусловно, как-то разнообразило жизнь, хотя и рушило все сегодняшние планы.
Франек остановился у большой зеркальной витрины с надписью «Ruża», надел очки, внимательно осмотрел себя с ног до головы и, не найдя никаких особых изменений, двинулся дальше.
Пройдя полквартала он обнаружил маленькое кафе «У пани Баси», автоматически нащупал портмоне в кармане и зачем-то несколько раз огляделся по сторонам.
— Всё равно работа на сегодня уже отменяется, — подумал Франек Цибуш и уверенно толкнул дверь.
— Нет ничего стабильнее перемен, — сказала пани Бася и взяла Томаша под руку.
Они неспешно прогуливались по лужайке — от парковых ворот до центральной аллеи, и обратно.
— Как вам показалась та молодая особа? Славная ведь, правда?
— Гражина на удивление милая девушка, — улыбнулся Томаш. — Несколько взбалмошная, но ужасно любопытная.
— Вы не сильно её напугали?
— Она довольно быстро оправилась. С таким лёгким характером можно прижиться где угодно!
— Вам теперь не так скучно, пан Томаш? — пани Бася подмигнула консьержу и легонько сжала его локоть.
— Ну что вы! Ни капельки. Представляете, она даже завела собаку!
Они ещё раз прошли мимо парковых ворот.
— А этот смешной Франек теперь не только завтракает в нашем кафе, но и ужинает, — сказала пани Бася.
— Хотите сказать, что он слишком надоедлив?
— Нет-нет, что вы! Предельно деликатен и совершенно безобиден. К тому же у него оказалось прекрасное чувство юмора! А вы знаете, как я ценю чувство юмора.
Томаш посмотрел на часы.
В эту самую секунду из дома напротив вышел Яцек Левандовски. Он ступил на газон и внимательно посмотрел по сторонам. Несколько секунд он помедлил, потом спрятал руки в карманы пальто и с видом какого-то печального смирения снова вернулся в дом.
— Опять двадцать пять! — всплеснула руками пани Бася.
— Мне кажется, он безнадёжен, — вздохнул Томаш.
— Он просто упрямый осёл! — пани Бася совершенно расстроилась. — Мне его даже жалко. Прямо не знаю…
— Ну, ничего не поделаешь, бывает…
— Вот именно! Давайте подождём ещё несколько дней, хотя бы до субботы? — пани Бася снова взяла консьержа под руку. — Никогда ведь не знаешь, чего от них ожидать.
Томаш улыбнулся, и они медленно пошли к автобусной остановке.
Кто едет в лифте
Пани Борткова откинула одеяло, тяжело спустила ноги с кровати и посмотрела в окно. На улице было пасмурно и туманно.
— Ах, дура-дура! — тут же подумала пани Борткова.
Она же прекрасно знает, что воспоминания про сон улетучиваются, как только посмотришь в окно. Знает, но забывает каждый раз. А сон был хороший. И если закрыть глаза, то, может быть…
Но нет, пани Борткова вздохнула, нащупала ногами тапочки и пошлёпала в ванную. Там она открыла кран и подождала, пока пойдёт тёплая вода, подставила зубную щётку под струю и посмотрела в зеркало. На щеках у Франтишека отчётливо проступала двухдневная щетина. Он провёл рукой от шеи до скулы, поставил зубную щётку обратно в стакан и взял станок для бритья.
— А мог бы побриться с вечера, — подумал Франтишек. — А мог бы, вообще, запустить бороду.
Он густо наложил пену для бритья на подбородок и повертел головой. Нет, борода ему, определённо, не идёт. А усы не нравятся его подружке.
— Ну и подумаешь, не нравятся! Кто её, вообще, будет спрашивать? — подумал Франтишек и привычными движениями заёрзал станком по щеке.
Потом он вернулся в комнату, открыл платяной шкаф и задумался.
Долго думать Хелена не умела. Выбор между синим платьем и серым брючным костюмом решился в пользу платья. Хелена какое-то время рассматривала своё отражение в трельяже, то втягивая живот, то выпячивая грудь. В целом, она была собой довольна — каких-то две недели диеты, а результаты уже видны. Часы показывали без четверти, а значит, было ещё время спокойно выпить чашечку кофе.
Хелена, напевая, вошла в кухню, достала из шкафчика кофемолку, насыпала в неё две большие горсти кофейных зёрен и посмотрела в зеркальную дверцу. Очки у пана Кацпера запотели, поэтому он снял их и долго протирал краем занавески. Потом надел и снова посмотрел в зеркальную дверцу.
— Так и есть! — подумал с досадой пан Кацпер. — Снова пора стричься!
Стричься приходилось теперь чаще, чем два раза в месяц. По неизвестной причине волосы стали расти быстрее, и торчали в разные стороны вороньим гнездом, совершенно не желая слушаться расчёски. Обидней всего было то, что росли они строго по кругу, оставляя на макушке аккуратную блестящую лысину. Настроение как-то сразу пропало, и кофе расхотелось.
Пан Кацпер взял из вазочки половинку несвежего печенья и пошёл в коридор одеваться.
Мужская парикмахерская была рядом, буквально в соседнем доме, но лучше надеть шляпу — всё равно причесаться нормально не получится, да и сыро на улице. Агнешке всегда шли шляпки. Она разглядывала себя в трюмо, заправляя за ухо тёмный локон.
— Красная помада будет лучше, чем розовая, — подумала Агнешка. — К такой шляпке лучше подойдёт красное!
Она аккуратно накрасила губки, спрятала помаду в сумочку, туда же сложила маленькое круглое зеркальце, записную книжку и перчатки. Агнешка взяла тонкий длинный зонтик, вышла из квартиры, закрыла дверь на оба замка и вызвала лифт.
На первом этаже профессор Лисовски ругался с консьержкой Рузей.
Он жал на кнопку вызова и потрясал свёрнутой в трубочку газетой.
— Это переходит всякие границы! — возмущался профессор. — А к вопросу о моей корреспонденции мы ещё вернёмся, пани Рузя!
— Да не было Вам никакой корреспонденции, — оправдывалась Рузя. — Ну, ей-богу, не было, пан профессор! Да что ж я специально, что ли?
— Ой, не надо вот этого! — морщил лицо пан Лисовски. — Вы и коврик мой криво стелили не специально, и квитанцию в прошлом месяце потеряли не специально… Да где ж этот лифт? Безобразие!
И немедленно в лифте что-то щёлкнуло, открылись дверцы, и пан Лисовски сделал шаг в сторону, пропуская выходящих. Но выходящих не оказалось. Профессор вопросительно посмотрел на консьержку и заглянул в кабину лифта. Там, прислонённый к зеркалу, стоял тонкий женский зонтик. Профессор снова вопросительно посмотрел на консьержку. Та пожала плечами.
— По-вашему, пани Рузя, это тоже не специально? — он махнул свёрнутой газетой в направлении зонтика. — Я же говорю, безобразие!
Пан Лисовски вошёл в лифт, демонстративно повернулся к зонтику спиной, и, прежде, чем закрылись дверцы, взглянул на себя в зеркало.
Из цикла «Я и друг мой Дзюба»
Монте-Кристо
Полы в нашем доме мать красила сама. Раньше это считалось мужской работой, но с тех пор, как отец подался в бега, в доме был только один мужчина — мамка.
Вечером ожидались гости, поэтому все полки в холодильнике были заставлены заливным, мисочками с винегретом, ожерельями кровяной колбасы и розетками с дрожащим вишнёвым желе из польских пакетиков «Галяретка».
Полы подсохли ещё вчера, но запах масляной краски не выветрился до сих пор. Потому мы с Дзюбой сидели за столом в гостиной и, под видом выполнения домашних заданий, втягивали запах носом почти до головокружения.
— Хорошо тебе, — говорил Дзюба. — Всю ночь можно нюхать! А у нас везде линолеум. Его просто стиральным порошком моют.
— Это что! — гордо отвечал я. — Вот мы ещё скипидаром натрём!
Дзюба завистливо молчал.
— А потом мастикой! — добавлял я, радуясь этому неожиданному превосходству.
С каждым разом краска выбиралась матерью всё светлее по тону и ярче.
Некогда тёмно-коричневые половицы теперь были ярко-оранжевыми, и не раздражали лишь потому, что были прикрыты аккуратными полосатыми ковровыми дорожками. И только пороги блестели глянцевой эмалью, словно залитые морковным соком.
С течением времени маме всё больше хотелось броских расцветок — так, словно реальность блёкла и теряла краски.
Кресла застилались пёстрыми покрывалами, а на стенках появлялись белые висячие горшочки с пошлым искусственным плющом ядовито-зелёного цвета.
Мать покупала синьку в маленьких пластиковых бутылочках и неизменно добавляла её в стирку. От этого все постели и занавески в доме имели насыщенный голубой оттенок.
Этой нехитрой науке мама научила и свою сестру Верку. А та, в свою очередь, заразила мать привычкой крахмалить пододеяльники и простыни. От чего они вечно были жёсткими, словно с мороза, и даже похрустывали под руками.
— Слышь, Верунь, — говорила мать, — а что как я в другой раз комбинации подкрахмалю, а?
— А и крахмаль! Что им станется? — говорила Верка, прилаживая на голове парик.
Она уже битый час вертелась у зеркала. То красила ресницы, зачем-то широко открывая рот при каждом взмахе кисточки, то обводила губы огрызком красного карандаша, старательно слюнявя кончик.
У тёти Веры сегодня именины. И хотя бабка не назвала мою мать ни Надеждой, ни Любовь, ни тем более Софьей, этот праздник сёстры отмечали исправно. Хороший же праздник, чего?
Гостей звали к нам — у нас места больше.
Компания соберётся привычная: родители Дзюбы придут с мелкой Люськой, Степановна, Зинаида с беременной Катькой, Валерка… По поводу Валерки мать вчера долго ругалась с тётей Верой. С одной стороны — ему бы помириться с Катькой. А с другой — непонятно, как там всё обстоит с городским женихом. Зинаида на все вопросы только поджимает губы да отмалчивается. А Катерине уж рожать скоро.
— Ой! — тётя Вера вдруг роняет помаду и бледнеет. — Ой, батюшки!
— Что? — мамка застывает в дверях, с половником в руке, и мгновенно бледнеет. — Да говори же! Что???
Мы с Дзюбой, как по команде выскакиваем в коридор.
— Ой-ой, — причитает тётя Вера, — шампанское-то забыли! Забы-ыли!
— Едрить-колотить, Верка! — мать присаживается на край вешалки, держась за сердце. — Меня чуть кондрашка не хватила! От дурная ты!
— Костик, побеги, а? — тётя Вера смотрит на меня умоляюще. — Может, не закрыли ещё? Там Райка, она тебя знает. Побеги, а?
Мать выдаёт мне деньги, и мы с Дзюбой бежим вниз по улице, обгоняя друг друга. А потом неспешно идём обратно, неся каждый по зелёной праздничной бутылке. У пивного ларька замедляем шаг, и мужики уважительно кивают головами и отпускают вслед шуточки, но по-доброму, по-свойски.
По пути мы заворачиваем к гаражам, и садимся там, прислонившись спиной к полуразрушенной кирпичной стене. Дзюба достаёт утащенную у бати папиросу, аккуратно ровняет её пальцами и смачно прикуривает, наклонив голову набок.
Какое-то время мы молчим.
Так уж повелось, что эти редкие, ворованные папиросы стали для нас каким-то особым ритуалом. Курение сопровождалось непременно серьёзными философскими разговорами, по-взрослому вальяжными затяжками и неспешным выпусканием дыма. Не то, чтобы мне нравилось курить, да и мамка надаёт тумаков, если учует, но была в этом какая-то пацанская непокорность, какой-то протест, и странное ощущение ворованной свободы, а значит, самостоятельного рискованного поступка.
— Валерка в тюрьме сидел, — вдруг говорит Дзюба, — ты знал?
— Иди ты! За что?
— Не знаю. Я батю спрашивал, не говорит.
— А когда это он сидел, что я не помню?
— Нас ещё не было тогда, вот и не помнишь! Давно.
Мы молчим, хоть и думаем об одном и том же. Дзюба передаёт мне папиросу, сплёвывает сквозь зубы и говорит:
— Вот это жизнь, скажи! Как Монте-Кристо! Конвой, решётка, камера…
— Кто Монте-Кристо? Валерка, что ли?
— А хоть и Валерка! — Дзюба раззадоривается всё больше. — Представляешь, если он владеет секретной картой сокровищ!
— Ага, и тихонько их пропивает.
— Дурак ты! Надо его выследить, — Дзюба переходит на шёпот, — богатые всегда прикидываются обычными людьми, нищими даже. Как подпольный миллионер Корейко в «Золотом телёнке».
Он говорит так уверенно, и так эта мысль мне нравится, что я почти верю.
Мы возвращаемся домой, объединённые новой тайной.
Ещё издали замечаем какую-то суматоху во дворе, слышим женские крики и причитания, и припускаем шагу.
— Батюшки святы, рожает! — кричит тётя Вера. — Как есть рожает!
Валерка выскакивает из калитки и несётся вниз по улице к телефону-автомату.
— А у тётьки Катьки схватки начались! — говорит радостно мелкая Люська. — А тётька Зинка валерьянку пьёт!
Мать забирает у нас шампанское и уносит в дом.
— Ничего-ничего, — кричит она из коридора, — в праздник рожать — хорошая примета!
— А и правда, — отзывается тётя Вера. — Слышь, Катерина, если девка будет, Веркой назовёшь, в честь меня!
Катерина полулежит на лавочке и стонет. С одной стороны её поддерживает под локоть мать Дзюбы, с другой — Степановна.
— С какой это стати Веркой? — возмущается Зинаида, появляясь в дверях. — Чтоб такая же профурсетка была, как ты? Нет уж! Любкой будет, как прабабка её!
— Пацан будет! — уверенно говорит Степановна. — Глянь, у ей живот острый. На девку круглый должен быть!
— Лишь бы здоровый! — стонет Катерина и опять заходится в крике.
Когда «скорая» увозит Катьку рожать, все возвращаются к столу и весь вечер только и разговоров, что про роды, про младенцев да про выбор крёстных.
Мы с Дзюбой сидим в кухне и доедаем уже третью порцию вишнёвого желе.
— Не успели мы, — говорит Дзюба, — жалко, скажи!
— Что не успели? — не понимаю я.
— Ну, если ребёнок Валеркин, всё наследство теперь ему отойдёт.
— Иди ты! Точно!
Мы молчим и пытаемся придумать хоть какие-то плюсы этой ситуации. Получается плохо.
— Слушай, у продавщицы Райки брат сидит! — вдруг осеняет меня.
— И что?
— Как что! Он весной выходит! Будем за ним следить!
— А ты думаешь, что прямо все выходят миллионерами? — не сильно-то воодушевляется Дзюба.
— Ну не знаю. Я бы точно миллионером вышел! Я про Монте-Кристо два раза читал — там всё просто. Главное — в правильную камеру попасть. Я даже пробовал под нашим сараем подкоп делать. Хочешь, покажу?
В дверях мелькает кремовое платье Дзюбиной сестры, и мы слышим в комнате её противный голосок:
— Мама, мама, а Костика в тюрьму посадят! Я слышала! А ещё они подкоп будут делать!
Все замолкают и смотрят на мою мать. Она всё ещё улыбается, пока смысл сказанного медленно до неё доходит.
— Ой, Верунь! — мама встаёт, хватается за плечо тёти Веры и тут же бледнеет.
— Константин! А-ну, поди сюда! — кричит тётя Вера из комнаты голосом, не сулящим ничего хорошего.
— Люська-гадость, — цедит Дзюба сквозь зубы, — убью!
Мы оставляем недоеденное желе и неохотно плетёмся в комнату.
Люська, дружба, жвачка
Люська стоит посреди двора, широко расставив кривенькие ножки, и ревёт во весь голос.
С одной стороны к ней бежит Дзюбина мать тётя Зоя, а с другой — Степановна, соседка.
Дзюба стоит, опершись спиной об угол сарая, и флегматично ковыряет в носу.
— Ты что ей сделал, ирод? — кричит ему мать на бегу. — Что ты ей опять сделал?
Она приседает возле Люськи и начинает осматривать её и ощупывать. Люська послушно даёт осмотреть одну руку, потом другую. При этом она не прекращает реветь на всю улицу, время от времени поворачиваясь в сторону Дзюбы и трагично выпучивая глаза.
Тётя Зоя осматривает ей голову, заглядывает в рот, щупает коленки.
— Люсенька, что? — спрашивает она, уступая место подоспевшей Степановне. — Да что ж такое?
Степановна проделывает ту же процедуру, потом легонько встряхивает Люську за плечи, от чего та начинает реветь громче и тоньше.
— Ну ты дурак, Дзюба, — говорю я шёпотом, — она же наябедничает.
— Ничего, зато запомнит!
— Она же мелкая ещё, жалко, — говорю я.
— Посмотрел бы я на тебя, Костя, если б это твоя сеструха была, — Дзюба виртуозно сплёвывает сквозь зубы. — Она меня, знаешь, как бате закладывает! А батя мне потом, знаешь, что?..
И пока все заняты ревущей Люськой мы тихонько ретируемся через забор и, нырнув между кустов крыжовника, выходим на улицу с другой стороны соседского двора.
Дзюба отряхивает штаны, пятясь от калитки, я открываю рот, чтобы сказать ему «стой!», но не успеваю, и Дзюба врезается прямо в проходящую мимо Дашку Ерохину. Вдобавок ко всему он наступает ей на ногу, и на белом Дашкином носочке остаётся грязный овальный след.
— Ой, — говорит Дзюба, и у него краснеют уши и шея.
Ему ужасно неловко, он не знает, что сказать, вдруг приседает и начинает тереть след на Дашкином носке, сперва рукой, потом рукавом. Дашка смеётся, убирает ногу и бьёт Дзюбу по голове пустым пакетом.
— Что там у вас Люська так плачет? Это же Люська плачет? — спрашивает она, кокетливо одёргивая цветастое платьице.
— Она жвачку проглотила, — говорю я. — А Дзюба сказал, что она теперь умрёт.
— Не просто жвачку! — Дзюба вдруг обретает дар речи. — А польскую жвачку, которую я у Фильки выменял на магнит!
Я знаю, что дело не в магните. Эту жвачку (страшная редкость по нашим временам) Дзюба припрятал как раз для Дашки Ерохиной.
А Люська нашла и съела.
А теперь ревёт, потому что брату верит безоговорочно, хотя и бесконечно ябедничает на него отцу.
— Что же ты её, бедную, так напугал? — спрашивает Дашка Дзюбу безо всякого сожаления в голосе и поглядывает на меня украдкой.
— Чтобы знала! — ворчит Дзюба, прослеживая Дашкин взгляд.
Ерохина закладывает за ухо непослушную прядь, но делает это очень медленно, чтобы мы успели разглядеть её новые часики — маленькие, аккуратные, на блестящем тёмно-сером ремешке.
Но я вижу не новые часы, а тонкую царапину на запястье, чуть ниже застёжки, маленькую царапину на узком Дашкином запястье, рядом с бледной голубой жилкой. И мне вдруг становится тяжело дышать, и начинает ныть где-то в животе, сладко и странно.
— Пошли, — говорит мне Дзюба и толкает меня в бок. — Чего встал? Пошли!
— Красивые часы, — говорю я, чтобы что-то сказать.
Дашка медленно подносит руку к глазам.
— Ой, уже половина второго! — говорит она с выражением. — Сейчас гастроном закроют!
Мы с Дзюбой стоим и смотрим, как Дашка Ерохина бежит вниз по улице, размахивая пустым пакетом.
Остаток дня Дзюба дуется на меня, а на все вопросы только отмахивается, чем ужасно меня злит. Я не сделал ничего плохого, но всё равно чувствую себя виноватым.
— Мне эта Ерохина ни капельки не нравится, если ты из-за этого! — оправдываюсь я. — Ну, честно!
— Меня это не интересует, — холодно отвечает Дзюба, не глядя мне в глаза.
Но я-то знаю, что интересует! Ещё как интересует! Но если я скажу об этом вслух, мы точно поссоримся.
Странная вещь: нет ничего такого, о чём мы с Дзюбой не можем разговаривать. Но когда дело касается Дашки, Дзюба ведёт себя, как дурак.
Мы сидим на ящике за гаражами и курим ворованную «беломорину».
— Ты дурак, Дзюба, — говорю я.
— Угу, — отвечает он и пытается выпустить дым колечком, — а ты, значит, умный!
— Да я не в том смысле.
— Ну и помалкивай.
— Ну и подумаешь!
— Ну и всё!
Мы молча курим, передавая друг другу папиросу.
Потом так же, молча, идём верх по улице. Какое-то время топчемся возле Дзюбиной калитки, пока из-за неё не раздаётся писклявый Люськин голосок:
— Ага, а я папке всё рассказала! И ничего я не умру! А папка тебя уже ждёт!
Люська пятится к дому, пытаясь оценить расстояние от двери до калитки и от Дзюбы до неё самой.
— Ну, я пойду, — говорю я, как бы между прочим.
— Угу, — обречённо соглашается Дзюба. — Завтра зайдёшь?
— Завтра зайду.
Мы всё стоим. Дзюба не решается войти во двор, а я не могу просто взять и уйти.
— Ты это… не расстраивайся, — говорю я, чтобы что-то сказать.
— Угу, — отвечает он, — не впервой.
— И это, слышь? — вдруг говорю я, сам себе удивляясь, — я тебе завтра жвачку достану, честно!
— Иди ты! Как? — Дзюба смотрит на меня недоверчиво и вздыхает.
— Есть пара мыслей… — вру я и хлопаю его по плечу.
— Ладно, завтра поглядим, — говорит Дзюба, и лицо его светлеет.
Дочь своего отца
— А он тогда скажет: «Вам не кажется, что это недостойно, и говорить тут не о чем?»
— А я ему отвечу: «Нет, не кажется!»
Марика посмотрела на сестру с восхищением. Вот кому достался гордый нрав, смелость и фамильное упрямство. Дочь своего отца!
Лидия сидела у зеркала и расчёсывала длинные тонкие волосы благородного медного оттенка, далеко отводя острый локоток, и сосредоточенно хмурила бровки.
— А если он скажет: «Вы не думаете о том, что будут говорить о нас соседи?» — спросила Марика и поудобнее устроилась на постели, поджав под себя ноги.
— А я ему отвечу: «Нет, не думаю!» — сказала Лидия, не оборачиваясь.
«Я бы умерла от страха», — подумала Марика, но вслух спросила:
— А если он скажет: «Не будете ли Вы так любезны, выбросить все эти глупости из головы?»
— Я ему отвечу: «Нет, не буду!»
— Ох! — вырвалось у Марики.
Лидия строго посмотрела на неё через зеркало, положила гребень на полочку и встала с пуфика.
— Ну ты-то хоть не думаешь, что надо высылать из страны каждого, кто боится драконов?
— Но рыцарь — не каждый. Рыцарь не должен… — шёпотом начала Марика.
— Ай, перестань! — перебила её Лидия. — Рыцарь должен восхищаться Моим Высочеством, а это он делает отменно!
— Но ты же не станешь говорить об этом с папенькой?
— Стану! Очень даже стану! — Лидия гордо вздёрнула острый носик. — Прямо сейчас пойду и поговорю!
«Королева! Как есть королева!» — подумала Марика и проводила сестру восхищённым взглядом.
Потом она слезла с постели, подошла к зеркалу, долго придирчиво рассматривала свои непослушные рыжие кудри, носик-пуговку, веснушки на щеках, несколько раз пыталась нахмурить бровки и состроить строгое лицо. Вздохнув, она показала язык своему отражению и поспешно вышла из спальни.
— Не может быть и речи! — услышала Марика в конце коридора.
Она тихонько подошла к королевским покоям и замерла, прислонившись ухом к высокой двери.
— Вы моя старшая дочь! Вам не кажется, что это недостойно? — кричал король.
— Да, папенька, — бормотала Лидия.
Марика представила, как Его Величество мерит шагами комнату, и каждый раз, разворачиваясь, нервно одёргивает край мантии, и та взлетает, как крыло дракона.
Марика даже прикрыла глаза от страха.
— Вы не думаете о том, что будут говорить о нас соседи? — спрашивал король.
— Да, папенька, — начала хныкать Лидия.
— Скажите спасибо, что я не велел его казнить, а лишь выслал из королевства!
Лидия шмыгала носом.
— Придумала тоже! — не унимался король. — Замуж за труса!
— И что? И что? — не выдержала Лидия. — Ваша младшая дочь, вообще, хочет замуж за дракона! И что?
Марика почувствовала, как кровь отливает от лица. Колени вдруг подкосились, и она опустилась на пол, зажимая рукой рот.
— Вон!!! — заорал король. — Вон, я сказал!!!
Лидия выскочила из двери и понеслась по коридору, не замечая никого вокруг.
Вечером Марика заглянула в королевские покои. Король сидел в высоком кресле в синих семейных трусах и мантии на голое тело. Парик и корона лежали рядом на столике, вместе с сердечными каплями и уксусным компрессом.
Услышав, как отворяется дверь, король быстро запахнул мантию и потянулся за короной.
— Я принесла вам клюквенный морс, — сказала тихо Марика, не двигаясь с места. — Сладкий, как вы любите.
— Ну давай же сюда, — заворчал король недовольно и обмяк в кресле, — чего стоишь?
Марика подошла и поставила на столик графин и бокал.
Король пошевелил босыми пальцами ног.
— А ну-ка отойди вон туда, к окну.
Марика отошла к окну, поправила кружевной воротничок и заложила за ухо непослушную рыжую прядь.
— А ну-ка, посмотри на меня. Ничего не замечаешь?
— Что я должна заметить, Ваше Величество?
— Ну, смотри-смотри! Совсем ничего? — король поудобнее устроился в кресле.
— Ничего, — Марика пожала плечами.
— Я не достаю ногами до пола! — сказал король. — Видишь? Совсем усох. Старый совсем…
— Что вы, папенька! — Марика бросилась к королю и уткнулась ему в грудь. — Что вы такое говорите!
— Ладно-ладно, — заворчал король, отстраняясь. — Давай свой морс.
Марика налила половину бокала и посмотрела вопросительно на короля. Тот кивнул, и она долила ещё немного
Его Величество сделал несколько глотков, довольно сощурился и поставил бокал на столик.
— Что тут мне Лидия говорила сегодня? Что-то про дракона? — как бы, между прочим, спросил он. — Что он как бы тебе нравится, что ли?
— Нравится, — тихо сказала Марика.
— Вы понимаете, что вы сейчас сказали? — король вдруг перешёл на официальный тон и даже выпрямил спину.
— Понимаю, — сказала Марика, опустив глаза.
— Вам не кажется, что это недостойно, и говорить тут не о чем? — спросил король громче.
— Нет, не кажется! — сказала Марика.
— Не будете ли Вы так любезны, немедленно выбросить эти мысли из головы? — закричал король, соскочил с кресла и прямо босиком зашагал по комнате.
— Нет, не буду! — уверенно сказала Марика.
— Ах так, значит? — король комкал края мантии. — Значит, вот тааак?
Марика молчала.
— Подите вон, дочь моя! — король топнул босой ногой и скривился от боли. — И извольте пообещать, что завтра же вы забудете все эти глупости!
— Нет! — громко сказала Марика. — Нет, нет и нет!
Она повернулась, медленно вышла из комнаты, плотно притворив за собой дверь, и только тогда дала волю слезам.
Король какое-то время постоял, переминаясь с ноги на ногу, потом забрался в кресло и пошевелил пальцами ног.
— Дочь своего отца! — сказал он восхищённо и взял со столика бокал с морсом.