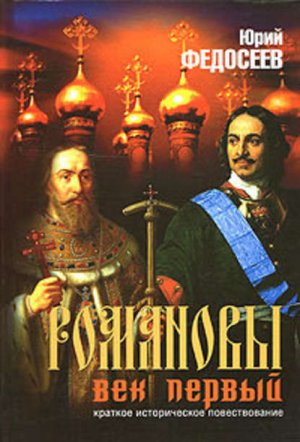
Глава I
Михаил Федорович. Начало династии
После заочного избрания на царство Михаила Федоровича Романова Земский собор назначил ехать к нему большую делегацию во главе с рязанским архиепископом Феодоритом. В число делегатов-челобитчиков вошли чудовский, новоспасский и симоновский архимандриты, троицкий келарь Авраамий Палицын, бояре Ф. И. Шереметев и В. И. Бахтеяров-Ростовский, окольничий Ф. Головин, а также стольники, приказные люди, жильцы и выборные от городов. В связи с тем что точного места нахождения новоизбранного царя никто не знал, наказ им был такой: «Ехать к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси в Ярославль или где он, государь, будет». Только в пути делегаты выяснили, что Михаил с матерью находятся в Ипатьевском монастыре недалеко от Костромы, куда они и прибыли 13 марта 1613 года. На следующий день им была назначена аудиенция.
Первая реакция инокини Марфы и ее шестнадцатилетнего сына на известие об избрании Михаила царем был решительный отказ, как отмечают летописи, «с гневом и слезами». Реакция в общем-то предсказуемая не только из дипломатических соображений и ложной скромности. Под этим отказом были куда более серьезные причины, ибо мало в истории найдется примеров, когда бы новый государь в столь молодом возрасте вступал на престол в такой крайне сложной обстановке. Главная трудность заключалась в том, что государство находилось в состоянии войны сразу с двумя державами — Польшей и Швецией, которые, оккупировав часть российской территории, выставляли своих кандидатов на московский престол. Более того, у одного из противников в качестве пленника находился отец вновь избранного московского царя — Филарет (Федор) Никитич Романов, а вступление сына на престол могло отрицательно сказаться на его судьбе. Тяжелым было и внутреннее состояние Московского царства. Большую опасность для государства продолжали представлять казачий атаман Иван Заруцкий со своей невенчанной женой и ее сыном «царевичем Иваном», имевшие широкую поддержку со стороны казаков и русской вольницы, распоясавшейся за годы Смуты и державшей в страхе население практически всех областей, включая и московские окрестности. Но самая страшная опасность для Михаила и его матери крылась, как тогда говорили, в малодушестве московских людей, которые, присягнув последовательно Борису Годунову, его сыну Федору, Гришке Отрепьеву, Василию Шуйскому, Тушинскому вору, королевичу Владиславу, предали их одного за другим, руководствуясь своими корыстными соображениями. Мать и сын имели полное право опасаться, что нового царя ждет та же участь — измена, а вслед за ней и позорная смерть. Такой судьбы для своего сына инокиня Марфа, конечно же, не желала. И только угроза посольства, что «Бог взыщет на нем конечное разоренье государства», если Михаил откажется подчиниться воле Земли об его избрании на престол, растопило лед недоверия. Марфа благословила сына, и он принял от архипастыря соборные грамоты и державный посох, пообещав в скором времени быть в Москве.
Однако путешествие из Костромы в Москву растянулось по времени почти на два месяца. По мере приближения к столице к Михаилу Федоровичу все с большей очевидностью приходило осознание того, что он гол, нищ и недееспособен. Государственная казна была пуста, как и продовольственные запасы царского двора. Армия из-за невыплаты денежного содержания распалась и занималась грабежом ради собственного пропитания. На дорогах хозяйничали разбойники, свои и чужие. Последствиями этого прозрения стали многочисленные царские грамоты, одна за другой уходившие в Москву. В них Михаил, нужно полагать с подачи своих советников, требовал от Земского собора, чтобы бояре, дворяне, торговые люди исполнили свою часть «общественного договора», а именно обуздали разбойничьи шайки, бродившие по городам и весям; очистили дороги от грабителей и убийц, парализовавших всякое перемещение людей и товаров; восстановили дворцовые села и волости, являвшиеся основным источником пополнения царской казны денежными, продовольственными и иными запасами, предназначенными не только для «царского обихода», но и содержания служилых государевых людей. Оскудение же царской казны доходило до того, что царскому поезду не хватало лошадей и подвод, в связи с чем часть сопровождавших царя людей вынуждена была идти пешком. Да и сам стольный город, как свидетельствует соответствующая переписка, не был готов к приему царя, ибо «хором, что государь приказал приготовить, скоро отстроить нельзя, да и нечем: денег в казне нет и плотников мало; палаты и хоромы все без кровли. Мостов, лавок, дверей и окошек нет, надобно делать все новое, а лесу пригодного скоро не добыть».
Тем не менее царский поезд медленно, но верно приближался к Москве. С 21 марта по 16 апреля царь находился в Ярославле, 17 апреля он прибыл в Ростов, 23 апреля — в село Сватково, а 25 апреля — в село Любимово. На следующий день, 26 апреля, он торжественно вступил в Троице-Сергиеву лавру, а в воскресенье, 2 мая, уже «всяких чинов московские люди» вышли за город для встречи своего государя. В тот же день состоялся его торжественный въезд в столицу, а затем и благодарственный молебен в Успенском соборе Кремля.
11 июля 1613 года считается днем рождения новой династии. В этот день Михаил Федорович Романов был венчан на царство. Перед венчанием два стольника — Иван Борисович Черкасский, родственник царя, и вождь-освободитель князь Дмитрий Иванович Пожарский — были возведены в боярское достоинство. После этого в Успенском соборе казанский митрополит Ефрем провел волнующую церемонию помазания и венчания на царство. Ему помогали князь Мстиславский, осыпавший царя золотыми монетами, Иван Никитич Романов, державший шапку Мономаха, боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой со скипетром и новый боярин князь Пожарский с яблоком (державой). На следующий день по случаю царских именин чествовался новый думский дворянин Кузьма Минин. Каких-либо других пожалований, льгот, милостей, подарков простому народу и знатным людям новый царь, в отличие от своих предшественников, дать не мог: казна была пуста.
Трудность положения нового царя усугублялась еще и тем, что в его ближайшем окружении, как утверждают исследователи, не оказалось людей если не равных, то хотя бы отдаленно напоминающих митрополита Алексия, Сильвестра, Алексея Адашева или Бориса Годунова. В его команде не было людей, способных сформулировать и последовательно реализовывать государственную программу, отвечающую национальным требованиям русского народа, измученного полувековыми «испытаниями на прочность» опричниной Ивана Грозного, стихийными бедствиями Борисова царствования, иностранным нашествием и внутренними смутами. Как отмечали иностранные наблюдатели, «все приближенные царя — несведущие юноши; ловкие и деловые приказные — алчные волки; все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя; к царю нет доступа без больших издержек; прошения нельзя подать без огромных денег, и тогда еще неизвестно, чем кончится дело…». Первую скрипку в этом «оркестре» играли родственники матери Михаила — Борис и Михаил Салтыковы, заботившиеся исключительно о своем должностном положении и своем обогащении, в то время как герои Первого и Второго народного ополчения были отодвинуты на второй план или вовсе сошли с исторической сцены. Более того, при любой возможности новые фавориты под разными предлогами старались их унизить, ущемить. Так, князь Пожарский, из местнических соображений отказавшийся объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтыкову, был подвергнут унизительной процедуре — «выдаче головой»{1} своему оппоненту.
Единственное, что спасало Московское царство от возобновления смуты, так это активная позиция и активная роль Земского собора и Боярской думы, которые делали все от них зависящее, чтобы вывести отечество из кризиса. Ведь, по существу, Михаил Федорович, принимая царский венец, как бы делал одолжение земству. Собор, умолявший его принять на себя ответственность за судьбу государства, со своей стороны взял на себя обязательства навести в стране порядок: прекратить междоусобия, грабежи и разбои, создать приемлемые условия для отправления державных функций, наполнить царскую казну всем необходимым для достойного «обихода» царского двора и содержания войска. Именно деятельная позиция земства компенсировала недостатки правительства Михаила Федоровича, укомплектованного за счет его родственников и приятелей, малопригодных для управления государством в условиях разрухи и всеобщей анархии.
Нужно сказать, что всенародно избранный Земский собор начал выполнять свои обязательства сразу же, о чем свидетельствует его переписка с Михаилом. Вот выписка из его доклада царю, еще находившемуся в пути: «Для сбора запасов послано и к сборщикам писано, чтоб они наскоро ехали в Москву с запасами… О грабежах и воровствах заказ учинен крепкий, воров и разбойников сыскиваем и велим их наказывать. Дворян и детей боярских без государева указа с Москвы мы никого не отпускали, а которые разъехались по домам, тем всем велено быть к государеву приезду в Москву». К польскому королю Собор направил посольство с предложением перемирия и размена пленными, а к «заворовавшимся» казакам и многочисленным шайкам «гулящих людей» посланы грамоты с предложением прекратить «братоубийства» и идти служить новоизбранному царю против шведского короля, захватившего Великий Новгород и его окрестности.
Но перепиской и увещеваниями дело не ограничивалось. Уже в марте Собор снаряжает войска против литовских людей, подступивших большими силами к Белёву, Калуге и Козельску, а в апреле — в Северную землю, где бесчинствовали многочисленные шайки разбойников. Против мелких шаек, орудовавших на дорогах, действовали летучие отряды дворян и лояльно настроенных казаков. Однако наибольшую угрозу спокойствию государства и самому трону в то время представлял Иван Заруцкий, унаследовавший от предшествующих самозванцев Марину Мнишек и ее сына — «царевича» Ивана, прозванного Воренком. Так вот, против Заруцкого, засевшего в Михайлове, Собор послал сначала Никанора Шульгина, а когда тот сам «заворовал», — князя Ивана Одоевского.
Первые годы царствования Михаила Федоровича Собор был постоянно действующим органом власти. Он заседал практически беспрерывно: в 1613–1615, 1616–1619, 1620–1622 годах. Кроме военных проблем, ему приходилось решать и такой непростой вопрос, как пополнение государственной казны, нужной не столько для царского обихода, сколько для решения все тех же проблем внутренней и внешней безопасности. Однако попытка собрать недоимки с населения за предшествовавшие годы не увенчалась успехом по той причине, что налогоплательщики, в прежние годы обираемые всеми, кому не лень, были не в состоянии платить повторно хоть и самому царю. Кроме того, сам контингент налогоплательщиков изменился. На одного более или менее дееспособного налогоплательщика приходилось по нескольку умерших, убитых, сбежавших. Причитавшуюся с них долю раскладывали на оставшихся податных людей, которые и за себя-то заплатить толком не могли. Приходилось прибегать к принудительному взиманию недоимок, но это, в свою очередь, приводило к увеличению не только недовольных, беглых, но и бунтующих людей, что явно не входило в планы нового правительства. Поэтому Собору пришлось прибегнуть к другому способу пополнения государственной казны. Не оставляя все же надежд на получение недоимок, земством и правительством было принято решение обратиться за помощью к тем, кто действительно располагал хоть какими-то возможностями: к монастырям, боярам, промышленникам. Сначала предполагалось, что помощь будет взаимообразной, что как только царская казна пополнится, то долги тотчас будут погашены. Причем просьба была не «Христа ради», а угрожающей. «Если же вы, — говорилось в грамотах, — нам взаймы денег, хлеба и товаров не дадите и ратные люди, не терпя голоду и нужды, из Москвы разойдутся, то вам от Бога не пройдет так даром, что православная христианская вера разорится». Однако сборщики, посланные от правительства по русским землям, привыкшие за годы безвластия к мздоимству, больше заботились о своем прибытке, чем о государственной пользе, поэтому львиная доля собранного в казну не попадала, а оседала в их карманах. В этой связи земство, уже отвечающее за организацию местной самообороны — оборонительные сооружения и содержание вооруженных отрядов, вынуждено было взять на себя дополнительно еще и сбор налогов и пожертвований в казну, устраняя тем самым условия для казнокрадства и злоупотреблений.
В следующем, 1614 году царское правительство, не получившее, несмотря на свои ожидания, необходимых средств от добровольных пожертвований и займов, проводит через Собор обязательное обложение всех торговых людей «пятой деньгой», что означало передачу в казну 20 процентов всего имеющегося капитала. Условия были разные: одним плательщикам было обещано по возможности вернуть взятое, другим — зачесть в недоимку, а третьим — отнести в счет будущих платежей.
По мере укрепления новой династии отношения земства и двора менялись. Власть постепенно становилась все «самодержавнее» и «самодержавнее», а Собор по своему социальному составу все больше и больше наполнялся представителями местной и центральной администрации. Упрощалась и процедура принятия важных для государства решений. Так, назначение в 1615 году «пятинных денег» при условии возврата или зачета было проведено только от имени царя. В следующем году этот сбор был превращен в чрезвычайный налог уже без каких-либо признаков займа. Правда, в этом случае Михаил Федорович вновь обратился к авторитету Собора, проведя попутно решение о сборе посошной подати с крестьян и подворной — с мелких посадских людей.
Так, методом проб и ошибок, используя механизм добровольного самообложения через «приговор всей земли», новый царь и его ближайшее окружение отрабатывали механизмы государственного управления, формировали налоговую политику, определяли ставки налогов и способы, обеспечивающие их поступление в казну. Но как только они почувствовали, что все это они могут проводить без участия представителей земель и сословий, они начали выстраивать свою вертикаль власти: царь — карманная Боярская дума — приказы и назначенные воеводы на местах.
У ряда авторов можно увидеть такую характеристику молодого царя: «умный, мягкий, но бесхарактерный»; «молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден»; «хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего». Одни говорят об изначальном договоре, ущемляющем права самодержца в пользу боярства; другие ругают его ближайшее окружение, видя в нем лишь алчных и корыстных честолюбцев. Но давайте попробуем ответить себе на вопрос: как ему, «удобнейшему», ограниченно дееспособному, окруженному недостойными царедворцами, в условиях практически полной разрухи, непрекращающейся внутренней смуты и в состоянии войны с двумя европейскими державами удалось мобилизовать силы Московского царства и выйти победителем? Что здесь сыграло основную роль: мудрость матери, всенародный подъем исстрадавшегося населения, а, может быть, действительно промысел Божий? Как бы там ни было, но проводимые в первые годы правления Михаила Романова мероприятия все-таки были адекватными и оптимальными. Конечно, важно кто за ними стоял, чтобы воздать им должное, но, я думаю, важнее то, что им удалось вывести Россию из того ужаса, в котором она находилась 13 лет.
Однако вернемся к 1613 году и чуть подробнее рассмотрим, как Московское царство справлялось с внутренней смутой и внешней угрозой.
Итак, мы знаем, что наибольшую опасность для спокойствия Московского царства в тот период времени представлял атаман Иван Заруцкий. В начале апреля 1613 года Боярской думе стало известно, что атаман вместе с Мариной Мнишек и ее сыном в сопровождении 2,5–3 тысяч казаков, разграбив Михайлов, направился в сторону Епифани. Изначально он хотел двинуться на юг, к Астрахани, но Марина настояла на своем и их отряд пошел на соединение с литовскими людьми, поэтому этапами этого пути стали Епифань, Дедилов, Крапивна, Тула. И только известие, что против него из Москвы 19 апреля выступил князь Иван Одоевский, заставило Заруцкого повернуть на юг.
Где-то в районе Воронежа они встретились. По одним сведениям, Одоевский одержал победу, по другим — Заруцкий без боя ушел в Астрахань. При этом часть казаков отказалась следовать за ним и перешла на сторону правительственных сил, что и дало основание князю рапортовать в Москву об одержанной победе. В Астрахани Заруцкий, казнив местного воеводу князя Ивана Хворостинина и еще какое-то число верных ему соратников, отправил в Персию послов с просьбой к шаху Аббасу принять его в качестве вассала и оказать ему помощь в овладении московским престолом. Одновременно с этим он обратился к волжским и терским казакам с призывом идти вместе с ним в поход на Москву. Однако Москва тоже не сидела сложа руки. Донским казакам от имени Земского собора была послана грамота с извещением об избрании на царство Михаила Федоровича с одновременным призывом идти на защиту отечества против литовских людей. В подтверждение своего благорасположения царь направил им государственное воинское знамя, царское жалованье, сукно, порох, свинец, продовольствие. Те, в свою очередь, известили о царских милостях другие казачьи области. Все это стало причиной того, что большинство казаков, уставших от войны, отказалось поддержать Заруцкого и только небольшая часть молодых казаков, жаждавших «чужого зипуна», отозвалась на его призыв и примкнула к нему. Обращался Собор и к самому атаману, призывая его отстать от Марины и обещая забвение всех его прежних грехов. Но тот уже не мог остановиться. Поддерживаемый казаками, привыкшими к грабежам, Заруцкий, временами именовавший себя царевичем Дмитрием, вел себя в Астрахани как главарь самой настоящей разбойничьей шайки. Видя нерасположение к себе местных жителей, он стал их притеснять, отбирать имущество, сажать в тюрьму, подвергать пыткам и издевательствам. Не лучше вели себя в городе его казаки и союзники, ногайские татары. В конце концов, астраханцы подняли восстание против Заруцкого и тот вынужден был спасаться за высокими стенами кремля. А к тому времени дозрели и разногласия атамана с гарнизоном Терского городка. Какое-то время, сомневаясь в законности избрания Михаила Федоровича, гарнизон поддерживал союзнические отношения с новым астраханским диктатором, но, разобравшись в ситуации, решил занять сторону центральной власти, стремящейся к установлению мира и согласия на Русской земле. Присягнув царю Михаилу, терские люди снарядили против Заруцкого стрелецкого голову Василия Хохлова с семьюстами ратниками. Подступив к Астрахани, Хохлов убедился, что жители города и атаман находятся в состоянии войны. Заруцкий, ощетинившись пушками, сидел в кремле, а жители, боясь расправы, копили силы для решительного сражения. Приход Хохлова был как раз вовремя. Жители тут же примкнули к терским людям, и атаману ничего другого не оставалось делать, как бежать из города. 12 мая он вместе с Мариной и Воренком бежал вверх по Волге. Хохлов нагнал беглецов, побил сопровождавших их казаков и ногайцев, но «венценосной семье» удалось скрыться от преследователей. Они спустились вниз по Волге, вдоль берега моря прошли до устья реки Яик и поднялись вверх по течению. В Яицком городке их приютил атаман Ус. А тут, считай, что к шапочному разбору, к Астрахани подошло и войско князя Одоевского. Узнав о местонахождении атамана, князь отрядил на его преследование две стрелецкие команды, которые, осадив Яицкий городок, принудили казаков целовать крест государю Михаилу Федоровичу и выдать беглецов. Это произошло 25 июня 1614 года, а в сентябре того же года в Москве при большом стечении народа был повешен невинный четырехлетний мальчик, вся вина которого состояла в том, что был произведен на свет плохими родителями. Истинный виновник многих бед земли Русской, возмутитель спокойствия — атаман Иван Мартынович Заруцкий — за все свои злодеяния был посажен на кол. Марина Мнишек, по одним сведениям, умерла своей смертью в коломенской тюрьме, по другим — была «посажена в воду».{2}
Однако проблемы с казачеством на этом не закончились. Потеряв идейного вождя и разменяв на водку и деньги ореол борцов за правду, казаки превратились в обыкновенных разбойников. Сбиваясь в большие отряды, они заполонили и затерроризировали практически все северные области Московского царства. По свидетельству летописцев, таких мук, такого насилия жители сел и городов не испытывали и в древние времена. Казаки, беглые холопы, «гулящие люди» не просто грабили, а вели себя хуже варваров и иноверных захватчиков. Они жгли села, забивали скот, разоряли и оскверняли церкви, пытали и убивали людей, не разбираясь кто перед ними: мужчина или женщина, ребенок или старик. История зафиксировала случаи массового убийства людей, в том числе и в районе реки Онеги, где царские воеводы, гонявшиеся за этими шайками, насчитали 2325 трупов мирных жителей со следами пыток и издевательств.
По русским селам и городам промышляли не только доморощенные разбойники, но и поляки, запорожцы, татары. Хотя с этими было проще. Иноземный и иноверный враг — он и есть враг, с которым можно и нужно воевать всеми доступными средствами. С донскими же казаками, совсем недавно сражавшимися с польско-литовскими захватчиками, правительство пока не решалось вести открытых боевых действий: оно надеялось, что, «поворовав», казаки все-таки вернутся к своей службе и еще будут полезны в деле защиты государства от внешней угрозы. Поэтому сразу же после казни Заруцкого в Ярославль от имени царя и Собора была направлена большая группа духовных и светских людей во главе с суздальским архиепископом Герасимом и боярином князем Борисом Лыковым. Им предстояло вести трудные переговоры с казаками и их атаманами, с тем чтобы те прекращали бесчинства и поступали на государеву службу. Однако грамоты, рассылаемые князем Лыковым, дали только обратный результат. Казаки стали буйствовать пуще прежнего. В этой связи Лыкову было разрешено применять против казаков военную силу. Только после нескольких удачных предприятий лед, как говорится, тронулся.
Одна часть казачьих атаманов объявила, что они отправляются на государеву службу к Тихвину против шведов, оккупировавших русское побережье Финского залива и захвативших Новгород, и просила прислать им воевод, боевого припаса, кормов и жалованья. Однако на поверку оказалось, что это была всего лишь воровская уловка. Поменяв район своей дислокации, большинство казачьей вольницы на новом месте принялось грабить не только мирных жителей, но и казаков, перешедших на сторону правительственных сил. Не поздоровилось и прибывшим туда царским воеводам, которым они не только отказались подчиняться, но и напали на них и пограбили правительственные обозы.
Другая, меньшая, часть казаков двинулась вниз по Волге в сторону Нижнего Новгорода, однако в районе Балахны их настиг боярин Лыков, нанес им сокрушительное поражение и рассеял на мелкие группы.
Максимальную же опасность представляла третья, самая многочисленная, казачья группировка во главе с кровожадным изувером атаманом Яном Баловнем, одно время промышлявшим в районе Архангельска и Холмогор. Эти бандиты направлялись в сердце России — к самой Москве. Они делали вид, что готовы служить царю, но их отказ от переписи, вызывающее поведение, высокомерная манера ведения переговоров выдавали их истинные намерения: взять жалованье у царя и уйти к Лисовскому. Благо что ко времени их прибытия под Москву — сначала в село Ростокино, а потом в район Донского монастыря — у Михаила Федоровича и у Собора скопилось множество челобитных грамот от бояр, дворян и детей боярских о бесчинствах этих самых казачьих отрядов.
Началось следствие. А для того чтобы предупредить возможные враждебные действия со стороны многочисленного казачьего табора, правительство в качестве боевого охранения выдвинуло против него отряды уже известного нам боярина Лыкова и окольничего Артемия Измайлова. Казаков под угрозой применения силы предупредили, чтобы они оставались в местах своей дислокации и не смели приближаться к Москве. Но те, испугавшись возможных и вполне реальных в такой ситуации репрессий, бросились прочь от Москвы. Царские воеводы двинулись за ними, ликвидируя попутно неорганизованные шайки. На реке Луже под Малоярославцем они настигли основные силы беглецов и нанесли им окончательное поражение. Три тысячи казаков, оставшихся в живых, «били челом и крест целовали» царю Михаилу Федоровичу. Рядовых казаков простили и отправили на службу. Большую часть атаманов разослали по тюрьмам, а Баловня и еще нескольких его товарищей, особо отличившихся своими злодеяниями против русского народа, повесили.
Не успело правительство царя Михаила справиться с одними смутьянами, как по Руси в разбойничий набег отправился польский изгой, печально знаменитый полковник Лисовский с несколькими тысячами своих «лисовчиков». Против него Собор снарядил уже самого князя Дмитрия Пожарского. Первое их вооруженное столкновение произошло под Орлом. Лисовский уклонился от решительной схватки и ушел налегке в сторону Кром. Началось его безуспешное преследование: от Кром — к Болхову, от Болхова — к Белёву, от Белёва — к Лихвину и Перемышлю. Но Лисовский не просто уходил от погони — он был в набеге. Его неоправданная жестокость поражала даже видавших виды бойцов. За собой «лисовчики» оставляли выжженные деревни, горы трупов и реки слез. Утомившись от погони, Пожарский заболел. Воспользовавшись этим обстоятельством, Лисовский напал на Ржев и, не взявши города, спалил его посад, перебил посадских жителей и устремился к Кашину и Угличу. Местные воеводы по царскому указу пытались перекрыть разбойникам дорогу, но те каждый раз находили лазейку и уходили от преследования. Проскочив между Ярославлем и Костромой, Лисовский набросился на Суздальский уезд и опять безнаказанным ушел — теперь уже в Рязанскую землю. И там последствия его набега были ужаснее любого татарского. Правда, из-за отсутствия обоза пленных он не брал. Но это только усугубляло печальную участь населения: «лисовчики», как волки, не забирали добычу с собой, а резали и бросали ее на месте. Завершая многомесячный круговой рейд вокруг Москвы, Лисовский вновь нашел брешь в обороне царских воевод и напал на Алексинский уезд, где чуть ли не впервые встретил организованное сопротивление со стороны правительственных войск. На этот раз ему противостоял князь Куракин, но и этот воевода не сумел нанести ощутимого вреда разбойникам, ушедшим из-под удара в сопредельную Литву.
На следующий год Лисовский вновь появился в Северской земле. Но участь его была предрешена: что не сделали царские воеводы, сделал его величество случай. В безобидной ситуации опытный конник упал с лошади и разбился насмерть. Однако еще долго осколки его банды продолжали бесчинствовать не только на московской, но и на своей, польской земле.
Итак, мы видим, как день за днем, несмотря на кажущуюся бездеятельность молодого царя и приписываемую правительству неспособность, улучшалось экономическое и военное положение Московского царства. И пусть по лесам и большим дорогам еще бродили шайки «лихих людей», а царская казна не могла похвастаться не то что изобилием, а и достатком, тем не менее на повестке дня уже стоял вопрос об избавлении от иностранных интервентов и освобождении занятых ими земель. Речь пойдет о Речи Посполитой и Швеции.
Начнем со Швеции. Мы помним, что, после взятия в июле 1611 года Новгорода войсками Якова Делагарди, новгородский митрополит Исидор и воевода князь Федор Одоевский, с благословения вождей Первого ополчения и от имени всего Московского государства, отправили в Стокгольм представительную делегацию к шведскому королю Карлу IX с наказом просить его дать им в государи одного из своих сыновей. Просьба была воспринята благосклонно, но по ряду причин, в том числе и в связи со смертью Карла IX, приезд королевича откладывался более года. К тому времени образовалось Второе ополчение, вожди которого уже отрицательно относились к самой идее приглашения членов иностранных королевских семей на русский престол. Однако, чтобы не спровоцировать шведов на активные действия в разгар войны с поляками, захватившими Москву, Смоленскую и Северскую земли, их представителю, в лице все того же князя Одоевского, был дан уклончивый ответ, смысл которого сводился к тому, что Земский собор в принципе может пригласить на царство шведского принца, но при одном непременном условии: он должен принять православие. Уловка удалась: шведы, занятые своими делами, в русские события вмешиваться не стали. А тем временем ополчение и казаки освободили Москву и избрали на престол Михаила Федоровича Романова. Вот тут-то шведы и опомнились.
Еще до венчания Михаила на царство новый шведский король Густав-Адольф прислал в Новгород грамоту, в которой приглашал представителей всего Российского царства в Выборг для приведения их к присяге шведскому королевичу Карлу-Филиппу, который выехал туда в сопровождении своей свиты и соответствующей охраны. Однако в Выборг прибыла только новгородская делегация с предложением королевичу пожаловать в Новгород. Отказ других русских земель присягать Филиппу стало поводом к тому, что шведы, отказавшись от создания царства в рамках одной лишь Новгородской земли, потребовали от новгородцев присоединиться непосредственно к Швеции на правах автономии. Филипп отбыл в Стокгольм, а вопросы будущей аннексии новгородских земель и приведения новгородцев к присяге королю Густаву-Адольфу были поручены фельдмаршалу Эверту Горну, заменившему Якова Делагарди на посту новгородского наместника.
Но и новгородцы были не лыком шиты. Опасаясь давать прямой ответ об их нежелании переходить в шведское подданство, они то апеллировали к первоначальному договору с Делагарди, то затевали бесконечные согласования и референдумы. В конце концов новгородский воевода князь Никифор Мещерский не выдержал. Он пошел к Горну и напрямую заявил, что новгородцы от Московского царства отсоединяться не хотят и присягать шведскому королю не будут. Результат был заранее известен: князь и его единомышленники оказались в тюрьме, а напор на других, «лучших людей» со стороны шведских интервентов только усилился.
Тогда новгородцы попросили еще одну, и последнюю, отсрочку. Они взяли на себя миссию поехать в Москву якобы для того, чтобы напомнить боярам их прежние обещания, и если они и на этот раз откажутся принять на московское царство шведского королевича, то Новгород один поцелует крест королю. На самом же деле посольство ставило для себя задачу вымолить прощение у царя Михаила Федоровича за невольную измену и попросить помощи у Земского собора в освобождении Новгородской земли. В Москве понимали, что в условиях внутрироссийской смуты открытая конфронтация со Швецией может создать для молодой династии дополнительные трудности, поэтому посольству были вручены две грамоты: одна, официальная, от Думы, с упреками в измене, а другая — негласная, в которой царь прощал новгородцев и призывал их бороться за единство земли Русской. Однако в связи с предательством московского думного дьяка Петра Третьякова, уведомившего Горна об истинных целях посольства и о наличии секретного царского послания, тайное стало явным. В результате участники посольства были подвергнуты жестоким репрессиям со стороны шведов. Больше других пострадал архимандрит Киприан, терзаемый голодом и холодом и до полусмерти избиваемый на правеже.{3}
И все же, несмотря на недостаток сил и средств, новое правительство изыскало возможность выставить против шведов боярина Дмитрия Трубецкого, окольничего Данилу Мезецкого и стольника Василия Бутурлина, соединившихся осенью 1613 года у села Бронницы, что в 25 километрах к юго-востоку от Великого Новгорода. Однако недавняя «болезнь» подмосковного казачьего табора повторилась вновь. Казаки и другие военные люди, игнорируя тщетные попытки своих воевод организовать хоть какое-то наступление, бросились грабить местных жителей. Воспользовавшись этим «нестроением», шведы осадили русский лагерь и нанесли московскому войску жестокое поражение, так что даже воеводам пришлось спасаться бегством. Попытка же усилить давление на шведов за счет вроде бы раскаявшихся казаков и «лихих людей», посланных под Тихвин, как мы уже писали, также успеха не принесла. Хуже того, осенью 1614 года шведский король сам явился в русские пределы и после двух приступов овладел Гдовом.
Тем временем положение и в самой Швеции было далеким от идеального. Ее казна была пуста, а вокруг, по выражению шведского канцлера, — «большей частью открытые враги или неверные друзья», вследствие чего Густаву-Адольфу мир с Москвой был нужен не меньше, чем Михаилу Федоровичу мир со Швецией. Но если царь желал достигнуть его путем переговоров с помощью иностранных посредников, то король, для извлечения максимальной прибыли, действовал с позиции силы. Чтобы усилить свои позиции в переговорном процессе, он задумал овладеть Псковом. Однако конфуз, постигший польского короля Батория за 34 года до этого, повторился и с королем Швеции. Более того, он сам получил ранение, потерял фельдмаршала Эверта Горна и множество других своих солдат и офицеров. Единственное, чем он положительно отличался от своего предшественника, так это тем, что не стал испытывать судьбу долее трех месяцев, по истечении которых осада была снята.
Переговоры между Москвой и Стокгольмом проходили тяжело. Несмотря на активное посредничество представителя английской короны сэра Джона Мерика, даже такой незначительный вопрос, как место проведения переговоров, обсуждался почти год — с февраля по декабрь 1615 года. Наконец оно было определено — деревня Дедерино, что на полпути между Осташковом и Старой Руссой. 4 января 1616 года дедеринские переговоры начались с бесконечных препирательств о титулах, родовитости государей и прежних взаимных обидах. Кое-как разрешив эти вопросы, послы приступили к обсуждению условий договора, где взаимные территориальные претензии занимали ключевое положение. Аппетиты сторон оказались настолько неприемлемыми друг для друга, что послы разъехались по своим столицам за инструкциями, заключив трехмесячное перемирие — с 22 февраля по 31 мая. Возобновление переговоров откладывалось несколько раз по той же причине. И вот 31 декабря они встретились вновь, но теперь уже в селе Столбове, расположенном между Ладогой, где находился шведский штаб, и Тихвином — резиденцией русского посольства. Два месяца ожесточенных споров завершились подписанием 27 февраля 1617 года так называемого Столбовского договора о «вечном мире». Согласно этому договору Московскому царству возвращались Новгород, Порхов, Старая Русса, Ладога, Гдов и Сумерская волость, шведам же отходил весь приморский край: Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Ижора и Корела с уездами. Московский царь отказывался от своих притязаний на Ливонию и Карелию. Таким образом, Москва, как и при Иване Грозном, вновь лишалась выхода к Балтийскому морю. Условия крайне невыгодные, но с учетом неоконченной войны с Польшей и эти условия выглядели благом для России, ибо одним врагом становилось меньше.
14 марта русские послы, князь Даниил Мезецкий и дворянин Алексей Зюзин, вступили в покинутый шведами полувымерший и наполовину сожженный Новгород, находившийся под пятой завоевателей долгих пять с половиной лет. Митрополит Исидор и оставшиеся немногочисленные жители, истощенные голодом и обобранные правежом, встречали их громким плачем. В Софийском соборе собравшимся горожанам была объявлена царская милость. Царь обещал «пожаловать» всякого дворянина, дьяка, гостя или простолюдина по его достоинству и предоставить льготы всем посадским и уездным людям, смотря по степени их разорения и уровню бедности. Тем же, кто волею или неволею вынужден был служить «свейским людям»,{4} посылалось «прощение и забвение» их прежних грехов.
Перед правительством Михаила оставалась самая сложная проблема — закончить войну с Польшей с минимальными территориальными потерями, освободить из плена Великое посольство во главе с царским отцом митрополитом Филаретом, да так, чтобы и честь не потерять, и славу приобрести. А ситуация действительно была сложной. Дело в том, что поляки, захватившие в прежние годы Северскую и Смоленскую земли, так и не признали законность избрания на московское царство Михаила Федоровича. Считая царем королевича Владислава, они продолжали вынашивать захватнические планы и, где только могли, наносили ущерб новому московскому правительству. Правда, регулярную войну Польша к тому времени вести уже не могла, но действовавшие по ее наущению «лисовчики» и запорожские казаки были настоящим бичом для жителей центральных и северных районов Московии. О рейде Лисовского в 1615 году мы уже говорили, но мы поступимся исторической правдой, если застенчиво умолчим о не менее опасном рейде запорожцев, проникших до Сумского Острога на Белом море и разоривших окрестности Вологды, Тотьмы и Устюга, Важский и Олонецкие уезды.
Нужно сказать, что все эти годы, 1613–1616-й, между Москвой и Варшавой не прекращались переговоры с участием иностранных посредников о размене пленных и освобождении Филарета. Но «купленные поминками»{5} обещания Турции и Крыма так и остались обещаниями, а императорский посредник занял откровенно пропольскую позицию с ее неоправданно большими территориальными претензиями. В результате переговоры зашли в тупик. Это свидетельствовало о том, что более сильная в то время Польша готовилась к новой войне с Россией. И действительно, в июле 1616 года Польский сейм под обещание Владислава — в случае если ему удастся овладеть московским престолом, он уступит польской короне Северскую и Смоленскую земли и заключит «нерасторжимый» московско-польский договор — выделил ему средства на ведение войны. Воодушевленный Владислав окружной грамотой известил всех московитов о том, что он, избранный на московский престол всей землей, «пришедши в совершенный возраст», сам идет добывать данное ему от Бога Московское государство, и призывал их бить ему челом и покориться. Однако на первых порах военные действия ограничивались лишь рейдами тех же «лисовчиков» и запорожцев, сам же Владислав сосредоточивался, занимаясь организацией войска. Он хотел, чтобы его армию возглавил знаменитый Жолкевский, но тот, уверенный, что московиты не захотят принять королевича, отказался от этой сомнительной чести. Так во главе армии вторжения оказался гетман Ходкевич.
Более или менее активные действия поляки предприняли только в сентябре 1617 года, и начали они с осады Дорогобужа. Местный воевода Ададуров, узнав, что среди осаждающих находится сам Владислав, сдал ему город, как царю московскому, и вместе с дворянами и детьми боярскими принес ему присягу. Вяземских воевод обуял страх, и они, испугавшись превосходящих сил противника, еще до его подхода покинули город. В конце октября Владислав торжественно вступил в Вязьму и распустил свои отряды по окрестным уездам для захвата новых городов и «прокормления». Однако только «лисовчикам» Чаплинского удалось захватить еще два города — Мещовск и Козельск, в то время как прочих ожидала неудача. Благодаря русским воеводам Дмитрию Пожарскому, Борису Лыкову, Федору Бутурлину, Дмитрию и Василию Черкасским гарнизоны Калуги, Твери, Можайска, Клина, Белой оборонялись успешно.
Недостаток сил и средств не давал возможности ни той, ни другой стороне вести крупномасштабные наступательные действия. Поэтому вся зима и весна 1618 года у русских прошли в полуосадном положении, а у поляков — в сидении по «зимним квартирам», мелких вылазках за провиантом и рассылке по русским землям грамот нового претендента на царскую корону.
К началу лета Владиславу в Вязьму пришло известие из Варшавы, что сейм выделил ему дополнительные средства на захват Москвы, но с условием, чтобы кампания до конца года закончилась. В первых числах июня польская армия численностью 10–12 тысяч человек выступила по направлению к Москве. Эти силы были настолько ничтожны, что в течение всего лета они безуспешно пытались овладеть Можайском и Борисовым Городищем и вошли в последний только тогда, когда русские войска покинули его для усиления обороны Москвы от приближающихся к столице казаков гетмана Сагайдачного. Время, отведенное Сеймом на завоевание Московского царства, подходило к концу, и тогда комиссары Варшавы, приставленные к королевичу в качестве контролеров и военного совета, приняли решение идти на Москву в надежде, что ее жители, как и при Василии Шуйском, с радостью примут Владислава, которому они когда-то уже целовали крест. Но их надежды не оправдались. Земский собор, созванный Михаилом, 9 сентября постановил, что «всяких чинов люди единодушно дают обет Богу за православную веру и за государя стоять, с ним в осаде сидеть и биться с врагами до смерти, не щадя голов своих». И в очередной раз по городам пошли грамоты, чтобы жители, памятуя свое крестное целование, помогли государству людьми, деньгами и продовольствием.
Враг тем временем приближался к Москве. К 17 сентября Сагайдачный с 20 тысячами казаков, разорив по пути Путивль, Ливны, Елец и Лебедянь, стоял в селе Бронницы Коломенского уезда, а Владислав — в Звенигороде. Через три дня королевич был в печально знаменитом Тушине, а гетман — у Донского монастыря. Начались переговоры с Боярской думой, грозившие затянуться надолго, и тогда поляки в ночь на 1 октября предприняли попытку прорваться в город, но дальше Арбатских ворот они продвинуться не смогли и, потеряв несколько сотен человек, возвратились на исходные позиции. Переговоры продолжились 20, 23, 25 и 27 октября, однако наступающие холода вынудили Владислава подыскивать зимние квартиры, в поисках которых он направился по Переяславской дороге в сторону Троицкого монастыря. Королевич попытался уговорить архимандрита к сдаче, но тот распорядился ответить на его предложение пушечной стрельбой по подступившим польским войскам. Чтобы в непрекращающихся переговорах Михаил был более сговорчивым, Владислав распустил своих людей для грабежа в галицкие, костромские, ярославские, пошехонские и белозерские места, а гетман Сагайдачный разорял окрестности Серпухова и Калуги. Ожидался подход и донских казаков.
Тяжелое положение московского правительства усугублялось еще и тем, что в Москве взбунтовались казаки, только недавно отставшие от «воровства». Все это, а также желание царя как можно быстрее освободить своего отца из плена понудило Михаила Федоровича пойти на крайне невыгодные условия. И вот наконец 24 декабря 1618 года (по другим сведениям — 1 декабря) в деревне Деулино, что в трех верстах от Троицкого монастыря, сторонами подписывается договор о перемирии на четырнадцать с половиной лет. Согласно договору Польше отходили не просто Смоленская и Северская земли, а города Смоленск, Белая, Дорогобуж, Рославль, Муромск, Чернигов, Стародуб, Перемышль, Новгород Северский, Почеп, Трубчевск, Серпейск, Невель, Себеж, Красный, Велиж. Более того, послам не удалось добиться, чтобы Владислав отказался от своих притязаний на московский престол, а Сигизмунд признал Михаила законным царем московским. По существу, это была мина замедленного действия. Утешало лишь одно — на многострадальную Русь, растерзанную тринадцатилетней войной, приходил долгожданный мир. Да к тому же решалась и чисто семейная проблема царского рода. Из плена после почти девятилетнего отсутствия возвращался мудрый и властолюбивый митрополит Филарет, отец царствующего Михаила.
Глава II
Михаил Федорович с Филаретом и без него
По Деулинскому договору стороны согласились отпустить всех пленных, удерживаемых ими еще со времени смоленской осады и Первого земского ополчения. Знаковыми пленниками с московской стороны были руководители Великого посольства митрополит Филарет и князь В. В. Голицын, а также брат бывшего царя И. И. Шуйский и смоленский воевода М. Б. Шеин, с польской стороны — полковник Струсь, возглавлявший польский гарнизон Московского Кремля в 1612 году и капитулировавший перед Вторым земским ополчением. Подготовка к размену растянулась на полгода и сопровождалась всевозможными попытками с польской стороны обставить это мероприятие с максимальной выгодой для себя. В конце концов поздним вечером 1 июня 1619 года в 17 верстах от Вязьмы и в двух верстах от Дорогобужской дороги, на реке Поляновке, через которую были специально построены два моста, произошел размен. Однако в числе русских, ступивших на родную землю, уже не было В. В. Голицына, умершего в пути, и И. И. Шуйского, не решившегося настаивать на своем освобождении без разрешения королевича Владислава, которому он целовал крест как царю московскому.
Путь Филарета к Москве был обставлен со всей возможной торжественностью. В Можайске его встречали рязанский архиепископ и князь Дмитрий Пожарский, в Саввином монастыре — архиепископ Вологодский и боярин Василий Морозов, в селе Никольском — митрополит Крутицкий и князь Дмитрий Трубецкой. На берегу Ходынки его приветствовали все московские бояре, дворяне и приказные люди, а при переезде через речку Пресня 14 июня бывшего пленника встречал, стоя на коленях, царь Михаил Федорович. После трогательной встречи Михаил, усадив отца в царские сани (!), пошел пешком впереди него, что должно было символизировать верховенство отца и подчиненное положение сына-царя. А через десять дней гостивший в Москве иерусалимский патриарх Феофан, после приличествующих случаю отнекиваний, по просьбе царя и церковного собора посвятил Филарета в сан Патриарха Московского и всея Руси. Здесь следует заметить, кстати, что патриарший престол после смерти Гермогена в 1612 году пустовал, ожидая возвращения Филарета из плена.
Но на этом возвеличивание царского отца не закончилось. В отличие от всех предыдущих и всех последующих патриархов, Филарет получил тот же титул, что и царь. Отныне его велено было величать Великим Государем. Причем это не было узурпацией власти со стороны отца. Михаил сам неоднократно требовал, чтобы его отцу, патриарху, оказывали такую же честь, как и ему.
Все государственные документы с этого момента писались уже от имени царя и патриарха. И несмотря на то что имя Михаила стояло первым, все отлично понимали, что последнее слово всегда и во всем остается за Филаретом. Михаил, по отзывам современников, не принимал ни одного важного решения, не посоветовавшись с отцом и не испросив его благословения. О государственных делах бояре докладывали одновременно царю и патриарху; челобитные подавались как Михаилу, так и Филарету; а прибывающие иностранные послы правили посольство перед тем и другим.
В церковных делах Филарет был полноправным государем, как Папа Римский в Ватикане. В его юрисдикции, за некоторым исключением, находились все церковные и монастырские владения, вплоть до права суда по гражданским и уголовным делам. Современники единодушно отмечают его благое расположение и заботу о жизни и состоянии как духовенства, так и паствы. Он легализовал все сомнительные церковные материальные благоприобретения, состоявшиеся до него — более того, он преумножил их. Не очень сведущий в теологии, Филарет тем не менее смог предотвратить намечающийся на базе разночтения богослужебных книг церковный раскол и организовать печатание книг, соответствующих канонам Православной церкви. Его единственной жертвой из числа духовных лиц был малосведущий в канонических правилах митрополит Иона, ставший по воле случая после смерти патриарха Гермогена во главе Русской православной церкви и развернувший по недомыслию гонения на истинных отцов церкви — архиепископа Троицкого монастыря Дионисия и его помощников. Впрочем, наказание не было чрезмерным. Патриарх ограничился лишением Ионы митрополичьей кафедры и не слишком обременительной ссылкой его в монастырь.
Как и его современник кардинал Ришелье, Филарет создает при себе особые патриаршие приказы, способные без труда дублировать царские учреждения. Исторические источники отмечают, что Филарет, кроме церковного устройства, полностью владел всеми царскими и ратными делами. Причем его действия не были поспешными и авторитарными. Вносимые им в светскую жизнь изменения осуществлялись через царя, Боярскую думу, Земский собор.
Ни для кого не секрет, что самой важной проблемой Московского царства того времени была пустая государственная казна. К ее разрешению Филарет подходил в высшей степени основательно. По его рекомендации на места направляются «писцы и дозорщики» для проведения ревизии обрабатываемых земель и собственности, а также переписи податного населения, с тем чтобы выяснить истинное положение дел, оценить масштабы разорения, причиненные в Смутное время, и определить оптимальные для каждой местности налоги. Работа это, конечно же, проводилась не без недостатков. Источники отмечают многочисленные случаи несправедливого обложения, вымогательств и других злоупотреблений как со стороны приказных людей из Москвы, так и со стороны местных воевод, старост, дворян и торговых людей. Тем не менее налоги пошли полнее и организованнее. Появилась возможность хоть как-то планировать доходную и расходную части бюджета, оценивать убытки, недоимки, а также резервы государственной казны. Тем же «дозорщикам» была поручена и такая щекотливая миссия, как возвращение прежним хозяевам сбежавших и насильно вывезенных крестьян. Для первых был установлен десятилетний срок давности, а для вторых — пятнадцатилетний. Но возвратом крестьян дело не ограничивалось: укрывавшие или удерживавшие их помещики, кроме этого, должны были заплатить немалый штраф в казну. Какой уникальный повод к взяточничеству!
О серьезности намерений новой царской династии навести порядок в государстве говорит еще и то обстоятельство, что на борьбу со всеми этими злоупотреблениями был ориентирован особый Сыскной приказ во главе с боярами Черкасским и Мезецким.
Пополнению казны служили и другие правительственные мероприятия. Помимо посошных (на селе) и подворных (в городах) налогов вводится масса новых: подводные, ямские, стрелецкие, которые, наряду с посадскими, стали нести и служилые люди, проживавшие в посадах. По совету с торговыми людьми была отменена часть льгот, ранее предоставленных иностранным торговым домам, что способствовало развитию внутренней торговле, обогащению русских купцов, а соответственно, и увеличению налоговых сборов.
В погоне за доходами московское правительство не останавливалось и от применения такого общественно опасного способа, как повсеместное устройство казенных кабаков, вследствие чего пьянство среди населения получило такое широкое распространение, что впоследствии отсутствие у царевны Ирины Михайловны пристрастия к спиртному было поставлено ей в заслугу — как чуть ли не высшая добродетель. История оставила нам и такой пример: не до дна выпитая чаша за здоровье царя на официальном приеме у персидского шаха могла закончиться смертным приговором царскому послу.
Но деньги собирались не ради денег, а главным образом на устройство боеспособной армии. Четырнадцатилетнее перемирие с Польшей должно было когда-то закончиться. Война в принципе была неизбежной, так как несчастья Великой смуты, потеря Смоленска и Северской земли, позор девятилетнего пленения царского отца требовали возмездия. К тому же стараниями Филарета намечалась вполне реальная антипольская трехсторонняя коалиция Московии, Швеции и Турции. Москва была даже готова в одностороннем порядке разорвать Деулинское перемирие, однако внезапная гибель турецкого султана от рук своих же янычар и непоследовательность Густава-Адольфа, заключившего за спиной Москвы договор с польским королем, разрушили реваншистские планы Москвы. Это, нужно сказать, было первым серьезным внешнеполитическим поражением Филарета, внесшим прохладу в его отношения с царствующим сыном.
Все вышесказанное взято не «с потолка», а из трудов видных ученых-историков, единогласно возвеличивающих Федора (Филарета) Никитича. Но если попристальнее вглядеться в то далекое прошлое, отбросить устоявшиеся стереотипы в оценке исторических лиц, то картина может оказаться иной. У непредвзятого исследователя может зародиться совершенно справедливый вопрос: а не слишком ли историки завысили роль и значение Филарета в наведении порядка и восстановлении Московского царства во времена Михаила Федоровича и настолько уж он был всемогущ?
Да, он был богато одарен от природы. Ум, дородство, красота — все было при нем. Он вполне мог и сам быть царем, но в свое время не осмелился вступить в борьбу за трон с Борисом Годуновым, и, наверное, правильно поступил, потому что тогда было ЕЩЕ не его время. Ну а после освобождения из польского плена было УЖЕ не его время, ибо все самое трудное сделали до него и без него. Его заслуга заключалась лишь в том, что он достойно представлял Московское царство в составе Великого посольства, что стоически перенес девятилетний плен и что он… отец царя. Впрочем, это тоже немало и заслуживало уважения. К чести его мягкого, богобоязненного, почтительного сына, это было учтено и реализовано через присвоение Филарету титула Великого Государя и наделение его правами соправителя. Что же касается мероприятий по упорядочению сбора налогов, то они были настолько очевидны, что их мог инициировать любой думающий боярин или дьяк.
На этом же уровне можно оценить и его деятельность по отладке механизма государственного управления и по борьбе со злоупотреблениями со стороны приказных, воевод, голов и выборных губных старост. Результаты были незначительными: «сильные люди» как были, так и остались мздоимцами, казнокрадами и тиранами «меньших людей». Проще говоря, было все как всегда — рутинно и малоэффективно.
И все-таки почему же в представлении историков Филарет видится гигантом, а его сын — шестнадцатилетним мальчиком, ничего существенного не сделавшим для своего царства? Почему мы так принижаем его роль? Из-за молодости? Под чьим же руководством Московское царство освобождалось от внутренних и внешних врагов в период с 1613 по 1619 год, — ведь это был не менее судьбоносный период, чем во времена Первого и Второго ополчения? Не под его ли? Ах, под руководством Земского собора, Боярской думы и Салтыковых. Но почему история так скупа на описание их деяний и даже упоминание их имен?
Думается, здесь нас всех дезориентирует история его неудавшейся женитьбы на дочери дворянина Ивана Хлопова — Марии. Она пришлась по сердцу девятнадцатилетнему царю, но его двоюродные братья по матери — Борис и Михаил Салтыковы, не желавшие возвышения рода Хлоповых, — сделали так, что невеста была ославлена больной и неплодной. Когда же через четыре года обман вскрылся, а виновники отправились в ссылку, молодой царь решил вновь вернуться к вопросу о женитьбе на Марии. Но тут уже запротестовала мать, инокиня Марфа. Обидевшись за своих родственников, она выдвинула ультиматум: «Или я, или Мария». Воспитанный матерью Михаил выбрал мать. Но где же был его всемогущий отец, поддерживавший идею женитьбы на Хлоповой? Или он тоже не смел возражать своей бывшей жене? Как бы то ни было, но любовь к матери и странная позиция отца в этом вопросе сыграли с Михаилом злую шутку, представив его в глазах потомков безвольным и бесцветным государем.
Чтобы больше не возвращаться к семейным проблемам основателя трехсотлетней царской династии Романовых, напомним, что у него было две жены. Первая — выбранная матерью княжна Мария Долгорукова, заболевшая на другой день после свадьбы и умершая через три месяца, и вторая — дочь незнатного дворянина Евдокия Стрешнева, родившая ему трех сыновей и трех дочерей. Родителей пережили только сын Алексей и дочери — Ирина, Анна и Татьяна.
Но вернемся к русско-польским отношениям. Время Деулинского перемирия подходило к концу (июль 1633 года). Поляки продолжали нарушать пограничное размежевание, нападали на русские села и деревни, грабили население, вели самовольный лов рыбы, ставили на Русской земле свои остроги и слободы. Понятно: все шло к новой войне, благо что ярым ее апологетом с московской стороны был сам патриарх. Однако войны ведут не патриархи, а армии. Русская же армия в предшествующие годы показала всю свою несостоятельность. Дворянское ополчение, стрелецкие гарнизоны, казачья и татарская конница уже не могли соперничать с вымуштрованными армиями европейских государств. По этой причине основное внимание обоих Великих Государей было сосредоточено на создании у себя воинских подразделений по европейскому образцу, а поскольку своих специалистов в Москве не было, то пришлось приглашать на помощь иностранных офицеров и инструкторов, недостатка в которых в то время не было. Свои услуги русской короне тут же предложили десятки то ли отчаянных авантюристов, то ли корыстных ловцов «счастья и чинов», из которых в наибольшей степени проявили себя шотландский полковник Лесли и французский подполковник Фандам. По поручению царя они вместе с московскими приказными людьми выехали в Европу, для того чтобы пригласить на русскую службу опытных офицеров, нанять пять тысяч солдат некатолического вероисповедания, закупить 10 тысяч мушкетов, 5 тысяч шпаг и другое воинское снаряжение. За хорошие деньги все это было исполнено. Началась подготовка московитов, казаков и татар иностранному строю. К началу войны с Польшей иностранными инструкторами было подготовлено шесть пехотных полков численностью по 1600 человек каждый и один кавалерийский полк в 2000 человек.
Заметим кстати, что к тому времени на вооружении Русской армии находилось уже не только иностранное оружие. Московский пушечный двор давно занимался изготовлением собственных пушек, а Московская оружейная палата — ручного огнестрельного оружия и сабель. Над этим трудились не только иностранные специалисты, но и сотни русских металлургов, литейщиков, кузнецов.
Итак, к 1631 году Русская армия насчитывала в своих рядах более 65 тысяч человек и считалась вполне готовой к освобождению русских земель, занятых Польшей. Были определены и воеводы, которым предстояло вести войска под Смоленск, — многоопытные военачальники князья Дмитрий Черкасский и Борис Лыков. Ждали только удобного момента. И он настал. 30 апреля 1632 года умирает король Сигизмунд III Ваза, и в Польше наступает междуцарствие, а вместе с ним — смуты и разногласия. Казалось бы, лучшего времени для наступления не придумаешь, но местнический спор Черкасского и Лыкова, а также возобновившиеся — с подачи поляков — набеги крымских татар на южные окраины государства отсрочили начало боевых действий. В этих условиях царь по настоянию отца вынужден был поставить во главе Русской армии боярина Михаила Шеина. Кандидатура эта была достаточно сомнительной: ведь перед освобождением из плена в 1619 году ему пришлось целовать крест Сигизмунду в том, что он больше никогда не поднимет оружие против Польши. Но… в сентябре, за десять месяцев до окончания срока Деулинского перемирия, 32-тысячная Русская армия, ведомая Шеиным и окольничим Артемием Измайловым, выступила на запад.
Начало войны было весьма успешным: 12 октября 1632 года русским сдался Серпейск, 18 октября — Дорогобуж, а вслед за ними — еще двадцать один город и посады семи городов. В декабре Шеин с Измайловым подошли к Смоленску, в котором располагался всего лишь полуторатысячный гарнизон. Однако крепостные стены, возведенные при Борисе Годунове, надежно защищали город. Штурм «голыми руками» в таких условиях был бы не просто бесполезен, но самоубийствен. Требовалась осадная артиллерия, которой у Шеина, как назло, не было. А за то время, пока ее подвозили, поляки успели укрепить уязвимые места дополнительными внутренними бастионами. Артиллерийский обстрел с частичным разрушением крепостных стен и два штурма, предпринятые русскими воеводами в мае — июне 1633 года, успеха не принесли. Засев во внутренних бастионах, поляки сумели отбиться.
В боевых действиях наступило затишье. Осаждающие меняют тактику и начинают классическую осаду с насыпкой валов и рытьем траншей вокруг города, рассчитывая взять гарнизон измором. И поляки вроде бы уже готовы сдаться, но ситуация меняется. Предполагаемого союзника в этой войне, 38-летнего шведского короля Густава-Адольфа, на которого так рассчитывал Филарет, убивают в битве при Лютцене, и Швеции уже не до московских интересов. Да и Польша к этому времени успевает выйти из внутреннего кризиса. Королем в ноябре 1632 года избирают Владислава Сигизмундовича, и он начинает свою войну. Первый его успех заключался в том, что он сумел заинтересовать крымского хана Джанибека и тот послал в набег своего сына. В мае 1633 года татары перешли границу Московии, а в июне, форсировав Оку, уже разбойничали непосредственно в Московском уезде. Лагерь Шеина начинает редеть за счет массового оттока дворян и детей боярских, кинувшихся спасать свои семьи и свое имущество в разоряемых крымчаками имениях. А в августе Владислав с девятитысячным войском, усиленным 15-тысячным отрядом запорожских (!) казаков во главе с гетманом Орандаренко, подходит к осажденному городу и отрезает Шеина от связи с Москвой. Так Русская армия оказывается в окружении, испытывая острую нехватку продовольствия и фуража.
Все было бы еще не очень страшно и положение можно было бы поправить посылкой под Смоленск дополнительных войск, высвободившихся с крымского направления, но в Москве произошли события, резко изменившие соотношение сил в правящих кругах. 1 октября на 79-м году жизни умирает патриарх Филарет — вдохновитель и организатор неудачного Смоленского похода. Г. В. Вернадский говорит, что патриарх за провал этой кампании был отстранен от государственных дел своим сыном, что и явилось причиной внезапной смерти, но другие авторы почему-то не пишут об этом. Как бы то ни было, Михаил Шеин, наплодивший своим высокомерием множество врагов, потерял своего надежнейшего покровителя и уже вряд ли мог рассчитывать на помощь со стороны других московских воевод. Вполне возможно, что по этой причине отряд под командованием князей Дмитрия Черкасского и Дмитрия Пожарского, посланный из Москвы на выручку окруженной армии, под предлогом нехватки необходимого вооружения дальше Можайска не пошел. А трудное положение Шеина продолжало усугубляться. С наступлением зимы из Русской армии началось массовое дезертирство иностранных наемников. Шеин оказался перед выбором: бесславно потерять остатки своих войск или за счет потери престижа спасти хоть какую-то их часть. С разрешения царя он вступает с поляками в переговоры, в ходе которых ему предъявляется ультиматум: русские войска покидают осажденный лагерь лишь в том случае, если они положат у ног короля все свои знамена, передадут ему всю свою артиллерию, а офицеры присягнут, что впредь с Польшей воевать не будут. В этом случае им гарантировались жизнь и право взять с собой личное стрелковое и холодное оружие. Осознавая безвыходность своего положения, честолюбивый русский воевода, не испросив разрешения Москвы, поспешил согласиться на эти позорные для него условия. Оставив под Смоленском более двух тысяч больных и раненых, Шеин в феврале 1634 года повел к Москве остатки своей, казалось бы, победоносной армии — 8056 человек.
Иностранные наемники своей судьбой распорядились так: половина из них перешла на службу к польскому королю, а другая половина сочла за благо возвратиться к себе на родину. Только восемь русских, из них шесть донских казаков, соблазнившись, перешли на сторону поляков.
Воодушевленный практически бескровной победой под Смоленском, король задумал было развить военно-политический успех, но, видимо, его лимит счастья к тому времени был исчерпан. Попытки его войск взять крепость Белую, Путивль и Севск завершились большими потерями поляков и запорожских казаков. Да к тому же из Крыма пришла информация, что подкупленные Москвой татары готовы к набегу на южные области Речи Посполитой. В этих условиях Владислав в марте 1634 года сам предложил начать мирные переговоры, завершившиеся 3 июня подписанием Поляновского мирного договора, по которому за Польшей признавалось право на Смоленск и Северскую землю. Единственным успехом Москвы в этой ситуации стал отказ Владислава от московского престола и признание Михаила царем. Правда, за это пришлось заплатить ни много ни мало, а двадцать тысяч рублей.
В ходе переговоров поляки попытались вернуться к идее времен Бориса Годунова, предложив повторить уже отработанную на Литве тактику присоединения Московии к Речи Посполитой. Она основывалась вроде бы на безобидных статьях: «быть в вечной взаимной приязни», «иметь общих врагов», не вступать в союзные отношения с врагами другой стороны, оказывать помощь в случае агрессии. Казалось, ничего предосудительного в этом нет, но последующие статьи вызывали уже некие сомнения в умах московских бояр, которым в диковину было слышать о свободе передвижения дворян и шляхты в границах двух держав для государевой службы и получения образования, о свободе смешанных браков и приобретении недвижимости. Завершалось же все заветным желанием короля-католика — возможностью строить в Московии католические костелы, а после смерти бездетного царя — наследовать его корону. Отговорками новизны предложений и пожеланиями «пусть государи перешлются между собой» бояре в очередной раз похоронили план мирного объединения, а вернее, поглощения Московии Польшей.
Судьба же Шеина была трагична. Боярская дума признала его виновным в оскорблении бояр, плохом руководстве военными действиями, капитуляции без царского приказа и… измене: якобы он скрыл от царя, что перед освобождением из польского плена в 1619 году дал клятву Сигизмунду, что впредь никогда не будет сражаться с Польшей, и капитуляция перед Владиславом под Смоленском стала исполнением той клятвы. Шеина приговорили к смерти и обезглавили. Вместе с ним были казнены стольник Артемий Измайлов и его сын Василий, вина которого заключалась в том, что он, мол, вел сношения с поляками и русскими изменниками, находившимися в лагере у Владислава, и произносил такие «поносные» слова: «Как против такого великого государя монарха нашему московскому плюгавству биться? Каков был царь Иван (Грозный. — Ю.Ф.), и тот против литовского короля сабли своей не вынимал…»
Прошло четыре столетия, а Васькины песни поются до сих пор. И до сих пор живы заблуждения, сформировавшиеся еще в начале XVII века, будто Михаил Федорович стал «эффективным» правителем большой державы исключительно благодаря своему отцу, «заставившему сына заниматься государственными делами и болеть за судьбы своей страны». Утверждающие так совершенно забывают дофиларетовский период царствования первого Романова, когда он без участия отца вместе с боярами положил конец внутренней смуте и закончил две войны — с Польшей и Швецией, закрепив создавшийся до него статус-кво и не уступив ничего дополнительно к уже потерянному. Что же касается почтительного отношения молодого царя к 65-летнему отцу, возвратившемуся из польского плена, волею судеб обойденному сыном на царском престоле, то оно было вполне нормальным — было бы противоестественным положение отца в качестве верноподданного своего сына: такого в русской истории еще не было. Отсюда и два человека с титулом Великого Государя. Как более опытный и более мудрый человек, как страстотерпец, много перенесший со времен Бориса Годунова, как отец, наконец, Филарет по праву старшинства, по лествичному праву, с молчаливого согласия сына-царя фактически взял бразды правления страной в свои руки и не выпускал их в течение 14 лет.
А что, собственно, он сделал? Да ничего особенного. Он всего лишь попытался провести, как бы сейчас сказали, административную реформу. Однако проблемы управления как были, так и остались; как грабили на дорогах, так и продолжали грабить; как бесчинствовали воеводы на кормлении, так они и продолжали бесчинствовать. Что изменилось? Наметились подвижки. Не жирно!
А во внешней политике, целиком находившейся в руках Филарета, чего удалось добиться? Практически ничего! Его попытки женить сына на датской, а потом и на шведской принцессе успехом не увенчались. Хуже того, с таким трудом создаваемая им коалиция против ненавидимой им Польши дважды терпела фиаско и завершилась унизительным поражением под Смоленском его любимца Шеина.
Говорят, он был крут и деспотичен, запросто расправлялся со своими недругами и недоброжелателями.
А кого он подверг репрессиям? Салтыковых?
Да какой же это авторитаризм, если он их отправил в ссылку абсолютно обоснованно, по доказанному обвинению в злонамеренном расстройстве свадьбы царя с Марией Хлоповой?! Причем отправил не сразу по возвращении из плена, а только через четыре года. Если ж он был таким «крутым», то почему не помог своему сыну соединить судьбу с избранницей сердца и согласился с кандидатурой, назначенной старицей Марфой, матерью царя и теткой репрессированных Салтыковых, с которой он, второй Великий Государь, вынужден был соперничать за влияние на своего сына?
Или, быть может, он по своей прихоти, без достаточных оснований, сослал в Кириллов монастырь «благонравного» князя Ивана Хворостинина? Если бы! Если бы этот князь в недалеком прошлом не был подручником Лжедмитрия I, если бы он не был сторонником католицизма, запрещавшим своим холопам посещать церковные службы, если бы он не презирал все русское и не заявлял, что «в Москве нет достойных людей, что все они глупы и не с кем поговорить»… Да и на какое отношение этот высокомерный человек мог еще рассчитывать в православной монархической стране? Кстати, через некоторое время «вольнодумец» покаялся и был прощен.
В числе подвергшихся опале называют еще таких влиятельных лиц, как боярин Афанасий Лобанов-Ростовский, царский тесть Владимир Долгорукий и князь Дмитрий Трубецкой, сосланных соответственно в Свияжск, Вологду и Тобольск, но сосланных не для отбывания наказания, а в качестве городских воевод. Их просто удалили из Москвы, чтобы они не могли влиять на решения молодого царя.
Несправедливо?
Может быть. Но за долгих 14 лет правления Филарета других «мучеников его режима» историки так и не нашли.
Если сравнивать Великого Государя Филарета с другими правителями, то он вполне мог бы заслужить звание «Гуманнейший и Справедливейший», ибо смена главы государства во все времена и у всех народов сопровождалась и сопровождается приходом новых царедворцев, новой «команды». Обычная практика. Сотни, тысячи, а то и десятки тысяч людей безвинно подвергались опалам при смене монархов, а тут — всего-то пять человек.
Представляется, что ученые мужи прошлого и настоящего априори не могут — или не хотят — согласиться с тем, что воспитанный мамкой Михаил, возведенный в шестнадцатилетнем возрасте на царство, не блещущий здоровьем и силой воли, смог «не только вывести страну из кризиса, но и укрепить ее, создав условия для более быстрого развития». Нас все время пытаются убедить, что все за него решали сначала мать, а затем отец, но ничего конкретного, сделанного лично ими, нам не называют. Так почему же Михаилу удалось вытащить Россию из анархии и разрухи: благодаря какому-то «тайному советнику царя», счастливому стечению обстоятельств, провидению Божьему? Не будем все это скидывать со счетов. Но почему бы нам не задаться вопросом: а может быть, Михаил Федорович и сам чего-нибудь да стоил?
Оказывается, стоил, и об этом достаточно убедительно свидетельствуют последние одиннадцать лет его царствования, в течение которых он сделал столько, что любой правитель мог бы этим гордиться. Взять хотя бы его мероприятия по внедрению на территории Московии европейских промышленных технологий. Начали, конечно, с утопических проектов — с поиска золота и серебра в Московском и Тверском уездах, но остановились на вполне реальной добыче меди в районе Соликамска и железной руды под Тулой. Затем понадобились медеплавильщики и железоделатели. Их пригласили из протестантских стран Европы. В 1632 году голландский купец Виниус и присоединившийся к нему Марселиус приступили к созданию литейного производства в Туле, где они с помощью русских мастеров в массовом порядке начали отливать пушки. Через несколько лет другой голландец, Филимон Акем, получил разрешение на строительство железоделательных заводов по рекам Шексне, Костроме, Ваге с правом беспошлинной торговли в течение 20 лет. Шведский предприниматель Коэт получил разрешение от московского правительства на создание стекольного производства, а некий иноземец Фимбрандт — на возведение в поместных и вотчинных землях мельниц и сушилок для выделки лосиных кож.
Для оживления торговли и пополнения царской казны были сделаны и некоторые послабления для западных купцов. За 600 000 больших ефимков, выплачиваемых в казну ежегодно, голштинские купцы получили право свободного проезда через Московию для прямой торговли с Персией и Индией. Причем корабли они должны были строить в Московии, лес покупать у царских подданных, плотников нанимать из местных «охочих людей» с условием, чтобы корабельного мастерства от них не таили. Помимо прямых выплат в казну этот договор предусматривал и поступление на внутренний рынок необходимых товаров как из Европы, так и из южных стран.
Оптовую торговлю в Московии вели и другие купцы: англичане, голландцы, датчане, немцы, шведы. Царя окружали иноземные доктора, аптекари, переводчики, часовых и органных дел мастера. Всего же в Москве во времена Михаила Федоровича проживало около тысячи протестантских семей. Следует сказать, что современники были не в восторге от иностранцев, которые вели себя высокомерно, доставляя коренному населению массу неприятностей, материального ущерба и даже физического насилия.
Народ роптал на них, просил управы и защиты, но вот тут-то и определилось, кем для своих подданных был царь Михаил: отцом родным или расчетливым хозяином в своем имении. Оказалось, и тем и другим одновременно. Сохраняя льготы иностранцам и лишая русских монопольного права на торгово-промышленные операции, он заставлял местных купцов-предпринимателей выживать в условиях конкуренции, перенимать у иностранцев их знания, навыки и опыт. Но все-таки хозяин в нем пересиливал. Когда появлялась возможность выжать максимальную прибыль из своих подданных, он не останавливался и угрызениями совести не терзался. Это проявлялось, как мы уже говорили, в учреждении казенных кабаков, спаивающих население; в установлении государственной монополии на торговлю льном и закупку селитры, обирающей производителя за счет занижения закупочных цен; в введении откупов на разного рода услуги и ремесла, вздувающих цены на них.
Потеряв земли и доходы на западе и северо-западе, Михаил Федорович активно осваивал просторы Восточной Сибири и Дальнего Востока, направляя туда стрельцов, казаков, переселенцев, ссыльных и… невест для холостых первопроходцев. В 1625 году в Сибири, от Урала до Енисея, насчитывается лишь 14 городов и острогов, куда царское правительство назначало воевод. Но прошло каких-то шесть лет, а казаки приступают уже к освоению Байкала и Лены. В 1632 году они закладывают Якутский острог. В последующие годы русские основывают Иркутск, бороздят Охотское море и, наконец, в 1648–1649 годах Семен Дежнев совершает свое арктическое путешествие из устья реки Колымы в устье реки Анадырь, открывая тем самым морскую дорогу из Европы в Индию и Китай. Правда, это будет уже после смерти Михаила Романова, но мы-то знаем, что фундамент под эти открытия закладывался именно в его царствование. Причем не нужно думать, что эти территориальные приобретения давались легко. Здесь все шло в ход: и подкуп, и хитрость, и ложь, и коварство, и грубая физическая сила, и, как бы сейчас сказали, взвешенная национальная политика. Назначив внука Кучума, царевича Арслана, царем Касимова, московское правительство смогло нейтрализовать сибирских татар. Воинственных калмыков, изгнанных из монгольских степей, удалось обуздать — где оружием, а где и при помощи политики сдержек и противовесов. Туземцев привлекали на свою сторону умеренным ясаком, выгодами меновой торговли и гуманным отношением. И нужно сказать, что такая политика давала прекрасные результаты. Доход государственной казны от пушнины рос из года в год. Если в 1624 году он составлял 45 тысяч рублей, в 1634-м — 60 тысяч, то за следующие десять лет он вырос до 102 тысяч.
К концу царствования Михаила Федоровича Сибирь стала переходить на самообеспечение как продуктами питания, так и изделиями ремесленников, кузнецов, оружейников. По дошедшим до нас сведениям, только в Западной Сибири сельским хозяйством занималось не менее восьми тысяч крестьянских семей, вывезенных из северных районов европейской территории России.
Увеличение подвластной территории и рост населения, реальная опасность внешнего вторжения, а также регулярно происходившие бунты туземного населения и «гулящих людей» настоятельно диктовали местным и центральным властям необходимость содержания в Сибири значительных вооруженных сил. По сведениям Г. В. Вернадского, численность сибирского войска в начале 40-х годов составляла около пяти тысяч стрельцов, двух тысяч казаков и двух тысяч из числа местных жителей, преимущественно сибирских татар.
Достаточно взвешенную политику проводил Михаил Федорович и на международной арене. Мы уже говорили о его дипломатических успехах на европейском театре, позволивших ему заключить «вечный мир» со Швецией и Польшей, а также чуть ли не породниться с датским королевским двором. Теперь же обратим взор на юг. Если отношения с персидским шахом Аббасом были практически дружественными и Михаил от него даже получал денежную помощь на содержание русского войска, выступившего под Смоленск, то с турецким султаном приходилось вести более сложную игру. Находясь на пике своего могущества и тесня, с одной стороны, Балканы, Польшу, Австро-Венгрию, а с другой — Персию, султан тем не менее не хотел приобретать в лице московского царя еще одного противника и недоброжелателя. Поэтому, даже осознавая свою гегемонию в регионе, он делал все для того, чтобы не получить еще один фронт, на этот раз — северный, русский. Из соображений своей личной заинтересованности он даже отозвал крымских татар из набега на московские земли, чтобы войска Шеина, осаждавшие Смоленск, смогли нанести его врагу, польскому королю, максимальный вред. Он даже предлагал московскому царю союзный договор против Польши, но слава Богу, что он не состоялся, а то бы мы, как во времена Бату-хана, опять оказались бы в подручниках у азиатского завоевателя, врага христианского мира.
Нужно сказать, что серьезное влияние на русско-турецкие, как и на польско-турецкие, отношения в то время оказывал казачий фактор. Дело в том, что запорожские и донские казаки, проживавшие на «нейтральной полосе» в своих полукочевых станицах, были практически автономны от польского короля и московского царя. Бывшие крестьяне, мелкопоместная шляхта, разорившиеся дети боярские — они, по существу, были вне закона и добывали себе пропитание, промышляя охотой, рыболовством, бортничеством и грабежом. В первой половине XVII века их стало так много, что им не составляло большого труда скомплектовать армию в пять, десять, а то и в двадцать тысяч человек. Временами, чаще всего в период военных действий, они становились востребованными, и тогда царь или король искали их расположения, привлекали в качестве союзников за отдельную плату или за долю в предполагаемой военной добыче. Однако по окончании войны служба для большинства из них заканчивалась, а вместе с ней иссякал и источник доходов. Поэтому после каждой войны большое количество казаков, привыкших убивать, из союзников моментально превращалось в супостатов, подвергая «потоку и разграблению»{6} села и города, оказывающиеся на их пути. Но постепенно порядок внутри страны восстанавливался, и казаки волей-неволей возвращались в свои станицы. Хорошо, если им удавалось наняться в какую-нибудь сторожевую крепость и получить таким образом источник средств существования. А что делать тем, кого не брали на службу, или тем, кто принципиально не хотел над собой никакой власти? Правильно, он шел в набег, а проще говоря, шел грабить сопредельные территории. Это называлось «добывать зипуны». Волжские и яицкие казаки совершали разбойничьи набеги на персидские города, расположенные по берегам Каспия, донские — на турецкие города Азовского и Черноморского побережья, запорожские — на Крым и турецкие города вдоль побережья все того же Черного моря. По тактике и характеру своих действий они мало чем отличались от викингов VIII–IX веков, наводивших ужас на прибрежные города Западной Европы, или современных им пиратов Карибского моря. Ну, разве что освобождали из плена своих единоверцев, да сами, не подозревая того, готовили последующую колонизацию Россией новых территорий, а в остальном — элементарные разбойники. И не надо героизировать Стеньку Разина, выбросившего за борт персидскую княжну, после того как вдоволь ею натешился. У бандита и цели, и логика, и действия — бандитские.
Так вот, донские казаки своими набегами так допекли турецкого султана, что тот решил обуздать эту вольницу и построил в устье Дона мощную крепость Азов. Таким образом он хотел лишить их свободного выхода в Азовское море и обезопасить свои территории от пиратских набегов. Вскоре его надежды оправдались и Азов стал своеобразным санитарным кордоном, что возбудило казаков, «оставшихся без зипунов», на более решительные действия.
В 1637 году они с молчаливого согласия царского правительства, снабдившего их деньгами и войсковым снаряжением, замыслили дерзкую операцию по захвату Азова. Но перед этим они, вопреки всяким международным правилам и не считаясь с мнением царского представителя, находившегося в их ставке, арестовывают, а затем и приговаривают к смертной казни за шпионаж турецкого посланника Фому Кантакузина. Через два дня после этого самосуда, 18 июня 1637 года, казаки штурмом овладели крепостью, потеряв при этом тысячу человек убитыми. Как и в случае с Казанью в 1552 году, все мусульманское население Азова было вырезано. Михаил Федорович мог быть доволен. Чужими руками для блага его царства потеснен грозный и могущественнейший правитель. Но что характерно: пользуясь плодами этой победы, он с полным основанием мог откреститься от действий донских казаков, поддержанных запорожцами и некоторыми московскими торговыми людьми. И открестился. Сразу после этих событий царь послал турецкому султану, занятому войной с Персией, извинительное письмо, в котором он в очередной раз умывая руки заявлял, что не будет в претензии, если султан накажет своевольных казаков, не признающих ни московских законов, ни международных правил и традиций.
Но и с царем казаки повели себя в высшей степени самостоятельно. Они считали Азов исключительно своим приобретением и даже в мыслях не допускали возможность его передачи под юрисдикцию московского царя. Единственное, о чем они просили царя, так это о прощении за убийство турецкого посланника и позволении жителям южных областей Московии приезжать в Азов с товарами, необходимыми для жизнедеятельности большой крепости, в которой через некоторое время насчитывалось уже около десяти тысяч жителей.
Как и следовало ожидать, Турция не смирилась с потерей стратегически важной военной базы. Султан в отместку за свое поражение сначала послал в набег крымских татар, а по завершении войны с Персией организовал крупномасштабную военную операцию по возвращению утраченного. 24 июня 1641 года началась осада Азова. В ней участвовали 30-тысячная турецкая армия, в которую входили сербы, молдаване, трансильванцы (румыны) и черкесы; 40-тысячный корпус крымских татар и большое количество князей и князьков великих ногаев, в очередной раз изменивших «белому царю». Но ни интенсивный артиллерийский обстрел стен и башен крепости, ни подкопы и многочисленные попытки штурма не принесли туркам успеха. Казаки оборонялись с исключительной отвагой, нанося большой вред осаждающим. Три месяца продолжалась битва за город-крепость. Наконец 26 сентября деморализованная турецко-татарская армия, потеряв в общей сложности около 20 000 человек, сняла осаду и поспешно отступила.
Но и победители были не в лучшем положении. Они сохранили за собой крепость. Но что это была за крепость? Сплошные развалины и руины. Ни одной целой стены или башни. Ни одного уцелевшего жилого дома. Их потери в живой силе тоже были внушительными и составили три тысячи человек убитыми, остальные защитники крепости были ранены-переранены. Казаки уже понимали, что самостоятельно им крепость не удержать, а поэтому, направляя в Москву послов с вестью о своей победе и своей нужде, они велели «бить челом», чтобы Великий Государь принял от них Азов и послал туда своих воевод с войском.
Вопрос был непростым, ибо, принимая Азов, Москва как бы автоматически вступала в войну с Турцией. Но нужна ли была тогда эта война? Вот на этот вопрос и должен был ответить вновь созываемый Земский собор. Мнения, как и ожидалось, разделились. Большинство духовенства, в отличие от Филаретовых времен, промолчало, дипломатично укрывшись за формулой «Богу — Богово, кесарю — кесарево», но пообещало, что в случае необходимости церковь примет участие в финансировании военных действий. Торговые люди, по своему обыкновению, плакались на оскудение и чиновничье лихоимство, но в материальной поддержке предстоящей войны отказать не посмели. Решительнее, а может быть и объективнее, высказались цвет духовенства и большинство московских дворян, призывавшие царя и Думу не ввязываться в большую войну с Турцией. Тем не менее преобладающее число делегатов было за принятие Азова, несмотря на реальность новой русско-турецкой войны. Их аргументами были: возможность установления контроля за действиями кочевников в волжско-донском междуречье, а также за горскими народами прилегающих областей Северного Кавказа; сдерживающий эффект Азова на поведение крымских татар, ослабивших свое давление на южные области Московского царства во время «азовского казачьего сидения»; призыв «отказаться кормить чужую армию» богатыми поминками в Крым и Стамбул, а «кормить свою», укрепляя воинские гарнизоны таких стратегических крепостей, как Азов.
Интересный факт: Собор в очередной раз выявил все болячки раннего романовского правления. «Нас губит московская волокита и несправедливость больше, чем турки и татары», — заявляли делегаты, требуя новой переписи земель и населения, справедливого рекрутского и налогового обложения, прекращения лихоимства со стороны воевод и лишения их гражданских полномочий, восстановления самоуправления в городах и уездах, защиты от засилья западно-европейских и персидских купцов.
Взвесив все «за» и «против», Михаил Федорович и бояре 30 апреля 1642 года приходят к решению: «Азов не принимать». По всей видимости, это решение было правильным, так как Москва в то время еще не была готова к ведению многолетней и крупномасштабной войны с Турцией и ее многочисленными вассалами. Результаты потенциальной войны могли быть куда более плачевными, чем потеря Азова. Казаки же, дорушив то, что не было разрушено при турецкой осаде, в большой печали и с проклятьями в сторону Москвы покинули теперь уже бывшую крепость. Одной рукой царя щедро одаренные, а другой — преданные на растерзание туркам и татарам, казаки поначалу решили перебраться на Яик, чтобы «промышлять» персиян на Хвалынском море, но это явно не входило в планы московского правительства. Они были нужны именно на этом направлении, а поэтому астраханским воеводам полетело предписание всячески препятствовать предполагаемому переселению. Так закончилась азовская одиссея, продемонстрировавшая способность казачьей вольницы на великие — не побоимся этого слова — дела и грязные методы внешней и внутренней политики государства, которое вынуждено было их проводить в силу объективных обстоятельств.
Но не надо думать, что проблемой обороны от татарской и турецкой угрозы были озабочены только донские казаки. Не очень надеясь на них, царь еще до «азовского сидения» поручил своему двоюродному брату по отцовской линии князю Ивану Борисовичу Черкасскому, исполнявшему при нем роль, отдаленно напоминающую роль Бориса Годунова при Федоре Иоанновиче, заняться укреплением рубежей и обустройством южных областей Московского царства. После заключения «вечного мира» с Польшей Черкасский целиком занялся этой проблемой. К 1636 году он довел вооруженные силы на этом направлении до 17 тысяч человек, что в два с половиной раза превышало их численность в предшествующие годы. Более того, приняв на себя обязанности главнокомандующего южной армией, Черкасский стал ответственным и за управление оборонительной линией Белёв — Тула — Рязань, которую он вместе с князьями Д. М. Пожарским, С. В. Прозоровским, И. А. Голицыным превратил из «засечной черты» в грозную цепь укреплений. Не ограничиваясь этим, он с разрешения царя пошел на создание еще более грандиозной оборонительной линии: Белгород — Коротояк — Усерд — Воронеж — Козлов — Тамбов — Верхний Ломов — Нижний Ломов. Но и это было не все. В 1638 году он создает еще один буфер к югу от Белгорода, расселив в Чугуеве корпус украинских казаков под началом гетмана Острянина. И еще не известно, чем бы закончился спор за Азов, если бы Черкасский не умер за четыре недели до принятия решения о сдаче крепости. Видимо, у его преемника — Федора Ивановича Шереметева, родного брата жены Черкасского — не хватило ни аргументов, ни воли.
Последние годы жизни Михаила Федоровича ознаменовались жуткой семейной трагедией, подорвавшей и без того слабое здоровье царя. В 1639 году один за другим умирают два его сына — Иван и Василий. У него остается только один сын и наследник — десятилетний Алексей. Династия, едва начавшись, могла прерваться от любой случайности. И тогда первый Романов решает подстраховаться за счет бракосочетания своей дочери царевны Ирины и сына датского короля Христиана от его второго, морганатического брака — Вальдемара, графа Шлезвиг-Гольштейнского. В случае смерти царевича Алексея Вальдемар вполне мог бы рассчитывать на царскую корону, а род Романовых — на продолжение своей династии. Но для того чтобы это стало возможным, графу было нужно принять православие, чего он никак не хотел делать. Его пытались уговаривать, подкупать и чуть ли не запирать под замок, однако он продолжал стоять на своем, требуя свободного выезда на родину. Злосчастный жених даже попытался силой вырваться из удушающих объятий, убил одного из своих сторожей, но царь и патриарх были непреклонны: член царской семьи, возможный наследник престола в обязательном порядке должен быть православным.
Эта настойчивость московского царя объясняется еще и тем обстоятельством, что в Польше объявился новый самозванец. Теперь это был «спасшийся» сын Марины Мнишек и Лжедмитрия — Иван Дмитриевич, которого, по заявлению его воспитателя шляхтича Белинского, подменили перед казнью на сына сгинувшего в Московском походе мелкого шляхтича Дмитрия Лубы. Проверка показала, что названный московским царевичем является не кто другой, как сын этого самого Дмитрия Лубы, искренне поверивший в свое высокое происхождение. К несчастью, это его заблуждение подкреплялось и политикой короля Сигизмунда, назначившего «царевичу» щедрое содержание и поручившего его попечению Льва Сапеги, который, в свою очередь, отдал подростка в монастырь на воспитание и обучение. Правда, после подписания Деулинского перемирия его содержание из королевской казны было сведено до минимума, а после Поляновского «вечного докончания» о нем как будто бы и совсем забыли. Тем не менее «царевич» существовал и в любой момент мог быть явлен народу, что гарантировало очередную смуту. Пользуясь то ли показным, то ли искреним желанием короля Владислава быть в мире и дружбе «со своим братом царем московским», Михаил Федорович, в целях сохранения спокойствия в государстве и обеспечения неприкосновенности царского престола от каких-либо посягательств на будущие времена, стал настойчиво требовать выдачи ему возмутителя спокойствия. После длительных препирательств Луба прибыл в Москву вместе с королевским послом, но все его уверения об отсутствии намерений претендовать на московский престол разбивались на требование предстать перед царским судом. В ответ посол, ссылаясь на короля Владислава и законы своей страны, с достоинством отвечал, что природный шляхтич не может быть выдан на суд государя чужого государства. Переговоры затянулись и разрешились лишь после смерти Михаила Федоровича и венчания на царство Алексея Михайловича. Завершились под гарантию короля и рады, что они не признают прав Лубы на Московское государство и берут на себя обязательство преследовать любого, кто в Речи Посполитой осмелится злоумышлять против царского величества.
Одновременно с Лубой и опять же не без помощи польского короля был разрешен и вопрос с отпуском Вальдемара. И хотя датский король, принимая московского посла, о здоровье государевом не спросил, к руке его не позвал и к столу не пригласил, а ответную грамоту передал через своего секретаря, тем не менее в грамоте черным по белому значилось: «Хотя мы имеем сильную причину жаловаться на неисполнение договора о браке сына нашего с вашею сестрою, но так как отец ваш скончался, то мы все это дело предаем забвению и хотим жить с вами в такой же дружбе, как жили с вашими предками».
«Утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ?» Итак, о народе. Каково жилось простому народу при Михаиле Федоровиче? Заботился он о нем или равнодушно наблюдал за его притеснениями со стороны «сильных людей», за его страданиями? Мы помним о жутких первых годах этого царствования, когда крестьяне и посадские под гнетом непомерных налогов и под угрозой беспощадного правежа разбегались с насиженных мест кто под покровительство богатых монастырей и вотчинников, кто на Дон и Волгу, а кто в разбойники с большой дороги. Но пришли мирные времена, вернулся из плена Филарет, а вместе с ним и размеренная работа по восстановлению разрушенного административного аппарата, расстроенного порядка рекрутского и налогового обложения. Пришло время борьбы со злоупотреблениями «сильных людей». Учреждается Сыскной приказ, заложивший начало страшной в последующем практики доносов по формуле «слово и дело государево». Навели они порядок? Нет, но хоть попытались что-то сделать и сделали. Пусть немного, но сделали. Народ, поверивший в царя, в его стремление к справедливости и человеколюбию, отозвался просто и убедительно — восстановлением численности населения, подъемом сельскохозяйственного производства, возрождением сел и городских посадов. Купцы хоть и плакались на оскудение и засилье иноземцев, но богатели. Мелкопоместные дворяне тоже нашли у него понимание. Царь увеличил срок, в течение которого они могли добиваться возвращения беглых крестьян, с пяти до десяти лет. Крестьянам стало хуже, но ведь дворяне все еще оставались основой вооруженных сил государства. Как не пойти им навстречу, если их доля была настолько тяжелой, что они были готовы перейти в холопское или крепостное состояние, лишь бы уклониться от тягот военной службы? Но и этого им не позволялось. Если раньше дворянин, женившийся на крепостной крестьянке, сам становился рабом, то теперь таких хитрецов велено было возвращать в служилое состояние и наделять поместьями.
Михаил Федорович продолжал традицию своих предшественников по выкупу русских людей, оказавшихся в неволе. В хрониках 1641 года мы находим упоминание об особом сборе пожертвований по всему государству на эти цели.
В этот жестокий век московское правительство даже предпринимало попытки гуманизации уголовного законодательства. Была запрещена смертная казнь беременных женщин до рождения ребенка, а такое наказание, как заливание горла фальшивомонетчиков расплавленным оловом, было заменено на битье кнутом, кандалы и клеймение щек.
Лишь одно можно сказать с уверенностью: простому народу — служилым людям, купцам, посадским, хлебопашцам — под конец царствования Михаила Федоровича жилось все-таки не то что не сладко, а тяжело. Люди страдали от холода и голода, от грабителей и болезней, от злоупотреблений со стороны «сильных людей». Тем не менее был относительный мир и покой, была ясная налоговая политика, был закон, который хоть как-то защищал и сильного, и слабого. Наметились зачатки цивилизованности, культуры. У людей появлялась уверенность в своем будущем. А в таких условиях жизнь всегда возьмет свое.
А кому жилось легко? Взять того же Михаила Федоровича. Жизнь его не баловала. Отлученный от отца и матери в пятилетнем возрасте, он четыре года находился в ссылке со своей теткой М. Н. Черкасской. Затем в течение пяти лет они с матерью, монахиней Марфой, жили в Клину на положении ссыльных. В 1610 году мать с сыном получили возможность переехать в Москву, но оказались в еще худших условиях. Город занимают поляки, которые сами тут же попадают в окружение войск Первого, а затем и Второго земского ополчения. Вместе с поляками в осаде сидит и будущий царь. Многомесячное испытание страхом быть убитым шальным ядром, унижение со стороны польской военщины, голод и холод наложили отпечаток на характер будущего царя и состояние его здоровья. Понукаемый то матерью, то отцом, он и жениться-то не мог по своей воле. Да и здоровье его было не ахти. В тридцать лет он уже с трудом мог передвигаться. Михаил Федорович часто болел, а последний год жизни вообще не покидал царских палат. В ночь с 12 на 13 июля 1645 года на 49-м году жизни он скончался. Умирая, царь призвал к себе боярина Бориса Ивановича Морозова, которому объявил: «Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с великим весельем и радостью, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюдал его как зеницу ока, так и теперь служи». Говорил ли он эти слова или за него их додумали придворные летописцы — неизвестно. Видимо, додумали, так как умер он от инсульта, а в этом состоянии какой из него оратор!..
Глава III
Алексей Михайлович
На следующий день после смерти Михаила Федоровича, 13 июля 1645 года, боярство и все высшие чиновники государства Московского принесли присягу на верность царевичу Алексею и его матери. Первый, кто это сделал, был двоюродный брат умершего царя Никита Иванович — старший в роду Романовых.
Своим поступком он как бы утверждал династические традиции престолонаследия. Аналогичную процедуру без какой-либо отсрочки начали осуществлять во всех городах и уездах. Но беда не приходит одна. Менее чем через сорок дней после смерти отца молодой царь лишился и матери. Эти трагические события, по внешним признакам напоминающие начало царствования Ивана Грозного и Федора Иоанновича, наложили свой отпечаток на первые годы правления Алексея Михайловича. Разница была лишь в том, что роли Алексея Адашева и Бориса Годунова на этот раз играли не молодые и честолюбивые царедворцы, а 55-летний Борис Иванович Морозов — вчерашний воспитатель наследника престола. Через сорок дней после смерти матери, 28 сентября, Алексей Михайлович венчался на царство.
Нельзя сказать, что новому царю досталось тяжелое наследство. Отнюдь нет, его положение в корне отличалось от положения его отца тридцатидвухлетней давности, когда тот вступал на престол, как на Голгофу. За истекшие годы государство было умиротворено, а население получило реальную возможность для восстановления своих жизненных сил и подъема хозяйства. Но и о «государстве всеобщего благоденствия» тоже говорить не приходится. В стране были проблемы, о чем достаточно откровенно говорилось на Земском соборе 1642 года, причем такие, которые разрешаются в течение жизни нескольких поколений людей. И главнейшей из них была пополнение казны.
Первый боярин прежнего царствования Федор Иванович Шереметев, ко времени восшествия на престол Алексея Михайловича преодолевший уже 70-летний рубеж, да к тому же больной и не способный к работе в команде царя-юноши, без особого труда был отстранен от власти. Та же участь постигла и его многочисленных родственников. Место Шереметева, как мы уже знаем, занял боярин Морозов, вставший во главе стрелецкого войска и иноземных наемников, а также взявший под свое управление приказ Большой казны, Аптекарский приказ и винную монополию. Как и прежние фавориты, он начал назначать на ведущие государственные посты своих родственников, свойственников и приятелей. Одного своего родственника, И. В. Морозова, он назначил на Владимирский судный приказ, а другого, Б. И. Пушкина, — на Разбойный. Шурина, П. Т. Траханиотова, он выдвинул на Пушкарский приказ, а другого свойственника, Л. С. Плещеева, — на пост судьи Земского приказа.
Правда, это не гарантировало стабильности положения временщика. В любой момент оно могло быть поколеблено: стоило только царю жениться, как новые родственники тут же выкинут его из дворца, оттолкнут от власти и кормушки. И эта угроза стала вполне реальной, когда в начале 1647 года царь вдруг захотел жениться и даже выбрал себе невесту — дочь касимовского помещика Евфимию Федоровну Всеволожскую. Но Алексея постигла та же участь, что и его отца с Марией Хлоповой. Невесту вдруг объявили больной, и свадьба расстроилась. Зато у Морозова на примете была другая партия — дочь одного из его подручников, красавица Мария Ильинична Милославская, которая так приглянулась царю, что уже в январе 1648 года она стала царицей. А через десять дней после царского бракосочетания состоялась и другая свадьба, теперь уже боярина Морозова и царицыной сестры Анны Милославской. Так правитель стал родственником царя и царицы, чем несказанно упрочил свое положение.
Современники и более поздние исследователи характеризуют боярина Морозова как деятельного и жесткого хозяина, скаредность и деловая хватка которого граничили с бесчеловечной изощренной жестокостью по отношению к крестьянам и приказчикам, чья всепоглощающая алчность и тяга к золоту образно сравнивались с естественной жаждой вдоволь напиться воды. Поэтому С. М. Соловьев, высоко ценивший деловые качества правителя, с искренним сожалением вынужден был констатировать, что тот не сумел «возвыситься до того, чтобы не стать временщиком». Тем не менее, забегая вперед, можно сказать, что именно эта методика ведения хозяйства позволила ему за тридцать лет расширить свое личное хозяйство со 151 до 9000 крестьянских дворов и создать таким образом государство в государстве.
По себе он подбирал и помощников, и, видимо, не его вина, что эти помощники, заботясь о царской казне, не забывали и себя, что в конечном итоге стало причиной их падения.
Но давайте посмотрим, какую политику проводил Б. И. Морозов и была ли у нее перспектива. В очередной раз, закрепив десятилетний срок права требования сбежавших или вывезенных крестьян, Морозов приступил к переписи населения, но не для того, чтобы упорядочить сбор податей и налогов, а для того, чтобы окончательно закрепить людей за землей с целью отмены в последующем и права перехода крестьян, и сроков прав требования их выдачи. Если эта мера была, бесспорно, выгодна для землевладельцев, дворян и духовенства, то другая мера, начатая им уже в феврале 1646 года, предпринималась исключительно в интересах казны и горожан. Она была связана с естественным процессом социального расслоения посадского населения, в основном и пополнявшего налоговыми отчислениями государственную казну. Дело в том, что разорившиеся горожане, лишившиеся возможности исправно платить налоги и желавшие избежать правежа, от безысходности либо продавали свои земли, либо шли в кабалу к монастырям, боярам и служивым людям, имевшим налоговые льготы. И в том и в другом случае казна несла убытки за счет уменьшения, как бы сейчас сказали, «налогооблагаемой базы». Кроме казны, убыток несли и городские общины, вынужденные при таком развитии событий облагать остающихся посадских людей дополнительными налогами для покрытия местных расходов. Решение было простым: все земли, перешедшие из городских общин в собственность землевладельцев, не относящихся к посадскому населению, подлежали изъятию в пользу городских общин, а закладчики, учинившие кабальную запись, начиная с 1637 года, — возвращению в прежнее состояние. Эта вполне прагматичная реформа была опробована на примере города Владимира и обещала дать в будущем хорошие результаты в случае ее повсеместного применения.
Но деньги были нужны не в будущем, а немедленно, и притом много. Поэтому Морозов ввел режим жесточайшей экономии. Как и в своих имениях, он резко сократил численность чиновничьего и придворного аппарата, урезав одновременно и жалованье тем, кто удержался на своих постах. Изменения коснулись и армии. Содержание уменьшили и стрельцам, а часть иностранных офицеров вместо денег вынуждены были довольствоваться земельными наделами, с которых им предложили кормиться.
Итак, мы видим, что вышеуказанными действиями временщик должен был нажить себе недоброжелателей не только среди крестьян, землевладельцев и духовенства, но и в армейской среде. И он их нажил, но денег от этого в казне не прибавилось. Тогда Морозов подготовил царский указ от 7 февраля 1646 года о введении монополии на соль и табак. Пошлина на соль тут же увеличилась в четыре раза — с пяти до двадцати копеек с пуда, а табак из запрещенного товара, как некогда и водка, превратился в источник пополнения царской казны. Розничные цены на эти товары резко подскочили, что вызвало недовольство уже всего населения. Пошли многочисленные жалобы судье Земского приказа Плещееву, который вместо своевременного реагирования и исправления ошибок проводимой реформы стал использовать свою должность в целях личного обогащения. И только после волны соляных бунтов эта монополия 10 декабря 1647 года была отменена.
Но если русского человека тяжело поднять на бунт, то еще труднее этот бунт остановить. Более того: русскому мало восстановить справедливость — он хочет видеть наказание своих действительных или мнимых обидчиков, чьи лица ему хорошо известны. С именем одного, П. Т. Траханиотова, олицетворялась городская реформа, с именем другого, дьяка приказа Большой казны Н. И. Чистого, — соляная монополия, с именем третьего, Л. С. Плещеева, — так называемое «плещеевское кривосудие», а с именем четвертого, самого Б. И. Морозова, — все беды нового царствования. Была составлена петиция царю, выбран удобный случай ее вручения. Царь ее взял и обещал принять меры, но, как только он отъехал, подручники Плещеева набросились на народную депутацию с ругательствами и нагайками. В ответ полетели камни.
На следующий день, 2 июня 1648 года, начался открытый бунт. Разбушевавшаяся толпа разгромила дома Морозова и его ближайших помощников, учинив самосуд над думным дьяком Чистовым, затем ворвалась в Кремль и потребовала выдачи на казнь Плещеева. Морозов приказал было стрельцам стрелять по бунтовщикам, но те отказались. В этих условиях царю ничего другого не оставалось делать, как пожертвовать одним из виновников народного волнения. Плещеева вывели из дворца в сопровождении палача, но народ отбил его и тут же, как и Чистова, забил палками до смерти. Однако на этом волнения не закончились: народ требовал новых жертв. 5 июня на растерзание толпы был выдан Траханиотов.
Последующие несколько дней царь, его тесть И. Д. Милославский и патриарх Иосиф были заняты обработкой влиятельных лиц из гостиной и суконной сотен, ублажением пирами стрельцов и иностранных наемников, увещеванием народа и перестановкой внутри правительства. Вместо скомпрометировавших себя царедворцев выдвигались новые, среди которых оказались Н. И. Романов и князь Я. К. Черкасский, тут же начавшие стягивать к Москве дворянское ополчение. Когда же волнение немного улеглось, а силы сторон уравнялись, Алексей Михайлович счел возможным лично встретиться с народом. Удивительно, но в своей речи, как отмечает Н. И. Костомаров, царь не только не стал укорять москвичей за мятеж, а как бы даже оправдывал его, заявляя, что Плещеева и Траханиотова постигла достойная кара. Вряд ли он так думал. В нем и за него говорил страх: он боялся, что бунтовщики потребуют выдачи на растерзание и Морозова. И, чтобы подобного не произошло, он готов был идти на еще большие уступки, «лишь бы только нам, великому государю, не выдавать его (Морозова. — Ю.Ф.) головой народу, потому что он нам как второй отец: воспитал и возрастил нас. Мое сердце не вынесет этого!». Закончив так, царь заплакал. «Ради радости такой» народ прокричал здравицу царю и постановил: «Как угодно Богу и царю, пусть так и будет!» Тем не менее Морозов был отстранен от дел и 12 июня выслан в отдаленный монастырь, правда ненадолго. По возвращении из ссылки он уже не играл прежней роли, хотя и оставался одним из влиятельнейших лиц царства.
А 16 июля царь, напуганный московскими событиями и их отголосками в Сольвычегодске, Устюге и Чердыни, ставшими в основном результатом поспешности в проведении морозовских реформ, издал указ о созыве нового Земского собора. Перед Собором была поставлена задача — привести в порядок законодательство Московского царства, взяв все полезное и «пристойное государским земским делам» из Правил апостолов и святых отцов церкви, а также гражданских законов греческих царей, то есть из «Кормчей Книги». Кроме того, ему предстояло пересмотреть Судебник Ивана Грозного 1550 года, как и все последующие московские законы, статуты и уложения, соотнеся их с последними петициями дворянства, купечества и горожан, да плюс к тому учесть весь тот положительный опыт, что уже имелся на Западе, в частности в Литовском статуте редакции 1588 года. Декларировалось это красиво и впечатляюще: дабы «Московского государства всяких чинов людям, от большего до меньшего чина, суд и расправа была во всяких делах всем равны».
Провести эту, поистине титаническую, работу было поручено князьям Никите Одоевскому, Семену Прозоровскому и Федору Волконскому, а подготовить текст Уложения — дьякам Гавриле Леонтьеву и Федору Грибоедову. Последние справились с поставленной задачей весьма успешно. Причем следует отметить, что редакцию Соборного уложения с полным основанием можно назвать морозовской, ибо все новации опального правителя в нем были учтены. После 29 января 1649 года началась процедура подписания свода законов, состоявшего из 25 глав и 967 статей. В итоге его подписали 315 делегатов Земского собора, но подписей Н. И. Романова, Я. К. Черкасского, И. П. Шереметева под ним не было, что лишний раз подтверждает мысль о том, что верх в этом вопросе взяла все-таки партия Морозова.
Первая глава Уложения, как и следовало ожидать в православном государстве, была посвящена не просто защите православия, а утверждению его «первичности» путем установления строгих наказаний: от смертной казни за богохульство до битья кнутом за предосудительное поведение в церкви, в том числе и за подачу челобитных во время церковной службы царю или патриарху.
В следующих двух главах впервые в истории Русского государства письменно излагалось то, что ранее реализовывалось исходя из обычаев или посредством произвола. В них узаконивались права царя на власть, меры по охране его здоровья, чести и достоинства, устанавливались меры наказания за преступления против государя, его семьи и порядка управления. Здесь же впервые получило закрепление и страшное впоследствии «слово и дело государево», обязывающее всех подданных стоять на страже интересов самодержца, выявлять его хулителей, злоумышленников и крамольников, доносить на них. Получение показаний под пыткой стало богоугодным делом, а смертная казнь — обычной мерой наказания.
Однако, признавая клерикальный (религиозный) характер Московского государства, составители Уложения все-таки пошли на ограничения церкви в сфере хозяйственной и судебной деятельности, а также на установление своеобразной цензуры за публичными высказываниями церковных иерархов. В этих целях был учрежден Монастырский приказ для разрешения споров мирян с духовенством и установлено наказание духовным лицам за нелицеприятные высказывания в адрес бояр и других государевых людей, произнесенные ими как в быту, так и во время церковной проповеди и признанные оскорбительными. Но самый ощутимый удар церкви был нанесен в XIX главе, где все монастырские и церковные слободы, основанные в Москве, ее окрестностях и в провинциальных городах, подлежали возвращению в собственность государства, а их жители становились, таким образом, посадским податным населением. Более того, духовенству запрещалось впредь приобретать себе вотчины. Знаменательно, что под оригинальным экземпляром Уложения стояли подписи патриарха Иосифа, двух митрополитов, трех архиепископов, одного епископа, пяти архимандритов и одного настоятеля, в том числе и подпись архимандрита Никона, который, став патриархом, будет главным противником этого свода законов.
Известно, что одним из признаков государственности является право людей, населяющих определенную территорию, на владение, пользование и распоряжение земельной собственностью. На Руси со времени появления княжеской власти право на распоряжение землями и установление правил землепользования всецело принадлежало князю и членам его многочисленной семьи. Отсюда берут свое начало государственные и удельные (вотчинные, родовые) земли. Одновременно с этим развивался и институт частного землевладения, когда удачливый или трудолюбивый простолюдин (купец, промышленник, скотозаводчик) выкупал у князя какие-то земельные угодья и становился их собственником. С появлением христианства на Руси образовалось церковное, а с зарождением служилого сословия — и поместное землевладение. При этом следует иметь в виду, что сельские и городские общины никогда не являлись собственниками земель, на которых они вели свое хозяйство. Они были всего лишь пользователями этих угодий на правах труженика или в силу специального разрешения, полученного от великого или удельного князя. Однако, как бы ни чувствовал себя господином на земле человек, получивший эту землю по праву родового наследства или в силу сделки купли-продажи, он никогда не был защищен от самоуправства государя, который в любой момент мог изменить «правила игры», что мы неоднократно наблюдали в предыдущей истории отечества. Правила землепользования подстраивались под требования дня, будь то ликвидация удельных княжеств, наложение опалы на неугодных сановников, изъятие монастырских земель.
На этот раз они, кажется, были упорядочены.
Царь распоряжался государственными землями для решения стратегических задач государства, дворцовыми землями — для содержания царского двора, своими личными — для удовлетворения своих личных нужд.
Бояре получили подтверждение своих прав на наследственные родовые вотчины и вотчины, дарованные Василием Шуйским за участие в войне с Болотниковым и Тушинским вором. Кроме того, за «тушинцами», перешедшими на сторону национальной армии, признавались неотъемлемыми права даже на вотчины, полученные от Лжедмитрия. И наконец, Уложение закрепило вотчинное право на земли, отнятые у приверженцев Тушинского вора и перераспределенные между патриотами, освобождавшими Московское царство от польских интервентов и своих доморощенных «лихих людей».
Поместье, как известно, давалось служилому «для прокорма» на время его службы государю и не могло быть передано по наследству, продано или обменено на другое. Земский собор пошел навстречу тем помещикам, которые подготовили себе замену на военной службе. В этом случае поместье наследовал сын, младший брат или племянник умершего дворянина. Послабление было сделано и в обмене поместьями, однако их можно было поменять лишь при условии, что площадь обмениваемых поместий приблизительно равная.
Естественно, что боярам и помещикам земля была нужна не сама по себе, а населенная сельскохозяйственными работниками. Прошло уже более сорока лет с тех первых злополучных «заповедных лет», в течение которых крестьянам не разрешалось переходить от одного землевладельца к другому. За это время выросло два поколения людей — людей терпеливых и не «бунташных», поэтому землевладельцам показалось, что они с помощью царя вполне могли бы, не опасаясь внутренней смуты, окончательно закрепить крестьян за землей. И Собор сделал это, законодательно учредив крепостное право. Отныне отменялся срок давности на розыск и возвращение беглых крестьян. Одновременно ужесточалась ответственность помещиков, укрывающих у себя беглых. За каждый год укрывательства каждого беглого крестьянина помещик должен был заплатить 10-рублевый штраф.
Но внешне крестьянин оставался свободным: он был субъектом, а не объектом права, владел движимым имуществом, мог заключать хозяйственные сделки, возбуждать дело в суде и принимать в нем участие. Ему принадлежал выращенный им урожай, за «бесчестие» ему полагалась компенсация, хоть и самая низкая — один рубль.
Ко времени издания Соборного уложения городское население Московского царства уже имело свою «табель о рангах», Уложение ее только сформулировало и закрепило. О степени значимости того или иного горожанина можно было судить по сумме компенсации, которая ему выплачивалась за оскорбление чести. Наверху этой пирамиды находились «именитые люди» — Строгановы, владевшие огромными территориями на Урале и в Западной Сибири со всевозможными промыслами. Их «бесчестие» стоило бы обидчику 100 рублей, огромная по тем временам сумма. За «именитыми людьми» шли «гости», или богатейшие оптовые купцы, чья честь оценивалась в 50 рублей. Далее следовали богатые купцы, члены так называемой гостиной сотни, которые, в свою очередь, делились на три слоя, различающиеся своим богатством, а соответственно, и суммами возмещения за «бесчестие» — 20, 15 и 10 рублей. Промежуточное положение между посадскими и «гостиной сотней» занимала сотня «суконная», тоже подразделяющаяся на три категории, с суммой возмещения в 15, 10 и 5 рублей. Все эти купцы и промышленники, как правило, жили в Москве и имели свое представительство в Земском соборе. Налогов они не платили. Их участие в формировании доходных статей бюджета состояло в том, что им периодически приходилось выполнять тяжелые казенные поручения, занимая должности голов или целовальников таможен, кружечных дворов, или осуществлять продажу казенных товаров на ярмарках. При этом они несли материальную ответственность в случае недополучения ожидаемой прибыли.
А теперь посадские — поденщики, ремесленники, мелкие торговцы, то есть основная часть городского населения, несущая всю тяжесть городских сборов и повинностей в пользу государственной казны, на содержание стрельцов и ямских станций, а также на другие нужды города. Как «гостиная» и «торговая» сотни, посадские, или мещане, в зависимости от их материального положения делились на три категории и согласно шкале возмещения за оскорбление чести могли получить компенсацию в 7, 6 и 5 рублей.
Их положение мало отличалось от положения крепостных крестьян. Как и крестьяне, они были накрепко приписаны к своему посаду и не могли сменить место жительства, продать или заложить свой дом и земельный надел. Бегство из посада каралось избиением кнутом и ссылкой в Сибирь. Таким образом закреплялось главное предназначение посадского люда — нести «тягло». Однако если за неплатежеспособного крестьянина причитающиеся с него подати в казну выплачивал помещик, то подати, недополученные с посадского, раскладывались на других членов общины, что вызывало недовольство городского населения. Поэтому основным требованием «черного» посадского люда, поддержанным правительством боярина Морозова, стало возвращение всех городских земель в собственность государства и обложение налогами всех проживающих там домовладельцев. Так в Уложении появилась статья, провозгласившая, что впредь «больше не будет иных слобод ни в Москве, ни в провинциальных городах, кроме как государственных».
Посадские люди не имели своего представительства в Земском соборе, поэтому все свои вопросы они могли решать, а во времена царя Алексея Михайловича и решали, через челобитные. Но если и «челобитье» оставалось без реагирования, то в запасе у них было последнее, но действенное средство — бунт.
Х — XV главы Уложения были посвящены судоустройству и судопроизводству. Похоже, это был самый неудачный раздел свода законов, так как передача судебных функций исключительно в ведение московских приказов абсолютно ликвидировала роль выборных губных старост, учрежденных в свое время в качестве амортизирующего механизма от воеводского самоуправства на местах, и открыла дорогу еще большим злоупотреблениям. Отныне потерпевший от беззакония человек мог искать защиту только в Москве, что было сопряжено с посулами, большими затратами на прожитье и «московской волокитой», продолжавшей господствовать в приказной системе Московского царства. В результате подданные вместо правосудия получили круговую поруку продажных судейских чиновников и убедительный довод адресовать свои претензии за творящиеся безобразия не только местному воеводе, но и центральной власти, что провоцировало мятежи и беспорядки.
И все же нужно отдать должное Уложению за то, что оно хоть и декларативно, но провозгласило принцип равенства в отправлении правосудия для всех людей, невзирая на их чины, и необходимость предварительного расследования по делам, где могла быть применена смертная казнь.
Однако на этом законотворческая деятельность правительства Алексея Михайловича не заканчивалась. Осознавая необходимость перемен во внутренней жизни царства и следуя за практикой хозяйственной деятельности разных слоев общества, им было издано еще более 600 так называемых Новоуказных статей по самым различным отраслям права, и в первую очередь по таможенным, торговым, «татебным, разбойным и убийственным» делам.
В рамках этих Новоуказных статей был решен и вопрос о внешней торговле. По челобитной русского купечества иностранные «гости» были лишены ранее предоставленных льгот и привилегий. Впредь им была запрещена розничная торговля на территории всего царства, а оптовая торговля ограничивалась лишь Москвой, Астраханью и Архангельском. Примечательна и налоговая политика. В относительно мирные годы, как бы сейчас сказали, «налог на добавленную стоимость» в торговле составлял всего лишь пять процентов.
Некоторое время назад мы уже упоминали об истории украинского казачества. Настало время остановиться на этом вопросе подробнее. Известно, что в начале XVII века украинские казаки не были союзниками своих братьев-великороссов. Хуже того, в русско-польском конфликте они выступали на стороне Речи Посполитой. Запорожцы были в составе войск Лжедмитрия I, вторгавшихся на территорию Московии, поддерживали Тушинского вора и осаждали Смоленск вместе с Сигизмундом III. После восшествия Михаила Федоровича на престол они самостоятельно или вкупе с атаманом Лисовским совершали рейды по всем внутренним областям Русского государства, сея смерть и разрушение. В 1618 году запорожцы под предводительством гетмана Сагайдачного, известного по его смелому морскому походу на Крым в 1616 году, поддерживали кронпринца Владислава в его попытке овладеть Москвой и Троице-Сергиевой лаврой.
Но закончилась война, подписано Деулинское перемирие — и «запорожское лыцарство» оказалось никому не нужным, за исключением разве что панов, арендаторов и их собственных бедных крестьянских хозяйств. Казакам же, отвыкшим от каждодневного крестьянского труда, хотелось остаться в числе служилых людей, то есть быть зачисленными в казацкое сословие и получать государственное содержание. Но Корона{7} не могла позволить себе такую «роскошь» и вынуждена была ограничить реестровое казачье войско одной тысячей человек, преимущественно из числа мелкой украинской шляхты и зажиточных крестьян. В этих условиях энергия людей, вернувшихся с войны или из разбойничьего набега, должна была во что-то вылиться, и она вылилась в открытый мятеж, на усмирение которого потребовалось мобилизовать самого Жолкевского с его войском. Правда, обошлось без кровопролития. 17 октября 1619 года Сагайдачный и старшины согласились на компромиссное решение: число реестровых казаков увеличилось до трех тысяч, а что касается остальных, то их пообещали поверстать в случае, если они разойдутся по домам.
Здесь следует напомнить, что реестровое казачество берет свое начало еще со времен Стефана Батория, сумевшего перенацелить энергию украинской «черни» с набегов на турецкие владения на братоубийственную войну с «московитами» для упрочения своего положения на польском престоле. Попасть украинскому крестьянину в этот реестр означало большую жизненную удачу. С этого момента крестьянин зачислялся в служилое сословие с выплатой «от короны» определенного жалованья из средств, собираемых с других крестьян-земледельцев, не удостоившихся такой чести. Но главная привилегия, которой пользовался реестровый казак, было то, что его семья наделялась земельным участком и освобождалась от выплаты всяких податей и несения многочисленных повинностей. Таким образом он становился вольным землепашцем. Каждый казак приписывался к определенному полку, создаваемому по территориальному принципу (Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Чигиринский, Переяславский). В мирное время он занимался своими хозяйскими делами, но если возникала какая-то внешняя или внутренняя угроза безопасности Речи Посполитой, то он на своем коне и со своим вооружением становился в строй под команду своего сотника, который подчинялся соответствующему полковнику, а тот, в свою очередь, — гетману, назначаемому польским королем. Из вышесказанного мы видим, что уже в самом принципе создания городского украинского казачества было заложено межсословное противопоставление казаков и крестьян, проживающих в одних и тех же селах.
Ну а истинно запорожское, или сечевое, казачество строилось практически по тому же принципу, что и донское, с той лишь разницей, что его самая неспокойная и самая воинственная часть формировалась из числа сезонных рыбаков и охотников, а также «вольных разбойничков», промышлявших набегами на молдавские, татарские и турецкие владения. «Поохотившись» вдоволь, они совершенно спокойно возвращались в свои селения к крестьянскому труду… до следующего «сезона».
Итак, вернемся к Сагайдачному. Разочаровавшись в поляках, так и не выполнивших свои обещания об увеличении реестрового казачества и его финансировании, он решается направить в Москву свое посольство (февраль — апрель 1620 года), чтобы прозондировать почву на предмет возможного пополнения своей, гетманской, казны за счет Московского царства. Предложение было одно — союз против общего врага, каковым в то время был только крымский хан. Однако Великие Государи, памятуя недавние бесчинства запорожцев в Московском царстве, но в то же время и не желая наживать себе недоброжелателей, ответили уклончиво: дескать, с крымским ханом у нас перемирие, а потому в службе запорожских казаков нужды пока нет. С ответом было послано скромное вспомоществование — 300 рублей, с обещанием прислать еще при появлении такой возможности.
Одновременно с Сагайдачным и с его подачи попытку восстановить добрые отношения с единоверной Москвой предприняла и Украинская православная церковь. Дело в том, что после учреждения церковной унии в 1596 году Киевский митрополичий престол, все епископские кафедры, большая часть западнорусских церквей и монастырей оказались в руках униатов. И вообще все шло к тому, что остатки Украинской православной церкви, ее иерархия должны исчезнуть, вымереть естественным путем, так как польский король запретил ставить новых православных епископов взамен умерших. Сагайдачный воспользовался визитом патриарха Иерусалимского Феофана, возвращавшегося в Константинополь после поставления Филарета на Московское патриаршество. Гетман, православное духовенство и церковные братства, взявшие на себя попечение о сохранении православия в условиях польского воинствующего католицизма, упросили патриарха восстановить иерархию Украинской православной церкви. Поскольку это делалось без разрешения короля, церемонию посвящения каждый раз проводили втайне. Иов Борецкий стал митрополитом Киевским, Исайя Копинский — епископом Перемышля, Мелентий Смотрицкий — архиепископом Полоцким, Паисий Ипполитович — епископом Холмским, Исаак Курцевич — епископом Луцким, а грек Авраам — епископом Пинским.
Эти события развивались на фоне крайне неудачной Польско-турецкой войны за влияние на Молдавию, в ходе которой польская армия во главе с Жолкевским потерпела сокрушительное поражение. Голова гетмана как особый воинский трофей была направлена в подарок турецкому султану. Среди погибших в сражении казаков был подстароста из Чигирина Михаил Хмельницкий, а среди многочисленных пленников — его двадцатипятилетний сын Зиновий (Богдан), будущий гетман Украины. Татарские летучие отряды бросились грабить села Подолии, Восточной Галиции и Волыни. Все в страхе ожидали массированного турецкого нашествия.
В этих условиях польский король вынужден был пойти на восстановление действия Конституции 1607 года, гарантировавшей некоторые права Православной церкви. Он даже признал законным тайное от него посвящение епископа Луцкого. Более того, король попросил патриарха Феофана, все еще находившегося на Украине, убедить казаков оказать полякам полную поддержку в предстоящей войне с турками. Тот же, в свою очередь уверенный, что активное участие казаков в войне гарантирует признание восстановленной им иерархии Украинской православной церкви, благословил их на войну. Одновременно с этим он отпустил запорожским казакам грех их недавнего участия в войне против единоверного Московского царства и призвал никогда впредь не делать подобного.
В середине августа 1621 года польская армия под командованием коронного гетмана Ходкевича, усиленная казачьим войском гетмана Сагайдачного, выступила против наступающих турецко-татарских войск и встала лагерем на берегу реки Днестр около крепости Хотин. Весь сентябрь турки и татары безуспешно штурмовали польский лагерь. Казаки хорошо проявили себя в осаде, при этом Сагайдачный получил тяжелое ранение. И еще неизвестно, чем бы закончилась та война, если бы не смерть Ходкевича. Его преемник на посту главнокомандующего тут же начал переговоры о мире, и уже 9 октября был подписан договор, согласно которому турки гарантировали посадить на молдавский трон человека, приемлемого для Польши, а поляки обещали впредь не допускать набегов казаков на турецкие владения.
Через полгода не стало и Сагайдачного. В этих условиях король и сейм сочли себя свободными от ранее данных казакам обещаний и отказались утвердить поставленных Феофаном православных иерархов, а униатский митрополит Вениамин Рутский сделал все для того, чтобы лишить православных прелатов возможности исполнять свои обязанности. Особой нетерпимостью к православию отличался униатский архиепископ Полоцкий — Иосафат Кунцевич, который мало того что захватил все православные церкви и монастыри в Полоцке и Витебске, но и запретил проводить православные службы даже в частных домах. Своими действиями он вызвал жгучую ненависть у русского народа, которая вылилась, к сожалению, в безобразную акцию протеста по случаю его прибытия в город Витебск 12 ноября 1623 года, закончившуюся самосудом над непримиримым униатом. Это убийство и последовавшие за ним карательные меры еще больше осложнили отношения двух церквей, двух народов. Среди русского населения получили широкое распространение антипольские настроения, усугубляемые неблаговидным поведением еврейских арендаторов, откупщиков и ростовщиков.
В те времена среди польских панов распространилась страсть к непомерной роскоши и мотовству. Всем хотелось вкусно есть, всласть пить, красиво одеваться. На все это требовались деньги, единственным источником которых были панские поместья. Управлять ими шляхта не хотела, да и не могла. И вот тут на помощь изнеженным панам приходит иудейское племя, снабжавшее их деньгами на условиях аренды этих самых поместий. Участь украинских крестьян, оказавшихся под властью арендаторов, стала невыносимой. Налогом облагалось все, что только было востребовано: дороги, мосты, реки, печи, луга. Но наибольший гнет испытывали православные христиане от того, что в аренде у евреев оказывались бесправные православные церкви. За всякое богослужение они взимали пошлины. «Если, — свидетельствует современник, — родится у бедного мужика или казака ребенок или казаки либо мужики задумают сочетать браком своих детей, то не иди к попу за благословением, а иди к жиду и кланяйся ему, чтобы позволил отпереть церковь, окрестить ребенка или обвенчать молодых». Местному населению было запрещено варить пиво, гнать вино. Все это предписывалось приобретать только в еврейской корчме или шинке, от которого пан имел свой гешефт. Поэтому отрицательные эмоции и протест против панского гнета в первую очередь приходились на евреев-арендаторов, которые, будучи сами не без греха, индексировали сборы с населения с учетом своего непомерного аппетита.
В этих условиях отчаявшееся православное украинское духовенство видело только один путь спасения — помощь единоверного Московского царства. В январе 1625 года в Москву прибыл посол митрополита Киевского епископ Луцкий Исаак, который, описав ужасное положение православия в Западной Руси, передал Михаилу Федоровичу и его боярам устную просьбу Иова принять Украину под свое покровительство и защитить православных людей и церковь от поляков. Он уверял, что эта просьба является общим желанием всех православных, находившихся под польской короной, однако бояре располагали информацией, что среди украинцев нет единогласия, а поэтому нарушать Деулинское перемирие они тогда не решились.
И действительно, в том же году казаки послали своих депутатов на сейм с просьбой признать законность поставления церковных иерархов, произведенного Иерусалимским патриархом, ликвидировать унию и увеличить число реестрового казачества. Поляки отклонили эти требования, тогда казаки подняли мятеж, пока бескровный, в результате которого смогли добиться лишь увеличения численности городских казаков до шести тысяч человек. Казаки, не вошедшие в новый реестр, предпочли не возвращаться в свои села и отправились в Запорожье. Однако, обидев одну часть казачества, польское правительство стало заигрывать с другой, прикармливая казачьих офицеров и зажиточных реестровых казаков, из которых в итоге оно сумело создать специальный реестровый казачий полк. Основной его задачей стало подавление внутренних мятежей как в казачьей, так и крестьянской среде.
Во время Польско-шведской войны 1626–1629 годов, польское правительство, испытывая недостаток войск, пошло на увеличение числа реестровиков до восьми тысяч, но тут же, как бы в уплату за это «благодеяние», попыталось толкнуть православных в объятия униатской церкви. Был даже созван общий Собор, который решил учредить должность патриарха Западной Руси, власть которого распространялась бы на обе церкви. Но, несмотря на поддержку этого проекта со стороны весьма влиятельных православных иерархов, он из-за непримиримой позиции «черни», реестрового и вольного казачества завершился ничем.
Лишь после восшествия на престол Владислава в ноябре 1632 года, когда армия Шеина уже стояла под стенами Смоленска, когда Польша остро нуждалась в военной помощи со стороны казаков, Польский сейм пошел на уступки своим православным гражданам и официально признал существование Православной церкви и православных городских братств. Им был возвращен ряд церквей и монастырей, в том числе и Софийский собор в Киеве. Русских даже уравняли в правах с поляками и литовцами, разрешив им входить в органы местного самоуправления. «Облагодетельствованные» таким образом украинцы, недавно просившиеся под покровительство Московского царства, тут же поменяли местами друзей и врагов и выставили против своих единоверных братьев 20-тысячное войско во главе с гетманом Орандаренко в поддержку 9-тысячной польской армии, решив таким образом судьбу 30-тысячной Русской армии, ее главнокомандующего Шеина и судьбу самой битвы за Смоленск.
Но чего стоит уже оказанная услуга? Сразу же после подписания мира с Москвой казачье войско было распущено по домам, а число реестровых казаков вновь сокращено до семи тысяч. Вместо благодарности, вместо обещанных послаблений с новой силой начались притеснения православных. Польские паны, получившие обширные земельные владения в Северской земле на левом берегу Днепра, стали переселять туда украинских крестьян с правого берега, учреждая там свои порядки и правила. Польский язык становится официальным языком всего делопроизводства в Чернигове и Нежине. Русские города Левобережья, перешедшие под юрисдикцию Польши, получили Магдебурское право, но с условием, что во главе муниципалитетов должны стоять либо католики, либо униаты. Выполняя обязательства перед турецким султаном, польские власти предприняли шаги к тому, чтобы обуздать своеволие запорожского казачества на Черном море. На утесе правого берега Днепра, перед первым днепровским порогом, французскими инженерами и французскими наемниками в 1635 году была возведена крепость Кодак, чтобы контролировать действия казаков, а в случае необходимости — и противодействовать их вольнице.
Реакция обманутых казаков была предсказуемой. Уже в августе 1635 года запорожцы взяли Кодак приступом и уничтожили весь его иностранный гарнизон — 200 человек. Однако атаман Иван Сулима, организатор этой дерзкой операции, вскоре был выдан реестровыми казаками польским властям и казнен. Казнь предводителя не напугала казаков. В следующем году они взбунтовались в Переяславле из-за несвоевременной выдачи королевского жалованья, но тогда все закончилось без кровопролития. Иначе развивались события 1637 года, начавшиеся со смелого налета запорожских казаков на Черкассы, в ходе которого они захватили артиллерию реестрового полка и безнаказанно ушли за пороги. Эта вылазка взбудоражила беднейшую часть реестровых казаков и крестьянские массы Левобережья, которые приступили к погромам панских поместий и католических храмов.
Предводители запорожцев Павлюк и Скидан, воодушевленные успехом, явились в Переяславль, созвали раду и, пользуясь своим численным превосходством, убили главу реестрового казачества Савву Кононовича. Представлено это было не как протест против королевской власти, а как устранение неспособного к гетманству москаля. Тем не менее это не ввело в заблуждение польские власти, и против своевольных казаков выступил брацлавский воевода Николай Потоцкий с 15-тысячным войском, который в ходе недельного сражения разбил превосходившие силы бунтовщиков и потребовал выдачи зачинщиков. Запятнанные предательством, разоруженные реестровые казаки в унизительных условиях повторно присягнули на верность королю и приняли уже не избранных ими, а назначенных поляками гетмана Ильяша Караимовича, полковников и других офицеров. Пост писаря при Караимовиче получил малоизвестный тогда Богдан Хмельницкий, недавно возвратившийся из татарского плена.
Жуткую картину представляла «замиренная» Потоцким Левобережная Украина. По свидетельству польских современников, все дороги, ведущие в Нежин, были уставлены виселицами и заостренными кольями с казненными на них казаками и крестьянами.
Однако эта устрашающая жестокость только распалила запорожцев. В марте 1638 года вспыхнуло новое восстание — под началом гетмана Острянина, к которому присоединилось и несколько сотен донских казаков. В открытом бою они нанесли поражение Станиславу Потоцкому, захватили Чигирин и Миргород. Но на помощь Станиславу поспешили брат Николай с польскими полками и князь Иеремия Вишневецкий со своими вооруженными холопами. 10 июня Станислав, усиленный ополчением Вишневецкого, подступил к казачьему лагерю, расположенному у Жовнина. В этих условиях Острянин посчитал дальнейшее сопротивление бесполезным и предложил казакам уйти в московские владения, однако за ним последовало всего лишь около тысячи человек. Оставшиеся избрали себе нового предводителя — Гуню, с которым они продержались в осаде еще два месяца, но ввиду превосходящих сил противника 7 августа прекратили сопротивление при условии, что их не будут преследовать за мятеж.
Через несколько дней в Варшаву с повинной явилась депутация зарегистрированных казаков в составе четырех человек, в том числе и уже известный нам Богдан Хмельницкий. От имени казацкой рады депутация должна была покаяться перед королем за бунт и верноподданнически просить его, чтобы он оставил им хоть какие-то права. В декабре того же года реестровым казакам, собранным в Масловом Стане, была объявлена королевская воля. Николай Потоцкий представил им королевского комиссара Петра Комаровского, который провозглашался их верховным главнокомандующим с правом назначения по своему усмотрению полковников и утверждения сотников, избранных казаками. Реестр сокращался с семи до шести тысяч. Корсунь объявлялся местом пребывания главного казачьего штаба. Разрушенная ранее крепость Кодак подлежала восстановлению и расширению, а «чайки»{8} запорожцев, на которых они совершали дерзкие рейды на турецкие владения по берегам Черного моря, — сожжению.
На Украине для поляков наступило «золотое десятилетие». Казаки усмирены. На плодородном левом берегу Днепра, как грибы после дождя, растут латифундии польских и украинских магнатов, превращая этот край в житницу Речи Посполитой и источник доходов от внешней торговли пшеницей и скотом. Арендаторы-евреи на годы вперед берут откупа на панские земли и все, что на них находится: мельницы, винокурни, кабаки, речные паромы, мосты, церкви. За счет эксплуатации украинского крестьянства растут и богатеют такие города, как Варшава, Вильно, Львов, Каменец, Киев. Но все это благополучие строится на шаткой основе. Пропасть между польскими и украинскими магнатами, с одной стороны, и украинскими крестьянами — с другой, углубляется и расширяется. Аппетиты арендаторов-евреев растут, а терпение казаков и крестьян истощается. Вулкан противоречий между католиками, униатами и православными продолжает бурлить. А пружина казачьего терпения сжимается до предела, для взрыва был нужен только повод. Но польские войска, расквартированные на украинских землях, пока еще сдерживают народный гнев. Единственной формой протеста, которую позволяли себе русские люди в это десятилетие, был их массовый отъезд на московские земли, в результате которого образовалась так называемая Слободская (свободная) Украина, раскинувшаяся на просторах от Ахтырки до Острогожска, что в Воронежской области.
Как ни парадоксально, но повод к восстанию подал сам польский король Владислав, который, кстати, высоко ценил боевые качества украинского казачества. Дело в том, что короля тяготило его собственное бесправие и раздражало своеволие сейма. «Голубой мечтой» Владислава было укрепление королевской власти, чего, по его мнению, можно было достичь только через реальные заслуги перед Речью Посполитой. А что может быть более престижным, более возвышающим, чем победоносная война, тем более победа над Турцией, перед которой трепетала вся Европа? Подвернулся и предлог. В 1645 году доведенная до отчаяния Венеция обратилась к европейским монархам, в том числе и к польскому королю, с предложением о создании антитурецкой коалиции. Предложение было подкреплено крупной денежной субсидией, что было весьма кстати ограниченному в средствах Владиславу. Желая сохранить свои намерения в тайне от сейма, он пригласил к себе на секретную встречу четырех казацких старшин — Барабаша, Караимовича, Нестеренко и Хмельницкого. Встреча состоялась в конце апреля 1646 года в присутствии канцлера Оссолинского. Убедившись, что казаки разделяют его планы, король дал им грамоту, в которой было сказано, что — ввиду скорой войны с турками и их союзниками, крымскими татарами, — запорожским казакам разрешается строительство морских челнов, а численность реестрового казачьего войска увеличивается до 20 тысяч человек. На первоначальные расходы старшины получили 6 тысяч талеров, а в будущем им было обещано еще 60 тысяч. Канцлеру же Оссолинскому предстояла не менее важная работа по укреплению регулярной польской армии.
Но шила в мешке не утаишь. Разразился страшный скандал. В том же, 1646 году сейм наложил запрет на какое бы то ни было увеличение польской армии, а в следующем — он перевел на себя право определять численность реестрового казачества. Барабаш и Караимович подчинились этому решению, чего не скажешь о Хмельницком. Как описывают его современники, Богдану обманным путем удалось выкрасть у Барабаша королевскую грамоту и ознакомить с ней своих единомышленников. С этого момента на него начались гонения как со стороны казацких старшин, так и со стороны польских властей. Возглавлял всю эту кампанию помощник головы Чигирина польский шляхтич Чаплинский. Дело завершилось тем, что десятилетний сын Хмельницкого был до смерти запорот кнутами, его невенчанная жена выкрадена, а хутор, доставшийся ему по наследству, конфискован. Пострадавший не нашел защиты своих прав ни у чигиринского суда, ни у варшавского. Король же, к которому он обратился, расписавшись в собственном бессилии, якобы ответил: «Настало время для вас (казаков. — Ю.Ф.) вспомнить, что вы воины и у вас есть сабли». В довершение ко всему Богдан по возвращении из Варшавы был арестован, но в декабре 1647 года ему удалось бежать в Запорожскую Сечь, где его сразу же провозгласили гетманом.
Пока казаки собирали силы и укрепляли свой стан, готовясь ко всяким неожиданностям, Хмельницкий предпринял поездку к крымскому хану Ислам-Гирею, которого он с помощью выкраденной королевской грамоты смог убедить в агрессивных намерениях польских властей против него. Хан согласился поддержать казаков, выделил им в помощь мурзу Перекопа Тугай-Бея, оставив у себя в качестве заложника Тимофея, старшего сына гетмана.
Коронный гетман Николай Потоцкий, получив информацию об активных приготовлениях запорожцев, учредил свою ставку в Чигирине и стал готовиться к подавлению мятежа. Чтобы не дать ему разгореться до угрожающих размеров, он отправил навстречу наступающим мятежникам два отряда. Во главе первого он поставил своего сына Стефана и комиссара реестрового казачества Шемберга. В их распоряжении было полторы тысячи польских солдат и половина мобилизованных казаков, две — две с половиной тысячи человек. Главой второго, состоящего из другой половины казаков и немногочисленых иностранных наемников, был назначен полковник Кричевский и уже известные нам есаулы Барабаш и Караимович. Стефан Потоцкий с Шембергом двигались посуху, а Кричевский — по Днепру, на кораблях. В районе Каменного Затона, немного выше крепости Кодак, казаков встретили посланцы Хмельницкого. Кричевский тут же присоединился к ним. Иностранные наемники и есаулы, отказавшиеся последовать примеру полковника, были перебиты. Узнав о случившемся, казаки, двигавшиеся с Потоцким, оставили поляков и пошли на соединение с запорожцами, которых насчитывалось уже около трех тысяч человек, и крымскими татарами (пятьсот человек).
Стефан Потоцкий, потеряв львиную часть своего войска, решил отступать, но уйти далеко он уже не смог. В районе Желтых Вод его блокировали многочисленные отряды казаков и восставших крестьян, которые в ходе двухдневного сражения, 5–6 мая 1648 года, разбили польский отряд. Сам Потоцкий в этом бою получил смертельное ранение. Оставшиеся в живых поляки оказались в плену у крымских татар.
Смертельная угроза нависла и над основными силами гетманов Николая Потоцкого и Калиновского — в шесть тысяч человек. Отступая, они отдали своим солдатам «на поток и разграбление» город Корсунь, чьи жители симпатизировали Богдану Хмельницкому. Эти варварские действия еще больше распалили восставший украинский народ. В польском лагере, окруженном со всех сторон, началась паника, люди стали разбегаться. В этой неразберихе кое-кому удалось уйти, но подавляющее большинство поляков было перебито или взято в плен. Участь татарского пленника ждала и самого Потоцкого 16 мая.
Военное поражение усугубилось и другим несчастьем: совершенно неожиданно умер король Владислав. Польша, в одночасье оказавшаяся без короля и без армии, могла стать легкой добычей Богдана Хмельницкого, но он, дойдя до Белой Церкви, неожиданно остановился. Что бы это значило? Исследователи предполагают, что здесь сыграли свою роль сразу несколько факторов. Во-первых, Хмельницкий, по всей видимости, сам не ожидал такого успеха. Во-вторых, ему не нужна была свободная и независимая Украина, для него было все равно, под кем находиться: под польским ли королем или под московским царем. В-третьих, взращенный на личной мести, Хмельницкий добивался от польских властей всего лишь лучшей доли для украинского шляхетства и увеличения численности реестрового казачества. Он хотел возрождения Православной церкви, ликвидации панского произвола и еврейского засилья, но в рамках Речи Посполитой. Об этом он и написал в Варшаву. Его послание как бы живому королю Владиславу завершалось следующими словами: «Кто тому причиною (имеется в виду причина его восстания. — Ю.Ф.), рассудит сам Бог, а мы готовы жертвовать жизнью для республики. Затем нижайше просим вашу королевскую милость оказать нам отеческое милосердие, и, простив невольный грех, повелите оставить нас при древних правах и привилегиях». Одновременно с этим Хмельницкий обратился и к московскому царю, но это обращение следует рассматривать не как просьбу о вхождении Украины в состав Московского царства, а как предложение своей помощи Алексею Михайловичу в овладении польским престолом и создании под его началом объединенного русско-польско-литовско-украинского государства: «Желали бы мы себе самодержца государя такого в своей земле, как ваша царская велеможность православный христианский царь. Если б ваше царское величество немедленно на государство то (на Польшу. — Ю.Ф.) наступили, то мы со всем Войском Запорожским услужить вашей царской вельможности готовы». Хмельницкий не был «ласковым теленком», который благодаря своему обхождению мог сосать двух маток. Нет, он был предводителем анархиствующего казачества, не останавливающимся перед шантажом обеих монархий, грозившим им войной и готовым выступить на стороне той из них, которая больше даст.
А пока Хмельницкий вел эту игру, всенародное восстание охватило всю Украину. Распущенные по областям казачьи полки и повсеместно восставшие крестьяне разграбили и разрушили практически все имения польской шляхты на украинской земле, а их владельцев если не перебили самым жестоким образом, то изгнали за Днепр. Особо неистовствовали украинцы в отношении евреев. В захваченных местечках и городах им сначала предлагалось принять христианство. Согласившимся на эти условия евреям сохранялась жизнь и часть имущества: если же они упорствовали, то участь их была ужасной. Жертвами народной стихии становились женщины, старики, дети. Общее число жертв еврейских погромов, по свидетельствам современников, достигало ста тысяч человек.
Напуганный размахом антипольских выступлений сейм во главе с канцлером Оссолинским вынужден был вступить в переговоры с Богданом Хмельницким, который в знак своих мирных намерений оставил Белую Церковь и вернулся в Чигирин. С польской стороны в качестве переговорщика выступал воевода Браслава Адам Кисель, православный польский вельможа русского происхождения. Полякам нужно было потянуть время, необходимое для того, чтобы самим собраться с силами и с помощью дипломатических маневров попытаться лишить казаков внешней поддержки со стороны Константинополя, Крыма и Москвы.
Передышка была нужна и Хмельницкому. Дело в том, что в качестве союзника в этой войне, как нам известно, он привлек крымского хана. По мере развития успеха украинского восстания татарское вспомогательное войско увеличилось с 500 человек до нескольких десятков тысяч, а военная помощь против коронных войск превратилась в самый обычный набег, жертвами которого, как ни странно, стали десятки тысяч украинских крестьян и мещан. Все это ставилось в вину гетману, и ему предстояло решить довольно непростую задачу: как, не рассорившись с крымским ханом, остановить грабеж украинского населения со стороны корыстолюбивых татарских воинов.
Однако в Польше, кроме Оссолинского и его умеренных сторонников, существовала и группа магнатов, не желавшая мириться с потерей своих владений и своевольством холопов. Их объединил вокруг себя русский князь Иеремия Вишневецкий, изменивший вере своих отцов и, как это нередко бывает с новообращенными, ставший воинственным католиком и ярым врагом схизматов. Покинув Левобережье, он отправился в Подолию, чтобы сжечь в огне, утопить в крови и задавить страхом разраставшееся и там восстание. Захваченных им повстанцев жестоко пытали и только потом предавали смерти. «Пытайте их так, — требовал вероотступник, — чтобы они почувствовали, что умирают». Действия непримиримых панов понудили Хмельницкого, не прерывая переговорного процесса с поляками, двинуться на запад для оказания помощи восставшему населению, но его опередил полковник Кривонос, нанесший ряд поражений шляхетским отрядам Вишневецкого и понудивший его отступить на Волынь. Но поляки к тому времени уже пришли в себя и поняли, что они в состоянии не только защищаться, но и, нападая, побеждать. Были среди них и такие, что самонадеянно заявляли: «Против такой сволочи не стоит тратить пуль; мы их плетьми разгоним по полю».
Как бы то ни было, но к концу лета они собрали 36-тысячное войско, больше походившее на гигантский увеселительный пикник, чем на военный лагерь. Казалось, что люди собрались здесь не воевать, а предаваться бесконечным пирам, демонстрировать искусство своих поваров, стать своих коней, великолепие своих нарядов, оружия и украшений. К этому роскошному польскому стану, расположенному на берегу маленькой речушки Пилявки, что в Северной Подолии, и подошел Хмельницкий со своими основными силами. Вид многочисленного войска, а еще более — запущенная дезинформация о скором подходе 40-тысячного вспомогательного татарского отряда внушили такой страх в сердца заносчивой шляхты, что в ночь на 21 сентября они в массовом порядке стали покидать лагерь, а с первыми выстрелами на рассвете их отъезд превратился в паническое бегство. «Победителям, — утверждает Н. И. Костомаров, — досталось сто двадцать тысяч возов с лошадьми; знамена, щиты, шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидские ткани, рукомойники, постели, кушанья, сласти — все лежало в беспорядке; вина и водки было так много, что, при обыкновенном употреблении, стало бы их для всего войска на месяц…»
Некоторые авторы недоумевают: почему Хмельницкий не стал развивать свой успех, почему он не пошел прямо на Варшаву и не принудил поляков принять его условия будущего союзного польско-украинского государства или условия создания полностью самостоятельной украинской державы? Почему он, отягощенный добычей, направился в Галицию для получения еще одной контрибуции с украинского города Львова, а не пошел на имения своих, как он говорил, кровных врагов Вишневецкого и Конецпольского? Да к тому же и сам поход в конце октября на исконно польские земли он предпринял не по своей инициативе, а под давлением казацкой массы. Да и осада Замостья до середины ноября почему-то велась без особого энтузиазма. И уж больно подозрительно покладистым стал гетман после избрания на королевский престол брата умершего Владислава — Яна-Казимира. Хмельницкого почему-то удовлетворил этот выбор сейма, несмотря на то что новый король когда-то состоял в ордене иезуитов и имел кардинальскую шапку от самого Папы Римского.
Уж не потому ли, как утверждал в свое время Н. И. Костомаров, что он не был ни рожден, ни подготовлен к такому великому подвигу. Начавши восстание в крайности, спасая собственную жизнь и мстя за свое достояние, он неожиданно оказался во главе всеобщего восстания, но не смог воспользоваться представившимися ему возможностями и повести дело освобождения народа так, как ему на это указывала судьба и как интуитивно чувствовал сам народ. Отсюда и совершенные им ошибки, повлиявшие на весь последующий ход трагической истории украинского народа.
Получив личное послание короля, а вместе с ним гетманскую булаву и знамя, Хмельницкий снял осаду Замостья и со всем своим войском возвратился на Украину. Накануне Рождества он под звон церковных колоколов вошел в Киев. Ему был оказан триумфальный прием населением, православным духовенством, митрополитом Киевским Сильвестром Козловым и прибывшим накануне патриархом Иерусалимским Паисием.
На Украине де-факто образовалось самостоятельное государство, к правителю которого зачастили иностранные послы, ничуть не смущавшиеся, что де-юре эта территория еще принадлежала польской короне. С предложением дружбы прибыли послы Молдавии и Валахии; союз против Польши предлагали турецкий визирь и се-миградский князь. Тайные переговоры велись с главой протестантской партии Великого княжества Литовского. Весьма насыщенным важными событиями оказался февраль 1649 года, в течение которого был подписан договор о дружбе с Оттоманской империей, возобновлены переговоры с представителями польской короны, а в Москву была направлена делегация с просьбой оказать военную помощь в случае возобновления войны с Польшей. Но, прося помощи от Москвы, Хмельницкий держал против нее «камень за пазухой», предоставив убежище очередному самозванцу, называвшемуся внуком царя Василия Шуйского. Помощи от Москвы он не получил и на этот раз, так как ей самой было несладко от крестьянских волнений, вызванных окончательным закрепощением крестьян в соответствии с только что принятым Соборным уложением. С поляками же удалось заключить перемирие до июня, что дало возможность и той и другой стороне подготовиться к неминуемой войне.
Маски были сброшены, когда в апреле специальный посланник короля при гетманском стане Якоб Смяровский был обвинен в организации заговора с целью покушения на жизнь Хмельницкого и казнен. В ответ на это король издал указ о всеобщей мобилизации, Вишневецкий призвал панов из соседних владений к шляхетскому ополчению под своим началом, а Радзивилл приступил к подготовке литовской армии к походу на Киев. Хмельницкий, со своей стороны, издал универсал к украинскому народу с призывом подняться на борьбу против Польши: «Пусть каждый, будь он крестьянином или казаком, вступает в казацкое войско».
Если не считать поражения корпуса полковника Кричевского от литовцев Радзивилла, удача сопутствовала Хмельницкому. В конце июня казакам и крымским татарам удалось блокировать передовые части польской армии в районе Збаража в Южной Волыни. Узнав о бедственном положении этой армейской группировки, король со своими основными силами выступил ей на выручку. Однако Хмельницкий и крымский хан Ислам-Гирей перехватили его под Зборовом в северо-западной части Галиции. Положение короля, окруженного превосходящими силами противника, было безвыходным. Но его и на этот раз выручил польский канцлер Оссолинский, предложивший крымскому хану стать посредником между поляками и казаками на таких условиях, от которых тот не смог отказаться: 200 тысяч злотых единовременно и по 90 тысяч ежегодно в виде подарков.
С неимоверной поспешностью был подготовлен и подписан 9 августа так называемый Зборовский польско-украинский договор. Согласно этому договору число реестровых казаков увеличивалось до 40 тысяч. В свое распоряжение они получали три воеводства — Киевское, Браславское и Черниговское. Город Чигирин становился столицей казачьей автономии, в которой восстанавливались прежние вольности и привилегии. На казачьих землях не разрешалось жить евреям и иезуитам, как и размещать польские войска. В автономии сохранялось присутствие представителей королевской администрации, но с условием, что они будут избираться из числа православных местных аристократов. И самое главное: митрополит Киевский получал право представительствовать в польском сенате наравне с католическими иерархами, а униатскую церковь было обещано ликвидировать выморочным путем.
Что же касается положения крестьян, то оно оставалось без изменения. Тем из них, кому не посчастливилось попасть в казачий реестр, надлежало вернуться в королевские или частные владения, к которым они были приписаны до войны, и исполнять свои прежние обязанности. Это, естественно, породило вопрос: «За что боролись?» — и спровоцировало новые крестьянские выступления, которые проявились как в массовом бегстве холопов за пороги или в Московское царство, так и в новых кровопролитных столкновениях с польскими панами и зажиточными реестровыми казаками, участвовавшими в подавлении их стихийных выступлений. На стороне Зборовского договора выступила вся казацкая старшина и большинство украинского православного духовенства, вполне удовлетворенного подобным распределением социальных ролей в рамках Польского государства. Ведь, если все украинские крестьяне, — заявляли они, — станут казаками, освобожденными от уплаты каких бы то ни было податей, то за счет кого все они будут существовать? Сложность ситуации усугубило поведение польских панов, которые по возвращении в свои имения стали сурово наказывать своих крестьян, подвергая их пыткам, издевательствам и мучительной смерти. Не помог крестьянам и Хмельницкий, призывавший крестьян повиноваться своим господам, за что в определенных кругах был признан предателем народного дела и даже на какое-то время формально смещен с гетманского поста.
Чувствуя неизбежность разрыва с Польшей, неуверенный в своих силах, Богдан Хмельницкий метался в поисках стратегического покровителя. Крымские татары оказались излишне корыстными и ненадежными союзниками, а поэтому гетман попеременно бросал свои взоры то на Литву, то на придунайские православные эрзац-государства — Молдавию, Валахию, Трансильванию. Но это на будущее, а в 1650 году ему нужна была мощная и срочная военная поддержка, поэтому он вел одновременно переговоры и с Москвой, и с Турцией.
Неискреннее поведение Хмельницкого и его непостоянство удержали Алексея Михайловича, озабоченного к тому же псковскими и новгородскими волнениями, от поспешных действий против Польши. Поэтому неудивительно, что переменчивый и где-то капризный Хмельницкий в апреле 1650 года «вдруг» обратился к султану с просьбой принять запорожское войско под свою защиту, признавая тем самым свою вассальную зависимость от Оттоманской империи. Просьба была с благосклонностью принята, и протекторат Турции над казацкой армией был закреплен в феврале — марте следующего года соответствующей грамотой султана. Этот шаг можно рассматривать по-разному: как искреннее и добровольное желание Хмельницкого стать младшим партнером Турции, а следовательно, и потенциальным противником Москвы, чего, к счастью, не произошло; или как стимулирование той же самой Москвы к более активным действиям против Польши, что и получилось на самом деле.
Но пока Хмельницкий, пользуясь своеобразным перемирием с Польшей и отвлекая татар от набега на московские земли, решил попытать свое воинское счастье в Молдавии, а заодно женить своего сына Тимофея на дочери тамошнего господаря Лупула. Тем самым он хотел породниться как с господарем, так и с литовским гетманом Радзивиллом, женатым на другой его дочери. Поход удался. Татары разграбили страну. Яссы, столицу Молдавии, крымчаки грабили вместе с казаками, а Лупулу ничего другого не оставалось делать, как выплатить большую контрибуцию татарам, заключить союз с казаками и согласиться на брак своей дочери Роксанды с Тимофеем Хмельницким.
Разгневанные молдавским походом казаков поляки, считавшие Лупула своим вассалом, подстрекаемые возвратившимся из татарского плена Николаем Потоцким и вероотступником Иеремией Вишневецким провели на декабрьском 1650 года сейме решение о всеобщей мобилизации польской и литовской армий. А в феврале 1651 года они при поддержке немецких наемников, разбив в бою браславский казацкий полк, уже приводили в повиновение жителей Браславской области. За этой неудачей последовала и серия других. Наиболее значимой из них стала трагедия у волынского Берестечка, где в июне того же года сошлись польская армия, с одной стороны, и казаки с татарами — с другой. Противоборствующие силы были примерно равными, а следовательно, победу могла одержать только та из них, которая проявит максимум героизма и самоотверженности. Но, как известно, татары всегда были любителями легкой наживы, а поэтому, не желая ввязываться в кровопролитное сражение, они покинули место боя, прихватив с собой в качестве полузаложников-полупленников руководство почти суверенного украинского государства — гетмана Хмельницкого и войскового писаря Выговского.
Оставшееся на поле боя казацкое войско с полковником Богуном хоть и оказало упорное сопротивление, но под ударами превосходящих сил противника вынуждено было отступить, понеся при этом огромные потери в живой силе. В довершение всех казачьих несчастий литовская армия Радзивилла 25 июня с ходу захватила Киев. Казалось, что окончательное поражение Хмельницкого — дело всего лишь нескольких недель, но побеждать было уже некому и некого. И та и другая сторона были обескровлены, армии — дезорганизованы, а число желающих вновь идти на смерть катастрофически сократилось. Оставался единственный путь — переговоры, которые завершились 18 сентября подписанием в Белой Церкви нового мирного договора. Договор предусматривал сохранение автономии казацкого войска, сокращенного до двадцати тысяч и ограниченного территорией Киевского воеводства.
Но миру не суждено было прийти на истерзанную украинскую землю. Январская 1652 года сессия Польского сейма отказалась ратифицировать Белоцерковский договор, в связи с чем Польша и Украина вступили в новый период шаткого состояния «ни войны, ни мира». В этих условиях Богдан Хмельницкий вновь качнулся к Москве, но переговоры его доверенных лиц с царем и патриархом закончились лишь обещанием последних предоставить новые земли для расселения прибывающих с Украины казаков и крестьян с освобождением от уплаты налогов, если они будут оказывать помощь правительственным войскам в отражении татарских набегов.
Потерпев неудачу на одном фронте и с одним предполагаемым союзником, Хмельницкий качнулся к другому союзнику, хоть уже и предававшему его, чтобы попытать счастье на другом фронте. Гетмана, как когда-то и князя Святослава, не оставляло желание закрепиться в Дунайском регионе. А для этого нужно было сделать первый шаг — реализовать ранее достигнутую договоренность с молдавским господарем о женитьбе своих детей. Зная, что поляки будут препятствовать этому браку, Хмельницкий уговорил крымского хана принять участие в новом походе на Молдавию. 22 мая в районе Каменец-Подольска объединенные силы казаков и крымских татар нанесли поражение сильной польской армии гетмана Калиновского, преградившей им путь. В ходе сражения погиб и польский полководец. Эта победа позволила Хмельницкому установить протекторат над Молдавией, женить сына и, оставив его там в качестве то ли соправителя, то ли своего наместника, вернуться на Украину.
Легкость доставшейся победы вскружила голову честолюбивому гетману. Ему вдруг показалось, что он в состоянии выполнить рекомендацию патриарха иерусалимского Паисия о создании союза всех греко-православных держав, и начал рискованную игру по установлению своего влияния и на Валахию, но переоценил свои возможности. Объединенными усилиями Валахии, Трансильвании и польских добровольцев молдавский господарь Лупул был отрешен от власти, а Тимофей Хмельницкий в одном из боев получил смертельное ранение.
Придунайская авантюра Хмельницкого завершилась полным провалом, однако гетман не хотел мириться с этим. В сентябре 1653 года он возглавил новый поход на запад. На этот раз, кроме крымских татар, его сопровождал большой отряд донских казаков. В районе Жванца, что на границе Браславского воеводства и Молдавии, ему преградила путь достаточно сильная королевская армия, посланная Яном-Казимиром для восстановления польского влияния в этом регионе. Поляки вновь оказались в невыгодном положении. Находясь в окружении, они испытывали острую нужду в продовольствии, фураже и боеприпасах. Начались болезни, а с ними и упадок боевого духа. Прошлогодняя трагедия Калиновского могла повториться с еще более тяжкими последствиями.
Но тут воюющие стороны получили информацию, круто изменившую военно-политическую ситуацию в Восточной Европе в целом. Оказывается, тайные переговоры с Москвой об оказании помощи казакам шли своим чередом и наконец 1 октября 1653 года благополучно завершились. Специально созванный для этого Земский собор проголосовал за принятие Богдана Хмельницкого и всего запорожского казацкого войска «с городами и землями» под покровительство царя Алексея Михайловича. Татары и поляки, увидевшие в этом решении угрозу своим интересам, тут же прекратили военные действия и вступили в переговоры, завершившиеся 5 декабря подписанием соответствующего договора, согласно которому татарам выплачивалась компенсация в размере ста тысяч злотых. Кроме того, им не возбранялось, следуя домой через Украину, взять себе какое-то количество полоняников. Король заявил было о своей готовности возобновить действие Зборовского договора и в отношении казаков, но время для подобных компромиссов уже ушло.
А 31 декабря Великое посольство московское в составе боярина Василия Бутурлина, окольничего Ивана Алферова и дьяка Лариона Лопухина приблизилось к Переяславлю. За пять километров от города его приветствовал полковник Павел Тетеря во главе шести сотен казаков, а у городских ворот царских посланцев встречали уже переяславский архиерей Григорий, духовенство и практически все население города. Всеобщее ликование от воссоединения Малой Руси с Великой Русью наводнило городские улицы. Прибывший 7 января 1654 года в Переяславль Богдан Хмельницкий на первой же встрече с Бутурлиным так оценил происходящие события: «Как орел закрывает свое гнездо (крыльями), так и государь (Алексей Михайлович) соизволил принять нас под свою высокую руку; Киев и вся Малая Русь — его царского величества вотчина».
На следующий день, 8 января, на центральной площади состоялось общее собрание (рада) горожан и делегатов из других городов. Смысл выступления Хмельницкого перед собравшимися сводился к тому, что шестилетняя практика украинской жизни без государя показала всю свою несостоятельность и что теперь нужно выбрать, чье предложение о покровительстве принять: турецкого ли султана, крымского ли хана, короля Польши или «великого государя, восточного царя». Первых двух он сразу отмел — мусульмане, третий не подходил по причине многочисленных «неправд» от польских вельмож. Оставался четвертый — родной по крови и по вероисповеданию «восточный православный царь», за которого присутствующие проголосовали единогласно. «А те, кто не согласится с нами, пусть идут куда хотят», — заявил гетман. Но таких на первых порах не оказалось.
В тот же день Хмельницкий и вся старшина принесли присягу на верность царю, а в ответ Бутурлин вручил гетману символы его власти — булаву и знамя, одарив попутно щедрыми царскими подарками его ближайших помощников и казацких полковников. На следующий день присягу принимали младшие офицеры, казаки и горожане, а через несколько дней члены московского великого посольства разъехались с этой целью по всем украинским городам и селениям, подвластным Хмельницкому. Это событие повсеместно проходило в атмосфере народного воодушевления от сознания того, что наступил конец панского и еврейского засилья, и в предвкушении безоблачного будущего под рукой единоверного царя.
Повсеместно — но не в Киеве. Там противником воссоединения, хотя и не ярко выраженным, выступала высшая церковная иерархия во главе с митрополитом Киевским Сильвестром. Дело в том, что на протяжении почти двух столетий Украинская православная церковь была отделена от Московской и находилась под управлением малосильного и полунищего Константинопольского патриарха, материально зависимого от своей украинской паствы, к которой он периодически обращался за вспомоществованием на церковные нужды. В этой связи киевская митрополия, чувствовавшая себя практически самостоятельной в решении своих внутрицерковных проблем, увидела в происходившем воссоединении братских народов под властью единого государя угрозу своей самостоятельности. Здесь был целый комплекс объективных и субъективных причин, но одна из них была на поверхности и ею весьма активно манипулировали украинские иерархи — это более низкий образовательный уровень московских церковников, подчиняться которым просвещенное духовенство Западной Руси не хотело. Для него это было бы шагом назад, как они говорили, в варварство. Так или иначе, но сопротивление митрополита было преодолено и он благословил свою паству на принесение присяги царю Алексею Михайловичу.
В марте 1654 года в Москве в доброжелательной атмосфере происходила завершающая стадия объединительного процесса. Казаки в лице главного судьи запорожского войска Зарудного и переяславского полковника Тетери защищали перед особым комитетом Боярской думы, в которую входили Алексей Трубецкой, Василий Бутурлин, Петр Головин и Алмаз Иванов, свои требования-условия присоединения Украины к России. В течение двух недель они были согласованы и закреплены царским указом под названием «Одиннадцать статей», а также рядом «жалованных грамот», смысл которых вкратце сводился к следующему:
— Украина признавала верховную власть московского царя, сохраняя за собой право на содержание 60-тысячного запорожского войска во главе с гетманом, на «кормление» которому отдавался Чигирин с его окрестностями;
— Богдан Хмельницкий утверждался пожизненным гетманом. Ему должен наследовать тот, кого выберет запорожское войско после его смерти;
— гетману предоставлялось право обмениваться посольствами с зарубежными странами, за исключением Турции и Польши;
— за митрополитом и духовенством, а также за украинской шляхтой сохранялись их традиционные права и привилегии;
— жителям городов предоставлялось право избирать муниципальные власти;
— запорожскому войску подтверждались их прежние права и свободы, в том числе неприкосновенность казацких земельных угодий; независимость казацких судов; ежегодное жалованье каждому казаку за счет доходов, собираемых на Украине;
— царь брал на себя обязательство содержать за свой счет гарнизон в крепости Кодак и запорожское казацкое войсковое братство (кош).
Единственное сословие, о котором не радели ни гетман, ни его посланники и о чьих правах в подписанных документах нет ни слова, были крестьяне. Им достались одни обязанности. Зато о себе войсковая старшина позаботилась с избытком. После того как в царскую казну отошли бывшие королевские земли на Украине, гетман выпросил себе город Гадяч с доходами от него, полковник Тетеря — город Смелу. Аналогичные доходы получил и судья Зарудный. Глядя на них, другие старшие офицеры засыпали царя своими прошениями о земельных пожалованиях, большинство из которых, как ни странно, были удовлетворены: уж больно грел сердце Алексея Михайловича его новый титул — «Самодержец Всея Великия и Малыя России».
Война с Польшей становилась неотвратимой, но как нарушить Поляновский 1634 года договор о «вечном мире»? Оказывается, при желании можно было сделать и это. Нашелся и повод. Вспомнили старые обиды, нанесенные польскими людьми умалением титула царя московского, а более всего — «поносными книгами», изданными в Польше, где напечатано «многое бесчестье и укоризна отцу великого государя, царю Михаилу Федоровичу, самому царю Алексею Михайловичу, боярам и всяких чинов людям, чего по вечному докончанию и посольским договорам не только печатать, и помыслить нельзя, от Бога в грех и от людей в стыд». Поэтому польской стороне были предъявлены ультимативные требования: «Если король хочет сохранить мир, то за такое бесчестие великих государей пусть уступит те города, которые отданы были царем Михаилом королю Владиславу, пусть казнит смертью гетмана Вишневецкого и всяких чинов людей, которые писали, не остерегая государевой чести, а за бесчестье бояр и всяких чинов людей пусть заплатят 500 000 золотых червонных».
Претензии, понятное дело, были надуманными, требования — невыполнимыми, а вероятность войны — неизбежной. Отпадение Украины от Польши и ее последующее присоединение к России явилось фактическим объявлением войны.
Зарудный и Тетеря еще вели переговоры с московскими боярами, а движение русских войск к западной границе уже началось. К Вязьме выдвинулся боярин Далматов-Карпов, к Брянску — князь Алексей Трубецкой, а по направлению к Смоленску 18 мая двинулись основные силы Русской армии во главе с 25-летним царем Алексеем Михайловичем. Боярина Василия Шереметева царь послал к Белгороду для охраны южных границ от крымского хана и ногайских орд, а донским казакам поручил беспокоить крымские владения, чтобы отвлечь татар от активных действий на севере.
Перед вступлением на белорусскую землю «матери нашей святой восточной церкви сынам» от имени царя были посланы грамоты, призывавшие их вооружаться на поляков и оказывать помощь наступающим русским войскам. Призыв этот нашел живой отклик со стороны населения, и первые победы русских были достигнуты исключительно благодаря народному подъему. Дорогобуж, Невель, Белая, Полоцк, Рославль, Мстиславль сдались без боя. Опечалила лишь трижды несчастливая для русских Орша, где в ночном бою московские войска потерпели очередное поражение. Но эта неудача уже не могла остановить победного шествия царских войск по Белоруссии. Города сдавались один за другим: Дисна, Друя, Орша, Глубокий, Гомель, Могилев, Чечерск, Новый Быхов, Пропойск, и, наконец, Смоленск после трех месяцев осады сдался на милость победителя. А милость и на самом деле была проявлена необыкновенная. Даже ярые противники московской власти после занятия городов и поместий беспрепятственно отпускались на свободу, что еще больше увеличивало число московских доброхотов.
Но если в Белоруссии для русских дела шли максимально успешно, то на Украине Богдан Хмельницкий, собравший 100-тысячное войско, бездействовал. Бездействовал даже тогда, когда гетман Потоцкий и Стефан Чернецкий проводили жесточайшую карательную акцию в отношении украинского населения Браславской области. По подсчетам самого Потоцкого, за эту кампанию он сжег пятьдесят украинских городов и тысячу церквей, уничтожил сто тысяч человек, а еще триста тысяч оказались на невольничьих рынках Крыма. Только в январе 1655 года Хмельницкий выступил против польской армии и в четырехдневном сражении при Ахматове остановил ее дальнейшее продвижение.
Вскрылась на Украине и первая измена. Царю стало известно о тайных сношениях митрополита Киевского Сильвестра с польским королем, которого он призывал на войну с «московскими людьми».
Не все было благополучно и в отношениях между белорусскими казаками полковника Поклонского и украинским казачьим отрядом полковника Золотаренко, не поделивших Могилев и Могилевский уезд. Что один, что другой не были излишне обременены моральными сдерживающими факторами в отношениях с местным населением. Оба они не стеснялись грабить мирных граждан, отбирать у них урожай, домашнюю скотину, фураж и скудные сбережения. В удовлетворении своих материальных потребностей они не останавливались и перед насильственным захватом провианта, предназначенного для московских ратей. Дело дошло до того, что царь был вынужден послать для защиты крестьян и мещан от казацкого беспредела «воеводу Алферьева, да солдатского строю полковника с полком, да двух стрелецких голов с приказами» с тремястами пудами пороха и свинца.
Уходящий 1654 год для Московского царства был ознаменован страшным бедствием. Как бы в наказание за нарушение договора о «вечном мире» с Польшей, на внутренние великорусские области обрушилась моровая язва, унесшая множество жизней. Вот только несколько цифр, свидетельствующих о размерах трагедии: на три кремлевских дворца осталось лишь 15 дворовых людей; «в Чудове монастыре умерло 182 монаха, живых осталось 26; в Вознесенском умерло 90 монахинь, осталось 38. На боярских дворах: у Бориса Морозова умерло 343 человека, осталось 19; у князя Алексея Никитича Трубецкого умерло 270, осталось 8; у князя Одоевского умерло 295, осталось 15; у Стрешнева изо всей дворни остался в живых один мальчик…» И так — по всем городам и селам Подмосковья и Верхней Волги, потерявшим от 20 до 80 процентов своего населения.
Следующий, 1655 год был ознаменован некоторым охлаждением белорусского населения по отношению к московским властям из-за того, что некоторые из русских ратных людей несли не освобождение от польского гнета, а еще большие страдания, грабя, насилуя и убивая мирных жителей. Были зафиксированы неединичные случаи перехода на сторону поляков и литовцев в Любовицах, Орше, Смоленске, Озерищах, Могилеве. Дабы предотвратить такое поведение со стороны своих войск, Алексей Михайлович вынужден был ввести смертную казнь для мародеров и насильников. И все-таки на этом театре военных действий русским продолжал сопутствовать успех. Несмотря на предательство белорусского полковника Поклонского, литовскому гетману Радзивиллу так и не удалось захватить Могилев. Вступление же шведов в войну положило конец организованному сопротивлению польских войск. 3 июля боярин Федор Хворостинин взял Минск, а 31 июля князь Яков Черкасский и полковник Золотаренко овладели столицей Литвы Вильно. Весть о взятии Ковно пришла царю 9 августа, а о взятии Гродно — 29 августа.
Еще больших успехов в войне против Яна-Казимира добился шведский король Карл Х, вступивший в июне 1655 года на территорию Польско-Литовского государства с 40-тысячной армией. Ему даже воевать не пришлось. Польская аристократия, а за ней и дворянское ополчение 29 июля признали Карла Х своим королем; через две недели ему, с подачи всесильных литовских магнатов Януша и Богуслава Радзивиллов, присягнула и вся Литва. За четыре месяца почти вся Речь Посполитая оказалась под властью неприятеля. Польскому королю ничего другого не оставалось делать, как бежать из страны. Между Карлом Х, Хмельницким и трансильванским князем Георгием Ракоци завязалась оживленная переписка, имеющая своей целью создание военного союза и раздел Польши, что в случае успеха могло принести большую выгоду Украине.
Но не все было в их руках. Не знавшие удержу в грабежах шведы разбудили патриотические чувства поляков. Начали создаваться партизанские отряды, появились очаги сопротивления, а после нескольких удачных операций против оккупантов в Польше разгорелась самая настоящая народная война. Чтобы закрепить успех и заручиться еще большей поддержкой населения, Ян-Казимир в апреле 1656 года открыто признал, что все бедствия Польши являются наказанием за «слезы и кривды крестьянам». Он клятвенно пообещал улучшить их положение, обуздать своеволие шляхты и усилить исполнительную власть короля. И хотя эти обещания так и остались обещаниями, тем не менее изгнание шведов из страны продолжалось, благо что Россия к этому времени под воздействием «цесарских» послов Аллегретти и Лорбаха, находившихся в Москве с октября 1655 года, приостановила свои наступательные действия. С одной стороны, Алексея Михайловича напугала возможность чрезмерного усиления шведов на Балтийском побережье, а с другой — его привлекала идея самому стать королем Польши. Последнее, надо полагать, явилось основной причиной прекращения военных действий и начала переговоров.
А 17 мая Россия, которая считала крайне важным для себя иметь свободный выход в Балтийское море, не без подстрекательства извне, совершила роковую ошибку, объявив войну Швеции. Сначала русским войскам сопутствовала удача: с легкостью были взяты Динабург и Кокенгаузен (старинный русский город Кукейнос), но Ригу, которую осаждал с августа по октябрь 1656 года сам царь, покорить так и не удалось. Шведский флот, господствовавший на море, снабжал осажденных всем необходимым, в том числе и живой силой.
Переговоры с Польшей, проходившие в окрестностях Вильно, закончились 24 октября подписанием соглашения, по которому царь Алексей при условии, что он продолжит войну со Швецией, признавался наследником бездетного Яна-Казимира на польском престоле и оставлял за собой Вильно с Белоруссией. Украина в договоре не упоминалась. Но нужно знать польские порядки: договор этот до утверждения сеймом оставался никчемной бумажкой, что последующие события и подтвердили. Богдан Хмельницкий, выпускник иезуитской школы и сам немного иезуит, лучше «москалей» знал вероломные принципы внутренней и внешней политики польского общества, а потому преподнес казацкой старшине подписанный договор, как удар в спину украинскому народу, который якобы должен был вновь подпасть под власть панов и «жидов».
Проводя свою политику, гетман вступил в соглашение с трансильванским князем Ракоци, которого шведский король согласился признать королем Польши, и в пику царю Алексею Михайловичу выделил ему для участия в походе на Варшаву 12-тысячный казачий корпус. В марте 1657 года их силы соединились под Львовом, жители которого отказались сдаваться. Тогда, опустошив окрестности города, объединенные войска продолжили свое движение в сторону Кракова, который, в отличие от Львова, признал над собой власть Ракоци, а размещавшийся там шведский гарнизон покинул его предместья. В апреле разноплеменная армия трансильванского князя и казачий корпус объединились со шведскими полками. Их целью была Варшава. 9 июня столица Польши капитулировала, но, несмотря на это, она была полностью разграблена победителями.
Тут в события вмешалась Дания. Не желая чрезмерного усиления Швеции и выполняя союзнический договор с Яном-Казимиром, она вступила в войну на стороне польского короля. В этих условиях Карл Х вынужден был выбирать театр военных действий: Польша или Дания. Он выбрал Данию и начал выводить туда войска. Ракоци же, оказавшемуся в окружении многочисленных польских отрядов, пришлось спешно отступать через Волынь в Подолию в надежде пополнить там свою армию. Но получилось все наоборот. Казаки, прознавшие, что поход в Польшу был совершен втайне от царя, взбунтовались и в начале июля разошлись по домам, а Ракоци, окруженному со всех сторон, ничего другого не оставалось, как капитулировать: это случилось 23 июля. Под условие беспрепятственного выхода из окружения ему пришлось отказаться от притязаний на польский престол, возвратить награбленную добычу и выплатить один миллион злотых в счет возмещения причиненного ущерба.
Накануне неудача постигла и Юрия Хмельницкого, направлявшегося во главе 20-тысячного экспедиционного корпуса на выручку трансильванскому князю. Рядовые казаки отказались воевать за чуждые им интересы и подняли восстание. 22 июля половина их ополчения разошлась по домам. Но об этом Богдану Хмельницкому, изнуренному болезнью и царским дознанием обстоятельств несанкционированного участия запорожцев в польских событиях, вряд ли суждено было узнать — он скончался 27 июля 1657 года.
Незадолго до этого гетману, имевшему всенародную поддержку, удалось утвердить на раде в качестве своего преемника болезненного шестнадцатилетнего сына Юрия. Но смерть народного вождя изменила соотношение сил в казацкой среде, где против господствовавшего в народе мнения о нерушимости уз русско-украинского союза все явственнее стали звучать голоса украинской старшины, предпочитавшей польские шляхетские вольности самодержавной централизованной политике Москвы. Выразителем этих чаяний стал Иван Выговский, сделавший при Богдане головокружительную карьеру от военнопленного до войскового писаря, главы исполнительной власти казацкого государства. Сначала он стал регентом при несовершеннолетнем Юрии, а спустя полтора месяца, вопреки воле простых казаков, — и самовластным гетманом. Украина раскололась на две части: одна из них — старшина и богатое казачество, поддерживавшие пропольскую политику Выговского; другая — рядовое казачество, ратовавшее за союз с Москвой и объединившееся вокруг Запорожского коша и его атамана Якова Барабаша.
Придя к власти, Выговский отблагодарил своих единомышленников доходными должностями и поместьями, а колеблющееся духовенство задобрил щедрыми земельными наделами в пользу монастырей. Но это кардинально не повлияло на расстановку сил на Украине: военная и политическая несостоятельность гетмана была очевидна. В этой связи он пошел на откровенно непопулярные меры. И первая из них явилась в виде восстановления союзнических отношений с Крымским ханством, вторая же представляла собой неуклюжую попытку дискредитировать украинскую политику московского правительства. В обращение был запущен фальшивый документ, в котором будущее Украины рисовалось в крайне темных красках. Людей запугивали тем, что русские гарнизоны будут расквартированы во всех городах Лево-и Правобережной Украины; что число реестровых казаков уменьшится до десяти тысяч, а остальные казаки будут служить в драгунских частях Русской армии; что украинские священнослужители будут перемещены в Московию, а вместо них пришлют малограмотных русских попов; что украинским крестьянам запретят носить шерстяные кафтаны и кожаные башмаки, а несогласных с новыми порядками сошлют в Московию и Сибирь. В ход пускались и другие «страшилки».
Но до поры до времени Выговскому было выгодно сохранять внешнюю лояльность по отношению к Алексею Михайловичу, дабы получить от него официальное признание гетманских полномочий, с одной стороны, а с другой — выторговать максимально выгодные условия сдачи Украины под покровительство польского короля. Более того, он хотел втянуть в вооруженную борьбу со своими противниками, но сторонниками Москвы — кошевым атаманом Барабашем и полтавским полковником Пушкарем — русские войска, для того чтобы окончательно подорвать доверие украинцев к московскому царю.
Двурушническая политика Выговского просматривается из элементарного хронологического сопоставления его внешнеполитических шагов. Как только очередная Переяславская рада и представители московского царя подтвердили его гетманские полномочия и новоиспеченный легитимный гетман принес присягу царю в феврале 1658 года, он подписал союзнический договор с крымским ханом 1 марта и отправил секретную дипломатическую миссию в Польшу для согласования совместных действий против «москалей» и запорожских казаков.
Первый удар был нанесен в мае 1658 года по Полтаве. Реестровые казаки Выговского при поддержке европейских наемников и крымских татар одержали победу над своими противниками. В ходе сражения Пушкарь погиб. Все мужское население, взятое в плен, было перебито, а женщины и дети угнаны в полон, город разграблен и сожжен.
Второй удар был направлен против другого оппонента — кошевого атамана Барабаша. По настоянию Выговского, продолжавшего разыгрывать из себя верноподданного, Алексей Михайлович приказал арестовать атамана и под конвоем двухсот московских драгун и донских казаков отправить в Киев в распоряжение московского воеводы Шереметева, для того чтобы тот проследил за беспристрастностью казацкого войскового трибунала. Но гетман решил обойтись без московского участия. 24 августа преданные ему казаки напали на конвой, захватили Барабаша, а послушный суд без промедления осудил «мятежника» к смертной казни.
Этот день — 24 августа — можно считать датой, когда украинской правящей верхушкой были сброшены лицемерные маски преданности московскому царю и верности союзу Украины с Россией. Брату гетмана, Даниле Выговскому, была поручена крупномасштабная операция против киевского гарнизона московских войск. В его распоряжении находилось несколько тысяч казаков и отряд крымских татар. Однако заранее предупрежденный Шереметев успел подготовиться к обороне и во встречном бою нанести им поражение. Нападавшие были рассеяны, Данила бежал, а пленные показали, что в бой их вели насильно.
Но окончательную точку в своем отступничестве Выговский поставил подписанием Гадячского соглашения от 6 сентября 1658 года, согласно которому Украина (Киевское, Браславское, Черниговское воеводства) присоединилась к польско-литовскому союзу. За пожизненное гетманство и автокефальность{9} Украинской православной церкви, за дворянские звания (по сто человек на каждый казачий полк) и связанные с ними привилегии, за богатые поместья и щедрые земельные пожалования партия Выговского отказывала своему народу (черни) жить в одном государстве с русскими братьями. Более того, она допускала возвращение на украинские земли польских панов, соглашалась на сокращение численности реестрового казачества и присутствие в своих городах десятитысячного корпуса польских войск. Управление Украиной, ранее осуществлявшееся всенародными собраниями (рада, казачий круг), заменялось шляхетским управлением посредством канцлеров, сенаторов, маршалов, казначеев и других чиновников, назначаемых из числа украинской и польской шляхты.
Но Выговскому было далеко до Хмельницкого. Народ за ним не пошел. Хуже того, против него поднялась практически вся Восточная Украина, на помощь которой царь Алексей Михайлович отправил князя Григория Ромодановского с двадцатью тысячами московского войска. Украина разделилась на две части — Левобережную и Правобережную. На левом берегу договор о воссоединении Украины с Россией отстаивали киевский воевода В. Б. Шереметев, князь Г. Г. Ромодановский и наказной (временный) гетман Левобережья Иван Беспалый. На правом берегу власть принадлежала полякам и Выговскому с его единомышленниками по Гадячскому соглашению.
Вероятность новой войны Московии с Польшей, забывшей по обыкновению о своем обещании избрать царя Алексея в качестве наследника польского престола, становилась абсолютной реальностью, в связи с чем царским дипломатам, чтобы сосредоточиться на предстоящей войне, пришлось, отказавшись от всех прибалтийских приобретений, заключить 20 декабря 1658 года трехлетнее перемирие со Швецией.
А тем временем бои с переменным успехом уже шли под Минском и Вильно, под Полтавой и Лохвицей. Но шок в московских и промосковских кругах вызвало поражение под Конотопом сильной русской армии князя А. Н. Трубецкого, на протяжении двух месяцев безуспешно осаждавшей город. Казаки Выговского, ногаи, крымские и аккерманские татары, пришедшие на выручку осажденным, заманили русскую конницу в западню и полностью ее уничтожили 28 июня 1659 года. Были убиты и пять тысяч человек, взятые в плен в ходе этого сражения. Впрочем, крымский хан, не желавший начинать большую войну с Москвой, изрядно пограбив украинские села и попленив их жителей, преспокойно удалился за Перекоп.
Не пошла впрок эта победа и гетману, количество его противников увеличивалось с каждым днем, и не только на левом берегу. Дело дошло до того, что на раде в Германовке ему пришлось сложить с себя полномочия и спасаться бегством. В результате гетманом Правобережья 11 сентября вновь был избран недееспособный Юрий Хмельницкий, за спиной которого стояла группа старшин во главе с Петром Дорошенко, относительно лояльно относившаяся к московскому царю.
Князю Трубецкому удалось заманить Хмельницкого к себе в Переяславль и убедить его в целесообразности созыва рады, с тем чтобы избрать единого гетмана. Но если сторонники Хмельницкого на выборах гетмана «всея» Украины победили, то их предложения об ограничении полномочий Москвы на территории Украины не прошли. Напротив, по дополнительным к Переяславской раде 1654 года статьям они даже увеличивались за счет размещения новых гарнизонов московских войск по обеим сторонам Днепра и ограничения прав старшин в пользу преданных царю рядовых казаков.
Само собой разумеется, что установившееся положение вряд ли можно считать стабильным и надежным: между «чернью» и старшинами, между пропольским Правобережьем и промосковским Левобережьем наметились такие противоречия, что их разрешение растянулось на века. Но этот статус-кво какое-то время продержался, по крайней мере до тех пор, пока не понадобилось кровью доказать свою приверженность союзу русских народов. В августе 1660 года Шереметев и Хмельницкий с целью упрочения своего положения на Правобережье двумя отдельными колоннами двинулись по направлению ко Львову. Предстоящую операцию не удалось сохранить в тайне, и поляки, поддерживаемые 60-тысячным татарским войском, воспользовались этой разобщенностью: в районе Чуднова на Волыни они блокировали корпус Шереметева. Оставшийся безучастным к судьбам Русской армии Хмельницкий вскоре вступил в переговоры с поляками и 9 октября подписал договор о возвращении Украины под юрисдикцию польского короля, но уже без прав автономии, обещанных Гадячским соглашением.
Через две недели, находясь в безвыходном положении, русские войска капитулировали. Поляки, оставляя у себя в качестве заложников плененное войско, потребовали вывода всех московских ратных людей из Украины. Однако царские воеводы не считали войну проигранной и поэтому отказались выполнять эти требования. Естественно, что в этом случае все русские воеводы, драгуны и стрельцы автоматически перешли в категорию военнопленных. Самого Шереметева ждали двадцать лет татарской неволи.
Но поляки и татары не воспользовались и этой победой. Ожидавшееся вторжение в пределы Московского царства не состоялось. Произошло лишь фактическое закрепление размежевания Украины. Корсунская рада в ноябре 1660 года подтвердила гетманские полномочия Юрия Хмельницкого, тут же присягнувшего на верность польскому королю, что не понравилось запорожцам и левобережным казакам, оставшимся преданными московскому царю. Они отказались признавать власть Хмельницкого и избрали собственного, наказного, гетмана — Акима Сомко. В последующие пять-шесть лет ни одна из противоборствующих сторон не смогла добиться ощутимого перевеса в свою пользу. Локальные победы чередовались с поражениями. Поражения, в свою очередь, вели к смене гетманов со свойственной запорожцам категоричностью. Хмельницкий, сложив власть, в январе 1663 года ушел в монастырь, а Сомко, проиграв гетманские выборы, был обвинен в измене и казнен в июне 1663 года. Их преемники — Павел Тетеря и Иван Брюховецкий — продолжили политику своих предшественников с тем же результатом: сегодня один добился локального успеха, завтра — другой.
Нельзя сказать, что московское правление Восточной Украиной было абсолютным благом для ее жителей. Нет, там было все: и самоуправство воевод, и мародерство со стороны русских солдат, и злоупотребления при сборе податей и налогов, и масса других «непоняток». Были даже вооруженные восстания против московских порядков, но такого неприятия чужого господства, как в Западной Украине, нужно было еще поискать. Мало того что польские паны и их еврейские арендаторы восстанавливали прежние грабительские порядки, так они еще и с татарами за их участие в войне с московскими полками расплачивались живым товаром. «Как Мамай прошел» — такова была картина украинских городов и сел, через которые проходили доблестные союзнички.
Против поляков поднимались не просто села и местечки, а целые области готовы были присоединиться хоть к Москве, хоть к Турции. Так получилось, но принципиальный противник польского господства Петр Дорошенко, ставший лидером правобережного казачества, быстрее нашел общий язык с турками и крымскими татарами, чем с московскими боярами и воеводами. Его не особенно тревожило то обстоятельство, что сделанный им выбор союзника может отрицательно отразиться на судьбе украинского земледельца. Для него главным было то, чтобы этот союзник помог ему изгнать поляков с украинской земли.
Так Западная Украина перешла под юрисдикцию Турции, а Дорошенко стал вассалом турецкого султана. Казаки и крымские татары повсеместно одерживали победы над польскими гарнизонами, попутно разоряя украинские поселения и пополняя невольничьи рынки Крыма и Турции десятками тысяч славянских полоняников. Угроза турецкого нашествия нависла не только над Польшей, но и над Россией.
В этих условиях, по мнению большинства историков, было принято абсолютно правильное решение о прекращении военных действий между русскими и польскими армиями, чтобы не дать возможности турецко-крымскому альянсу восторжествовать над славянскими народами. Именно эта опасность, а также чрезмерное истощение воюющих сторон стали побудительными причинами заключения Андрусовского договора в январе 1667 года. Можно по-разному относиться к этому договору: можно обвинять правительство Алексея Михайловича в том, что оно не оставило за собой Западную Украину и Белоруссию, а можно и поблагодарить его за то, что оно возвратило в состав России Смоленскую землю и передвинуло западную границу царства на реку Днепр, удержало за собой Киев и сохранило влияние на Запорожскую Сечь, а главное — на некоторое время приостановило продвижение турецкой экспансии на христианские страны.
А дальше события на Украине развивались по совершенно непредсказуемому сценарию: гетман Левобережной Украины Брюховецкий восстал против действий царского правительства, направившего на Украину переписчиков населения и сборщиков податей, изгнал из Чернигова московский гарнизон и призвал донских казаков поддержать Степана Разина, наступавшего вглубь России. Его отношения с гетманом Правобережья Петром Дорошенко грозили перерасти в открытую войну, но казаки той и другой стороны воевать отказались и в июне 1668 года созвали «черную раду», в ходе которой Брюховецкого убили его же собственные люди. Та же участь ожидала и Дорошенко, но он вовремя скрылся, а через несколько дней та же рада утвердила его гетманом «обеих берегов».
Оставив на левом берегу в качестве своего заместителя наказного гетмана Демьяна Многогрешного, Дорошенко ушел за Днепр. А тем временем военная инициатива вновь перешла в руки московского воеводы Ромодановского, и Многогрешный присягнул царю в марте 1669 года. Однако условия восстановления московского протектората над Украиной не устраивали честолюбивого и несдержанного гетмана, в связи с чем он решился реанимировать свои отношения с гетманом Правобережья. Интрига вскрылась, Многогрешного арестовали и доставили в Москву, где его обвинили в измене и приговорили к смертной казни, милостиво замененной Алексеем Михайловичем ссылкой в Сибирь.
В июне 1672 года новым гетманом стал Иван Самойлович, искренний сторонник воссоединения Украины с Россией, до конца остававшийся верным принесенной присяге. А на правом берегу раздоры продолжались: Дорошенко, желая установить свою власть над всей Украиной, с южными областями Западной Украины пошел в подданство к турецкому султану, в то время как области, прилегавшие к Польше и предпочитавшие ее протекторат, избрали своим гетманом Ханенко.
Весной 1672 года под видом борьбы за независимость Украины от польского гнета началась война между Турцией и Польшей. На стороне первой были крымские татары и казаки Дорошенко, на стороне другой — казаки Ханенко. Турки доминировали, они захватили мощнейшую крепость Каменец-Подольского и стали обустраиваться там со всей основательностью, переделывая в мечети христианские храмы. Но больше всего страдал от такой «борьбы за свободу» сам украинский народ, обобранный донельзя теми и другими доброхотами. Начались массовые переселения украинского населения с правого берега на левый.
Удрученный таким развитием событий Ханенко, к тому времени утративший всякий авторитет, в марте 1674 года сложил с себя гетманство. Но Дорошенко еще продолжал тешить себя мыслью о перспективах «незалежности» под покровительством турецкого султана и в конце концов оказался пленником Москвы. Как ни странно, он избежал суда, более того, он стал вначале царским советником по турецким и крымским делам, а с 1679 года — его наместником в Вятке.
А тем временем Польско-турецкая война при посредничестве Людовика XIV закончилась разделом Правобережной Украины между противоборствующими сторонами. Напряженность же между султаном и царем сохранялась. Турки не теряли надежд на новые территориальные приобретения за счет Левобережной Украины и юга Московского царства. Но воевать они хотели чужими руками, для этого правителем турецкой части Украины султан назначил своего пленника монаха Гедеона, которого патриарх Константинопольский освободил от монашеского обета, и тот вновь стал Юрием Хмельницким, причем не просто гетманом, но и «князем Сарматии». Четыре года бесславного правления сына украинского героя, запомнившиеся его патологической жестокостью, полным разорением междуречья Буга и Днепра (Чигирин, Корсунь, Канев, Черкассы), а также опустошительными рейдами на левый берег, окончились Бахчисарайским перемирием, по которому Москва вслед за Варшавой вынуждена была признать права Турции на Подолию. А проклинаемый народом Юрий Хмельницкий как уже ненужная фигура в состоявшейся игре был отозван в Константинополь, где он вскоре умер, и кажется, не своей смертью.
Глава IV
Алексей Михайлович. Никон. Степан Разин
Как мы смогли убедиться, война с Польшей за воссоединение Малой и Великой России украинским населением воспринималась далеко не однозначно. Если крестьяне и рядовые казаки, оставшиеся верными православию, были горячими сторонниками этого объединения, то мещане, духовенство, казачья старшина и магнаты-землевладельцы русского происхождения видели в этом процессе угрозу своему былому благополучию. Одних удерживало желание сохранить за собой широкие шляхетские вольности республиканской Польши; других пугала перспектива лишиться самостоятельности и оказаться в подчинении менее образованной церковной иерархии; третьих прельщали вполне демократические принципы магдебургского права, утвердившегося в городах; а четвертых отвращало их собственное вероотступничество и переход кого в латинство, кого в лютеранство. За долгие годы сожительства с поляками все эти колеблющиеся «бывшие русские» многое переняли от польской шляхты, в том числе расчетливость в выборе союзников, необязательность соблюдения договоренностей, вероломность и стремление «загребать жар чужими руками». Поэтому осторожность Алексея Михайловича при решении вопроса: брать или не брать Малороссию под «свою высокую руку», начинать или не начинать из-за нее войну с Польшей? — была вполне оправданной. Более того, если с военной точки зрения Москва худо-бедно еще могла соперничать со своими потенциальными противниками, то экономически она не была готова к широкомасштабной войне, грозящей растянуться на долгие годы.
Чтобы добыть эти поистине колоссальные средства на ведение войны, царю пришлось пойти на откровенно непопулярные меры, которые вызвали такие разрушительные последствия внутри страны, что они вполне могли соизмеряться с последствиями от иностранного нашествия. Мы уже говорили о первоначальной реакции крестьян на их окончательное закрепощение Соборным уложением 1649 года, а также о результатах экономических реформ Морозова; настало время назвать и другие нововведения с их «замечательными» результатами.
Первое, чем озаботилось царское правительство, было повсеместное ужесточение налогового бремени на все слои населения. Мало того что были предъявлены ко взысканию все недоимки прежних лет, — вводились новые налоги и повинности как в натуральном, так и в денежном выражении. Поселян обязывали поставлять ратным людям продовольствие (сухари, масло, толокно), а промышленников и торговцев обложили сначала десятой, а потом и пятой деньгой. Неплательщиков «ставили на правеж», лишая их последних средств к существованию, отчего неслыханно увеличивалось число беглых крестьян, пополнявших собой разбойничьи шайки и ватаги «воровских казаков».
Желая получить как можно больше денег для ведения войны, царское правительство в 1658 году пошло на небывалый эксперимент. Оно начало постепенно изымать из оборота серебряную монету, направляя ее для внешней торговли или используя в качестве резерва, а для расчета внутри страны наладило выпуск медных денег. Нововведение сопровождалось грозным распоряжением принимать медную монету наравне с серебряной и запретом повышать цены на товары. Однако простота изготовления новых денег и относительная дешевизна материала вызвали рост как фальшивомонетничества, так и злоупотреблений со стороны голов и целовальников на царских монетных дворах. Начался выпуск неучтенной и поддельной монеты. Имеется информация, что только в Москве таких денег было выпущено более чем на 600 тысяч рублей. Это, естественно, привело к обесцениванию новых денег и повышению цен на товары, что ударило по благосостоянию практически всех слоев общества, за исключением разве что тех, кто сумел обратить денежную реформу в источник своего обогащения. Медный бунт в июле 1662 года, а за ним и жестокая расправа с его участниками стали закономерным следствием такой политики властей. Но еще целый год медные деньги были в обороте, пока их ценовое соотношение к серебру не достигло пятнадцать к одному.
Но денег на войну за Украину все равно катастрофически не хватало. Пришлось отменять винную монополию, введенную после «кабацких бунтов» 1648 года. Уже в 1663 году возвращаются откупа на производство и продажу «русского вина». Из Тайного приказа, отвечающего за сбор «пьяных денег», полетели указания: «Сбору против прежнего учинить больше и следить, чтобы порухи царской казне в том не было». И опять Московское царство погрузилось в сивушный дурман.
Все это, не говоря уже о самой войне, отвлекавшей от производительного труда сотни тысяч работоспособных мужчин, как бы исподволь готовило одно из крупнейших в нашей истории внутренних потрясений. Народ исстрадался до такого состояния, что нужна была только спичка, чтобы разгорелся пожар. И эта «спичка» явилась в лице Степана Разина, опосредованно ставшего самой дорогой платой за воссоединение Украины с Россией.
Ну а кто и каким был этот Степан Разин? Г. В. Вернадский утверждает, что он был выходцем из «домовитой» казачьей семьи, деятельным, бесстрашным, могучего телосложения и необузданного авантюрного нрава. Народная молва приписывала ему ведовство, благодаря которому он располагал к себе людей, добивался успеха в своих набегах, обходил засады и уходил от смертельной опасности. Он занимал видное положение в старшине Донской армии, выполняя дипломатические и военные миссии: в 1660 году мы видим Разина в числе московско-донского посольства на переговорах с калмыками; в следующем году он уже член делегации Донской армии в Москве и участник паломничества в Соловецкий монастырь; в 1663 году он командует отрядом донских казаков, который вместе с калмыками и запорожцами ведет боевые действия против крымских татар.
Но наступает роковой 1665 год. В том году в составе войска князя Юрия Долгорукова, действовавшего против поляков, находился отряд донских казаков под предводительством одного из братьев Степана Разина. Утомившийся от похода казачий атаман посчитал, что его участие в кампании является его личным делом и что оно не связано ни с какими обязательствами перед московским правительством, а поэтому он посчитал себя вправе увести своих казаков на Дон, не получив на то разрешения царского воеводы. Такое поведение военачальника во время похода почти всегда расценивалось как предательство, а посему Долгоруков приказал донцов догнать, возвратить в боевые порядки, а самоуправного атамана казнить.
По всей видимости, этот факт и предопределил все дальнейшее поведение Степана Разина, решившего, что его служба царю с этого момента закончилась, и он начал собирать вокруг себя всех недовольных московскими порядками и политикой казацкой старшины Донской армии.
Начало его активных действий, а проще — бунта, относится к весне 1667 года, когда он во главе двухтысячной ватаги «любителей зипуна»{10} в районе Камышина напал на караван речных судов, следовавших из Нижнего Новгорода в Астрахань. Добычей Разина стали несколько десятков речных судов с хлебом и купеческими товарами, корабельщики и стрельцы, перешедшие на его сторону, а также арестанты, направлявшиеся в ссылку. Жертв было немного: стрелецкий начальник, приказчик при судах да несколько их ближайших помощников.
Желающих уйти не принуждали и не наказывали. Отягощенные добычей казаки спустились вниз по Волге. Затем они вдоль северного берега Каспийского моря дошли до устья реки Яик, поднялись вверх по ее течению и, не встречая сопротивления, овладели Яицким городком. Только здесь стрельцов, пожелавших вернуться в Астрахань, Разин не пожалел. Все они были уничтожены.
Но даже после таких дерзких акций он не решился на открытое антигосударственное выступление. Его увещевали и из Москвы, и с Дона, но он, пребывая в своеобразном кураже еще не битого предводителя разбойничьей орды, обещал раскаяться, но… потом. Во время зимовки 1667/68 года в Яицком городке Разина обхаживали и крымские татары, и взбунтовавшийся против Москвы гетман Левобережной Украины Брюховецкий, но он таки решил, не связывая себя никакими обязательствами, сначала хорошо погулять в свое удовольствие.
Весной 1668 года Степан Разин начал пиратский набег на западное побережье Каспийского моря. Достигнув города Решта, он вступил в притворные переговоры об условиях перехода казаков на службу персидскому шаху, но жители города, догадавшиеся об истинных планах казаков, напали на них и перебили около четырехсот человек. В отместку Разин захватил другой персидский город, Ферахабад, где и перезимовал. С наступлением тепла разинцы «огнем и мечом» прошлись по туркменским городам восточного побережья, после чего обосновались на Свином острове, южнее Баку. Здесь их и атаковал шахский флот, однако победа в морском сражении осталось за казаками. Более того, в плену оказались сын и дочь персидского адмирала.
После семнадцатимесячного «фартового» рейда Степан Разин посчитал, что он достаточно «нагулялся» и что пришло время, повинившись, возвращаться на царскую службу. В августе 1669 года астраханский воевода И. С. Прозоровский уже принимал от донских казаков захваченные ими морские суда, пушки, персидские военные знамена, пленных. Лишь свою «персияночку» атаман не отдал на выкуп, утопив ее в Волге по своей прихоти. Десять дней, завоевывая сердца посадских людей, бражничал Разин со своими казаками в Астрахани, олицетворяя собой удачливых и щедрых богатырей с широкой русской душой. И, наблюдая восторженное отношение к себе, он, видимо, уже тогда решил, что для него больше не существует ни светских, ни духовных авторитетов, что он сам себе «и Бог, и царь, и воинский начальник». Подтверждением тому служили его многочисленные неординарные поступки. Так, он жестоко расправился с царицынским воеводой только за то, что тот посмел вдвое поднять цену на водку во время пребывания его воинства в городе. А как относиться к учреждению в Кагальнике своего особого «голутвенного» казацкого войска? Как расценивать убийство царского гонца и разгон в Черкасске правительства Войска Донского весной следующего года? И чего стоило демонстративное нарушение церковного поста?
В недавние времена Стеньку Разина — безбожника, пьяницу, разбойника и пирата — пытались представить этаким идейным борцом за интересы простых людей, крестьянским вождем, защитником униженных и угнетенных. Даже улицы в центре столицы называли его именем. А таким ли он был на самом деле? Но чего у него не отнимешь, так это умения использовать в собственых интересах внутренние трудности Московского царства, вызванные вот уже семь лет не прекращавшейся войной то с поляками и шведами, то с турками и татарами — войной, требующей напряжения всех сил государства, ослабленного к тому же недавним моровым поветрием.
А кто мобилизовывал эти силы и ресурсы? Кто собирал налоги? Кто возвращал беглых? Кто гнал людей на войну?
Ответ лежал на поверхности — бояре, помещики, приказные, стрелецкие начальники. Вот против этих людей, выполнявших свой долг, и было направлено возмущение народа, испокон веков верующих в хорошего царя и обвинявших его слуг во всех смертных грехах. Именно царских слуг Разин сделал своей мишенью в войне, в конечном итоге заранее обреченной на поражение. Разин и разинцы убивали притеснителей народа, но что они давали взамен правительственной администрации, правительственных мер? Казацкое устройство, воинские поселения, разделение жителей на десятки, сотни с их есаулами и атаманами. С одной лишь целью — грабить тех, кто материально богаче и физически слабее. Но это ведь не прогресс, а самый настоящий возврат к временам Чингисхана.
Тем не менее примитивные лозунги Стеньки Разина срабатывали — люди стекались к нему со всех сторон, сдавали города, шли в бой и на плаху. Весной 1670 года он рассылает своих послов-агитаторов в северные города Московского царства и к запорожским казакам с призывом подниматься против московских бояр, якобы держащих в неволе царя-батюшку и не позволяющих ему облагодетельствовать своих «детушек». Сам же он в это время во главе 7-тысячного отряда казаков и «гулящих людей» подошел к Царицыну. Соблазненные красивыми словами о свободе и равенстве, посадские люди сами открыли казакам городские ворота и устроили им торжественную встречу с последующей попойкой. Жертвами восставших и на этот раз стали новый воевода, Тургенев, а с ним два-три десятка преданных ему людей. Обосновавшись в Царицыне, Разин приступил к организации в нем казацкого управления, но тут ему донесли о стрелецком отряде, идущем по Волге из Нижнего Новгорода для защиты низовых городов. В устроенной Разиным засаде погибло до пятисот стрельцов. Триста человек сдались, предварительно перевязав своих начальников.
Узнав о царицынских событиях, астраханский воевода Прозоровский тут же снарядил до сорока речных судов, посадил на них три тысячи стрельцов и отправил их во главе с князем С. И. Львовым против «заворовавших» казаков. Но у Разина везде были свои «глаза и уши». Его войско, состоявшее уже из восьми — десяти тысяч человек, спешно выступило навстречу правительственным войскам, которые к моменту соприкосновения с казаками оказались полностью распропагандированными и приветствовали атамана криками: «Здравствуй, наш батюшка, смиритель всех наших лиходеев!» Из всех стрелецких начальников в живых был оставлен лишь князь Львов.
Участь Астрахани была практически решена, при том там было достаточно оружия, боеприпасов и продовольствия; что воевода имел в качестве своих помощников опытных иностранных офицеров, а на якоре стоял первый русский морской корабль «Орел» с иностранным экипажем; что гарнизон крепости был обученным и многочисленным. Но там не было одного — желания драться с казаками Степана Разина, так понравившимися посадским и стрельцам за их кратковременное прошлогоднее пребывание в городе. Хуже того, они были практически полностью на их стороне. И когда вечером 21 июня разинцы пошли на приступ, одни их сторонники внутри крепости напали на воеводу и верных ему людей, а другие — бросились открывать крепостные ворота.
На следующий день атаман, подавая пример, собственноручно казнил раненого воеводу, после чего передал в руки «черни» более четырехсот других «начальных людей». Правда, капитану «Орла» датчанину Дэвиду Бутлеру, английскому полковнику Томасу Бэйли и ряду других иностранцев, состоявших на царской службе, удалось спастись.
После массовых и показательных казней в городе начался всеобщий грабеж и всепьянейший кутеж, он сопровождался расправой над людьми, просто попавшимися под руку и чем-то не угодившими победителям. Причем казни, истязаниям и глумлению подвергались не только они, но и члены их семей. Ничто не защищало избранную жертву от самосуда и произвола: ни возраст, ни пол, ни духовное звание. Четыре недели продолжалось это «установление казацкой формы правления» в Астрахани. Наконец вся добыча была поделена, вся водка выпита.
Настал черед и других городов вкусить свободы и равноправия. И вот десятитысячное войско Степана Разина движется вверх по течению Волги. Саратов, а за ним и Самара становятся его легкой добычей. Участь воевод, дворян и приказных людей в захваченных городах предопределена — всех их ждет позорная смерть, зато посадских ожидает казацкая вольница.
Споткнулся Разин на Симбирске. И если посад его принял радушно, то внутренняя крепость, обороняемая боярином Иваном Мстиславским, держала оборону целый месяц — с 5 сентября по 3 октября. Силы защитников таяли, а у осаждавших они увеличивались с каждым днем. Еще немного — и воеводу ждала бы участь его коллег из других низовых городов, если бы к нему на выручку из Казани не подоспел князь Юрий Борятинский: во встречном упорном бою он разбил донцов и разорвал блокаду города.
Убедившись в неминуемости скорого поражения от правительственных сил, Разин бросает на произвол судьбы примкнувшие к нему мятежные отряды беглых крестьян и городской черни. Он уводит своих казаков на Дон в расчете, что ему удастся пополнить свои ряды и подготовиться к новому походу. Но его время уже кончилось. Ореол непобедимого атамана, оберегаемого какими-то тайными силами, поблек. Ни щедрые посулы, ни жестокие расправы с противниками, ни страстные призывы уже не притягивают донцов к их недавнему кумиру. Да к тому же и правительство Войска Донского не на его стороне — думает, как бы выслужиться перед Москвой, как бы изловить злодея. Обстоятельства его задержания в точности неизвестны, очевидно лишь одно — без предательства, без подкупа, без обмана не обошлось. Произошло это весной 1671 года, а 6 июня Степана Разина публично казнили в Москве.
Дорого обошлась русскому народу его любовь к выдуманным героям-освободителям, для которых борьба — всё, а цель — ничто. У Разина не было никакой программы действий, он не выдвигал ни политических, ни экономических требований — все это ему заменяли боевые кличи: «Сарынь на кичку!»{11} да «Бей начальных людей!». На словах он был за простых людей, а на поверку оказалось, что народ для него — лишь средство достижения честолюбивых целей, отработанный материал, который он с легкостью мог швырнуть за борт, столкнуть с крепостной стены, бросить на растерзание превосходящим силам противника. Он не строил, а разрушал. Даже милое его сердцу казацкое устройство стало ему неугодным, и он делал все для того, чтобы ослабить правительство Войска Донского. Он был враг любого порядка. Ему был нужен бунт, и чем масштабнее — тем лучше. Ему была мила не государственная гармония, а всеобщая анархия и море ликующих голосов, приветствующих его, «любимого», поощряющих казни государевых людей, благодарящих его за щедрое угощение и розданные «зипуны».
Нельзя сказать, что Разин стоял «за Русь Святую», потому что он был безбожником. Он не был ни за старообрядцев, ни за никониан: его агитаторы только и делали, что стравливали тех и других; не назовешь его и защитником национальных меньшинств, так как всех неказаков он считал людьми второго сорта.
Но, видно, исстрадался русский, да и нерусский, народ России от многолетней войны, бесправия и социального угнетения, голода и холода, если даже после казни «батюшки Степана Тимофеевича» продолжал бунтовать — бунтовать в таких местах, где и в глаза-то «батюшку» не видели и куда доходили только слухи да «подметные воровские письма». Все пространство между Окой и Волгой (на юг — до саратовских степей и на запад — до Рязани и Воронежа) было объято огнем. Мужики жгли помещичьи усадьбы, умерщвляя своих недавних господ с такой изощренной изобретательностью, которая проявляется только в моменты народного бунта с его вседозволенностью и безответственностью.
В жестокости мятежникам не уступали и царские воеводы. Они жгли мятежные села, захваченных бунтовщиков сажали на кол, вешали, драли крючьями, менее виновных били кнутом, клеймили и отправляли в Сибирь. Основным местом казней был Арзамас — главная стоянка князя Юрия Долгорукова. Но проявлялась и относительная гуманность. Полгода после смерти Разина в Астрахани продержалось казацкое правление, настолько жестокое, что не остановилось даже перед пыткой огнем и изуверской казнью местного митрополита Иосифа, увещевавшего казаков покориться царю Алексею Михайловичу, не говоря уже о сотнях замученных и убиенных горожан и царских слуг. Так вот, за полтора года своего варварского правления, за массовые убийства, за повальные грабежи и бесчинства, сотворенные казаками в Астрахани, головами ответили только пять наиболее одиозных личностей. Остальные бунтовщики были… приняты на царскую службу и разосланы по другим городам.
И еще раз напомним: бунт, поднятый Степаном Разиным, стоил России около сотни тысяч человеческих жизней. Дорогая плата за волюнтаристический клич: «Я пришел дать вам льготы и свободу!»
Но мы совсем забыли о нашем венценосце — об Алексее Михайловиче Тишайшем. Возвращаясь к характеристике его личности и жизнеописанию, мы, наверное, должны согласиться с тем, что портрет царя, написанный некоторыми его современниками, представляющими его безвольным, изнеженным любителем «выпить и закусить», далек от действительности и страдает очевидной предвзятостью. Да, ему не были чужды гастрономичские изыски, торжественные обеды и обрядовость всей его жизни — царь все-таки!
Также Алексей Михайлович был болезненно щепетилен во всем, что касалось его титулов. Его двор, по воспоминаниям иностранцев, был самым пышным и в то же время самым упорядоченным из христианских монархических дворов Европы. Его облачения были великолепны. Но разве это было блажью или его личной прихотью? Нет, все это делалось во имя величия самой монаршей власти как перед лицом своих подданных, так и для позиционирования московского двора перед иностранными державами, для подтверждения прав «Великих Государей Московских» на земли, которыми они владеют, и на земли, в силу разных причин временно отторгнутые от их державы. Опустить в официальном обращении к царю упоминание о том, что он, помимо царского достоинства, обладает и титулом, например великого князя Тверского или князя Смоленского, означало непризнание за ним прав на эти города и их уезды. Вот почему умаление царского титула в те времена считалось уголовно наказуемым деянием.
Но при этом никто в царстве не мог превзойти его в соблюдении постов, никто не мог упрекнуть его в пренебрежении церковным благочестием или отсутствии милосердия. Алексей Михайлович начинал день с утренней молитвы, поклонения иконе того святого, чья память праздновалась в тот день, и чтения назидательных поучений из произведений столпов церкви. Разве это не лучший способ настроить себя на благочестивый лад? В душе русского православного человека такое поведение монарха может вызывать только благожелательный отклик.
За свой добродушный внешний вид и пристрастие к сельской тиши, за незлобивость и незлопамятность, за поэтический склад своего характера царь заслужил прозвище «Тишайший», но это не тот «тихоня», каковым был Федор Иоаннович, чья скромность граничила со слабоумием. Когда нужно, он умел быть и озорным, и жестким, а если того требовали государственные интересы — то и жестоким. Он мог приказать в качестве наказания искупать в холодном пруду опоздавшего на службу придворного, мог в пылу мимолетного гнева оттаскать за бороду своего тестя. Он был обязан казнить Степана Разина, но, казнивши его, счел возможным помиловать его брата и ближайшего помощника — Фрола Разина, проявившего деятельное раскаяние.
И разве можно назвать нерешительным и бездеятельным государя, последовательно воевавшего по своей инициативе с Польшей и Швецией, Крымским ханством и Турецким султанатом, с двурушными украинскими казаками и мятежниками Степана Разина? Разве можно назвать ленивым и робким царя, лично проведшего два с половиной года в военных походах? Он не достиг поставленных целей, получив меньше того, на что рассчитывал, но он получил Восточную Украину с Киевом и Смоленск, закрепил свое влияние на Войско Донское, не говоря уже о благоприобретениях на Дальнем Востоке. И главное: в отличие от Ивана Грозного, Василия Шуйского и Михаила Федоровича, Алексей Михайлович Тишайший ничего не потерял.
Как царь и великий государь он все-таки не был идеальным. Восшествие на престол в юношеском возрасте, а также мягкость характера предопределяли его зависимость от более опытных государственных мужей и его привязанность к людям, обладающим теми качествами, которые молодой монарх не наблюдал у себя. Его увлекали целеустремленные и деятельные люди, и он какое-то время следовал в фарватере их идей, не замечая корыстных или честолюбивых устремлений своих временщиков, пока какие-то события не указывали царю на опасность следования прежним курсом — опасность, угрожающую его престижу, личной власти и государственной безопасности. Жизнь, как говорится, поправляла его, хотя и не всегда вовремя.
Сначала Алексей Михайлович всецело находился под влиянием своего воспитателя боярина Бориса Морозова, проводившего вместе со своими родственниками и свойственниками городскую и налоговую реформы, причем проводили они их так, что изрядно на этом наживались. Потом силу взяли родственники царицы — Милославские, умудрившиеся запятнать себя мздоимством в период экспериментального изготовления медных денег и борьбы с фальшивомонетничеством. Во время войны с Польшей и Швецией большим авторитетом у царя стал пользоваться пропольски настроенный посольский дьяк Афанасий Ордын-Нащокин, на совести которого разрыв дипломатических отношений и война со Швецией, охлаждение во взаимоотношениях с запорожскими казаками и территориальные уступки Польше по Андрусовскому соглашению. С женитьбой царя на Наталье Нарышкиной было связано возвышение очередного фаворита — воспитателя царицы Артамона Матвеева, женатого на шотландке из немецкой слободы Авдотье Гамильтон и воспринявшего через нее, как и его воспитанница, многие иноземные обычаи. Но самой влиятельной личностью за все время царствования Алексея Михайловича, кроме самого царя был, конечно, крестьянский сын из-под Нижнего Новгорода, прошедший путь от сельского священника до Патриарха Московского и всея Руси, — Никон.
Здесь хотелось бы сделать одно замечание. Все эти фавориты не были наделены абсолютной свободой действий, все они ходили под Богом и под царем. Пока были полезны, пока их помощь и советы были созвучны с позицией и точкой зрения самого Алексея Михайловича, они оставались одесную{12} государя, но стоило им вступить в конфликт с его мнением, стоило им завести монарха на ложный путь, как тут же их статус претерпевал серьезные изменения. Нет, их не убивали, как это бывало при Иване Грозном. В качестве меры наказания, а точнее, способа отрешения от государственных дел чаще всего применялась ссылка опального в личное имение или, в худшем случае, в монастырь.
Итак, Никон — Патриарх Московский и всея Руси. Грамотный крестьянский сын, щедро наделенный от природы как физическими, так и душевными качествами, женится в двадцатилетнем возрасте и рукополагается в иереи, получая богатый сельский приход, где довольно быстро становится заметной личностью. Вскоре молодой священник получает место в Москве. Но, прослужив в столице около десяти лет, он как бы теряется в общей массе служителей «сорока сороков». Однако не было бы счастья, да несчастье помогло. Внезапно семью священнослужителя постигает страшный удар: один за другим умирают все три его сына. Никон воспринимает несчастье как «указующий перст свыше» и одновременно с женой принимает монашеский постриг. Жена остается в одном из московских монастырей, а будущий патриарх начинает свой многолетний молитвенно-аскетический подвиг по северным монастырским скитам, доводя себя до изнеможения и появления видений.
Восемь лет спустя братия Кожеозерского монастыря, расположенного неподалеку от Каргополя, избирает ревностного монаха своим игуменом. Но еще до этого слава о Никоне-молитвеннике привлекает к монастырю паломников и высоких покровителей. Сам царь Михаил Федорович одаривает монастырь церковными книгами, деньгами, землями и рыболовными местами. Через год после восшествия Алексея Михайловича на престол, сорокаоднолетний Никон, находясь в Москве по монастырским делам, по обычаю, установившемуся в те времена, наносит визит царскому духовнику Стефану Вонифатьеву и производит на него такое впечатление, что тот считает возможным и даже необходимым представить его семнадцатилетнему царю.
Эта встреча определила всю его дальнейшую судьбу. По рекомендации Алексея он тут же избирается на вакантное место архимандрита Новоспасского монастыря, становясь постоянным собеседником и советником царственного юноши, желанным ходатаем за обиженных и угнетенных, ищущих защиты и царского милосердия. Этим он приобретает себе любовь и уважение многих москвичей. Вонифатьев вводит Никона в сформировавшийся к тому времени «кружок ревнителей благочестия» и знакомит с его будущими непримиримыми врагами — Нероновым, Аввакумом, Лазарем и другими вождями будущего раскола.
Не проходит и трех лет, как с помощью царя он делает свой очередной шаг к вершинам церковной власти — в 1649 году становится митрополитом Новгородским. И не просто митрополитом, а царским «смотрящим» за мирским управлением в подведомственной епархии. Вот где стали получать рельефные очертания его будущие реформы и честолюбивые устремления. Разделяя взгляды «ревнителей», Никон начинает произносить проповеди; отменяет в своей епархии ускоренную процедуру церковной службы, так называемое многогласие — одновременное отправление разных частей службы многими голосами, и неестественно растянутое пение; подбирает певчих с дивными голосами и вводит в церковное богослужение пение на греческом языке наряду со славянским. Чтобы расположить к себе простой народ, митрополит за казенный счет организует богадельни и устраивает в голодные годы раздачу пищи бедным. Но, как ни странно, из-за чрезмерной строгости и взыскательности, за крутой и властолюбивый нрав он не снискал любви ни у духовенства, ни у мирян.
Еще будучи митрополитом Новгородским, Никон прорабатывает вопрос об учреждении единой усыпальницы всех патриархов московских. Идея эта находит поддержку и у царя, и у Церковного собора. Местом последнего упокоения первосвятителей объявляется Успенский собор. И вот туда в торжественной обстановке из Старицы переносится гроб патриарха Иова, а из Чудова монастыря — гроб патриарха Гермогена. Однако центральным событием данного мероприятия становится перенос из Соловецкого монастыря мощей Филиппа, сопровождавшийся покаянием Алексея Михайловича за грехи «прадеда» его царя Ивана Васильевича. Замышлялось все это вовсе не для прославления святого, а с тайной целью если не возвысить власть церковную над властью светской, то хотя бы уравнять их в глазах православных христиан.
А тут подоспела и смерть патриарха Иосифа, вместо которого у царя уже была безальтернативная кандидатура Никона. Однако тот, еще сызмальства предупрежденный каким-то гадателем, что станет «великим государем над царством Российским», несмотря на то что против него уже складывалась многочисленная боярская оппозиция, начал торговаться. Дело дошло до того, что царь в присутствии всех высших чинов государства слезно и чуть ли не коленопреклоненно просил его перед мощами св. Филиппа принять патриарший сан. Никон согласился — это было в июле 1652 года, но потребовал взамен от царя, Боярской думы и «Всей Земли» клятвы, что они будут соблюдать Евангелие, каноны и законы Церкви, что будут слушаться его как пастыря и отца во всех наставлениях, касающихся церковной догмы, христианского учения и морали. Новоизбранный патриарх грозился, что если в течение трех лет царь и его подданные не докажут приверженности этой клятве, то он оставит престол.
Не упустил Никон и чисто материальную сторону своего патриаршества. Он попросил Алексея Михайловича возобновить действие грамоты, ранее выданной Филарету и по его смерти аннулированной, о неприкосновенности патриаршей области и отменить на ее территории действие некоторых статей Соборного уложения 1649 года, ограничивающих, по его мнению, его канонические права.
Получив такое согласие, Никон, еще не отделявший себя от «ревнителей», энергично приступил к исполнению своих обязанностей. При его непосредственном участии вводится монополия и ограничение продажи спиртных напитков, все некрещеные иностранцы выселяются за пределы Москвы — в так называемую Немецкую слободу на Яузе, изымаются, а затем и уничтожаются картины западных мастеров, которым москвичи поклонялись наравне с иконами.
Разногласия с недавними церковными единомышленниками начались не сразу. Искренне уверовавший в свое великое предназначение Никон очень живо воспринял идею объединения (экуменизма) православных церквей Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского и Московского патриархатов. И не просто объединения, а объединения под своим началом, поскольку все патриархи, кроме него самого, были подвластны мусульманским правителям и не были самостоятельными в принятии решений. Более того, он был единственным, кто носил титул Великого Государя и был соправителем православной державы — донора всех греческих патриархов. Его амбиции простирались уже не до «Третьего Рима», а до «Второго Иерусалима», в ознаменование чего на Истре был заложен Воскресенский монастырь, называемый также Новым Иерусалимом, главная церковь которого представляла собой копию храма Гроба Господня в Иерусалиме с пятью патриаршими тронами.
Но это была дальняя перспектива. На дворе же стоял только 1653 год, в котором решалось: брать под покровительство московского царя Малороссию или не брать? В свете своих экуменических воззрений Никон являлся активным сторонником объединения, и его слово оказалось не последним на Земском соборе 1 октября, принявшем положительное решение по этому вопросу. Воссоединение же двух православных государств само собой подразумевало и воссоединение двух православных церквей — Московской и Украинской Константинопольского патриархата. Но как объединять церкви, если за двести лет раздельного существования в их церковные книги вкрались разночтения, а обряды, церковный чин, песнопения приобрели свой национальный колорит, причем в Украинской церкви они в большей степени соответствовали греческим текстам и греческим обрядам, нежели в Московской. Поэтому изменять нужно было как раз в Москве, отставшей в своем поступательном развитии и богословской мысли.
И Никон, не посоветовавшись с «ревнителями», начал, казалось бы, с самого простого, но, на поверку вышло, с самого знакового — «со способа соединения пальцев при совершении крестного знамения». Кроме перехода с двуперстия на троеперстие, вносились также изменения в символы веры, менялось количество коленопреклонений при чтении определенных молитв и возгласов «аллилуйя» по их завершении, в церковных книгах одно слово менялось на другое, уточнялся порядок церковного богослужения. Всего таких нововведений набралось около тридцати. Дабы заручиться поддержкой восточных патриархов против ожидаемых со стороны «ревнителей» возражений, Никон по всем этим спорным вопросам направил «вопрошения» к Константинопольскому патриарху Паисию. Тот, посоветовавшись с Собором и в целом одобрив проводимые изменения, все же предостерег Никона от поспешных шагов по «приведению национального церковного порядка в соответствие с общепринятой практикой», если разница между ними не затрагивает основополагающих догматов веры. Но властолюбивый Патриарх Московский, стремившийся к установлению своей личной власти, на этой стадии своего правления отступать еще не научился, да и не хотел. А посему он продолжил свою реформаторскую деятельность, благо к тому времени ему уже удалось избавиться от возможной конкуренции со стороны его прежних единомышленников и стать единственным советником царя по вопросам веры и церкви.
Первым пострадал протопоп Логгин, арестованный по надуманному и абсурдному обвинению муромского наместника в июле 1653 года. Вступившегося за него протопопа Ивана Неронова арестовали через две недели и, обвинив в клевете на патриарха, водворили в Новоспасский монастырь. Протестовавшего против патриаршего произвола протопопа Аввакума сослали в Сибирь, а протопопа Данилу из Костромы лишили духовного сана. Следующей жертвой церковной реформы стал епископ Коломенский Павел, заявивший на церковном соборе о своем принципиальном несогласии с исправлением церковных книг и обрядов. Его ждало изгнание и заточение в небольшом монастыре Олонецкого края.
Вот после этих, пока еще точечных, репрессий как раз и состоялись обращение к Константинопольскому патриарху и уже известный нам ответ. Однако честолюбивого Никона, уверенного в своей непогрешимости, не устраивали полумеры и отсрочки исполнения задуманного им. Ему нужна была победа — победа скорая и безусловная. Нашлись и люди, поддержавшие его.
В 1655–1656 годах с помощью патриарха Антиохийского Макария и митрополитов Сербского, Никейского и Молдавского, оказавшихся в Москве, собор русских епископов после нескольких попыток утвердил-таки отлучение от церкви всех двуперстно крестящихся православных христиан, придав тем самым малозначащим разногласиям принципиальный характер и доведя церковь и все русское общество до раскола. Но странное дело, в качестве расколоучителей в историю вошел не Никон, растревоживший консервативный по природе своей русский народ, а сторонники древнеславянского благочиния, веками устоявшихся обрядов и привычных ритуалов. Хотя, по большому счету, все эти обрядовые разногласия и разночтения русских и греческих богослужебных книг можно было бы снять без излишней поспешности и с меньшими потерями. Для этого Никону нужно было проявлять не властолюбие и гордыню, а терпение и готовность к взаимопониманию, особенно в той враждебной атмосфере, которую он сам создал вокруг себя вмешательством в мирские дела и чрезмерной строгостью и требовательностью к служителям церкви. Но куда там! Разве он — Великий Государь (!) — мог снизойти до рутинной разъяснительной работы? Нет, ему нужен был результат: всё и сразу.
Но он просчитался. Дело в том, что Алексей Михайлович был уже не тем податливым семнадцатилетним юношей, из которого еще недавно можно было лепить все, что угодно. К этому времени он уже ощущал себя царем, военачальником и дипломатом, в свои неполные тридцать лет испытавшим восторг побед и горечь поражений. И как когда-то Дмитрий Донской примерно в этом же возрасте стал тяготиться опекой со стороны митрополита Алексия, так и Алексей Михайлович возревновал к своему вчерашнему «особенному другу», им же в пылу юношеской привязанности наделенному титулом Великого Государя. Царя уже не устраивала и концепция Никона, согласно которой христианское государство крепнет и процветает лишь при наличии богоугодной диады патриарха и царя, в которой патриарх ведал бы божественными аспектами человеческого общества, а царь — земными. Согласно этому учению духовное ставилось выше земного, а патриаршество — выше царствования.
Так оно на первых порах и было, но по мере возмужания царя, приобретавшего в военных походах новых советников и помощников, а также по мере «бронзовения» патриарха, наживавшего своим деспотизмом недоброжелателей и врагов, ситуация стала меняться. Она усугублялась еще и тем, что Никон и Алексею Михайловичу не очень-то уступал, обращаясь с ним как старший с младшим и не считаясь с его мнением. Так, он, с легкостью проклявший купца за представление в патриархию неправильного счета за поставленный товар, отказал царю (!) и не отлучил от церкви двух дворян, изменивших тому в Польском походе. Алексей Михайлович терпел-терпел, а потом его перестало устраивать положение послушного ученика, и он, конечно же не без подстрекательства бояр, захотел восстановить верховенство монаршей власти над всеми сферами жизни в своем царстве, в том числе и над церковной. Но, в отличие от патриарха, царь не бросался в бой сломя голову, так как был сторонником постепенного развития событий. Начал он с нелицеприятных замечаний по поводу нарушения патриархом некоторых церковных обрядов, потом он устроил ему разнос за то, что тот отказался назначить своею властью на Киевскую митрополию московского ставленника и тем самым усилить мирскую власть Москвы духовной властью Московской патриархии над вновь приобретенными верноподданными. За этим последовали мелкие, но обидные уколы патриаршего самолюбия: то его забудут пригласить на официальный прием, то обнесут за столом, то не пошлют традиционного подарка от царских щедрот.
Скандал разразился в июле 1658 года во время приезда в Москву кахетинского царя Теймураза. Патриарх не был приглашен на эту встречу. Тогда он послал своего приближенного князя Дмитрия Мещерского узнать, что происходит в Кремле. Однако того ждала неласковая встреча. Ответственный за проведение этого «саммита» окольничий Богдан Хитрово не только не допустили его в палаты, но и нанес побои. Никон потребовал наказать виновного, но Алексей Михайлович разбираться в этом конфликте не стал. Хуже того, вслед за этим инцидентом последовал отказ царя присутствовать на двух патриарших богослужениях, в которых он традиционно принимал участие, и запрет властолюбивому иерарху называть себя Великим Государем. Последнее, видимо, и должно было указать первосвятителю на истинные причины охлаждения отношений.
Трудно судить об истинных мотивах последующих действий патриарха, главное, что они не принесли ему ожидаемых им же результатов. А сделал он буквально следующее: то ли по примеру митрополита Геронтия (1473–1489), то ли подражая Ивану Грозному, он, не слагая с себя патриаршего звания, взял да и удалился в свой Новый Иерусалим, после чего наступило более чем восьмилетнее (!) церковное нестроение. К разочарованию царя, Никон, уходя из Москвы, не отказался от сана и продолжал считать себя действующим главой Русской церкви. Получилась парадоксальная ситуация: нового патриарха невозможно было избрать без участия Никона, так как могло наступить двупатриаршество, но и допускать Никона к участию в выборе преемника тоже было опасно из-за реальной угрозы появления на патриаршем престоле его двойника. Оставался последний путь — найти законные основания для отрешения патриарха от сана, чем царь и его окружение были заняты все последующие годы.
Сначала — в феврале 1660 года — была предпринята попытка доказать, что Никон по собственной инициативе покинул престол, а поэтому он уже не может считаться патриархом, принимать участие во внутрицерковных делах, в том числе и в выборе своего преемника. Созванный для этого специальный Церковный собор с участием греческих священнослужителей согласился с доводами обвинения, однако киевский монах Епифаний Славинецкий, самый известный в то время из русских ученых-богословов, представил возражения, с которыми Алексей Михайлович не мог не считаться, и отрешение не состоялось. Никон предложил свой вариант выхода из кризиса, сводившийся к неукоснительному соблюдению церковных канонов на предстоящих выборах, а также на своем личном участии в процедуре передачи высшей церковной власти. Но, как предполагают исследователи, бояре, боясь, что при личной встрече царь вновь может подпасть под влияние опального патриарха и попросит его остаться на престоле, убедили Алексея Михайловича обратиться за разрешением этой проблемы к восточным патриархам.
А пока суд да дело, на Никона было организовано массированное давление со всех сторон. Его имя перестало упоминаться во время церковных богослужений, а общение со светскими и духовными лицами резко ограничилось. Ранее приостановленные статьи Соборного уложения о Монастырском приказе заработали с новой силой, что привело к отмене ряда приказаний Никона об управлении церковными землями, вплоть до возвращения некоторых владений государству. Со стороны соседствующих с Воскресенским монастырем (Новым Иерусалимом) землевладельцев посыпались бесконечные жалобы по обвинению Никона в утаивании беглых крестьян и присвоении их земель. Для рассмотрения жалоб была создана специальная следственная комиссия во главе с князем Одоевским, которая в конечном итоге ограничила Никону свободу передвижения, заключив в келье Воскресенского монастыря. Без царя это, естественно, не обошлось.
Тем временем восточным патриархам были направлены новые «вопрошения», где в обезличенной форме излагалась московская ситуация и испрашивалось их мнение о том, как должны поступить Собор и царь с церковным иерархом, обвиняемым в оставлении своей паствы, незаконном стяжательстве, вмешательстве в мирские дела, чрезмерном честолюбии, оскорблении монарха. Всем было известно, о ком идет речь, поэтому мнения разделились. Патриархи Константинопольский (вскоре умерший Дионисий) и Иерусалимский (Нектарий) были настроены относительно миролюбиво. Они считали, что Никон был вправе защищать свои патриаршие права и протестовать против вмешательства светских властей в дела церкви, а потому предлагали царю помириться с патриархом. Иной точки зрения придерживались патриархи Александрийский (Паисий) и Антиохский (Макарий), которые в ожидании хороших подарков от царя не только признали Никона виновным во вмешательстве в государственные дела, но и согласились лично приехать в Москву на Церковный собор для участия в суде над ним. Их позиция не устроила нового Вселенского (Константинопольского) патриарха Парфения IV, и он данной ему властью объявил их отрешенными от власти, а их патриаршие престолы — вакантными, вследствие чего Паисий и Макарий на Московском соборе, по существу, представляли лишь самих себя, но никак не свои патриархии.
Собор-суд над Никоном проходил в период с 1 по 12 декабря 1666 года в царской трапезной. Допрос вели присутствовавшие на нем восточные патриархи, как мы уже знаем, с сомнительными полномочиями. По итогам дебатов, в ходе которых подсудимого всячески ограничивали, он был признан виновным в том, что, вмешиваясь в дела, находящиеся вне патриаршей юрисдикции, оскорблял царя; что по своей воле, отказавшись от сана патриарха, оставил свою паству; что основал монастыри с противозаконными названиями и называл себя «патриархом Нового Иерусалима». Кроме того, ему было поставлено в вину присвоение чужой собственности с целью обогащения своих монастырей, препятствование назначению нового патриарха в Москве, оскорбление Собора своими обличениями, жестокость по отношению к епископам в его бытность патриархом. Его лишили не только патриаршего сана, но и священства, объявив простым монахом и сослав «до кончины жизни» в Ферапонтов монастырь, «чтобы ему беспрепятственно плакаться о грехах своих». Никон переживет своего друга и гонителя. В 1676 году он за отказ отпустить грехи умершего царя будет переведен на более строгий режим содержания в Кирилло-Белозерский монастырь. Затем новый царь Федор Алексеевич, внемля просьбам доброжелателей разжалованного патриарха, разрешит ему возвратиться в Воскресенский монастырь, но туда он уже не доедет. Никон скончается 17 августа 1681 года в Ярославле, на 76-м году жизни, и будет погребен в Новом Иерусалиме по патриаршему чину.
Картина никоновского возвышения, а затем и падения вряд ли будет полной, если мы оставим за рамками повествования двух действующих лиц, сыгравших выдающуюся роль во всей этой трагедии. Давно замечено, что непосредственными участниками, если не вдохновителями, серьезных реформ внутренней и внешней политики русского государства весьма часто являются иностранцы. Мы только что видели, как два восточных патриарха осудили в угоду царю Алексею Михайловичу Патриарха Московского и всея Руси. Но не они одни принимали участие в судьбе Русской православной церкви. Были среди иностранцев куда более одиозные личности.
Например, Арсений, прибывший в Москву в свите патриарха Иерусалимского Паисия в 1649 году и оставшийся в ней для организации первой в Московском царстве греко-латинской школы. С приходом к власти Никона он принимал самое непосредственное участие в печально знаменитых исправлениях церковных книг. Выяснилось, что этот монах, получивший блестящее образование в Риме и Падуе, под давлением жизненных обстоятельств легко поддавался чужому влиянию, хотя его поступки вряд ли всегда были искренними. Так, во время своего пребывания в Италии Арсений был тайно обращен в католичество, что не помешало ему по возвращении в Константинополь принять монашеский постриг по православному обряду. Вскоре турецкие власти заподозрили его в шпионаже в пользу Венецианской республики. Находясь под арестом, он принимает ислам, подвергается обрезанию и направляется (шпионом?) на службу господарям Валахии и Молдавии, находившимся под протекторатом Османской империи. Там он и примкнул к свите Паисия, направлявшегося в Москву. Характерно, что, когда его по инициативе Паисия допросили в Москве, он, ссылаясь на безысходность своего положения, подтвердил вышеприведенную историю и был всего лишь отправлен на покаяние в Соловецкий монастырь. И вот этого нестойкого в вере человека Никон призвал в ближайшие помощники, что в глазах церковных служителей компрометировало и его самого, и проводимую им реформу.
Другой пример — из той же «оперы» и связанный с именем того же патриарха Иерусалимского Паисия. Речь идет о Паисии Лигариде, блестящем выпускнике школы Св. Афанасия в Риме, греческом униате, некогда работавшем в качестве миссионера католической конгрегации в Константинополе, но за что-то оттуда отозванном и направленном с аналогичной миссией в Валахию. Там он в 1651 году познакомился с патриархом Иерусалимским и уехал с ним в Иерусалим, где вскоре принял православие, был пострижен в монахи и возведен в митрополичий сан. Однако в свою епархию (Газы) он не поехал, а возвратился в Валахию в поисках более достойного места, так как, по отзывам современников, считался человеком обширной учености и знатоком церковных правил. Став митрополитом Православной церкви, Паисий тем не менее продолжал работать на папский престол, посылая в Рим свои донесения за соответствующее вознаграждение, что не мешало ему одновременно искать пути проникновения в Московию, привлекавшую его богатством, а может быть, и возможностью объединения церквей.
В Москве он появился в самый разгар распри патриарха с царем и, оценив ситуацию, примкнул к партии Алексея Михайловича. Именно он разработал план низложения Никона. Более того, грек стал ближайшим помощником царя в борьбе с патриархом и чуть ли не главой Московской патриархии. Арсенал его средств был обширен и не отличался, как видно, излишней щепетильностью, ибо в памяти поколений он остался «несчастьем Русской церкви», хитрым, льстивым, пронырливым и бесчестным интриганом. Не останавливался Лигарид и перед подлогом, самозванно присвоив себе полномочия экзарха Константинопольского патриарха. По его сценарию и с его режиссурой состоялся судебный фарс над Патриархом Московским. Но эта победа не принесла ему ни власти, ни славы, ни денег.
Кто знает, были ли Арсений и Лигарид звеньями одной цепи в антиправославной политике Рима? Грех угадывать, тем не менее совпадения настораживают и предостерегают.
Покончив с Никоном, царь и Собор обратили свое внимание на старообрядцев, чье движение, имевшее моральную поддержку в Москве, получило широкое распространение на Севере России и в Поволжье. На Собор были приглашены, с одной стороны, лидеры старообрядчества во главе с Аввакумом, а с другой — лояльные царю епископы и архимандриты. Тон задавали опять же восточные патриархи — Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский. Однако примирение не состоялось. На выдержанную и аргументированную петицию старообрядцев в защиту своих догматов последовала разгромная отповедь, составленная тем же Лигаридом, западнорусским монахом Симеоном Полоцким и греческим архимандритом Дионисием из Иверского монастыря на горе Афон. В результате Собор, не найдя путей примирения, пошел на поводу у людей, плохо разбирающихся в характере и обычаях русского народа, и не только лишил идеологов старообрядчества духовного сана, но и заточил их по разным монастырям. Более того, он проклял и предал анафеме всех двуперстных почитателей старых церковных книг, что было расценено приверженцами старины как осуждение всей предшествующей истории Русской церкви, в том числе и всех «святых, в Русской земле воссиявших». Но и этого грекофилам показалось мало. Они рекомендовали царю считать старообрядцев еретиками и наказать их, применяя всю мощь своей власти.
Непримиримая позиция сторон и перегибы в реализации соборных постановлений привели, как мы уже говорили, к расколу русского общества чуть ли не пополам. И пусть нас не смущает видимое численное преимущество сторонников реформы среди иерархов церкви, большинство крестьян и жителей городских посадов раскольниками считали как раз представителей официальной церкви и воспринимали их действия как отход от древнего русского благочиния, как происки Антихриста и были на стороне Аввакума и его духовных братьев. Применение же силы со стороны светских властей против старообрядцев лишь озлобило их и превратило в противников теперь уже не только никониан, а и Русского государства, сделавшего их гонимыми, «аки первохристиан».
В Московском царстве образовались как бы два общества, два духовных центра: один в Москве, а другой — в монастырях и старообрядческих скитах. Не потому ли было так много староверов в бандах, примкнувших к мятежу Степана Разина?
Дальнейшие события развивались следующим образом. Арестованных идеологов старообрядчества, Аввакума, Никифора, Лазаря и Епифания, в декабре 1667 года доставили в Пустозерск. Через несколько месяцев к ним присоединится и дьякон Федор. Первое время условия их содержания были достаточно свободными. Они продолжали заниматься литературной деятельностью: писали прошения царю, требуя нового суда, и рассылали свои обращения по городам и весям к своим единомышленникам через жену Аввакума, сосланную вместе с двумя ее сыновьями в Мезень. В Москве центром староверов был дом боярыни Морозовой, поддерживаемой в своих церковных подвигах царицей Марией Милославской и именитыми родами Салтыковых, Хованских, Долгоруковых, Волконских. Смерть царицы в марте 1669 года лишила Морозову высокого покровительства, тем не менее она продолжала свою деятельность проповедницы и защитницы старообрядчества.
Однако справедливости ради нужно отметить, что идейным вдохновителем и рупором старых церковных традиций в Москве был все-таки незаслуженно забытый юродивый Афанасий (в монашестве Авраамий), который настолько раздражал власть имущих, что в феврале 1670 года его в конце концов арестовали. При обыске у него будут найдены документы, уличающие его в связях с пустозерскими ссыльными. Его будут пытать, требовать отречения, но он будет тверд и погибнет на костре через два года.
Арест Авраамия повлечет за собой помещение в тюремную яму самого Аввакума и членов его семьи. Участь других апостолов старообрядчества будет еще хуже. Лазарю, Епифанию, Федору (Никифор к тому времени скончался) в апреле того же года отрубят правую руку, чтобы не писали противное официальной церкви, и язык, чтобы не говорили крамольное.
Морозова поняла, что близок и ее конец. В декабре 1670 года она принимает постриг и прекращает участвовать в каких бы то ни было придворных церемониях. Это замечает Алексей Михайлович и пытается склонить боярыню на свою сторону, но та для себя уже решила принять крестные муки. В ноябре 1671 года ее, ее сестру Евдокию Урусову и жену стрелецкого полковника Марию Данилову берут под стражу, при этом сын Морозовой, Иван, умирает от сильного нервного потрясения. Четыре года потом их будут принуждать к отречению от своих убеждений, но они будут твердо держаться за старую веру. В конечном итоге им прекратят давать еду и питье и они умрут от голода в Боровском монастыре.
Репрессии против Авраамия, Аввакума, Морозовой со товарищи по времени совпали с началом военных действий против монахов непокорного Соловецкого монастыря, отказавшихся принимать обновленные книги и троеперстие. Осада будет длиться пять лет и закончится предательской сдачей 22 января 1676 года, за неделю до смерти самого царя Алексея Михайловича. Лишь пять раскаявшихся монахов не понесут наказания. Остальные будут казнены или разосланы по другим монастырям.
Рассеивание мятежников по разным обителям, хоть и в качестве заключенных, расширит круг их единомышленников и даст толчок к новым выступлениям. Однако в связи с отсутствием единого центра и дефицитом подготовленных священнослужителей старообрядчество под влиянием безграмотных, но фанатично преданных ему последователей стало дробиться на различные толки, исповедующие подчас крайние взгляды. Одни, убедившись в предательстве своих прежних священников, заявили, что для общения с Богом им посредники не нужны, и стали беспоповцами; другие, предрекая скорый приход Антихриста и конец света, бросили клич «спасаться» через отрицание семьи, отказ от продолжения рода, оскопление и самосожжение, которое они называли «очищение огнем».
Первый случай массового самосожжения был зафиксирован в январе 1679 года в Тобольском крае на берегу реки Березовка, где под воздействием какого-то видения 1700 человек предали себя огню. Однако менее радикальные старообрядцы еще надеялись тем или иным путем убедить нового царя-отрока Федора Алексеевича в необходимости сохранения их веры и предоставления им равных с никонианами прав в отправлении своих религиозных обрядов. С этой целью они начали вести пропагандистскую работу среди стрельцов, но официальная церковь и царское правительство не видели возможности мирного существования двух церквей, а потому Собор в феврале 1682 года признал преступным всякое раскольничество. На основании решения Собора пустозерские заключенные Аввакум, Епифаний, Лазарь и Федор в апреле того же года были сожжены на костре. А через две недели умрет и двадцатилетний царь Федор Алексеевич.
Забегая немного вперед, скажем, что правительница Софья пойдет еще дальше в своих преследованиях староверов. Людей, не посещающих церковь, предписывалось допрашивать, подозреваемых в ереси — пытать, еретиков, отказывающихся покаяться, — сжигать на костре. Предводители старообрядческого движения были арестованы, разосланы по монастырям, а наиболее опасные, с точки зрения властей, Хованские, Алексей Юдин и Никита Добрынин казнены. Староверы ушли в подполье, в глухие места Крайнего Севера, Поволжья, Урала, Сибири, а также через польскую границу. Воинские команды с целью искоренения ереси гонялись за ними по всей стране. Случаи самосожжения стали обычным делом. Подсчитано, что за период с 1684 по 1691 год в огне погибло не менее двадцати тысяч мужчин и женщин. И только Петр I отменил драконовские законы своей сестры о староверах, обложив их, правда, двойной подушной податью.
Повествование об этом царствовании будет неполным, если мы хотя бы тезисно не обозначим процессы, происходившие тогда в русском обществе на пути сближения с Европой, и роль в этом самого Алексея Михайловича Тишайшего. Известно, что западноевропейцы, их тогда на Руси называли немцами, еще со времен Ивана Грозного во множестве селились в Москве, Новгороде, Архангельске и других городах. В основном это были купцы, промышленники, лекари, ремесленники. На воинскую службу к царю охотно шли ливонские дворяне и литовские люди. Л. Н. Гумилев утверждает, что и стрелецкое войско на Руси повелось от пятисот литовцев, поступивших на русскую службу еще при Иване Грозном и обучивших москвичей пищальному бою. При Михаиле Федоровиче стали создаваться полки иноземного строя, для чего из-за границы выписывалось большое количество не только офицеров, но и рядовых солдат. Впрочем, и начало русскому военному флоту было положено вовсе не ботиком Петра, а парусным кораблем «Орел», построенным голландцами и укомплектованным голландскими же моряками. Правда, послужить он не успел. Покинутый экипажем корабль был сожжен в Астрахани мятежниками Степана Разина.
Социальное и материальное положение иностранцев в Московском царстве, по сравнению с положением коренного населения, выглядело предпочтительнее за счет исключительной юрисдикции, всякого рода льгот и повышенного денежного содержания. Оправданно ли это было? Безусловно, ибо они несли с собой промышленные знания, ремесла, науку, воинское дело. Правда, они порой злоупотребляли своей монополией на знание и умение, чем ущемляли интересы русских коллег и вызывали к себе неприязненное отношение. Доходило до того, что они начинали доминировать и монополизировать, как бы сейчас сказали, русское экономическое пространство, что вызывало протест со стороны московских людей и «жалостливые» петиции на высочайшее имя, к которым, кстати, в разное время относились по-разному. Только через двадцать лет своего царствования Алексей Михайлович счел возможным пойти навстречу настоятельным просьбам отечественных купцов. «Новоторговым уставом» 1667 года он запретил иностранным купцам вести розничную торговлю во внутренних городах своего царства, но сохранил их право на оптовую торговлю в Москве, Архангельске, Новгороде, Астрахани и других пограничных городах.
В целях поднятия престижа своей персоны и возвеличивания державы Алексей Михайлович использовал любую возможность для установления дружественных отношений с правителями других государств, причем не только соседних, но и таких экзотических, как Италия, Ватикан, Индия, Китай. Теснейшая связь поддерживалась с восточными православными церквями и украинскими единоверцами, которые привлекались для сверки церковных книг, книгопечатания, организации первых школ. Его привлекали к себе по-европейски образованные люди. Несмотря на незнатность их происхождения, он приближал их к себе, доверяя самые важные государственные должности. К таким людям относятся Хитрово, Ртищев, Ордин-Нащекин, Матвеев. Заботился Алексей Михайлович и о воспитании своих старших детей. Все они получили хорошее домашнее образование вплоть до знания латинского языка.
Но среди русского высшего общества было немало противников проникновения «прелести бесовской», как ими тогда расценивалось западно-европейское влияние. И еще неизвестно, как бы развивалась русская культура, если бы не преждевременная смерть царицы Марии Ильиничны и не повторная женитьба сорокалетнего царя — на Наталье Кирилловне Нарышкиной, воспитанной в семье главы Посольского приказа Артамона Сергеевича Матвеева. Женатый на Гамильтон, шотландке из немецкой слободы, принявшей при переходе в православную веру имя Авдотьи, Матвеев завел в своем доме, обустроенном в европейском вкусе, европейские же порядки. Он не держал взаперти ни свою жену, ни своих родственниц и воспитанниц. Люди собирались в его по-русски гостеприимном доме не для застолий и попоек, а для беседы и культурного времяпрепровождения за прослушиванием музыкальных концертов или просмотром театральных представлений, даваемых немецкими артистами и артистами из дворовых людей.
Под влиянием жены, выросшей в такой обстановке, Алексей Михайлович завел театр и у себя. Сначала в нем шли пьесы на библейские темы, затем репертуар пополнился чисто мирскими постановками, а в 1675 году царской семье был представлен первый балетный спектакль. После рождения сына, будущего императора, Наталья Кирилловна позволяла себе еще большую свободу действий, разъезжая по городу в открытой карете, что по тем временам было абсолютно недопустимой вольностью. Так что западник Петр Алексеевич впитывал в себя пренебрежение к русским патриархальным устоям и обычаям, можно сказать, с молоком матери.
Русские современники и более поздние исследователи дружно отмечали превосходные человеческие качества Алексея Михайловича, являвшегося «самым привлекательным явлением, когда-либо виденным на престоле царей московских». Им вторили иностранцы. «Изумительно, — говорили они, — что при неограниченной власти над народом, привыкшим к совершенному рабству, он не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь». Напротив, благотворительность его не знала границ. Кроме разовых раздач денег нищим и арестантам, кроме устройства бесплатных обедов, он, по совету своих приближенных, стал организовывать для больных и немощных приюты, богадельни, больницы, содержащиеся в основном на его личные средства.
Это был поистине царь-батюшка. И пусть он собственноручно никого не казнил, не строил кораблей, не бросался в бурю спасать тонущих моряков (да и не царское это дело), зато он имел счастливый талант подбирать себе помощников, которые делали и первое, и второе, и… двадцать седьмое. Говорят, что его образование заключалось в умении читать, писать и петь церковные псалмы, на том, дескать, оно и заканчивалось. Откуда же тогда его богатейшее эпистолярное наследие, не лишенное литературного таланта, где как нельзя лучше проявились его основательность в оценке событий, своих и чужих поступков, стремление к состраданию, готовность прийти на помощь, тонкий юмор и хорошее знание древней истории?
Он, видите ли, был человеком, «не способным к управлению». А откуда же тогда невиданная законотворческая деятельность и импровизация в добывании средств на ведение войн? Откуда смелость начать войну за возвращение Украины? В чьей голове зародилась идея создания Приказа тайных дел? Допускаю, что здесь хорошо поработали его помощники, но ведь под его же началом, с его же согласия и одобрения, а то и по его прямому приказу. Мало? Или для того, чтобы прослыть достойным монархом, утро надо начинать со «стрелецкой казни», а остаток ночи проводить в созерцании картины догорающего Рима?
А много ли в истории России было правителей, переживших без урона своему престижу такие напасти, как моровое поветрие, соляной, медный и хлебный бунты, восстание Разина, тринадцатилетнюю войну с Польшей, войну со Швецией и Турцией, — переживших и не запаниковавших, не спрятавшихся за крепостные стены северных городов и бердыши своих опричников, не утративших, а умноживших жизненное пространство своей державы?
А чего стоит его последняя воля?! Он оставил сына-наследника и мудрых правителей при нем. Он распорядился судьбой своей второй семьи, в том числе и судьбой будущего императора. Он простил все долги казне и заплатил за тех, кто содержался в тюрьмах за долги частные. Он выпустил из тюрем всех узников и возвратил из ссылки всех сосланных. Он свел все свои счеты с бренной жизнью, не усугубляя положения людей, оставляемых им на «этом свете». И если, немного забегая вперед, мы вспомним, на какое завещание сподобился его сын (а там было буквально два слова: «Оставить все…»), то вынуждены будем признать, что уход из жизни — это тоже дар Божий, которым был наделен царь-батюшка и которого был лишен всесильный император.
Оценивая вышеизложенное, можно сделать вывод, что мы в очередной раз сталкиваемся с молчаливым заговором людей, одержимых навязчивой идеей замолчать, исказить и даже очернить самобытный путь развития допетровского Московского царства, принизить величие истинно русского царя. Для чего это делалось и продолжает делаться? А для того, чтобы, «разрушив до основания» даже воспоминания о прежней Руси, оправдать революцию сверху, которая по воле любимца Запада и доморощенных западников свалится в последующие годы на Россию, и чтобы огненно-кровавая звезда Императора-Антихриста как можно ярче и как можно дольше сияла над искореженным им отечеством.
Но это еще впереди. Завершая повествование о царствовании Алексея Михайловича Тишайшего, мы должны напомнить читателю, что именно в его бытность русские землепроходцы — казаки и «охочие люди» — достигли на востоке естественных границ будущей империи и уперлись с одной стороны в ледяное безмолвие, с другой — в Тихий океан, а с третьей — в реку Амур, поделившую землю и населяющих ее людей между царем московским и богдыханом китайским.
Был ли Алексей Михайлович счастлив в общечеловеческом смысле слова, в своей личной жизни? И да, и нет. Ему не позволили жениться по любви, но два его брака дали ему и душевное равновесие, и многочисленное потомство, вот только со здоровьем сыновей было не все в порядке. Еще при жизни отца умерли три его сына — Дмитрий, Алексей и Симеон. Своим наследником он провозгласил четырнадцатилетнего Федора, настолько болезненного, что тот и передвигаться-то мог с большим трудом. Слабоумие Иоанна было общеизвестно, да и Петр, впоследствии Великий, страдал душевным заболеванием. А вот дочери здоровьем не подкачали, их осталось аж семь: от первого брака Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина, Мария, от второго — Наталья и Феодора. Впрочем, и сам Алексей Михайлович не был наделен богатырским здоровьем. После тридцатилетнего царствования он умер всего лишь на 47-м году жизни. Произошло это 28 января 1676 года.
Глава V
Царь Федор Алексеевич. Правительница Софья
Если почитатели Петра Великого для более рельефного отображения личности своего кумира ста рались показать царствование его отца и деда как период господства приказного люда, что, как мы уже убедились, мало соответствовало действительности, то времена Федора Алексеевича можно сравнить с первыми годами пребывания у власти Ивана Грозного. Как тот, так и другой не были абсолютно самостоятельными. Одного направляли Сильвестр и Адашев, другого — целый сонм родственников по материнской линии — Милославские, патриарх Иоаким, могущественные бояре Богдан Хитрово, Юрий Долгоруков, Федор Куракин, Родион Стрешнев, а потом Языков и Лихачев.
Положение усугублялось тем, что после смерти Алексея Михайловича в 1676 году в царской семье господствовал небывалый доселе раздор: шесть сестер царя, его тетки и Милославские ненавидели вдовствующую царицу Наталью Кирилловну Нарышкину, мать царевича Петра, которая в общем-то была сильна не сама по себе, а благодаря своему воспитателю, самому сильному боярину предыдущего царствования — Артамону Сергеевичу Матвееву.
Вот с него-то и решили начать Милославские. Нашелся и подходящий предлог. Датский резидент Монс Гей подал жалобу на высочайшее имя о том, что Матвеев якобы не заплатил ему 500 рублей за поставленное ему вино. Этого оказалось достаточно, чтобы уже в июле 1676 года выдворить Матвеева из Посольского приказа под видом назначения воеводой в Верхотурье, удалить из Москвы и начать следствие по еще одному надуманному обвинению — в чернокнижии и общении с нечистой силой. Потом он, будучи лишенным всех чинов и имущества, вплоть до восшествия на престол Петра Первого, будет последовательно отбывать ссылку в Пустозерске, Мезени, Лухе. В конце концов он получит свободу, но получит ее лишь на несколько дней, ибо по прибытии в Москву тут же станет кровавой жертвой стрелецкого бунта 1682 года.
Расправившись с ним, Милославские нашли повод и для репрессий в отношении братьев Натальи Кирилловны — Ивана и Афанасия Нарышкиных. Первого обвинили чуть ли не в подстрекательстве на убийство царя и приговорили к смертной казни, но потом «смилостивились» и заменили ее на вечную ссылку в Ряжск. Запугав таким образом вдовствующую царицу, а вдобавок угрожая ей еще и принудительным постригом, правящей группировке уже не составляло большого труда держать ее в селе Преображенском, подальше от кремлевских палат и государственных дел.
Ну а в церковных делах безраздельно господствовал патриарх Иоаким, дошедший в своем своеволии до того, что сослал в Кожеезерский монастырь духовника самого царя.
Но интриги интригами, а дело делом. Первоочередным же делом нового царствования оставались затянувшиеся малороссийские дела, они-то и привели в конце концов к войне с турецким султаном, которая тяжелым бременем легла на плечи служилого и тяглового населения. На протяжении трех лет во всех вотчинах и поместьях Московского царства каждый двор должен был платить по полтине на военные нужды, каждые двадцать пять дворов обязаны были по первому же требованию выставить по одному конному человеку, не считая уже самих дворян, детей боярских, их родственников и свойственников, которые чуть ли не поголовно призывались на военную службу.
Мы помним, что по Андрусовскому перемирию 1667 года Левобережная Украина отошла к Москве, а Правобережная, кроме Киева, осталась за Польшей. Однако православный гетман Правобережья Петр Дорошенко, мечтавший о независимости всей Украины как от православной Москвы, так и от католической Польши, то ли по недомыслию, то ли по какой-то другой причине решил поставить на третью силу, а именно на магометанскую Турцию. В 1672 году он выступил на стороне султана в его походе на Каменец-Подольский и открыто признал перед всеми свою вассальную от него зависимость. Этим он окончательно подорвал свой авторитет борца за самостоятельность Украины, так как турецкий поход сопровождался осквернением христианских святынь, превращением церквей в мечети, захватом женщин для турецких гаремов, насильственным обращением христианских детей в ислам.
Все последующие годы, до воцарения Федора Алексеевича, Правобережье Днепра стало театром военных действий всех задействованных в конфликте сторон, что породило массовый исход исстрадавшегося населения городов и сел. Основной поток его шел на восток. Правобережье опустело. Ранее грозное войско Дорошенко, как шагреневая кожа, сжалось до пяти тысяч человек, а покинутый всеми гетман сидел в Чигирине и ждал свою судьбу, то в лице турецкого султана, то в лице польского короля. Но московское правительство и в этих условиях не торопилось применять вооруженную силу в отношении протурецки настроенного гетмана. Его продолжали уговаривать, он же, как выяснилось, уважал только силу, чем в итоге и пришлось воспользоваться воеводе Ромодановскому и гетману Левобережья Самойловичу. Подступив осенью 1676 года с большими силами к Чигирину, они принудили Дорошенко и двухтысячный гарнизон крепости к капитуляции. В город вошли царские войска и казаки Самойловича. Дальнейшая судьба свергнутого гетмана сложилась относительно благополучно, хотя и не так, как он того хотел. Он проживет еще двадцать два года, но вдали от родины. Первые два из них его будут держать при царе в качестве советника по турецко-крымским делам, затем три года ему придется посидеть воеводой в Вятке. В 55 лет Дорошенко отпустят на покой, выделив ему поместье в Волоколамском уезде.
События же в Правобережной Украине тем временем развивались следующим образом. Турки, не желавшие примириться с потерей подвластной им территории, предприняли летом 1677 года военный поход с целью подчинить себе уже всю Малороссию. Для этого они собрали многочисленный экспедиционный корпус, в который входила 60-тысячная турецкая армия, 40 тысяч крымских татар и 19 тысяч молдаван. Однако турецкие стратеги недооценили силы противника. Их попытка овладеть Чигирином окончилась полным поражением от подоспевших войск русского воеводы Ромодановского и гетмана Самойловича. Потеряв около 20 тысяч человек, турки были вынуждены снять осаду Чигирина и в беспорядке отступить.
Успеха они добились только в следующем, 1678 году. Более чем 100-тысячное турецкое войско сосредоточило свое внимание на Чигирине, выделив против своих прошлогодних обидчиков лишь вспомогательное войско, которое хоть и потерпело поражение, но свою задачу выполнило, задержав их подход к месту основных военных действий. И пока русские разбирались с турецкими заслонами, переправлялись через реки, поджидали подкрепление, турки овладели нижней крепостью, вынудив тем самым русский гарнизон и главного русского воеводу оставить верхнюю, на тот момент удачно оборонявшуюся, крепость. Эта победа стоила туркам трети их армии, русско-украинские потери были неменьшими.
На этой печальной ноте закончилась военная карьера Ромодановского, вскоре отозванного в Москву. Ушли и турки, но на Правобережье, как мы уже говорили, остался Юрий Хмельницкий, вытащенный султаном из монастыря и возведенный в гетманы Войска Запорожского, пожалованный к тому же титулом «князя Сарматийского». Вместе с ним находились и крымские татары, с которыми он совершал кровавые рейды по городам и селам как на правом, так и на левом берегу Днепра, чем окончательно скомпрометировал себя.
А в Москве и Киеве царило тревожное ожидание нового турецкого похода, который мог стать судьбоносным как для Украины, так и для Московского царства. Благо что между двумя Чигиринскими походами Москва и Польша договорились о новом тринадцатилетнем перемирии, а то бы положение было еще куда более опасным. Впрочем, за то, чтобы Киев остался под юрисдикцией Москвы, ей пришлось уступить Польше несколько городов и заплатить 200 000 рублей.
Ситуация складывалась таким образом, что единственным путем спасения Московского царства от надвигающейся турецкой угрозы становилась сделка с султаном о разделе сфер влияния на Украине. Характерно, что антивоенные настроения преобладали и в Константинополе, уставшем от бесконечных войн. Поэтому неудивительно, что сразу же после падения Чигирина с обеих сторон стали интенсивно искать посредников, чтобы начать хоть какие-то переговоры. В августе 1680 года они начались в Крыму в присущей татарам вымогательской манере: с угрозами насилия в отношении послов, их изоляцией от внешнего мира, ограничениями в пище и прочими «страшилками». Помучившись и посопротивлявшись для видимости, русские послы представили татарам заранее согласованные с царским правительством и украинской старшиной условия двадцатилетнего перемирия, основной смысл которых сводился к установлению границы по Днепру, за исключением Киева и его уезда, которые оставались под царской юрисдикцией. Причем землям Правобережья, отходящим Турции, надлежало оставаться «впусте»: на них нельзя было «заводить» новые поселения, а старые — «починивать». Левый и правый берега Днепра предполагалось объявить свободными для обеих сторон с целью «конских кормов», рыбного, звериного и соляного промыслов. В проект договора был включен и такой неприятный для московитов пункт, как возобновление «ежегодной посылки казны по старым росписям», что, по существу, было не чем иным, как согласием Москвы на возобновление даннических отношений с Крымом. За все это крымско-турецкая сторона должна была признать царский титул в том виде, в котором он «сам его описывает», отпустить на выкуп или на размен томящихся у них в неволе пленников, в том числе и боярина Шереметева, и отказаться от помощи «неприятелям царским». Был в русском проекте договора еще один пункт, касающийся запорожского казачества: чтобы ни султан, ни хан «под свою державу их не перезывали». Однако из-за позиции самих запорожцев этот пункт не прошел. Но об этом чуть ниже.
Вымученные предложения русских послов были благосклонно восприняты и в Крыму, и в Константинополе. 4 марта 1681 года в Бахчисарае состоялся торжественный отпуск послов, на котором хан Мурад-Гирей принес присягу на Коране в том, что он и султан «клянутся содержать мирное постановление непорочно двадцать лет». Отпуск послов вылился в настоящий праздник: кто-то радовался наступлению мирных дней, а кто-то и предстоящим «поминкам». Русские пленники радовались скорому возвращению домой. В России же послов ждала поистине триумфальная встреча, особенно в Малороссии. Их встречали с церковными песнопениями, воинскими почестями, хлебом-солью, а гетман Иван Самойлович по этому случаю задал большой пир.
Теперь о Запорожье. Дело в том, что эта «деклассированная» вольница, состоящая в основном из «гулящих людей» и добытчиков «зипуна», ни до, ни после описываемых событий — практически никогда — не была последовательной в своих политических предпочтениях. Друзей, союзников и врагов сечевики меняли, исходя из своих корыстных интересов и амбиций часто меняющихся кошевых атаманов. То они воюют татарские улусы, то вместе с теми же татарами устремляются против единокровных украинцев или царских войск. Сегодня они присягают царю, а завтра вступают в переговоры с ханом или польским королем для противодействия русскому продвижению на юг или на запад.
С 1672 по 1680 год кошевым атаманом Запорожской Сечи был властолюбивый, предприимчивый и воинственный Иван Сирко. В его активе к тому времени были блестящие победы над крымчаками (Аккерман, Чигирин, Очаков) и Дорошенко (Капустяная долина вблизи города Умани), выдача Москве очередного самозванца Симеона Алексеевича и «подведение под руку белого царя» некоторых кочевых калмыцких племен. Беда, что в нем не было постоянства: то он верноподданный царя, то его супостат, воюющий его воевод; то он противник Дорошенко, а то приятель и союзник.
В рассматриваемый период времени, когда от Дорошенко отвернулись практически все его полковники и он остался в столице обезлюдевшего Правобережья с пятитысячным гарнизоном, Сирко в обход гетмана Самойловича, с которым у него никак не складывались отношения, на свой страх и риск решил примирить Дорошенко с Москвой. Для этого он еще при жизни Алексея Михайловича выехал с представителями запорожского и донского казачества в Чигирин, где в присутствии духовенства, казачьей старшины, запорожских и донских казаков, представителей гражданского населения принял присягу гетмана Дорошенко «на вечное подданство царскому величеству».
Этот недружественный Самойловичу шаг не был воспринят ни Москвой, ни Киевом, вследствие чего «непонятый» Сирко вновь метнулся к крымским татарам. Накануне первого турецкого Чигиринского похода в 1677 году он без ведома Москвы и Киева заключил перемирие с ханом и не только не помог Ромодановскому и Самойловичу в отражении турецко-татарского нашествия, а, наоборот, помогал отступающим крымским татарам в переправе через Днепр. После этого Сирко затеял игру с польским королем и даже отправил к нему своего сына с сотней казаков, чтобы договориться о совместном наступлении вместе с крымскими татарами против «слободских украинских городов». Хорошо еще, что это предприятие не состоялось.
Однако удивительное дело: царское правительство, несмотря на явные признаки измены со стороны кошевого атамана, радикальных мер к нему не предпринимало, а, стремясь к его примирению с гетманом Самойловичем, посылало ему то увещевательные грамоты, то велеречивых дьяков с уговорами, подкрепляя все это деньгами и подарками в виде сукон и боевых припасов. Лишь со смертью Сирко и избранием на его место Ивана Стягайло запорожские казаки «со скрипом» согласились вновь присягнуть царскому величеству, но, как мы потом увидим, ненадолго.
Здесь уместно будет заметить, что правительству Федора Алексеевича удалось слегка приблизиться к решению еще одной внешнеполитической задачи — калмыцкой. Западная ветвь монголов — калмыки, что в переводе с тюркского языка означает «отделившийся» или «отставший», появились на берегах Волги в 30-х годах XVII столетия. Вели они себя так, как и подобает кочевникам: грабили проплывающие караваны, совершали набеги на русские поселения и поселения поволжских народцев, брали полон и угоняли стада. Были времена, когда они даже прерывали сообщение Царицына с Астраханью. На первых порах им противостояла лишь одна сила — казаки, которые, в свою очередь, совершали набеги на их улусы со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.
Чувствительность казачьих набегов подвигла некоторых мелких калмыцких князьков просить защиты и покровительства русского царя. Взамен они обещали отказаться от враждебных действий против его державы и помогать в борьбе с врагами России. Правительство Федора Алексеевича благосклонно отнеслось к этому предложению. Тут же последовало запрещение казакам нападать на калмыцкие улусы, и это запрещение в общем-то выдерживалось, чего не скажешь о калмыках, которые, даже присягнув царю, вели себя абсолютно непредсказуемо — то заискивающе и подобострастно, то враждебно и агрессивно.
Не все ладно было и на востоке. Овладение турками Чигирином спровоцировало антимосковские выступления и со стороны их единоверцев, проживающих в Поволжье и на Урале. «И мы будем воевать, — заявляли башкиры и татары, — потому что мы с турками одна родня и душа». Они взяли Кунгурский острог, а его окрестные деревни предали «огню и мечу». Та же участь ждала и пензенские посады.
В окрестностях Томска и Красноярска активизировались киргизы. Поочередно поднимались якуты, тунгусы, самоеды. Правда, большая доля вины в этом лежала на сборщиках ясака, которые в погоне за государевой и своей выгодой не останавливались ни перед повторным обложением, ни перед применением силы. Но с учетом того, что царское правительство стремилось «приводить иноземцев под государеву высокую руку ласкою, а не жестокостью», то оно достаточно часто оставляло эти выступления без должного наказания, что, в свою очередь, порождало чувство вседозволенности и провоцировало рецидив антигосударственных выступлений. Хотя с учетом малочисленности и разрозненности туземного населения в Сибири их действия не представляли серьезной угрозы устоям Московского царства.
Следует отдать должное старой гвардии, верно служившей новому царю, как некогда Алексею Михайловичу. Если и были какие-то успехи в военных делах и на дипломатическом поприще, то основная заслуга в этом принадлежала испытанным воеводам и великомудрым посольским дьякам.
А что же наш царь? Федор Алексеевич царем был сначала больше на словах, чем на деле, но постепенно он подрастал, набираясь державности и самостоятельности в своих действиях. В отличие от своего деда и отца, он добился права жениться по любви и отдалил от себя боярина Милославского, попытавшегося было очернить царскую невесту. Малоопытный в делах, как и его отец в начале своего царствования, он был весьма счастлив в выборе себе помощников и учителей.
В 1679 году мы уже видим в его ближайшем окружении Ивана Языкова и Алексея Лихачева — людей, по выражению практически всех исследователей, ловких, способных и добросовестных. Есть предположение, что их продвинули в фавориты молодого царя старые бояре Дурново и Долгорукий в пику Милославским, забравшим слишком много власти при дворе. Все может быть. Нам же важно то, что они были полезны царю и государству. Важную роль в царствование Федора Алексеевича играл и Василий Васильевич Голицын, ставший впоследствии фаворитом царевны Софьи.
Царь Федор правил недолго, сделал мало, но даже то малое, что ему удалось, и те его прожекты, не успевшие получить реального воплощения, заслуживают внимания. Новый монарх, как и его предшественники, стремился удовлетворить потребности служилого сословия. В частности, рядом правительственных распоряжений поместные правоотношения стали регулироваться вотчинным правом. Поместья переставали быть временной платой за службу конкретного человека, а единожды полученные становились собственностью семьи, переходящей по наследству из рода в род. Этим самым дворяне, выбившиеся «в люди» своей службой, как бы уравнивались с представителями древних боярских и княжеских родов. Одновременно с этим была начата трудоемкая и взрывоопасная работа по размежеванию вотчинно-поместных земель.
В том же ряду знаковых мероприятий стоит и логически назревшая отмена местничества, до недавнего времени позволявшее ничего из себя не представлявшему отпрыску знатной фамилии при назначении на государеву службу претендовать на начальствующее положение по отношению к более талантливым, гораздо более опытным, бесспорно заслуженным, но менее знатным. Оказаться в подчинении человека, предки которого подчинялись твоим предкам, когда-то считалось оскорблением родовой чести, давало право «обиженному» отказаться от службы, что серьезнейшим образом вредило делу. Это сознавали еще при Иване Грозном, начали исправлять во времена Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, назначая воевод «без мест», но честь официальной отмены этого устаревшего обычая принадлежит все-таки правительству Федора Алексеевича. Разрядные книги, в которых записывались все назначения на военные посты, были торжественно сожжены, а взамен их предписано вести родословную книгу всех родов, члены которых находились на царской службе. В качестве компенсации за отмену местничества было установлено правило, согласно которому служилые люди, в зависимости от знатности их должностного (!) положения, все-таки отличались друг от друга количеством лошадей в экипажах при выезде в город и элементами верхней одежды, в которой они должны являться ко двору.
В своих реформах военного дела и всей государственной службы молодой царь шел еще дальше, разрабатывая мероприятия по переустройству армии на европейский лад и внедряя прообраз петровской Табели о рангах. Шел, но не успел.
Наступление мирного времени и ликвидация последствий выступления Степана Разина дали возможность правительству Федора Алексеевича внести изменения и в местное управление. Ключевой фигурой в провинции становился воевода, к которому переходили все дела, ранее находившиеся в ведении губных старост, московских сыщиков по уголовным делам, сборщиков налогов, ямских, пушкарских, засечных, осадных, житных и прочих приказчиков. Одновременно с этим упразднялись и всякие мелкие подати на содержание этих должностных лиц, их аппарат (сторожа, палачи) и расходный материал (бумага, чернила, дрова). Все сосредоточивалось в руках воеводы — и права, и ответственность.
В это же время отмечается и смягчение мер наказания за уголовные преступления. Варварская казнь путем отсечения рук и ног заменяется ссылкой в Сибирь, позорное наказание кнутом — пеней.{13}
Отсутствие дефицита государственного бюджета, достигнутое при сокращении военных расходов, позволило правительству восстановить государственную монополию на винную торговлю и таможенные сборы, откупа на которые в связи с «игрой откупщиков на понижение цены» приносили убытки государственной казне.
Важные преобразования происходили и в церковном быту: учреждались самостоятельные епархии, подчиненные, минуя митрополитов, непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси; в Сибирь и другие малолюдные земли от патриархии же, напрямую, посылались священники и архимандриты для «научения в вере» новообращенных христиан; борьба со старообрядчеством велась на его полную ликвидацию, начиная с запрета на отправление церковных служб по старопечатным книгам и заканчивая карательными рейдами по раскольничьим заимкам и пустыням. В этих же целях в Москве планировалось открыть духовную академию, которая должна была стать не только церковным учебным заведением. Ей предполагалось вменить в обязанность следить за чистотой веры и быть орудием борьбы против иноверцев.
Широко и богато поощрялось принятие православия инородцами, в особенности если они относились к правящему классу.
Во всех мероприятиях царя Федора отчетливо прослеживалось влияние восточных церквей, западнорусских мыслителей, польских порядков и обычаев. Воспитанный Симеоном Полоцким, Федор, знавший латинский и польский языки, в своих планах ориентировался в основном на полонизированную киевскую богословскую школу и учителей, рекомендуемых восточными патриархами, благодаря которым появился знаменитый проект создания в Москве той самой Греко-латинской академии. Польское влияние при дворе усилилось с женитьбой царя на Агафье, дочери незнатного дворянина польского происхождения Семена Федоровича Грушецкого. Появилась мода на польские наряды и прически. Польский язык стал чуть ли не вторым придворным языком. К этому же влиянию нужно, видимо, отнести и некоторую либерализацию общественных отношений. Стал вводиться запрет на раболепствование и самоуничижение при обращении низших чинов к высшим. Проявлялась забота о нищих: действительно, больных и немощных распределяли по богадельням, где они содержались за счет царской казны, а ленивых и здоровых принуждали к труду.
Но семейное счастье Федора длилось недолго, как и сама его жизнь. В июле 1681 года при родах умирает царица Агафья, а через две недели и новорожденный младенец Илья. Историки умалчивают об обстоятельствах этих смертей, однако чем черт не шутит, варианты возможны. Тем не менее Федор Алексеевич, несмотря на свою прогрессирующую болезнь, торопится жить. Не прошло и полгода после смерти жены, как он вступает во второй брак. Его избранницей на этот раз стала Марфа Апраксина, родственница царского фаворита Ивана Языкова и крестница опального Артамона Матвеева. Новой царице за ее менее чем трехмесячное пребывание в этом качестве удалось не только смягчить участь своего крестного отца, но и примирить своего царственного супруга с его мачехой Натальей Кирилловной и его единокровным братом Петром.
27 апреля 1682 года царь Федор Алексеевич, не достигши и 21 года, скончался.
Лишь только колокол возвестил о кончине царя, бояре съехались в Кремль. Обстановка была настолько напряженной, что многие из них были в панцирях. Тело умершего монарха еще не остыло, а в палатах уже шли жаркие споры о том, кому быть царем: старшему, но слабоумному Ивану или младшему, но смышленому и резвому Петру. Голоса разделились. Тогда патриарх Иоаким предложил воспользоваться тем, что в Москве находились выборные всех земель, съехавшиеся по вопросу о податях, и решить эту задачу с «согласия всех чинов Московского государства». Выборные срочно были созваны в Кремле. Обращаясь к ним с Красного крыльца, патриарх спросил, кому из братьев быть преемником Федора Алексеевича. Голоса вновь разделились, однако подавляющее большинство, возглавляемое князьями Голицыными, Долгорукими, Одоевскими, Шереметевыми, Куракиным, Урусовым и другими, было за десятилетнего Петра. Тут же патриарх и святители благословили его на царствование, посадили на престол, а присутствовавшие при этом люди принесли ему присягу. Вполне легитимное, с учетом обычаев Московского государства, избрание, да к тому же и разумное, если мы вспомним о физическом и душевном состоянии обоих претендентов.
Избрание Петра должно было означать и одновременную смену правящей верхушки. Регентом царя становилась его мать — Наталья Кирилловна, что с учетом внутрисемейных отношений автоматически отстраняло от власти родственников первой жены Алексея Михайловича — Милославских и его детей от первого брака, если вообще не обрекало их на репрессии. В качестве новой камарильи на сцене должны были появиться родственники вдовствующей царицы — Нарышкины. Что, собственно, и произошло. Правда, Нарышкины, судя по их первым шагам, тоже оказались не подарком для государства, чем не преминула воспользоваться царевна Софья.
Все сошло бы мирно и Нарышкины, не без корысти для себя, благополучно правили бы государством до совершеннолетия Петра, если бы не один застаревший вопрос — московские стрельцы. Дело в том, что стрелецкие полковники, назначаемые правительством из дворянского сословия, позволяли себе обращаться со своими подчиненными, набираемыми из вольных людей, так, как они привыкли обращаться с холопами или крепостными крестьянами. Они заставляли их бесплатно исполнять всякого рода хозяйственные и полевые работы лично для себя, да к тому же и удерживали их денежное содержание от казны.
Стрельцы же — первая русская профессиональная армия, выполнявшая в мирное время полицейские функции, — избалованные во времена Алексея Михайловича всякого рода правами и льготами, не хотели мириться с тем, что их пытаются уравнять с «черным людом». Жалобы на полковников поступали еще при Федоре Алексеевиче; правда, первая из них вылилась в наказание самих же челобитчиков, а вот вторая, поданная всем полком за несколько дней до смерти царя, привела к отставке полковника. Воодушевленные первым успехом стрельцы, чувствуя к тому же свою востребованность в этот переходный период, в день погребения Федора Алексеевича, 30 апреля, подали челобитную сразу же на всех своих шестнадцать командиров, требуя над ними суда «за все их неправды». Причем эта челобитная носила в себе уже элемент угрозы: стрельцы пугали самосудом, если командиры останутся безнаказанными. И Нарышкины, испугавшись, показали слабину.
Из дворца были удалены не любимые стрельцами Языков и Лихачев с их сторонниками, а стрелецкие полковники арестованы. На следующий день начался публичный суд над обвиняемыми, где роль судей фактически выполняли не приказные люди, а распоясавшиеся стрельцы, своим криком определявшие, сколько плетей дать тому или иному полковнику. А потом были правеж и ссылка.
Этим самым Нарышкины, по образному выражению Н. И. Костомарова, «разлакомили стрельцов к самоуправству и заохотили к бунтам». Москва оказалась в их полной власти. Они, игнорируя приказы своих начальников, толпами ходили по городу, угрожая одним и расправляясь с другими.
Вряд ли можно обвинять царевну Софью в организации этих беспорядков: она, надо полагать, просто воспользовалась сложившимся положением и направила стихийный протест стрелецкой массы в нужном ей направлении. В этом ей активнейшим образом помогали Милославские, Петр Толстой и Иван Хованский-Тараруй. Где уговорами, где лестью, а где и подкупом стрельцов убедили в пагубности правления Нарышкиных, но, главное, в том, что старшему брату царя Петра, Ивану, грозит смерть.
15 мая 1682 года, в годовщину трагической смерти царевича Дмитрия Иоанновича, стрельцов подняли набатом и известили, что Иван Нарышкин задушил царевича Ивана Алексеевича. Наэлектризованная толпа бросилась в Кремль, где в это время находилась вся царская семья и где в тот день заседала Боярская дума. Всех обуял страх. Стрельцы требовали выдачи Нарышкиных — убийц царевича Ивана, угрожая в противном случае расправиться со всеми царедворцами. Выход подсказали патриарх Иоаким и прибывший за четыре дня до этого Артамон Матвеев. Царица Наталья Кирилловна взяла за руки обоих братьев — Петра и Ивана — и вышла в сопровождении бояр на Красное крыльцо. Это был шок. Воспользовавшись временным замешательством стрельцов, их стал увещевать патриарх, а Матвеев заговорил их до того, что они были готовы вот-вот разойтись по своим домам.
Все испортил начальник Стрелецкого приказа Михаил Юрьевич Долгоруков, начавший подгонять их грубыми окриками и угрозами наказания. После таких слов стрельцы ворвались на Красное крыльцо, схватили Долгорукова и сбросили его на расставленные копья. Следующей их жертвой стал Матвеев, несмотря на то что князь Михаил Алегукович Черкасский пытался даже закрыть его своим телом. Начался форменный беспредел. Стрельцы толпами ходили по царским палатам, отыскивая по заранее составленному списку мнимых «царских губителей» и предавая смерти правых и виноватых. Три дня длилась эта кровавая баня. Были убиты два брата царицы Натальи Кирилловны — Афанасий и Иван, князья Григорий Ромодановский и Юрий Долгоруков, думные дьяки Ларионов и Кириллов, стольник Федор Салтыков, а также несколько бывших стрелецких начальников, чем-то провинившихся перед своими подчиненными. Чуть было не убили и отца царицы, но она упросила стрельцов, и Кирилл Нарышкин, постриженный в монахи, вместе с тремя своими сыновьями был отправлен в ссылку.
Вслед за стрельцами поднялись и холопы. Они захватили Холопий приказ и уничтожили все кабальные книги. Стрельцы же, возомнившие себя верховной законодательной властью, объявили их свободными.
Но такое развитие событий уже не входило в планы царевны Софьи. Чтобы прекратить бесчинства, она призвала к себе представителей стрелецких полков и объявила, что им выплатят задержанное за несколько лет жалованье — 240 тысяч рублей, а сверх того каждый стрелец получит по десять рублей наградных. В распоряжение новых опричников переходило имущество убитых ими и сосланных по их требованию «царевых губителей». В довершение ко всему Софья произвела стрельцов в «надворную пехоту» и назначила главой Стрелецкого приказа любимого ими князя Хованского.
Бесчинства прекратились, но не прекращался поток все новых и новых челобитных, инициированных, впрочем, самой Софьей. Сначала стрельцы в ультимативной форме потребовали, чтобы царями были объявлены оба брата — Иван и Петр. Боярская дума, испугавшись, собрала импровизированный Собор, и 26 мая это сборище приняло соответствующее решение, причем старшинство было предоставлено Ивану. Через три дня стрельцы подали новую челобитную — теперь уже о том, чтобы, по молодости государей, правление государством было вручено царевне Софье Алексеевне. И Софья, таким образом, стала правительницей.
Стрельцы же с каждым днем продолжали наглеть. Теперь им уже мало было одних денег. Им потребовалась слава, а поэтому свой бунт от 15 мая они захотели именовать подвигом и проявлением верности своим государям, в ознаменование чего попросили установить на Красной площади памятный столп. Было исполнено и это их желание.
Аналогично стрелецкой массе вел себя и Хованский, ведущий свою родословную от Гедиминовичей. Став главой Стрелецкого приказа, он посчитал себя всесильным и потерял всякое чувство меры от своей значимости. Он стал заявлять, что порядок в Москве держится лишь на нем, что без него все ходили бы по колено в крови, что все прочие бояре приносят государству один лишь вред. В эйфории своего величия Хованский рассорился не только со своим бывшим союзником Иваном Милославским, но и стал подумывать, по доносам его недоброжелателей, о том, как бы ему самому завладеть царским престолом.
Но тут нашла коса на камень. Пустым обещаниям и краснобайству Хованского Софья противопоставила свой изворотливый ум и твердость явно не женского характера. Первое свое поражение Тараруй потерпел в процессе организованного им диспута между старообрядцами, которых он поддерживал вместе с доброй половиной стрелецкого войска, и никонианами. Старообрядцы не только проиграли словесную баталию, но и потеряли шестерых своих основных идеологов. Никите Пустосвяту по приказу правительницы отрубили голову, а остальных разослали по дальним монастырям. Второе поражение ждало Хованского в Боярской думе. Бояре отвергли его популистское предложение о введении нового налога в пользу стрельцов, что спровоцировало в их среде новые волнения, подогреваемые вдобавок слухами о планах бояр по их полному «изведению».
Обстановка день ото дня продолжала нагнетаться. Наконец пребывавшая в постоянном страхе царская семья получила весть, что стрельцы намереваются перебить всю царскую семью во время крестного хода в Донском монастыре и возвести на престол князя Хованского. Отказавшись участвовать в этой церемонии, Софья на следующий день, 20 августа, вывезла все царское семейство в летнюю резиденцию московских царей. Вслед за ней столицу покинули и все бояре, оставив Хованского в гордом одиночестве.
Вскоре во все города полетели гонцы с царской грамотой, где события 15–16 мая квалифицировались уже не как подвиг, а как мятеж. Служилые люди оповещались о ставших известными из подметных писем намерениях Хованского убить обоих государей, перебить всех бояр, окольничьих и думных людей. Всем верным царским слугам предписывалось идти с «великим поспешением очищать от воров и изменников царствующий град Москву».
Удивительно, но, по всей видимости, Хованский не знал содержания этой грамоты, потому что он одновременно с другими знатными людьми царства без особых мер предосторожности направился по вызову Софьи в село Воздвиженское, где она находилась вместе с боярами, прибывшими к ней как бы по случаю ее тезоименитства и уже решившими его участь. Навстречу Хованскому был послан князь Лыков, который без особого труда арестовал его вместе с сыном и доставил на оглашение приговора. Обвинения строились в основном на неправильном распоряжении казной в пользу стрельцов, потачке их наглому невежеству, неправом суде, дерзких речах, подстрекательстве раскольников, неповиновении царским указам. Все это «потянуло» на смертную казнь. И, как осужденный ни добивался встречи с царствующими особами, чтобы обличить «настоящих заводчиков бунта стрелецкого», говорить ему не дали, а тут же казнили — и его, и сына.
Боясь мести стрельцов за убийство их отца-командира, Софья со всем царским семейством укрылась за стенами Троицкой лавры и объявила мобилизацию дворянского ополчения. Стрельцов же обуял страх, ибо они знали о своей непопулярности среди всего остального населения, да и столкновение с дворянским ополчением не сулило им ничего хорошего, так как вся их сила была в близости ко двору и благорасположении к ним царствующих особ, чего они лишились своим опрометчивым поведением. Испугавшиеся скорой расправы стрельцы расставили караулы у всех городских ворот, захватили Кремль, овладели пушечным двором с его орудиями и порохом. Их посредником в переговорах с правительством стал патриарх. На просьбу стрельцов к царскому семейству возвратиться в Москву Софья ответили требованием присылки к ней по двадцать человек выборных от каждого стрелецкого полка.
Они шли в Троицу как на казнь, но царевна, выслушав их повинные речи, прочла им приличествующее случаю нравоучение и ограничилась требованием коллективной челобитной «за общим рукоприкладством», а также выдачей второго сына Хованского, которого сначала приговорили к смертной казни, но потом помиловали и сослали с глаз долой. А во главе Стрелецкого приказа стал преданный Софье и крутой на расправу думный дьяк Федор Шакловитый, начавший исполнение своей должности с того, что казнил пятерых стрельцов, попытавшихся поднять новую смуту, и удалил из Москвы в дальние гарнизоны наиболее беспокойных.
После этого наступило семилетнее правление царевны Софьи от имени двух царей. И как бы кто-то не превозносил ее управленческие таланты, если они и были, то направлялись они исключительно на одно — чтобы как можно дольше сохранить власть в своих руках. Она не предпринимала абсолютно никаких мер к тому, чтобы хоть как-то изменить, усовершенствовать управление внутренними делами государства. А дел, проблем было более чем достаточно, начиная с поимки беглых холопов, борьбы с общеуголовной преступностью, пресечения разбоев на больших дорогах, чем не брезговали заниматься даже люди знатного происхождения, и заканчивая фанатичной войной со старообрядчеством. Последняя приняла инквизиторские формы с доносами, пытками и смертью на костре.
Более заметна внешнеполитическая деятельность правительства Софьи Алексеевны, связанная в основном с турецкой угрозой и ее любимцем — князем и боярином Василием Васильевичем Голицыным.
Впрочем, по шкале ценностей турецкого султана, Россия занимала все-таки второстепенное место. Целью его экспансионистских планов была более богатая и более благополучная Западная Европа. После взятия Чигирина (1679 г.?) и заключения русско-турецкого мира (1681 г.) султан нацелился на Центральную и Западную Европу. В этом ему благоприятствовала обстановка в Австрии, где против германского императора восстала Венгрия, а ее вождь Эммерих Текели попросил покровительства у Константинополя. При таком раскладе сил дальнейшее развитие событий предсказать было не трудно. Если турки захватят Вену, то судьба Польши будет предрешена. Что же касается следующей жертвы, то ею в одинаковой степени могли стать Италия или Россия, а потом и Франция.
Но это в будущем, а пока на повестке дня стояла Вена, и ее нужно было защищать. Защищать коллективно, ибо поодиночке турки могли разбить армию любого из соседних государств. Таким образом, союзнический договор, на первых порах хотя бы польско-австрийский, становился острой необходимостью, и Ян Собеский, король Польши, заключил его в мае 1683 года с императором германским Леонидом. Заключил вовремя, потому что уже в июле того же года потребовалось на деле доказывать верность союзническому долгу.
Двухсоттысячное турецкое войско подступило к Вене. Шесть недель оборонялся гарнизон, пока к нему на выручку не подошла 84-тысячная армия поляков, австрийцев, саксонцев, баварцев. Польский король принял на себя общее командование войсками и 12 сентября нанес туркам сокрушительное поражение. Оставив обозы, те начали поспешное отступление, больше напоминающее бегство, чем организованное отступление. Собеский же, перегруппировав свои силы, начал их преследование, настиг их под Парканами и вторично поразил. Это была блестящая победа.
Но Собеский знал, что турки пока никому не прощали своих поражений, а поэтому начал готовиться к новым сражениям, искать новых союзников. Весной 1684 года к польско-австрийскому договору присоединилась Венеция, но Варшава не теряла надежды на приобщение к священному христианскому союзу и русских царей. Однако те, чувствуя свою востребованность, настаивали на заключении «вечного мира» взамен Андрусовского перемирия и окончательной уступки Киева в свою пользу. Переговоры длились долго. Послы съезжались и разъезжались, ссорились и мирились, выказывали друг другу обиды, кичились своими христианскими подвигами. Наконец в апреле 1686 года, благодаря дипломатическим талантам Софьиного фаворита князя Голицына, договор был подписан в том виде, которого добивалась Москва. Правда, за Киев пришлось доплатить еще 146 тысяч рублей, зато теперь он, бесспорно, принадлежал русским царям. Бесспорно — если Москва выполнит и другие статьи договора, а они были нелегкими и сводились к разрыву мирного договора с турецким султаном и обязательству в следующем году послать все свои войска на крымского хана.
Однако, прежде чем мы перейдем к описанию несчастных крымских походов, следует напомнить, что еще до подписания этого договора состоялось весьма важное событие. Скрепя сердце патриарх Константинопольский Дионисий согласился уступить Патриарху Московскому и всея Руси Киевскую митрополию, что стало серьезной вехой на пути укрепления единого русско-украинского государства. С этой же целью по просьбе гетмана Самойловича в Киев, Переяславль и Чернигов из великорусских городов на «вечное житье» было переселено несколько тысяч человек с женами и детьми. Этим самым гетман хотел укрепить веру малороссиян в незыблемость состоявшегося союза и предупредить поляков от попыток вернуть Украину под свою корону.
Итак, осенью 1686 года начались приготовления к первому Крымскому походу. В качестве причин объявления войны значились: желание обезопасить Московское государство от постоянной угрозы татарских набегов, разорений и полонов; воздаяние за прежние обиды и унижения веры православной и людей русских; избавление от постыдной для государей дани, ежегодно выплачиваемой крымскому хану, но не обеспечивающей защиту границ государства. Во главе Русской армии был поставлен фаворит правительницы — неплохой дипломат, но никудышный военачальник — князь Василий Голицын, не имевший к тому же среди своих подчиненных талантливых генералов и полковников.
В начале мая 1687 года 60-тысячное русское войско, построенное в каре (один километр по фронту и два километра в глубину), со скоростью 10 километров в день начало движение на юг из места своего сосредоточения на реке Мерло. Оно проследовало мимо Полтавы, переправилось через реку Орель. Во время переправы через Самару к войску Голицына присоединилось до 50 тысяч малороссийских казаков во главе с гетманом Самойловичем. 13 июня уже 100-тысячная армия переправилась через очередную водную преграду, реку Конские Воды, и расположилась лагерем. Тут-то и выяснилось, что впереди у них непреодолимая преграда в виде выжженной степи в глубину на двести километров. Военный совет решил было продолжить поход, но два последующих дня показали всю тщетность этой попытки, и Голицын отдал приказ повернуть назад. Неудачу похода не скрасили даже две тактические победы, одержанные донскими казаками у реки Овечьи Воды и запорожцами в урочище Кызы-Кермень.
Как ни странно, но у этого бездарного похода были два положительных результата: первый — строительство в устье реки Самары Новобогородской крепости, ставшей опорным пунктом второго Крымского похода; второй — отвлечение на себя сил Крымского ханства, что ослабило турецкую армию и позволило коалиционным силам Австрии, Польши и Венеции вести успешные боевые действия в Венгрии, Далмации, Морее, что в конечном итоге привело к «турецкой смуте» и свержению султана Магомета IV.
Тем не менее в глазах россиян Крымский поход выглядел неудачным. В России же за неудачи всегда положено было назначать виноватых. Но фаворит не мог быть виноватым по определению, поэтому «козла отпущения» нужно было искать на стороне, и он нашелся в лице гетмана Самойловича, которого обвинили в том, что степь сожгли не татары, а запорожские казаки, по каким-то причинам не желавшие поражения крымчаков. Не исключалось и личное участие в этом самого гетмана. Слух был запущен, а тут подоспела и челобитная от его подчиненных. В ней Самойлович, этот последовательный проводник царской политики в Малороссии на протяжении пятнадцати лет, но не без греха по части честолюбия и корыстолюбия, обвинялся в симпатиях к татарам и полякам, крамольных речах против московского правительства, чрезмерном самовозвеличивании и чуть ли не в сепаратизме. Вменялось ему и расхищение казны, и вымогательство взяток за назначения на те или иные должности. Но в доносе не было ни обвинений в поджоге, ни доказательств причастности гетмана к организации степных пожаров. И все же доносу был дан ход. Через некоторое время из Москвы поступило разрешение на отстранение Самойловича от власти. Он был арестован, допрошен, и опять никаких доказательств его измены: одни обвинения в чрезмерной гордости и мздоимстве. Чтобы казацкая вольница по своему обыкновению не учинила над теперь уже бывшим гетманом самосуда, его под надежным конвоем отправили в Орел, а потом и в Тобольск, где он через три года умрет.
Новым гетманом, с согласия князя Голицына, на казачьем кругу, в котором принимало участие лишь две тысячи казаков, был избран бывший комнатный дворянин польского короля Яна II Казимира, бывший генеральный писарь гетмана Правобережья Дорошенко, перешедший на службу московскому царю и дослужившийся при Самойловиче до звания генерального есаула (второе лицо после гетмана), — Мазепа. Злые языки говорили, что за свое избрание Мазепа заплатил князю Голицыну десять тысяч рублей.
Вопреки здравому смыслу и общественному мнению, Голицын по возвращении в Москву с подачи царевны Софьи был встречен как победитель «агарян» и изобличитель «изменников». Награды на него сыпались словно из рога изобилия, а его влияние на внутреннюю политику государства росло день ото дня.
Однако неудача Голицына в первом Крымском походе имела и еще одно крайне негативное последствие, но теперь уже для самой царевны. Она спала и видела себя на царском троне. Блистательная победа над крымским ханом дала бы ей славу освободительницы от «басурман» и возможность самой венчаться на царство. Но военный конфуз фаворита делал несбыточной ее мечту, следовательно, чтобы достигнуть желаемого, нужно было до достижения Петром совершеннолетнего возраста еще раз повторить эту попытку.
Тем временем обстановка на европейском театре военных действий менялась совершенно непредсказуемым образом. Победа австрийских и венецианских войск в Венгрии и Морее вылилась в принудительные действия по отношению к православным, проживавшим в освобождаемых от турок городах. Их церкви по воле победителей стали передаваться в распоряжение униатов или превращаться в костелы. Православные иерархи в лице бывшего патриарха Константинопольского Дионисия и нареченного патриарха Сербского Арсения, а также валахский господарь Щербан Кантакузин возопили к московским царям, призывая их спасти православных христиан от ослабевших «бусурман» и избавить их от нашествия «папежников». В своих призывных грамотах они обещали, что как только русские поднимутся на турок, то к ним присоединятся валахи, сербы, болгары, молдаване численностью не менее 300 000 человек и победа над Константинополем будет обеспечена.
Но в Москве думали сначала расправиться с крымским ханом и только потом начать наступление на дунайские владения турецкого султана. В сентябре 1688 года ратным людям было объявлено о новом походе на Крым и сборе на военные нужды «десятой деньги» с посадских и торговых людей, а в феврале следующего года 112-тысячное русское войско во главе с Голицыным двигалось по степи. Теперь им мешали не выжженная степь, а снег, стужа, грязь. В районе Ахтырки к московским полкам присоединился гетман Мазепа со своими запорожцами. Теперь степь запалили уже русские, но с таким расчетом, чтобы к подходу своих основных сил успела подняться новая трава. В середине мая произошла встреча с татарскими ордами, которые попытались стремительной атакой внести замешательство в ряды наступающих, но пушки рассеяли их по степи.
На том военные действия, по существу, и закончились: хан сидел в Крыму, а Голицын с огромным войском, но без воды стоял перед перекопскими укреплениями. Не решаясь на штурм, но надеясь, что хан испугается нашествия и согласится на выгодные для русских условия, Голицын затеял было переговоры. Впрочем, хан, видя бедственное положение армии противника, предусмотрительно уклонился от них. Голицыну же больше ничего не оставалось делать, как отступить восвояси. Бездарный с военной точки зрения поход и на этот раз помог австро-польско-венецианской коалиции тем, что сковал силы крымских татар и они не смогли оказать помощь турецким войскам, теснимым на европейском театре военных действий.
А с внутрироссийской точки зрения второй Крымский поход Василия Голицына, как и его первый поход, был не просто безрезультатным и чрезмерно затратным, но и катастрофическим для самой Софьи Алексеевны. Даже прежние сторонники правительницы увидели всю бесперспективность ее нахождения у власти и больше не решались открыто поддерживать ее в борьбе с Нарышкиными и Петром, который, кстати, женившись накануне второго Крымского похода, по русским законам уже считался полностью дееспособным и в любой момент мог отказаться от помощи своей старшей сестры в управлении государством. Что он в общем-то и начал делать.
Первым его шагом в этом направлении стала просьба к Софье не ходить 8 июля вместе с ним и Иваном на крестный ход в Казанский собор, как это она делала прежде в качестве правительницы при недееспособных царях. Софья не послушалась. Тогда Петр сам отказался от участия в этой церемонии и уехал из Москвы. Второй шаг, окончательно напугавший Софью, был его демонстративный отказ в аудиенции Василию Голицыну, возвратившемуся из своего второго бездарного похода и незаслуженно осыпанного царевной от имени царей всевозможными милостями. Софья поняла, что приходит конец ее правлению и что, если она хочет сохранить свое влияние, ей нужно что-то делать.
Это «что-то» в конечном итоге трансформировалось в заговор, внешне направленный против царицы Натальи Кирилловны, но подспудно имевший целью физическое устранение самого царя Петра. При слабоумном-то Иване она свой статус правительницы, безусловно, сохранила бы, а там — «как Бог даст». И вот, в ночь с 7 на 8 августа 1689 года думный дьяк Шакловитый, верный приверженец правительницы, под предлогом защиты царя Ивана, которому якобы угрожает опасность со стороны «потешных» солдат Петра, призывает в Кремль четыре сотни стрельцов, а на Лубянке в качестве заслона выставляет еще три сотни. Его подручники начинают агитировать стрельцов убить Наталью Кирилловну и верных ей бояр, а если царь Петр вступится за них, «то и ему спускать нечего».
Провокация не удалась, стрельцы не стронулись с места, а тем временем сторонники Петра решаются предупредить его о грозящей опасности. Петр босой, в одной сорочке скачет в лес, а потом, немного оправившись от страха, — в Троицкую лавру. На следующий день туда же прибывают мать, жена, преданные бояре, «потешные» солдаты, стрельцы Сухарева полка. Вновь образуются две столицы, два центра власти. В лавру толпой валят служилые люди, недовольные правлением Софьи и Голицына; Петр рассылает приказы стрелецким полковникам явиться к нему «для важного государева дела», а Софья выставляет караулы по земляному валу вокруг Белого города для того, чтобы перехватывать петровские послания. Тем не менее она видела, что чаша весов склоняется не в ее сторону. Тогда она решается вступить в переговоры. Отвергая обвинения в заговоре против Нарышкиных и самого Петра, она отправляет к нему двух бояр — те возвращаются ни с чем; она отправляет патриарха Иоакима — тот остается в Троице. После этого она решается ехать сама, но царь не допускает ее к себе и приказывает возвратиться назад. Не дождавшись полного и беспрекословного повиновения стрелецких полковников, Петр призывает в Троицу генерала Гордона и всех иностранных солдат, состоящих на службе московского царя. Те выполняют приказ, чем приводят Софью в еще большее смятение. Хуже того, стрельцы из числа сторонников Петра потребовали выдать им Шакловитого. Сначала она упорствовала, но, когда те стали угрожать набатом, что означало погром со всеми вытекающими отсюда последствиями, Софья сдалась.
Суд над сторонниками правительницы был скорый и в общем-то правый: 11 сентября были казнены Шакловитый и два его ближайших помощника — Петров и Чермный; трем стрельцам после наказания кнутом урезали языки; Василия Голицына лишили боярского звания и сослали вместе с семьей в Каргополь, такому же наказанию подверглись еще два Софьиных приспешника. Остальных же простили. Достаточно гуманно для тех времен.
Оставалась Софья. Ее судьба решилась после того, как старший царь Иван согласился с предложением царя младшего, Петра, обещавшего почитать его, как отца, самим вступить в правление государством. Получив согласие брата, Петр послал в Москву боярина Троекурова с приказанием Софье переселиться в Новодевичий монастырь. Та, посопротивлявшись, в конце сентября вынуждена была выполнить волю брата. Ей было предоставлено полное обеспечение с прислугой, но без права передвижения за пределами монастырских стен.
Глава VI
Петр Первый. Становление
Мы подошли к одному из самых спорных и в то же время к одному из самых судьбоносных периодов в истории государства Российского — к периоду царствования Петра Алексеевича. Годы правления первого российского императора и ученые, и просто пытливые люди по сию пору оценивают по-разному. Кто-то считает реформы Петра благом, а кто-то и бедой для России. Кто-то величает царя-императора Отцом Отечества, а кто-то и Антихристом. Кто-то «ему славу по нотам поет», а кто-то посылает в прошлое проклятья. Однако общеизвестно, что радикализм в политике и общественных науках, будь он левым или правым, всегда носит в себе некий экстремизм, замешанный на эмоциях, а потому, если мы хотим хотя бы приблизиться к истине, то должны учитывать все «за» и «против». Только при таком подходе появляется возможность относительной объективности в оценке прошлого и настоящего, в оценке того или другого исторического персонажа.
На формировании личности будущего императора сказались многие обстоятельства. Начнем хотя бы с того, что по своему внешнему виду он был «ни в мать и ни в отца, а в проезжего молодца». В причастности к его появлению на свет, и не без основания, кто только не подозревался, вследствие чего уже в зрелом возрасте Петр произвел личное расследование со всем пристрастием, присущим тому времени, но получил в ответ лишь маловразумительное признание, что «много нас ходило к матушке-царице». Общеизвестно и его психическое состояние с детских лет. По внешним проявлениям он страдал малыми эпилептическими припадками, впадая в иррациональное стремление что-нибудь разбить, сломать, бросить на пол. Во взрослом состоянии это проявлялось уже в приступах ярости и чрезмерной жестокости. Временами на него накатывал панический страх, и он бежал, не до конца осознавая своих действий. Из того же ряда и его неспособность сосредоточиться на чем-то основательном, его неусидчивость, суетливость. В свете этих знаний мы уже иначе можем оценивать и его хвалебную характеристику, что он «не ходил, а бегал».
Удивительно, но, как утверждают историки, его по-европейски воспитанная мать не смогла дать своему сыну достойного образования. По сравнению с Федором Алексеевичем и царевной Софьей, он был безграмотным избалованным варваром с отсутствием какого-либо представления о культуре, приличиях и такте. Его воспитанием с пятилетнего возраста занимался изрядно пьющий приказной подьячий Никита Зотов, к пятнадцати годам с горем пополам обучивший его грамоте по Часослову, Псалтырю, Евангелию и по книжкам с картинками. Говорят, что четыре действия арифметики Петр осилил лишь в шестнадцать лет под руководством голландского наставника Тиммермана.
Но со стороны — это развитой, умный наследник престола. В десять лет он уже царь и изрекает умные мысли, но… не свои, а Софьи, скрытно сидевшей за спинкой двойного царского трона. Правит страной опять же сестрица, Софья Алексеевна с «мил дружком» Василием Голицыным. И неплохо правит, если не считать двух бездарных Крымских походов. А Петруша тем временем занят бесконечной игрой в «войнушку», в которой игрушечные сабли и мушкеты с годами сменяются настоящими, а на смену деревянным солдатикам приходят сыновья конюхов и мелкой придворной челяди. Со временем званием «потешного» солдата не брезгуют и выходцы из именитых семей: лишь бы быть ближе к будущему самодержцу. В ноябре 1683 года из них создается «потешный» Преображенский полк, причем строился он не по «московской старине», а по западному образцу, с «немецкими» офицерами и генералами.
К чести Петра, он не провозглашает себя главнокомандующим, а наравне с рядовыми солдатами осваивает военную науку, участвует в маневрах и военных походах в окрестностях Яузы. Забавы же эти требуют немалых средств, и Софья, ничего не подозревая, беспрепятственно отпускает из приказов порох, оружие, продовольствие, обмундирование, деньги. В 1685 году на берегу Яузы строится потешная крепость Пресбург, на которой Петр отрабатывает действия своего войска в обороне и при штурме. Именно в этих детских забавах рождалась будущая гвардия, ковалась грядущая элита империи.
С пятнадцати лет Петр становится завсегдатаем Немецкой слободы, где знакомится с основами геометрии и фортификации, получает первые навыки вождения малых судов под парусами. Здесь же он приобретает богатый сексуальный опыт и приобщается к крупномасштабным попойкам. Через год он переносит свои корабельные забавы на Переяславское озеро. Там с головой окунается в судостроение и кораблевождение.
Мы уже упоминали, что на Руси в те времена опека устанавливалась до достижения опекаемым совершеннолетия, 17 лет, или до его бракосочетания, которое автоматически делало его полностью дееспособным. Но если Петр, увлеченный своими играми, не торопился брать бразды правления государством в свои руки, то матушка его, Наталья Кирилловна, спала и видела, как бы поскорее спровадить обратно в терем, а то и в монастырь ненавистную падчерицу. Она подобрала подходящую себе невестку, Евдокию Лопухину, и принудила своего шестнадцатилетнего сына жениться на ней. Петру же, как мы уже упоминали, было не до жены и не до управления царством, его тянуло к себе Переяславское озеро с его кораблями и морскими забавами. И только угроза захвата престола Софьей, с помощью возвращавшегося из второго Крымского похода Василия Голицына, заставила Петра вернуться в столицу и принять участие в операции, разработанной окружением его матери, по отстранению Софьи от власти. Мы уже говорили о том, как Петр запретил Софье участвовать в крестном ходе и как он возражал против необоснованных наград участникам Крымского похода. Мы уже знаем, что произошло в ночь с 7 на 8 августа 1689 года, как Петр панически бежал в Троицкий монастырь и как Софья в конце концов оказалась узницей Новодевичьего монастыря, как Петр с малодушного согласия старшего брата — слабоумного Ивана — стал единовластным царем.
Правление Милославских сменилось правлением Нарышкиных. Отныне страной управляют Наталья Кирилловна и патриарх Иоаким, Лев Кириллович Нарышкин возглавляет Посольский приказ, а семнадцатилетний Петр возвращается к своим воинским потехам и кораблестроению. В 1690 году он проводит крупномасштабные маневры в селе Семеновском, в следующем году — под стенами потешной крепости Пресбург. Лето 1692 года Петр со всем московским двором проводит на Переяславском озере, а через год — в Архангельске, где присутствует при закладке новых морских кораблей, путешествует по Белому морю и чуть не гибнет во время путешествия к Соловецким островам.
Как ни странно, но этот период времени, период полновластия хваленой «западницы» Натальи Кирилловны, был ознаменован возвратом московского быта к «старине глубокой». Уходила мода на польский язык и польскую культуру. Осуждалось брадобритие и поощрялось ношение долгополой одежды. В пику всему этому Петр через иностранных офицеров своих «потешных» полков, под предлогом знакомства с европейскими новинками, сближается с жителями Немецкой слободы, что, безусловно, расширяет круг его военно-технических знаний, а заодно и увлекает чисто внешними атрибутами жизни европейских народов. Молодой и взбалмошный царь начинает их слепо копировать, наполняя элементами бесшабашного веселья, разнузданного пьянства и кощунственных оргий.
Пить Петр начал рано. Кто-то обвиняет в этом Наталью Кирилловну, таким образом якобы отвлекавшую Петрушу от государственных дел, кто-то — Никиту Зотова, а кто и Франца Лефорта, не сведущего ни в какой отрасли знаний, но отчаянного авантюриста, заводилу и душу любой компании. Правда, время от времени Петр пытался вмешиваться в государственные дела, но усилиями Нарышкиных он умело нейтрализовывался и все шло так, как того хотело окружение Натальи Кирилловны.
Одна из таких его попыток была связана с избранием нового патриарха взамен умершего Иоакима. У Петра была своя кандидатура, у матери — своя. Когда восторжествовала точка зрения вдовствующей царицы, недовольный государь в пику материнской партии и церковной иерархии учредил «всешутейский и всепьянейший собор», представлявший собой кощунственное глумление над всей Православной церковью и церковными обрядами и просуществовавший, в отличие от «потешных», вплоть до самой его смерти. В этом «соборе» была учреждена должность «всешумнейшего, всешутейского пресбургского, кокуйского и всеяузского патриарха», именуемая еще «князь-папа». Были там свои кардиналы, епископы, архимандриты, иереи, диаконы, а также «всешутейшие матери-архиерейши» и «игуменьи». Основным правилом «собора» было «быть пьяным во все дни и не ложиться трезвым спать никогда». Члены этого непотребного сборища не ограничивались своим кругом. Трезвенников они громогласно отлучали от всех кабаков в государстве, а борцов с пьянством предавали анафеме. Нередкими были случаи, когда пьяная компания кощунников вламывалась в дома московской знати, требовала водки и, напившись, устраивала погром, сопровождавшийся насилием и издевательствами над гостеприимными хозяевами и их домочадцами.
25 января 1694 года после непродолжительной болезни на 42-м году жизни умерла царица Наталья Кирилловна. Казалось бы, что смерть эта должна была как-то образумить Петра, заставить его всерьез заниматься государственными делами, заботиться о благополучии и достатке своих подданных, пополнении царской казны, но его не отпускали воинские потехи, морские путешествия и «шутейные» забавы. Лето и осень того года были ознаменованы двумя событиями: военными маневрами у села Кожухово, близ Симонова монастыря, в которых принимало участие около 30 тысяч человек, и вторым морским походом по Белому морю. Справедливости ради нужно сказать, что затянувшаяся игра в солдатики была уже не просто игрой. Как-то незаметно детская забава превратилась в хорошую, но трудную школу как для солдат и офицеров, так и для самого царя. Мы знаем, что в детской игре все хотят быть главными, но Петр не стремился к этому. Он и так был самым главным. В игре-учебе ему было нужно другое, а именно приобрести совершенно конкретные навыки. Их-то он и приобретал, последовательно продвигаясь по военной лестнице от рядового солдата и бомбардира до ротмистра, шкипера, капитана.
Историки расходятся во мнениях о том, кто был инициатором Азовских походов. Многие сходятся на Лефорте и других «потешных» генералиссимусах и генералах — уж больно похож был первый поход на очередную военную игру. В то же время окружение Петра начинало понимать, что пора бы им уже заняться чем-то не понарошку, а серьезно, во благо России и для поднятия имиджа царя в глазах европейских дворов, куда так тянул Лефорт своего венценосного друга и собутыльника. Как бы там ни было, но в апреле 1695 года 30-тысячное войско в составе Преображенского, Семеновского, Бутырского и Лефортовского полков, московских стрельцов и городовых солдат во главе с Головиным, Лефортом и Гордоном, при бомбардирской команде «Петра Алексеева» выступило в сторону Азова. Одна часть армии передвигалась пешим порядком, а другая — на речных судах. 29 июня все они соединились под стенами города-крепости Азова. Но первый блин оказался комом: ни артиллерийский обстрел, ни два предпринятых штурма успеха не принесли. Турки, снабжаемые по морю всем необходимым, умело оборонялись и даже совершали результативные вылазки за крепостные стены. Через три месяца осаду пришлось снять. Не в пример Петру и его «потешным», удачно действовало дворянское ополчение Шереметева и казаки Мазепы в низовьях Днепра, выполнявшие отвлекающий маневр. Они штурмом овладели городами Кази-Кермень и Таган, захватив попутно еще два города, оставленных турецкими гарнизонами.
С. М. Соловьев говорит, что именно с «неудачи азовской начинается царствование Петра Великого». И действительно, фиаско под Азовом взбодрило двадцатитрехлетнего «хозяина земли Русской» и подвигло его на поиск путей решения уже не учебной задачи, а военно-стратегической. Он понял, что Азов можно взять, лишь отрезав его от моря, а для этого необходимо создавать собственный сильный флот. Осень и зима 1695/96 года были посвящены решению этой «общенациональной программы». Для этого со всех русских земель в Москву и Воронеж сгоняли людей, умеющих держать топор в руках. В Москве по голландскому образцу делали заготовки для галер и брандеров, а в придонских лесах и в окрестностях Воронежа, Козлова, Сокольска строили корабли, струги, лодки, плоты. Согнать-то людей согнали, а об обеспечении им нормальных условий, о снабжении продовольствием как следует не позаботились. Начались извечные в таких случаях проблемы: голод, холод, болезни, а за ними и ужасающая смертность.
Работники, занятые на лесоповале и на верфях, стали разбегаться по домам, вновь мобилизованные бежали с этапа, возчики бросали поклажу и уходили в леса. Их отлавливали, били кнутом, заковывали в кандалы, вешали для острастки другим. От этого побеги начали приобретать другую направленность: беглецы и «нетчики» сбивались в разбойничьи ватаги, грабили проезжих, нападали на караваны и мелкие населенные пункты, поджигали корабельные леса. В разгар этих событий тихо и как-то незаметно 29 января 1696 года умер старший царь, Иван Алексеевич, оставивший после себя жену, Прасковью Федоровну Салтыкову, и дочерей — Анну и Екатерину.
И все же флот какой-никакой был построен. В апреле на воду спустили 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера. Адмиралом флотилии стал все тот же незаменимый Лефорт, а главнокомандующим сухопутными войсками — боярин Алексей Семенович Шеин. В начале июня Русская армия достигла Азова и заперла устье Дона, лишив тем самым турецкий гарнизон помощи со стороны моря. 16 июня начался обстрел крепости, от которого больше страдали жилые постройки, чем крепостные укрепления.
Прибытие выписанных из Австрии артиллеристов и минеров задержалось, и осаду повели старым дедовским способом. Осаждающие засыпали крепостной ров, а на уровне крепостного вала стали возводить свой вал, который, приближаясь к крепости, превращался в плацдарм для будущего штурма. Прибывшие иностранные специалисты использовали рукотворные сооружения в качестве удобной огневой позиции. Артиллерии удалось разрушить часть крепостных сооружений. Через проломы в стенах две тысячи украинских и донских казаков проникли в крепость и закрепились там. Русская армия стала готовиться к генеральному приступу, но турки, видя безвыходность своего положения, 18 июля согласились сдать крепость при условии, что им будет предоставлена возможность покинуть ее стены при оружии, с женами, детьми и пожитками. Петра вполне устраивало такое завершение кампании, и он принял эти предложения.
Но одно дело — взять крепость и совсем другое — сохранить ее за собой. С этой целью в Азове и его окрестностях были расквартированы четыре московских стрелецких полка, которые приступили к восстановительным работам. А для того чтобы город жил полнокровной жизнью, Петр решил населить его жителями, способными обустроить его, и переселил туда три тысячи семей из близлежащих южных городов. На берегу Азовского моря стали создаваться и другие военизированные населенные пункты, а на мысе Таганрог приступили к строительству новой крепости и морской гавани.
30 сентября 1696 года Москва торжественно встречала победителей. Повод действительно был выдающийся, ибо таких военных успехов постоянно воюющая Россия не знала более сорока лет. Однако за чествованием победителей и чередой пиров Петр теперь уже не забывал и дел государственных. Воодушевленный положительной ролью флота в азовской баталии, он, в расчете на будущую войну с турками, решил и дальше развивать кораблестроение, но уже не за счет казны, а на средства служилого и тяглового населения.
По предложенной царем «раскладке» каждые восемь тысяч монастырских крестьянских хозяйств и каждые десять тысяч дворов, расположенных на вотчинных и поместных землях, должны были построить по одному кораблю. Торговые и посадские люди вместо десятой деньги, собираемой с них в прежние годы на военные нужды, обязывались профинансировать строительство двенадцати кораблей. Причем постройкой кораблей должен был заниматься уже не царь, не шутовской «князь-кесарь» Федор Ромодановский и даже не Лефорт, а создаваемые для этих целей компании, или, как их тогда именовали, кумпанства. Правительство в лице Владимирского судного приказа оставляло за собой функции заказчика, «конструкторского бюро» и «отдела технического контроля». Глава приказа окольничий Протасьев в связи с этими изменениями получил звание «адмиралтейца».
Окрыленный первым военным успехом, Петр в мыслях уже видел себя освободителем всех христиан от турецкой экспансии, затопившей Балканы и угрожавшей практически всей Европе. Но он уже отлично понимал, что в одиночку с этой задачей ему не справиться. Поэтому царь и его иностранное окружение стало готовить небывалое ни до, ни после него Великое посольство в Европу, чтобы подтвердить и закрепить прежние договоренности о войне против турецкого султана, а по возможности подыскать и новых союзников. Великими полномочными послами были назначены наместники новгородский Франц Лефорт и сибирский — Федор Головин, думный дьяк Прокофий Возницын. Их должна была сопровождать свита из пятидесяти дворян и волонтеров, среди которых значился «урядник» Преображенского полка Петр Михайлов.
Подготовка к Великому посольству уже завершалась, когда открылся заговор на жизнь царя. Был ли заговор на самом деле или его придумали, судить сложно, так как все доказательства по «розыску» были добыты пытками, а под пыткой чего только не покажешь, если «заплечных дел мастера» к тому же имеют совершенно четкий политический заказ. А может быть, Петр перед отъездом за границу решил для острастки провести «показательную порку», чтобы в его отсутствие и мыслей крамольных не было? Как бы то ни было, но два представителя древнего боярского рода, Алексей Соковнин и Федор Пушкин, обрусевший иноземец стрелецкий полковник Иван Цыклер, стрельцы Филиппов и Рожин, казак Лукьянов признались, что злоумышляли на жизнь царя, оговорив при этом в подстрекательстве царевну Софью и уже умершего Ивана Милославского. 4 марта 1697 года состоялась казнь, при этом возле плах, на которых рубили головы «ведомым ворам и изменникам», был установлен гроб с останками Милославского, выкопанными из земли, на которые стекала кровь казненных, «дабы кровь их на нем была».
А 10 марта, оставив царство на Боярскую думу, патриарха Андриана и «князя-кесаря» Федора Ромодановского, самодержец всероссийский Петр Алексеевич в составе Великого посольства покинул Москву, чтобы через семнадцать месяцев вернуться туда совсем уже другим человеком.
Начало путешествия было омрачено плохой дорогой, нехваткой подвод и продовольствия в шведской Лифляндии, а более всего — враждебной подозрительностью рижского губернатора Дальберга, отказавшего царю даже в возможности осмотреть город и крепость. Совсем другой прием путешествующему инкогнито царю был оказан в Курляндии, чьи правители практически всегда поддерживали дружеские отношения с московскими царями. Следующей остановкой на пути Великого посольства был Кёнигсберг, куда Петр прибыл морем из Либавы. Здесь он за короткое время прошел курс артиллерийской стрельбы у подполковника Штернфельда и совершенно заслуженно получил свидетельство о том, что он повсеместно может быть признаваем и почитаем за «исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника».
Но это было, как говорится, дело частное и не помешало его делам государственным. С курфюрстом Бранденбургским Фридрихом III Петр заключил договор о свободе торговли, правовой помощи и свободе проезда русских подданных в Германию для обучения. Одновременно он благоразумно уклонился от союзнического с ним договора против Швеции, чтобы не вносить изменений в европейскую расстановку сил до окончания Турецкой войны.
Нужно было ехать дальше, но в Кёнигсберге Петра неожиданно задержали польские дела. Республиканская Польша с ее традицией выборности королей уже который раз переживала период междуцарствия. После смерти короля Яна Собеского на польскую корону претендовало более десяти человек, однако самыми реальными кандидатами были французский принц Конти и курфюрст Саксонский Фридрих-Август. С точки зрения участников антитурецкой коалиции (Россия, Польша, Австрия и Венеция), нежелательность избрания француза на польский престол была очевидной, так как Франция поддерживала дружеские отношения с Турцией и король-француз мог запросто изменить внешнюю политику Польши и разрушить этот христианский союз. Петр понимал это не хуже других, а поэтому послал «панам радным» грамоту, в которой предупредил, что в случае победы французской партии на королевских выборах может пострадать не только христианский союз, но и «вечный мир» Москвы и Варшавы. В подтверждение своих слов Петр направил к польским границам русское войско во главе с князем Михаилом Ромодановским.
В самой же Польше противостояние двух радных партий доходило до открытых вооруженных столкновений, но в конечном итоге победа досталась-таки Августу, с чем его Петр и поздравил. В ответ новоизбранный король в знак благодарности дал честное слово царю московскому быть с ним в вечном союзе против «врагов креста святого».
В конце июня Петр продолжил свой путь на запад. Достоянием истории стали воспоминания двух немецких курфюрстин — Софии и ее дочери Софии-Шарлотты, встречавшихся с русским царем в местечке Коппенбрюгге. В их глазах он предстал необразованным, невоспитанным и грубым варваром, лишенным каких бы то ни было светских манер, но вместе с тем наделенным блестящими способностями, живостью ума, благородной осанкой и прекрасными чертами лица. Отметили они и его нервические гримасы, с которыми он никак не мог справиться. В итоге, не мудрствуя лукаво, они, кажется, сделали о нем самый верный вывод: «Это человек очень хороший и вместе очень дурной».
Дальнейший путь его лежал по Рейну, через каналы, в будоражащую царское воображение Голландию. Неделю Петр жил и работал на знаменитых верфях в Саардаме под видом простого плотника, а потом перебрался в Амстердам, где прожил четыре с половиной месяца. Это были тяжелые времена для принимающей стороны. Царь все хотел видеть и все хотел знать. Его интересовало буквально все: китобойный флот и анатомический театр, госпитали и воспитательные дома, фабрики и мастерские, но главное — верфь. Здесь он присутствовал на строительстве фрегата, и не только присутствовал, но и принимал участие в строительстве — от его закладки до оснащения. Одно не понравилось Петру: голландцы строили корабли «по навыку», а не по чертежам. Это уронило их в глазах царя, и в будущем он ориентировался уже не на них, а, как правило, на англичан и венецианцев. И еще одно большое дело сделал Петр в Амстердаме. С помощью бургомистра Николая Витзена, тесно связанного с Россией через обитателей Немецкой слободы, он сумел принять на царскую службу более ста мастеров по различным отраслям знаний, не считая большого количества специалистов морского и корабельного дела. Но главного он так и не добился: Голландия, ссылаясь на большие издержки, понесенные ею в войне с Францией, уклонилась от оказания помощи русскому царю в войне с Турцией.
В январе 1698 года Великое посольство прибыло в Англию, где его трехмесячное пребывание завершилось примерно с таким же результатом: Петр ознакомился с основами проектирования кораблей, освоил чертежное дело, навербовал около шестидесяти мастеров для работы в России, но привлечь английского короля в Священный союз христианских государей для борьбы с турецким султаном так и не смог. Более того, он узнал, что Англия и Голландия посредничают в мирных переговорах Турции с Австрией с тем, чтобы австрийский император, выйдя из одной войны, мог бы принять более деятельное участие в другой — в войне с Францией за так называемое наследство испанского престола.
Дело в том, что Испании, ставшей в начале XVI века самой могущественной державой мира и захватившей обширные области в Новой Индии, Северной Африке, Италии и в Северо-Западной Европе, не пошел впрок приток драгоценных металлов из заморских колоний. Укреплялись лишь абсолютизм, церковь и крупнейшие феодалы-латифундисты, тогда как мануфактуры, сельское хозяйство, торговля приходили в упадок. Обнищание населения, значительная эмиграция и отток капиталов довершили экономический крах. За ним последовало и политическое ослабление. Испания теряет свое господство как на море, так и на суше. Англия и Франция захватывают часть ее колоний. Она лишается своих владений в Нидерландах. Испано-французская граница перекраивается в пользу Франции. Португалия обретает независимость. В довершение ко всему ослабленная, обезлюдевшая, обанкротившаяся Испания после смерти бездетного короля Карла II становится призом в общеевропейской войне (Австрия, Англия, Франция и другие). Именно эта война и явилась основной причиной неудачи Великого посольства.
Раздосадованный неприятным открытием, Петр спешит в Вену для того, чтобы если не спасти антитурецкую коалицию, то хотя бы получить какую-то выгоду в создавшейся ситуации. Русское посольство прибывает в австрийскую столицу 16 июня. Однако уговоры продолжить войну с Турцией успеха не имеют. Тогда русский царь настаивает, чтобы при заключении мирного договора хотя бы были учтены интересы всех воюющих сторон. В частности, для России Петр хотел выговорить передачу под ее юрисдикцию города-крепости Керчи, без которой все его завоевания в низовьях Дона теряли всякий смысл, так как создаваемый русский флот оказывался запертым в Азовском море.
Доводы русской стороны были признаны справедливыми, ей обещали поддержать эти требования, но для верности все-таки порекомендовали взять Керчь силой оружия: тогда, дескать, и торговаться с турками будет проще. Успокоенный такими заверениями, Петр собрался было посетить Венецию, чтобы и там заручиться аналогичной поддержкой, но тревожные известия из России о новом стрелецком бунте заставили его прервать и без того затянувшееся заграничное путешествие и поспешить домой.
По пути в Россию близ местечка Равы, что в Галиции, состоялась еще одна знаковая для Петра встреча. Теперь уже с новым королем Польши Августом II. Никакие документы по результатам встречи стороны не подписывали, но вопрос о будущем союзе против шведов обсуждался, и, как показали дальнейшие события, в достаточно позитивном плане.
Итак, мы должны констатировать, что Великое посольство Петра Алексеевича потерпело полное фиаско. Ему не удалось склонить других монархов к продолжению войны с Турцией, им же их задача удалась вполне: они смогли переориентировать всю мощь Московского царства и энергию его честолюбивого царя на войну с досадившей им Швецией. Как говорится, пришел со своим мнением — ушел с чужим.
Что же произошло в России? Мы уже упоминали, что после взятия Азова в крепости были расквартированы четыре московских стрелецких полка. Считалось, что это мера преходящая, что по прошествии какого-то времени их заменят другие полки и они возвратятся в Москву к своим семьям, своим промыслам, своим доходным занятиям. К этому вроде и шло. Весной 1697 года им на смену из Москвы пришли шесть других стрелецких полков, и азовские сидельцы отправились на север. Однако путь их лежал не в Москву, а в Великие Луки под начало князя Михаила Ромодановского, посланного царем к литовской границе для оказания психологического давления на польскую шляхту, с тем чтобы она не выбрала себе в короли французского принца Конти.
Стрельцы, исстрадавшиеся от гарнизонной службы, тяжелых работ по возведению крепостных сооружений, недостатка продовольствия, а главное — от длительного проживания в непривычных для них бессемейных казарменных условиях, сочли это несправедливым и стали проявлять неудовольствие. Более того, узнав о том, что все стрелецкие полки выведены из Москвы и разосланы по пограничным городам, они расценили это как сознательное уничтожение стрелецкого войска.
Тогда около 150 человек решились на отчаянный поступок: они покинули расположение своих полков и отправились с челобитной в Москву. Их встретили миролюбиво, выдали причитающуюся им месячную норму кормовых денег, но потребовали, чтобы до 3 апреля они покинули Москву и вернулись к месту службы.
Не получив поддержки в Стрелецком приказе, стрельцы, памятуя свое безбедное существование при Софье-правительнице, решили обратиться к какой-нибудь из опальных царевен в надежде поучаствовать в очередном государственном перевороте. Через прислуживающих царевнам стрельчих они передали свою челобитную Марфе Алексеевне, а та, в свою очередь, передала ее Софье. Говорят, что от бывшей правительницы было письмо стрельцам, в котором она якобы призывала их в Москву, для того чтобы они помогли ей возвратиться к управлению государством. Было ли такое письмо на самом деле — неизвестно; известно лишь, что какое-то письмо с призывом к стрельцам все-таки зачитывалось на их собраниях. Стрельцы воспряли духом и отказались возвращаться к месту дислокации своих полков. Тогда «князь-кесарь» отдал команду Бутырскому солдатскому полку выдворить их за пределы города, что и было сделано 5 апреля.
А через два месяца в Торопец воеводе Михаилу Ромодановскому пришел указ из Москвы распустить по домам дворянское ополчение, а стрельцов отправить на службу в Вязьму, Ржев, Белую и Дорогобуж. Стрельцы заволновались, но под угрозой применения вооруженной силы нехотя и крайне медленно двинулись к месту назначения. Однако, дойдя до Двины, они взбунтовались, сместили со своих постов командиров и, выбрав на их место других людей, повернули к Москве. Из-за своей малочисленности — 2200 человек — они хотели засесть в каком-нибудь подмосковном городе, откуда разослать гонцов к донским казакам и другим московским стрельцам, разбросанным по окраинам государства, чтобы те шли в Москву бить бояр и немцев, ставить на правление Софью, а царя, стакнувшегося с немцами, в Москву не пускать. Навстречу слабо организованной стрелецкой массе правительство отрядило боярина Шеина с генералами Гордоном и Кольцовым-Масальским во главе 4-тысячного войска при 25 пушках.
Они встретились 17 июня на реке Истре неподалеку от Воскресенского монастыря. Стрельцы прислали Шеину письмо, в котором жаловались на тяготы службы, оскудение, недоедание, на плохое отношение к ним со стороны царских воевод и просили пропустить их в Москву, чтобы хоть какое-то время побыть со своими семьями, после чего они соглашались пойти «всюду, куда великий государь укажет». Шеин не поддался на эту уловку, но, не желая проливать лишней крови, вступил с ними в переговоры. Сначала их увещевал Гордон, затем — князь Кольцов-Масальский, но стрельцы стояли на своем. Вдобавок они проговорились, что идут защищать москвичей и всех людей русских от немцев, которые хотят ввести брадобритие, курение табака и ниспровергнуть православное благочиние. Шеин еще раз предложил стрельцам сложить оружие, «в винах своих добить челом государю», угрожая в противном случае открыть огонь из пушек. Но и это не возымело действия. Первый залп, произведенный поверх голов, лишь ободрил взбунтовавшихся, но последующие три залпа рассеяли толпу, отбив последнюю охоту к сопротивлению. В течение часа баталия завершилась. В царском войске был убит один человек, стрельцы же потеряли 17 убитыми и 37 ранеными.
Тут же начался розыск, скорый и жестокий, но вот что удивительно: никто не сказал о письме от царевны. Поэтому возникает резонный вопрос: а было ли оно? За пытками и «допросами с пристрастием» последовали массовые казни с устрашающими виселицами вдоль дорог. Более 1700 человек были разосланы по тюрьмам и монастырям. Лишь единицы избежали наказания.
А грозный царь уже близко, но это уже не тот заигравшийся в «войнушку» «потешный» бомбардир и даже не тот корабельный плотник или шкипер, стремившийся все пощупать своими руками и до всего дойти самому. В Москву возвращался совершенно другой человек. Это было существо, возомнившее себя равным Богу, правомочное оценивать окружающий его мир и выносить приговор: что достойно жить, а что подлежит уничтожению. Это было воплощение одержимого фанатика, знающего истину в последней инстанции. Это был зомби или механический человек, предназначенный выполнить заложенную в него программу, чего бы это ни стоило — материальных ли затрат, человеческих ли жизней. Уезжая за границу в свое семнадцатимесячное путешествие, Петр казнью Цыклера, Соковнина, Пушкина и других как бы напомнил о том, «кто в доме хозяин»; возвратившись же, он решил взорвать дом, доставшийся ему от предков, чтобы на том месте выстроить другой и заселить его новыми, более совершенными и во всем послушными ему людьми.
25 августа 1698 года Петр Алексеевич прибыл в Москву и на следующий же день приступил к операции по устрашению своих подданных. Ему нужно было сломить их волю к сопротивлению, заставить повиноваться любому его приказу, даже если он расходится со здравым смыслом. Собравшихся у него в Преображенском дворце бояр и дворян он напугал своей курительной трубкой и вырывающимся из ноздрей табачным дымом, а еще больше — большими ножницами, которыми он начал собственноручно обрезать придворным бороды, испокон веков долженствующие свидетельствовать об их приверженности православию.
Это был шок. То, о чем предупреждали стрельцы, свершилось: русскому благочинию приходил конец. Но тирания никогда не любила умных и самостоятельных людей: для нее они представляют смертельную опасность, а поэтому подлежат уничтожению. К тому же расправа со стрельцами должна была послужить хорошим уроком для бояр и дворян, оплакивающих свои бороды, длиннополые охабни и однорядки, сломить их сопротивление государевым нововведениям.
В середине сентября начался повторный розыск по делу стрельцов, отличавшийся неслыханной жестокостью. Под пытками были вырваны признания о том, что переписка стрельцов с царевнами действительно существовала, что стрельцы просили Софью взять бразды управления государством в свои руки и что она сама поощряла их к этому. Судьба несчастных была предрешена. Казни начались 30 сентября и продолжались до 21 октября. В этот промежуток времени было казнено, как утверждает С. М. Соловьев, 976 человек. Причем в казнях принимали участие как профессиональные палачи, так и царедворцы, которых Петр хотел «повязать кровью». Борис Голицын своим неумением держать топор в руках только усугубил страдания своей жертвы; Федор Ромодановский отсек четыре головы; Алексашка Меншиков, входивший в фавору, с легкостью обезглавил 20 человек, и, говорят, сам царь «размял свои богатырские плечи» на пяти стрельцах. Пять месяцев трупы казненных валялись на месте казни в назидание и устрашение другим.
Так царь-батюшка отблагодарил стрельцов, чьим ратным подвигом два года назад была одержана его первая виктория. Но это была только первая волна казней, время второй пришло в феврале следующего года, когда на плаху были отправлены еще несколько сотен человек, замешанных в стрелецком бунте. Те же из московских и азовских стрельцов, кто не принимал участия в беспорядках, были распущены и выселены из Москвы вместе с семьями. Военная карьера для них была закрыта навсегда.
Не остались безнаказанными и царевны. Марфу Алексеевну постригли под именем Маргариты в Успенском монастыре печально знаменитой Александровской слободы, а Софью Алексеевну — под именем Сусанны в Новодевичьем монастыре, приставив ей охрану из сотни солдат.
В разгар розыска по делу стрельцов Петр совершил кощунственный поступок, надругавшись над святостью брака. Без каких-либо видимых причин он насильно отправил в суздальский Покровский девичий монастырь свою первую жену Евдокию Федоровну Лопухину, которая через год насильственно же будет пострижена под именем Елены. Причина этого поступка была в том, что не вписывалась эта патриархально воспитанная женщина, навязанная ему в жены девять лет назад, с ее отживающими взглядами на семейную жизнь в планы царя-реформатора. В глазах мужа она проигрывала Анне Монс, английской актрисе и другим доступным женщинам, с которыми Петру довелось общаться в заграничном путешествии. Не принимала она участия и в забавах своего супруга. Петра не остановило и то обстоятельство, что Евдокия воспитывала наследника престола, их общего сына, царевича Алексея, на которого отец из-за нелюбви к своей жене не обращал никакого внимания. Дальнейшее воспитание вынужденного сироты было поручено тетке его, царевне Наталье Алексеевне.
После краткой поездки в Воронеж для инспекции кораблестроительного дела Петр продолжил насаждение на Русской земле западно-европейских порядков. В январе 1699 года появляется царский указ об учреждении Бурмистрской палаты, в ведение которой передавались «расправные, челобитные и купецкие» дела, в том числе сбор государственных податей с посадских, купеческих и промышленных людей, проживающих в городах, кроме Москвы, а также в волостях, селах и деревнях, принадлежащих самому государю. Мера эта, как сказано в тексте самого указа, была направлена против обид, поборов, взяток и других злоупотреблений со стороны воевод и приказных людей. Горожанам, а также государевым уездным и промышленным людям предлагалось, «буде они похотят», избрать из своей среды «добрых и правдивых людей земских», которые приняли бы на себя ведение этих дел. Предполагалось, что бурмистры и другие выборные люди не будут такими корыстными, как воеводы и приказные люди, а реформа окажется настолько полезной и выгодной, что за переход на новую систему местного управления торговые и промышленные люди будут с радостью платить двойную ставку налогов.
Но практика показала, что и земские выборные не прочь поживиться за чужой счет. Тогда Петр поручил худородному Алексею Курбатову, изобретшему новый способ пополнения царской казны за счет продажи гербовой бумаги, взять под свой надзор и опеку это новое ведомство.
К этому же времени относится и царское предписание русским купцам объединиться, по примеру их западных коллег, в торговые компании, для того чтобы они могли успешно конкурировать и расширять свой рынок сбыта, что должно было увеличить их прибыль, а следовательно, и налоговые отчисления в казну.
Однако вернемся к международным отношениям. Мы уже говорили, что Европа готовилась сражаться за наследство испанского престола, что в предстоящей борьбе положение Франции было более предпочтительным и что с этим не хотели мириться ни Англия, ни Голландия. Начался естественный процесс сколачивания блоков. Франция сгруппировалась со Швецией, Англия же и Голландия хотели заполучить в союзники могущественную Германскую империю. Но, как известно, Австрия в то время вместе с Польшей, Россией и Венецией находилась в состоянии войны с Турцией. Причем именно ее больше всего опасался султан, стремившийся как можно скорее заключить мирный договор.
Мира с Турцией меньше всех хотела Россия, поставившая себе целью стать морской державой и уже вложившая много сил и средств в создание своей азовской флотилии. Но делать было нечего, приходилось отказываться от своих морских амбиций на южном направлении — не вести же войну один на один хоть и с ослабленным, но еще очень опасным противником!
В октябре 1698 года воюющие стороны съехались в Карловиче для заключения мирного договора. Странным был этот конгресс: Турция вела переговоры не с коалиционными силами, а, как бы сейчас сказали, сепаратно; каждая страна торговалась только за себя. Поэтому раньше всех мирный договор заключила Австрия, получившая Венгрию; за ней подписала свой договор Польша, удовлетворившаяся возвращением ей разрушенного Каменец-Подольского. Ни с чем осталась Венеция, а России, заявившей о своих претензиях на Керчь, турки в ответ предложили вернуть им Азов, а также Казы-Кермень и другие нижнеднепровские городки. Иными словами, запахло войной. И только переход русского посла Прокофия Возницына с увещевательной тактики на твердую позицию: мы, мол, войны не боимся — дал положительный эффект, а именно двухлетнее перемирие.
Второй этап русско-турецких переговоров продолжился в Константинополе, куда русское посольство во главе с думным дьяком Емельяном Украинцевым и дьяком Чередеевым прибыло на русском же военном корабле. Причем весь путь от Таганрога до Керчи послы проследовали в сопровождении всего «государева морского корабельного и галерного каравана» под предводительством первого кавалера ордена Андрея Первозванного генерал-адмирала Федора Головина и самого государя. В караване было десять кораблей, две галеры, яхта, два галиота, три бригантины и четыре морских струга. Это была откровенная демонстрация военной силы. Переговоры же, несмотря на богатые подарки турецким вельможам, шли трудно и растянулись почти на целый год. Неблаговидную роль при этом сыграли послы христианских государств Европы, желавшие продолжением Русско-турецкой войны отвести угрозу турецкого вмешательства в европейские дела. Тем не менее условия, приемлемые для обеих сторон, были найдены. Русским отходили Азов, Таганрог и другие городки, построенные на берегу Азовского моря, а также земли южнее Азова на десять часов езды. Взамен же России пришлось срыть Казы-Кермень и другие южноднепровские городки, ранее взятые запорожскими казаками и дворянским ополчением. Не удалось Украинцеву договориться и об отмене дани крымскому хану. Единственное, что он смог сделать, так это изменить формулировку. Теперь она носила не принудительный характер, а именовалась поминками «по милости государя московского». И это был не мирный договор, а перемирие, правда на тридцать лет.
В это же самое время в Москве велись переговоры о вступлении России в войну со Швецией, которая в предыдущие десятилетия успела нажить себе недоброжелателей как среди своих соседей, так и в лице своих же подданных. Инициатором этой затеи стал ливонский дворянин Иоганн Рейнгольд фон Паткуль, выступавший от имени всех ливонских рыцарей, недовольных изъятием у них земель в пользу шведской короны и решивших в связи с этим передаться в польское подданство. Но, чтобы это стало реальностью, была нужна маленькая победоносная война и поражение Швеции. Началось сколачивание военной коалиции. Первым на эту идею «клюнул» курфюрст саксонский Август, являвшийся одновременно и польским королем. Правда, сейм о военной авантюре своего короля пока еще не знал, но тот, располагавший к тому времени боеспособной саксонской армией, надеялся, что с ней он добьется успеха и ему удастся уговорить польское дворянство: ведь Польша реально могла заполучить всю Ливонию, что с давних пор являлось ее «голубой мечтой».
Вторым единомышленником Паткуля стал датский король Фридрих IV, у которого были свои давние счеты с Фридрихом III, герцогом Голштинии, союзником и зятем шведского короля.
Ну а Петр Алексеевич, потерявший надежду вывести свою страну в морские державы за счет выхода к южным морям, дал Паткулю и послу польского короля легко себя уговорить на участие в войне со Швецией, надеясь получить таким образом свободный выход к Балтийскому морю. Он поставил лишь одно условие: не начнет войну до заключения мирного договора с Турцией.
Но почему все так ополчились на Швецию? Чем она им всем так досадила? А дело, оказывается, в том, что Швеции в XVII веке неслыханно повезло на умных и деятельных королей. Ею последовательно управляли Карл IX (1604–1611), Густав-Адольф (1611–1632), Христина (1632–1654), Карл Х Густав (1654–1660), Карл XI (1660–1697): они сделали Швецию одной их великих держав Европы. К концу века власть шведского короля распространялась на собственно Швецию, а также на Финляндию, Эстонию, Ливонию, часть Ингерманландии, устья всех рек Германии, герцогства Бремен, Верден, Померания, Висмар. Понятно, что все эти территориальные приобретения не свалились с неба, а были отняты силой оружия у соседних государей, что, кстати, не забывается и не прощается. Поэтому, когда к власти пришел пятнадцатилетний Карл XII, обиженные соседи решили взять реванш. Однако они недооценили возможности молодого монарха.
Свой первый урок он дал датскому королю, который посмел обидеть его зятя, Фридриха Голштинского, изгнав его из его же собственных владений. 13 апреля 1700 года началась военная эпопея короля-воина. В этот день восемнадцатилетний монарх покинул королевский замок в Стокгольме, чтобы вернуться туда только через пятнадцать лет. Вместо увеселительных мероприятий, до которых он был большой любитель, Карл XII отправился к своей армии, с которой, переправившись через море, спустя некоторое время неожиданно появился перед беззащитным Копенгагеном. Боясь разрушения своей столицы, Фридрих IV поспешил заключить мирный договор с Карлом, по которому он признал полную самостоятельность Голштинии и заплатил ее герцогу 260 тысяч талеров в счет возмещения морального вреда.
Окрыленный успехом, Карл хотел было нанести следующий удар по саксонской армии польского короля, безуспешно промышлявшей под Ригой, но тут он узнал, что русский царь, шумно отпраздновав подписание русско-турецкого договора о перемирии, 22 августа выступил в сторону Нарвы. Посчитав, что армия Петра в этом раскладе является наиболее слабым звеном, шведский король решил сначала разделаться с ней и только потом обратить свое оружие против Августа. Погрузившись на корабли, он отправился в сторону Лифляндии.
А тем временем Русская армия численностью до 40 тысяч человек 23 сентября достигла Нарвы и 20 октября открыла по ней огонь из всех своих орудий в надежде, что слабо вооруженная крепость долго не продержится. Однако боеприпасы у нее скоро закончились и обстрел, в ожидании нового подвоза, пришлось прекратить. Закончилось и продовольствие, начался голод. Весть о приближении Карла вызвала смятение в русском лагере. Последовал приказ об укреплении позиций и организации наблюдения за передвижениями неприятельской армии. Для выполнения последней задачи навстречу шведам выдвинулась конница боярина Бориса Шереметева. В районе Везенберга армии вошли в соприкосновение, но русские, не вступая в бой, начали отступление, все время держа в поле зрения шведские боевые порядки.
17 ноября Шереметев прибыл под Нарву с вестью о приближении шведского короля. Царь Петр, не дожидаясь утра, в ту же ночь выехал вместе с фельдмаршалом Головиным в Новгород, вручив судьбу своей армии генералу австрийской службы герцогу фон Круи.
Историки до сих пор ломают голову над вопросом о природе этого поступка. Что это было? Трусость, очередной нервический припадок или паника? Теперь это лишь одному Богу известно. Но даже если мы согласимся на самую мягкую оценку, что это было проявлением разумной трусости, то нам все равно не избавиться от мысли, что Петр и под Нарвой продолжал играть в «войнушку» с той лишь разницей, что в данном случае она приобрела характер масштабнейшего гладиаторского боя, за которым его режиссер-постановщик решил понаблюдать с безопасного расстояния.
Есть мнение, что Петр покинул свою армию, заранее зная, что она обречена на поражение и что он сам уже ничего не мог сделать для ее спасения. Но это уже «медвежья услуга», потому что вместо оправдания эта версия выставляет «царя-батюшку» не просто трусом, а предателем своей же армии, своих же солдат и офицеров, которых он привел на это гладиаторское ристалище и бросил на произвол судьбы. Одним словом, куда ни кинь, а поступок этот темным пятном будет лежать на совести Петра Алексеевича до конца его дней.
Итак, Карл 19 ноября 1700 года во главе 8-тысячной армии, испытанной в боях, появился у русского лагеря, раскинувшегося на большой территории возле Нарвы. Его штурмовые команды под прикрытием разыгравшейся вьюги легко преодолели плохо укрепленные ограждения русских и, ведомые самим королем, сломили сопротивление плохо обученных и плохо управляемых русских войск. При первых же признаках поражения раздались крики о предательстве со стороны немецких офицеров и генералов. Под проклятия в адрес изменников начался неорганизованный отход ратников с занимаемых позиций, обернувшийся паническим бегством. Первой поле боя покинула конница Шереметева, которой больше всего и боялся шведский король. Она стала переправляться вплавь через реку Нарву, потеряв в неразберихе около тысячи человек утонувшими. Не менее трагическая участь ожидала пехотинцев, которые бросились к единственному мосту через реку, который, не выдержав тяжести, рухнул, унеся сотни человеческих жизней. Потеряв управление войсками, герцог фон Круи вместе с другими иностранными генералами и офицерами поспешил сдаться в плен шведам.
Он действительно поспешил, потому что битва еще не была проиграна окончательно. Бывшие «потешные» — Семеновский и Преображенский полки, а также отряд под командованием генерала Вейде продолжали организованное сопротивление. К ночи битва затихла, но королю было еще рано праздновать победу — в одночасье все могло измениться, а предлогов к тому было немало: тут и генерал Вейде с «потешными», тут и огромный полон, плохо охраняемый перепившимися трофейным вином шведскими солдатами, тут и усталость самого шведского войска. Но всего этого не знал и не оценивал русский генералитет. Военный совет в составе князя Якова Долгорукова, имеретинского царевича Александра, Автамона Головина и Ивана Бутурлина 20 ноября начал переговоры об условиях отступления русских войск, оказавшихся прижатыми к реке Нарве. Карл счел выгодным для себя отпустить русских восвояси. Он даже сделал рыцарский жест, сохранив им оружие «за храбрость, с какою они защищались», но потребовал себе всю русскую артиллерию.
На следующий день русские по восстановленному шведами мосту переправились на другой берег, а Карл торжественно вступил в спасенную им Нарву, имея в своем обозе 79 знатных русских пленников, в том числе 10 генералов.
Глава VII
Рождение Российской империи
Нарвская битва сделала Карла XII героем Европы, а Петра I — ее посмешищем. Оды королю-победителю чередовались ерническими пасквилями в адрес поверженного царя, памятные медали — карикатурными изображениями. Перед новым европейским завоевателем легкой добычей лежала практически беззащитная, морально и психологически уничтоженная Россия, потерявшая под Нарвой более десяти тысяч человек, всю полевую и осадную артиллерию. Казалось бы, плод созрел и нужно только протянуть руку, чтобы сорвать его.
Но успех и победы часто портят людей. После капитуляции датского короля и победы под Нарвой Карл XII возомнил себя великим полководцем. Теперь он думал только о войне и только о воинской славе, не считаясь ни с обстоятельствами, ни с мнением своих генералов. Карл посчитал Россию слишком легкой добычей для себя. Противник, на его взгляд, был настолько ничтожным, что его всегда можно поставить на колени, поэтому незачем тратить силы и время для того, чтобы подтвердить свое превосходство над уже поверженным врагом, если есть более достойные соперники, победа над которыми принесет больше славы. И он отказался от похода на Москву в пользу более престижного противника — курфюрста Саксонского и короля польского Фридриха-Августа. Обосновавшись в замке Лаис, в пятидесяти верстах от Дерпта, он стал поджидать подкрепления из Швеции, чтобы весной 1701 года выступить против Августа.
А что же Петр? Современники утверждают, что поражение не повергло его ни в панику, ни в уныние. Оно лишь раззадорило царя, и он с утроенной энергией принялся за укрепление Новгорода, Пскова, Псковско-Печерского монастыря и за создание новой армии. В то время как князь Аникита Репнин приводил в порядок войска, вышедшие из-под Нарвы (23 тысячи человек), князь Борис Голицын занимался формированием новых драгунских полков, набираемых за счет вольных людей и даточных поместных крестьян. Всего же к весне 1701 года будет подготовлено 10 полков иностранного строя.
Андрею Винниусу предстояло восстановить артиллерийский парк, для чего с русских церквей по указу Петра были сняты почти все колокола. Мера, явно не продуманная, ибо колокольная медь не могла быть использована непосредственно для изготовления пушек: для этого нужны были еще специальные присадки, закупаемые в те времена только за границей. И хотя к летней кампании 1701 года Винниусу все-таки удалось отлить 300 новых пушек, что более чем в два раза превышало нарвские потери, 90 процентов колокольной меди еще долгое время оставались неиспользованными.
В феврале 1701 года состоялась вторая встреча Петра с Августом и польскими вельможами, однако и на этот раз царю не удалось убедить поляков вступить в войну со Швецией. Панам радным было мало того, что царь обещал им оказать помощь в овладении Лифляндией и Эстляндией, — они хотели территориальных уступок со стороны самой России в Левобережной Украине. В первую очередь их интересовал город Киев с окрестностями.
Петр, естественно, на уступки не пошел, поэтому шведам в предстоящих битвах на польской территории должны были противостоять лишь саксонская армия Августа и 20-тысячный вспомогательный русский корпус под руководством князя Репнина. И даже при таком положении дел царь только за то, что Август будет вести активные действия против Карла и тем отвлекать на себя часть шведского войска, обещал ежегодно выплачивать ему по 100 тысяч рублей. Кроме того, двадцать тысяч рублей ему были выделены единовременно на подкуп польских сановников, которые согласятся лоббировать участие в войне Речи Посполитой.
В июне русский корпус поступил в распоряжение саксонского фельдмаршала Штейнау. Однако этот профессиональный военачальник через две недели наглядно показал, что и он сам, и его хваленые солдаты мало чего стоят перед шведским львом. Неподалеку от Риги Карл, переправившись в виду неприятеля через Двину, напал на Штейнау и нанес ему сокрушительное поражение. В результате саксонцы потеряли всю артиллерию, весь обоз и две тысячи человек убитыми.
Более удачно действовали русские войска, но на своем участке фронта. В конце декабря 1701 года при мызе Эрестфер в Ливонии Борис Шереметев, пользуясь численным превосходством, разбил отряд Шлиппенбаха. Русские в этой битве потеряли тысячу своих воинов, шведы — три тысячи убитыми и 350 пленными. Эта первая победа над шведами была расценена Петром Алексеевичем как достойный реванш за поражение при Нарве и торжественно отмечена в Москве. Шереметев за эту викторию удостоился производства в генерал-фельдмаршалы и вручения ордена Андрея Первозванного. За победой при Эрестфере последовал опустошительный рейд московских войск и украинских казаков по Дерптскому уезду. Весь чухонский полон, с молчаливого согласия Шереметева, достался казакам.
Через полгода Шереметев предпринял новое наступление на Шлиппенбаха. Сражение состоялось 18 июля при Гуммельсгофе. Силы и на этот раз были неравными. Тридцати тысячам русских противостояла всего лишь 8-тысячная шведская армия. Естественно, что и на этот раз победа досталась Шереметеву. Потеряв 800 человек убитыми и ранеными, русские положили на поле боя более пяти тысяч шведов и захватили всю их артиллерию, после чего Ливония вновь была подвергнута опустошительному набегу со стороны многонациональной российской армии. Через месяц генерал-фельдмаршал докладывал: «…все разорили и запустошили без остатку… осталось целого места Пернов и Колывань (Ревель), и меж ими сколько осталось около моря, и от Колывани к Риге около моря же, да Рига: а то все запустошено и разорено вконец…Прибыло мне печали: где мне деть взятый полон? Тюрьмы полны, и по начальным людям везде…от тесноты не почали бы мереть? также и денег на корм много исходит…»
А в это время другой царский воевода, окольничий Петр Апраксин, вытеснив шведов из Тосно, приближался к Неве. Петр I, прибывший на Ладогу из Архангельска, чтобы самому руководить дальнейшим завоеванием Ингерманландии и получения свободного выхода к Балтийскому морю, вызвал из Пскова Шереметева, мотивируя это тем, что «зело время благополучно, не надобно упустить; а без вас не так у нас будет, как надобно». По прибытии фельдмаршала Петр двинул десятитысячный корпус к Нотебургу, расположенному на Ореховом острове у истоков Невы. Его защищал гарнизон из 450 человек во главе со старшим братом дважды битого генерала Шлиппенбаха. После двенадцатичасового обстрела и начавшегося штурма старому вояке ничего другого не оставалось делать, как подписать договор о капитуляции при условии, что его офицерам и солдатам будет предоставлена возможность беспрепятственно покинуть крепость с личным оружием.
Это произошло 11 октября 1702 года, а в апреле 1703 года Шереметев от Нотебурга, переименованного к тому времени в Шлиссельбург (Ключ-город), прошел лесами по правому берегу Невы и при впадении в нее реки Охты обнаружил земляной укрепленный городок Ниеншанц, стороживший устье Невы, и посад домов на четыреста. Петр Алексеевич, прибывший к войскам, 30 апреля приказал начать бомбардировку крепости, которая на следующий же день, 1 мая, сдалась. Шведы попытались было прикрыть выход в Финский залив своими судами, но «бомбардирский капитан Петр Михайлов» и поручик Меншиков посадили на лодки два гвардейских полка, скрытно подкрались к ним ночью и перебили практически весь их экипаж, состоявший из 80 человек. Не бог весть какая победа и ее не стоило бы, наверное, и вспоминать, если бы она не была первой победой над шведскими кораблями и если бы за столь незначительный воинский подвиг и Петр, и Меншиков не стали бы кавалерами ордена Андрея Первозванного.
А еще через несколько дней, 16 мая, в устье Невы, на Заячьем острове, застучали топоры и забухали дубовые кувалды, вбивающие первые сваи набережного крепления Петропавловской крепости, от которой берет свое начало северная столица России Санкт-Петербург. К осени крепость уже была готова выполнять предназначавшуюся ей роль.
Так Россия разорвала многовековую блокаду. Она получила окно в Европу, о чем мечтали все предыдущие цари и великие князья, ради чего так много потрудились Иван Грозный и Алексей Михайлович. Но, оказывается, ходить через окно не очень-то удобно. Швеция, как и подавляющее большинство западно-европейских государств, не хотела допускать русских ни в качестве нового игрока на европейской политической арене, ни в качестве конкурента на рынке сбыта товаров, где все места давно уже были поделены. Поэтому в устье Невы все лето простояла шведская эскадра адмирала Нуммерса, которой русским еще нечего было противопоставить. Царю нужно было думать о защите вновь приобретенных земель, а также о том, как «окно» превратить если не в «ворота», то хотя бы в «дверь». Для этого следовало создавать собственный флот, что Петр и делал, основав верфь в Лодейном Поле на реке Свири, и строить укрепления на ближних и дальних подступах к устью Невы.
Нашлось и решение. Как только Нуммерс ушел зимовать к своим берегам, русские в неимоверно трудных условиях к маю 1704 года смогли построить на острове Котлин, что в 27 километрах от Петербурга, крепость Кроншлот, будущий Кронштадт, и оснастить ее батарею 60 пушками. К югу от новой крепости, на расстоянии пушечного выстрела, на берегу залива, у мызы Санкт-Яна, была оборудована еще одна 28 пушечная батарея. И вовремя, потому что уже летом того же года этим пушкам и создаваемому морскому флоту пришлось вступить в дело. Шведы попытались было вытеснить русских с невских берегов, но их наступление на Петербург и на Кроншлот потерпело неудачу.
Одновременно с освоением невских берегов шли наступательные действия и в Ливонии. В мае — июне 1703 года усилиями Шереметева российской короне была возвращена крепость Копорье, а за ней и Ямбург. В начале лета следующего года Шереметев с 20-тысячным войском подошел к Дерпту (Тарту) и целый месяц посредством бомбометания и артобстрела безуспешно пытался понудить его гарнизон к сдаче. Второго июля туда прибыл Петр. Внеся изменения в расположение батарей осадной артиллерии и направление действий взрывных работ, он назначил генеральное наступление в ночь на 13 июля. В разыгравшейся битве русские оказались многочисленнее, решительнее и в конечном итоге сильнее. Крепость пала.
Та же участь ждала и печально знаменитую Нарву, которую к тому времени осаждали русские войска под началом австрийского фельдмаршала Огильви, состоявшего на русской службе. Разделавшись с Дерптом, Петр поспешил туда. Штурм был назначен на 9 августа. Преодолев отчаянное сопротивление шведского гарнизона, русские ворвались в крепость и устроили в ней страшную резню. По преданию, сам Петр вынужден был усмирять мародеров. А через неделю перед русскими войсками отворил свои ворота Ивангород.
Этот год для России был счастливым, и закончился он для нее триумфально. Она выполнила свою программу-максимум — вышла к Балтийскому морю, обескровив чуть ли не всю Ливонию и прихватив такие стратегические объекты, как Дерпт и Нарва. Теперь она могла спокойно вести переговоры с Карлом XII, потому что захватила так много, что от кое-чего из захваченного могла и отказаться. Хочешь Дерпт? Пожалуйста. Хочешь Нарву? Скрепя сердце отдадим и Нарву. Но оставь нам Неву, оставь Петербург, не мешай свободному выходу в Балтийское море. А чтобы король был сговорчивее, нужно было сделать так, чтобы в Польше он чувствовал себя менее комфортно, менее уютно. Следовательно, Польше нужно помочь, Польшу нужно поддержать, если не победить Карла, то хотя бы понадежнее увязить его в польских делах.
Здесь нам не обойтись без некоего экскурса в Польско-шведскую войну. Мы уже говорили, что после нарвской победы над русскими Карл XII решил повергнуть Августа — курфюрста Саксонского и короля польского. Это его желание было продиктовано не только честолюбием молодого короля, но и тем, что в самой Речи Посполитой у него были могущественные союзники. В Литве это был Сапега, ведущий непримиримую войну с другим вельможей, Огинским, а в коронной Польше — кардинал-примас королевства Михаил Радзеевский, беспринципный и бесчестный служитель католической церкви.
Цели Карла XII и внутрипольской оппозиции совпадали: все они хотели свержения с королевского престола Августа, имевшего лишь одного союзника в лице русского царя. Свои действия против ненавистного ему Августа Карл начал с вторжения в Литву для поддержания своего союзника Сапеги. Затем последовало уже упоминавшееся нами избиение саксонско-русского войска неподалеку от Риги, которое сильно подорвало авторитет Августа. Польские вельможи стали склоняться к заключению мирного договора со шведами, но Карл видел только один путь решения — разгром саксонской армии и свержение Августа с польского престола.
Военную кампанию 1702 года шведский король начал с похода на Варшаву, которую Август со всем своим двором заблаговременно покинул. Шведы в сопровождении сапежинцев 11 мая 1702 года беспрепятственно вступили в Варшаву, а через два месяца нанесли поражение войскам Августа под местечком Клишово. В результате Карлу достался богатый Краков, который он отдал солдатам на «поток и разграбление». С ним цивилизованные шведы поступили как самые настоящие варвары, вплоть до разорения костелов и поругания католических святынь.
Неудачи Польши на театре военных действий сопровождались и ее внутренними неурядицами. Восстали западно-украинские казаки, недовольные политикой польских властей. Втайне поддерживаемые гетманом Мазепой и в открытую — запорожцами, они захватили города Немиров, Бердичев и Белую Церковь. Все это сопровождалось безжалостным истреблением представителей польских властей и их союзников в угнетении украинского населения, евреев-арендаторов.
В этой крайне критической обстановке Август, стремясь консолидировать польское общество на борьбу с неприятелем, созвал в Люблине чрезвычайный сейм. Все его участники принесли клятву на верность Польше и своему королю, что не помешало Михаилу Радзеевскому и познанскому воеводе Станиславу Лещинскому сразу же после этого объявить о создании конфедерации против своего короля. Их активно поддержал Карл XII, который к тому времени беспрепятственно вступил в Познань.
Вскоре шведам после пятимесячной осады удалось принудить к сдаче и гарнизон крепости Торн. Воодушевленный успехом Карл в декабре 1703 года обращается к Польской республике с предложением возвести на трон Якоба Собеского, однако Август, устраняя соперника, успевает арестовать и кандидата на трон, и брата его Константина.
Противостояние продолжало нарастать. В начале 1704 года в Варшаве и Сандомире проходят два взаимоисключающих друг друга сейма. На первом сторонники шведского короля постановляют «отказать Августу в верности и послушании», а на втором Радзеевский, Лещинский и вся шведская партия объявляются «врагами Отечества».
Карл же, продолжая гнуть свою линию, не оставляет надежд возвести на польский престол своего ставленника. Выслушав отказ третьего Собеского, Александра, от такого опасного «подарка», Карл заявил: «Ничего, мы состряпаем другого короля полякам» — и выставил кандидатуру уже известного нам познанского воеводы Станислава Лещинского. А вот это была уже ошибка, потому что Лещинский не пользовался необходимой поддержкой ни со стороны светских, ни со стороны церковных вельмож. Тем не менее его избрание, происходившее в Варшаве под прицелом шведских мушкетов, состоялось.
Однако русский царь был верен своему слову. Надеясь, что Польша в конце концов объявит Швеции войну, он продолжал оказывать помощь Августу и деньгами, и своими вспомогательными войсками. И вот наконец 19 августа 1704 года антишведский российско-польский союз был заключен. Это была самая настоящая коммерческая сделка. Только за то, что поляки поднимутся против шведов, оккупировавших их (!) Отечество, Петр I взял на себя обязательство уступить польской короне все города и крепости, взятые им в Ливонии; понудить запорожских казаков возвратить Польше все города, захваченные ими за последние два-три года; передать в распоряжение Августа 12-тысячное русское войско, отряд малороссийских казаков и до окончания войны ежегодно выплачивать ему по 200 тысяч рублей на содержание польской армии.
Результат не заставил себя долго ждать. В конце лета Август с помощью русских войск освобождает Варшаву от шведов и намеревается овладеть резиденцией Станислава Лещинского. Однако Паткуль, назначенный главнокомандующим русско-польско-саксонскими войсками, взять Познань не смог и через месяц снял осаду.
Нужно сказать, что действия коалиционных сил могли бы быть более эффективными, если бы не разногласия между Паткулем, являвшимся личным представителем Петра I в Польше, и русскими генералами. Высокомерный и безапелляционный Паткуль считал русских солдат и украинских казаков «пушечным мясом», а их командиров — бессловесными исполнителями своих распоряжений. Поэтому храбро сражавшиеся русские войска терпели всякую нужду, а казаки, не привыкшие к такому обращению да к тому же лишенные возможности «добывать зипуны», самовольно покидали расположение войск и возвращались к себе на родину.
Летнюю кампанию 1705 года вряд ли можно считать успешной для Русской армии. Имея численное преимущество, Шереметев умудрился проиграть одно сражение генералу Левенгаупту при Мурмызе, отрицательный резонанс которого удалось уравновесить только победой самого Петра Алексеевича, взявшего после семнадцатидневной осады столицу Курляндии Митаву.
Но беда не приходит одна. В Астрахани вспыхнул очередной мятеж, на подавление которого царь вынужден был отправить с частью своих войск проверенного победами и поражениями фельдмаршала Шереметева. Петр возвратился в Москву, оставив русский экспедиционный корпус на зимних квартирах в Гродно под началом прибывшего туда польского короля Августа.
Тем временем шведский король, посвятивший все лето и осень 1705 года коронации Лещинского, накануне нового года решил-таки наверстать упущенное за счет зимней кампании. В середине января 1706 года он был уже под стенами Гродно, однако русские, исполняя категорический запрет царя вступать в генеральное сражение, решили до поры до времени отсидеться в осаде. Но и Карл, не имевший достаточных сил и средств для ведения активных военных действий, в ожидании подкрепления вынужден был разбить свой лагерь в 70 километрах от города и разослать по окрестностям сильные воинские команды, чтобы пресечь возможность подвоза русским продовольствия и боеприпасов.
Петр тоже не сидел сложа руки. К Минску двигались русские полки и казаки Мазепы, от Смоленска до Пскова, на случай шведского похода в глубь России создавалась средневековая трехсотметровая засечная полоса. Не на высоте оказался один лишь Август, покинувший Гродно во главе четырех русских полков под предлогом личного участия в мобилизации своей армии. Надежды на него оказались тщетными, так как 20-тысячное саксонско-русское войско под началом Шуленбурга в феврале 1706 года было разбито при Фрауштадте шведским генералом Реншельдом, имевшим в своем распоряжении значительно меньшее количество войск. При этом большая часть русского вспомогательного отряда шведами была физически уничтожена.
В конце марта русское войско, размещавшееся в Гродно, по настоянию Петра, воспользовавшись половодьем, переправилось через Неман и двинулось к Бресту, разрушая за собой мосты и тем лишая шведов возможности нанести им удар с тыла. Этот маневр, больше напоминавший паническое бегство, воспринимался русскими как большой успех.
Из-за отсутствия в войсках Шереметева, направленного Петром на усмирение астраханского бунта, практическое руководство русским экспедиционным корпусом на Украине перешло в руки Александра Даниловича Меншикова. Фельдмаршалу Огильви, официальному главнокомандующему, оставалось лишь исполнять декоративную роль, что вызывало у него жгучее раздражение. Все лето и государь, и его любимец Меншиков занимались обустройством крепостей на пути возможного наступления Карла XII, комплектованием и обучением войск. В октябре и тот и другой одновременно предприняли наступление на шведов: Петр пошел на Выборг, а Меншиков — в Польшу. Но если осада Выборга не задалась и Петр ни с чем возвратился в Петербург, то «Алексашка», соединившись в Люблине с королем Августом, 18 октября при Калише нанес серьезнейшее поражение шведскому генералу Мардефельду. Противник, имевший в своем распоряжении 8 тысяч шведских солдат и до 20 тысяч поляков Лещинского, оставил на поле боя около шести тысяч человек и отступил. Это была двойная победа: победа над шведами и победа над устоявшимся мнением, что русские без иностранных генералов и фельдмаршалов ни на что не способны.
К сожалению, плодами этой виктории русским воспользоваться не удалось. Дело в том, что король Август к тому времени уже вел двойную игру. Накануне этой битвы его представители тайно подписали договор со шведами, беспрепятственно захватившими унаследованную им Саксонию. Согласно договору Август отказывался от польской короны, признавал королем польским Станислава Лещинского, разрывал союз с русским царем, выдавал шведам Паткуля и русских солдат, находившихся в Саксонии, и брал на себя обязательства по содержанию шведского войска, остающегося на зиму в его владениях. Только через месяц это стало известно русскому резиденту при его дворе, однако даже в такой, явно неприглядной ситуации он пытался убедить русского царя в своей верности их союзу, обещая объявить войну Швеции, как только они покинут пределы Саксонии.
Однако отречение Августа от польского престола еще не означало, что и вся Польша добровольно подпала под Карла и Станислава Лещинского, слишком сильно Польша зависела от России. На Львовской раде сенаторами и членами сейма было принято решение сохранить союзнические отношения с Россией с прежней мотивацией: возвращение украинских городов и финансирование польской армии. Были высказаны и другие условия, в частности освобождение от обязанности давать провиант Русской армии, вывод из Польши излишне озоровавших донских казаков и калмыков, а также выплата компенсации пострадавшим от солдатского самоуправства. Эти дополнительные предложения были отвергнуты русской стороной, поскольку первое из них было предусмотрено ранее подписанным договором, а второе и третье — могли быть положительно разрешены другими способами. Последнюю точку в договоренности поставили 20 тысяч рублей, переданные сейму, и 5 тысяч, потраченные на взятки.
Речь Посполитая фактически разделилась на Польшу Лещинского и Польшу конфедеративную, ориентированную на русских. Для управления последней нужен был король, и Петр Алексеевич занялся его поиском. К сожалению, все его кандидаты оказались «непроходными» по разным причинам, несмотря на то что среди них были такие колоритные фигуры, как Якуб Собеский, седмиградский князь Рагоци и принц Евгений Савойский.
Одновременно с этим царь вел активную дипломатическую работу по поиску возможных союзников в войне против Карла XII или посредников для ведения с ним мирных переговоров. Но Европа была слишком напугана возрастающим могуществом России, а потому всем хотелось вновь загнать ее вглубь материка и лишить свободного выхода в море. Петр был готов отдать все свои приобретения в Прибалтике, передать «в аренду» несколько десятков тысяч своих солдат, заплатить денег, лишь бы ему помогли оставить за собой Петербург. Он обращался к Папе Римскому, австрийскому императору, французскому, английскому, прусскому, голландскому, датскому монархам, но никто и пальцем не пошевелил. Кто-то уходил от прямого ответа, кто-то отделывался обещаниями, а Франция вместо помощи стала натравливать на Россию турецкого султана.
Так Москва оказалась один на один с Карлом XII, которого боялись практически все монархи Европы. В конце декабря 1707 года шведский король снял свою слегка обленившуюся армию с комфортных зимних квартир в богатой и благополучной Саксонии и направился на восток. Первой на его пути оказалась Литва, встретившая непрошеных гостей морозами, глубокими снегами и «лесными братьями», чуть было не подстрелившими самого короля. Через месяц Карл во главе конного отряда в 800 сабель с ходу опрокинул бригадира Мюленфельдта, под началом которого находилось 2000 русских солдат, охранявших мост через Неман, и захватил Гродно, в котором только за два часа до этого находился русский царь. По ряду причин Карл не стал развивать этот успех и до лета 1708 года остановился в Радошковичах.
Россия насторожилась в ожидании шведского нашествия. Петр занялся укреплением Петербурга, Меншиков организовывал оборону Киева, а Москва была отдана на попечение Михаила Черкасского и царевича Алексея. На оборонные работы каждые три дыма (семья, ведущая самостоятельное хозяйство) выделяли по одному работнику. Укреплялись Псков, Новгород, Тверь, Серпухов, Можайск. Из городов, предполагаемых к сдаче неприятелю, эвакуировалось население, а из уездов вывозился хлеб и фураж. Отступающим русским войскам предписывалось по возможности забирать с собой провиант, фураж, лошадей, скотину, овец, а что невозможно забрать — уничтожать. Все делалось для того, чтобы Карл, привыкший содержать свою армию за счет населения завоеванных стран, вступив на Русскую землю, обнаружил там пустыню. Как после Нарвы снимались церковные купола, так и сейчас из Казенной палаты, патриархии и монастырей собиралось серебро для чеканки монет на военные нужды. Не остались без пристального внимания и жители Немецкой слободы: опасались враждебных действий со стороны иностранцев. Было предписано каждому из них запастись поручительством от имени своих авторитетных соплеменников. Те же, кто такой «поруки» не имел, высылались в Архангельск для отправки на родину, а мастеровые — в Казань.
В июне 30-тысячное шведское войско, ведомое своим королем, выступило из Радошковичей на восток, переправилось через Березину и 3 июля у местечка Головчино вступило в бой с русскими войсками, при которых находились Шереметев, Меншиков, Репнин, Голицын и иностранные генералы, состоявшие на русской службе — Гольц, Алларт, Флюк. Русские войска применили оборонительную тактику, но действовали вяло и нерешительно. В отличие от них, шведы были более организованными. Они умело маневрировали, применяли артиллерию и вообще были настроены на победу. В итоге русские отступили, но говорить о чьей-либо победе при Головчине было бы неправильно. Шведы не победили. Просто не имевшие разрешения на генеральное сражение русские, нанеся неприятелю существенный урон, организованно отошли на новые позиции на левом берегу Днепра, оставив Карлу не приспособленный к обороне Могилев. Там король, страдая от нехватки боеприпасов и продовольствия, решил дождаться 16-тысячный корпус Левенгаупта и сопровождаемый им обоз в 5 тысяч телег.
Но прибытие подкрепления затягивалось, в то время как положение голодной армии становилось с каждым днем все хуже и хуже. Тогда король-воин решился на отчаянный шаг: он начал искать противника в открытом поле, маневрируя то в юго-восточном, то в северном направлении. И вот наконец 29 августа эта встреча состоялась у местечка Доброго. Русской армией командовал сам Петр Алексеевич. Воспользовавшись ошибками в расположении неприятельских войск, царь поставил задачу генералам Голицыну и Флюку атаковать правый фланг неприятеля. В двухчасовом бою русские солдаты одержали убедительную победу. Шведы потеряли 3000 человек убитыми, знамена, артиллерию. Но, когда к месту боя подошел шведский король, Петр, верный своей тактике — не ввязываться в бой, если не уверен в победе, — приказал трубить отход.
Видя невозможность наличными силами победить русского царя, уходящего от генерального сражения, Карл, ввиду наступающей осенней распутицы и последующих холодов, принял весьма опрометчивое решение идти на Украину. Дело в том, что он уже длительное время находился в переписке с гетманом Мазепой, который уверял его, что верные ему казаки, недовольные московским правлением, при первом же появлении короля на Украине перейдут на его сторону и тогда победа над ускользающим царем будет обеспечена. Кроме того, нахождение на Украине существенно облегчило бы его сношения с крымским ханом, которого Карл хотел также вовлечь в войну с Москвой. Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что именно на Украине король рассчитывал получить так необходимые его войску продовольствие и фураж.
Опрометчивость этого королевского решения заключалось в том, что свой поход на Украину шведская армия начала до подхода Левенгаупта, которому еще только предстояло преодолеть расстояние, контролируемое царскими войсками. Начало рейда Левенгаупта было удачным: дезориентировав русских в истинных своих намерениях, он в районе Шклова форсировал Днепр и стал удаляться на юг, однако вскоре обман вскрылся и Петр Алексеевич во главе 14-тысячного отряда бросился его догонять. У деревни Лесной, неподалеку от Пропойска, 28 сентября состоялся кровавый бой, в котором русские впервые за многие годы смогли одержать победу над превосходящими силами противника. Шведы потеряли 8 тысяч убитыми, 42 знамени, 16 пушек и обоз с двумя тысячами телег продовольствия. За русскими осталось и поле боя. Шведы отступили. У Пропойска их догнал генерал Флюк, который отбил оставшиеся у них три тысячи телег обоза, попутно положив на месте не менее полутысячи убитыми и пленив 45 офицеров и около 700 солдат.
Битва при Лесной показала, что шведы не такие уж и непобедимые. Это поняли как сами шведы, так и русские. Первые потеряли прежнюю самоуверенность и потому стали более уязвимыми, а вторые поймали кураж, который в конечном итоге приведет их к победе над Карлом XII в Полтавской битве.
Удивительно, но именно в это, казалось бы, благоприятное для царя время гетман Мазепа решился изменить ему. Что скрывать, пятьдесят лет пребывания под царской короной не принесли украинскому народу достатка и спокойствия, но фикцией оказалось и широко декларируемое демократическое казацкое государственное устройство. Ненавистных панов и арендаторов заменили гетман, войсковая старшина, полковники и казаки. Гетман стремился к наследственной власти, не зависимой от неуправляемой черной рады, войсковая старшина — к получению богатых поместий и доходных промыслов, ну а полковники спали и видели, как бы им стать полновластными хозяевами городов и уездов, находящихся под юрисдикцией их полков. И все они, вместе взятые, хотели одного — как можно больше взять добра с земледельческого населения и ни перед кем за это не отчитываться. Иными словами, их вполне устроило бы положение владетельных князей, бояр, вотчинников или помещиков. Простые казаки тоже хотели бы жить в достатке и довольстве за счет крестьян, и в этом они были солидарны с «начальными людьми» с той лишь разницей, что они горой стояли за свое право свергать и избирать. А всем им вместе, по большому счету, было безразлично, под чьим покровительством они получат все это. История показала, что они с легкостью могли переметнуться от поляков к русским, от русских к туркам, татарам, шведам, немцам. Один лишь земледельческий класс, так и не получивший желаемого освобождения от поборов и грабежей, стоял за утверждение твердой власти православного царя без корыстолюбивых посредников в лице казацкой старшины.
Что же касается Мазепы, то этот чрезвычайно обласканный московской властью приспособленец, доверенное лицо Петра Алексеевича, один из первых кавалеров ордена Андрея Первозванного был, по меткому выражению С. М. Соловьева, типичным представителем «испорченного поколения шатающихся черкас». Служил он у польского короля, у турецкоподданного Дорошенко, у гетмана Левобережной Украины Самойловича. Став гетманом, он служил князю Василию Голицыну, а потом — царю Петру, но служил не за совесть, а по расчету. Когда же Мазепа увидел, что у него появилась призрачная возможность стать во главе хоть и патронируемого, но самостоятельного государства, он почти в 70-летнем возрасте переметнулся на сторону шведского короля, изменив не только царю, но и своему народу, о правах которого он так горячо распинался в своих универсалах.{14}
Переход на сторону врага не был спонтанным поступком чем-то обиженного гетмана: к этому поступку он готовился давно и сознательно, имея поддержку среди небольшого круга казацкой старшины. Сыграла свою роль и польская княгиня Дольская, подтолкнувшая Мазепу к последнему роковому шагу. Простое казачество в своем большинстве его не поддерживало.
Когда предательство состоялось, только две тысячи запорожских казаков последовали за ним. Хотя, нужно сказать, это были не все его единомышленники. В Батурине, где размещалась штаб-квартира украинского гетмана, оставался еще верный ему гарнизон во главе с полковником Чечелом и генеральным есаулом Кенигсеком. Весьма вероятно, что мазепинских приверженцев было немало и в других городах. Поэтому нужно было что-то делать, чтобы предотвратить возможные последствия гетманской измены.
Первый шаг предпринял Петр Алексеевич. 28 октября он издал Манифест, которым объявил об измене Мазепы и назначил выборы нового гетмана. Чтобы как-то расположить к себе простой народ и черную раду, царь отменил все налоги, введенные на Украине без его согласия. Здесь следует отметить, что от налогов, собираемых в Малороссии, царская казна в то время не получала ни копейки. Наоборот, из царской казны шли регулярные выплаты и запорожским казакам, и казацкой старшине, и на содержание московских полков, расквартированных на Украине по просьбе того же гетмана.
Второй шаг был за Меншиковым. Нужно было преподать урок сторонникам Мазепы, оставшимся на Украине. В ночь на 1 ноября после двухчасовой артиллерийской подготовки он штурмом овладел Батурином, взял в плен всех мазепинцев, захватил всю артиллерию и гетманскую казну, после чего сжег бывшую гетманскую столицу. Это был страшный превентивный удар для Мазепы и всех его потенциальных сторонников, заставивший их изменить свои прежние планы. Царь недвусмысленно показал свою волю и решительность.
6 ноября на раде в городе Глухове был избран новый гетман, им стал стародубский полковник Скоропадский. В тот же день Мазепа был предан анафеме, а на следующий день состоялась казнь его приверженцев, захваченных в Батурине.
Положение в Малороссии день ото дня становилось все стабильнее и надежнее, реестровые городские казаки против царя не поднимались, чего нельзя сказать о запорожцах, все еще державших сторону изменника. Они оскорбили и обесчестили посланных к ним представителей царя и нового гетмана, привезших им деньги на содержание низового войска. Запорожцы запросили для себя еще больше продовольствия, тканей, боеприпасов, серебра. Кроме того, они настаивали на разрушении Каменного Затона и других царских крепостей, построенных неподалеку от Сечи, которые, как они утверждали, угрожают их вольнице.
И все-таки было решено действовать убеждением. Петр, рассчитывая на мирное разрешение ситуации, требовал послать в Каменный Затон командира, «кто поумнее, ибо там не все шпагою, но и ртом действовать надлежит». Но агитация Мазепы, к сожалению, оказалась более эффективной. Запорожцы решили «быть на Мазепиной стороне» и начали активно действовать против русских войск. И хотя ничего существенного они сделать не смогли, оставлять безнаказанно такой символический очаг сопротивления Петр не посчитал возможным.
На его подавление из Киева выступили полки под начальством полковника Яковлева. В пути у них было три столкновения с запорожскими казаками, в ходе которых были потери как с той, так и с другой стороны. 11 мая Яковлев подошел к Сечи. Узнав, что кошевой Сорочинский уехал за татарской подмогой, он, не добившись капитуляции в ходе мирных переговоров, через три дня решился на штурм. Задача была не из легких. Взять с налета крепость, расположенную на острове, не удалось. Потеряв около 300 человек убитыми, Яковлеву пришлось отступить. Но тут вдали показалось какое-то войско. Запорожцы, приняв его за Крымскую Орду, идущую к ним на выручку, решились на вылазку. Это была их роковая ошибка. То были драгуны генерала Волконского и полковника Галагана, которые, воспользовавшись замешательством запорожцев, вместе с осаждавшими яковлевцами ворвались в Сечь и овладели ею.
Не многим защитникам удалось спастись бегством, подавляющее большинство их полегло в бою, а 300 человек попало в плен. «Знатнейших воров, — доносил Меншиков, — велел я удержать, а прочих казнить и над Сечею прежний указ исполнить, также все их места разорить, дабы оное изменническое гнездо весьма выкоренить». Гарнизону же Каменного Затона от Петра Алексеевича поступило распоряжение, «дабы того смотрели, чтоб опять то место от таких же не населилось, також которые в степь ушли, паки не возвратились или где инде не почали собираться…» Бесславная кончина, нечего сказать.
А тем временем уже звучала прелюдия Полтавской битвы. В начале мая шведы несколько раз подступали под стены Полтавы, но с уроном для себя были отбиты. Не добившись быстрого успеха, они начали вести планомерную осадную работу. Город оказался отрезанным от основного русского войска, так что передача информации туда и обратно осуществлялась посредством пустых бомб, выстреливаемых из пушек. Но и русские, располагавшиеся на другой стороне реки Ворсклы, не сидели без дела. Меншиков постоянно организовывал, как он говорил, всякие диверсии против шведов, правда, не без потерь со своей стороны. Петр спешил из Азова к месту будущего исторического сражения, но это вовсе не говорит о том, что он не доверял своим военачальникам. Инициатива снизу, тем более если она приносила положительный результат, царем поощрялась всемерно. Поэтому мы все чаще видим в его переписке, в его указах, относящихся к тому времени, призывы действовать самостоятельно, сообразуясь с быстро меняющейся обстановкой.
4 мая Петр Алексеевич прибыл в расположение своей армии. Оценив силы противника и свои собственные, он наконец-то решился на генеральное сражение. Уверенность ему придавало то, что против его сытой, 40-тысячной, по-европейски обученной армии, предводительствуемой талантливыми генералами, уже имевшими опыт побед над некогда непобедимыми шведами, против его 72 орудий (по другим сведениям, 112) Карл XII мог выставить лишь около 30 тысяч истощенных, уставших и разуверившихся солдат и не имеющую боеприпасов артиллерию. Поднявшись вверх по течению Ворсклы, Русская армия 20 июня переправилась на другой берег реки. Последующие четыре дня царем были употреблены на проверку готовности полков к ведению боевых действий, а к концу дня 25 июня русские практически вплотную подошли к шведским позициям. Эта ночь была ознаменована, с одной стороны, ударным трудом русских солдат по оборудованию редутов и ретраншементов (окопов), а с другой — легкомысленной вылазкой шведского короля на передний план, в результате чего он получил огнестрельное ранение в ногу. И еще один день противники были заняты подготовкой к генеральному сражению.
Дислокация русских войск выглядела следующим образом: в центре находился фельдмаршал Шереметев, правым крылом командовал генерал-лейтенант Ренне, а левым — Александр Меншиков, над артиллерией начальствовал генерал Брюс.
Перед рассветом 27 июня шведы предприняли массированное наступление на фланг генерала Ренне. Удар был настолько мощным, что шведам удалось захватить два не совсем подготовленных редута и вступить в непосредственное соприкосновение с русской конницей. Под их натиском русские стали отступать. Но отступали они заманивающе. Одна часть шведов (во главе с генералами Шлиппенбахом и Розеном) была отрезана от основных сил и вынужденно укрылась в лесу, а вторая, продолжавшая преследовать противника, — вытянулась вдоль правого фланга русских войск и стала легкой добычей пушечного и ружейного огня. Чтобы выйти из-под обстрела и спасти своих солдат, шведским генералам пришлось прекратить преследование и отойти.
В это время Меншиков и генерал Ренцель пятью полками конницы и пятью батальонами пехоты успешно добивали группировку Шлиппенбаха — Розена. Оба генерала оказались в плену. Первая часть битвы осталась за русскими.
Но впереди была решающая часть сражения. И опять шведы начали первыми, но русские генералы уже знали, как их встречать. Полтавская битва наглядно показала, что богом войны действительно, является артиллерия, и Петр воспользовался своим преимуществом. Даже Карл XII испытал на себе силу огня русских батарей. Одно из ядер угодило в его коляску, и он оказался на земле. И еще один сюрприз ожидал шведов — русские блестяще освоили стрельбу плутонгами. Если раньше при стрельбе вперед выходила одна шеренга мушкетеров, которая после произведенного выстрела отходила назад, то теперь одна шеренга ложилась на землю, другая становилась на колено, а третья продолжала стоять во весь рост. Одновременный огонь сразу тремя шеренгами был настолько плотным, что волны наступающего противника как будто натыкались на невидимую стенку и откатывались назад, оставляя лежать на земле сотни тел. И еще одно новшество подглядел Петр у французов — багинет. Это такой штык, который после выстрела вставлялся в ствол мушкета, превращая его в смертоносное копье.
Все вместе — и сила русских, и слабость шведов — стали слагаемыми первого и такого судьбоносного поражения Карла XII. Два часа длилось генеральное сражение, шведы продолжали упорно наступать, несмотря на огромные потери, и только под угрозой полного уничтожения своей армии Карл вынужден был смириться с поражением и отдаться стихии беспорядочного отступления. Счастье шведов, что Петр, находясь в восторге от одержанной победы, начал их преследование только по прошествии нескольких часов. В погоню за королем был отправлен Михаил Голицын с гвардией и генерал Боур с драгунами. Утром следующего дня в погоню отправился и Меншиков с девятью тысячами кавалерии. Они настигли шведов 1 июля у маленького городка Переволочны, расположенного в месте впадения Ворсклы в Днепр. Карл XII, Мазепа и около двух тысяч солдат успели перебраться на другой берег Днепра, тогда как большая часть войска с генералами Левенгауптом и Крейцем остались на левом берегу. Это была уже не армия, а скопище деморализованных и смертельно уставших солдат, когда-то наводивших страх и ужас на всю Европу. Кто-то из них находился в беспамятном сне, а те, кто бодрствовал, думали только об одном — как бы перебраться на другой берег реки. Видя плачевное состояние своего войска, Левенгаупт вынужден был согласиться с предложением Меншикова сложить оружие и сдаться в плен.
Мы помним, какими силами противники начинали сражение, а теперь подведем его итоги. Русские заплатили за победу 1345 убитыми и 3290 ранеными. Шведы понесли несоизмеримо большие потери. Только на месте Полтавского сражения они оставили 9234 трупа, не считая умерших впоследствии от ран, утонувших в Днепре и погибших в более мелких стычках. В плену оказались первый королевский министр граф Пипер, фельдмаршал Реншельд и 58 других верховных штаб-офицеров, 1102 обер-офицера и 16 947 рядовых и унтер-офицеров.
На военачальников Русской армии посыпались награды и жалования. Праздновал повышение в звании и Петр Алексеевич: по просьбе генералитета, офицеров и солдат он «изволил принять» чин генерал-лейтенанта.
Поражение Карла XII в корне изменило военно-политическую обстановку на севере Европы. Если Польша и Дания, недавно пострадавшие от шведской экспансии, в предвкушении восстановления своих позиций воодушевились и вновь объявили войну Швеции, причем не с целью ее конечного разорения, а для «приведения в должные границы и доставления безопасности ее соседям», то Англия и Голландия, упорно держа сторону Карла, стремились разрушить антишведскую коалицию.
А тем временем, пока царь разъезжал по Европе, принимая поздравления и заключая договоры, фельдмаршал Шереметев со всей пехотой и частью кавалерии отправился осаждать Ригу, другой же, новоиспеченный, фельдмаршал Меншиков во главе конной армии ускоренным маршем направился в Польшу против Станислава Лещинского и шведского генерала Крассова. Вскоре Польша была очищена от войск неприятеля, и Август Саксонский вновь водворился в Варшаве.
В середине ноября царь Петр лично начал бомбардировку Риги, за которой последовала ее более чем полугодовая осада, сопровождавшаяся голодомором и завершившаяся капитуляцией в июле 1710 года. Шведский гарнизон получил возможность беспрепятственно покинуть крепость, но природные лифляндцы — под гарантию сохранения их городского самоуправления и судопроизводства, имущественных прав и привилегий, неприкосновенности вероисповедания и языка — были приведены к присяге на верность русскому царю.
Для привлечения на свою сторону лифляндских дворян Петр гарантировал им приоритет при назначении на административные и военные должности, а также при покупке поместий и другой недвижимости. Благодаря такой взвешенной политике по отношению к местному населению перед русскими войсками открыли свои ворота университетский город Пернау (Пярну), Аренсбург, главный город острова Эзеля, и Ревель (Таллин).
К числу удачных результатов внешнеполитической деятельности Петра в Прибалтике следует отнести и брак его племянницы, Анны Иоанновны, с герцогом Курляндским Фридрихом-Вильгельмом, что позволило создать дружественно-нейтральный буфер между Россией, с одной стороны, и Польшей и Пруссией — с другой. Но еще до этого, в июне 1710 года, Петр вместе с адмиралом Апраксиным и вице-адмиралом Крюйсом взятием Выборга обеспечил безопасность Петербурга со стороны шведской Финляндии.
Таким образом, Петр Алексеевич реализовал мечту Ивана Грозного и своего отца, Алексея Михайловича, о возвращении под российскую корону исконно русских земель в Прибалтике и получении свободного выхода в открытое море.
Однако при внешней доброжелательности со стороны ряда монархов (например, Анны, королевы Англии, которая даже величала Петра императором) успехи России на театре военных действий сильно встревожили не только Европу, но и Порту. Опасаясь, что Петр, победив Карла, не просто займет его место, а с учетом неисчислимости своих подданных и бескрайности жизненного пространства пойдет еще дальше и станет новым Атиллой, вызвало у европейских дворов жгучее желание втянуть его в новую изнуряющую войну. Основным инициатором ее был, конечно же, Карл XII, обосновавшийся после полтавского поражения в турецких владениях — в деревне Варница, неподалеку от Бендер. Активную роль в этом играли представители изгнанного из Польши Станислава Лещинского, изменника Мазепы и крымского хана, посол Франции и английские банкиры, финансировавшие шведского короля. По-разному к этой инициативе относились и при дворе турецкого султана. Янычары были «за», а вот великих визирей пришлось менять дважды: Али-пашу — на Нуумана Кеприли, а Кеприли — на Балтаджи Магомед-пашу, прежде чем диван принял решение о разрыве мирного договора с Россией. Это произошло 20 ноября 1710 года.
Перед Петром встала дилемма: вести оборонительную войну, дав возможность наступающим туркам объединиться с малороссийскими изменниками и ненадежными поляками, и тем самым поставить под удар свои прежние достижения; или, рискнув воинским счастьем, нанести неприятелю упредительный удар на подвластной ему территории, упрочив в случае удачи свои позиции на южном театре военных действий.
Петр избрал второй вариант. Это рискованное решение принималось, исходя из высокой, но достаточно объективной оценки состояния Русской армии, а также легкомысленных обещаний восточных патриархов, господарей молдавского и валахского — турецких вассалов, что при вступлении Русской армии на их территорию они не только обеспечат ее продовольствием и фуражом, но и поднимут свои народы против мусульманских поработителей. Аналогичные заверения звучали и от представителей других славянских народов — болгар, сербов, черногорцев, находящихся под турецким султаном.
Вступая на молдавскую землю, русские войска имели строгий приказ царя: под угрозой смертной казни им запрещалось каким-либо образом обижать местное население, чинить насилие, брать у него без денег или без особого указа продовольствие и фураж. Фельдмаршал Шереметев со своими драгунами форсировал Днестр 4 июня 1711 года, после чего направился в Яссы, где господарь молдавский Кантемир, ведший двойную игру, вынужден был объявить себя на стороне русских. Но, выиграв в борьбе политической, Шереметев проиграл в военной стратегии — турки успели переправиться на левый берег Дуная. Петр, двигавшийся вслед за Шереметевым с основными своими силами, из соображений союзнического долга перед братьями-славянами, несмотря на реальную угрозу столкнуться нос к носу с многократно превышающим его турецким войском, 16 июня также переправился через Днестр, чтобы соединиться с шереметевским авангардом. Через неделю он достиг реки Прут и встал там лагерем.
Кантемир, встретивший его в Яссах, произвел на царя хорошее впечатление. Обнадежил и главный валахский министр Фома Кантакузин, с подачи которого Петр разделил свое войско, направив в Валахию всю конницу, чтобы побудить тамошнего господаря Бранкована присоединиться к нему. Дополнительную уверенность Петру придавала какая-то робость султана, попросившего иерусалимского патриарха Хрисанфа и валахского господаря Бранкована стать посредниками между ним и царем в мирных переговорах. Петр, увидев в этом слабость противника, ответил отказом и, переправившись через Прут, направился вниз по его течению к Браилову, где, по сведениям разведки, находились огромные запасы продовольствия турецкой армии.
7 июля Русская и турецкая армии встретились. Против 38 тысяч русских стояла 120-тысячная турецкая армия и 70 тысяч вспомогательного войска крымских татар. Петр счел за благо отступить, но через день ему все же пришлось принять бой на берегу Прута, в районе Нового Станелища. Видя свое численное превосходство и надеясь одержать легкую победу, визирь бросил против Петра отборных янычар и татарскую конницу, но русские держались стойко и отбили все их атаки. Битва длилась до самой ночи. С наступлением темноты только артиллерия еще пыталась хоть как-то изменить ход сражения. Наутро русские обнаружили себя окруженными со всех сторон впятеро превосходящими их силами. Продовольствие и вода были на исходе. Петр отчетливо сознавал, что его войску грозит полный разгром, поголовное истребление или позорный плен.
Мирные переговоры казались настолько нереальными, что, предлагая их с подачи царицы, Петр даже не надеялся на успех. Тем не менее в турецкий лагерь одно за другим послали два письма. И — о чудо! — визирь согласился начать переговоры. Причина такой покладистости объяснялась просто: янычары, накануне потерявшие семь тысяч человек, наотрез отказались повторно атаковать русский лагерь. Кроме того, до визиря дошли известия, что русская конница, направлявшаяся в Валахию, захватила Браилов и поднимает против турок местное население. Немаловажную роль в принятии такого решения играл также и ранее данный наказ султана «искать мира», и ожидаемая материальная выгода, которую визирь и его приближенные рассчитывали получить от русских в случае заключения мирного договора.
Положение же русских войск было отчаянным, поэтому Петр, отправляя на переговоры подканцлера Шафирова, дал ему самые широкие полномочия. Чтобы избежать позорного плена, чтобы сохранить для России Ингрию с Петербургом, царь соглашался отдать не только все свои приобретения на Азовском море и в Прибалтике, но и такие исконные русские города, как Псков. Ради «окна в Европу» он готов был отступиться от Польши и заплатить любые деньги. На подкуп турок пошла не только войсковая казна, но и все драгоценности, имевшиеся в наличии у сопровождавшей царя невенчанной жены его Екатерины Алексеевны.
Первое предложение о мирных переговорах было послано 10 июля, а через два дня договор был уже подписан и русские войска с полным вооружением могли беспрепятственно следовать к себе на родину. Условия оказались даже более щадящие, чем те, на которые готов был согласиться царь: он терял лишь азовские благоприобретения, отказывался от вмешательства в польские дела и давал свободный проход Карлу XII в его владения. Русские выступили из прутского лагеря 14 июля, имея Ригу конечной целью своего похода, чтобы там вместе со своими союзниками сообща действовать против Швеции и понудить ее к заключению мирного договора.
Но, счастливо избежав плена, Петру вдруг захотелось «подергать тигра за усы». Он отказался сдавать Азов до высылки из Турции шведского короля, чем поставил своих послов-заложников в крайне затруднительное положение. Турки в отместку стали требовать уступки себе всей Украины и даже объявили войну, и только передача туркам азовских укреплений позволила возобновить мир, за который к тому же пришлось дополнительно заплатить участникам и посредникам переговоров более ста тысяч рублей и отказаться от суверенитета над Запорожской Сечью.
После пережитого стресса, реальной возможности оказаться в турецком плену, Петр отправился на лечение в Карлсбад. Поправив на водах здоровье, он, как бы походя, решил весьма важную дипломатическую проблему, породнившись с венским двором посредством брака царевича Алексея и вольфенбительской принцессы, родной сестры супруги германского императора.
Менее успешно шли военные дела. Союзные — датские, саксонские, русские — войска стояли без движения в Померании под Штральзундом, ссылаясь на отсутствие артиллерии. Однако главной причиной их бездействия были своекорыстные интересы датского короля, нацелившегося на Висмар, и польского короля, проявлявшего острый интерес к острову Рюген. В марте 1712 года в Померанию с крупным войском отправился князь Меншиков, но и ему ничего не удалось сделать: союзники, ссылаясь друг на друга, артиллерии ему не дали, а без нее брать города было равносильно самоубийству. Чтобы понудить союзников к активным действиям, Петр Алексеевич собственной персоной прибыл в Европу. И напрасно, артиллерию и он не получил. В этих обстоятельствах ему вновь потребовалось лечение на водах.
Но тут в события вмешался шведский фельдмаршал Стенбок, собравший в Померании 18-тысячное войско и выступивший в Мекленбург против объединенной датско-саксонской армии. Несмотря на просьбу Петра Алексеевича не начинать сражение без него, датский король Фридрих IV вступил в битву при Гадебуше и был наголову разбит. Это было в декабре 1712 года, а в начале следующего года царь по просьбе датского короля двинулся вслед за отступающими шведскими войсками в Голштинию, где нанес им поражение при Швабштеде, вытеснив их и из Фридрихштадта. Взбодренный этим успехом, Петр вознамерился было привлечь в антишведскую коалицию и Ганноверского курфюрста, будущего короля Англии Георга I, и нового прусского короля Фридриха-Вильгельма I, но те, на словах высказав поддержку его величеству, от конкретных действий уклонились.
Не видя реальных перспектив своего участия в военных действиях на южном берегу Балтийского моря, Петр оставляет в Европе экспедиционный корпус Меншикова и решает наступать на Швецию со стороны Финляндии. В середине мая 1713 года 16-тысячное русское войско, размещенное более чем на 200 гребных судах, высадилось у Гельсингфорса. Противник, не видя возможности обороняться, поджигает город и оставляет его. За ним следует сдача Борго, а в конце августа — и главного финского города Або. Характерно, что всю летнюю кампанию в Финляндии шведы уклонялись от непосредственного столкновения с Русской армией, и только в октябре генерал Армфельд, застигнутый у Таммерсфорса, был вынужден принять бой. Победа досталась генерал-адмиралу Апраксину и генерал-лейтенанту Михаилу Голицыну. Почти вся Финляндия, поставлявшая в Швецию все, вплоть до дров, оказалась в руках русских войск.
Не менее удачно действовал в Европе и князь Меншиков. Сначала он вместе с союзниками принудил к сдаче Стенбока, укрывшегося в шлезвигской крепости Танингене, а потом под угрозой применения силы понудил органы самоуправления Гамбурга и Любека выплатить крупные штрафы в пользу союзников за то, что они не прервали торговых отношений со Швецией. Летнюю кампанию он завершил взятием при помощи саксонской артиллерии Штеттина и последующей передачей его, наряду с Рюгеном, Штральзундом и Висмаром, в секвестр{15} прусскому королю и администратору Голштинии.
Конец 1713-го и практически весь 1714 год у европейских монархов антишведской коалиции прошли в бесконечных и практически безрезультатных переговорах. Намечавшаяся морская интервенция в шведские пределы так и не состоялась. Дания, Польша, Пруссия, германские княжества больше заботились о возможности что-то прихватить лично для себя от разваливающейся шведской державы, чем способствовать укреплению России и окончательному низвержению шведского могущества. Морские державы — Англия и Голландия, — Франция и даже маленькая Голштиния, каждая по-своему, пытались выступать посредниками в заключении сепаратного договора между Россией и Швецией, но их условия никак не могли устроить русского царя, который в ответ на угрозы, шантаж и интриги пообещал превратить отнятые им у Швеции территории в безжизненные пустыни, чтобы уже не из-за чего было спорить.
А сам он тем временем продолжал вести наступление на суше и на море. В феврале 1714 года князь Михаил Голицын нанес очередное поражение генералу Армфельду у Вазы, а выборгский губернатор полковник Шувалов взятием Нейшлота завершил покорение Финляндии. Самым же значимым событием того года была морская победа Петра Алексеевича при Гангуте. К тому времени русский флот насчитывал 16 линейных кораблей, 8 фрегатов и шняв, 99 гребных галер. Парусная эскадра имела 1060 орудий и 7 тысяч человек экипажа, гребная — 15 тысяч человек. Помимо того, эскадру усиливали 9 тысяч солдат, размещенных на транспортных судах. Вся эта армада предназначалась для ведения боевых действий уже непосредственно против самой Швеции. Однако у полуострова Гангут путь русским преградила шведская эскадра под командованием вице-адмирала Ватранга в составе 15 линейных кораблей, трех фрегатов, двух бомбардирских кораблей, шести галер и трех шхерботов. Как видим, силы парусных флотов были примерно равными. Русские располагали преимуществом в гребных судах, тогда как шведам продолжала верно служить их прежняя слава сильных и непобедимых. Поэтому Петр, по своей уже традиционной осторожности, не решился на генеральное сражение, а умелыми отвлекающими маневрами заставил шведскую эскадру разделиться на три части. Затем, воспользовавшись безветренной погодой, он в два приема — 26 и 27 июля — осуществил прорыв своих гребных галер мимо обездвиженных штилем шведских парусников и блокировал в Рилакс-фьорде десять шведских кораблей контр-адмирала Эреншельда: фрегат «Элефант», шесть больших галер и три шхербота при 116 орудиях. С учетом небольшой ширины фьорда, что ограничивало маневрирование судов, Петр выделил для решения этой боевой задачи лишь четвертую часть своей галерной эскадры. Получив отказ на предложение капитулировать, Петр бросил против Эреншельда 23 малые 36-весельные галеры.
Первые две фронтальные атаки шведы отбили, а вот третья, предпринятая с обоих флангов, дала возможность русским сблизиться для абордажного боя, который закончился их полной победой. Этот бой вряд ли можно отнести к более или менее значительным морским сражениям, потери шведов убитыми, ранеными и взятыми в плен составляли менее одной тысячи человек, но для русского военного флота это было первое выигранное им сражение на море. Впервые мощная шведская флотилия, на глазах которой шло уничтожение одного из ее отрядов, побоялась прийти к нему на помощь и отступила, оставив Финский залив за русскими и сняв угрозу Санкт-Петербургу. Дальше — больше. Победа при Гангуте позволили русским взять Аландские острова, что в 15 милях от Стокгольма, и проводить успешные десантные операции на шведском побережье.
В эти критические для Швеции дни во фронтовой Штральзунд возвратился король Карл XII. Его пятилетнее пребывание в турецких владениях мало что дало его родине и ему самому. Несмотря на его активные интриги практически со всеми европейскими дворами, несмотря на его вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику Порты, он не то что не добился успеха, но и сам в конце концов стал там персона нон грата. Сначала ему только рекомендовали покинуть Бендеры и в сопровождении крымских татар проследовать через Польшу в свои владения. Потом на этом стали настаивать, а завершилось все грубостью, оскорблениями и вооруженным столкновением, в результате которого сам король, потеряв четыре пальца, часть уха и кончик носа, вместе с воеводой Потоцким оказался в бендерской тюрьме, а окружавшие его люди либо перебиты, либо взяты в плен. Правда, его потом выпустили из тюрьмы. Какое-то время он еще жил в Турции, но, видя всю бесперспективность своего там пребывания и не разуверившись в возможности получения хоть какой-то помощи со стороны султана, решается на отчаянный шаг. Переодетым, под чужим именем, в сопровождении всего лишь одного преданного ему человека он пересекает всю Европу и ночью 11 ноября 1714 года неожиданно появляется в Штральзунде, последнем укреплении, оставшемся за Швецией в Померании.
1715 год ознаменовался дальнейшим укреплением Северного союза. К нему присоединились король Пруссии Фридрих-Вильгельм и английский король Георг I, но не как представитель Англии, а как курфюрст Ганновера. Английский флот вошел в Балтийское море, но опять же не для участия в Северной войне, а для охраны своих торговых интересов. Русские в войне на южно-балтийских берегах в том году не участвовали из-за того, что вынуждены были оставаться в Польше, где бушевали массовые выступления против присутствия там саксонских войск, поэтому честь захвата Штральзунда, защищаемого самим Карлом XII, и острова Узедом досталась датскому и прусскому королям, чем Петр Алексеевич был крайне недоволен.
Тем не менее царь хотел как можно скорее окончить затянувшуюся Северную войну. Он видел только одно решение — перенести военные действия на территорию Швеции. Для этого он в следующем, 1716 году подготовил двадцать батальонов пехоты и тысячу драгун, разместил их в Ростоке и частично на русских галерах, временно стоявших на рейде Копенгагена. Но не все зависело от него. Для такой «диверсии» требовался большой флот, а его могли предоставить только Дания или Англия. Верные своим интересам, англичане напрямую отказались от участия в десанте, датчане же обещали предоставить необходимое количество транспортных судов, но каждый раз находили множество причин, почему они это сделать не могут. В итоге сборы затянулись до осени, когда начинать кампанию стало небезопасно, ибо ее пришлось бы вести в зимних условиях, да к тому же шведы, воспользовавшись отсрочкой, успели существенно укрепить свою береговую линию обороны. Петр решил не рисковать своей армией, которой предстояло воевать в одиночку на шведской земле, и перенес задуманную кампанию на следующий год.
Реакция союзников была настороженно враждебной. Им показалось, что царь Петр, находившийся при армии, вошел в соглашение с Карлом XII и хочет разделить с ним Данию и северогерманские княжества. Копенгаген затворил ворота, а его гарнизон занял боевые позиции на валу и крепостных стенах. Англичане пошли еще дальше. Король Георг приказал адмиралу Норрису напасть на русскую эскадру, захватить царя Петра и держать его под стражей до тех пор, пока русские войска не покинут Данию и Германию. Заблуждение скоро выяснилось, но чувство взаимного недоверия осталось. Англия по-прежнему отказывалась от активных действий против Швеции, требуя вывода русских войск из Мекленбурга. Этот ультиматум был направлен не только против русского царя, но и против герцога этой немецкой земли Карла-Леопольда, который, находясь в разногласиях со своим дворянством, в январе 1716 года заключил брачный контракт с племянницей Петра Екатериной Ивановной, а в апреле того же года вступил в союзнический договор с самим Петром Алексеевичем. Согласно этому договору царь брал на себя обязательство защищать герцога от всех его внешних и внутренних врагов, что он, не без пользы для себя, и делал, превратив немецкое княжество в свою военную базу.
Не видя реальных перспектив выгодного окончания войны со Швецией при помощи таких ненадежных союзников, Петр, жаждавший мира, решил-таки обратиться за посредничеством к исторической недоброжелательнице России — к Франции. В это время ею при помощи регента герцога Филиппа Орлеанского правил семилетний Людовик XV, на которого царь, кстати, смотрел как на, возможно, будущего супруга своей дочери Елизаветы. Визит Петра в Париж состоялся с 26 апреля по 9 июня и завершился обнадеживающим, но оказавшимся чисто декларативным договором России, Пруссии и Франции.
Препирательства же партнеров по Северному союзу продолжались. Причиной тому был страх союзников перед возрастающей военной и политической мощью России. Под разными предлогами они удерживали Петра и его экспедиционный корпус, расквартированный в Европе, от активных действий против Швеции, что, с другой стороны, не мешало им пользоваться русским жупелом в своекорыстных целях. Имея у себя в запасе такую сильную армию, они тихой сапой прибирали под себя шведские владения на южном берегу Балтийского моря, делая вид, что ни она сама, ни ее государь к этому не имеют никакого отношения. Эти разногласия были на руку только Швеции, которая, стремясь найти максимально выгодный вариант выхода из войны, вела сепаратные переговоры со всеми своими противниками, в том числе и с Россией, которая из всех завоеванных ею территорий соглашалась возвратить Швеции лишь не нужную ей Финляндию. Переговоры проходили трудно, Карл XII ничего не хотел уступать России, но к концу 1718 года он вдруг согласился на предложения Петра I с одним непременным условием: русский царь поможет ему получить территориальную компенсацию за счет Дании. Но тут уже Петр не мог согласиться. Переговоры оказались под угрозой срыва, а военные действия представлялись неизбежными.
Внезапная гибель короля при осаде норвежской крепости Фридрихсгаль еще больше запутала российско-шведские отношения. Шведские дворяне, много потерпевшие от диктаторских методов управления государством и повсеместного засилья иностранцев, выступили против того, чтобы шведскую корону унаследовал голштинский принц Карл-Фридрих, сын старшей сестры погибшего короля, и на условиях ограничения королевской власти избрали на престол младшую сестру Карла XII Ульрику-Элеонору. Управление государством перешло в руки аристократии, которая сочла целесообразным отказаться от своих германских владений, с тем чтобы, получив денежную компенсацию за эту уступку, продолжить войну с одной лишь Россией за Лифляндию и Эстляндию, ранее обеспечивавших Швецию всем необходимым продовольствием.
Петр решил, что отношения с новой королевой нужно начинать строить с некоторой уступки, и предложил ей за завоеванные им прибалтийские земли миллион рублей деньгами или какими-либо товарами. Ответ был отрицательным. Тогда царь запретил вывоз зерна из своих портов, надеясь создать в Швеции трудности продовольственного снабжения населения, но и это не помогло. Осталось последнее средство — военные действия. В июле 1719 года русский флот, состоящий из 30 кораблей, 130 галер и 100 малых судов, показался в окрестностях Стокгольма. Выброшенный на берег десант уничтожил города Остгаммер и Орегрунд, 135 деревень, 40 мельниц, 16 продовольственных складов. Казаки находились в полутора километрах от шведской столицы. Добыча русских оценивалась более чем в миллион талеров, а нанесенный Швеции вред — в 12 миллионов.
Но королева и сенат упорно продолжали настаивать на возвращении им Лифляндии. В этом их поддерживала надежда на помощь со стороны Англии, заключившей накануне русского вторжения мирный договор со Швецией, по которому к Ганноверу отходили Бремен и Верден. Вслед за этим они заключили оборонительный договор, направленный в основном против России. Но воевать Англия не хотела, ограничившись дипломатической борьбой против России практически при всех европейских дворах. Целью этой борьбы было вытеснение русских войск из Мекленбурга и Польши, что должно было привести к снижению роли царя в европейских делах.
Не без участия Англии и ганноверского двора Швеция смогла заключить мирный договор с Данией и возвратить себе все завоеванные датчанами земли в Померании и Норвегии; правда, за это ей пришлось уступить Шлезвиг и выплатить 600 тысяч ефимков. Вышла из войны Пруссия, выкупившая у Швеции Штеттин. За ней последовал и польский король Август II, от имени Саксонии заключивший мирный договор со Швецией. Только Россия, по воле своих союзников, в очередной раз оказалась один на один со своим врагом, хоть и изрядно побитым, но упорно не желавшим уступать ей уже отнятые у него территории, прав на которые у него было гораздо меньше, чем у самой России.
Чтобы понудить его к заключению мира, понадобились новые рейды русских кораблей на море и новые десантные операции на суше. Несмотря на присутствие в Балтийском море английской эскадры, направленной охранять шведские пределы, русские под началом бригадира фон Менгдена вновь осуществили десант на шведский берег, предав огню два города и 41 деревню, а князь Михаил Голицын разбил шведскую эскадру при острове Гренгаме.
Эта демонстрация силы понудила Швецию в апреле 1721 года начать в городе Ништадте переговоры, которые она повела с позиции силы в расчете на поддержку английской эскадры, вновь вошедшей в северное Средиземноморье. И опять, как год назад, это не помешало русским под командой генерала Ласси высадиться на шведский берег и опустошить три городка и 506 деревень. Поняв, что помощи ждать неоткуда, шведы наконец начали торговаться. За уступку Лифляндии они попросили денег и обещание не вмешиваться в дела герцога Голштинского, претендовавшего на шведскую корону.
Долгожданный договор был подписан 30 августа 1721 года. Объявлялись мир и свобода торговли, провозглашались освобождение всех пленных и всеобщая амнистия, за исключением русских казаков-изменников. Россия, возвратив Швеции Финляндию и заплатив ей два миллиона ефимков, оставляла за собой, без права передачи третьей стороне, все ранее завоеванные земли с сохранением их жителям вероисповедания, гражданских прав и привилегий, в том числе и права собственности на движимое и недвижимое имущество.
Сбылась мечта многих поколений русских государей. После неудачных попыток Ивана Грозного и Алексея Михайловича земли, освоенные еще во времена Ярослава Мудрого и утраченные его наследниками в XIII веке, спустя четыре столетия возвращались в пределы русского государства, возобновлялась свобода мореплавания и торговли. Россия, еще недавно страдавшая от нашествия восточных завоевателей, переварила не только их, но и выдержала натиск более цивилизованных германских племен. И не просто выдержала, а заняла первенствующее положение на северо-востоке Европы, заставив считаться с собой все королевские дворы.
Торжества по случаю Ништадтского мира и «в знак благодарности за Божью милость» завершились 20–22 октября всеобщей амнистией, освобождением государственных должников и списанием недоимок, накопившихся с начала войны до 1718 года. В признание личных заслуг Петра Алексеевича в 21-летней Северной войне Сенат присвоил ему титулы «Отец Отечества», «Император» и «Великий». Европа скрепя сердце хоть и не сразу, но признала нового императора и новую империю.
Но не только Балтика и Европа привлекали русского царя. Утверждаясь на северном Средиземноморье, Петр имел далеко идущие планы. Он хотел не только восстановить древний торговый путь «из варяг в хазары», но и продолжить его до такой далекой и такой желанной Индии. Для этого нужно было укреплять позиции России на Каспии, чтобы уже оттуда подыскивать водные пути, по которым было бы можно продвигаться дальше на восток.
Еще в разгар Северной войны был предпринят поход в Среднюю Азию, причем не для захвата чужих территорий, а с целью поиска новых торговых путей и склонения местных ханов если не в подданство, то хотя бы к дружеским отношениям. Была у этой экспедиции еще одна поистине фантастическая научно-практическая задача. Ей предписывалось провести разведку на предмет возможности поворота стока реки Амударьи от Аральского на Каспийское море. Князь Александр Бекович-Черкасский, возглавлявший это предприятие, зимой 1716/17 года основал на восточном берегу Каспия в урочищах Тюк-Караган и Красные Воды две крепости, после чего во главе 4-тысячного отряда направился в сторону Хивы.
Дальнейшая судьба отряда весьма туманна. По сообщениям немногих возвратившихся из похода, известно, что где-то в середине августа 1717 года, в шести днях пути от Хивы, русские были блокированы хивинским войском. Три дня продолжалась перестрелка, а на четвертый день хан предложил вступить в переговоры. Обстановка была вполне дружелюбной: стороны обменивались подарками, ездили друг к другу в гости. Для дальнейших переговоров Черкасского пригласили в Хиву, а его отряд предложили расквартировать в нескольких городах ханства для удобства продовольственного и фуражного снабжения. Князь, на свое несчастье, согласился и горько поплатился. Разобщенные русские отряды были разоружены и взяты в плен, а князь и астраханский дворянин Михаил Заманов обезглавлены, после чего их останки были выставлены на всеобщее обозрение.
Более удачными были действия русских на западном берегу Каспийского моря, принадлежавшем Персии. Дело в том, что некогда могучее государство, захватившее по случаю огромные территории и покорившее множество народов, оказавшись в руках слабого правителя, шаха Гусейна, и его приближенных, пришедших к власти явно не по деловым качествам, было охвачено внутренними волнениями. Первыми против персидского господства поднялись афганцы. Их вождь Мир-Вейс разбил все посланные против него войска и объявил независимость своей страны. Его примеру последовали курды, харасанцы и кавказские народы. События на Кавказе волей-неволей затрагивали уже интересы русского государства. Восставшие лезгины и кумыки опустошили Ширванскую область, захватили Шемаху, уничтожив при этом всю русскую колонию. Было убито около 300 купцов, а их имущество, оцениваемое в 500 тысяч рублей, разграблено.
Зимой 1721/22 года внутриперсидские события приняли уже катастрофический оборот. Афганцы, воодушевленные недавними успехами в национально-освободительном движении, в свою очередь, напали на Персию, захватили ее столицу Испагань, пленив при этом и самого шаха. В стране наступил период анархии и безвластия. Появилась реальная угроза того, что «бесхозный» Кавказ и Каспийское побережье, ранее входившие в Персидское царство, могут оказаться под властью турок, внимательно наблюдавших за всем происходящим в соседнем государстве. Естественно, что Петр, десять лет назад испытавший позор прутского полупленения, не мог допустить невыгодного и даже опасного для него усиления Порты.
Под предлогом возмещения ущерба, нанесенного в Шемахе русским купцам, император, сопровождаемый супругой, возглавил поход Русской армии на западный берег Каспийского моря. Силы у него были внушительные: 22 тысячи пехотинцев, 9 тысяч конницы, 20 тысяч казаков и столько же калмыков, 30 тысяч татар и пять тысяч матросов на кораблях и галерах. Пока конница с большими трудностями следовала по берегу моря, Петр высадился на берегу Аграханского залива и разослал манифесты окрестным кавказским народам с требованием мирного подчинения. Первым о своей покорности заявил шевкал тарковский{16} Адиль-Гирей, за ним последовали султан аксайский Махмуд и два других владетельных князя. Сопротивление оказал только султан утемишский Махмуд, который поступил опрометчиво, напав на русское войско, двигавшееся к Дербенту. При таком соотношении сил его отряд был играючи разбит, а столица Утемишь, насчитывавшая 500 домов, обращена в пепел. А 23 августа 1722 года с изъявлением покорности к Петру явился наиб Дербента и вручил ему ключи от городских ворот.
Победное шествие русских войск по персидским владениям могло бы продолжаться еще долго, если бы не несчастье, случившееся с судами, доставлявшими им продовольствие из Астрахани. Разыгравшийся на море шторм привел в негодность практически весь заготовленный для экспедиционного корпуса провиант, находившийся на кораблях. Армия оказалась под угрозой голода, в связи с чем военную кампанию пришлось свернуть.
4 октября Петр Алексеевич возвратился в Астрахань. Однако, уходя с Кавказа, он предпринял неожиданный дипломатический демарш. Наследнику Гусейна, Тохмас-Мирзе, была предложена военная помощь в борьбе с бунтовщиками взамен нескольких прикаспийских областей. В Москву был снаряжен шахский посол для переговоров, а тем временем в персидский город Решт под видом союзных войск вступил отряд полковника Шипова. Вел он себя, правда, не как союзник, а как оккупант. Когда персы опомнились и попытались вытеснить его из города, Шипов нанес упреждающий удар, убив более тысячи человек. Под тем же предлогом — оказание помощи в защите от бунтовщиков — в июле 1723 года к Баку с четырьмя полками пехоты прибыл генерал Матюшкин. Персы хотели было воспрепятствовать его вступлению в город, но, видя, что тот начал приготовление к приступу, решили не испытывать судьбу и сдали крепость. Первым русским комендантом Баку стал бригадир князь Барятинский.
Все эти благоприобретения были закреплены договором, подписанным 12 сентября в Петербурге персидским послом, действовавшим больше от себя, чем от шаха. Согласно этому договору Россия обязывалась оказывать военную помощь шаху «против всех его бунтовщиков и для усмирения оных и содержания его шахова величества на персидском престоле». За это посол от имени шаха уступал «императорскому величеству всероссийскому в вечное владение» города Баку и Дербент с прилегающими к ним землями, а также провинции Гилянь, Мазандеран и Астрабад. Впоследствии шах отказался ратифицировать этот договор, что, впрочем, не помешало русским приступить к освоению завоеванных территорий.
Продвижение русских на юг встревожило турок, они даже начали готовиться к новой войне, но 80-тысячный русский корпус, стоящий на границе, и дипломатические шаги русского резидента в Константинополе Неплюева при деятельном участии французского посланника де Бонака убедили султана, что с русским императором лучше дружить. В результате появился договор от 12 июня 1724 года, фактически закрепивший раздел персидских владений в восточном Закавказье между Россией и Турцией. Первая оставляла за собой вышеуказанные города и провинции, а вторая — получала контроль над Шемахой.
Проникновение русских на западный берег Каспия в очередной раз возбудило христиан Грузии и Армении, находившихся в вассальной зависимости от мусульманских держав Персии и Турции. Как и балканские христианские народы, спровоцировавшие печально знаменитый Прутский поход, они стали убеждать императора в том, что угнетенные грузины и армяне готовы поднять восстание, как только русские войска подойдут к их пределам. Но Петр, наученный горьким опытом, решил действовать постепенно: сначала укрепиться на Каспийском побережье, а потом, если Бог даст, прийти на помощь единоверцам, угнетаемым персами. Турецких подданных просили не беспокоиться, дабы не испортить отношения с султаном. Как нам уже известно, дальше Баку русским продвинуться не удалось, а поэтому в Петербурге было принято решение способствовать переселению христиан Грузии и Армении на вновь приобретенные прикаспийские земли. Этим воспользовались преимущественно более подвижные армяне; грузины же, пребывавшие в междоусобной распре, под угрозой турецкого нашествия вынуждены были поддаться султану. Только небольшая группа картлийцев во главе с царем Восточной Иверии Вахтангом, мусульманином по принуждению и бывшим персидским военачальником — по обстоятельствам, воспользовалась гостеприимством России.
Глава VIII
Реформы Петра и их цена
В предыдущих главах мы достаточно подробно рассмотрели процесс становления личности будущего императора всероссийского: его детство и юность, военные забавы и воинские подвиги. Мы имели возможность наблюдать за тем, как при его личном участии азиатская страна превращалась в европейскую державу, с которой в итоге вынуждены были считаться не только королевские дворы Старого Света, но и граничащие с ней восточные сатрапии. Россию Петра Великого стали уважать, но уважение это строилось на страхе военной мощи государства и предсказуемо агрессивной политике ее вождя, втайне мечтавшего о лаврах Александра Македонского.
У истории не бывает сослагательного наклонения, и нам не дано знать, как сложилась бы дальнейшая судьба России и русского народа, не будь в ее жизни царя-реформатора, царя-революционера. Возможно, цивилизаторский процесс русского общества был бы более продуманным, следовательно, и более гуманным, а становление Российской империи — не таким волюнтаристским и не столь жестоким по отношению к своему собственному народу. А возможно, не было бы никакой империи и никакого русского народа.
Не будем гадать. Что дано, то дано. Однако данность истории не запрещает, а, наоборот, обязывает нас еще зорче вглядываться в прошлое, с тем чтобы в будущем избежать повторения ошибок, поддержать необдуманно отвергнутое, реанимировать впопыхах забытое. Так ли, иначе ли, но от оценок исторических личностей и их поступков нам никуда не уйти.
Итак, какую же цену потребовал Петр Алексеевич Романов от русского народа за его приобщение к европейскому сообществу? Хотя кто сказал, что Петр был первооткрывателем Европы? Европа, как мы помним, была нам знакома еще со времен первых Рюриковичей. Породниться с киевским князем считали за честь многие монархи Европы. Женами русских князей были византийские принцессы, дочери шведского, английского, венгерского, польского, чешского королей. Не меньшим спросом пользовались и киевские невесты, делившие со своими мужьями троны Германской империи, Польского, Норвежского, Французского, Венгерского, Датского королевств. Символично, что еще древние французские короли при восшествии на престол присягали на Евангелии, написанном на старославянском языке.
Ивану Грозному служили английские каперы и ливонские рыцари, Василию Шуйскому — шведские наемники, а Немецкая слобода в Москве образовалась еще при Алексее Михайловиче. Так что Петр был всего лишь продолжателем своих предшественников на троне, причем не самым благоразумным. К нему в полной мере можно отнести афоризм «в своем Отечестве пророков нет», потому что он считал, что все, что было до него, подлежит если не разрушению, то реформированию, а люди, специалисты своего дела, — переучиванию. Насмотревшись на обитателей Немецкой слободы, а еще больше познакомившись с порядками в Европе в процессе своего Великого посольства, он, ни с кем не считаясь, начал слепо копировать западный образ жизни с его не совсем приемлемыми для России нравами, вводить западные стандарты. Брей бороду! Обрезай кафтаны! Кури табак! Пей до одури! Развратничай! Богохульствуй!
Что и как нужно делать, как и для чего жить, знали только царь и его иностранные инструкторы-советчики. А если ленивые и нелюбопытные русские не хотят придуманного для них счастья, то мы их заставим быть счастливыми.
Чтобы ему никто не мешал, Петр решил в первую очередь разрушить многовековую гармонию светской и церковной властей, которые когда-то так хорошо дополняли и сдерживали друг друга. Хотя, положа руку на сердце, у него были для этого достаточно веские основания. К началу XVIII столетия Русская церковь, растерявшая просвещенческое начало, распугавшая мирян всевластием Никона и ослабленная расколом, уже не могло выставить на политическую арену личность если не равную, то хотя бы достойную стоять рядом с монархом. И как бы нам ни хотелось вслед за раскольниками объявить царя-революционера Антихристом, однако назвать его богоборцем у нас не поворачивается язык. Он был русским православным человеком, уповавшим на волю Христа Спасителя, но в то же время, видя спесивое и бездеятельное церковное начальство, убогое белое духовенство, тунеядствующее монашество, не смог примириться с необходимостью делиться властью с этими людьми, так далеко отстоящими от государственных интересов.
Мы видим, как Петр в буквальном смысле слова выбрасывает из Преображенского приказа патриарха Адриана, попытавшегося заступиться за несчастных узников, видим, как он вешает иереев, окормлявших ненавистных ему стрельцов. В этом же ряду антицерковных протестных действий стоит и его активное участие во «всепьянейшем соборе» — злой пародии на внутрицерковную жизнь того времени. Осознавая себя помазанником Божьим и не видя в среде священнослужителей людей, достойных делить с ним верховную власть, Петр, после смерти патриарха Адриана (в октябре 1700 года) принимает решение не избирать нового патриарха и назначает блюстителем патриаршего престола киевского ученого монаха Стефана Яворского, незадолго до этого насильно возведенного им на пост митрополита Рязанского и Муромского. Таким образом, Россия лишилась Божьего наместника на земле, а Петр фактически стал главой и государства, и церкви.
Здесь мы должны четко понимать, что за этим решением стояли не столько духовные проблемы церкви и общества, сколько стремление к единоличной власти и меркантильные интересы самого царя, проигравшего битву под Нарвой и нуждавшегося в серьезном финансировании для восстановления Русской армии.
Патриарший разряд, ранее управлявший имуществом церкви, был вскоре ликвидирован, и на его месте образован мирской Монастырский приказ во главе с боярином Иваном Алексеевичем Мусиным-Пушкиным, который начал свою деятельность с переписи монахов и церковного имущества. Вслед за этим последовало запрещение постригать в монахи кого бы то ни было без царского указа. И вот оно вожделенное! Отныне все доходы с монастырских вотчин и угодий стали прямиком направляться в царскую казну.
Так монахам напомнили древний обычай общежития — обычай самостоятельного добывания пропитания не только для себя, но и для больных и нищих, обращающихся к ним за помощью. Так решился многовековой спор стяжателей и нестяжателей. Так у церковников отбили охоту и желание противиться реформам Петра по вживлению европейских нравов и обычаев в патриархальной Руси.
Справедливости ради нужно заметить, что вслед за Стефаном из Малороссии в Московию, для просвещения мирян и духовного сословия, были выписаны игумен Новгород-Северского монастыря Димитрий, знаменитый составитель Четьих-Миней — будущий митрополит Ростовский, и эконом Киево-Печерского монастыря Филофей Лещинский, ставший митрополитом Сибирским.
Были у Петра единомышленники и среди великорусского духовенства, яркие представители которого — воронежский епископ Митрофан и Афанасий холмогорский. Но их было так мало… Остальное же духовенство представлялось настолько невежественным, что Петр решил лишить церковь самостоятельности, превратив ее в правительственное учреждение, послушно выполняющее волю монарха. Для этого впоследствии будет учрежден Священный синод во главе со светским обер-прокурором, роль которого как администратора будет многократно выше роли всех входящих в него духовных лиц. Самоуправное поведение царя в делах церкви приведет впоследствии к такому явлению, как малороссийский ученый монах Феофан Прокопович, сила влияния которого в послепетровское время будет ничуть не меньше, чем сила влияния патриарха Никона в свое время, с той лишь разницей, что Феофан будет стремиться не к чистоте православия, не к возврату к первоисточникам христианства, а к его западной, протестантской модели. Но об этом человеке мы расскажем в свое время.
И еще об одном кощунственном церковном нововведении. Именным указом царя всем прихожанам под угрозой крупного штрафа было приказано регулярно посещать церковь и исповедоваться у священников. Вслед за этим последовал секретный указ, адресованный уже священникам, где им под страхом смертной казни предписывалось доносить «по начальству» о всех злоумышлениях против царской семьи и прочих государственных преступлениях. Так церковь и ее служители включались в систему тотального доносительства.
Итак, Петр, лишив своих подданных церковной защиты и скомпрометировав духовенство в глазах его паствы, утвердился в мысли, что теперь-то он может делать с ними все, что ему заблагорассудится. И он начал действовать. В первую очередь он считал нужным воссоздать боеспособную армию, а это — деньги, люди, оружие, продовольствие. А чтобы это добыть, для Петра все средства были хороши.
Мы уже говорили, что он практически полностью обобрал церковь, лишив ее доходов от монастырских вотчин, поснимав колокола и похозяйничав в ризницах.
Он разорил половину богатейших купцов России, введя государственную монополию на продажу самых выгодных товаров (сало, табак, пеньку, деготь, смолу, паташ, конопляное семя, юфть) и обязав их объединяться в «кумпанства» для строительства кораблей за свой счет.
Он ввел подушную подать на крепостных крестьян — 74 копейки, на посадских людей и государственных крестьян — 114 копеек.
Тратя на себя лично только те деньги, что он получал, будучи последовательно бомбардиром, капитаном, генералом и адмиралом, Петр вел жестокую борьбу с казнокрадами и недоимщиками. Сохранилось предание, что, отдавая приказание прокурору о мерах борьбы с воровством, он сказал примерно следующее: «Если стоимость украденного составляет сумму, на которую можно купить веревку, то укравшего надлежит повесить».
В то же время мы должны отдать должное тому, что царь не только «обдирал» податные сословия, но и сам зарабатывал, учреждая казенные фабрики и заводы, которых к концу его царствования насчитывалось 233 единицы. А в целом за время его царствования доходы казны выросли более чем в пять раз, причем львиная их доля, до 90 процентов, шла не куда-нибудь, а на содержание армии, флота и на ведение военных действий.
Если раньше армия состояла из стрелецких полков, дворянского ополчения и вспомогательных войск покоренных нерусских народов, то после нарвского поражения Петр решил создать армию европейского строя — не наемную, как это было заведено в Европе, а свою рекрутскую, великорусскую. Казачьи полки и прочие вспомогательные отряды татар, башкир, калмыков, черкесов сохранялись, но основу армии должны были создавать полки, подобные бывшим потешным — Семеновскому и Преображенскому.
Вопрос об офицерах не стоял. Все дворяне, прошедшие службу в гвардейских или пехотных полках в качестве рядовых и зарекомендовавшие себя с положительной стороны, становились офицерами. А вот с солдатами решили поступить по старому принципу даточных людей с той только разницей, что набор приобрел принудительный характер и осуществлялся он, как правило, среди сельского населения. Крестьянин, призванный в армию, освобождаясь от крепостной зависимости, переходил в другую, еще более страшную зависимость. Для семьи он практически умирал, так как служба в армии была пожизненной и редко кто возвращался обратно.
Более того, отношение к рекрутам и уже состоявшимся солдатам было таким, что людские потери от голода, холода и болезней были в четыре-пять раз выше боевых потерь. В этой связи желающих служить добровольно были единицы, рекрутов к месту службы вели буквально в кандалах, а на ночевку размещали в тюрьмах и острогах. Поэтому неудивительно, что при первом же удобном случае новобранцы бежали на Дон или сбивались в воровские шайки. Но мобилизационный маховик работал безотказно. На место сбежавших призывали-отлавливали других, те, в свою очередь, бежали… и так без конца.
В результате непосильной подушной подати, рекрутчины, а потом и обязательной канальной повинности (один человек с десяти дворов), вследствие частых неурожаев и эпидемий численность податного сельского населения России за время правления Петра сократилась на 20–25 процентов. Это самый объективный и самый страшный показатель цены проводимой революции сверху.
При Петре Великом крепостных крестьян, как рабов, как скот, стали продавать без земли. Делалось это для того, чтобы дать подневольные рабочие руки, практически бесплатную рабочую силу, создаваемым заводам и фабрикам, владельцы которых не всегда были даже дворянами.
Не меньшему гнету со стороны государя и государства подвергались купцы и дворяне. Мало того что богатые купцы, зачисленные в торговую сотню, вынуждены были переезжать в столицы и пополнять их бюджет результатами своего труда, их принуждали брать откупа, становиться казенными прибыльщиками, выкупать казенные заводы и организовывать их работу.
Но, как отмечают многие исследователи отечественной истории, самой незавидной была участь служилого сословия. Принцип «не можешь — научим, не хочешь — заставим» внедрялся в жизнь уже тогда. Дворянские дети с десяти лет подлежали персональному учету и принудительному обучению в школьных или в домашних условиях. Учиться было нужно, потому что неграмотный недоросль не мог стать ни офицером, ни отцом семейства. Воинская служба дворянских детей начиналась в 15-летнем возрасте в качестве рядовых солдат, и, только «освоив фундамент солдатского дела», они могли получить офицерский чин. Служить должны были все. Неявившиеся на смотр, так называемые «нетчики», подвергались жестокому наказанию вплоть до лишения поместий и «шельмования», то есть объявления виновного вне закона, что позволяло всякому его побить, ограбить и даже убить. Лишь некоторым удавалось избежать воинской службы, но сенатский герольдмейстер строго следил за тем, чтобы в гражданских ведомствах не служило более одной трети каждой конкретной дворянской фамилии. Чтобы как-то понудить дворянских детей к службе, Петр законодательно ввел майорат, при котором вотчины и поместья, в случае смерти их хозяев, передавались только одному наследнику, другие наследники должны были заслужить право приобретать недвижимость и крепостных крестьян добросовестной государевой службой на протяжении не менее семи лет. Для дворян служба была практически пожизненной. Только тяжелые увечья или возрастная дряхлость были основанием для отставки, но и в этом случае отставников стремились нагрузить гражданской службой в центральных или местных органах управления.
Создавая новое государство с абсолютной властью одного человека, царь Петр ломал старые порядки и устои, закрепощал все и вся, лил кровь правых и виноватых. Но и народ не безмолвствовал.
Все началось с Астрахани, где воевода и другие начальные люди, за отдаленностью от столицы позволяли себе чрезмерные притеснения и поборы в отношении местного населения и проезжающих купцов. Это, естественно, вызвало чуть ли не всеобщее недовольство, чем не преминули воспользоваться купцы, бурмистры, младшие командиры стрелецких и солдатских полков из числа старообрядцев. Летом 1705 года они малой кровью захватили власть в городе и установили там казацкое управление. К терским и донским казакам, к жителям Поволжья были направлены грамоты, призывающие их примкнуть к ним в борьбе за старую веру, за казацкие вольности, за справедливое отношение со стороны властей, но те предпочли остаться верными царской присяге, и бунт не получил своего распространения на другие области.
Однако, узнав о случившемся, Петр встревожился и счел необходимым послать на усмирение бунтовщиков не кого-нибудь, а уже прославленного своими победами фельдмаршала Шереметева. С небольшим числом пехоты, конницы и артиллерии он, делая остановки чуть ли не во всех поволжских городах, в марте следующего, 1706 года достиг-таки Астрахани и после непродолжительного сопротивления овладел ею, потеряв всего лишь 20 человек убитыми. Зачинщики и активные участники бунта (всего 365 человек) были взяты под арест и отправлены в Москву. Всем им было суждено умереть — кому на плахе, кому на дыбе.
Почти одновременно с астраханскими событиями и практически по той же причине — притеснение местных жителей со стороны царских властей, и в первую очередь прибыльщиков, — заволновались башкиры. Там объявился некий султан, который отправился за помощью к единоверцам в Крым, а затем и в Турцию. Не получив у них поддержки, он пробрался на Северный Кавказ, где возмутил горские народы, которые признали его святым и своим верховным вождем. К самозваному башкирскому султану пристали чеченцы, аксайцы, татары, кумыки и астраханские казаки-раскольники. В феврале 1708 года вся эта разношерстная толпа осадила Терскую крепость, однако с помощью подоспевших из Астрахани русских солдат, калмыков и татар она была наголову разбита, а раненый султан взят в плен.
Башкирия же продолжала волноваться. На этот раз там объявился какой-то хан, на поимку которого из Уфы выступил Петр Хохлов с 900 солдатами и отрядом башкир, поклявшихся в своей верности царю. Но при первом же столкновении с мятежниками башкиры перешли на их сторону, и Хохлову, потерявшему в этом столкновении половину своих солдат, едва удалось спастись. Башкирия запылала. Волнения приобрели националистический, антирусский характер. В Уфимском и Казанском уездах были уничтожены более 300 русских деревень, а 12 тысяч их жителей либо убиты, либо взяты в полон. Положение становилось угрожающим. Опасаясь, что «пожар» может перекинуться и на другие области русского царства, на подавление мятежа выступили уже более серьезные силы во главе с боярином и воеводой Петром Хованским. В результате его успешных действий жители Казанского уезда принесли присягу на верность царю и выдали своего «хана», который тут же был казнен.
Однако Уфимский уезд продолжал оставаться «незамиренным». Петр, готовясь к решающим схваткам со шведским королем, не рискнул отправить в Приуралье сколько-нибудь существенных армейских подразделений, а посему прибег к старой тактике колонизаторов, натравив одних туземцев на других. Калмыцкий тайша Аюка за добычу, которая им будет взята во время военных действий, дал десять тысяч своих всадников, с которыми стольник Иван Бахметьев летом — осенью 1708 года прошел опустошительным рейдом по башкирским селам. Один из идейных вдохновителей мятежа, мулла Измаил, напуганный решительностью действий правительства, поспешил явиться с повинной. Его примеру в апреле 1709 года последовали и другие «башкирцы лучшие люди», обещавшие верно служить и дани давать по-прежнему.
Только решилась эта проблема, как появилась другая. На этот раз заполыхал Дон, который год от года все больше и больше подвергался давлению из центра. Царские требования нарастали, а пружины компромисса и терпения сжимались, пока не достигли критической точки. Началось все с того, что в 1705 году от донцов потребовали снести свои городки по Северскому Донцу, основанные после Азовских походов, а их жителей поселить вдоль шляхов, идущих к Азову и Черкасску, с тем чтобы организовать с ними регулярное и безопасное сообщение. Одновременно было выдвинуто требование выслать в русские города всех великороссов, сбежавших на Дон после 1695 года. Исполнение этого царского указа затормозилось, но Петр, в связи с астраханскими событиями, побоялся тогда действовать решительно. Единственное, что ему удавалось, так это добиться розыска и возвращения некоторых персонально поименованных беглецов, что никак его не устраивало, ведь он лишился десятков, если не сотен тысяч подданных, которых можно было бы спокойно послать на войну, на строительство Петербурга или возведение каналов. На худой конец с них можно было бы собирать ту же подушную подать на те же нужды.
И вот, в 1707 году он наконец решился отправить на Дон полковника князя Юрия Долгорукого с отрядом солдат для розыска беглецов и возвращения их к прежнему месту жительства. Это сильно возмутило не только рядовых казаков и беглых из великорусских областей, но и казацкую старшину. Последние, правда, предпочли ограничиться пассивным сопротивлением, голытьба же нашла себе вождя в лице бахмутского атамана Кондратия Булавина, вокруг которого собралось довольно много людей. С ними-то он в ночь на 9 октября на реке Айдаре, внезапно напав на Долгорукого, полностью истребил его отряд. Затем Булавин со своими «бесконными, безоружными и безодежными бурлаками» отправился по донским городкам поднимать казаков. Здесь ему уже пришлось иметь дело с атаманом Войска Донского Лукьяном Максимовым, который, испугавшись ответственности за совершенное Булавиным, рассеял его слабо организованные ватаги.
Отсидевшись какое-то время в Айдарском лесу, Булавин перебрался в Запорожскую Сечь, где получил разрешение коша набирать к себе вольницу. Кроме того, ему было обещано, что запорожское войско присоединится к нему в случае, если в числе его союзников будут Белгородская и Ногайская орды, калмыки и горские черкесы.
Весной следующего года мы видим Булавина уже на Хопре. Здесь к нему присоединяются местные казаки и вольно шатающаяся голутва. Напуганный размахом движения, азовский губернатор Иван Толстой направляет против бунтовщиков отряд полковника Васильева, который, соединившись с атаманом Максимовым, вошел в соприкосновение с отрядами бунтовщиков на речке Лисковатке у Красной Дубравы. Здесь казаки верховых городков неожиданно переметнулись на сторону Булавина, соотношение сил резко изменилось в пользу Булавина, в результате Васильеву и Максимову едва удалось увести остаток своих сил в Азов и Черкасск.
Эта победа, подкрепленная к тому же войсковой казной (8 тысяч рублей), захваченной в бою, позволила Кондратию Булавину распространить свое влияние на казачьи станицы по берегам рек Северский Донец, Хопер, Бузулук, Медведица, в которых насчитывалось более восьми тысяч казаков.
Воодушевленный победой Булавин отправился к Черкасску. По пути к нему примыкали все новые и новые добровольцы. К столице донского казачества он привел уже 15-тысячное войско. Через два дня осады, 1 мая 1708 года, сторонники Булавина, повязав атамана Лукьяна Максимова и всю его старшину, открыли бунтовщикам ворота города. Участь арестованных была предрешена: 6 мая их казнили. Казачий круг избрал Кондратия Булавина атаманом Войска Донского. Но это была последняя победа повстанцев. В тот самый день, когда они подступили под Черкасск, на речке Курлаке был наголову разбит отряд булавинского единомышленника Лукьяна Хохлача. Победа досталась стольнику Бахметеву и подполковнику Рихману, располагавшим вдвое меньшими силами.
Впрочем, Булавин продолжал представлять серьезную угрозу на юге России. Своей новой целью он объявил Астрахань и Азов. Но для взятия этих городов ему требовались куда как более серьезные силы, в связи с чем по казачьим городкам были срочно разосланы указы о том, чтобы те отряжали для похода на Азов по семь казаков от каждого десятка и направляли их в Черкасск. Рассчитывал атаман и на скорое прибытие запорожских казаков.
В этих условиях Петр Алексеевич счел необходимым направить против бунтовщиков регулярные части численностью около семи тысяч человек, во главе которых поставил брата убитого князя Юрия Долгорукого — майора гвардии Василия Долгорукого. Прибыв в Воронеж, к месту сбора войск, и не найдя там достаточно сил, гвардейский офицер решил было начать свою карательную экспедицию с казни 143 казаков, взятых в плен на Курлаке. Был даже назначен день казни, но вмешательство царя и казацкая челобитная грамота остановили экзекуцию.
Почти два месяца прошли в бездействии, обе стороны накапливали силы. Первыми удар нанесли повстанцы. В конце июня в Валуйском уезде они в ночное время скрытно подобрались к месту расположения Сумского полка и практически целиком его вырезали.
Долгорукий нанес ответный удар. Против казаков, действовавших на севере Донской области, он направил полки бригадира Шидловского и полковника Кропотова, которые 1 июля в урочище Кривая Лука, недалеко от реки Тора, настигли 5-тысячный отряд донских казаков Драного и полуторатысячный отряд запорожцев. Бой длился более пяти часов, в ходе которого правительственные силы одержали убедительную победу: предводитель повстанцев был убит, а запорожцы покинули место боя и укрылись в Бахмуте. Но это их не спасло. Городок был выжжен и полностью разорен. Пленных не брали.
А в это время другой 5-тысячный повстанческий отряд подступил к Азову. Сначала удача была на его стороне. Мятежники даже вступили в Матросскую слободу, но общими усилиями крепостного гарнизона, военных кораблей и вспомогательных отрядов туземного населения они с большими потерями для себя были остановлены, а потом и обращены в бегство.
Как в таких случаях неоднократно бывало и раньше, переменчивые казаки обвинили во всех своих бедах Кондратия Булавина, якобы пославшего их на верную смерть. По возвращении в Черкасск в наиболее горячих головах донцов сложился спонтанный заговор с целью его убийства, но это стало известно атаману. Он заперся в своем курене, какое-то время отстреливался от осаждавших, а потом, убедившись в бесполезности сопротивления, застрелился. Казаки тут же собрали круг и избрали себе нового атамана. Им стал Илья Зершиков.
26 июля на Аксае Долгорукого, направлявшегося к Черкасску, встретила делегация донских казаков. Атаман со старшиною, приблизившись к царскому воеводе, в знак признания своей вины и изъявления покорности положили знамена и сами легли на землю. А через три дня они, выдав 26 «пущих воров», приступили к крестоцелованию на верность государю, в искренность которой мало кто верил, ибо Дон в любой момент мог взбунтоваться и поставить под угрозу безопасность южных границ государства. Чтобы закрепить свою победу и гарантировать лояльность нового атамана и казацкой старшины, Долгорукий решил оставить в Черкасске солдатский полк.
Только после этого он приступил к выполнению второй части царского указа — разорению всех самовольно возведенных городков по Бузулуку, Адаре, Деркуле и Калитве, а по Хопру, Донцу, Медведице — частично. До этого времени его действия были относительно адекватными, особой жестокости он не проявлял, потому что если наказывать виноватых, то наказывать нужно было бы всех. Но если стародавние казаки со смертью Булавина были приведены в относительную покорность, то о вновь поселившихся беглых крестьянах, стрельцах и солдатах, принимавших участие в булавинском восстании, этого сказать было нельзя, так как из-за инстинкта самосохранения они вынуждены были либо бежать еще дальше, либо, защищаясь и обороняясь, вести вооруженную борьбу с правительственными силами.
Так оно и получилось. Уклоняясь от встречи с царскими войсками, непокорившиеся бунтовщики подались на Волгу, ну а поскольку их там никто не ждал с распростертыми объятьями, то это вынужденное и достаточно массовое переселение приняло характер повседневных вооруженных стычек с местными воинскими командами и гарнизонами. Из-за наплыва большого количества «гулящих людей», бежавших с Дона, Поволжье оказалось во власти людей, находящихся вне закона. Они захватили города Дмитриевский, Камышин, Царицын, осадили Саратов. Для их подавления были дополнительно привлечены астраханские полки и калмыки тойши Аюки.
С этого момента начались карательные действия. Беглецов отлавливали на дорогах, захватывали на стоянках в чистом поле, брали в плен во время боевых действий. Их сотнями вешали вдоль дорог, сажали на кол, четвертовали, колесовали, заковывали в кандалы и отправляли на каторгу. Долгорукий, принудив к сдаче жителей Есаулова, кажется впервые в России, применил дециминизацию, казнив каждого десятого его защитника, а плавучие виселицы для устрашения пустил по Дону.
Последняя бойня в этой гражданской войне состоялась 4 ноября 1708 года у Решетовой станицы. Долгорукий настиг здесь 8-тысячное войско атамана Голого и безжалостно его истребил. Лишь один повстанец из трех, в том числе и атаман, смог выбраться из кровавой каши. Три тысячи мятежников остались лежать на земле. Остальные — кто утонул в Дону, а кто, и того хуже, попал в плен. На этом завершилась вторая открытая война донского казачества против государства Российского. Надежность тыла в преддверии Полтавской битвы, до которой оставалось десять месяцев, была обеспечена.
Вот уже почти три столетия ведутся споры об административной реформе Петра Алексеевича: лучше ли при нем стало управление государственными делами или хуже; в чем преимущества Сената перед Боярской думой, а коллегии — перед приказом? Чем отличается генерал от воеводы, прокурор от стряпчего, а прибыльщик от целовальника? Большого различия вроде бы и нет — названием разве что да внешним обликом, а по существу как воровали — так и воруют, как ленились — так и ленятся. В чем же дело, почему это вдруг царю захотелось все переделать, перелицевать, перекроить?
Дело, видимо, все-таки в личности Петра и его воспитании. Вспомним Ярослава Мудрого, Ивана Калиту, Ивана III — князей-созидателей, воспитанных на наглядных примерах своих родителей и обученных управлять той государственной машиной, которая им доставалась в наследство. Они ее совершенствовали, но не ломали. Все изменения в государственном управлении делались ими по принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь», и они достигали положительных результатов. А тут что? Как у Ивана Грозного: наотмашь, сплеча, до «красных соплей». Заметьте: и тот и другой навыков управления государством и бережного отношения к традициям предков не получили, не получили умышленно, по вине своих опекунов.
Более того, люди, отождествляемые с прежней государственной машиной, прежними государственными учреждениями и прежними дворцовыми порядками, представлялись этим двум наследникам престола чуть ли не врагами, потому что они не только ограничивали их дееспособность, но и унижали человеческое достоинство будущих монархов. Поэтому не мудрено, что, войдя в соответствующий возраст и взяв бразды правления в свои руки, молодые цари вымещали все свое накопившееся неудовольствие на своих прежних притеснителях и обидчиках — боярах, стрельцах, священнослужителях.
Помыслы Ивана Грозного и Петра Великого, бесспорно, были благими, но они плохо знали вверенный им народ и логику его поведения, в связи с чем и тот и другой своими действиями в очередной раз доказали верность древнего постулата: «благими намерениями вымощена дорога в ад».
Обратимся, наконец, к административной реформе Петра Алексеевича. Мы помним, с чего начал вернувшийся из Европы Петр Алексеевич — с создания в городах бурмистерских палат. Это произошло в 1699 году и имело чисто гражданское значение. Но вот началась Северная война, которая заставила царя перестраивать местное управление на военный лад. В уездах вместо губных старост появились воеводы, управлявшие вверенной им территорией при участии выборных дворян. Однако ж уездов было так много, что уследить за ними из Москвы было практически невозможно, поэтому накануне Полтавской битвы, в разгар булавинского восстания, государство было разделено на восемь губерний во главе с назначаемыми губернаторами, которым с 1713 года стали помогать ландраты — выборные от дворян. В состав губернии входили уезды, управление которыми в этом случае осуществляли выборные от дворян земские комиссары. Ландраты просуществовали до 1719 года, а губернии претерпели новую реорганизацию. Их поделили на провинции, те в свою очередь — на уезды. Стало от этого лучше или хуже, трудно сказать. Во всяком случае, податей собирать стали больше, для чего все делалось, но и число беглых крестьян увеличилось.
Первые годы правления Петра I Боярская дума еще продолжала выполнять свою роль. Продолжала, пока не вымерла, не вымерла самым естественным способом.
Петр за время своего царствования перестал давать думные чины кому бы то ни было. По мере такого естественного убытия бояр власть постепенно стала переходить в ближнюю канцелярию государя, во главе которой стоял шутовской князь-кесарь, управлявший вовсе не шутейски, ибо шутить страшный всем и каждому Федор Юрьевич Ромодановский не умел.
Но шло время, Россия превращалась в одно из ведущих государств Европы, и царю, видимо, стало уже неудобно пользоваться маскарадными персонажами и бутафорскими учреждениями. Отправляясь в печально знаменитый Прутский поход, Петр по примеру Древнего Рима учреждает свой Сенат и повелевает всем своим подданным слушаться сенатских указов, как его собственных. Этот орган должен был заменить собой думские комиссии, исстари назначаемые специально для того, чтобы в отсутствие государя «Москву ведать». Помимо этого, Сенату было поручено взять на себя еще и роль «Расправной палаты» — своеобразного судебного департамента Боярской думы. Предполагалось, что Сенат вводится лишь на период отсутствия царя, однако и после завершения похода он продолжал оставаться на прежнем месте, постепенно превращаясь в постоянно действующий орган власти.
Сначала, с 1711 по 1718 год, он выполнял законодательные функции и представлял собой собрание доверенных лиц, специально назначенных для присутствия в нем; потом там стали заседать президенты коллегий (министры); а с 1722 года его состав становится смешанным — это назначаемые сенаторы и президенты некоторых коллегий (военной, морской, иностранной), но уже без законодательных полномочий. Сенату подчинялись все коллегии, появившиеся в 1718 году, сохранившиеся приказы и канцелярии, а также вся местная администрация, городская и губернская.
Это была европейская, и в первую очередь шведская, модель государственного устройства, которая крайне трудно приживалась на русской почве. Бывшие думные дьяки не изменились от того, что стали называться президентами или сенаторами. Укоренившиеся обычаи патриархального разрешения внутренних и внешних проблем проявлялись и в новых институтах государственной власти. Отсутствие достаточной культуры у новых государственных мужей, кроме всего прочего, накладывало отпечаток не только на их поведение, но и на отправление ими своих обязанностей по службе. Пережитки местничества, леность, неисполнительность, русские «авось» да «небось» продолжали господствовать на всех уровнях власти, с чем царь-недоучка и одновременно царь-реформатор никак не мог мириться.
Намучившись с этим скопищем малообразованных, но чванливых царедворцев, Петр Алексеевич решил ввести официальный надзор за деятельностью новых учреждений и отдельных должностных лиц. В Сенате, например, эту функцию на первых порах исполнял генерал-ревизор, затем его заменили дежурные гвардейские штаб-офицеры, которые должны были следить за порядком на его заседаниях, а в 1721 году, накануне Персидского похода, Петр учредил прокуратуру — «око государево». Посредником между государем и Сенатом стал генерал-прокурор. Он докладывал государю дела Сената, а Сенату передавал волю государя. С его согласия указы Сената приобретали обязательную силу, он же контролировал исполнение принятых решений. Вертикаль прокурорского надзора распространялась не только на Сенат, но и на Синод, коллегии и губернии, где были учреждены должности обер-прокуроров и прокуроров. По значимости генерал-прокурор практически становится вторым лицом в империи после монарха.
Но и это не разрешило существовавших проблем. Казнокрадство, мздоимство и элементарное воровство продолжали «править бал». Для наблюдения за государственными чиновниками и искоренения злоупотреблений с их стороны устанавливается негласный надзор в лице обер-фискала и пятисот фискалов, вверенных тому же генерал-прокурору. Доносительство стало профессией, причем материально выгодной, ведь половина штрафа, взимаемого с провинившегося, шла в карман фискалу.
Повсеместное воровство порождало и повсеместный надзор. Даже к фельдмаршалу Шереметеву был приставлен сержант гвардии, обязанный следить за его поведением и обо всем предосудительном докладывать государю. Доходило до абсурда. По распоряжению одного рядового гвардии за волокиту со сбором налогов были наложены оковы на тверского воеводу и его ближайших помощников, а по распоряжению другого — за неряшливо составленную отчетность на цепь посажен московский вице-губернатор Воейков.
Наверху карательной пирамиды, созданной Петром, находились органы политического сыска. Мы уже упоминали о печально знаменитом московском Преображенском приказе времен Ф. Ю. Ромодановского, через который прошли сотни преступников и, нужно полагать, тысячи ни в чем не повинных людей. Чтобы подвергнуть несчастного пыткам, было вполне достаточно устного доноса, какого-то недоразумения или просто попасть под горячую руку царю-батюшке.
Но умер Ромодановский, ликвидирован приказ, а функция-то осталась, и вот на смену им приходят Петр Андреевич Толстой и Андрей Иванович Ушаков со своей Тайной канцелярией, которая в скором времени прославится убийством наследника престола Алексея Петровича.
И все-таки нужно отдать должное Петру — принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления при нем действовал практически безукоризненно. Ни прежние заслуги, ни близость к трону, ни высокие звания, ни даже кровное родство не гарантировали неприкосновенность личности преступающего закон и поступающего против воли самого царя. За выдачу лишнего жалованья своему брату и растрату казенных денег во время поездки во Францию был отрешен от всех должностей, лишен имущества и отправлен в ссылку бывший вице-канцлер и сенатор барон Михаил Шафиров. За недостойное поведение в Сенате разжалован в солдаты и отправлен надзирать за строительством Ладожского канала обер-прокурор Скорняков-Писарев. За взятки колесован обер-фискал Алексей Нестеров, а его преемник Михаил Желябужский за подделку документов был бит кнутом и сослан на каторгу. Неоднократно царь собственноручно бивал палкой за воровство своего друга и наперсника князя Александра Меншикова.
В петровское время предпринималась безуспешная попытка разделить власть судебную и административную. Причем эта в общем-то прогрессивная идея принимала самый неожиданный оборот. Было время, когда суду, состоящему из трех гвардейских офицеров — майора, капитана и поручика, предлагалось выносить решения не в соответствии с законом, а «согласно здравому смыслу и справедливости». Хорошо еще, что вовремя одумались, так как разное понимание справедливости, нехватка подготовленных кадров и разногласия, тут же возникшие между ветвями власти, могли привести к самым печальным последствиям. В 1722 году в каждой губернии вновь появился надворный суд под председательством губернатора, а в каждой провинции — провинциальный суд под председательством воеводы.
Кадры, кадры… Даже через двести лет эта проблема будет стоять настолько остро, что фраза: «Кадры решают все», — произнесенная почитателем Петра, будет еще сто лет звучать актуально. Петра Алексеевича задним числом обвиняют в том, что он, создавая школы, не озаботился пропитанием учеников, отчего те голодали и нищенствовали; что для дворянских детей он установил учебную повинность, за уклонение от которой могли последовать жестокие репрессии, а безграмотность лишала их права владения имениями и даже препятствовала вступлению в брак.
А как бы мы хотели? Ведь заставляем же мы детей умываться и чистить зубы каждый день. Что было бы с Россией, если бы в начале XVIII века в ней вдруг восторжествовала идея свободы личности? Большинство бросилось бы в бега от государственных повинностей, превращаясь в «гулящих людей», бродяг, разбойников, недорослей. Стала бы Россия империей и, вообще, сохранила бы она свой суверенитет в этих условиях, да еще при таких агрессивных соседях, как Швеция, Турция, Польша? Вряд ли. Поэтому все, что делал Петр по упорядочению внутригосударственных отношений, было государственно необходимо. Не демократично, но государственно необходимо.
У государственника Петра общественные интересы всегда превалировали над личными интересами, поэтому он не щадил ни себя, ни близких себе людей. Хотя положа руку на сердце мы задним умом понимаем, что все это можно было делать в духе Алексея Михайловича или Федора Алексеевича — шаг за шагом, без надрыва и аврала, без крови и страданий.
Легко нам судить по прошествии трехсот лет. А тогда, видя разительное отличие России от Европы, Петр, видимо, недоумевал: почему в общем-то неглупый русский народ не живет как в Англии или Голландии? — и приходил к выводу: не хочет. Ах, не хочет?! Ну тогда мы его заставим. И заставлял. Заставлял пить полезный уксус и оливковое масло, заставлял ходить в коротком платье и плясать на ассамблее, заставлял учиться, строить корабли и заводы, лить чугун и рыть каналы. В своем рвении учить он часто перебарщивал, внедряясь в сферы, о которых имел весьма смутное представление, но европейский образец ему казался предпочтительней. Вот и издавались указы о запрете изготавливать и носить остроконечные ножи, об увеличении ширины ткацкого станка, об уничтожении североморских и каспийских судов, отличавшихся своими обводами от голландских. А то, что эти станки не умещались в крестьянской избе, что суда с голландской обводкой в условиях севера уступали русским по своим судоходным качествам, что, изъяв из оборота остроконечные ножи, нечем было бы зарезать скотину и разделать ее тушу, — дело «десятое». Главное — сделать так, как в просвещенной Европе…
Непредсказуем был Петр и в семейной, личной жизни, хотя для него и семейная жизнь была делом государственным. С определенного времени самой болевой точкой в этом плане были его отношения с сыном, царевичем Алексеем. Сослав его мать, Евдокию Лопухину, в суздальский монастырь, Петр отдал его на попечение тетки, Натальи Алексеевны, и забыл на семь лет. Забыл для личного общения, но не забыл как о своем возможном наследнике, которому по достижении возраста придется выполнять какую-то роль при дворе, а впоследствии, возможно, и сменить его на троне.
Ему были приданы хорошие наставники: сначала Никита Вяземский, а потом и доктор права Генрих Гюйссен. По утвержденному отцом плану царевич изучал иностранные языки, географию и картографию, арифметику и геометрию. Он обучался танцам, верховой езде и стрельбе из ручного оружия. По мнению современников, в свои пятнадцать лет он был лучше подготовлен для государственной деятельности, чем его отец в том же возрасте. Особенно ему давались гуманитарные науки. Он хорошо владел немецким языком, любил музыку, книги, церковное богослужение. Он был физически здоров, что позволяло ему ездить верхом на свидания за двадцать километров и по возвращении целый день быть у дела. В семнадцати-восемнадцатилетнем возрасте он уже выполняет важные поручения отца: собирает войска и продовольствие в Смоленске, наблюдает за укреплением Москвы, приводит в Сумы вновь сформированные полки.
Высшая родовитая знать Московского царства видела в нем будущего монарха, милостивого и разумного, оценивая его выше единокровных сестер Анны и Елизаветы.
Были у Алексея Петровича и характер, и выдержка, и чувство собственного достоинства. Он никогда не участвовал в кощунственных «всешутейских соборах», не напивался на ассамблеях, не безобразничал вместе с отцовскими холуями. По складу характера, по темпераменту он был похож на деда, Алексея Михайловича, и дядю, Федора Алексеевича. Как и они, Алексей был предрасположен к домашней обстановке, неспешному осмыслению происходящих событий и аккуратным, выверенным решениям по переустройству общественной и государственной жизни. В этом-то он и расходился со своим неестественно деятельным отцом, доставшим своим неуемным реформаторством всех и каждого.
Окружающие его люди видели эту разницу и с надеждой поглядывали на царевича, с которым, по их мнению, можно было бы жить в свое удовольствие, не испытывая чрезмерного напряжения от нескончаемых войн, «строек века» и непомерных поборов. Вокруг Алексея постепенно стал образовываться кружок единомышленников, где многие начинания действующего монарха ставились под сомнение, а то и подвергались осуждению. Эти настроения не было тайной для Петра. Многочисленные «доброжелатели» исправно доносили ему обо всем, и раздражение к сыну, который, как ему казалось, впоследствии может пустить по ветру все им завоеванное, постепенно накапливалось в его сердце. Тем не менее царь мирился с таким положением дел, ибо Алексей был его единственным наследником, да к тому же еще и молодым.
Петр мирился, но не терял надежды, что ему все-таки удастся сделать из своего флегматичного сына верного помощника и достойного преемника. В семнадцатилетнем возрасте царевич выполняет серьезные поручения государя по сбору налогов и набору рекрутов, а в восемнадцатилетнем — уже на положении правителя — занимается укреплением Москвы перед угрозой шведского наступления. В это же время у него развивается бурный роман с крепостной своего первого учителя Никифора Вяземского — Ефросиньей Федоровой. Это не остается без внимания Петра, и тут же следует грозный окрик: «Оставив дело, ходишь за бездельем!» Алексей бросился отмаливать грехи, повел вновь сформированные полки в Сумы для соединения с основной армией, но по дороге простудился и заболел. Болезнь затянулась, и это дало ему возможность не участвовать в Полтавском сражении. Но Петр не оставляет сына своим вниманием и не теряет надежд переделать его на свой лад.
В конце лета 1709 года Алексей под присмотром князя Юрия Трубецкого и графа Александра Головкина отправляется в Дрезден для завершения образования и…женитьбы на какой-нибудь иностранной принцессе. Больше двух лет прожил царевич за границей. Учился он прилежно и, по отзывам сопровождавших его «надзирателей», достаточно успешно. Продвигалось дело и с женитьбой. Пока Петр находился в Прутском походе и чуть было не оказался в турецком плену, Алексей прохлаждался в доме родных своей невесты Софии-Шарлотты Бланкенбургской, сестра которой была замужем за австрийским эрцгерцогом Карлом, будущим императором Карлом VI.
Свадьба царевича и кронпринцессы состоялась 14 октября 1711 года в городе Торгау, во дворце польской королевы и одновременно герцогини Саксонской, где невеста жила на правах родственницы. Во главе всего торжества был Петр, вернувшийся из Прутского похода и немного подлечившийся на карлсбадских водах.
Через три недели новобрачный по приказу отца отправился в Польшу, с тем чтобы заняться продовольственным снабжением расквартированной там Русской армии, а еще через полгода он уже в Померании (без жены) в свите отца, безуспешно пытавшегося организовать там морской поход против Швеции. В конце 1712 года Алексей после трехлетнего отсутствия — в России, но ко времени прибытия в Петербург Шарлотты он опять в отлучке — на этот раз в Финляндском походе. По возвращении из похода он через короткое время вновь командируется в Старую Руссу и в Ладогу для наблюдения за постройкой кораблей.
Последний год, проведенный под присмотром царя, окончательно показал, что сын и отец — совершенно разные люди. Алексей делал все, что ему приказывал отец, но делал он это, исходя не из своих внутренних убеждений, а из-за страха перед ним. Любая ошибка царевича вызывала бурный гнев грозного царя, выливавшийся в брань и даже в рукоприкладство. (Как похожа эта ситуация на отношения другого тандема — Ивана Грозного и его сына Ивана.) Алексея тяготило такое состояние, он делал все для того, чтобы как-то уклониться от, как ему казалось, ненужных и бесполезных для него занятий, а главное — от повседневной предвзятой опеки отца. Он пошел даже на членовредительство, чтобы его не уличили в неспособности к черчению, что явилось последней каплей терпения — отец перестал его замечать, перестал с ним общаться. Это был признак полного разрыва и одновременно кризис престолонаследия.
Источник своих бед царевич видел в ближайшем окружении царя, выросшем «из грязи в князи» и позволявшем себе пренебрежительно относиться к его персоне. Под горячую руку он опрометчиво грозился расправиться с этими «птенцами гнезда Петрова», когда сам станет царем. И это было вполне реально, так как на его стороне было практически все духовенство, вся старая аристократия и даже чернь, жаждавшая отдохновения от бесконечных войн и непосильных повинностей. Стороны наэлектризовывались, накапливали заряд, который рано или поздно должен был разразиться новой всесокрушающей грозой.
Это произойдет, но несколько позже, а пока семейная жизнь Алексея и Шарлотты шла своим чередом. Хотя нужно сказать, что первый опыт «вживления» западно-европейских принцесс в семью русских царей был в общем-то неудачным. Дело в том, что Шарлотта так и осталась при своем лютеранском вероисповедании и в привычном для нее окружении. Ее двор был целиком составлен из иностранцев и жил по своим западно-европейским правилам. Германская кронпринцесса не стремилась стать русской великой княжной: она не знала России, русской жизни и не хотела их познавать; она не понимала русского благочиния, а следовательно, и внутреннего мира своего православного мужа; она лишь выполняла брачный контракт, не испытывая сердечной привязанности к супругу. 12 июля 1714 года Петр стал дедом, у Алексея и Шарлотты родилась дочь, Наталья, а через год, 12 октября 1715 года, у них появился и наследник, нареченный Петром. Вторые роды для Шарлотты оказались роковыми — 22 октября она скончалась. Несмотря на то что между молодыми супругами не было искренней привязанности, несмотря на то что Алексей и в супружестве не порывал своей связи с Ефросиньей, он тяжело переживал смерть жены.
Но это было только началом его новых испытаний. В день похорон Шарлотты он получил от отца письмо, в котором тот, отбросив в сторону приличествующие траурному дню сантименты, обвинил сына не только в неспособности, но и в нежелании учиться государственному управлению, что, в его понимании, может привести впоследствии к потере всего достигнутого отцом, утрате самостоятельности и независимости. Петр, угрожая лишением наследства, потребовал от сына изменить свое отношение к делам государственным, и в первую очередь к делам военным.
На следующий день у Петра Первого родился второй сын, также названный Петром, а еще через четыре дня Алексей, по совету своих доброжелателей, пишет отцу письмо, в котором отказывается от престолонаследия в пользу своего новорожденного брата, вручая себя и детей своих в царскую волю.
Большое количество исследователей склонны утверждать, что это и последующие письма отца к сыну были всего лишь «страшилками»: не хотел якобы Петр лишаться уже взрослого наследника и вполне реального помощника в делах. Этими угрозами он, по их мнению, хотел лишь понудить сына к действию, к соучастию в управлении государством. Тот же стоял на своем безучастии и готов был уйти в монастырь, лишь бы его не утруждали какими-то заботами. Эту готовность он высказал отцу после его очередного письма, озаглавленного «Последнее напоминание». Однако Петр как отец и государь, установивший всему дворянскому сословию обязательную воинскую повинность, не мог так легко освободить от нее своего собственного сына. Не мог еще и потому, что в силу своего слабого здоровья ему нужно было видеть рядом с собой человека, готового в любой момент принять из его рук управление государством и продолжить его дело.
Отъезжая в очередной раз в Копенгаген, Петр уговаривает Алексея, притворно умоляющего его о монастырском уединении: «Одумайся, не спеши…» Через несколько месяцев он делает еще одну попытку приобщить сына к своим делам. Он приглашает его приехать в Данию и разделить с ним его воинские заботы. Однако царевич решает воспользоваться этим вызовом по-своему. Он берет с собой свою любовницу Ефросинью, ее брата и трех слуг, получает проездные деньги в Сенате, занимает у Меншикова, а потом и у обер-комиссара Риги (восемь тысяч рублей), с которыми вместо Копенгагена в конце октября 1716 года отправляется в Вену.
Там его принимают инкогнито и укрывают в тирольской крепости Эренберг. Начинается розыск пропавшего царевича. Капитану гвардии Александру Румянцеву становится известно его местонахождение, что вынуждает царевича прятаться еще дальше, в Неаполе. Но и там его находят царские слуги. 24 сентября 1717 года туда прибывают тайный советник Петр Андреевич Толстой и капитан Румянцев, а 3 октября всеми правдами и неправдами от Алексея получают согласие вернуться в Петербург. Ему обещают прощение отца и даже разрешение жениться на Ефросинье.
31 января 1718 года царевича Алексея доставляют в Москву, и через три дня он предстает перед отцом. В присутствии духовенства и светских вельмож беглец на коленях молит царя простить ему его преступления, что ему было обещано при двух условиях: он должен будет отказаться от наследственных прав на престол в пользу своего брата-младенца и выдать всех людей, причастных к его бегству. Отречение состоялось сразу же в Успенском соборе Кремля, а на следующий день Алексей Петрович давал развернутые показания об обстоятельствах своего побега. По этим показаниям были схвачены его бывший учитель Никифор Вяземский, бывший царский денщик Александр Кикин, камердинер Иван Афанасьев и дьяк Федор Воронов. Свободы передвижения лишаются князь Василий Долгорукий (победитель булавинского бунта) и царевна Мария Алексеевна.
Упорно искали доказательства причастности к «заговору» и матери несчастного — инокини Елены, бывшей царицы Евдокии Федоровны, но раскрыли лишь ее давнюю любовную связь с майором Степаном Глебовым и попустительство этому со стороны духовника, Федора Пустынного. Среди арестованных был лишь один идейный противник Петра — епископ Ростовский Досифей, признавшийся в том, что он осознанно желал его смерти и воцарения Алексея. Расправа была скорая и жестокая: Кикина и Досифея колесуют; Глебова сажают на кол под окнами кельи Евдокии; Афанасьева, Воронова, Пустынного и певчего царевны Марии Алексеевны — Журавского — «убивают не больно». Инокиню Елену отправили в Ладогу — в тамошний женский монастырь, князя Долгорукого — в Соликамск, Вяземского — в Архангельск, а царевну Марию — поближе, под надзор петровских приспешников в Петербург.
Но на этом розыск не закончился. Алексея привозят в Петербург, где он продолжает находиться под домашним арестом. В середине апреля туда же из-за границы привозят и беременную Ефросинью, что дает новый толчок следствию. Уж неизвестно, какие методы допроса к ней были применены, но она якобы дала показания о том, что царевич в своих письмах императору неоднократно жаловался на отца, что посылал русским архиереям прелестные письма, что он радовался плохим вестям из России, надеясь на свое скорое воцарение. Говорил, что, став царем, он прекратит войну, ликвидирует флот, сократит армию, поменяет правительство, будет жить в Москве, а Петербург сравняет с другими провинциальными городами. Другими словами, пустит по ветру все, что так дорого его отцу.
Для полной государственной измены не хватало лишь информации, что царевич для достижения своих целей призывал на помощь иностранных государей, но и этого было достаточно, чтобы Петр утвердился в мысли, что в живых Алексея оставлять нельзя. Он его враг и враг делу всей его жизни. Однако он не хочет сам принимать роковое решение. Следует обращение к духовенству и членам особой комиссии, составленной из светских лиц, с одним вопросом: «Какого наказания заслуживает царевич?» Духовенство ответило уклончиво, хотя и призывало к отпущению грехов и помилованию, светские же чины (127 человек), обязанные Петру своей карьерой и положением в обществе, единогласно проголосовали за смертную казнь.
Но сколько смертных приговоров отменялось в самый последний момент? Да и не было в истории Руси такого примера, чтобы казнить царского сына или сына великого князя. Кроме того, были, видимо, опасения и в самой процедуре публичной смертной казни члена царской семьи и наследника престола. Как среагируют чернь и духовенство, какой резонанс будет в Европе? Выход был найден в «жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексической». Какой же смертью на самом деле умер Алексей Петрович 26 июня 1718 года — остается только догадываться. Одно было бесспорно и очевидно: царь торжествовал, торжествовал несколько дней кряду, празднуя то годовщину Полтавской битвы, то свои именины, то спуск нового корабля.
За смертью царевича все забыли о Ефросинье, а ведь она была беременной. Разрешилась ли она от бремени, когда и кем? Какую судьбу пришлось испытать ей и ее чаду? Полное неведение. Нигде и никогда об ее судьбе — ни строчки, ни слова. Она просто исчезла. Была — и нет ее.
А Петра Первого ожидали новые испытания, новые потери. Менее чем через год после смерти или убийства Алексея Петровича умирает его второй, и последний, сын, теперь уже от Екатерины Алексеевны, — Петр Петрович.
Наследником по мужской линии, как и положено по древнему лествичному праву, становится внук Петра, сын «непотребного» Алексея — четырехлетний Петр Алексеевич. Такая диспозиция не устраивала, во-первых, самого Петра Алексеевича-старшего, опасавшегося за судьбу своих побед и реформ по той простой причине, что на стороне его внука были абсолютно все противники его внутренней и внешней политики, а следовательно, и ее потенциальные могильщики; а во-вторых, всех «птенцов гнезда Петрова», панически боявшихся прихода к власти сына Алексея Петровича, к смерти которого они все были причастны. По молодости лет наследника и относительно благополучного, не вызывающего опасения состояния здоровья правящего монарха вопрос о престолонаследии до поры до времени не будировался, но и не снимался с повестки дня.
Было еще одно обстоятельство, удерживающее Петра от скоротечных решений в этом вопросе. Читатель помнит, как несколько выше мы упоминали, что при решении судьбы царевича Алексея русское духовенство призывало царя к милосердию и прощению грехов. Такая позиция в те времена если не приравнивалась к бунту, то заставляла царя задуматься: «Если они позволяют себе такое при моей жизни, то что они могут позволить себе в случае моей внезапной смерти? Избрать патриарха? Восстановить двоевластие? Избрать угодного им царя и порушить все мои свершения? Так нет же! Не бывать этому!» И вот в изощренном уме Феофана Прокоповича, когда-то примеченного в Киеве Петром Первым по его хвалебной речи в честь Полтавской победы, выписанного в Великороссию и вознесенного на псковскую архиепископию, зреют статьи «Духовного регламента». Главное — нейтрализовать церковные власти, избежать их противостояния властям светским, не допустить новой «никонианы», которая временами просматривалась в поведении Стефана Яворского, исполнявшего более двадцати лет должность блюстителя патриаршего престола. И аргументы для этого нашлись: здесь и соборность, и объективность, и беспристрастность, и демократичность, и скорость разрешения вопросов. По-иезуитски красивые словосочетания легли в обоснование решения о ликвидации патриаршества и учреждении Духовной коллегии, или Святейшего правительствующего синода, в 1721 году. Так Петр Первый, отстраняя духовенство от участия в выборе непосредственно его наследника, на триста лет вперед обрек церковь быть послушной исполнительницей воли царствующих особ Российской империи.
Следует напомнить читателю, что после смерти Алексея Петровича мысли Петра были вновь заняты шведскими делами. После гибели Карла XII переговоры с его преемницей на троне шли крайне тяжело. России пришлось вновь прибегать к военным действиям, пока Элеонора и стоящая за ней аристократия не согласились продолжить обсуждение условий прекращения 21-летней войны.
Долгожданный Ништадтский мир 30 августа 1721 года венчал многолетние труды: Россия — морская держава, владелица Петербурга, Риги, Ревеля, полноправная участница большой европейской политики, а Петр — он и Великий, и отец нации, и император. Что еще нужно человеку в этой жизни? Оказывается, что-то еще нужно, в первую очередь уверенность, что труды, приведшие к таким результатам, были потрачены не зря, что свершенное не просто сохранится, а и преумножится, что память потомков будет светлой и благодарной.
Еще не завершились торжества по случаю победы над шведами, а Петр с присущим ему упорством делает очередной шаг к абсолютной власти, в том числе и в вопросах престолонаследия. Следуя уже однажды высказанной мысли: «Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный», — он своим именным уставом отменяет не только право первородства, но и право кровного наследования престола. Этим самым он уравнивает права родного внука — единственного наследника по мужской линии — с любым «человеком с улицы»: которому «правительствующий государь захочет — тому и определит наследство». Кто же у него был на примете? Дочери? Нет, и этому утверждению есть доказательство. Соглашаясь на брак своей старшей дочери Анны Петровны с герцогом Голштинским, Петр потребовал от них отказаться за себя и за свое будущее потомство от всех притязаний на русский престол.
Три года все были в неведении насчет преемника, и вдруг все встало на свои места. В мае 1724 года Петр торжественно коронует на царство свою вторую жену — Марту Скавронскую, в православии Екатерину Алексеевну. Кто бы мог ожидать, что бывшую домработницу протестантского священника, прошедшую в русском плену «огонь и воду», ждут еще и «медные трубы»! Вот так выбор!
Но как же ему не везло, первому российскому императору! Не прошло и полугода после коронации «любезнейшей супруги государыни императрицы», как она была то ли заподозрена, то ли уличена в супружеской измене, и с кем? С Вилимом Монсом, братом известной Анны Монс. Горькая ирония судьбы. Несчастного ждала участь майора Глебова. Ему отрубили голову и воткнули на кол для всеобщего обозрения. Мера наказания изменщице неизвестна, но, думаю, не символическая.
По русской практике, беда не приходит одна. Вслед за Екатериной провинился и светлейший князь: Александр Данилович Меншиков за свое неисправимое казнокрадство был отстранен с президентского поста в Военной коллегии и впал в немилость. И, нужно сказать, было за что. Получая на содержание армии полное денежное довольствие, он умудрился не выплатить деньги солдатам и офицерам за семнадцать месяцев. Легко отделался.
Но и это было еще не все. Вслед за «Алексашкой» последовали члены Высшего суда, уличенные во взятках.
Рушилась опора, на которую так уповал император всероссийский.
Все это подтачивало и без того не очень-то крепкое здоровье монарха, а здесь еще и происшествие на Лахте с тонущими солдатами и матросами, когда Петр сам бросился в холодную ноябрьскую воду спасать утопающих. Петр слег, хотя иногда и появлялся на публике. Припадки участились, а мучившие его боли усилились. Все понимали, что близится конец, но никто не посмел напомнить императору о необходимости официально и недвусмысленно определиться с престолонаследником. Сам же он не делал этого, приходя в отчаяние от одной только мысли, что смерть может быть столь скорой. Он все еще надеялся на продолжение своего земного существования, ради чего поздние раскаяния и благодеяния, вызванные предсмертными обстоятельствами, посыпались из него как из рога изобилия. Были освобождены все арестованные за долги, которые Петр велел возместить из своих личных средств. Вслед за ними освободили всех каторжан, кроме убийц, государственных преступников и неоднократно судимых за разбой. После этого были прощены все осужденные по военным артикулам, а также дворяне, не явившиеся на смотр в назначенное время.
Во всех церквах всех религиозных конфессий шла непрерывная служба за его здравие. Однако облегчения не наступало. 27 января 1725 года Петр, придя в себя от очередного припадка, потребовал перо и бумагу, но его физических сил хватило для того, чтобы написать: «Отдайте все…» Кому?
На этот вопрос предстояло отвечать уже другим людям…
Комментарии
1 Выдача головой— обряд удовлетворения исков. В данном случае дьяк привел пешком князя Пожарского во двор Салтыкова, поставил его на нижнем крыльце и объявил Салтыкову, что царь выдает ему Пожарского головой. Салтыков озвучил Пожарскому его вину перед ним и отпустил со словами: «Повинную голову меч не сечет».
2 Посадить в воду — утопить.
3 Правёж — в древнерусском судопроизводстве: взыскание долга истязанием, битьем.
4 Свейские люди — шведы.
5 Поминки — подарки.
6 Поток и разграбление — поведение армии в отношении населения враждебной страны, когда мирные граждане захватывались в плен ради последующей продажи в рабство, а их имущество подвергалось разграблению.
7 Корона — в данном случае Польское государство.
8 Чайка — быстроходное парусное судно.
9 Автокефальность — самостоятельность, независимость.
10 Любитель зипуна — здесь казак, участвующий в разбойничьем набеге на купеческие караваны, мирные поселения.
11 Сарынь на кичку! — дословно: «Бурлаки на нос судна!» Приказ волжских разбойников, захвативших судно.
12 Одесную — справа, по правую руку.
13 Пеня — здесь: выговор, упрек, укор, денежное взыскание.
14 Универсал — грамота, манифест польских королей, украинских гетманов.
15 Секвестр — передача имущества третьему лицу на хранение до разрешения спора между двумя другими лицами о праве на это имущество.
16 Шевкал (шомхал) тарковский — царь небольшого государства с центром в г. Тарки (ныне селение возле г. Махачкала).