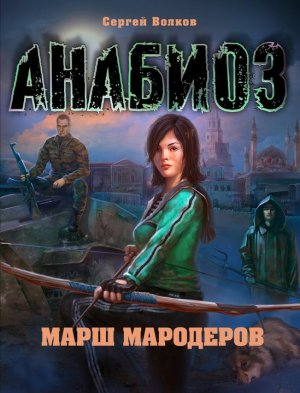
Пролог
Старая кошка дремлет, подвернув под себя лапы и уткнув покрытую шрамами морду в толстую тополиную ветку. Во сне она переживает за уже выросших котят, сердится на другую кошку, пытающуюся отбить у нее пойманного голубя, убегает от собак, лакает воду из лужи — и совершает еще множество разных действий, изредка взрыкивая.
Теплый августовский день едва перевалил за середину. Бездонное небо украшают пушистые облака, похожие на длинные хвосты диковинных зверей, легкий ветерок путается в древесных кронах, из темных ущелий между громадами многоэтажных домов тянет холодком. Воркуют голуби, пахнет отцветающими травами, нагретым асфальтом, уставшей за лето землей и чуть-чуть, еле ощутимо — прелью и прахом, вестниками приближающейся осени.
За свою долгую жизнь[1] кошка привыкла слышать шум ветра, шелест листвы, шорох дождя, птичьи голоса, собачий лай, хрюканье кабанов, писк мышей в траве — привыкла и не обращает на это внимание.
Неожиданно в обычный шумовой фон вторгаются новые, незнакомые для кошки звуки: уверенные шаги какого-то существа. Кошка еще не открыла глаза, но чуткие уши зверька задвигались.
Приподняв голову, она внимательно оглядывает окрестности, продолжая прислушиваться. Теперь у нее уже нет сомнений, что к убежищу на тополиной ветке приближается кто-то чужой и, возможно, опасный.
Кошка давно научилась различать поступь разных зверей. Гулкий топот бегущего лося она никогда бы не спутала с глухими ударами кабаньих копыт, а сторожкие шаги косули всегда отличила бы от неряшливого, шумного шага дикой коровы. И стук собачьих когтей, и лисий топоток, и даже испуганная дробь мышиных лапок были известны кошке и вызывали у нее привычные реакции — страх, злость, ненависть или желание настичь добычу и вонзить в нее когти.
Неизвестное существо, чьи шаги слышит кошка, пугает ее. Она никогда еще не встречала двуного животного, а это, судя по шагам, было именно таким.
Сузив зрачки, кошка выгибает спину и топорщит шерсть вдоль хребта. А когда к первому двуногому зверю присоединяется второй, а затем и третий, кошка шипит, сердито водит из стороны в сторону хвостом и забирается повыше. Скрывается среди густой листвы на вершине дерева. Оттуда она и следит за троицей жутковатых двуногих.
Они выходят на заросший осинами перекресток, пересекают его и скрываются за углом ближайшего дома, оставив после себя незнакомые запахи и странные следы…
Часть первая
«И сделалась тишина на небе на полчаса…»
Глава первая
Старая кошка еще долго злится, умащиваясь на тополиной ветке. Наконец, она успокаивается и вновь засыпает, а люди — девушка и два парня — продолжают тем временем свой путь через тихий, безжизненный город. Пройдя по забитой ржавыми остовами автомобилей улице Горького, миновав краснокирпичные корпуса Кадетского училища, они поворачивают на Карла Маркса.
— Смотрите, церковь! — обращается к своим спутникам девушка, отзывающаяся на короткое имя Эн. — И купола золотые. Даже крест уцелел на одном.
— Зато «Корстон» сгорел, — бурчит один из парней, тот, что помоложе. Его прозвище Хал, а на самом деле он — Дамир Халилов.
Гостинично-развлекательный центр «Корстон», в прошлом огромное здание из стекла и бетона, высится впереди черным скелетом гигантского динозавра. Бушевавший здесь огонь уничтожил все, остались только закопченные стальные балки каркаса.
Подавленные этим зрелищем, путники быстро и молча минуют руины, лавируя между навечно замершими на дороге машинами.
— Слева — это кладбище, Арское, — поясняет Хал.
— Там теперь просто лес, — вглядываясь в густые заросли, высказывается высокий парень, скорее даже молодой мужчина с русыми волосами. — Вон, уже на въезде деревья растут.
— Ник, — обращается к нему Эн, — а если мы не найдем еду?
— Вернемся, — вздыхает высокий. — Только мы обязательно должны найти. В Цирке дети, старики…
Он косится на шагающего рядом Хала. Тот чувствует взгляд, поворачивает голову, улыбается.
— Все путем будет, блин! В Больших Клыках садов немеряно. Я сам пацаном там лазил. Огурцы — во такие! Яблоки, помидоры!
— Лучше бы картошки нарыть.
— Картошки втроем много не унесем, — качает коротко стриженой головой Хал.
— Ну, мы же, типа, на разведку. Если все нормально — Бабай народ поднимет.
— Ой, человек! — указав в сторону моста над железной дорогой, восклицает Эн.
По мосту, медленно волоча за собой тележку, ковыляет пожилая женщина. Она навертела на себя куски грязного полиэтилена, отчего походит на персонажа новогоднего карнавала. Вместо шляпки голову старухи покрывает пластиковый плафон от люстры, подвязанный под сморщенным подбородком куском провода.
На тележке друзья видят сваленные кучей ржавые железки, мятый эмалированный чайник, расколотый красный стул из уличного кафе и прочую рухлядь.
— Здравствуйте, бабушка! — звонко кричит издали Эн. — Как ваши дела? Помощь не нужна?
Старуха что-то хрипит в ответ, разевая беззубый, проваленный рот. Нику бросаются в глаза глубокие морщины, крючковатый нос и бесцветные космы волос, свисающие на высохшую, впалую грудь.
— Мы из общины Цирк. Там много людей, — на всякий случай очень громко говорит он, указывая рукой в сторону центра Казани. — Можете к нам присоединиться.
— Сейчас, сейчас, — членораздельно шамкает старуха, продолжая тащить тележку. — Вот продукты домой отвезу…
— Вы пропадете одна. — Ник заступает ей дорогу.
— Не одна, не одна, — не глядя на него, часто кивает женщина. — Детки мои, Коленька, Верочка, Санечка… Покормлю, напою…
— Шизанулась, — вздыхает в стороне Хал. — Еще одна.
— Она ж погибнет, — в отчаянии сжимает кулачки Эн.
— Мы тоже погибнем, если не найдем еды, — напоминает ей Ник.
Тем не менее девушка догоняет удаляющуюся в сторону улицы Абжалилова старуху, спрашивает:
— Бабушка? Вы где живете? Мы вас заберем на обратном пути!
Неожиданно женщина резко поворачивается — трещит полиэтилен, тележка жалобно скрипит и останавливается.
— Не скажу! — каркает старуха. — Ограбить хотите? Не скажу! Эх вы-ы… А еще пионеры!
Как-то по-вороньи, боком, она отбегает к краю тротуара, туда, где за сгнившим заборчиком начинается крутой склон железнодорожной выемки, и выставляет обе руки, сложив из грязных пальцев кукишы.
— Вот вам, выкусите!
Затем старуха принимается подпрыгивать на месте, хрипло распевая какой-то дикий вокализ.
— Ла-ла-ла-ла-ла, ло-ло-ло-ло-ло!
Она скачет на самом краю обрыва.
— Стойте! — орет Ник, срываясь с места. — Стой, дура!
Эн взвизгивает.
— Все, бетте[2], — спокойно произносит оставшийся на мосту Хал.
Оступившись на крутом косогоре, старуха с криком летит вниз.
И наступает тишина.
— Я сейчас, сейчас! — Ник бросается вниз по заросшему полынью и борщевиком склону, цепляясь за жесткие стебли.
Эн, с трудом удержавшись на самом краю, тонким голосом кричит:
— Ну, что там? Она живая? Живая?
Проходит минута, прежде чем Ник выбирается обратно, мрачно вытирая пучком травы испачканные руки. Посмотрев в глаза девушки, он отрицательно мотает головой. Эн всхлипывает, шепчет:
— Как глупо…
— Алга[3], мусульмане! — окликает их с моста Хал. — Нам еще долго топать, блин.
— Ты! — бросается на него Эн. — Ты… Как ты можешь шутить в такой момент! Она же умерла.
— Мы все умрем, — флегматично пожимает плечами парень. — Че ты психуешь? Бабка съехала, блин. Все равно не выжила бы. Так хоть не мучилась.
Троица продолжает путь в молчании. Мимо проплывает совершенно не пострадавшее от безжалостного времени здание республиканского ДОСААФ. Стоящий через улицу от него шестиэтажный корпус Нефтехимпроекта, наоборот, разрушился почти полностью — в окнах нет стекол, крыша просела, козырек крыльца обрушился.
— На Патриса Лумумбу свернем и через Старый аэропорт пойдем, — ни к кому конкретно не обращаясь, говорит Хал. — Так ближе, блин. Вон, где сгоревший автобус, — нам туда.
Улица Патриса Лумубы скрывается в густой зелени. Раздвигая высокие стебли репейника, Ник делает первый шаг и тут же останавливается.
— Ух ты! Смотрите!
Бурьян и кусты на углу крайнего дома вырублены, не успевшие увянуть измочаленные стебли и ветки валяются тут же. На стене, покрытой грязевой коростой, отчетливо белеет глубоко процарапанный в штукатурке круг, а внутри его две буквы: АК.
— Что бы это значило? — хмурит бровки Эн.
— В первую очередь то, что здесь тоже есть люди, — отвечает Ник. — Надо будет, когда пойдем обратно, покричать.
— Нафига? — в своей обычной манере спрашивает Хал. — Чтобы жратву отобрали? Мало ли кто тут тусуется, блин.
— АК… — бормочет Ник. — Странная аббревиатура.
— Может — «Аномальная Кривая»? — высказывает предположение Эн.
— Или «Автомат Калашникова», — хохочет Ник.
— Или «Ак»? — включается в угадайку Хал. — Ну, который «Барс».
— Или «Ангмарское Королевство»? — продолжает Эн.
— Это чё за хрень? — таращит черные глаза татарин.
Девушка усмехается:
— Ты Толкиена не читал, что ли?
— Какого еще… Всё, киттек[4], — неожиданно Хал начинает психовать. — Шагайте, негры, солнце уже высоко!
— Здесь все как в сказке, — задумчиво говорит Эн пятью минутами спустя, разглядывая молодые деревья, проросшие сквозь асфальт на парковке возле одного из домов на Взлетной улице. — Как в страшной, злой сказке. Готика такая. Братья Гримм, Шарль Перро. «Спящая красавица». Принцесса уколола палец веретеном, все уснули. Прошло сто лет. Замок и окрестности заросли деревьями и кустами. А потом пришел принц и поцеловал спящую принцессу…
— И все проснулись, блин! — подхватывает Хал бодрым голосом. — Сказочка… А кто принцесса-то? И почему все уснули?
— Не сто лет прошло, — вмешивается в разговор Ник. — Меньше. За сто лет тут бы такие дубы-колдуны стояли, что не продерешься. Газеты же нашли, Аркадий Иванович по датам смотрел. Две тысячи шестнадцатый год, июнь, июль. Старее нет. И в Цирке народ говорил — лет двадцать девять, тридцать нас… ну, не было.
— А где мы были? — свесив на бок черную челку, интересуется Эн. — Ведь где-то же были, да? Мы же живые…
— Живые, — ежится Ник, припоминая, как шесть дней назад он пришел в себя после долгого — или мгновенного? — небытия.
Даже теперь думать об этом было больно, а тогда, почти неделю назад, его корежило и выгибало дугой. Боль жила в каждой клеточке тела, была внутри и снаружи, рвала внутренности, железным обручем стискивала голову, огнем жгла суставы. В холле гостиницы «Волга», где Ник очнулся, царило запустение, но он тогда не обратил на это внимание — просто катался по пыльному полу и выл, словно раненный зверь.
Когда боль чуть-чуть ослабила когтистую хватку, накатила дурнота. Все плыло перед глазами, спазмы сводили желудок, а сердце, казалось, хотело взломать грудную клетку и вырваться наружу. Так продолжалось не меньше часа, и лишь потом Ник сумел кое-как подняться на ноги и оглядеться. То, что он увидел, напугало парня еще сильнее, чем приступ неизвестной болезни.
Казалось, совсем недавно, вот перед самым приступом, он спустился из номера на ресепшен, чтобы договориться о сдаче номеров и заказать такси в аэропорт. Ник отчетливо помнил улыбчивое лицо девушки-администратора Гули, ее фирменный жакетик и крохотный золотой значок с изображением крылатого змея Зиланта, герба Казани, в петличке. Еще в память врезались часы над стойкой, рекламные буклетики, пальмы в кадках, оранжевые шторы, залитая солнцем улица за окном, вымытый до блеска мозаичный пол, в котором отражались плафоны освещения.
Ник хорошо запомнил, что он сказал Гуле в самый последний момент:
— Позвоните, пожалуйста, в номер, когда придет такси.
— Конечно, не волнуйтесь, — улыбнулась девушка.
И всё.
Тишина.
Темнота, прорезаемая золотистыми сполохами.
Мир исчез, чтобы мгновение спустя обрушить на Ника ревущий водопад боли и страданий. А когда терзающий поток схлынул, Ник увидел, что никакого солнца за окном нет. И оранжевых штор тоже нет. Все вокруг сделалось серым, пыльным, грязным, как будто орда сумасшедших дизайнеров-апокалипсистов промчалась по холлу, разбрызгивая вокруг грязь, корежа предметы, ломая мебель, разбивая плафоны.
Пальмы превратились в сухие струпья, кадки расселись горками земли, стойка ресепшена проломилась, в потолке над нею зияла дыра, часы на стене покрывал толстый слой пыли. В углах колыхались полотнища паутины, обивка кресел вспучилась, потеряла фактуру и цвет.
— Гу-уля-я… — еле выдавил из себя Ник. Сделал шаг, другой, ухватился за торчащий угол стойки и, не удержав равновесия, повалился на грязный пол.
Второй раз он встал куда увереннее — дурнота проходила, руки-ноги сделались почти послушными. Снова взявшись за покрытую растрес shy;кавшимся пластиком панель стойки, Ник навалился на нее грудью.
— Гуля! Вы… вы здесь?
Ответа не было. Ватная тишина, плотная, непривычная, пугающая, окружала Ника со всех сторон. Ни звука. Ни ползвука. Ни даже шороха. А ведь вокруг огромный город, третья столица России! В городах вообще не бывает тишины. Даже ночью обязательно есть какие-то звуки — шум мотора проехавшей где-то машины, тиканье часов, жужжание кондиционера у соседей за стеной, урчание холодильника, вой сирены «Скорой помощи», грохот мусоровоза в соседнем дворе. Эти привычные каждому городскому жителю звуки давно стали фоном, их никто не слышит, на них не обращают внимание.
Но вот они исчезли — и Ник ощутил себя глухим.
— Эй! — испугано позвал он и тут же скривился от боли — странный приступ не прошел до конца, боль еще жила в нем и коварно напомнила о себе.
С трудом перегнувшись через стойку, Ник посмотрел вниз и увидел коричневый человеческий череп, облепленный плесенью. Череп выглядывал из кучи гнили, придавленный здоровым куском бетона, сорвавшимся с потолка. Единственным ярким пятнышком здесь был крохотный золотистый значок с крылатым змеем Зилантом.
Ник вскрикнул, отшатнулся, упал, но тут же вскочил, уже не обращая внимания на боль.
— Наташа-а! — закричал он. — Наташка!
И спотыкаясь, побежал к лестнице, ведущий на верхние этажи гостиницы.
Они приехали в Казань в конце июля 2016 года на первенство России среди юниоров. Сборная Иркутской области по стрельбе из лука, полтора десятка парней и девчонок. И три тренера, одним из которых как раз и был Ник. Никита Проскурин.
Соревнования прошли, что называется, «на ура» — в командном зачете иркутяне уверенно взяли бронзу. С личным состязаниями все сложилось не так гладко, до медалей добрался только «блочник» Женька Старостин, а в классическом луке все надежды тренеры возлагали на Наталью Николаеву, миниатюрную брюнетку с косой челкой, острым языком и хорошими спортивными перспективами.
Главная соперница Натальи — или Эн, как ее называли в команде — читинка Людмила Зайцева не пожелала уступать, и стрельбы затянулись. Два раза — неслыханный случай! — лучницы набрали одинаковое количество очков. Главный тренер иркутян Семен Сергеевич Бокарев в приказном порядке велел Нику остаться с Николаевой, а команда отправилась домой — не пропадать же заказанным и, что самое главное, оплаченным билетам.
Эн все же уступила Зайцевой. Причем уступила совсем чуть-чуть, обидные два очка — 572 против 574-х. Заслуженное «серебро» расстроило девушку. В придачу к отличным спортивным данным природа наградила ее трудным характером: Эн не признавала ни в жизни, ни в спорте полутонов и для нее существовало только одно место — первое. Первое — и точка!
— Я брошу лук! — рыдала Эн в раздевалке после награждения.
Ник бестолково топтался рядом. Он был на восемь лет старше своей воспитанницы, но не имел опыта в плане утешения истеричек противоположного пола. Да и вообще с женщинами Никите не везло. Школьная первая любовь, пара мимолетных увлечений, один драматический роман с грустным финалом, ворчание матери: «Пора тебе жениться, сынок» — вот, пожалуй, и всё.
— Наташа, поедем в гостиницу. У нас самолет вечером, — наконец выдавил он из себя неуклюжую фразу.
— Никуда не поеду! — топнула ногой Эн. — Умру прямо здесь!
Он все же уволок ее из огромного Дворца спорта «Мирас», выстроенного к Универсиаде 2013 года, посадил в такси. В гостинице истерика продолжилась: Эн разбросала вещи, пригрозила, что напьется, как бомж, на что Ник сообщил, что семнадцатилетним девушкам спиртного в России не продают по закону.
— Плевала я на законы! — выкрикнула Эн.
Ник вздохнул. К сожалению, на законы в Российской Федерации плевала не только юниорка Наталья Николаева.
Наконец, девушка успокоилась, и Ник отправился на ресепшен. А потом…
Потом все и случилось.
Сперва Ник бросился к лифту, вдавил пыльную кнопку — и как-то сразу понял, что электричества в здании нет. Пришлось бежать вверх по лестнице, перешагивая через три ступеньки. Второпях Ник не обратил внимания на кучи тряпья, мусор и грязь, невесть откуда взявшиеся там, где час с небольшим назад все сияло чистотой.
Час назад? А может быть, год? Или десять лет?
Ник миновал второй этаж, сделал особенно широкий шаг — и почувствовал, как на нем лопнули брюки. Ситуация комичная, анекдотическая, но Нику в тот момент было не до смеха. Он задержался на секунду, чтобы осмотреть себя — и пришел в ужас. Одежда висела лохмотьями. Рубашка скукожилась, половины пуговиц не было на месте, ткань истлела, под мышками образовались дыры. Брюки представляли собой еще более плачевное зрелище: одна штанина почти оторвалась, мотня прохудилась, на коленях зияли прорехи.
— Что за черт? — пробормотал Ник и тут же забыл про странное происшествие со своим гардеробом — не до того было.
Час или год? Или десять? Сто?
Или он сошел с ума?
Гостиничный коридор встретил Ника полумраком, затхлыми запахами и покосившимися дверьми. Номер триста шестнадцать, где осталась Эн, находился в самом конце. Спотыкаясь о разлезшуюся ковровую дорожку, Ник побежал, выкрикивая:
— Наташа! Наташка! Эн!
Дверь с тусклыми цифрами 316 висела на одной петле — вторая вывалилась из трухлявого косяка. Оттащив лопнувшее дверное полотнище в сторону, Ник ворвался в тесный предбанник — и замер, увидев девушку.
Она застыла возле кровати, растрепанная, напуганная. В номере стоял тяжелый запах рвоты. Прикрыв руками полуобнаженную грудь — гардероб Эн подвергся таким же печальным метаморфозам, как и одежда Ника — девушка жалобно всхлипнула.
— Живая! — выдохнул тренер.
— Телефон не работает, — тихо ответила Эн, продолжая всхлипывать. — Мне переодеться надо. Ты это… выйди, а?
— Переодеться… — пробормотал Ник и сполз спиной по пыльной стене на пол.
Одежда, лежавшая в сумке Эн и чемодане Ника, сохранилась гораздо лучше той, что была на них надета. Но все остальное — мыльно-пузырные принадлежности, кое-какие продукты — пришли в негодность. Зубная паста окаменела в тюбиках, шампунь сгустился в странную желеобразную массу, одеколон Ника испарился, сыр и печенье изгрызли то ли мыши, то ли тараканы. Пластиковые обложки тетрадей с тренерскими почеркушками Проскурина склеились, высохли и покоробились, а все записи, сделанные гелевой ручкой, сильно вылиняли и еле читались.
— У меня застежка лифчика сломалась, — пожаловалась Эн. — И пуговицы на кофточке растрескались.
— Ты на ботинки мои посмотри. — Ник мрачно пихнул ногой на середину комнаты скрюченный, серый от пыли башмак. — Ссохся весь. Не то, что ногу — палец не всунуть.
— Что с нами случилось? — в сотый, наверное, раз задала один и тот же вопрос Эн. — Ничего не включается… ни телефоны, ни часы. Тока нет. Водопровод не работает. Вода в бутылке протухла. Голова болит. Пыль кругом…
— Не знаю, — тоже в сотый раз ответил Ник. — Ты готова? Пойдем вниз, выйдем на улицу, посмотрим.
Эн подошла к окну, провела рукой по серому от грязи стеклу.
— Ничего не видно.
— Вот поэтому и надо выйти наружу. Ну, давай!
— Давай, — кивнула Эн.
…Что же случилось? Почему всё… испортилось?
Эти два вопроса стали риторическими, набили оскомину, их в разных вариациях в течение последующих дней и Ник, и сама Эн задавали себе столько раз, что давно уже сбились со счета.
Но вопросы требовали ответов.
Что случилось?
Почему все вещи вокруг так сильно состарились, пришли в негодность, истлели, сгнили?
Ответов не было. Были наблюдения и находки. Жуткие, невозможные находки.
Первая состоялась сразу после того, как они выбрались из пустой гостиницы. Улица, некогда оживленная, полная машин и людей, встретила их тишиной — лишь легкий волжский ветерок шелестел листвой деревьев да где-то в отдалении перекликались тонкими голосами птицы.
Прямо напротив входа в гостиницу поперек проезжей части застыл трамвай, врезавшийся в грузовик. Краска на вагоне облупилась, крыша проржавела. Ник обратил внимание на оборванные провода, лежащие сверху. Кабина трамвая смялась, стекла вылетели. С гостиничного крыльца хорошо просматривался салон.
И люди. Вернее, то, что от них осталось. Кости, черепа, истлевшая одежда.
Трамвай мертвецов.
— А почему мы… живые? — спросила Эн и прижалась к Нику.
Девушку трясло, отчетливо было слышно, как у нее постукивают зубы.
— Не знаю…
— П-пойдем отсюда. С-скорее!
И они пошли, озираясь и с каждым шагом пугаясь все больше и больше.
Город умер. Асфальт на тротуарах и проезжей части там и сям был взломан деревьями и кустами. У поворота на Вокзальную площадь, прямо посреди перекрестка, шелестел на ветру выводок молодых березок. Вдоль ржавых рельсов росла трава. Не жалкий городской ежик, а высокий, сочный бурьян. Там, где раньше были газоны, глухой стеной встала густая крапива. Ее заросли тянулись вдоль всей улицы Саид-Галеева. Остовы изуродованных машин утопали в этих джунглях, некоторые застыли посредине дороги — водители почему-то не удосужились припарковать их согласно правилам.
Ник и Эн сунулись было к одной, некогда вишневой, а теперь густо-ржавой «Вольво» — и тут же отпрянули, встретившись взглядом с пустыми глазницами дочиста выбеленного черепа водителя.
— Я сейчас закричу, — прошептала девушка.
— Я тоже, — так же тихо ответил ей Ник. — Давай на раз-два-три…
Что они собирались кричать, зачем, с какой целью? Может быть, просто для того, чтобы нарушить жуткую тишину вокруг? Или позвать на помощь? Подумать об этом Ник не успел.
Позади зашелестела трава, послышались шаги, и раздался незнакомый голос:
— Э, братан!
Глава вторая
Он представился Халом. Обычный парень лет восемнадцати, несколько развязанный и явно не отягощенный избыточным интеллектом. Среднего роста, коротко остриженный, с правильными чертами лица, чуть смугловатой кожей, быстрыми черными глазами.
Пожав руку Ника и внимательно оглядев Эн, Хал сообщил, что «ни хрена не понимает, блин». Ник развел руками: мол, мы тоже не в курсе.
— А где люди-то все? — потирая через обширную прореху в футболке грязную грудь, поинтересовался Хал. — И чё за заросли везде, блин?
— Могу задать аналогичный вопрос, — ответил Ник.
Хал засопел, сунул руки в карманы широких спортивных штанов — раздался треск сгнившей материи. Парень выругался. Эн поморщилась.
— Айда к Кремлю, позырим, чё там, — не то предложил, не то приказал Хал и, заметив смятение своих новых знакомых, спросил: — Вы не казанские, что ли?
— Иркутские. — Ник зачем-то махнул рукой в сторону железнодорожного вокзала.
— А-а-а… — Хал коротко улыбнулся, и сразу стало понятно, что он понятия не имеет, где находится город Иркутск. — А здесь чё делаете?
— На соревнования приезжали, — недовольный расспросами, сухо ответил Ник. — Я тренер. Она…
— Гимнастка! — выпалил Хал.
Эн снова скривилась.
— Почему гимнастка? — удивился Ник. — Лучница. Стреляет из классического лука.
— Я думал, только гимнастки такие симпотные бывают, блин, — дерзко глядя Эн в глаза, заявил Хал.
— Хватит болтать! Эксо-эксо, Кэнди[5]! — девушка покраснела и первой зашагала вдоль крапивных зарослей.
— Стой! Не туда! — Хал догнал ее, попытался взять за руку. — Кремль в другой стороне. Вон туда, за дом — и по Ташаяку, мимо ледового дворца.
— Сама знаю!
— Откуда?
— От маленького и двугорбенького!
Хал оскалил в усмешке белые зубы:
— Вот ты коза!
— Эй! — Ник догнал парня, схватил за локоть. — Слышь, давай полегче, понял?
— Не понял, понял? — Хал резко развернулся, как-то очень умело вывернулся, мгновенно отступив на два шага. — Руки! Чё ты, чё?
Ник растерялся. Он был крупнее этого ловкого и подвижного паренька, но дрался редко — в детстве, само собой, пару раз в армии… Хал же, судя по всему, имел богатый опыт по этой части.
Они стояли друг против друга, сжимая кулаки. Шелестела крапива. Посвистывали в небе ласточки. Хал упруго раскачивался на напружиненных ногах, готовый в любую секунду броситься на соперника. Ник обреченно поднял руки. Во рту у него пересохло, сердце барабаном стучало в ушах. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не ушедшая вперед Эн.
— Мамочка! — пронзительно вскрикнула девушка.
Переглянувшись, парни сорвались с места и бросились на помощь своей спутнице.
Эн они обнаружили за углом гостиницы. Вцепившись обеими руками в ржавый заборчик, она сжалась в комок, зажмурилась и визжала, не переводя дыхания, а в двух шагах от нее глыбился огромный, покрытый клочковатой шерстью зверь с раскидистыми рогами.
— Ох, ё-ё! — Хал от неожиданности отскочил назад, отчаянно зашарил взглядом по зарослям в поисках хоть какого-нибудь оружия.
Ник, еще не до конца пришедший в себя после неожиданной стычки с новым знакомым, среагировал на ситуацию рефлекторно — заорал что-то невнятное, поднял вверх руки и, тяжело топая, пошел на рогатое чудовище.
Лось — а это был именно он — испуганно фыркнул, вломился в крапивные джунгли и исчез из виду, оставив за собой широкую просеку.
— Уф! — Ник вытер вспотевший лоб, краем глаза заметив, что на ладони осталась грязная полоса, и повернулся к Эн. — Тихо! Не кричи! Всё уже, всё.
К ним подскочил Хал, сжимая в руках кусок гнилой доски с прилипшими к ней белыми корешками.
— Чё это? Кто это?
— Сохатый, — не глядя на него, ответил Ник и встряхнул находящуюся в полуобморочном состоянии девушку: — Наташа! Ты меня слышишь?
— С-слышу, — кивнула та, постукивая зубами. — П-просто ис-спугалась… Очень!
— А чё такое сохатый, блин? — влез сбоку дотошный Хал.
— Лось, — бросил Ник. Заметив, что Эн тоже ждет пояснений, добавил: — Все копытные боятся, когда ты делаешь вид, что больше, чем есть на самом деле. В деревне у бабушки пацаны так лошадей и коров пугали.
— Ништяк! — Хал бросил доску. — А я очканул, блин. Думал — всё, хавандец.
— Лоси летом не агрессивные. Ладно, пошли. — Ник крепко взял Эн за руку. — Только идем все вместе, понятно?
— Ага, — первым отозвался Хал.
Ник встретился с ним глазами и понял, что в ближайшее время посягательств на его авторитет не предвидится.
Так начался их первый день в этом новом, невозможном, немыслимом мире. За первым последовал второй, третий…
Сегодня был шестой день. Сегодня они впервые рискнули совершить длительную вылазку за пределы здания Казанского Цирка, в котором жили все это время вместе с другими выжившими людьми.
Людям была нужна еда. Продовольствие. Жратва. Хавчик. Паек. Чифан. И стихийно выдвинувшийся в главы общины пожилой татарин по прозвищу Бабай отправил всех здоровых и сильных на ее поиски. Тогда-то Хал и вспомнил про сады поселка Большие Клыки.
— Жрать охота! — сообщает Хал, потирая живот. — От вчерашних консервов кишку крутит, блин. Супчику бы сейчас…
— Да с потрошками? — усмехается Ник.
— Нафига? С лапшой, матуха у меня лапшу классную варит… — Хал умолкает, сплевывает и тихо говорит: — Только нет теперь эни[6].
Эн и Ник понимающе переглядываются. Первые дни после того, как все очнулись, в Казани царил настоящий ад. Выжившие, пробудившиеся люди искали родственников, друзей, любимых, но чаще всего находили лишь скелетированные, обугленные, исковерканные останки. Скелеты были везде — в пыльных, замусоренных квартирах, в магазинах, в офисах, в машинах, на улицах…
Потом начались похороны. Могилы рыли во дворах, в скверах, в парках. И только после того, как сотни, тысячи останков предали земле, уцелевшие начали задумываться — как жить дальше. К этому моменту остро встала продовольственная проблема, и люди, не сговариваясь, стихийно, начали собираться вместе. Общины, подобные той, что обосновалась в Цирке, возникали в уцелевших зданиях, имевших пригодные для жилья помещения — большинство попросту не решилось возвращаться в квартиры, ставшие склепами для родных и близких людей.
Похоронил свою мать и Хал. Похоронил — и вернулся в Цирк, к Бабаю, Нику и Эн.
Мамочка, милая моя мамочка… Ты живая, я знаю. Ты ждешь меня. И я обязательно вернусь к тебе. Вернусь, когда все это закончится. Иногда мне кажется, что на самом деле все вокруг — ненастоящее. Я живу точно во сне. В страшном сне, в кошмаре, который все никак не закончится.
А может быть и я, и все остальные — мы на самом деле спим? Конечно! Это сон, и мне только кажется, что прошло несколько дней, ведь сны всегда так — длятся секунду, а кажется, что целую вечность.
Когда я была маленькой, мне часто снился сон про дерево. Как будто я стою возле него, а дерево большое, очень большое. Такое, что его ствол — как дом, а ветви уходят прямо в небо, и на всех ветвях — разные листья. На одной — как у дуба, на другой — как у клена, на третьей — березовые, на четвертой — осиновые…
Наверное, это Мировое Дерево. Иггдрасиль из скандинавских мифов. Стержень мира, корнями уходящий в адские бездны Нифльхельма, а ветвями — в мир богов Асгард. Под одним из корней бьет источник мудрости Урд и три волшебницы-норны, Вельд, Скульд и Урд, поливают водой Иггдрасиль, продлевая судьбу нашего мира.
Вот только никакого источника я не вижу. Есть только корни, страшные, толстые, похожие на одеревеневших змей, они впились в землю под моими ногами. А над головой…
Узловатые, изломанные ветви цепляются за небо, словно лапы неведомых чудовищ. На пальцах этих лап сидят птицы, черные, страшные птицы с красными глазами и загнутыми клювами. Время от времени эти птицы хрипло кричат жуткими, предсмертными голосами.
Все вокруг окутано туманом, земля под ногами покрыта мхом. Свистит ветер. Солнца не видно, мрак окутывает ветви дерева, колышется, словно он — живое существо, темная бесформенная амеба, готовая поглотить весь мир.
Я чувствую себя очень одинокой, ничтожной, никому не нужной в этом страшном мире. Дерево, птицы, туман… Я — букашка, разумный муравей. Меня можно раздавить, даже не заметив. Почему-то именно осознание этого пугает больше всего.
Мне страшно. Я забираюсь на узловатые корни и прижимаюсь к изрезанному морщинами стволу, ища защиты и спасения. И тут дерево оживает. Оно начинает двигаться, со скрипом шевелятся ветви, по стволу пробегают волны, точно под корой перекатываются исполинские мускулы. Мне на голову сыплются сухие листья, какой-то мусор, сломанные веточки.
Я с криком шарахаюсь в сторону, и мрак алчно принимает меня в свои гибельные объятия…
На этом месте я обычно просыпаюсь — с бешено бьющимся сердцем, с потными ладонями. Просыпаюсь — и долго таращусь в темноту спальни, убеждая себя, что все это было не на самом деле, что все хорошо, что я дома…
Дома… Где он теперь, мой дом? За тридевять земель. Если идти пешком, наверное, придется потратить целый год или даже больше.
А может, все-таки он совсем рядом? Вот тут, рукой подать — надо только закричать и проснуться? Или найти поводыря, того, кто сумеет вывести меня из этого кошмара? Интересно, смог бы это сделать Ник? Он большой, сильный. Смелый? Наверное. Лося вон не испугался. Не болтун, не трепло какое-нибудь. И тренер хороший. Хотя кому теперь нужны тренеры?
Мне нужны. Не все, а он один. Мой тренер. И единственная ниточка, связывающая с домом, с прежней жизнью. Если бы не Ник, я бы сошла с ума, наверное, как наши несчастные шизики. Или просто умерла. Перестала жить.
Хотя — разве сейчас это жизнь? Профессор Аркадий Иванович сказал: «Катастрофа». А мне кажется, что наступил Конец света. Потому что катастрофа — это то, что сделали люди. Пожары там, взрывы на атомных станциях, столкновения поездов или самолетов — вот это все катастрофы. И люди знают, как с ними бороться. Но как бороться с тем, что непонятно? Мы попали в другой мир. Он похож на наш — и не похож. В какой-то книжке, давно, еще в школе, мне попалась фраза: «И живые позавидуют мертвым». Нет, я не завидую. Но мертвым проще. Они уже добрались до конечной станции, всё, поезд дальше не идет. А мы еще в пути. И никто не знает, что ждет нас на следующей остановке…
— Нет, это не «Спящая красавица», — качает головой Ник. — Размерчик не тот. А главное — вряд ли это все из-за какой-то принцессы. Ну, то есть я хотел сказать — из-за одного человека. Тут что-то другое…
— Например? — заинтересовано спрашивает Эн.
— Не знаю.
— Я знаю! — вмешивается Хал. — Это инопланетяшки. Не, а чё? Типичные такие пришельцы, блин. Зеленые, наверно. Скользкие, бр-р-р…
Хал скукоживается, выкачивает глаза и начинает ковылять по заросшей лопухами детской площадке, подвывая и дергаясь на каждом шаге. Ник улыбается, Эн прыскает со смеху.
— Прилетели они, значит, — продолжает свою мысль Хал, размахивая руками, — посмотрели… И собрали всех в мешок, блин!
— В какой еще мешок? — удивленно распахивает глаза Эн, отмахнувшись от надоедливой осы.
— Ну, не в мешок, а в этот… В трюм, блин.
— Сомневаюсь. В Казани населения — больше полутора миллионов. Большой у них должен быть корабль, — качает головой Ник, но, заметив, что Хал готов возразить, снова улыбается и выставляет ладони: — Всё, всё, продолжай.
— А чё продолжать-то? — недовольно бурчит Хал. — Собрали, значит… Трюм… Лаборатории всякие, блин. И айда изучать! Изучали, значит, изучали…
— Блин, — подсказывает ему Эн с ехидной усмешкой.
— Блин, — машинально повторяет Хал и окончательно выходит из себя. — Ржете, да? Травите?
— Ладно, успокойся, — примирительно хлопает его по плечу Ник. — Я согласен, что твоя версия с инопланетянами вполне себе имеет право на жизнь. Только она, как и все остальные, не выдерживает критики.
— Ага, — кривится Хал. — Критика-фигитика, блин. Критиковать — много мозгов не надо.
— Это точно, — легко соглашается Ник. — Чтобы было по-честному, предлагаю свой вариант. Фантастический.
— А инопланетяне — это был реализм, — насмешливо фыркает Эн.
— Погоди, пусть скажет, блин, — одергивает ее Хал и заинтересованно смотрит на Ника.
Тот молчит, задумчиво глядит в небо, потирая небритый подбородок.
— Ну? — не выдерживает Хал.
— Гну! — теперь уже Ник злится и негодует, что ему не дали додумать. — Сейчас… Вот! Я книгу читал, давно. Американский писатель написал, Филипп Фармер. «Мир реки» называется. Как будто какие-то боги собрали всех людей, которые жили на Земле, ну, в разные времена, оживили их и поселили на некой планете, где есть только одна река.
— А остальное чё, пустыня? — удивляется Хал.
— Нет, просто река так извивается, что везде на планете течет. И вот эти люди начали жить…
— Так мы чё, умерли, что ли, блин? — уточняет на всякий случай Хал. — А теперь нас оживили? Но это же никакая не другая планета, это Казань! Вон проспект Победы, вон Старый аэропорт, вон Азино!
Эн прищелкивает пальцами и выпаливает:
— Точно! Страшный суд! Конец света!
— Фигня, блин! — не соглашается Хал. — Так не бывает.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю! Богов не бывает.
— А инопланетян?
— Так зря, что ли, фильмов про них сколько! — Хал указывает вверх. — Люди врать не будут. Прилетели, забрали всех жителей Казани, изучали много лет, а потом выпустили, блин.
— А почему так много мертвых? — продолжает упорствовать Эн.
Ник останавливается, театральным жестом хлопает себя по лбу.
— Слушайте! А ведь это все — не только в Казани.
— То есть? — Эн смотрит на него так, словно видит в первый раз.
— Если бы пострадала только Казань, сюда бы давным-давно прибыли разные люди: военные, спасатели, строители. Ведь времени-то прошло — много лет, это же видно.
— И чё, — Хал обводит рукой широкий полукруг, — вот так везде, что ли? И в Америке? Вот блин…
— Везде? — Эн мрачнеет. — И в Иркутске, да? А как же наши…
— Стоп! — Ник опять выставляет ладони, словно защищаясь от чего-то. — Давайте не будем об этом. Все равно нам домой не добраться.
— Почему? — упрямо вскидывает голову девушка. — Есть же поезда! Надо завести поезд и поехать.
— Какой там «завести». — Хал подходит к вросшему в землю микроавтобусу с плохо читаемой надписью «Полиция» на дверце, пинает сморщенное колесо. — Сгнило все, блин.
— Поставить локомотив на ход, может быть, и можно, — нахмурив лоб, говорит Ник. — Но представь — до Иркутска тысячи километров. И везде на путях стоят составы. Не проехать, короче.
Эн продолжает гнуть свою линию:
— Тогда надо лететь. Починить самолет, найти летчика…
— Нам сперва жратву надо найти, — перебивает ее Хал. — А то кони кинем, блин.
— Тебе только бы жрать! — вскидывается Эн. — Кишкун!
— Грести-скрести, можно подумать, ты воздухом питаешься, блин, — ворчит Хал.
— Кстати, о еде, — прерывает вспыхнувшую перепалку Ник. — Вот мы идем в эти Клыки. Чего мы можем там найти? Ну, реально — что? Картошку? Свеклу, огурцы? Ягоды?
— Яблоки, — уверенно отвечает Хал. — Мы пацанами часто туда ходили. Там яблоков полно, блин. Отвечаю.
— Яблок, — мстительно поправляет его Эн.
— Да знаю я, блин!
Ник, не слушая их, говорит:
— Яблоки — это, конечно, хорошо… Эх, нам бы военный склад найти какой-нибудь! Неприкосновенный запас, на случай войны. Там на пятьдесят лет все рассчитано.
— Да ладно, — не верит Эн.
— Я, когда в армии служил, мы на таких складах работали, ящики всякие разгружали. Хал, где в Казани может быть военный склад?
— А куян[7] его знает, — пожимает тот плечами. — Стойте, вон крышу сломанную видите за деревьями? Это уже Большие Клыки. Почти пришли.
Они останавливаются у сильно пострадавшей от пожара многоэтажки. Впереди, насколько хватает глаз, зеленеют сплошные заросли, из которых то там, то сям торчат крыши частных домов.
— Магистральная улица, — поясняет Хал. — Казань кончилась, дальше поселок. Деревня почти. Коттеджи, блин, всякие. И сады.
— Тишина-то какая, — задумчиво произносит Эн, оглядываясь.
— На кладбищах всегда тишина, — цедит Ник, глядя на закопченную многоэтажку.
— Умеешь ты настроение испортить, — вздыхает девушка. — Эксо-эксо, Кэнди.
— Сказал как есть, — пожимает Ник плечами. — Ладно, пошли.
Проезды между домами заросли сиренью и малиной. Пробравшись сквозь эту густо заплетенную паутиной чашу, друзья вскоре оказываются на Садовой улице, пересекающей Большие Клыки с севера на юг. Она тоже заросла, но деревьев и кустов тут меньше, на проезжей части кое-где сохранились проплешины асфальта. Заборы окрестных домов тонут в бурьяне.
— Яблоня! — восклицает глазастый Хал. — Вон, зырьте! Айда!
Продравшись через лебеду и чертополох, Ник рвет на себя заплетенную хмелем железную калитку с дочерна проржавевшей табличкой.
— Закрыто.
— Лезь через верх, блин!
Замшелый дом, кирпичный, с большой верандой, высится посреди заросшего сада, точно склеп. Не сговариваясь, друзья обходят его стороной. И так ясно, что там: пыль, гниль, мусор. А может быть, и останки хозяев.
— Нет тут никакой картошки. И свеклы нет, блин. — Хал по-хозяйски ворошит крапиву и осот, перевитые мышиным горошком, пытаясь разглядеть среди сорняков хоть что-то съедобное.
— Зато малины много! — весело откликается Эн.
Она убрела в дальнюю часть сада и лакомится там перезревшими, темными, сморщенными ягодами.
— На малину не сезон сейчас, — авторитетно заявляет Хал. — А вот яблочки…
Ник, не слушая своих спутников, бродит по саду, испытывая странные чувства. С одной стороны, яблок и на этом участке, и на соседних и впрямь много, это хорошо, это витамины, можно насушить на зиму. С другой… он где-то глубоко в душе чувствует, что собирать плоды в мертвой деревне — все равно что обирать могилы на кладбище.
— А-а, крыжовничек поспел! Вкусный! — радостно кричит Хал, углубившись в заросли. — Грести-скрести, блин! Тут забор упал. Зря через калитку лезли.
— Хватит жрать! Мешки доставайте! — обрывает его Ник. — Яблоки брать целые, не червивые. И давайте быстрее, скоро вечер, а нам еще тащить всё это через весь город.
Мешки у них — что надо. Крепкие, вместительные мешки из черного полиэтилена. Обычно в такие складывают мусор. А еще пакуют мертвецов в американских фильмах. Только там у мешков есть молнии. Вжик! — и очередной покойник отправляется в морг. В кино все это кажется легко и просто, не по-настоящему.
Ник вспоминает, как хоронят людей теперь — просто в земляных ямах, потому что любая прочная ткань, любой целый ящик или мешок сделались большой ценностью.
— Яблони не трясите, лезьте наверх и срывайте, а то яблоки побьются, — авторитетно объясняет Хал и первым начинает карабкаться на раскидистое дерево, ветки которого усыпаны небольшими красноватыми яблоками.
Сорвав одно, Хал усаживается на толстый сук, с хрустом откусывает, морщится.
— Сочное, блин. Сорт называется «конфетные». Но еще кисляк.
— И что, брать нельзя? — спрашивает Ник, задрав голову.
— Почему нельзя? Можно. Дай-ка мешок.
Эн подходит к дереву, протягивает Халу скомканный полиэтилен, и тут в кустах малины, там, где был упавший забор, слышится треск. И возня.
Все замирают.
— Да собака, наверное, — беспечно машет рукой Хал и едва не падает с яблони. — Мешок-то давай, блин!
— Плохо, если собака, — бормочет Ник, судорожно вспоминая, в каком углу сада он оставил ржавый железный дрын — единственное оружие их небольшого отряда.
Одичавшие собаки с первых же дней стали самой большой угрозой для пробудившихся людей. Стаи косматых тварей, потерявших всякий страх перед человеком, постоянно нападали на тех, кто в одиночку рисковал пройтись по мертвому городу. Псы, все как на подбор песчано-бурой масти, повадками здорово напоминали волков — они загоняли свою добычу, окружали и набрасывались всей сворой. После того, как несколько людей из общины погибло, Бабай строго-настрого запретил выходить в город по одному.
Треск в кустах усиливается, тонкие ветки малины качаются, слышится тяжелое сопение, и к подножью яблони буквально выкатывается большой, коричневый меховой шар, а следом за ним — второй.
— Медвежата! — расплывается в радостной улыбке Хал.
Ник каменеет. Горло перехватывает, крик ужаса умирает на задрожавших губах, по спине мгновенно продирает холодом. Эн пятится и прижимается спиной к коричневому стволу яблони.
Сибиряки хорошо знают: самое страшное — встретить в тайге медвежонка. Это верная смерть, потому что по пятам за симпатичным пушистым зверенышем всегда следует его мать. Медведица не разбирает, есть ли реальная опасность для ее потомства, слепо убивая всякое живое существо, оказавшееся поблизости.
Медведь-самец, особенно если он сыт, встреч с людьми избегает. Он ленив и, учуяв человека, всегда предпочтет уйти. Его можно напугать громким криком, грохотом выстрела, звоном котелка, иными резкими звуками.
Медведица — совсем другое дело. Почти не уступая самцу в размерах, она агрессивно лезет вперед, не задумываясь бросается на все, что движется вблизи от медвежат. Бросается и убивает. Удар медвежьей лапы не оставляет шансов на дальнейшее сопротивление. Можно попытаться увернуться, но убежать от разъяренной хищницы все равно не получится. Она догонит даже чемпиона мира по бегу.
Есть такое старинное русское выражение: «медведь заломал». Именно так и поступает медведица со своей жертвой: догоняет, наваливается всей тушей и начинает корежить обреченного, сдирая кожу, дробя кости, вминая ребра.
Страшные рассказы бывалых таежников о несчастных, встретившихся с медведицей и ее медвежатами, в Сибири слышали все, от мала до велика. Даже опытный охотник, хорошо вооруженный и знающий все повадки зверя, в большинстве случаев проигрывает медведице: убить это животное с первого выстрела практически нереально, а на второй хозяйка тайги времени, как правило, не дает.
Слоистые облака, закрывшие было солнце, расходятся, и косые лучи клонящегося к закату светила пронизывают заросший сад золотистыми стрелами. Шерсть медвежат в их свете переливается, играет, вспыхивают глазки-бусинки. Не обращая на людей внимания, звереныши принимаются с урчанием объедать малину вместе с листьями.
— Б-бежим… — жутким шепотом кричит Эн, стиснув кулачки на груди. Кажется, кричать шепотом невозможно, но у нее получается.
— А чё? — не понимает Хал, свесившись с ветки. — Это ж мясо, блин!
Ник, наконец, обретает способность двигаться — прошло уже несколько секунд, а медведица так и не появилась. Может быть, им удастся…
Может быть.
Но действовать надо очень быстро!
Схватив улыбающегося Хала за руку, Ник бесцеремонно сдергивает его с яблони и тащит за собой к дому, не обращая внимания на возмущенные вопли. По дороге свободной рукой сгребает побледневшую Эн. Наверное, им бы удалось убежать, но нога Ника попадает в кротовину, он спотыкается, и все трое летят в бурьян.
Низкий утробный рык прокатывается по саду. Медведица выскакивает из зарослей, громко сопя. Под лохматой шкурой перекатываются могучие мышцы, длинные когти взрывают землю. Идеальная живая машина для убийства весом в полтонны на мгновение застывает всего в полутора десятков шагов от лежащих людей, оскаливает клыки…
Ник чувствует тяжелый запах, исходящий от зверя.
Рыкнув на медвежат — те немедленно бросают малину и укатываются в кусты — медведица медленно двигается вперед, низко наклонив лобастую голову с крохотными злыми глазками.
Вот и всё. Конец. Смерть. Будет больно, но это недолго, надо только потерпеть, а потом — всё. Темнота. Тишина. Так уже было. Получается, один раз я уже умер? Умер, опять родился, и сейчас снова умру. Наташку жалко. Хала этого. И себя.
И всех.
Жизнь кончилась. А она была вообще? Ну, была, конечно. Родился, потом садик, школа. С отцом по воскресеньям в цирк ходили. Мама на Новый год торт «Муравейник» пекла. Каникулы. Июнь. Окрошка, запах свежепорезанной зелени и кваса. Мороженное. Кола. Чипсы.
Господи, одна жратва на ум лезет! Что еще-то было? Пятый класс, секция во Дворце спорта. Первый раз взял в руки лук. Тренер, Кабан Кабаныч, сказал — хорошо. Стрелять нравилось. На соревнования ездили. Ночью в гостинице девчонок пастой ходили мазать. Кабаныч всех запалил, заставил отжиматься.
Девятый класс, школьный вечер. Я Настю на танец пригласил. У нее талия упругая такая была, как будто из резины. А потом Генка Штырь с пацанами наваляли мне за школой — она ему тоже нравилась.
Дальше, дальше!
ЕГЭ, выпускной… Напился первый раз, блевал на школьном крыльце. Стыдно? Не, ни капельки не стыдно. Наплевать! А вот когда не поступил — было стыдно. Не прошел по конкурсу. И денег на платное у родителей не нашлось. Не заработали. Всю жизнь работали, а только на еду и хватало. Отец крутился, как пропеллер — там подработает, тут подкалымит…
Они хорошие, добрые. Просто не в то время родились. Им бы Енисей перегораживать, города в тайге строить. А в наше время важнее уметь купить за сто, продать за двести, договориться, нужные знакомства завести.
Вернулся домой, валял дурака. Потом достало все — пошел работать. Продавцом-консультантом в салоне мебели, мать устроила по блату. Каждый вечер с пацанами на лавочке возле гаражей. Пиво, травка… Лук бросил. Кабаныч домой приходил, кулаком стучал по столу. Мать плакала.
А Настя поступила. Иркутский университет, Сибирско-американский факультет менеджмента. Я удивился, когда узнал — что за нах? Оказалось, бизнес-элиту готовят. Настя — бизнес-элита. Смешно. Только у нас с ней что-то замутилось — повестка в армию. Полтора косаря баксов, чтобы отмазаться. Не собрали. Поехал топтать сапоги. Месяц в учебке под Ангарском, полгода в Улан-Удэ, поселок Восточный, дослуживал почти дома — в Шелехове. «Войска связи — по уши в грязи». Настя три раза приезжала. Дождалась. Пацаны со двора смеялись — бывает же! Дембельнулся, в секцию обратно начал ходить — в армейке сильно по луку тосковал. А Кабаныч умер. Инфаркт. На похороны все его ученики пришли, кто рядом был. Тысяча с лишним человек. Сторож на кладбище спросил: «Авторитета, что ли, хоронят?»
Предложение Насте сделал. Она сказала, что подумает. Это потому, что у нее уже этот летчик был. Он не летчик на самом деле, а бизнесмен какой-то, свой самолет имел, спортивный. Настю на нем катал. Докатались они до загса. Вот тут стыдно: напился, ломился в ресторан, где свадьба гуляла, хотел летчику в морду дать. Разбил витрину, стекло толстое, наискосок раскололось. Сухожилие на правой руке повредил. Хрен с ней, с Настей. Но вот спорт… Прощай, лук.
Что потом? Все просто — поступил на заочку в Омский физкультурный институт, работал. Когда доучился — пошел к директору Дворца спорта, попросился на место Кабаныча.
Всё.
Совсем всё.
Вроде много чего было. А вроде и не было ничего.
И уже не будет…
Медведи обычно нападают, поднявшись на задние лапы, а затем всем своим весом обрушиваются на добычу, ломая ей кости. Если бы Ник, Эн и Хал стояли, всё так бы и случилось, но поскольку люди ворочались на земле, хищница бросилась к ним на четырех лапах.
Двумя огромными прыжками она покрывает разделяющее их расстояние. Эн кричит, Хал выплевывает в оскаленную пасть зверя короткое ругательство, Ник пытается прикрыть собой девушку…
Оглушающий рев бьет по ушам, раскатывается над всем поселком Большие Клыки. В нем столько первобытной мощи, столько вызова и злобы, что медведица замирает на месте и медленно, недовольно поворачивает тяжелую голову, словно пытаясь разглядеть — кто осмелился бросить ей вызов?
Между стволами деревьев что-то мелькает, и в следующую секунду на поле битвы появляется новое действующее лицо, новый боец, новый хищник.
Тесно сбившись вместе, друзья с изумлением и страхом разглядывают невиданного зверя. Длинное, мощное тело, покрытое густой шерстью песчаного цвета, еле различимые темные полосы, идущие от хребта к брюху, почти белая, очень короткая взлохмаченная грива — и огромная квадратная морда, похожая сразу и на львиную и на тигриную.
Зверь покачивается на напружиненных лапах, злобно хлещет себя по бокам длинным хвостом, снова ревет. Медведица отвечает низким ворчанием и медленно разворачивается к противнику. Она теперь все делает медленно, точно напоказ — вот, мол, какая я неуклюжая, неповоротливая…
— Кто… это? — тыча испачканным в земле пальцем в тигрольва, сипит Хал, тараща глаза.
— Валим! — выдыхает Ник, судорожно отдирая от себя вцепившуюся в него мертвой хваткой Эн. — Валим отсюда! Быстро!
Оскалив длинные желтые клыки, тигролев с места, без подготовки прыгает на медведицу. Прыжок великолепен. Ник видит его словно в замедленной съемке: вот хищник взвивается в воздух, мощно отталкиваясь от земли задними лапами, вот на передних появляются загнутые смертоносные когти, вот он уже почти над сжавшейся, испуганной медведицей, и кажется, уже ничто не спасет ее от неминуемой смерти…
Доля секунды — и внутри медведицы словно распрямляется туго сжатая пружина. Мгновенно вскинувшись, хищница поднимается на задние лапы, приглашающе раскрывает смертельные объятия. Тигролев врезается в нее, вонзает когти в густую шерсть, но тут же получает два могучих удара и катится по земле, сминая гибкие стебли лебеды. Отлетев на пару метров, он по-кошачьи изворачивается, встает на лапы и вновь бросается на врага.
Что было дальше, друзья не видят. Вскочив, они вихрем проносятся через сад, единым духом, обдирая руки, перемахивают через калитку и со всех ног бегут, петляя между стволами деревьев, растущих на Садовой улице.
Глава третья
Они бегут, пока хватает дыхания. Без дороги, через кусты сирени, через заросшие травяной дурниной дворы, по узким проездам между домами, а потом — по городским улицам, мимо мертвых домов и машин.
Их гонит вперед даже не страх — животный ужас, первобытная, генетическая боязнь быть убитыми и съеденными. В этот момент они — не люди, не хомо сапиенсы, они превратились в диких зверей, спасающихся от хищника.
— Всё-ё, не могу больше! — стонет Эн и без сил валится в траву возле покрытой трещинами стены торгового комплекса.
Ник пытается удержать девушку, но теряет равновесие и падает на колени, часто дыша открытым ртом. Рядом, как подкошенный, рушится на землю Хал.
— Оторвались, вроде, — сипит он. — Во, блин, фигня какая…
— Пять минут на отдых — и возвращаемся в Цирк, — объявляет Ник.
Некоторое время они лежат в тишине, смотрят в белесое небо и прислушиваются к треску кузнечиков.
— Самолеты не летают, — шепчет наконец Хал.
— У меня подошва почти оторвалась у кроссовки, — жалуется Эн. — Еле держится. А вроде выглядела, как новая…
— На, проволокой примотай. — Ник достает из кармана небольшой моточек медного провода, протягивает девушке. — В Цирке чего-нибудь подберем по размеру.
Общине, обосновавшейся в здании Цирка, в известном смысле повезло: неподалеку находился казанский ЦУМ, огромный двухэтажный торговый комплекс, не пострадавший от пожаров, уничтоживших едва ли не треть зданий в городе.
Многочисленные магазины и магазинчики ЦУМа, а главное — складские помещения, дали людям возможность разжиться множеством полезных и необходимых вещей. И если продукты, большая часть одежды, обуви и железные предметы пришли в негодность, то нержавеющая и стеклянная посуда, ножи, инструменты, пластик, синтетика, разнообразное туристическое снаряжение сохранились отлично.
Конечно, ЦУМ привлек к себе внимание людей и из других общин. Горожане, обосновавшиеся в здании Колхозного рынка, регулярно отправляли поисковые партии, чтобы пополнить свои запасы или отыскать в темных складских терминалах необходимые вещи. Дело дошло до прямых столкновений, и только вмешательство Бабая и главы «рыночных» Демьянова решило конфликт мирным путем.
Общины честно поделили сферы интересов, организовали что-то вроде меновой торговли: вы нам — крючки и лески, мы вам — саморезы и отвертки.
Самую большую ценность — сохранившуюся одежду и обувь — поделили по-братски, исходя из количества людей в каждой общине. Резиновые сапоги и зимние ботинки крепкий хозяйственник Бабай объявил неприкосновенным запасом, а для повседневной носки выдавал общинникам «условно годные» вещи: более-менее крепкие спортивные костюмы, куртки, штаны, кеды, кроссовки. Ник, Эн и Хал благодаря стараниям Бабая щеголяли в фирменных «адидасах», но, судя по всему, жить их спортивным костюмам осталось недолго.
В плане продуктов большие надежды все возлагали на огромный супермаркет «Бахетле», располагавшийся на первом этаже ЦУМа. Там надеялись отыскать еду, много еды. Понятное дело, речь шла только о консервах. Все остальное — крупы, муку, макароны, печенье, колбасы, сыры, мясо, молоко и молочные продукты — уничтожили грызуны, насекомые и безжалостное время.
Но надеждам не суждено было сбыться. Большинство металлических банок с мясом и рыбой вздулись, в стеклянной таре вместо компотов и солений колыхалась мутная жижа. Проверку временем прошли только изготовленные еще по советским ГОСТам в Белоруссии тушенка и сгущенка. Причем сгущенка превратилась в некое подобие сладкого плавленого сыра, а от тушенки у добровольцев, в числе которых оказался Хал, крутило животы. И тем не менее это была еда, хотя запасы ее в «Бахетле» оказались ограниченными.
Призрак голода встал над общиной во весь рост, и Бабай вторые сутки ломал голову над тем, где добыть продовольствия. Переговоры с «рыночными» и общинами, обосновавшимися в Речном порту и на железнодорожном вокзале, ни к чему не привели — у соседей была такая же плачевная ситуация. «Портовики», правда, подсказали Бабаю хорошую идею насчет рыбной ловли, и он наряду с поисковыми отрядами отправил бригаду из десяти человек на Волгу, но не ждал от этой затеи большого успеха.
Дело в том, что с рекой, некогда раскинувшейся на несколько километров, произошла странная метаморфоза — Волга сузилась, отступила от города, ушла под далекий правый берег, а все ее бывшее русло заросло ивами, камышами, осокой, превратившись в сырую болотину, над которой роились мириады комаров и мошек…
Обо всем этом Ник успевает подумать в оставшиеся минуты отдыха. Часов ни у него, ни у других общинников нет, и отведенную на «перекур» пятиминутку он засекает на глаз. Когда время, по мнению Ника, заканчивается, он с трудом поднимается на ноги.
— Ну, всё, пошли.
— Еще немножечко! — просит Эн, не открывая глаз.
— Надо идти. Может, удастся хоть по магазинам пошарить на обратном пути. — Ник нагибается, подает девушке руку. — Вставай!
— Эх, блин! — с горечью произносит Хал. — Зуб даю — ни фига мы там не найдем…
Человеческое тело они замечают в самый последний момент, едва не наступив на него. Мужчина в зеленой строительной робе лежит возле покосившегося скелета автобусной остановки. На спине зияют две жуткие раны, земля вокруг буквально пропитана кровью. Отблески закатного солнца играют в темной лужице.
— Блин, башки-то нет! — хрипло вскрикивает Хал, к которому возвращается голос. — Ё-ё, вон она! Кышь! Пошла!
Серая ворона, недовольно каркнув, тяжело взлетает и исчезает за деревьями. Ник подходит к отрубленной человеческой голове, сглатывает комок в горле.
— Ой, мамочки! — всхлипывает Эн, зажимает ладонью рот и тут же отворачивается. — Я не буду смотреть! Я не буду смотреть! Я не бу-ду смо-треть!
Взяв девушку за узкое запястье, Ник ведет ее за собой, по широкой дуге обходя останки того, кто совсем недавно был живым человеком. Хал задерживается. Заинтересованно присев на корточки возле трупа, он внимательно оглядывает его, трогает, макает пальцы в кровавую лужу, осматривает голову с выклеванными глазами и лишь затем устремляется следом за остальными.
— Кровь уже свернулась, блин, — сообщает он друзьям, догнав их возле магазина с обрушившейся крышей. — В спину били. Два раза, блин. Чем-то тяжелым и острым. Потом башку отрубили. Губ нет, языка нет…
— Хватит! — истерично вскрикивает Эн. — Замолчи!
— А чё? — ухмыляется Хал. — Как было, блин, так и говорю.
— Ты что, эксперт? Патологоанатом? — недовольно прищуривается Ник.
— Какой еще эксперт… — Хал мрачнеет. — У нас пацана со двора убили в прошлом году. Махач был, блин. Семь ножевых. Ну, потом менты, блин, скорая, труповозка. Я рядом стоял, нас допрашивали — чё почём хоккей с мячом, блин. Ну, наслушался, как они описания на диктофон делают…
Обогнув серую многоэтажку, друзья выходят на перекресток, густо заросший молодыми рябинами. Под ногами скрипит смешанное с землей битое стекло — от ларька на углу остался один ржавый остов, внутри темнеют неопрятные кучи покоричневевшей бумаги. Светофор поодаль венчает лохматое воронье гнездо.
— Тихо! — Ник вскидывает руку. — Слышите?
— Чё там, чё? — Неугомонный Хал выскакивает вперед, застывает возле косо стоящего на дороге «Камаза». — Орет кто-то?
— Или поет… — неуверенно говорит Ник.
— Пойдемте обратно, — с жалобной ноткой в голосе просит Эн.
После страшной находки у автобусной остановки девушка сильно напугана.
— Погоди. — Хал вертит головой, как охотничья собака. — Надо же узнать, блин!
— Точно — поет. Слышите? — Ник машет рукой влево. — Там вроде.
Ветер на мгновение стихает, и в наступившей тишине становится ясно слышен плывущий над мертвым городом далекий голос:
— …беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мно-о-ою. Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, — да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в су-у-уд[8]…
— Как в церкви, — шепчет Эн и тут же начинает торопить своих спутников: — Пошли, пошли!
— С ума, наверное, кто-то сошел, — предполагает Ник.
— Да давайте сходим, глянем, чё там за движуха, блин? — азартно пританцовывая на месте, предлагает Хал. — А чё?
— Если на помощь не зовет, значит — нам там делать нечего, — веско режет Ник. — Пошли в Цирк, темнеет уже, а тут еще топать и топать. Хватит с нас на сегодня…
— Вон, Дом Кекина, видите? — Хал указывает на большое здание, выстроенное на углу улиц Горького и Галактионовской. — Там, блин, магазин был продуктовый. Айда, поглядим, может, чё осталось.
Ник недовольно кривит губы — больно уж место ходовое, наверняка люди уже побывали здесь, причем не раз.
— Какой красивый дом, — говорит Эн, разглядывая башенки и стрельчатые готические окна. — Был…
Некогда серое, теперь здание стало почти черным. Мрачный, загадочный дом возвышается над соседними постройками. Он и вправду похож не на жилой доходный дом, выстроенный на средства купца Кекина в начале двадцатого века, а на старинный замок, полный леденящих кровь тайн прошлого. Стекла в окнах полопались, осыпались, и кажется, что дом ослеп. Он похож на многоглазый каменный череп.
Двери в магазин приоткрыты. Внутри колышется густой мрак.
— Огонь надо, — деловито говорит Хал, вытащив из-за пазухи несколько свернутых бумажных листков. — Спички бар[9]?
— На. — Ник протягивает ему большой желтый коробок с надписью «Охотничьи».
Эти спички Бабай нашел в туристическом отделе ЦУМа. Их было много, несколько ящиков. Головку каждой спичинки покрывала защитная нитроцеллюлозная пленка, а сама спичка была пропитана нафталином — для защиты от влаги и горения даже на сильном ветру. Свою находку Бабай берег как зеницу ока, выдавая тем общинникам, которые выходили в город, всего по пять спичек.
— Только по мере необходимости! — говорил он при этом. — Жесткая экономия! Понятно?
Сейчас как раз и наступает эта самая необходимость. Хал входит в двери, чиркает спичкой о коробок — валит едкий сизый дым — и поджигает свернутую в жгут бумагу.
Мятущееся пламя выхватывает из темноты кучи мусора, битое стекло на полу, угол барной стойки, свисающие сверху провода.
— Это не магазин! — громко говорит Ник, проходя вперед. — Это кабак, что ли? В смысле — ресторан.
— Тьфу, блин! — раздосадовано восклицает Хал. — Точняк! Тут пивной ресторан был. Перепутал я. Ну чё, пошли отсюда?
Ник пожимает плечами:
— Пошли…
— Постойте, — останавливает их Эн. — Смотрите, плакат…
Хал поднимает свой импровизированный факел повыше, осветив на удивление хорошо сохранившийся лист глянцевой бумаги. Это постер к голливудскому фильму «Дракула»: лицо мужчины с длинными оскаленными клыками, летучая мышь на фоне полной Луны и лежащая навзничь блондинка в открытом платье.
И кровь. Ненастоящая, нарисованная кровь, стекающая по подбородку вампира.
Под плакатом уцелел небольшой столик, а на нем — высокий пивной бокал с логотипом известной пивоваренной компании.
— Как новый, — говорит Ник, берет бокал в руку и тот вдруг рассыпается мелким стеклянным крошевом.
— Карты. Пластиковые. — Хал, пошарив по столу, двумя пальцами берет белый прямоугольник.
— Не трогай! — кричит Эн. — Брось!
— Ты чё? — удивляется парень, выронив карту.
— Тут только пики! Девять пиковых карт! Это… Это к смерти! Я знаю.
— Ай, блин! — восклицает Хал — бумага догорает до пальцев.
Помещение ресторана погружается во тьму.
— Всё, пошли отсюда! — решительно объявляет Ник.
Ощупью они выбираются на улицу. Отойдя на несколько шагов, все, словно по команде, оборачиваются на мрачный дом — и видят нацарапанный на стене в двух шагах от двери круг и буквы «АК» внутри.
— Вроде раньше не было… — неуверенно бормочет Хал.
— Не заметили, наверное, — предполагает Ник.
— Как дела, добытчики? — скрипит вдруг за их спинами знакомый голос.
— Как вы нас напугали! — Эн первой поворачивается к стоящему посреди улицы мужчине.
Невысокий, весь какой-то помятый, с серым лицом, редкими волосами и маленькими бесцветными глазками, он сжимает в руках ржавые вилы. За плечами виднеется тощий вылинявший рюкзак.
Этот человек с неприметной фамилией Филатов часто появляется в Цирке, но где он живет и что делает — для всех общинников остается загадкой. Дружбы или хотя бы приятельства Филатов ни с кем не водит, промышляет в одиночку. Он обладает неприятным голосом и манерой во время разговора заглядывать в глаза собеседнику. Ник припоминает, как кто-то говорил, что серый человек шарит по пустым квартирам, собирая документы, золото и драгоценности.
Тревожить жилища мертвых — негласное табу среди общинников, и хотя прямых доказательств того, что Филатов мародерничает, ни у кого нет, Ник, Хал и Эн относятся к нему без приязни.
— Дела как сажа бела, — неохотно отвечает Ник.
— Мы тигра видели. И медведей, — как-то очень по-детски говорит Хал. Он почему-то всегда робеет перед Филатовым.
— Главное, чтобы не черта, — серьезно скрипит тот.
— Типун вам на язык, — злится Ник и указывает на круг с буквами. — Это вы написали?
— Что? А… Нет, не я.
— Тогда кто?
— Не знаю. Сейчас много всяких развелось… писателей. Ладно, ребятки… — Филатов взмахивает вилами. — Через Баумана не ходите, я там компанию веселую видел. Ломают двери Госбанка. Серьезные люди.
— А вилы вам зачем? — спрашивает Эн.
— Что? Так, нашел просто. Вроде крепкие еще, — Филатов со звоном пристукивает вилами об асфальт. — Может, пригодятся. Ну, счастливо!
Он резко поворачивается и исчезает в кустах на другой стороне улицы.
— Пошли и мы. — Ник еще раз бросает взгляд на загадочную надпись и решительно шагает прочь от Дома Кекина.
Хал и Эн устремляются за ним.
— По Дзержинского двинем, — предлагает татарин и добавляет: — Не люблю я этого хмыря, блин.
— Почему? — спрашивает Эн.
— Скользкий. Как мыло, блин.
Мимо Черного озера, где некогда находилось республиканское КГБ, а еще раньше — НКВД, друзья проходят уже в сумерках. Низина, в которой раньше было само озеро, а точнее, небольшой пруд, превратилась в сильно заросшее рогозом болото. Над темными силуэтами домов по другую сторону пламенеет тревожный закат. С севера на него наползает огромная туча.
— Дождь будет, — констатирует Хал.
— Давайте быстрее, нам еще топать и топать. — Ник затравленно оглядывается. — Черт, все время кажется, что кто-то за нами идет.
Эн тут же начинает вертеть головой.
— Где, где?
— В Караганде, блин! — Хал суживает глаза. — Может, бегом?
— Давай — до Джалиля!
Памятник Мусе Джалилю, поэту, казненному в немецкой тюрьме Маобит во время войны, стоит возле самого Казанского Кремля. Сорвавшись с места, друзья, тяжело топая, бегут по улице Дзержинского, сворачивают на Миславского, огибают «Бегемот» — огромное, занимающее целый квартал здание, в котором находился республиканский краеведческий музей и масса офисов разных организаций — и на подгибающихся от усталости ногах уже не выбегают, а буквально выплетаются на площадь перед Кремлем.
Солнце закатывается за Услонские горы на другой стороне Волги. Небо там еще хранит его отсветы, но над головами путников уже зажигаются первые звезды. Впрочем, гореть им остается совсем недолго — туча, замеченная Халом, расползается, растет, пожирая небосвод.
Каменный Джалиль, вырывающийся из тугих витков колючей проволоки, почти скрывается во мраке. Через площадь от него сереет некогда белоснежная Спасская башня Казанского Кремля.
— Смотрите! — указывает в сторону башни Эн. — Там огонь!
Приглядевшись, Ник тоже замечает отблески далекого костра, горящего где-то на территории Кремля.
— Завтра сходим, посмотрим, кто там, — говорит он.
— А чё смотреть-то, блин? — ворчит Хал. — Ну, тусуются там какие-нибудь уроды. Лишний рот хуже пулемета…
Спустившись по мощенному брусчаткой и сейчас сплошь заросшему травой проезду к улице Баумана — слева тонет во мраке брусок здания Академии наук — друзья, не сговариваясь, облегченно вздыхают: впереди появляется гигантская бетонная летающая тарелка.
Цирк.
Дом родной. Надежный приют, где тебя ждут, где ты получишь кружку кипятка, полбанки сгущенки и половник чудом сохранившейся перловки, разваренной до состояния клейстера.
В темноте путеводной звездой вспыхивает костер, который всю ночь поддерживают у входа в здание дежурные сторожа.
— Дошли! — обрадовано выдыхает Эн и прибавляет шаг. — Эксо-эксо, Кэнди.
Пройдя мимо давно высохшего оврага с каменными берегами — всё, что осталось от протоки Булак, — друзья поворачивают направо и ковыляют по площади Тысячелетия, огибая сгрудившиеся в беспорядке костяки машин. В стороне мрачно темнеет острой вершиной футуристическое здание развлекательного центра «Пирамида», выжженное огнем. Цоколь его густо оплетен диким хмелем. За «Пирамидой» угадываются руины пятизвездочного отеля «Мираж».
Друзьям остается пройти не больше пары сотен шагов, когда справа, там, где на холме высятся стены и башни Кремля, раздается чей-то крик, полный мольбы и ужаса…
Сторожа, братья Калимуллины, Рашид и Рафшат, встречают их со сдержанной настороженностью.
— Это вы орали? — спрашивает Рафшат, вороша дрова в костре кривой алюминиевой лыжной палкой.
— Жратву нашли? — интересуется Рашид, с надеждой разглядывая ребят. — Юк[10], пустые? Анансыгым[11]!
Вяло отмахнувшись от сторожей — Хал, правда, успевает что-то ответить по-татарски Рашиду — друзья входят в гостеприимно распахнутые двери Цирка и по широкому проходу идут прямо на арену, откуда тянет костровой гарью вперемешку с аппетитными запахами тушеного мяса.
Я, когда маленьким был, цирк не любил. Да ну, фигня какая-то — клоуны, фокусники, лошади. Навозом воняет. Телки только прикольные выступают, почти голые и гибкие. А так — кино лучше, особенно 3D. А класснуха, блин, у нас повернутая была. «Высокое древнее искусство!» И таскала нас постоянно. Я один раз во время представления в туалет отпросился и фломиком на плитке написал: «Цирк — гавно!» Там и другие такие надписи были, много, всякие. Наверное, не я один эту бодягу ненавижу.
А теперь мы в Цирке живем. Это Бабай придумал. Он — чёткий мужик. Весь расклад сразу просек. Сперва в Кремль хотели, но там трупаков дофигища. Костей, в смысле. Тогда Бабай про Цирк и сказал. Тут ништяково. Тепло, сухо, вода рядом — родники возле моста бьют. Раньше… ну, до всего… их не было, а теперь вот текут. Вода хорошая, чистая. Можно не кипяченой пить.
Я с Бабаем в первый день познакомился. Сперва — с Ником и Энкой, а потом мы его встретили. На Ташаяке, там еще пятиэтажка, в которой спортивный магазин был, сгорела вся, черная такая. То есть снаружи она не совсем черная, дождями копоть смыло маленько, а внутри все квартиры как будто покрашены битумным лаком. Я тогда лося напугался, а Ник его прогнал. Мы дальше пошли — смотрим, мужик стоит на углу. Здоровый такой, лысый, мордатый, блин. И говорит нам: чё, мол, пацаны, заблудились? Мы такие говорим: типа того, а чё случилось вообще? Он: фиг его знает, только всем людям теперь надо вместе быть. Ну, и рассказал, что он в машине был, по делам приехал в Казань из Альметьевска, а потом отрубился, как мы. Водила ушел воды купить — и всё. Нет водилы.
Ник ему говорит: мы в Кремль идем. А Бабай: правильно, хорошее дело. Так мы вместе и пошли, блин. Ну, по дороге разных других людей встретили. Бабай им сказал, что он в Альметьевске по нефтянке начальником был, не самым большим, но все же. Расспрашивал, кто чем занимался, есть ли полицейские, врачи или кто руководил чем. Кадры, сказал, нужны.
Только не оказалось кадров. Весь народ — все больше продавцы, в офисах кто работает, командировочные всякие. Ну, понятное дело — центр же, тут люди не живут вообще. Профессор нашелся, Аркадий Иванович, он историк вроде. Баба пожилая, Анна Петровна, она в конторе какой-то главным бухгалтером работала. И мужик один, Цапко, фельдшер из Заинского района, тоже командировочный, как Бабай.
Пришли мы в Кремль, а там сгорело все — и церковь большая, и Дворец президентский, и Кул-Шариф[12]… Трупаков везде полно, ну, скелетов, а живых нет. Бабай говорит: пошли отсюда. Вышли мы всей толпой на площадь Тысячелетия, стоим. «Пирамида» тоже сгорела. Машины ржавые. Кусты какие-то. Дождь пошел. Тут кто-то сказал: может, в Цирке спрячемся? Пошли в Цирк. Там пусто, скелетов нет. Вообще ничего нет, только кресла гнилые и всякое барахло на складах цирковое. Бабай сказал: пока тут обоснуемся. И народ отпустил по домам, проверить, чё там и как. Проверили, блин. Многие вообще не вернулись, у человек двадцати крыша поехала.
Народ к вечеру подтянулся, рассказали, что в других районах творится. Везде одно и тоже — все заросло, заржавело. Разрушилось, погнило. И трупаки. Скелеты то есть. Мертвый город, блин. Электричества нет, воды нет, газа нет. Ничего не работает — ни компьютеры, ни телефоны.
Я в первый день домой не пошел — занят был. Лазил везде, на Сююмбике[13] забирался — Бабай попросил, посмотреть, может, что-то интересное увижу. Ни фига. Казань вся зеленая, в лесу как будто стоит. Дыма нет, самолетов, вертолетов, машин — ничего не видно. Все улицы, дороги — все заросло. В натуре, мертвый город.
Вечером Бабай велел костер зажечь перед Цирком — народ чтобы собирался. Зажигалки ни у кого не пашут, спички в ЦУМе надыбали, охотничьи. Они четко горят, фиг погасишь. Всю ночь люди подходили — и по одному, и толпой. Утром я к себе в Азино-2 пошел. Долго шел — Казань большая. У нашего дома половина сгорела. Наш подъезд тоже. Мамка дома была, когда пожар начался. Я ее нашел…
Короче, вечером в Цирк вернулся. Бухнуть надо было. Пошел в ЦУМ, водку нашел. Водка не испортилась, все путем. Нахреначился так, что прямо там отрубился, блин. Ник с Энкой меня искали и другие — Филатов видел, как я в ЦУМ ушел. Бабай, когда я очухался, по шее мне звезданул и сказал, что всё, больше никакого бухалова — сухой закон.
Не, он прав, конечно. Но иногда вмазать охота. И курить еще, блин. Сигареты, табак — все пропало, испортилось. Если не отсырело даже, то все равно курить нельзя — солома голимая.
Вот так и живем.
Глава четвертая
— Значит, ничего не принесли, — вздыхает Бабай, исподлобья глядя на Ника, Хала и Эн. — Это плохо. Едрит-трахеит, плохо! Есть хотите?
— Конечно, — за всех отвечает Ник.
— Идите к Анне Петровне, она жаркое делает. Сергей с мужиками кабана убили на Казанке.
— Э, кабан — дунгыз[14]! — деланно качает головой Хал, а у самого глаза смеются.
Бабай тяжело смотрит на него, и парень понимает, что шутка не удалась.
— Да чё, я так просто… Знаю — ночь сейчас. Аллах не видит, блин.
— Идите, — повторяет Бабай.
Оставив главу общины у центрального костра, ребята спешат к выходу с арены. Здесь находится импровизированная кухня — сложенные из старых кирпичей очаги, над которыми висят закопченные котлы и ведра с горячей водой. Сквозняк утягивает дым в подсобные помещения, но все равно глаза у нескольких женщин, добровольно вызвавшихся быть поварихами для всей общины, слезятся от гари.
Командует на кухне Анна Петровна — энергичная тетка за пятьдесят. Несмотря на свои годы, она выглядит по-спортивному подтянутой, и только морщины вокруг глаз и уголков рта выдают ее немалый возраст. В общине все признают авторитет этой женщины, считают ее правой рукой Бабая и доверяют самое ответственное и сложное — раздачу еды.
— А ну кыш! — в очередной раз прикрикивает Анна Петровна на стайку голодных ребятишек, вертящихся у парящих котлов в надежде урвать лишний кусочек мяса.
— Здрасьте, — приветствует женщину Ник. — Мы вот…
— Еще одни дармоеды, — ворчит Анна Петровна. — Фания, выдай им по урезанной — и все, шабаш, закрываем лавочку. Нам еще рыбаков кормить.
— А почему по урезанной? — оскорблено взвивается Хал. — Полную порцию давай, мы с утра не жравшие, блин! Кишка с кишкой в прятки играет…
— Цыц! — рявкает Анна Петровна, сердито сдвинув выщипанные бровки. — Вот я тебе повыступаю, балабол! Вы еды принесли? Хоть вишенку, хоть мышь дохлую? Нет? Значит — урезанные порции!
— На нас медведица напала, — робко вступается за всех Эн. — Там яблок было полно, но мы мешки не смогли забрать.
— Медведица? — щурится Анна Петровна, уперев в бедра красные руки. — Правда, что ли?
— Так и было, — подтверждает Ник. — А потом на нее тигролев набросился, и мы смогли убежать.
— Тьфу ты! — в сердцах женщина плюет себе под ноги. — А я уже поверила, дура старая! Всё, разговор окончен. Марш к Фание, а то вообще кормить не буду.
Получив по алюминиевой миске с мясом, тушенным с разной зеленью, корнем рогоза и крапивой, друзья отходят в сторону и усаживаются на продавленный бортик арены.
— Чай забыли! — окликает их Фания, полная добродушная татарка, работавшая раньше в столовой. — Чай хороший сегодня, на смородиновом листе! Улым[15], иди, забери!
Хал, отставив ополовиненную миску, идет за кружками.
— Они нам не верят, — кривится Ник, обращаясь к Эн. — Думают, мы врем всё про медведицу.
— Надо с профессором поговорить, — говорит девушка. — Поедим и пойдем, да?
Аркадий Иванович Мишарин и вправду был профессором, историком, специалистом по домонгольскому периоду в истории региона. Но поскольку в новом — голодном и опасном — мире его профессиональные знания оказались не востребованы, этому старику с седой бородой и обширной лысиной пришлось выполнять сразу несколько ролей: психолога, универсального интеллектуала, знающего ответы на самые сложные вопросы, и советника Бабая во всем, что выходило за рамки обычных хозяйственно-бытовых дел.
После ужина профессор обычно садился у центрального костра, и вокруг него тут же образовывался кружок желающих поговорить на разные темы и обсудить животрепещущие вопросы. Ник про себя называл эти сборища «клубом безжилетных пикинеров»: разговоры зачастую переходили в споры, споры — в пикировку, а пару раз доходило до откровенной ругани, и только вмешательство Коростылева и Семена не давало разгореться драке.
— Раньше все подобные вопросы обсуждались в интернете, — смеялся потом профессор. — Там всё просто: не нравится тебе оппонент — отключи его, забань, и вся недолга. А тут за каждое резкое слово ответ лицом держать приходится. Разучились мы искусству риторики, молодые люди. Интернет — это все-таки зло.
Аркадий Иванович отчего-то выделял среди общинников Ника, Хала и Эн и часто беседовал с ними перед сном.
— Наверное, тоскую по своим студентам, — говорил он. — Есть потребность общаться с молодежью. Вы уж простите старика, если я вам надоедаю.
— Что вы! — совершенно искренне прижимала руки к груди Эн. — Нам очень интересно, правда.
Тушеная кабанятина оказывается необыкновенно вкусной, не смотря на своеобразный привкус.
— Хорошо, но мало, блин, — собрав ложкой остатки подливки, сообщает друзьям Хал. — Ну чё, айда на боковую?
— Погоди, надо же про медведицу рассказать и про тигра этого. — Ник собирает тарелки, кружки, ждет, пока Эн допьет ароматный чай, и относит все «на мойку», где заправляет высокая, тощая, нервная женщина с удивительно не подходящим ей именем Снежана.
Посреди арены, у центрального костра, тем временем уже начинают кучковаться любители почесать языками. Дождавшись, когда к ним присоединиться профессор, Ник ведет своих друзей к нему. Довольно бесцеремонно растолкав постоянных участников «клуба безжилетников», он обращается к старику:
— Аркадий Иванович, мы сегодня… В общем, встретили медведицу и тигрольва.
— Интересно, интересно, — профессор, как это с ним всегда бывает в моменты задумчивости, начинает теребить седую бородку. — Тигрольва? А как он… м-м-м… выглядел?
Перебивая друг друга, ребята описывают хищника. Дослушав, Аркадий Иванович пораженно восклицает:
— Удивительно! Воистину, природа способна на любые сюрпризы. Знаете ли вы, друзья мои, что вам сказочно повезло? Вы наблюдали в естественных условиях одного из самых загадочных зверей на нашей планете, а именно лигра!
— Лигра? — переспрашивает Хал. — Чё, блин, так и называется?
На него шикают со всех сторон: молчи, мол.
— Именно лигра! Под этим именем скрывается помесь льва-самца и самки-тигрицы. Полученный в результате спаривания этих животных гибрид внешностью и повадками полностью совпадает с вымершим в плейстоцене пещерным львом, наводившим ужас на наших первобытных предков. Что особенно примечательно, лигры — естественная, природная форма жизни, она не выводилась искусственно. И самое главное: лигрицы, то есть самки лигров, могут давать потомство! Это совершенно не характерно для гибридов кошачьих, к примеру, тайгоны — помести самца-тигра и самки-львицы — свой род продолжить не могут.
— А как они выглядят-то, лигры эти? — подает голос подошедший Коростылев, тот самый, что сегодня вместе с десятком мужчин забил на болоте, образовавшемся на месте реки Казанки, кабана.
— Лигры огромны! — с воодушевлением отвечает профессор. — В длину они достигают пяти метров, а вес самцов превышает триста пятьдесят килограммов. Это намного больше размеров и веса даже самых крупных львов и тигров. Кстати, в природе раньше данный вид не встречался, потому что ареалы обитания тигров и львов практически не пересекаются. Хотя некоторые ученые считают, что в древности они были куда обширнее, и на их границе существовала устойчивая популяция лигров. Возможно — но это всего лишь гипотеза! — именно лигры и были теми легендарными ископаемыми пещерными львами, самыми грозными хищниками плейстоцена. Лигры очень похожи на один из подвидом пещерных львов, так называемых мосбахских львов. Это самые крупные кошачьи, жившие на Земле.
— А откуда у нас-то эти твари взялись? — продолжает спрашивать Коростылев, сбоку нависая над профессором.
— Это очень хороший вопрос, молодой человек! Тут нужно крепко подумать… — Обведя взглядом плотные ряды окруживших его слушателей, Аркадий Иванович спрашивает: — Есть версии?
— А чё думать-то, блин, — неуверенно усмехается Хал. — Сами же говорили — помесь льва и тигрицы.
— А откуда в Казани львы? — насмешливо интересуется кто-то из задних рядов. — Тут тебе не Африка.
— Откуда-откуда, — сразу же выпячивает челюсть Хал. — Из зоопарка, ясен пень!
— А кто их выпустил? — спрашивает тот же голос.
— А на фига выпускать? — Хал разворачивается всем телом в сторону своего оппонента. — Нам мастак в училище рассказывал случай. Мужик пьяный в зоопарк пришел, к клетке с тиграми. Там решетка высокая, метра четыре, с острыми концами и вовнутрь загнутая — ну, чтобы тигры не выскочили. Залез этот алкаш наверх и кинул в тигрицу пустую бутылку. Герой, блин. Ну, тогда тигр подпрыгнул и лапой его внутрь клетки смахнул. Потом голову ему откусил и спать пошел. Мастак говорил, жена того алкаша лет пять цветы к этой клетке приносила.
— И что?
— А то, блин! Все думали, решетка такая высокая, тигры ни в жизнь не перепрыгнут. А они, когда надо — раз! — и все дела.
— Молодой человек хочет сказать, — приходит на выручку Халу профессор, — что в экстремальной ситуации крупные хищники из породы кошачьих способны на действия, существенно превышающие наши представления об их возможностях.
— Ну, типа того, — удовлетворенно кивает Хал.
— Лигр, значит, — раздается за спиной Аркадия Ивановича голос Бабая. — А я не поверил сперва, признаться. Бывает, значит, такой зверь. Да еще и медведица с медвежатами… Хм… Вот что, дорогие товарищи! Давайте-ка с этого дня на окраины малыми группами — ни-ни. Ясно? Ночь уже на дворе, а у нас еще не все добытчики вернулись. Как бы чего…
— И рыбаков до сих пор нет, — говорит Анна Петровна. — Жалко мужиков. Двенадцать человек и Семен.
Наступает тишина. Никто не высказывает вслух опасение, что потеря тринадцати взрослых мужчин серьезно ослабит общину, но все всё понимают и без слов.
Народ начинает потихоньку расходиться — обычного вечернего толковища не получилось. Вскоре на арене остается лишь небольшая группа людей. Они сидят вокруг костра, разожженного на перевернутом ржавом «зиловском» капоте прямо посредине цирковой арены. Ник называет эту группу Советом общины. Помимо Бабая, профессора и Анны Петровны, в Совет входят фельдшер Цапко, электрик Коростылев, несколько женщин и мрачный человек по имени Семен, о котором никому ничего не известно. Фамилию его Ник не запомнил — что-то на букву «ч». Сейчас Семен отсутствует — он возглавляет бригаду рыбаков, ушедших на промысел еще утром.
— А ведь хищники — это на самом деле большая проблема, Рустем Сагитович, — обращается к Бабаю профессор. — И, боюсь, по мере того, как наша община будет расширять свою хозяйственную деятельность, она станет актуализироваться с каждым днем. Дело тут не только и не столько в лиграх. Это своего рода нонсенс, диковинка. Я не думаю, что этих зверей в окрестностях Казани много. Скорее всего, одна-две семьи. Но есть еще медведи, волки, наконец, дикие собаки…
— Что вы предлагаете? — спрашивает Бабай, не мигая глядя в огонь.
Наступает тишина, нарушаемая лишь треском костра и приглушенным гомоном общинников, располагавшихся на ночлег по всему Цирку.
В Цирке нас человек пятьсот, может, больше. Каждый день новые приходят. Иногда кто-то уходит. Женщин много, детей, стариков. Вместе не так страшно. А боятся все. Никто не знает, что делать, как жить. После пробуждения все вообще потерянные ходили, родственников искали, знакомых. Многие с ума сошли. У нас в общине таких человек тридцать. Хал их зовет «шизиками». Они, все почти, тихие, плачут часто, бормочут чего-то. Есть человек пять агрессивных, но их Бабай велел в клетки закрыть, которые раньше для зверей были. За «шизиками» ухаживают, все их жалеют.
Люди здесь вообще хорошие, заботятся друг о друге. Тем, у кого дети, помогают. Раньше, в том, нормальном мире, все не так было. Раньше мы каждый сам по себе жили. Профессор Аркадий Иванович говорит, что большая беда всегда сплачивает. Так во время войны Великой Отечественной было — и сейчас вот.
Но я чувствую, это все ненадолго. Люди боятся будущего. Все разговоры вокруг этого вертятся. Главных тем три. Первая, понятно — это про то, что с нами случилось. Тут одни предположения и гипотезы. И мы с Ником и Халом это обсуждаем, и другие, а толку никакого. Понятно только, что лет тридцать назад все люди вдруг заснули… А вот проснулись не все.
Слухи разные ходят — как будто бы есть в Дербышках, где-то за Компрессорным заводом, старик, который не уснул. Говорят, что он жил все эти тридцать лет один, ходил по городу и пытался пожары тушить, зверье отгонял от спящих, хотя звери вроде и не жрали людей почему-то… Старика называют Хранителем. Не знаю, правда это или вранье. Ник вот не верит.
Еще говорят про спасательный вертолет с МЧСовскими эмблемами — вроде видели, летал за Волгой. Про военных в бункерах под городом говорят, про людей, которые в метро живут. Это точно вранье, мы на три станции заходили — там затоплено все. Когда электричество отключилось, насосы перестали работать, и вода все залила. В метро нельзя жить.
Ну, и страшилки всякие рассказывают. Даже думать про это не хочется. Людоеды там, беглые зеки, сумасшедшие, не такие, как наши, а настоящие, из психбольницы. Про бандитов и мародеров, которые у слабых одежду и еду отнимают и всех убивают, тоже говорят. Наверное, это так и есть, мы же сегодня видели убитого. Аркадий Иванович сказал, что мародеры — это те, кто незаконно присваивает себе чужое имущество в атмосфере безнаказанности, обычно в бедственных ситуациях — например, во время природных катастроф или боевых действий.
Я тогда подумала — а мы кто? Ведь мы тоже присваиваем…
Еще есть страшилки про радиацию и химию. Я Казань плохо знаю, а местные все время про какой-то Химический институт рассказывают, где взрыв был, и вся отрава вокруг рассеялась. Там теперь вообще ходить нельзя. Вдохнешь — и сразу труп.
Вторая тема — это ожидание. Все ждут спасателей, ждут, когда нормальная власть в городе появится. Поэтому в вертолет очень верят. Женщины, так они вообще готовы разорвать любого, кто скажет, что никаких спасателей не будет, что везде, по всей стране, по всему миру — так же, как у нас. Я их хорошо понимаю. Думать, что всё вот это навсегда — страшно.
Мамочка, как же мне страшно!
А третья тема — ее обсуждают в основном те, кто реально на вещи смотрит. И тема эта — как жить дальше? Бабай сразу сказал: проблемы надо решать по мере их поступления. Вот сейчас с едой проблема — ее и решаем. С водой, одеждой, обувью вроде разобрались. Топлива для костров полным-полно, город же весь деревьями зарос. Но скоро осень, за ней — зима. В Казани не так холодно, как у нас в Иркутске, но все равно минус постоянно, и снега много выпадает. Коростылев предлагает дизельные генераторы искать — без электричества нам не выжить. Другие, Цапко например, думают, что как раз без тока обойдемся, а вот без лекарств, без витаминов зиму переживут не все.
Детей очень жалко. Они, бедные, ничего не понимают, грудные плачут все время. У одной женщины молоко от стресса пропало, так ее младенец орал от голода так, что хоть уши затыкай. Хорошо, его другая женщина взяла, стала кормилицей.
А девочка одна, лет трех, все время ходит по Цирку, подходит ко всем женщинам, дергает за руку и говорит: «Мама, пойдем домой». Где ее мама — никто не знает. Анна Петровна за этой девочкой присматривает, имя ей придумала — Светланка. Девочка и правда светленькая очень, глазки голубые. Что с ней будет?
Что с нами со всеми будет?
— Оружие нужно! — решительно заявляет Ник. — Ружья. А лучше — автоматы. И патронов побольше.
— Едрит-архимандрит, может, сразу пулеметы? — скептически смотрит на него Бабай.
Ник злится.
— Можно и пулеметы! — говорит он с вызовом.
— Иди, ищи. — Бабай зевает. — Только учти, ходили уже. Семен и Коростылев вот. По отделениям полиции смотрели. По охотничьим магазинам. Ржавое все, негодное. И главное — патроны.
— А чё, они тоже ржавеют? — влезает в разговор любопытный Хал.
— Порох разлагается при контакте с воздухом. Поэтому на всех коробках с патронами написано — я уже наизусть выучил: «срок хранения охотничьих патронов для гладкоствольного оружия — восемнадцать месяцев, охотничьих для нарезного — десять лет на складах в заводской герметичной упаковке и два года в негерметичной». Понял? Но это охотничьи, гражданские патроны. Армейские, наверное, не так. Семен вон сказал, что у цинка запаянного гарантийный срок хранения — пятьдесят лет. Только где их взять, цинки эти? У вас в Казани военных частей-то не осталось…
— Да есть, есть, блин! — едва не подпрыгивает от возбуждения Хал. — Я знаю…
— Баню надо сделать, — неожиданно говорит Бабай. — Воды натаскать, нагреть, ребятишек помыть, и самим тоже… Головы брить надо, а то вши заведутся.
Хал осекается, непонимающе смотрит на Бабая, а Ник вдруг понимает: сам он, Никита Проскурин, и Хал, и Эн — все они воспринимают происходящее, несмотря на весь его невозможный ужас, всё же как приключение, страшное, жуткое, но приключение, а вот для Бабая это беда. Большая, настоящая беда. И он действительно решает вопросы по мере их поступления. Оружие, лигры, медведи — это все где-то далеко, а сейчас главное: еда, одежда. Не зря Бабай на второй же день собрал всех, кого смог и отправил потрошить ЦУМовские склады. Теперь пришла очередь гигиены.
Нику становится стыдно, но отступать он не любит и поэтому упрямо нагибает голову:
— Ну, ладно, профессор прав: лигры там, тайгоны эти, их мало. Может, сюда и не придут. А медведи? Волки? Собаки дикие?
— Не зови беду по имени, — сурово сверкает глазами Анна Петровна.
Ник разводит руками. Вновь наступает тишина. Общинники затихают, даже дети перестают переговариваться.
— Ого-го! — неожиданно гремит на весь Цирк чей-то сильный голос. — Встречай, Родина, героев!
— Семен с мужиками пришел! — обрадовано вскакивает с ящика Анна Петровна. — Вернулись!
Из прохода, ведущего на арену, выходят усталые, но донельзя довольные рыбаки. Они сгибаются под тяжестью мешков, многие дополнительно несут в руках вырезанные из ивовых ветвей куканы, унизанные рыбой. Топорщатся во все стороны антенны удочек и спиннингов, волочатся по полу мокрые капроновые сети.
— Уф! — тяжело выдыхает Семен, опускаясь возле Бабая прямо на пол. — Ну и рыбалка… С утра как закинули — так до темна и таскали. Рыбы там — во!
И он грязной ладонью рубит себя по красной от свежего загара шее.
Остальные рыбаки, подойдя, располагаются вокруг костра. У всех у них усталые, но счастливые глаза, лица, как и у Семена, сильно загорели. Анна Петровна уже суетится возле «кухни», поднимая свою поварскую команду.
— Кушать, мальчики? Мяса вам оставили, свининки…
— Да мы там, на реке… — вяло отзывается кто-то. — Рыбки пожарили.
— Попить бы горяченького и в люлю, — поддерживают его остальные.
— Докладываю. — Семен смотрит снизу вверх на Бабая. — Волга действительно вся ушла под правый берег, узкая стала. Течение сильное. Утром сразу две сетки поставили — вечером еле вытащили — потом поднялись выше по течению, малька наловили в заводи для живца. Резинки закинули, спиннинги — и пошло! Судаки — по три килограмма, жерех метровый, стерлядь берет, сом, щука, окунь, горбатый, под кило. Вот это рыбалка, я понимаю!
— Я всю жизнь рыбалю, но никогда такого не видел, — поддерживает своего бригадира один из рыбаков.
— Ух ты! — восхщается Ник, сам неравнодушный к рыбалке. — Здорово!
— Алла берса[16], — спокойно говорит Бабай. — Анна Петровна, собери женщин — всю рыбу выпотрошить, присолить и на продув развесить. Завтра тузлук[17] сварим, в бочки положим.
Снежана и Фания разносят разомлевшим у костра рыбакам чай. Ник придвигается вплотную к Бабаю, тихо спрашивает:
— Ну, а всё же — на счет оружия? Звери ведь… тигрольвы, медведи…
Бабай упирается короткими руками в колени, с кряхтением поднимается со стула и говорит, ни на кого не глядя:
— Зоопарк потом смотреть будем. Сейчас людей кормить надо. Мыть надо. Завтра будем много рыбы ловить. Солить, коптить, вялить. Все пойдут. А вы, — он поворачивает голову к Нику, Эн и Халу, — соль поищите. Много соли — в запас. Всё, спать давайте. Ночь уже.
По Цирку плывет сладковатый запах свежей рыбы — это мобилизованные Анной Петровной женщины дружно берутся за работу. Вытряхивая из полиэтиленовых пакетов рыбу, они взрезают тугие животы, вычищая внутренности. Анна Петровна лично солит каждую — чтобы не испортилась до завтрашнего дня — и развешивает на натянутый поперек служебного прохода трос.
— Ой, батюшки, она живая! — заполошно взвизгивает кто-то.
Слышится мокрое хлопанье рыбьего хвоста о пакет, женский смех.
Рыбаки, допивая на ходу смородиновый чай, расходятся с арены. Их окликают, спрашивают подробности, но у мужиков совсем не осталось сил.
На ночлег общинники устраиваются на уцелевших креслах, в проходах, на полу, на ступеньках — кто где. Верхние ярусы амфитеатра, скрытые мраком, остаются пустыми: никто не хочет удаляться от костра. Люди инстинктивно чувствуют в огне защитника.
— Это генетическая память, — вздыхает Аркадий Иванович, устраиваясь рядом с ребятами. — В каждом из нас живет пещерный предок. Шелуха цивилизации слетела — и вот вам, пожалуйста, кроманьонцы пробудились. Цирк — это наша общая большая пещера. Огонь греет, огонь отпугивает зверей. Огонь — божество.
— И все-таки надо добывать оружие! — не слушая профессора, горячо говорит вполголоса Ник. — Допустим, звери сюда не пойдут. А люди? Мы же видели мертвого. Его убили! И убили не звери! Голову отрезали… Ну, вы-то понимаете, что без оружия нам…
— …капец, — заканчивает за него Хал.
Эн нервно хихикает. Аркадий Иванович снова вздыхает.
— Молодые люди, я понимаю и, поверьте, разделяю вашу тревогу. Но и вы поймите нас, старшее поколение… Голод — это ужасно. Угроза голода стократ страшнее всех прочих вызовов, что бросает нам дивный новый мир.
Когда все ложатся, Хал приподнимает голову и шепотом спрашивает:
— Эта… А нафига вы новый мир дивным назвали?
— Была такая книга, — тоже шепотом отвечает Аркадий Иванович. — Написал ее английский писатель Олдос Леонард Хаксли. Называлась она «О дивный новый мир».
— Там про нас, что ли?
— Отчасти, молодой человек. В том смысле, что Хаксли описал антиутопическое устройство будущего.
— А-а-а… — разочаровано тянет Хал. — Фигня, короче, блин.
— Эй, давай спать уже! — недовольно бурчит Эн, переворачиваясь с боку на бок.
Хал хочет огрызнуться, но тут в проеме главного входа возникает силуэт одного из сторожей. Громко топая, он выбегает на арену и останавливается возле дремлющего у центрального костра на лежанке Бабая. Женщины, чистящие рыбу возле «кухни», недовольно отвлекаются от работы.
— Атас! — Хал вскакивает, напряженно вслушиваясь. — Чё-то случилось, блин. Зуб даю!
Ник тоже поднимается, на всякий случай подтянув к себе ржавую арматурину. Эн демонстративно отворачивается — она хочет спать.
Сторож — им оказывается кучерявый малый Жора по прозвищу Домовой — тычет пальцем в сторону выхода и что-то втолковывает Бабаю про какие-то песни.
— Айда, позырим! — Хал дергает Ника за рукав.
— Эн? — поворачивает тот к девушке.
— Я сплю!
— Идите, молодые люди. — Профессор садится, хрустнув суставами, вытягивает ноги. — Я присмотрю за нашей…
— Ага, щас! Эксо-эксо, Кэнди! — Эн немедленно вскакивает. — Что там у вас?
Хал, перепрыгивая через ступеньки, уже бежит к арене. Ник и Эн устремляются за ним.
Цирк понемногу оживает — люди поднимаются, переговариваются. Отовсюду слышится:
— Что случилось?
— Что там?
— Тревога?
— Тихо! — подняв руку, рычит Бабай. — Все в порядке, спите! Просто человек пришел. Новый.
— Песни поет! — вякает из-за его спины Жора, тряся кудрями.
Хал пробегает вдоль бортика арены, застывает возле входа и вдруг начинает пятиться. Ник, остановившись в паре метров позади, вскидывает арматурину.
Из темноты выплывает тяжелый, низкий бас:
— Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри мен-я-я-я!
Слова гудят набатом. Это не стихи, но и не песня, а скорее какой-то варварский гимн, псалом, полный внутренней силы, мощный и пугающий.
Эн ойкает. Хал отступает в сторону. Бабай, наоборот, делает пару шагов по направлению к черному зеву выхода и растопыривает толстые руки, точно хочет остановить то, что прет из тьмы. Жора нелепо оглядывается, ища, куда бы спрятаться.
— Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня-я-я-я! — ревет бас. — Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня-я-я-я!
Мрак колышется. Ник угадывает в нем высокую человеческую фигуру, широким шагом движущуюся по проходу.
— Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратя-я-я-ятся! — дорёвывает последний строки псалма бас, и в круг света вступает мужчина огромного роста, весь в черном, косматый, до самых глаз заросший густой бородищей.
Сжимая в руке суковатую палку с прикрученным алюминиевой проволокой позеленевшим медным крестом, незнакомец встает перед Бабаем, смотрит на него сверху вниз, гулко пристукивает посохом и заканчивает псалом на невероятно низкой ноте:
— А-а-а-а-м-м-ми-и-и-н-н-нь…
Глава пятая
— Еще один шизик. — Хал плюхается на пол возле Ника, профессора и Эн. — Слаб на башку народ, блин.
Цирк постепенно успокаивается. Люди укладываются, шикают на детей, Бабай возвращается к костру, заваливается на лежанку, закрывает глаза.
Возле вновь прибывшего хлопочут женщины, в основном пожилые — о чем-то спрашивают его тихими голосами, а он, задрав бороду, неразборчиво гудит в ответ колокольным басом. Ник следит за пришельцем, прикрыв глаза, и уже готовится соскользнуть в сонный омут, как вдруг бородач поднимается во весь свой немалый рост, выставив руку с посохом так, что крест оказывается высоко вверху, и провозглашает на весь Цирк:
— Господь послал рабам своим испытание! Помолимся, братья и сестры, как деды и прадеды наши молились. Отче наш, Иже еси на небесах…
И удивительное дело — никто не кричит на него, как на других шизиков, никто не выражает неудовольствие, что, мол, нельзя шуметь ночью, люди ведь спят — и все такое… Со смешанным чувством удивления и досады Ник наблюдает, как старухи вокруг пришельца начинают опускаться на колени, как взлетают руки с собранными в троеперстие пальцами. Многоголосый хор плывет над ареной:
— Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли-и-и…
Все новые и новые люди поднимаются со своих мест, присоединяясь к горстке молящихся. Голоса умножаются, взлетают под самый купол:
— Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго-о-о…
И все покрывает тяжелый бас бородача:
— А-а-а-а-м-м-ми-и-и-н-н-нь…
— Я этого монаха видала, — слышит Ник тихий говорок какой-то женщины, вместе с парой товарок устроившейся через три ряда от них. — В Раифском монастыре, на Пасху.
— Важный чин, небось? — спрашивает кто-то.
— Ну, важный или нет — не знаю, а только он во время крестного хода самую большую хоругву нес.
— Кому попало не доверят, — уверенно вмешивается в разговор еще один женский голос. — Бабы, а чего мы лежим-то? Айдате, помолимся с остальными. Без веры нельзя…
Женщины поднимаются, встают, поправляя лохмотья, повязывают головы тряпками и одна за другой начинают спускаться вниз, к арене.
— Не хочу оказаться провидцем, но явление данного человека может принести вред всей общине, — вдруг произносит профессор.
Он тоже не спит и, подобно Нику, следит за разворачивающимся внизу богослужением.
— Почему, Аркадий Иванович? — шепотом интересуется Ник.
— Нынешняя ситуация, молодой человек, как никакая другая располагает к религиозному фанатизму. Верующим нужен только толчок, запал, детонатор, если угодно. И все, взрыв. Жаль, что среди нас нет настоящего священника, грамотного и рассудительного батюшки, который смог бы дать окорот этому несчастному.
— А разве нужен этот самый… окорот?
— Наш гость явно не в себе, но его помешательство особого свойства. Не удивлюсь, если он имел душевное расстройство еще до… хм-хм, катастрофы.
— Братья и сестры! — басит на арене монах. — Помолимся теперь обо всех погибших и умерших, о детях, отцах, матерях и родных наших! Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего, сестры нашу, всяк имя свое скажи…
И десятки голосов вразнобой, торопливо частят, выкрикивая имена родственников.
— …отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя, — Монах возвышает свой голос.
Нет, не голос это уже, а глас, гремящий на весь Цирк!
— Аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда!
Кто-то из молящихся женщин вдруг громко вскрикивает, слышатся рыдания. Даже у мужчин увлажняются глаза. Монах воздевает руки к куполу, пучит безумные глаза и в экстазе заканчивает молитву:
— Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амии-и-и-и-инь!
— Батюшка, благослови! — истерически выкрикивает рыдающая женщина и поднимает на вытянутых руках мальчика лет пяти.
Ребенок тоже плачет, но, похоже, от страха.
«А ведь профессор прав, — думает Ник. — Не к добру явился этот Монах…»
— Рыбы. Христов знак. — Монах хватает метрового судака и высоко поднимает над головой. — Знамение! Божье знамение!
Люди вокруг снова крестятся. Многие женщины всхлипывают.
— Почему — «Христов знак»? — шепотом спрашивает Эн у профессора.
— Рыбы изначально считались символом Христа, — тоже очень тихо отвечает он. — По-гречески рыба будет «ихтис», это первые буквы фразы «Иисус Христос Теу Хуос Сотер». Изображение рыбы было секретным знаком первых христиан, чем-то вроде пароля. Все одно к одному, одно к одному…
— Вы о чем?
— Не нравится мне все это. — Аркадий Иванович сердито дергает себя за седую бородку. — Этот человек — классический истероид. В совокупности с религиозным фанатизмом это — взрывоопасная смесь, я уже говорил.
Ник, прислушавшись к разговору, кивает, соглашаясь:
— Я вот тоже смотрю, как бы наша община не превратилась в секту. Уж очень много потенциальных желающих.
— Может, людям просто вера нужна? — заступается за верующих Эн. — Ну, опора такая в жизни, психологическая. Страшно ведь!
Профессор через силу улыбается.
— Конечно, Наташенька, вы совершенно правы. Вакуум веры. А человек без веры жить не может. Ну, или может, но только очень непродолжительное время — пока борется за выживание. И как только проблема выживания становится хоть чуть-чуть не актуальной, вот как у нас, как только наступает пусть даже призрачная стабильность — тут же возникает необходимость на что-то опереться в духовном плане. Как говорили в старину: «Человек без веры — что светоч на ветру», понимаете?
— Ну, то есть как свечка? Любой ветерок задуть может? — предполагает Эн.
— Именно — любой ветерок. Это, конечно, фигура речи, но она имеет большой подтекст: верующий обладает внутренним стержнем, виртуальным, воображаемым, конечно же, но все же. И тем самым выгодно отличается в пиковых ситуациях от человека, веры не имеющего.
— От атеиста?
— Ну, атеист — это немножко другое. Он тоже верует. Верует в то, что Бога нет.
И профессор тоненько смеется, тряся бородкой.
Я в Бога не верю. Ну, точнее, я в церковь не хожу. А Бог, он, может, и есть. Не такой, естественно, как в кино, мультиках или на картинках, не старик с седой бородой.
Бог — это что-то непостижимое, Космический разум там или Природа. Вот такой Бог и создал наш мир — и звезды, и планеты, и галактики, и все живое. Понятное дело, что для существования всего этого нужна гармония и порядок. Чтобы они были, каждый человек обязан совершать добрые дела и не совершать злых. Примитивная теория, конечно, но у меня другой нет. Это во-первых. А во-вторых — для меня она понятнее той, которую предлагает церковь.
И потом: я так думаю, что если уж ты крещеный, верующий, на службы ходишь, то должен все делать в точности с церковными законами — посты соблюдать, никогда не грешить, следовать заповедям разным и все такое прочее. А у нас кто так живет? Сами же священники — первые нарушители. Ну, и остальные тоже. Когда по большим праздникам религиозным показывают храмы, в которых стоят первые лица государства, олигархи всякие, министры, мне всегда смешно. Я Библию читал, несколько раз. Там есть такое словечко: фарисеи. Это те, которые «говорят, но не делают». В общем, я не люблю лицемеров.
Еще я не понимаю, для чего вообще верующему человеку посредник между ним и Богом? Чем занимается церковь — не только у нас, а вообще, во всем мире? По-моему, она уже давно стала коммерческой структурой. Они же души должны спасать, а не купола золотить!
И еще: для меня церковь всегда связана со смертью. Это, наверное, потому, что умерших у нас всегда хоронят по церковным правилам — батюшка приходит, старухи какие-то в черном, поют всякие церковные гимны или псалмы. Для меня запах восковых свечек — это запах смерти. И дед когда умер, и бабушка… У нас тренер есть, пожилая женщина, бурятка, но очень верующая, православная. Мы с ней однажды спорили на эту тему. Я ей: «Кресты на могилах ставят, это символ смерти». А она: «Ты молодой еще и ничего не понимаешь. Крест — символ спасения!» Еще она сказала, что я — агностик, но это возрастное и пройдет.
Наверное, я действительно не дорос, что ли, до понимания… Но мне кажется, что вот люди старшего поколения, которые верят и в церковь ходят — это не значит, что они доросли. Просто они боятся смерти, боятся, что после того, как сердце остановится, ничего больше не будет. И верят они не столько в Бога, сколько в загробную жизнь, в рай, ад и Страшный суд. Им так легче закат жизни встречать.
Поэтому, когда Монах у нас появился, все к нему потянулись сразу. Он мужик харизматичный, по-церковнославянски так и сыплет, «Откровения Иоанна Богослова» наизусть выдает. Признаюсь, даже мне не по себе стало, когда он читать начал: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?[18]»
Вообще, после молитвы и благословления много желающих нашлось с Монахом поговорить. Люди ему вопросы задают: «Что случилось? Почему, за что нас Бог наказал?» А он в ответ как раз Апокалипсис и начал цитировать. Дошел до момента: «И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее».
И замолчал. Стоит, поверх голов смотрит, борода как черное пламя. И глаза горят. Профессор тут захихикал тихонечко и шепчет мне: «Вот кем он себя возомнил, оказывается!»
А Монах про грехи начал, про то, что свершилось, сбылось пророчество Святого Иоанна, и мы уже как бы все в мире Апокалипсиса и живем. И что шесть печатей уже сняты, оттого весь наш старый мир разрушился, и множество грешников погибло. И вот снята седьмая печать: «и воцарилась на небе тишь как бы на полчаса».
В общем, мы все сейчас — за седьмой печатью. Вроде как на испытательном сроке у Господа. И теперь только от нас зависит, как и что с нами дальше будет. Нет, теория интересная и даже правильная в чем-то. Вот только не нравится мне, что Монах это все как бы под себя придумал. То есть мы все слепые и глупые, не дотумкали сами, а он вот пришел, весь такой просветленный, и всё всем растолковал.
А с другой стороны — я вот с религией, с попами не во всем согласен. Покаяние, грехи, «подставь другую щеку»… Но раз христианство две тысячи лет существует, значит, что-то в этом есть, не просто так люди в церкви ходят, верят, надеются.
Сложно всё. Я когда об этом думать начинаю, как слепой становлюсь. Блуждаю впотьмах без фонарика. Наверное, надо просто спать лечь. Это сейчас правильнее всего будет…
Цирк спит. Ночь перевалила за полночь. Кудрявого Жору и его напарника, болезненного пенсионера по кличке Аппендикс, у уличного костра сменяют Коростылев и Ринат Ахметзянов. Они усаживаются у огня, Ринат подбрасывает в костер наломанных загодя сучьев, и веселое пламя отодвигает темноту, даря людям свет и тепло.
— Луна какая, — хриплым со сна голосом говорит Коростылев.
— Как в фильме про оборотней, — усмехается Ринат и чешет большой, горбатый нос. — Я любил ужастики смотреть раньше.
— Тьфу ты! — Коростылев сердито смотрит на напарника. — Чтоб тебя змея укусила! Нам только оборотней тут и не хватало.
Ринат снова усмехается, на этот раз невесело.
— Ну, спасибо за пожелание, коллега. Знаешь, что высказанное вслух имеет особенность сбываться?
Ахметзянов, как и Коростылев, работал электриком в гостиничном комплексе на «Комбинате здоровья», они давно были знакомы и часто беззлобно подтрунивали друг над другом. Но сейчас, похоже, Ринату становится не до шуток.
— Тьфу-тьфу-тьфу! — стучит по кривой липовой ветке Коростылев. — Это я так, к слову. Извини.
Ругательство про змею появилось уже после пробуждения. Змей в Казани за время отсутствия людей развелось множество. В основном это безобидные ужи, медянки, но часто встречаются и гадюки, облюбовавшие многочисленные подвалы и канализационные колодцы. За неделю гадюки покусали уже четверых общинников, а поскольку никаких лекарств нет, лечат бедолаг народными средствами — отсасывают яд, прижигают места укусов. Все четверо лежат в будке униформистов под присмотром фельдшера Цапко с распухшими, как бревна, ногами, страдая от постоянно высокой температуры. Цапко поит их отварами из подорожника и листьев малины, делает какие-то примочки. Больным лучше, но о выздоровлении пока речи не идет.
— Детей берегите! — каждый день втолковывает общинникам фельдшер. — Взрослый организм еще может сопротивляться яду, а детский…
И он грустно машет рукой.
Цапко постоянно мучается от отсутствия возможности проявить свое врачебные таланты — медицина без поддержки фармацевтики оказалась беспомощной и бессильной, а народная — неэффективной. Единственный лекарственный препарат, прошедший испытание временем и имеющийся у фельдшера — марганцовка. Цапко каждый день готовит несколько ведер раствора, заставляя всех, а особенно детей и работающих на кухне женщин, мыть этим раствором руки.
— Не дай Бог дизентерия! — как заклинание повторяет Цапко. — Кишечные инфекции, сальмонеллез, холера… Мы все вымрем!
Фельдшера в Цирке прозвали Паникером, но Бабай к нему всегда прислушивается.
Томительные минуты ночного дежурства тянутся, как резиновые. Мужчины у костра уже обсудили удачную рыбалку, поговорили о будущем, сойдясь во мнениях — ничего хорошего ждать не приходится, зима идет. Потом разговор сам собой прерывается. Чтобы не уснуть, Коростылев поднимается и начинает бегать по площадке перед входом в Цирк, размахивая руками.
Ринат приносит из-под крыльца охапку сухих веток, смотрит на величественно плывущую среди обрывков облаков в темном небе Луну.
— Часа три, наверное. Скоро смену будить.
Часы в общине ни у кого не работают, и время люди меряют на глазок, а ночные дежурства отсчитывают по прогоревшим кострам. Четыре костра — смена. Сейчас как раз догорает четвертый.
— Доброй ночи, мужики! — раздается вдруг из темноты спокойный и уверенный голос.
— И вам того же, — быстро повернувшись на звук, отвечает Коростылев, на всякий случай нашарив рядом с кучей дров топор.
— Ты топорик-то брось, брось, — насмешливо советует голос. — И другану своему скажи, чтобы к костру подошел.
Друган, то бишь Ринат, тем временем пятится к входу в Цирк: согласно установленному Бабаем правилу, в случае появления незнакомых людей один из сторожей должен сразу будить главу общины.
— Ты выйди, покажись, — предлагает побледневший Коростылев, мельком глянув на Рината. — И командовать тут не надо. У нас свои законы.
— А у нас свои, — отвечает голос.
Следом в темноте раздается звук, хорошо знакомый каждому мужчине, отслужившему срочную службу — резкий металлический лязг, разбитый на два такта.
Коростылев бледнеет еще сильнее — неизвестный передернул затвор Калашникова. Ринат продолжает отступать к входу.
— Чего надо-то? — через силу спрашивает Коростылев.
— Если второй не вернется к костру — стреляю на счет три, — голос по-прежнему звучит спокойно и уверенно. — Раз! Два!
— Все, все! — Ринат бросается обратно и частит: — Чего ты, мужик? Нас тут много, если что…
— Много — это хорошо, — со смешком произнес неизвестный и резко командует: — Симонов, Коваль, Беляш — вход!
Из мрака появляются три высокие фигуры, быстро и бесшумно занимают позиции возле дверей, ведущих в здание Цирка. Коростылев замечает в руках неизвестных укороченные автоматы АКСУ.
— Вы военные, что ли? — спрашивает он дрогнувшим голосом.
— Много будешь знать… — отвечает темнота, и тут же следует новый приказ: — Стеценко, Ахтырцев, Григорьев, Панарин, Кислый — заходим. Ребус, Кидняк, Мышь — со мной. Остальные — проверить задний вход.
Мимо костра пробегают несколько человек — Коростылев успевает заметить камуфляжную форму, по вороненому металлу автоматов скользят тусклые отблески кострового огня. И только после этого в освещенную мятущимся пламенем зону вступает тот, кто отдавал команды. Высокий, плечистый мужчина под сорок, с серыми, холодным глазами. За его спиной угадывается несколько силуэтов.
Коростылев заглядывает в эти глаза — и видит там свою смерть. Это какое-то секундное озарение, откровение свыше — бывший электрик вдруг ясно понимает, что через мгновение его не станет.
Вскочив на ноги, он отчаянно кричит:
— Тревога! Трево…
Свистит брошенный нож, и Коростылев, поперхнувшись криком, булькает, хрипит и валится рядом с костром. Потрясенный Ринат видит рукоять ножа, торчащую прямо из кадыка напарника.
— Мышь, второго! — приказывает человек с холодными глазами.
Гибкий, ловкий парнишка выскальзывает из темноты, и прежде чем Ринат успевает крикнуть, узкий, тонкий клинок пронзает его грудь и рассекает сердце…
Ник просыпается и сам не понимает, что его разбудило. Все вроде бы как всегда — вокруг спят сотни уже ставших хорошими знакомыми людей. Вот кто-то вскрикивает во сне, кто-то переворачивается с боку на бок, шурша палаточным полотном, с разных сторон доносится приглушенный храп. Спальных мешков, найденных в туристическом отделе ЦУМа, на всех не хватило, и общим решением их отдали матерям с маленькими детьми и старикам, мерзнувшим даже на солнце. Все остальные спят на чем придется, а в качестве одеял используют куски синтетической палаточной ткани.
Прислушавшись — вроде все спокойно — Ник поднимает голову и оглядывается. Костер, горящий обычно посреди арены, почти погас. Серый пепел подернул угли, и Цирк погрузился в темноту. Тишину нарушает лишь дыхание спящих да мерное бормотание невидимого во мраке Монаха, который сидит у дальнего выхода с арены и молится, перебирая узловатыми пальцами насечки на посохе.
Осторожные шаги нескольких человек заставляют Ника встрепенуться. Вцепившись руками в сломанное сидение, он таращится в темноту, пытаясь не столько разглядеть, сколько понять — кому не спится в столь поздний час? Если это сторожа, то почему они ступают так тихо, ведь большинство мужчин в общине носят резиновые сапоги, которые громко бухают при ходьбе?
Луч фонарика, прорезавший густую тьму, пугает Ника. Все фонари и батарейки к ним, найденные в ЦУМе и других магазинах, давно пришли в негодность.
Этого просто не может быть — работающий фонарик!
Однако не верить своим глазам Ник никак не может — вот к первому лучу присоединяется второй, третий, четвертый. Пятна желтоватого света шарят по арене, по рядам амфитеатра, по спящим, пока, наконец, не сходятся в одной точке: на лежащем возле центрального костра Бабае.
— Э! — тихо говорит кто-то. Слышится звук несильного удара. Ник напрягает слух. — Подъем, мужик! Кто старший?
— Вроде как я, — хрипло бормочет Бабай. — Вы кто?
— Буди народ! И огня побольше. Живо!
Один из фонариков на мгновение высвечивает человеческую фигуру, и Ник холодеет от волнения — пришелец в военной форме и с оружием! Значит, правы были те, кто говорил, что помощь придет! Значит, не все погибло, есть армия, есть государство, власть — и эта власть вспомнила о несчастных обитателях Цирка!
Бабай возится, поднимаясь. Хрустят ветки, большая охапка их ложится на еле светящиеся угли и сразу слышится треск, валит дым — едва не умерший огонь с жадностью набрасывается на топливо. Становится светлее, и Ник видит, что пришельцев в форме много, человек двадцать.
Целый отряд! Силища!
— Вставайте! — радостно кричит Ник, поднимаясь на ноги. — Люди, ау! Подъем! У нас гости! Вставайте!
— Поднимайтесь! — кричит и Бабай, сопровождая слова громкими хлопками ладоней. — Важное дело!
Минуту спустя Цирк гудит, словно растревоженный пчелиный улей. На арене полыхают, рассеивая мрак, уже с десяток костров. Несколько растерянный Бабай топчется возле рослого, светловолосого мужчины в новеньком, отглаженном камуфляже. По периметру расположились остальные пришельцы, вооруженные укороченными автоматами Калашникова. Ник, следом за профессором, Халом и Эн спускаясь на арену, обращает внимание на белые повязки на рукавах военных.
Гостей разглядывает не только он. Общинники переговариваются, делясь впечатлениями:
— Гляди-кось, бритые все! Волосы чистые. А форма-то, форма! Настоящая, новая! И берцы начищены. Дождались, слава тебе Господи! Дождались…
— Ну, — громко интересуется светловолосый, в свою очередь разглядывая собравшихся вокруг арены заспанных, помятых людей. — Проснулись? Извините за ночное вторжение, со временем у нас туго.
— Да ничего, ничего! — отвечают ему сразу несколько голосов. — Главное — вы пришли.
— Это точно, — кивает светловолосый. — Мы пришли. Разрешите представиться: майор министерства внутренних дел Асланов, Анатолий Дмитриевич.
— Дяденька, — тонким голосом спрашивает вездесущая Светланка, теребя Асланова за рукав. — А что это за тляпочка?
Майор поднимает руку, и все видят белую повязку, на которой отчетливо выделяется черный круг, а внутри него две буквы: «АК». Ник пихает Хала локтем, кивает на арену:
— Вот это чей знак!
Хал шмыгает, хмурит брови. Он, в отличие от большинства общинников, не выглядит радостным. Ник решает, что это из-за незапланированного подъема — парень любит поспать и спросонья всегда злой и дерганный.
— Это, девочка, не тряпочка, а отличительный знак, — с широкой улыбкой отвечает Светланке Асланов. — АК — это значит Администрация Казани, временный орган, созданный нами для наведения порядка в городе и спасения людей. Ну, иди к маме, девочка.
— Где моя мама? — тут же переключается Светланка.
Из толпы выскакивает Анна Петровна, подхватывает ребенка на руки.
— Всякая власть — да от Бога! — гудит из задних рядов Монах.
— О, у вас и батюшка есть, — Асланов продолжает улыбаться. — Я смотрю, ваша община — одна из самых организованных в городе. Это хорошо. Это очень хорошо. Но… — Он становится серьезным, сгоняет с лица улыбку и продолжает: — Едва не проспали вы себя, дорогие товарищи. Да, именно так! В городе неспокойно, появились вооруженные банды мародеров. Грабят, насилуют, убивают…
— Ой, Господи! — вскидывается какая-то женщина.
— Этой ночью, — теперь голос Асланова звучит жестко, в нем отчетливо лязгает железо: — Этой ночью мы выслеживали такую банду. Оказалось, что мародеры готовили налет на вашу общину. К сожалению, к великому моему сожалению, мы не смогли помешать им напасть на ваших дозорных. Да, товарищи, да. Эти люди пытались поднять тревогу, но заплатили за это своими жизнями. Симонов, прикажи принести тела…
— Рина-а-ат! — ударяет под самый купол отчаянный и безнадежный женский крик.
Асланов опускает голову, сокрушенно разводит руками. Бабай темнеет лицом.
— Как же так? Обоих?
— Обоих, отец. Ножами.
— Вы нас защитите? — с надеждой спрашивает Анна Петровна, прижимая к себе Светланку.
— Конечно, — уверенно успокаивает ее майор. — В настоящий момент часть моих людей преследует банду, и я даю вам слово офицера — они получат по заслугам. Поскольку в городе объявлен режим чрезвычайно ситуации, а это фактически означает, что наступило военное время, по законам этого времени мы имеем право не задерживать особо опасных преступников, а уничтожать их на месте.
— И правильно! И хорошо! Так и надо! — гудит сразу весь Цирк.
— И аз воздам! — рявкает Монах, пристукнув посохом.
На арену вносят окровавленные тела Коростылева и Рината. Женщины плачут, слышатся детские крики. Жена Ахметзянова с воплем бросается к трупу мужа, обхватывает неподвижное тело, прижимается к нему.
— Унесите, — бурчит Бабай и машет в сторону служебных помещений. — Туда, туда!
Мертвецов уносят. Народ понемногу успокаивается.
— Так что, — подытоживает Асланов, — отныне вы все под надежной защитой! Утром к вам прибудет отделение автоматчиков, они и будут нести караульную службу. Естественно, товарищи, на вас ложится обязанность обеспечивать их всех необходимым: водой, продовольствием, помещением для проживания.
— Обеспечим, — кивает Бабай.
— И вот еще что, — буднично продолжает майор. — Ситуацию в городе вы знаете. Тяжело всем, и нам в том числе. Особенные трудности мы испытываем с продуктами питания, а личный состав нужно кормить. У вас, я гляжу, была вчера удачная рыбалка… — Он указывает поверх голов на гирлянды развешанной в проходе рыбы. — А у меня бойцы сутки ничего не ели. Сами понимаете: голодный солдат — не вояка. Так что уж поделитесь, вы завтра еще наловите.
— Конечно, поделимся! — слышится со всех сторон.
Бабай кивает — мол, забирайте.
— Человек десять мужиков покрепче выделите, донести рыбу до нашей базы, — просит его Асланов. — Это тут, неподалеку, в Кремле. И нам бы еще народ — порядок в казармах навести, полы помыть, окна, пыль вытереть. Людей не хватает, отец. Женщины! — вскидывает он голову. — Поможете?
— А как же! — задорно кричит разбитная Лена Телегина, тридцатилетняя продавщица из ЦУМа. — Девчонки, ведь поможем?
— Конечно, поможем! — отзывается дружных хор женских го shy;лосов.
— Много не надо, человек двадцать в самый раз будет, — несколько охлаждает их порыв майор. — Тряпки, ведра — у нас все есть.
— Простите… — К Асланову протискивается фельдшер Цапко. — А лекарства? Есть у вас аптечки, препараты, медикаменты?
Майор с высоты своего роста смотрит на фельдшера и улыбается:
— Всему свое время, товарищ. Всему свое время…
Глава шестая
Сразу после Асланова, который отходит в сторону и принимается беседовать с Бабаем, Анной Петровной и Семеном, на центр арены выбирается Монах. Воздев крест, он провозглашает:
— Помолимся, братья и сестры, возблагодарим Создателя за счастливое избавление от смертных мук! Вознесен хвалу славным ратникам Христовым, заступникам нашим!
Народ сгруживается вокруг него, хором повторяя слова молитвы.
— Ну, молодые люди, — улыбается Аркадий Иванович. — Как говорится в известном анекдоте — жизнь налаживается. Вы не поверите — я с самого начала был убежден, что власть в городе обязательно появится и наведет порядок.
Ник улыбается в ответ:
— У меня такое чувство, Аркадий Иванович, что дышать стало легче.
— Конечно, Никита, конечно. Вы получили то, без чего человек попросту не может существовать.
— Что же?
— Надежду! А те, кому была необходима еще и вера, обрели ее чуть раньше. Сегодня воистину удивительная ночь, ночь радости, — профессор искренне смеется.
— Чего радоваться-то, — глядя себе под ноги, ворчит Хал. — Я этого майора помню. В ментовке работал, у нас, в Советском районе. Он тогда капитаном был. Оборотень в погонах, блин.
Аркадий Иванович переглядывается с Ником, сердито трясет бородкой.
— Молодой человек, мне кажется, вы зря проецируете свое восприятие данного человека на сегодняшний день. Все изменилось — и мир вокруг, и люди внутри его.
— Крысу фиг изменишь, — совсем тихо говорит Хал и отходит в сторону.
— Я с мужиками пойду, рыбу помогу нести. — Ник хочет шагнуть вниз, переступив через ряд кресел, но татарин неожиданно вцепляется в него, словно клещ.
— Стой, не ходи!
— Да ты чего? — удивляется Ник.
— Ты чё, на самом деле не въехал? — горячо шепчет ему в ухо Хал. — Это же разводка, базар-вокзал! Крышевать они нас будут, продукты забирать! И девок, понял? И Рината с Коростылевым они сами замочили, зуб даю!
— Да ну-у… — недоверчиво тянет Ник, но на всякий случай оглядывается на Эн, стоящую в сторонке. Слова Хала о девках заставляют его насторожиться.
На арене тем временем Семен и десяток мужиков поздоровее, которых отобрал сам Асланов, взваливают на плечи мешки с рыбой. Женщины, вызвавшиеся помочь в наведении порядка на базе военных, беззаботно болтают с солдатами.
— Ну, спасибо вам, товарищи! — Асланов поднимает руку в прощальном жесте. — Выручили.
— Прими благословение, сын мой! — басит Монах, приближаясь к нему.
— Спасибо, батюшка, в другой раз — время не ждет, — отказывается майор. — Через пару дней зайду, договоримся, чтобы службу у нас провести, по всем правилам. А сейчас — спешим мы. Всех благ, товарищи и господа, всех благ!
Утро в общине выдается ранним. Солдаты вперемешку с общинниками тянутся к выходу из Цирка. Бабай, усевшись на ящик возле костра, назначает людей в рыболовецкие бригады. Анна Петровна отправляет детей и женщин обратно в зрительские ряды досыпать, но никто не идет. Община, взбаламученная появлением военных, никак не хочет успокаиваться. Люди действительно получили надежду, у них пропало тоскливое ощущение одиночества. Все понимают: отныне они — не просто несчастные робинзоны, пытающиеся выжить в мертвом городе, у них появились надежные защитники, способные разобраться с любым врагом.
Правда, до сегодняшней ночи ни о каких врагах никто и слыхом не слыхивал, но это никого, кроме Хала, не настораживает.
— Айда, проследим по-тихому, — предлагает он Нику, воспользовавшись тем, что профессор спустился вниз, к Бабаю.
— Я с вами! — Эн встает рядом.
— Нет, — твердо говорит Ник. — Ты останешься. И не возражать.
Когда Ник вот так говорит: «Не возражать!», когда он «включает тренера», я его не-на-ви-жу! Что я, маленькая? Сама не знаю, что мне делать? А может, мне в Цирке одной страшно оставаться? Монах этот безумный, жуткий, с его молитвами. Мародеры какие-то. Жена Рината воет, как волчица. А ведь и ее мужа, и Коростылева убили совсем рядом с нами. А если бы эти мародеры в Цирк ворвались? Ужас просто…
И вообще — зачем нужно следить за майором и его людьми? Ясно же, что они хотят. Профессор прав — теперь все будет хорошо, жизнь наладится. Я вот Монаху не верю. Он фанатик просто. И люди его слушают, потому что отчаялись. Весь этот бред про Апокалипсис, про семь печатей, про то, что нам Бог дал второй шанс, и грехи надо искупать и все делать согласно церковным правилам… Ну, не знаю. Правила-то они нормальные, конечно. Только вот как быть с мародерами? Их, майор сказал, расстреляют, когда поймают. А как же тогда «не убий»? При этом Монах сам сказал, что люди майора — наши заступники и «славные ратники Христовы». Нело shy;гично же!
Хотя о какой логике можно сейчас вообще говорить? У нас все нелогично, все наперекосяк. Как мы дальше будем жить? Когда сможем вернуться домой? Надо спать, а заснуть я не могу. Лучше бы с Ником и Халом пошла. Можно, конечно, попробовать потихонечку выбраться из Цирка — и за ними. Нет, страшно. Там еще темно, мародеры где-то шастают. Придется сидеть тут и ждать… Эксо-эксо, Кэнди, в общем.
— Ну, и где мы их тут теперь найдем? — поеживаясь от знобкого ветерка, спрашивает Ник у Хала.
Они стоят в паре десятков метров от стены цокольного этажа Цирка, в кромешной темноте. Луна давно скрылась за облаками, звезд тоже не видно. Наступает глухой предутренний час, про который классик написал: «Когда горланят петухи, и нечисть мечется в потемках». Впрочем, никаких потемок нет и в помине. Есть самая настоящая тьма, непроглядная, густая, как нефть.
— Т-ш-шь! — шипит Хал, словно тысяча рассерженных котов. — Слышишь? Базарят! Это они, блин, зуб даю. Погнали!
И они «гонят», ощупью, наобум двигаясь в сторону удаляющихся голосов.
— Где бы прибор ночного видения раздобыть, а? — ворчит Хал, поминутно спотыкаясь.
Ник ковыляет следом, осторожно прощупывая дорогу перед собой обломанной кленовой веткой. Эта импровизированная клюка помогает мало — он тоже постоянно спотыкается, несколько раз падает.
Мрак стоит такой, что можно идти хоть с открытыми, хоть с зажмуренными глазами, поэтому друзья больше полагаются на слух. В ночной тишине разговоры солдат и общинников разносятся далеко окрест. Женщины кокетливо хихикают, что-то зычно говорит Семен, майор Асланов отвечает ему солидным баритоном.
— Куда они тащатся-то, блин? — неизвестно у кого спрашивает Хал. И тут же сам себе отвечает: — В Кремль, что ли? Ник, это у меня глюки — или впереди что-то светится?
Присмотревшись, Ник утвердительно кивает, но тут же вспоминает, что Хал не видит его и добавляет:
— Огонь там. Костер, наверное.
— Значит, точняк — в Кремль. Козлы, блин. — Хал скрипит зубами.
— Почему «козлы»? — удивился Ник. — Асланов, он же так и сказал: «Наша база в Кремле».
— Доить нас будут постоянно. Под боком же, рядышком, блин.
Пропустив мимо ушей очередной Халовский аргумент в копилку его же теории «крышевания», Ник спрашивает:
— Ну чего, идем обратно?
— Ни фига! Надо все до конца разузнать, блин.
На восточной стороне неба появляется светло-серая полоса. Буквально на глазах она расширяется, бледнеет, по краям ее плывут зеленоватые облачные клочья. Ник облегченно вздыхает — ночь заканчивается, наступает утро. Тьма вокруг чуть-чуть, едва заметно, линяет, превращаясь в еще пока густые сумерки.
— Хал, а тебе не кажется, что мы ерундой занимаемся? — в сотый, наверное, раз споткнувшись и здорово ударившись коленом, сквозь стиснутые зубы спрашивает Ник. — Что за нахрен? Ну, вон, дошли они уже до Кремля. Там и есть база. Что ты хотел выяснить-то этой слежкой?
— Фиг знает, — пожимает плечами Хал. Выглядит он смущенным и озадаченным. — Ладно, айда обратно.
— Ну уж нет. — Ник потирает ушибленное колено, выпрямляется и машет в сторону белой Спасской башни, украшенной часами. — Я к ним пойду. Пить охота, да и мужики наши там, Семен…
— Как хочешь. А я в Цирк, блин. Еще пару часов покемарю. Давай, пока!
— Пока! — чувствуя досаду, откликается Ник.
В небе, на восточной стороне, розовеют облака. Они становятся похожи на куски зефира, обмакнутого в малиновый сироп. Подумав, что закат — это красиво, но рассвет в сто раз красивее, Ник двигается через густо заросший шиповником пустырь возле бывшей станции метро «Кремлевская», но не успевает сделать и пары шагов вверх по склону в сторону площади, как слышит отчаянный, полный боли и ужаса, женский крик. Кричат там, за высокой стеной, где, по идее, как раз находятся те, кто должен приложить все усилия, чтобы подобных криков не было.
— Слышал, слышал?! — не успевший далеко уйти Хал подбегает к Нику, тяжело дыша. — Чё это? Помнишь, мы вечером шли, блин. Тоже так же кричали. И тоже тут где-то.
— Не знаю, — медленно произносит Ник. — Может, случайность? Ударился кто-нибудь, или…
Договорить, что «или» он не успевает. В сером проеме ворот появляются темные человеческие силуэты.
— Ложись! — Хал дергает Ника за полу куртки. — Чё встал столбом?
— Тут колючки…
— Потерпишь, блин. Смотри!
Вереница людей — Ник теперь хорошо видит, что это мужики из общины — вместе с автоматчиками Асланова проходят мимо стены и останавливаются на краю вала.
— Построились, — долетает до друзей голос майора. — На колени. Все на колени. Живее!
— Ты что творишь-то? — удивленно спрашивает кто-то из общинников.
— На колени! — рявкает Асланов. — Иначе стреляем!
И начинается какая-то возня, топот, на фоне темно-синего утреннего неба мелькает несколько раз топор, слышатся мерзкие, чавкающие звуки ударов, короткие вопли, стоны…
— Что там такое? Что? — шепчет Ник, сжимая в кулаке колючие ветки. Шепчет, хотя на самом деле он уже все понял и задает этот вопрос скорее с надеждой на чудо — вдруг он ошибся, вдруг всему, происходящему на валу старой крепости, найдется какое-то простое и понятное объяснение.
Наступившая тишина взрывается криками и руганью. Слышится частый топот, серая тень мелькает на открытом пространстве между памятником Мусе Джалилю и зеленой стеной шиповника.
— Один сорвался! — возбужденно говорит Хал. — Сюда бежит, блин!
Автоматная очередь вспарывает рассветный сумрак. Пули цокают по заросшим булыжникам, возле ворот Спасской башни звенят гильзы.
— Патроны береги, сука! — орет там кто-то. — Аслан башку оторвет!
Беглец, тяжело дыша, вламывается в шиповник — трещат ветки. Сделав несколько шагов, человек останавливается и грузно падает на землю в двух шагах от убежища Ника и Хала.
— Эй! — тихо зовет неизвестного Ник. — Живой? Ты кто?
В ответ раздается приглушенный стон.
— Живой, блин, — констатирует Хал и на четвереньках ползет вперед.
У ворот гремит голос майора. Теперь Асланов говорит уже совсем с другими интонациями:
— Черти, вашу мать! Упустили? В нарядах сгною! Чего стоим, зенки пялим? Догнать! Бегом! Бегом, я сказал! И без шума, патроны экономим! За каждый нецелевой выстрел на день жратвы лишу! Всё, пошли, пошли!
Приподняв голову, Ник видит, как пятеро или шестеро автоматчиков мчатся через площадь по следам беглеца. И в ту же секунду Хал тихо ахает и зовет его:
— Ник, скорее! Это Семен! Весь в кровище, блин!
Это и вправду Семен. Он лежит ничком, подвернув под себя руки. Из жуткой рубленной раны на плече толчками вытекает густая, черная кровь. Хал, наклоняется к раненому, прислушивается.
— Дышит, блин. Без сознания. Чё делать?
Отправленные Аслановым бойцы, перекликаясь, начинают прочесывать заросли, держа автоматы наготове.
Ник раздирает на себе футболку, сворачивает ее в некое подобие жгута и кое-как перевязывает бригадира рыбаков. Когда он затягивает узел, Семен издает короткий вой, точно собака.
— Э, слыхал? — окликает за кустами один из солдат АК другого. — Вроде вон там…
— Уносим его. — Ник хватает Семена подмышки. — Ноги держи.
— Кабан, блин…
Сгибаясь под тяжестью тела, они едва не волоком тащат раненого через заросли. Аковцы слышат шум.
— Вон он! Беляш! Отсекай! Мышь, слева! Стой, сука! Сто-ой!
Шиповниковые джунгли заканчиваются прямо у стен «Бегемота». Старинное здание, уже порозовевшее в лучах восходящего солнца, нависает над друзьями, слепо пялясь на них грязными окнами.
— Вдоль дома давай! — командует Ник, хотя этого и не требуется — другой дороги все равно нет.
Повязка, наложенная второпях, почти не сдерживает кровь, и на траве позади беглецов остаются хорошо заметные пятна. Сбоку трещат кусты — погоня не отстает. Стена «Бегемота» кажется бесконечной. Ник уже не чувствует рук, задыхается, дыша широко открытым ртом.
Приоткрытую дверь, вросшую в землю, они с Халом замечают одновременно.
— Туда! — хрипит Ник.
— Стой! — татарин вдруг срывает с раненого пропитавшуюся кровью футболку, отбегает на несколько метров в сторону, волоча ее за собой и обильно пятная кровью траву и кусты, потом комкает и забрасывает на низкую крышу.
Нехитрый этот прием никогда не ввел бы в заблуждение опытного следопыта, но Хал надеется, что в команде Аслана таких нет.
Затащив слабо постанывающего Семена внутрь, ребята оглядываются. Они попали в какое-то учреждение — столы, шкафы, стеклянные двери, лестницы, ведущие наверх и вниз, в подвал. На рогатой вешалке в углу висит зонтик, обросший пылью. Его оставили здесь тридцать лет назад.
— Вниз давай, — предлагает Хал.
— Дверь, — кивает Ник, придерживая Семена так, чтобы голова раненого находилась в вертикальном положении.
— Ща, сделаем!
Упершись ногой в стену, Хал спиной наваливается на обитую дерматином дверь. Скрипят ржавые, прикипевшие петли, сыплется мусор, но дверь поддается, и татарину удается почти полностью закрыть ее. Для верности он подтаскивает и ставит поперек прохода стол и шкаф.
— Всё, теперь всё.
Семен начинает говорить совершенно неожиданно. Еще секунду назад он лишь постанывал, закатив глаза, бледный, с обескровленными губами, но вдруг отталкивает от себя Ника, садится, упершись руками в пол, и произносит, брызгая кровью:
— Парни, это бандиты. Они всех наших убили. Топором пожарным. Предупредите… Они женщин… Парни… Хр-р-р…
Завалившись на бок, Семен дергается, делает ногами несколько движений, словно хочет убежать, вытягивается и замирает. Ник впервые в жизни видит, как рядом с ним умирает человек. Он испытывает странное чувство раздвоения. Как будто бы один он буквально содрогается от ужаса и готов разрыдаться, а другой, напротив, спокоен и деловит. Этот другой трогает жилку на липкой шее бригадира, поднимает глаза на испуганного Хала и раздельно произносит:
— Всё! Он умер.
Дверь трещит.
— Вдвоем давай! — кричит кто-то снаружи. — Там он, там!
— Сваливаем, блин! — Хал тащит Ника на лестницу.
— Куда? А Семен?
— Ему уже все равно, блин. Быстрее! Надо нашим про Аслана сказать!
Они, перепрыгивая через ступеньки, поднимаются на второй этаж, вбегают в первый попавшийся кабинет. Хал подхватывает стул, выбивает окно — летят осколки — высовывается.
— Здесь низко!
Внизу — внутренний двор «Бегемота», заставленный машинами, заросший, пустой и тихий. Спрыгнув на крышу «Газели», друзья оглядываются. В дальнем конце двора Ник видит арку, ведущую на улицу. Не сговариваясь, они бегут туда, а в спину им бьют крики:
— Стой! Стоять, твари!
Они не успели. Солнце уже высоко поднялось над городом, когда Ник и Хал, грязные, измученные, покрытые пятнами засохшей крови, добрались до Цирка. Им пришлось потратить около двух часов, чтобы оторваться от автоматчиков Асланова, сбить их со следа и кружным путем выйти к главному входу своей «пещеры».
Первое, что бросается друзьям в глаза — четверо бойцов в камуфляже, сидящих возле потухшего костра на улице. Глава аковцев сдержал свое обещание, прислав для «охраны» Цирка своих людей. Нечего было и думать прошмыгнуть мимо них внутрь незамеченными. Ник вспоминает, что ночью Асланов говорил об отделении, стало быть, в здании должны находиться и другие «кремлевские».
— Чё делать будем? — Хал кивает на греющихся на солнышке автоматчиков.
— Может, со стороны моста попробуем, через задний вход? — неуверенно предлагает Ник. — Надо же все рассказать нашим! И еще — там Эн…
Вспомнив о девушке, оба мрачнеют. Что стало с женщинами, уведенными Аслановым в Кремль, друзья понимают без обсуждения. Похоже, в этом новом дивном мире термин «сексуальная рабыня» приобретал свой самый исконный, однозначный смысл. А когда аковцы натешатся женщинами из «первой партии», им понадобится «свежачок»…
— Пошли, — хлопает Ника по плечу Хал. — Обойдем, блин, позырим, чё там, сзади.
Служебный вход в здание Цирка скрывает целая роща американских кленов. Поодаль, в камышах, которыми заросло русло реки Казанки, квакают лягушки. День обещает быть теплым, в воздухе носятся стрекозы, жужжат слепни и оводы.
Устроившись в густом бурьяне у края замусоренной, заросшей дороги, наполовину поглощенной болотом, друзья наблюдают за зданием.
— Вроде тихо, — вглядываясь в зеленую мешанину листьев, бормочет Ник. — Двери открыты… Но не может же быть такого, что бы они тут охрану не поставили?
— Ща проверим, блин! — хищно усмехается Хал, подбирает трухлявый сук и изо всех сил бросает его в густую крону одного из американских кленов.
Его старания вознаграждаются сторицей — на шум откуда-то выныривает щуплый парень в камуфляже, задирает узкое лицо и направляет ствол автомата вверх, напряженно вглядываясь в листву.
— Ну, что там? — окликает его невидимый со стороны напарник.
— Хрен его знает, — успокоившись, пожимает плечами охранник. — Птица, наверное.
— Тоска-а… — второй аковец выходит на площадку перед воротами. Он намного крупнее и старше. — Слышь, Леха, сходи, притарань телку какую-нибудь, что ли.
— Кидняк узнает — секир башка сделает. Тех двоих так и не поймали, — Леха настороженно зыркает по сторонам голубенькими глазками. — Слышь, Бурый, может, они тут где-нибудь шарогрёбятся?
— Не ссы! — авторитетно заверяет его Бурый, потирая квадратную челюсть. — Тащи телку, только помоложе бери. Вон, в кусты отведем. Ты покараулишь сперва, потом я. Все путем будет. Давай!
Ник и Хал переглядываются. До кустов, на которые указал аковец, от них недалеко, метров пять-шесть.
— У меня нож, — шепчет татарин.
— Я его голыми руками удушу, — скрипит зубами Ник. — Пошли!
Они ползком, обдирая животы о вздыбленный, разорванный корнями трав и деревьев асфальт, добираются до густых зарослей акации, назначенных Бурым стать местом сексуальных утех, затаиваются.
— Иди, иди, красавица, — слышится гнусавый голосок Лехи. — Сахар хочешь? У нас есть. Мы хорошие. И тебе хорошо будет. Да иди ты, сучка! Бурый, во, зацени!
Ник вытягивает шею, стараясь рассмотреть сквозь густую листву, кого привел Леха. Сердце его сжимается от дурного предчувствия.
— Руки убери! Козел! — режет по ушам такой знакомый, такой родной голосок. — Не пойду-у, не пойду!
Звук пощечины заставляет Ника вздрогнуть.
— Ой, мамочки! — взвизгивает девушка.
— Эн! — не помня себя от ярости, Ник рвется вперед, и, если бы не Хал, бультерьером повисающий на нем, жить ему осталось бы считанные секунды.
— Куда, дурак? — шипит татарин в ухо Нику. — Всех попалишь, блин! Сиди, жди!
— Вот ты дура, что ли? — выговаривает тем временем Бурый отчаянно извивающейся в руках Лехи Эн. — Чего ты кобенишься, лярва? Все равно ведь по-нашему будет. Времена нынче такие. Настоящие. У кого сила, тот и права имеет. И ты могла бы. Ну, девка! Как там в кино говорят? Расслабься, гы-гы, и получи удовольствие. А то ствол сейчас сама знаешь, куда засуну, и одного патрона не пожалею. Ну, иди! Вон туда, туда. Леха, на шухер!
— Ага, — довольный Леха толкает Эн к Бурому и вскидывает автомат. — Ты только это… не долго!
— А как получится, — скалит желтые зубы Бурый, хватает беззвучно плачущую Эн за руку и тянет к акациям.
Ник до боли стискивает зубы. Хал достает нож, обыкновенный столовый нож из хозяйственного отдела ЦУМа, с лезвием из нержавеющей стали и пластмассовой рукоятью. Татарин носит его за пазухой в самодельных деревянных ножнах.
— Ну, не брыкайся, не брыкайся, — утробно воркует Бурый, затаскивая девушку в кусты.
Эн молча отбивается, но видно, что ей не по силам справиться с крепким мужчиной.
— Вот здеся, ложись. Ну что ты, дурочка! Все хорошо будет! Нас двое всего, двое. — Бурый толкает Эн, роняет на траву. — Слышь, я терпение теряю! Будешь выламываться — остальных мужиков позову. Сама подумай, что лучше…
Эн всхлипывает. Ник опять рвется к ней, но Хал сдавливает ему руку.
— Не лезь, блин! Рано!
Звякает пряжка расстегнутого ремня. Бурый, не глядя, вешает автомат на ветку, через голову стягивает армейскую куртку. На бледной, не тронутой загаром спине его синеют наколки — купола, ангелы. Эн закрывает глаза и заслоняет лицо рукой. Уголовник тихо смеется, нагибается над девушкой…
— Теперь пора! — выдыхает Хал.
Они одновременно прыгают на аковца, ломая ветки. Ник, словно куклу, выдергивает из-под него Эн, а Хал двумя руками обхватив рукоять ножа, всаживает его под левую лопатку Бурого. Уголовник кашляет, пытается что-то сказать, но захлебывается — и роняет голову в траву.
— Уходим! — цедит Ник, взваливает на плечо бесчувственное тело девушки и ломится через заросли. Хал устремляется следом.
Убегая, они слышат позади гнусавый голос Лехи:
— Бурый, ну что там? Всё на мази?
Глава седьмая
Эн приходит в себя минут через пять, когда Ник решает, что с девушкой на плечах он больше уже не сможет сделать ни одного лишнего шага. За это время друзья добегают до обвалившегося моста Миллениум, пролезают под опорами, со стороны болота выходят к заросшему сиренью валу Кремля и прокрадываются на улицу Карла Маркса.
Теперь они прячутся в подвале полуразрушенного дома. Здесь сыро, темно, с потолка капает, под ногами чавкает густая грязь. Осклизлые стены покрывает липкий зеленый налет, пахнет водорослями. Устроившись на ржавых бочках, друзья усаживают Эн, подстелив ей куртку, и отдыхают, с тревогой посматривая в сторону узкого проема подвального окна, через которого и заползли в подземелье. Если преследователи вычислят беглецов, найдут их по следам, то уйти из подвала не удастся. Ловушка.
— Вот только фиг им, блин! — сверкает в полутьме улыбкой татарин.
Идея бежать в сторону Кремля принадлежала Халу.
— Там они нас не додумаются искать, — сразу сказал он.
— Пить! — шепчет Эн, невидяще глядя перед собой. — Водички. Один глоточек…
Ник вытаскивает из кармана помятую пластиковую бутылку без этикетки, откручивает грязную крышку. Такие бутылки, прекрасно сохранившиеся, носят с собой многие общинники — они заменяют им походные фляжки.
Девушка припадает к горлышку, судорожно глотает — и тут сказывается накопившееся нервное напряжение. Оттолкнув руку Ника с бутылкой, она плачет, буквально заходится в рыданиях.
— Тихо, тихо! — пытался успокоить ее Ник. — Всё уже, всё прошло…
— Гады! Вы гады, гады! — Эн молотит кулачками по широкой груди Ника. — Зачем вы меня с собой не взяли? Бросили… Там так страшно было… Они утром пришли, Бабая избили, ногами… Все лицо черное. А профессора… — Девушка всхлипывает, отворачивает голову и утыкается мокрым лицом в плечо Ника. — Профессора уби-и-ли-и! Он заступился, сказал, что это произво-о-ол… И Снежану… Но-о-жо-ом!
— Вот тебе и жизнь наладилась, — глупо говорит Ник, прижимая к себе сотрясаемую рыданиями Эн.
Проходит не менее получаса. Выплакавшись, Эн успокаивается и засыпает, прижавшись к Нику. Хал, стараясь ступать потише, пробирается к окну, выглядывает, прислушивается.
— Тихо вроде. Ну чё, еще посидим или будем выползать?
— Автомат! — бьет себя кулаком по лбу Ник. — Автомат не взяли!
— Да теперь-то чего, — хмыкает Хал. — Поздняк пить боржоми, блин. Ты скажи лучше, куда мы теперь?
— Туда, где людей поменьше. Где можно посидеть спокойно, помозговать, как дальше жить…
— Помозговать, — ворчит Хал. — Мозгуны, блин. Знаешь чё? Давай к Дому Кекина двинем. На цырлах, в обходняк. Там вроде спокойно, переночуем. Чё думаешь?
— Давай, — кивает Ник и осторожно принимается будить девушку.
Поход к готическому особняку проходит на удивление гладко. Выбравшись из подвала, друзья стараются как можно дальше уйти от Кремля. По Нагорной, по улице Зои Космодемьянской, прячась в тени деревьев, прижимаясь к стенам, с опаской, они выходят к площади Султан-Галеева, прокрадываются какой-то козьей тропой через густой боярышник вдоль серого монолита здания бывшего Госсовета, сворачивают на Малую Красную и уже отсюда начинают двигаться в сторону улицы Горького.
День выдается, как на заказ — теплый, солнечный. В такой хорошо лежать на пляже, попивая холодное пивко, и ни о чем не думать. Над городом плывут мелкие облака, похожие на овец, к полудню разжаривает так, что воздух над пятачками уцелевшего асфальта начинает дрожать и струиться.
— Сейчас бы на пляж, блин, — то и дело вытирая пот со лба, в сотый раз произносит Хал.
— Лучше мороженого. — Ник поворачивается к Эн, подмигивает, но девушка никак не реагирует.
Несмотря на жару, ее бьет внутренний озноб. Опухшие от слез, покрасневшие глаза со страхом смотрят из-под челки. Ник ощущает острое чувство жалости. Эн, в сущности, еще ребенок. И Ник решает — никогда, никогда больше он не оставит ее одну.
— Странно, — произносит вдруг идущий впереди Хал.
— Что? — немедленно откликается Ник.
— Странно, блин. Мы людей по дороге сколько раз видели? Четыре раза. И все толпами.
— И с охраной.
— Или с конвоем, блин. Не нравится мне эта движуха.
— Думаешь, нас ищут? — Ник тревожно оглядывается.
— Да на фига мы им сдались, — презрительно дергает плечом Хал. — Тут другое. Аслан, падла, город под себя подминает, понял?
Наверное, без власти жить нельзя. Нет, совершенно точно — нельзя. Но власть должна быть нормальная. Чтобы для всех людей, а не для одного или нескольких. Хотя это утопия, конечно. Ну, тогда так: чтобы те, кто у власти, о людях не забывали. И чтобы честно все было, по справедливости.
Если вдуматься, вся русская история — сплошные поиски справедливости. Всякие там восстания, Разин, Пугачев, Булавин, Болотников — все этого хотели.
Самое смешное, что цари и императоры тоже за справедливость были. Только понимали они ее по-своему. Это как в сказке про две правды — у народа своя, у барина своя. А когда император Александр Второй решил крепостное право отменить, многие считали, что это он для того делает, чтобы правда у всех общая стала. И убили императора злые люди за такой вот альтруизм.
На самом деле все не так там было. Крепостное право отменили, а крестьяне освобожденные бунтовать начали. Потому что не их это была правда с освобождением, чужая. И справедливости никакой не получилось: свободу дали, а землю — нет. Вся земля у помещиков осталась. Вот и вышло, что крестьяне стали свободными и свободно могли помереть с голоду, а если хотели не помирать, а жить, то все равно приходилось в ярмо идти и в кабалу, батрачить на помещика. И реформа императора Александра, которого тогдашние журналюги прозвали «Освободителем», разорила коренную Россию, пустила по миру сотни тысяч человек. Такая вот общая правда получилась. А если вспомнить еще, что «Освободитель» терпеть не мог русских, считая их самой ленивой и «бездельной» нацией…
Короче, я так понимаю, что власть осторожной должна быть. Как сапер. И никогда с плеча не рубить, даже если считает, что хорошее дело делает. Ну, это в том случае, если она все-таки нормальная власть. А такая, как у майора Асланова — это диктатура, конечно. С ней бороться надо, без вариантов. И вот когда мы ее одолеем, вот тогда вопрос о справедливой власти и встанет. И делать эту новую власть сами люди будут. Потому что понятно уже — никто нам не поможет, ниоткуда герои-спасатели не прилетят в оранжевых своих вертолетах. Это, то, что вокруг — наш новый мир. Это — навсегда.
Дом Кекина встречает их настороженной тишиной. Стараясь не оставлять следов, друзья огибают ту часть здания, что выходила на улицу Галактионова, пролезают через пролом в каменной ограде во двор и поднимаются по замусоренной лестнице на третий этаж. Анфилада пустых комнат, высокие двери, рассохшийся паркет. Грязные стекла почти не пропускают дневной свет и в помещениях царит полумрак. Мебели здесь нет вообще никакой — судя по всему, на этаже готовился ремонт.
— Пыль, паутина! — с наслаждением говорит Ник, возвращаясь из дальней комнаты. — Хорошо!
— Чего хорошего-то? — впервые после истерики в подвале подает голос Эн. — Бр-р-р-р… Мерзость.
— Хорошо, потому что сразу видно, что тут никого не было. Всё, отдыхаем.
— Жрать охота, блин! — Хал выразительно хлопает себя по тощему животу. — У кого чё есть?
Съестного оказывается не густо. Ник стелет на полу пластиковый пакет и выкладывает на него пару лепешек из перетертой пшенки, Эн добавляет небольшой кусок тушеной кабанятины, завернутый в бумагу, у Хала находится твердый, как камень, ломоть сыра и банка просроченных шпрот. Воды тоже мало — меньше литра.
— Бетте, обедаем! — татарин садится прямо на пыльный пол у импровизированного стола, достает нож.
Едят молча, стараясь не уронить ни крошки. Ник замечает, что Эн все время прислушивается к чему-то. Наконец, он не выдерживает и тихо спрашивает:
— Ты чего?
— Там, на лестнице… шуршит что-то.
— Кошка, может?
— Или крысы? — предполагает Хал. Подцепляет кончиком ножа последнюю шпротину, закидывает в рот и вздыхает: — Хорошо, но мало, блин!
— Может, посмотрите? — Эн со страхом косится на приоткрытую дверь, ведущую на лестничную клетку.
Ник поднимается, стараясь ступать как можно осторожнее, чтобы не трещал паркет, подходит к двери, выглядывает.
— Да нормально все! Ну что, братцы-кролики, чего дальше делать будем?
— В Цирк нам нельзя, — заявляет Хал. — Блин, курить охота.
— Тебе всегда что-то охота. Раб желаний, — осаживает его Эн. — Давай, не отвлекайся.
— Да, в Цирк нельзя, — соглашается Ник. — Там теперь всем заправляют эти… аковцы.
Хал мрачнеет.
— Я вам с самого начала говорил, блин, что Асланов этот — гнида. Как он Бабая и всех остальных развел… Если бы сразу навалились, примочили бы гадов, блин. А теперь всё, саубулыгыз, ипташляр[19]. Надо из города уходить.
Эн снова оглядывается на дверь.
— Нет, там кто-то есть! Слышите? Ходит…
— В потолке открылись люки… — бормочет Хал, хищным движением вытирает нож о полу куртки и низко пригнувшись, крадется к выходу.
Ник и Эн настороженно следят за ним. Скрип рассохшихся досок теперь слышится всем, он очень явственный и идет, как всем кажется, с нижнего этажа.
— Ну, чего там? — шепотом окликает татарина Ник.
— Там — абсолютно ничего, — скрипит вдруг в комнате знакомый голос. — Здравствуйте, господа.
Эн от неожиданности охает. Ник резко оборачивается. Хала буквально подбрасывает, и он в одно мгновение оказывается посреди комнаты, выставив перед собой нож.
Невысокий, щуплый человек в длинном плаще стоит у окна, опираясь на все те же старые вилы.
— Филатов! — облегченно вздыхает Эн. — Как же вы нас на shy;пугали!
— За такие штучки… — начинает Ник угрожающе.
— Анансыгым! — ругается Хал и добавляет по-русски: — Козел, я чуть не обделался!
— Старые дома часто обманывают своих постояльцев, — туманно говорит невозмутимый Филатов.
Он абсолютно бесшумно проходит на средину комнаты, скидывает на пол рюкзак, кладет рядом вилы и садится. Серое, морщинистое лицо его не выражает никаких эмоций.
— Вы, я вижу, только что изволили отобедать. Позвольте и мне потрапезничать, со вчерашнего вечера ничего не ел.
— Да легко, блин… — Хал убирает нож и неожиданно брякает: — Прошу вас.
— Какой там «отобедать», — грустно вздыхает Ник.
Филатов резиново улыбается, быстро стреляет водянистыми серыми глазами на Ника, Эн, а длинные тонкие пальцы его уже расстегивают клапан рюкзака.
Через несколько секунд перед потрясенными ребятами разворачивается настоящая скатерть-самобранка. Свежие огурцы, печеная картошка, вареные яйца, зеленый лук, ополовиненная пачка галет и — о, чудо! — жареная на вертеле утка. Большая, румяная, истекающая соком утка, призывно растопырившая свои чуть обугленные крылышки. Этот великолепный натюрморт довершает бутылка с выцветшей этикеткой.
— «Зубровка», настойка горькая, — судорожно сглатывая слюну, читает Хал.
— Филатов, да вы волшебник! — улыбается Эн.
— Угощайтесь, — радушно предлагает тот в ответ. — И без церемоний. Вы ж чуть живые. А силы вам еще понадобятся.
— Откуда вы знаете, что нам понадобится? — медленно, чтобы никто не заметил, как ему на самом деле хочется есть, беря картофелину, спрашивает Ник.
— Я всё знаю, господа — и про Цирк, и про произвол Асланова. Слухами земля полнится.
— Да откуда он взялся-то, хорек это? — с набитым ртом интересуется Хал.
— Кружка у меня одна, пить будем по очереди, — проигнорировав вопрос, скрипит Филатов и скручивает крышку с бутылки.
Он достает из кармана плаща зеленую кружку с отбитой по краю эмалью, наливает на два пальца — к ароматам снеди прибавляется острый запашок «Зубровки» — и слегка торжественно провозглашает:
— Ваше здоровье, господа! Как я уже сказал, оно вам еще понадобится.
Влив в себя настойку, Филатов ставит кружку, с хрустом отламывает от утки ножку, закусывает и вытирает жирный рот огромным фиолетовым носовым платком.
— Послушайте, — раздраженно ворчит Ник. — Хватит говорить загадками. Что вы знаете? Выкладывайте!
— Вы пейте, пейте, господа. В небольших дозах спиртное исключительно полезно для тонуса мышц и мозговой активности. А про Асланова… Так получилось, что на момент пробуждения бывший, я подчеркиваю, бывший майор Асланов находился в следственном изолятора номер один УФСИН, это на улице Япеева. Что ему инкриминировали, я не знаю, но догадываюсь. Впрочем, тут не нужно быть провидцем. Коррупция, господа, коррупция… Но вернемся к нашим баранам. После пробуждения Асланову удалось освободиться и выпустить на свободу из камер часть, так скажем, питомцев этого учреждения. Среди них оказался один из бывших сотрудников хозяйственного управления Правительства республики. Он-то и подсказал Асланову мысль проверить склады НЗ, оборудованные в специальных помещениях под Кремлем.
— Бункер, что ли, какой-то? — морщась от горечи «Зубровки», спрашивает Ник.
— Именно бункер. Там Асланов и его новые друзья, среди которых были как бывшие полицейские, так и обычные уголовники, нашли всё, что нужно для создания незаконного вооруженного формирования — обмундирование, оружие, боеприпасы, продукты и прочее.
— Вы сказали, что Асланов освободил часть заключенных, — задумчиво произносит Ник, которому «Зубровка» сразу ударяет в ноги. — А как же остальные? Они… заперты в камерах?
Филатов холодно улыбается.
— Думаю, в настоящий момент живых там уже не осталось. Но это не важно.
Филатов похож на ящерицу. Кожистый такой человекоящер. Без эмоций, без чувств. Глаза — как у рыбы. Я его боюсь, если честно. Боюсь больше всех и больше всего. Потому что знаю, чувствую — он все время где-то рядом, он может появиться в любой момент и в любой точке города. Появиться и сказать: «Пошли со мной». И я пойду. Пойду, как крыса за Гаммельнским крысоловом. Как кролик за удавом. У Филатова есть какой-то секрет, какая-то тайна. И вилы. Как у дьявола.
Хотя дьявол в моем представлении должен быть таким… брутальным, что ли? Большой, агрессивный, с темной кожей, алчными глазами, волосатый, рогатый, мускулистый. Но это, конечно же, киношный дьявол, компьютерный. А настоящий — вот он, угощает нас горькой настойкой и жареной уткой. Где он ее взял, интересно? Поймал на речке? Или подстрелил? Вроде оружия у Филатова нет. Хотя — зачем дьяволу оружие? Он и так все может, и утку добыть, и душу купить. Вот сейчас наши покупает, наверное. А мы и рады стараться, сидим тут, клювами щелкаем. Может, он врет все — про Асланова? Хотя вряд ли. Я глаза того урода никогда не забуду. И в них, в этих глазах, что-то такое было… Радость, что ли? Радость от того, что теперь ему и таким, как он — все можно.
Поэтому пусть лучше мы продадим душу дьяволу Филатову, чем нами будет управлять бывший майор Асланов, и в городе воцарятся его порядки…
— А что важно? — принимая из рук Хала кружку, спрашивает Эн.
— Важно, что Асланов теперь монополист. Он подчинил себе девять крупных общин города, его люди согнали туда всех, кто пытался выжить в одиночку или небольшими группами. «Кремлевские» обложили общины данью, а фактически превратили людей в рабов…
— Ой, горькая какая! — задохнувшись, Эн не глядя ставит кружку на пол, трясет головой.
— А вы закусывайте, барышня, рекомендую вот огурчиком — очень способствует.
— Много их? — деловито спрашивает Хал.
— Боевиков, тех, кто получил оружие — около сотни. Десятка три обслуживающего персонала. Ну, и рабы — женщины, мужчины.
— И что, все вот так вот согласились, никто не выступил против? — вмешивается Ник и тут же вспоминает, как всё произошло в Цирке. Вспоминает — и кривится от несуразности собственного вопроса.
Филатов тем не менее берется отвечать:
— Асланов хитер. Он почти нигде не действовал нахрапом. Вы же знаете — все обставляется под законную власть. Администрация Казани — кто же будет против? Правда, на самом деле аббревиатура «АК» расшифровывается иначе — «Аслан, Кремль». Но это для своих. Что-то вроде пароля.
— Почти нигде — значит… — начинает Хал.
— Да, — кивает Филатов, вытирая платком порозовевший нос, на котором выступили мелкие бисеринки пота. — В Советском районе его люди попросту наехали на небольшую общину, обосновавшуюся в здании бывшего профтехучилища. Наехали — и получили достойный отпор. В общине оказалось несколько охотников, сохранивших свои ружья. Они сумели раздобыть где-то качественный порох, снарядили патроны, и когда «кремлевские» сунулись к ним, начали отстреливаться. В итоге у Асланова двое «двухсотых»[20].
— Значит, не такая уж у него и монополия на оружие! — восклицает Ник и с досадой бьет кулаком в ладонь. — Оружие! Я же говорил Бабаю! Если добыть стволы…
— Думайте, — дергает острым плечом Филатов. — Соображайте.
— Не, а чё тут думать, блин! — Хал откладывает обглоданную утиную косточку. — Военные склады надо искать. Только я не знаю, где они.
— Склады складами, а что потом? — неожиданно включает «задний ход» Ник. — Ну, найдем мы оружие…
— Нас же всего трое, — поддакивает Эн.
— Наверное… — мягко, без обычной скрипучести, произносит Филатов, внимательно глядя в глаза Нику, — наверное, стоит поискать единомышленников. Наводку на общину в Советском районе я вам уже дал. Не исключено, что и в других общинах найдутся люди, готовые к вооруженной борьбе.
— В Соцгороде, например! — захмелевший Хал мотает головой куда-то в сторону. — На Савинке, на Восстания.
— За реку, в Соцгород, Асланов пока не лезет, — кивает Филатов. — Но и вам я тоже не советую. Там черт-те что творится.
— Единомышленники — это понятно, — Ник задумчиво трет обросший подбородок. — Но это уже второй пункт, так? А первый все же — оружие! Вот вы опытный человек, подскажите — где?
— Эхе-хе… — Филатов наливает в кружку «Зубровку», задумчиво покрутил посудину в руках, выпивает и заканчивает: — Шире надо мыслить, господа. Военные склады — это тайна за семью печатями. Просто так их не найти. В полицейских отделах нет условий для хранения, там все пришло в негодность.
— Про охотничьи магазины мы знаем, — вставляет Ник. — Тоже мимо.
— Танковое училище! — вдруг орет Хал, подскакивая на месте. — Точняк, блин! Там же… У нас пацан со двора туда поступил, Руслан Рэмбо! Он рассказывал — они на стрельбы ездили. Блин, а там еще и танки, и БМПшки, и…
— Так что ж ты молчал, дубина? — накидывается на Хала Ник и тут же машет рукой: — Там, небось, аковцы побывали в первую очередь.
— Скажу вам по секрету, господа, — прикрыв ладонью зевок, произносит Филатов. — Люди Асланова в Казанский военный университет, который вы по старинке называете танковым училищем, еще не наведывались. В том районе сложная обстановка.
— А чё там? — удивляется Хал.
— Зверья много. И народ такой… Ну, да вы сами все увидите.
— Скажите, Филатов, — тихо спрашивает Эн. — А вот вы… Вы ведь специально это все делаете?
— Что — «это»?
— Ну, подговариваете нас…
— Барышня, — серьезно отвечает Филатов, — я никого не подговариваю. Не хотите — можете делать все, что вам заблагорассудится. Вы же собирались уйти из города? Ну, так скатертью дорога. Только не советую…
— Почему?
— Вы просто не представляете, что творится за городской чертой. Джунгли. Тайга. Дичь. Человек человеку волк.
— Можно подумать, блин, что тут все друг другу овцы, — фыркает Хал.
— И тем не менее. Но я бы все же отметил, — Филатов делает паузу, — отметил бы, что у вас есть уникальная возможность, друзья мои.
— Это какая? — Ник с сомнением смотрит на серого человека.
— Вы начинаете жизнь с чистого листа. И можете нарисовать на нем все, что угодно, все, что хочется и нравится. Да, сейчас на листе образовалось несколько пятен, но стереть их в ваших силах. Вы улавливаете, о чем я?
Все молчат. Ник берет кружку, вертит в руках, начинает барабанить пальцами по донышку. Эн машинально улавливает ритм, вспоминает мотив и слова известной песенки: «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома…»
— Ну, а вы знаете, где там, в Танковом училище, оружие? — спрашивает Эн.
— Не знаю, — пожимает плечами Филатов. — Мне это не нужно.
— А что вам нужно? Вы же видите, что Асланов — бандит, убийца, подонок…
— Барышня, я не Вий, мне веки поднимать не надо, — жестко, четко выговаривая каждое слово, говорит Филатов. — У каждого человека в жизни своя дорога. Прямая, кривая — но своя. И по чужой пройти не удастся. Многие пробовали…
— Подождите, — обрывает его Эн. — Филатов, я правильно поняла — вы с нами в Танковое училище не пойдете?
— Не пойду, — отрицательно качает головой Филатов, поджимает тонкие губы, некоторое время молчит и заканчивает: — Я наблюдатель, барышня. Сейчас мой принцип простой: «Пусть лучше хорошему человеку будет плохо, чем плохому — хорошо». Вот и всё.
— Ах, как это по-русски! — невесело смеется Эн. — Может быть, лучше так: «Пусть будет плохому плохо, а хорошему…» Эксо-эксо, Кэнди.
— Это утопия. — Филатов опять зевает. — Прошу прощения, ночка выдалась аховая.
Он поднимается, отходит к стене, полой плаща смахивает пыль и садится там.
— Это всё, конец разговора? — недовольно спрашивает Ник. — Вы с нами не идете?
— Не торопите события, Никита. У нас впереди много дел. Мы в самом начале пути.
— Какого, блин, пути? — взвивается Хал. — Энка права — подговорил нас и слился.
Прислонившись спиной к стене, Филатов прикрывает глаза и начинает тихонько напевать:
Голос его постепенно становится громче, в нем отчетливо прорезается сталь.
Спешат уцелевшие жители, как мыши, забиться в норы.
Девки рядятся старухами и ждут благодатной тьмы.
Но нас они не обманут, потому что мы — мародеры,
И покуда спят победители — хозяева в городе мы!
Хал набычивается, шагает к Филатову.
— Слышь, певец!
— Оставь его. — Ник дергает друга за руку, утаскивает обратно к скатерти-самобранке. — Сядь. На, выпей, тут еще есть. «Девки рядятся старухами», понял? Это главное. И слушай: я так понимаю, что делаем мы все одно общее дело. Вот только по-разному. Так что давайте доедать, допивать — и ложиться. Завтра с утреца пойдем в это самое Танковое училище…
Они еще некоторое время сидят, потом Эн аккуратно собирает остатки трапезы. А Филатов все поет и поет, и слова этой странной песни заставляют Ника сжимать от ярости кулаки.
Часть вторая
За седьмой печатью
Глава первая
Серый от грязи памятник Ленину, некогда указывавший рукой в светлое будущее, представляет собой жалкое зрелище. Путеводная длань вождя обломана в локте и висит на ржавой проволоке, на голове Ильича красуется воронье гнездо, напоминающее папаху. Рядом, перед самыми воротами, мрачно темнеет еще один памятник — Т-34 на невысоком постаменте. На корму легендарного танка нанесло земли, и там зеленеют чахлые кустики. Столб городского освещения у края дороги покосился, оборванные провода висят, как лианы.
Остановившись у памятника-танка, друзья оглядываются. В двух десятках шагов от них гостеприимно распахнули ажурные створки железные ворота. Перед воротами торчат из жидкой грязи расставленные в шахматном порядке бетонные блоки. На них кое-где еще сохранилась предупреждающая раскраска — белые и черные полосы. Поодаль высится одноэтажное здание КПП из красного кирпича. На фронтоне уцелели грязно-серые буквы: «Тан…ов…е …чил…ще», а ниже: «основ…но в» и дата «1866 го…»
— Там еще крест был, — указывает на КПП Хал. — Белый, большой.
Вдали, за широкой площадкой, ныне там и сям поросшей травой, за густыми еловыми зарослями, виднеются крыши учебных корпусов. Из ельника торчит ствол танковой пушки — там на постамент водружен еще один танк, Т-72. На стволе сидит синица и чистит перышки.
Начинается дождь, вначале мелкий, но через несколько минут он превращается в настоящий ливень.
— Что-то тут как-то… негостеприимно, — ежится Эн.
Ник косится на девушку, снимает крутку и накидывает ей на плечи.
— Меня другое волнует, — говорит он после паузы. — Почему людей нет? Если тут есть оружие, значит…
— Значит, кто-то здесь уже пошарился, блин! — заканчивает за него Хал.
— Но почему этот «кто-то» тут не поселился? И почему аковцы свой знак не поставили?
— Так, может, они все и вывезли? — предполагает Эн. — Мало ли что Филатов нам рассказывал.
— Место больно хорошее, — смахнув с бровей капли воды, говорит Ник, продолжая разглядывать территорию училища. — Я вот чую — тут могла бы появиться община вроде нашей. Смотрите, какие здания вон там! Все стекла уцелели. И пожаров не было. А никого нет.
— Или лежат в засаде, блин. — Хал недобро ощеривается. — Целятся.
— Не исключено, — кивает Ник. — Но выбора у нас нет. Пошли.
Обойдя блоки, они входят в ворота и останавливаются.
— Куда дальше? Я промок весь, блин. — Хал проводит рукой по коротким волосам. Во все стороны летят брызги.
— Надо склады искать. Вряд ли оружие хранилось в казармах и учебных корпусах.
— Пахнет… — бормочет Эн. — Вы чувствуете, как тут пахнет?
Хал тут же принимается активно втягивать носом сырой воздух.
— Ни фига не чувствую. Дождем пахнет!
— Не, какой-то запах точно есть. Резины, что ли? — предполагает Ник. — Смотрите!
Он указывает на высоченные ели, чьи темные пирамиды высятся возле корпусов училища. У их подножья, под надежной защитой густого лапника, друзья видят какие-то грязно-желтые пятна. Много пятен.
Вот одно из них пошевелилось, задвигалось — и превратилось в собаку. Крупную дворнягу с закрученным в баранку хвостом.
— Псиной пахнет! — догадывается Ник. — Точно! Назад! Уходим!
А из-под елового полога на площадку у ворот выбираются все новые и новые собаки. Разбуженные человеческими голосами, они недовольно вертят лобастыми головами, коротко взлаивают, прочищая глотки, присматриваются…
— Бежим! — орет Хал.
Его крик словно бы становится для псов сигналом к атаке. Не менее трех десятков лохматых тварей широким клином устремляются в атаку на непрошеных гостей. Гости, впрочем, не дожидаются собачьего гостеприимства. Поскальзываясь и разбрызгивая жидкую грязь, они выбегают за вросшие в землю ворота и мчатся через Сибирский тракт к огромной, футуристического вида постройке, высящейся всего в полусотне метров.
— Что это? — на бегу хрипит Ник.
— Стадион! — отвечает Хал. — Для хоккея на траве.
— Там спрятаться можно?
— А куян его знает.
— Быстрее! А-а-а-а! — визжит Эн. — Они уже рядом! Рядом!
Действительно, псы явно не собираются упускать добровольно забредшую к ним в пасти добычу. Сплошным потоком оскаленных морд они вытекают из ворот училища и сразу разворачиваются в загонную цепь. Когда друзья добегают до бетонного основания многоэтажного здания стадиона, стая полностью отрезает им все прочие пути к бегству.
Ник, наконец, вспоминает, что это за стадион. Центр хоккея на траве слыл даже в богатой на подобные объекты Казани уникальным спортивным сооружением и строился в середине нулевых годов с использованием всех новейших для тех лет технологий. Бетон, белый полированный металл, тонированное стекло, полукруглые пилоны, опоры, ажурные мачты с вантами, идущие по верху здания — если не знаешь, что перед тобой стадион, можно подумать, что это какая-то футуристическая постройка, декорация к фантастическому фильму, космодром для звездолетов или научная база на другой планете.
Примерно такие мысли посещают голову Ника, когда он касается мокрой рукой шершавого бетона. В двух шагах, за стеной, виднеются двойные двери входа в здание, но они заперты.
— Куда дальше? — кричит Хал.
Ник собирается ответить, что это именно Хал как казанский житель должен знать ответ на этот вопрос, но тут Эн в очередной раз взвизгивает: собаки начинают сжимать полукольцо. Оглянувшись, Ник видит совсем близко желтые клыки и вываленные языки псов. Повсюду друзей окружают косматые морды, от которых валил пар.
— Лезем наверх! — выдыхает он первое, что приходит в голову.
Хал тут же начинает карабкаться по наклонной стенке и уже через секунду оказывается на широком карнизе высокого первого этажа. Здесь вдоль фасада идет сплошной ряд окон, но все они закрыты. Строители могли бы гордиться своей работой — тонированные стеклопакеты выдержали испытание временам на «отлично». Для друзей это означает только одно: поднявшись на карниз, они окажутся в ловушке. Но иного пути к спасению просто нет. Ник подсаживает Эн и лезет следом, а за его спиной слышится разочарованный многоголосый лай. Стая упускает добычу и теперь псы, сгрудившись в кучу, остервенело лают, подпрыгивают в тщетных попытках достать оказавшихся слишком смекалистыми двуногих.
— Он-ни все п-почти од-динаковые! — дрожа то ли от пережитого страха, то ли от холода, стучит зубами Эн.
— Домашние собаки за два поколения вырождаются в изначальную форму, — отвечает Ник, поудобнее усаживаясь на карнизе. — У меня брат двоюродный в Индии работал, рассказывал, что там есть большая популяция диких собак, их называют париями. Выглядят парии как раз вот так — рыжие, здоровые псы. Маугли помнишь? Они воевали с этими собаками.
— Они воевали, а мы сбежали, блин, — включается в разговор Хал.
Бегать от врага всегда стыдно. В то же время бежать от опасности — разумно и порой даже необходимо. Человек, лишенный инстинкта самосохранения, обречен на смерть — таков закон эволюции, и это хороший закон. Безмозглый храбрец не оставит потомства, не продолжит свой род и, соответственно, не закрепит в популяции хомо сапиенс ген бессмысленного бесстрашия, угрожающий всему человечеству. Старик Дарвин был прав: естественный отбор — великая вещь.
Так или примерно так Ник утешает своих друзей, сидя под проливным дождем на внешнем карнизе стадионной трибуны. Эн молчит, вжимая мокрую голову в плечи, а Хал, послушав умозаключения Ника, нагибается, плюет вниз, целя в голову самому голосистому псу и говорит:
— Фигня! Эту шнягу очкуны придумали, блин. А вообще — нам бы пару калашей… Отойти на десять шагов и та-та-та-та! Калаш — вещь!
— Ты его хоть в руках-то держал? — поддевает парня Ник.
— По телику видел! — вопрос совершенно не смущает Хала. — Ну, и на ОБЖ в школе показывали: затвор дергаешь и стреляешь.
Ник невесело присвистывает, скорее удрученный, чем обрадованный такими познаниями в военном деле человека, с которым ему предстоит сражаться плечом к плечу, потом мотает головой в сторону ворот Танкового училища и говорит:
— В любом случае, автоматы все — там. Давайте думать, как псов выкуривать.
— Облаву надо. Толпой собраться — и айда!
— А людей где возьмешь? — подключается к разговору Эн. — Если только Монаха убедить…
— Этого козла убедишь, блин! — немедленно реагирует Хал. — Пошел он…
— Луки надо делать, — перебивает его Ник и уверенно заканчивает: — Луки и стрелы. В ближнем бою они нас сожрут. Будем отстреливать издали. Но для начала нам надо как-то отсюда спуститься. Хал, попробуй разбить окно.
— Момент! — татарин радуется возможности проявить себя.
Он вообще не любит бездействия. Скрючившись в три погибели, Хал разворачивается и несколько раз бьет локтем в синеватое стекло.
— Беспонтово! Оно бронебойное что ли, блин?
— Откуда тут бронебойные стекла? — резонно удивляется Ник. — Надо ногой попробовать. Эн, подержи меня.
Цепляясь пальцами за узкие выступы металлической рамы, Ник поднимается на ноги — Эн хватается за его штанину — и со всей силы, на какую только способен, наносит удар тяжелым резиновым сапогом в стекло.
С тем же успехом можно пинать кирпичную стену.
— На совесть строили, — досадует Ник.
— Ага. — Хал достает из-за пазухи свой кухонный нож, смотрится в широкое нержавеющее лезвие, как в зеркало и начинает ковырять резинку уплотнителя стеклопакета.
— Бесполезно, — машет рукой Ник. — Так мы внутрь не попадем. Пошли по карнизу до конца. Вон до того полукруглого выступа, там вроде тоже окна, только другие, повыше.
— А может, просто подождем? — предлагает Эн. — Они погавкают и уйдут. И всё, эксо-эксо, Кэнди.
— Когда, ночью? Мы к тому времени окоченеем тут. Простудимся.
— Кашлять будем, блин, — смеется Хал.
— Зря веселишься, — осаждает его Ник. — Сами же знаете — болеть сейчас нельзя. Врачей нет, лекарств тоже нет. Сдохнем — и вся недолга.
Проползая по карнизу к центральной части фасада здания, они совсем уже отчаиваются, но тут судьба делает им царский подарок: Хал натыкается на приоткрытое окно. Он первым и вваливается внутрь одного из помещений Центра. Собачий лай на улице сразу стихает — умные псы понимают, что всё, двуногие окончательно ускользнули от них.
Комната, в которую попадают друзья — обычный офис. Столы, стулья на колесиках, просевший шкаф с папками, пыльные компьютеры, календарь с улыбающейся Аленой Тим, чемпионкой страны по художественной гимнастике, на стене.
— Июль 2016 года, — смахнув пыль и паутину, читает Ник и грустно произносит: — Знать бы, какой год сейчас…
Эн, застыв у большого монитора, рисует пальцем на пыльном экране сердечки и звездочки.
— Айда инде[22], пошли! — приоткрыв дверь в коридор, зовет Хал. — А то вдруг они стадик окружат.
— Значит, чтобы сделать луки, нам нужно…
— Палки кривые, ветки там, гнучие такие. — Хал делает руками волнообразные движения.
— Нет, — с неудовольствием посмотрев на парня, качает головой Ник. — Нужен капроновый шнур. Не очень толстый, миллиметра три. Такой бывает в хозяйственных магазинах. Хал, где тут есть хозтовары?
— Здесь вообще нету. На Зорге есть, это Горки.
— Далеко?
— Не очень.
— Ник, а оперение? — подает голос Эн.
— Обойдемся, нам на дальние дистанции не стрелять. Стрелы будут простые, колышки. Ну, десяток можно сделать, конечно, по уму. Там, в офисе, где календарь был, я папки видел пластиковые. Из обложек нарежем.
— Шнур, папки, — ворчит Хал. — А луки-то из чего делать?
— Из веток, ты правильно сказал. — Ник повторяет руками движения, которые делал татарин. — Орешник подойдет, но на худой конец и клен сгодиться. Луки будем делать ассиметричные, как у японских самураев — они мощнее. Ветки мы найдем, это ерунда. Главное — шнур для тетивы. У таких самоделок тетива — самая главная вещь.
— Я б еще копье сделал. — Хал достает свой нож, вертит в руках. — Примотать веревкой к палке — и хабах!
— Сделаем, сделаем, если нужно будет, — кивает Ник. — Веди давай на это свое Зорге.
Очередной поход по мертвому городу поначалу не сулит никаких неожиданностей. Дождь стихает, выглядывает солнце. Мокрые листья, трава, лужи на дорогах — все блестит, отовсюду, слепя глаза, прыгают солнечные зайчики.
— Хорошо как. — Эн с наслаждением вдыхает чистый после дождя воздух, напоенный лесными ароматами. — Как будто всё, как раньше, как будто и не было ничего.
— Было. — Хал мрачно указывает на очередной закопченный дом, панельную пятиэтажку, выглядывающую из-за деревьев. — Тут Старые Горки, район такой, блин. У меня тут телка… бикса… девушка жила. Вон в том доме, который черный.
Эн тоже мрачнеет, и всю дорогу до улицы Рихарда Зорге молчит.
С Танковой улицы друзья сворачивают на улицу Братьев Касимовых, обходят, продравшись через мокрую рощу американского клена, развалины длинной многоэтажки. Она не просто сгорела, как многие другие — судя по всему, тут произошел сильный взрыв. От большого жилого дома осталась лишь часть стены с оконными проемами, торчащая из заросшей шиповником груды обломков наподобие обглоданной кости.
Хал, руководствуясь ему одному ведомыми приметами, ведет Ника и Эн дворами, по внутриквартальным проездам, периодически отпуская короткие комментарии:
— В том доме пацан знакомый жил, Генка Трубач. Он траву курил, в трубку забивал специальную, блин. Вот тут у нас махач был с горкинскими. Там колледж, дискотеки делали. Мне башку монтажкой разбили, козлы.
— Долго еще? — не выдерживает этого экскурса в богатую событиями, но довольно однообразную жизнь Хала Ник.
— Почти пришли. Сейчас мимо ларьков пройдем — и налево.
Ларьки, вернее, то, что от них осталось — красные каркасы и груды битого стекла вперемешку с мусором, — друзья проходят в гробовой тишине. Свернув с улицы во дворы, они видят на стене хорошо сохранившейся кирпичной девятиэтажки знакомый символ — круг и буквы: АК.
— Здесь люди есть, — принюхавшись, сообщает Хал. — Дымом пахнет, блин. И вон, смотрите!
Он указывает на длинные глинистые валы, нанесенные дождевыми ручьями поперек дороги. Мягкая глина хранит глубокие отпечатки человеческих ног, в которых стоят мутные лужицы. Друзья подходят, останавливаются.
— Трое в обуви шли. И двое босиком, — говорит Ник.
— С фига ли они босые-то? — удивляется Хал и тут же сам отвечает на свой вопрос: — Разули, наверное. О, зырьте, а тут один босой упал! Похоже на вмятину от тела!
Оплывшая вмятина в глине действительно напоминает по форме человеческое тело.
— Причем от женского. И голого, — подает голос Эн.
— А отпечатков рук не видно, блин. — Хал вертит головой. — Чё она, пьяная, что ли, была — мордой в грязь падать?
— Связанная, — тихо говорит Ник. — Здесь трое мужчин провели двух босых женщин. Одна из женщин была без одежды и со связанными руками.
Эн испугано ойкает.
— Кремлевские, — убежденно произносит Хал и зло матерится.
— Если что — сразу бежим, — предупреждает друзей Ник. — Нам с этими аковцами пересекаться ни к чему.
Однако его опасения оказываются напрасными — до самого магазина путникам не встречается ни единой живой души. А вот в самом магазине, называвшимся, судя по сохранившимся на фронтоне буквам «Мастер на все руки», их ждет сюрприз: он оказывается обитаем. Большие витринные окна забиты досками, кусками мебели, завешаны полотнищами автомобильных тентов. Вместо двери проход загораживает железный шкаф. Вкусно пахнет мясом: то ли разогретой тушенкой, то ли супом. Внутри — тихо. Ник поднимается по замусоренным ступенькам и стучит по металлической поверхности костяшкам пальцев.
— Тук-тук! Кто в теремочке живет?
— Чего надо? — сердито отвечает из глубины магазина недовольный мужской голос.
— Шнур капроновый, гвоздей, лески, топор бы еще хорошо и пассатижи, — не смущаясь, перечисляет Ник.
В магазине хохочут, причем ясно слышно, что обитателей «Мастера на все руки» явно больше, чем один.
Доносится шарканье шагов, грохочет отодвигаемый шкаф и на пороге возникает мужик лет тридцати пяти, небритый, опухший, с налитыми кровью глазами. От него несет застарелым потом и псиной. Одет он, тем не менее, в чистый спортивный костюм, на ногах — резиновые шлепанцы. В руках житель и, видимо, хозяин магазина сжимает кусок водопроводной трубы с навинченной на него массивной переходной муфтой. Таким оружием при желании можно размозжить голову любому незваному гостю.
Ник отступает на несколько шагов. Хал и Эн придвигаются к нему. Рука татарина исчезает под курткой, сжимает рукоять ножа.
Некоторое время на крыльце стоит тишина — мужик разглядывает пришельцев, с трудом ворочая выпученными глазами.
— Откуда? — интересуется он наконец, дохнув многодневным перегаром.
— Из Цирка, — отвечает Хал и опускается на корточки.
— Под кем сидите?
— Под Асланом. А ты?
— Тоже. Кремлевская крыша, — со вздохом отвечает мужик и принимает точно такую же позу, что и Хал. — Что дать можете?
Ник облегченно выдыхает — вроде пронесло, драки не будет, начинается разумное толковище.
— А чё надо? — спрашивает Хал.
— Девку. — Мужик тычет дрожащим грязным пальцем в Эн. — На час. Нас трое, все путем будет. За это получите шнур — два мотка, ведро гвоздей, лески катушку и топор. Водка нужна? У нас есть. Три бутылки дам, но это будет полтора часа. Идет?
Эн возмущенно набирает в грудь воздуха, готовясь выпалить что-то очень гневное и злое, но Ник, уверенный, что Хал сейчас даст достойный отпор хозяину магазина, обнимает ее за плечи и шепчет в розовое ушко, украшенное серебряной сережкой-звездочкой:
— Молчи!
— Давно бухаете? — словно и не слыша предложения мужика, лениво осведомляется Хал.
— Неделю, — мычит мужик. — Ё-ё, надо завязывать. Ну, что, вы согласны? Если нет — валите к бебеной маме, я спать хочу!
Эн открывает рот, чтобы послать похмельного сластолюбца по уже озвученному адресу, но ее опережает Хал. Спокойно кивнув, он говорит:
— Согласны. Пошли внутрь, товар покажешь.
И не дожидаясь ответа, поднимается. Мужик хмыкает и тоже встает.
— Ну, пошли.
— Я никуда не пойду! — выкрикивает Эн. — Эксо-эксо, Кэнди.
Ник хмурится. Он ничего не понимает, так же, как и Эн. Самое время высказать Халу претензии по поводу его умении вести переговоры, но тут татарин оглядывается и хитро подмигивает своим спутникам — мол, все будет нормально.
В торговом зале магазина царит полумрак. Разгромленные прилавки сдвинуты в дальний угол, а прямо напротив входа друзья видят чугунную печку-буржуйку, на которой аппетитно побулькивает в большом дюралевом котле-тагане какое-то мясное варево. За печкой, у дальней стены, громоздятся ящики и мешки.
Поодаль, на грязных надувных матрацах, лежат двое мужчин. Судя по всему, оба находятся в состоянии глубокого похмелья. Они лишь вяло машут гостям, но даже не пытаются встать. Между матрацами высится импровизированный стол — снятая с петель и уложенная на ящики пластиковая дверь, густо заставленная пустыми и полными водочными бутылками, грязными мисками, кружками.
— Это Колян, это Ильнур, — представляет лежащих пучеглазый. — С нашего двора мужики. Ну что, товар смотреть давай. Вот гвозди, вот тут, в мешке, шнур. Топоры там, в ящике. Все в смазке, как новое.
— Может, нальете? — предлагает Хал, алчно пожирая глазами водку на столе. — А то как-то не по-русски, блин.
— Не вопрос, — легко соглашается пучеглазый. — Падайте, где найдете.
Себе он подтаскивает пустой пластиковый ящик, гордо садится верхом, точным движением подхватывает со стола бутылку и разливает водку по кружкам.
— Э, ты чё, не уважаешь? — возмущается Хал, указывая на кружку. — У нас за знакомство по полной льют!
Ник и Эн вдвоем приносят узкий железный шкаф-пенал, укладывают его в стороне, садятся. Они так и не понимают, какую игру ведет Хал. Эн бьет мелкая дрожь, Ник, как может, шепотом успокаивает девушку.
— По полной, по полной, — руководит действиями пучеглазого татарин. Повернувшись к Коляну и Ильнуру, он делает приглашающий жест рукой. — Айда, мужики, похмелитесь!
— Олег, мы ж завязать хотели! — подает неуверенный голос узколицый Колян.
— Да ладно, — радостно машет рукой пучеглазый. — Вишь, гости у нас. Девушка-красавица. Повод! Как зовут-то?
Эн передергивает от отвращения.
— Это Наташа, я — Никита, — отвечает за нее Ник. — Мы пить не будем… И это, мужики…
— Стопе! — обрывает его Хал. Он поднимает полную кружку, чокается с пучеглазым Олегом, Коляном и Ильнуром. — Давайте, за то, чтобы у нас все было и ничего нам за это не было!
Обитатели магазина переглядываются, чернявый Ильнур кривится, но вслед за Олегом и Коляном вливает в себя содержимое кружки.
— А-а-а… хорошо пошла, — сообщает неизвестно кому пучеглазый. — Сейчас закусим! Ильнур, как там наш супчик?
— Готово!
— После первой не закусываю, блин, — категорично заявляет Хал. — У нас во дворе один бродяга по жизни жил, Беляш. Он знаете, чё говорил? От первой ходки до второй перерывчик не большой! Ха-ха! Поливай, Олегыч!
— Первый раз сидим как люди, — масляно улыбаясь, блеет мгновенно захмелевший Ильнур. — Ну, давай по второй. Колян, ты как?
— П-подреживаю, — заплетающимся языком отвечает узколицый и хватается за кружку. — Выпьем — и пожрем, да?
Олег, выпучив глаза так, что они едва не вываливаются из орбит, кивает. Он залпом одолевает свою порцию и выжидательно смотрит на Хала. Из всей троицы магазинных жителей он один не окосел, а скорее наоборот — движения его сделались более уверенными, мутные глаза прояснились.
Хал, улыбаясь, выпивает водку как воду, со стуком ставит кружку на стол. Ник шарит взглядом по грязному полу, подыскивая что-нибудь потяжелее — непонятная игра Хала явно подходит к концу, близится развязка. Татарин между тем совершенно спокойно спрашивает:
— А чё, где у вас тут поссать можно?
— Вон туда, — кивает на темный проем, ведущий в служебные помещения, Олег. — Прямо по коридору — и во двор. Там увидишь.
— А собак там нет?
— Бывает, — снова кивает пучеглазый. — Трубу возьми.
Подхватив тот самый кусок водопроводной трубы, с которым Олег выходил встречать гостей, Хал нетвердой походкой удаляется в темноту.
— Ну чего? — поворачивается пучеглазый к Нику и Эн и жадным взглядом обшаривает девушку с головы до ног. — Давай уже расплачиваться. Наташенька, может, ты выпьешь? Мартини нету, но водка у нас хоро-о-ошая!
— Не буду я! — сверкает глазами Эн.
Ник примечает в нескольких шагах от того места, где они сидят, ржавую чугунную сковороду с короткой ручкой. На оружие сковорода не тянет, но это лучше, чем ничего.
— Ну, как хочешь. — Олег тяжело поднимается, делает шаг, пошатывается, но восстанавливает равновесие и задумчиво смотрит на Ника. — Слышь, братан, ты как, выйдешь? Или посмотреть хочешь?
Хал возникает за спиной пучеглазого, словно призрак. Коротко, без замаха, он бьет его трубой по голове, перешагивает через упавшее тело и ударом ноги опрокидывает котел. Дымящийся бульон широкой волной разливается по заплеванному полу, длинные узкие куски вареного мяса разъезжаются во все стороны, извиваясь, точно живые.
Пьяный Ильнур пытается приподняться, опершись об стол, но его рука скользит, и он с матюгами падает в горячую лужу. Колян, глядя на все это, громко икает.
— Они людей жрали, блин! — поигрывая трубой, сообщает Нику и Эн Хал. — Там, за домом, в кустах, руки отрубленные… и разное другое. Гасим всех, короче!
— Погоди. — Ник поднимается, аккуратно перешагивает через парящий бульонный ручеек, трогает пульс на шее у пучеглазого. — Живой.
— Ща добью! — Хал вскидывает руку с зажатой в ней трубой.
— Погоди, сказал! — Ник вырывает у него трубу. — Мы — не убийцы. Эн, достань из мешка моток шнура…
Спустя полчаса, нагруженные всем необходимым, друзья покидают страшный магазин. Железный шкаф, служивший людоедам дверью, они из соображений гостеприимства убирают в сторону. Троицу пьяных нелюдей, накрепко связанных толстым капроновым шнуром, оставляют лежать посреди торгового зала, в бульонных лужах.
На прощание Ник говорит им:
— Когда сюда придут собаки, очень рекомендую перед смертью вспомнить тех, кого вы лишили жизни. Вспомнить — и покаяться. Может быть, там, наверху, вас все же простят.
Хал, которого все же развезло от выпитой водки, истерично хохочет, указывая на стонущих людоедов:
— Колбаса в обвязке, блин! Куть-куть-куть, собачки! Ужин готов.
— Перестань, — морщится Эн. — Пошли скорее, а то меня сейчас вырвет.
Глава вторая
Лук — это не просто кривая палка и натянутая на нее веревка, как думают многие. На протяжении тысячелетий лук был главным — и очень эффективным! — дистанционным оружием человечества, причем на всех континентах. Именно лук позволил Чингиз-хану и его нукерам одерживать победы над более технологичным врагом, благодаря луку английские войска победили французскую армию Филиппа Четвертого в битве при Креси, положив начало концу эпохи рыцарства в Европе. Турецкий султан Селим Третий, стреляя из рефлексивного составного лука турецкого типа, отправил стрелу на 889 метров — мировой рекорд, между прочим. Кстати, турки используют при стрельбе «монгольский способ» — тетиву они натягивают большим пальцем, на который надето специальное кольцо. У нас этот хват называется «замок», он прочно удерживает стрелу и тетиву, исключая срывы. Наташка умеет стрелять с помощью «замка» и кольцо у нее есть, китайское, костяное. Бедная, она даже не догадывается, что это именно ей придется в основном убивать собак…
Энка еще не отошла после истории с магазином и теми ублюдками, что в нем сидели. В Цирке поговаривали, что где-то на окраинах, за бывшей Казанкой, в районе химического завода «Оргсинтез», есть целая банда охотников за людьми. Но это где-то далеко, а тут — вот так, без боязни, на виду у всех…
И еще — аковцы и Аслан их «крышевали». И наверняка знали, что эта троица — людоеды. Вывод? Да все просто: Аслану по барабану. Главное, чтобы на его власть не покушались.
Хал с самого начала заподозрил, что там дело не чисто. Он нам потом, когда проспался, рассказал: мол, сначала просто хотел опохмелить этих уродов до отключки, забрать все, что надо, и уйти. А когда мясо в тагане увидел, вспомнил про следы на улице и решил проверить.
Хал молодец, чего уж там. И Эн. Для девчонки она держится на пять с плюсом. А я вот все никак не соберусь, в себя не приду. Не понятно мне, как быть, что делать. Законов нет, правил нет. Ничего нет. Все живут наобум, как придется. Кто сильнее — Аслан вот со своими отморозками — тот и главный. Может, правы те, кто говорит, что простым людям, ну, народу, всегда начальник нужен, жесткая власть, твердая рука? Наверное, правы. Не могут люди жить сами по себе. Из меня вон солдат нормальный был, а вот командир…
Нет, всё, к черту эту рефлексию! Кто был однозначно прав, так это древнегреческие философы-стоики: «Делай, что должно, — и будь, что будет». Я сейчас должен делать луки и стрелы. Много стрел. Я должен показать Халу и Эн, какие ветки, какой длины и толщины, нужно выбрать для этого. Вот это мое дело. А все остальное — ну его к лешему. Проще надо быть. И увереннее в себе.
Импровизированную мастерскую по изготовлению луков Ник решает устроить в глухой чащобе, поднявшейся на месте спортивной площадки, примерно в километре от Танкового училища. Первым делом он берется за тетиву. Размотав шнур, оборачивает его вокруг бетонной опоры столба освещения, выравнивает концы и кивает Халу и Эн:
— Тяните! Изо всех сил.
— Порвем же, — неуверенно улыбается Хал.
— Этот трос выдерживает нагрузку в несколько тонн. Не порвете. Тяните!
И Ник, сам ухватившись за крапчатый шнур, наматывает его на кулак, упирается ногами в землю, выгибается…
— Ну, давайте!
Эн и Хал присоединяются к нему. Слышится скрип, шнур елозит по грязному бетону.
— Сильнее! — хрипит Ник. — Нужно максимально вытянуть его.
— Зачем? — не понимает Хал.
— Чтобы тетива не растягивалась потом. И-эх! Взяли! Еще — взяли!
Ветви для луков, толстые, длинные — под два метра — и чуть изогнутые, лежат в сторонке. Их Ник вырубил в зарослях клена. Когда с вытяжкой шнура покончено, он берет одну из ветвей, упирает одним концом в землю, наваливается, пробуя согнуть.
— Нормально. Будет простой дугообразный лук, типа английского длинного, только ассиметричный. Нагрузка натяжения в двенадцать килограммов — а больше нам и не надо. Хал, бери топор, плющи гвозди, отрубай шляпки. Эн, вот тебе нож — пошли, будем срезки для стрел делать. И давайте, ребята, поторопимся — скоро вечер.
Хал, хмыкнув, садится, вытаскивает из промасленного бумажного свертка гвоздь-пятидесятку, кладет на бетонный бордюр, предварительно очищенный от грязи, ловко перекидывает в руке топор обухом вниз и с оттяжкой наносит первый удар…
Под звонкое тюканье Ник и Эн спускаются в небольшой овражек, сплошь заросший молодыми ивами.
— Нож держи заточенной стороной от себя. Ветки срезай наискосок, выбирай более-менее прямые, толщиной в палец, и чтобы не меньше метра длиной, — объясняет Ник девушке. — Всё, давай. Ты тут, а я вон там, в сторонке. Нам надо не меньше сотни стрел.
— А ты где этому научился-то? — сдунув набок челку, интересуется Эн. — У нас на ролевках луки не так делают…
— Это потому, что на ролевках вы ерундой маетесь, — сварливо говорит Ник.
— Чего это ерундой-то? — мгновенно вспыхивает Эн.
— Потому что глупости все это — эльфы, гномы, плащи, мечи… Бегство от действительности.
— Если действительность такая, что от нее сбежать хочется, мы что, виноваты?
Эн вздыхает, берет нож, примеривается и бьет по упругому ивовому отростку с зеленовато-желтой корой.
— Эй, ну ты чего? — восклицает вернувшийся Ник. — Я же сказал — в палец толщиной. Из этой ветки не стрела, а в лучшем случае розга для порки получится.
— Но она как раз в палец и есть, — оправдывается Эн и демонстрирует свой розовый указательный пальчик с обкусанным ногтем.
— В мой палец! — Ник сует ей под нос руку, вертит перед носом. — Поняла?
— А что ты орешь? — не выдерживает девушка. — Объяснил бы сначала толком! Тоже мне, мастер… Эксо-эксо, Кэнди.
— Ну всё, всё, работай, — сразу уступает и Ник уходит в заросли.
Часа полтора все заняты делом. Хал плющит гвозди, напевая себе под нос куплет из песни, услышанной от Филатова:
Ник и Эн приносят охапки заготовок для стрел, сваливают на траву.
— У меня мозоль на руке от ножа, — жалуется девушка. — Больно.
— Терпи, — усмехается Хал, откидывает очередной расплющенный гвоздь в кучку таких же, кладет на бордюр следующий, придерживает, взмахивает топором — удар! — и тут же орет диким голосом, тряся ушибленным пальцем:
— Ёкарный… Блин… Мать… Грести-скрести!
— Ой, дай посмотрю, — бросается к нему Эн.
— Да ничего, ничего, — сразу успокаивается и начинает по-пацански важничать Хал. — Ноготь только слезет, блин.
— Работнички, — ошкуривая ножом кору с будущих стрел, усмехается Ник.
Вечереет. Солнце садится в тучи, вся западная часть неба окрашивается багряным цветом. Длинный сиреневые тени ложатся на землю, овражек заливает фиолетовая мгла.
— Я закончил. Бетте! — сообщает Хал, вертя в пальцах последний расплющенный гвоздь.
— Сколько? — спрашивает Ник.
— Чего — сколько? Я их чё, считать должен, блин?
Ник устало вздыхает.
— А как мы, по-твоему, узнаем, сколько нам стрел надо подготовить?
— Ой-ё! — Хал уныло сгребает гвозди, принимается вслух считать, перекладывая их из стороны в сторону: — Один, два, три…
Ник сматывает шнур, берет основы для луков и командует:
— Эн, собирай заготовки, пойдем в спорткомплекс, доделаем всё там, переночуем, а утром…
Утро выдается ветреным, хмурым, ненастным. Эн, зябко поеживаясь, сидит на корточках у крохотного костерка, разожженного прямо на полу посреди комнаты, где они ночевали. Девушка пристроила над огнем закопченный котелок, налила в него воды. Три герметичных пакетика с растворимым кофе, срок годности которых истек много-много лет назад, ждут своего часа. Немудреный завтрак, помимо кофе, включает в себя несколько печеных картофелин, великодушно подаренных Филатовым, и стебли дикушки, нарванные вчера в овражке.
Ник, поднявшийся раньше всех, сидит по-турецки у окна и оснащает стрелы наконечниками. Методика его проста и эффективна: расщепив стрелу, вставить до половины в расщеп расплющенный гвоздь, замотать медной проволокой и затянуть пассатижами.
С десяток уже готовых стрел аккуратно уложены на полу.
Очередная ошкуренная ветка. Очередной гвоздь. Ник приставляет лезвие ножа к торцу, нажимает, расщепляя древко. Эн подходит, берет готовую стрелу, взвешивает в руке.
— Перетяжелённая же! Утыкаться будет.
— А мы сверху станет стрелять, — весело подмигивает ей Ник. — На будку залезем, которая возле ворот — и все дела.
— Мы? — удивляется Эн.
— Конечно. Вернее, ты. — Ник внимательно смотрит на девушку. — Из меня стрелок, сама знаешь, какой — сухожилие же. Ну, ты в курсе. А Хал лук вообще в руках не держал.
— Я что… буду убивать собак? Ни за что!
Ник откладывает недоделанную стрелу, встает, берет девушку за плечи и смотрит в глаза.
— Наташка, пойми — жизнь у нас теперь такая. Или ты — или тебя.
Они долго, минуту или даже две, стоят молча глядя друг на друга. Наконец Эн бормочет:
— Я постараюсь… Ой, вода закипела. Хал, вставай!
После завтрака гнут луки. Ник и Хал вдвоем, уперев в пол один конец ветви, тянут противоположный вниз, а Эн накидывает на зарубку петлю тетивы.
— Осторожно, осторожно, чтобы не треснул! — предупреждает татарина Ник. — Соизмеряй силы. Сдури можно и, сам знаешь, что сломать. Еще чуть-чуть. Ну вот, всё! Эн, пробуй.
Девушка берет готовый лук, недовольно поджимает губы.
— Тяжелый.
Пару раз дернув тетиву — та басовито гудит, — вновь корчит гримаску.
— Детский сад, средняя группа.
Хал, наблюдающий за ней, хватает второй лук.
— А ну, я попробую!
Он не глядя берет первую попавшуюся стрелу, накладывает, щепотью натягивает тетиву, целится в дверь и разжимает пальцы. Еле слышно свистнув, стрела с глухим стуком бьется в пластик и отскакивает.
Эн смеется.
— Смотри, как надо.
Она надевает на большой палец правой руки толстое желто-зеленое кольцо с зубцом, выбирает стрелу, жалуется:
— Кривоватая!
Захватив кольцом тетиву, складывает пальцы в замок, зажав стрелу, резко выносит лук вперед и спускает басовито загудевшую тетиву. Свист! Насквозь пробив дверь, стрела улетает в темный коридор.
— Моща, блин! — уважительно произносит Хал.
— Будущая олимпийская чемпионка, — гордо усмехается Ник.
И все тут же сникают, понимая, что в ближайшие годы никаких Олимпийских игр явно не ожидается.
— Всё, пошли, — сердито бросает Эн, собирая с пола стрелы. — Я готова. Нечего кота… то есть пса за хвост тянуть.
Хал тащит на себе перевязанные куском шнура охапки стрел, Эн и Ник несут луки. Пробравшись к ограде Танкового училища, друзья прячутся в паре десятков шагов от ворот. Ветер дует им в спины, а значит, псы не учуют людей раньше времени.
Собаки свободно бродят за оградой, несколько десятков крупных зверюг лежат в глубине двора.
— Штук сорок будет, — шепчет Ник. — Значит, делаем так: вы бежите к КПП. Собаки пока прочухаются, успеете. Хал, ты подсаживаешь Эн, закидываешь ей наверх стрелы, луки. Потом лезешь сам. Вон, возле дверей каменный столб ограды, заберешься на него — и хватайся за ограждение наверху.
— А ты? — спрашивает Эн.
— Я отвлеку собак. Стрелять старайся в шею. Или в голову. Всё, начали!
Они выскакивают из своего убежища и бросаются к воротам. Хал первым добегает до кирпичного здания КПП, зашвыривает на крышу стрелы и луки, чуть приседает, выставив соединенные ладони.
— Ногой, блин! Ногой сюда наступай!
Ник бежит чуть сзади и понимает: они недооценили чутье и резвость псов. Едва заметив людей, собаки сразу, всей стаей, рвутся к незваным гостям. Ник резко поворачивает, хватается за ажурную решетку ворот, начинает орать что-то нечленораздельное, улюлюкает, тряся металлическую конструкцию, с которой летят хлопья ржавчины.
Эн бесстрашно прыгает вперед, Хал кряхтит, подбрасывает девушку вверх. Взвизгнув, Эн по-кошачьи цепляется за край крыши, быстро-быстро вскарабкивается наверх, делает несколько шагов, поскальзывается и едва не падает.
— Стреляй! — кричит Ник, забираясь на самый верх левой створки. — Да стреляй же!
Псы уже беснуются вокруг него, постепенно к воротам потягиваются даже щенки. Хал, с побелевшим от страха лицом, лезет на каменный столб ограды. Несколько собак устремляются к нему, и только природная ловкость и везение спасают парня от их клыков.
Эн наконец умудряется встать на краю крыши, широко расставив ноги. Пук стрел она прислоняет к низенькой декоративной решетке, идущей по периметру всей крыши.
— Стреляй! — в два голоса орут Ник и Хал.
От собачьего лая закладывает уши. Матерый рыжий пес с черным ремнем вдоль хребта подпрыгивает, пытаясь достать Ника. Створка трясется, не выдерживает веса человека, наклоняется. Одна из проржавевших петель со скрежетом отрывается.
— Ну, Энка! Стреляй! — отчаянный крик Ника перекрывает лай.
Эн на мгновение зажмуривается, поднимает лук, прицеливается прямо в скопище беснующихся псов и…
Я никогда не стреляла в живое существо. Даже в птицу, даже в бабочку. А тут собаки, настоящие, живые, лохматые. Раньше, наверное, это были бы добродушные дворняги, которых так любят подкармливать сердобольные старушки и малышня во дворах. Но теперь они стали дикими зверями, способными растерзать человека за считанные секунды. И всё же, всё же…
Я никогда не стреляла в живое существо!
И только когда ворота начали рушиться, и Ник повис над сплошным месивом из оскаленных пастей и безумных, налитых кровью глаз, я решилась.
Первые десять стрел я высадила, вообще не целясь. Просто стреляла на скорость, быстро-быстро. И почти все стрелы попали в цель — сквозь лай прорезались вой, скулеж и несколько псов с торчащими из спин древками, пятная кровью землю, бросились врассыпную.
Мне стало дурно. Руки ослабели, к горлу подкатил тугой комок. Перед глазами все плыло. Стая распалась на группы, которые закружились вокруг ворот, словно в хороводе. Тут уже пришлось выцеливать, брать упреждение. Поначалу все было плохо — я мазала, раз за разом. Но стрелы отвлекли собак, и Ник, слава Богу, кое-как сумел перебраться со сломанной створки на забор. Они с Халом сидели там вдвоем и что-то кричали мне. А чего кричать, я и так все знаю и понимаю.
Просто надо успокоиться. Представить, что это соревнования. Нет, даже не соревнования, там мишени неподвижные, а ролевка. Обычная игра, после которой проводятся состязания среди лучников. Стрельба по движущийся мишени «бегущий орк». У нас в клубе парни сделали такой фанерный щит на колесиках, его нужно было тянуть за веревку.
Стрела, кольцо, замок, натяг, выстрел! Вот так, вот так. Молодец, Наталья Николаева, город Иркутск. И еще раз молодец! Прямо в шею попала.
Клуб… Кажется, это было в прошлой жизни. Или вообще никогда не было, просто приснилось. В тусовке ролевиков у меня красивый ник — Нириэль. Я эльфийская дева-воительница, предводитель клана Крадущихся в ночи. Мы не убиваем понапрасну, только защищаясь или спасая союзников. На игры я всегда надеваю походный плащ, перешитый из старого бабушкиного покрывала. Плащ темно-зеленый, с красивыми муаровыми разводами. Мишка Тарасов, наш гном-кузнец Строин, сделал мне застежки под серебро, чеканные, на цепочке. Красивые… С тех пор три раза на финальном балу меня признавали Королевой игры.
Стрела, кольцо, замок, натяг, выстрел! Какой живучий пес! В нем уже три стрелы, а он все прыгает. Ну, получи четвертую. Вот так, отлично!
И вот теперь Королева, дева-воительница, эльфийка Нириэль убивает собак. И щенков. Смешные, пушистые комочки внизу путаются под лапами взрослых псов, тявкают, машут тонкими хвостиками. Для них это всё — игра. И лук в моих руках тоже больше похож на игрушечный, хотя Ник и делал его по всем правилам.
Стрела, кольцо, замок, натяг, выстрел!
Но игры кончились. Окончательно я поняла это, когда мужик с автоматом потащил меня в кусты возле Цирка. Господи, как у него воняло изо рта. А потом были людоеды. И Хал с трубой в руке. И запах вареного человеческого мяса…
Стрела, кольцо, замок, натяг, выстрел!
Я больше никогда не буду эльфийской девой. Нириэль умерла, ушла за море.
Мир изменился.
Простите меня, щенки. Сегодня вам не повезло. У меня устали руки, но я буду стрелять в вас. Это закон природы. Вы соблюдали его всегда — убей, или убьют тебя. А мы, люди, ушли от этого закона, мы построили себе города и придумали множество других законов и правил, по которым жили. Теперь все закончилось. Звери, мы вернулись обратно. Встречай же, мать-природа, самое безжалостное свое творение, хищника номер один — человека разумного!
Стрела, кольцо, замок, натяг, выстрел…
Собаки начинают разбегаться, когда у Эн остается всего семь стрел. Оставив у ворот полтора десятка трупов, стая рассыпается и молча — лишь поскуливают раненые псы — покидает территорию училища.
Ник, усевшийся верхом на столбе ограды, показывает девушке оттопыренный большой палец — молодец, мол. Хал, ругаясь, спускается с соседнего столба, вытаскивает из-за пояса топор и принимается деловито добивать подранков.
Эн устало опускается на пыльный, теплый пластик крыши, аккуратно откладывает лук и закрывает глаза. Ее трясет. Трясет от физического и нервного напряжения. А еще девушке очень неприятно, что во время боя — да какого там боя, истребления! — она в какой-то момент вдруг ощутила азарт охотника, стремящегося во что бы то ни стало убить, убить, убить…
— Я сама теперь — зверь, — шепчет Эн небу и облакам. — Эксо-эксо, Кэнди.
— Спускайся, я помогу, — говорит снизу Ник.
— Да пошел ты, — одними губами отвечает девушка. — Сухожилие у него… Тренер… Гад.
Она все-таки спускается. Сама, проигнорировав помощь Ника. Хал к этому моменту уже оттаскивает трупы псов за ворота, в расползшийся, поросший лопухами кювет.
— Эх, шкуры бы снять, — качая головой, говорит он, бродя вокруг груды собачьих тел. — И мясо, блин. Это сколько же тут мяса!
— Я это… этих есть не буду… — говорит Эн и вдруг кричит, размахивая луком: — Что встали, а? Мы зачем сюда приперлись? Оружие вам надо, да?! Ну, так ищите! Давайте, ну!
— Ты чё? — не понимает Хал. — Взбесилась? Чё орешь-то, блин?
— Оставь ее. — Ник отбирает у Эн лук, с сожалением смотрит на второй, запасной, оставшийся на крыше.
Они с Халом собирают стрелы, валяющиеся повсюду, кое-как очищают наконечники тех из них, что покрыты собачьей кровью. Все это время Эн сидит на приступочке у стены КПП, закрыв глаза.
— Ну, мы готовы, — наконец произносит Ник. — Где тут у них что? Вон, желтое, с мозаикой — это что за здание?
— Главный корпус вроде. — Хал прищуривается. — Нам туда не надо, блин. Пошли влево, там у них спорткомплекс вроде, а за ним учебные корпуса.
— Караульные вышки ищите. Где караулы, там и склады, — напоминает Ник.
Но едва только они делают несколько шагов по занесенному землей плацу, как со стороны Оренбургского тракта доносятся странные звуки. Какое-то металлическое дребезжание, бренчание, позвякивание…
Звуки очень знакомые. И Ник, и Эн, и Хал слышали их в своей жизни тысячи раз, но сейчас, здесь, они кажутся невозможными, потому что относятся к прошлому, к мирному, домашнему прошлому.
— Это… — Хал прищелкивает пальцами, силясь вспомнить.
— Велосипед! — хором восклицают Ник и Эн.
— Точняк!
Друзья разворачиваются и выбегают за ворота. Они не ошиблись — по кочкам, объезжая лужи и деревца, мимо ограды училища катит самый настоящий велосипед, на котором гордо восседает тощий, высокий, сильно небритый человек в очках. Одетый в оранжевый плащ с капюшоном и тапки-вьетнамки, он походит на сумасшедшего клоуна из сюрреалистического фильма.
Поблескивают спицы. Покачивается прикрученный проволокой к рулю большой зонт, защищающий седока от солнца. Пощелкивают педали.
— Бли-ин… — с восторгом в голосе говорит Хал.
Велосипедист замечает людей и останавливается.
— Эта… Мне нужно проехать! — несколько надменно заявляет он высоким голосом. — Туда.
— Слышь, Очки, а ты где велик взял? — с развязанной непосредственностью уличного подростка осведомляется Хал.
— В гараже нашел, возле РКБ[23], — отвечает мужчина и тут же добавляет: — У меня ничего нет. Пропустите меня.
— Да нам ничего и не надо, — качает головой Ник. — Просто удивительно — велосипед на ходу. Как новенький!
— Там эта… всё, как новенькое, — человек указывает рукой себе за спину. — Только там желтый туман. Не ходите туда!
— Я — Никита, это вот… — Ник представляет своих спутников. — А вы кто?
— Вилен Юсупов. Я эта… инженер, на КАПО[24] работал.
— Может, вы кушать хотите? — спрашивает Эн.
— А есть? — сразу утратив все высокомерие, жадно спрашивает Юсупов. — Я эта… три дня назад суслика из норы вылил, с тех пор только траву жую, как кролик.
— Кормить его еще, — ворчит Хал. — Самим не хватает…
— Перестань, пожалуйста, — одергивает парня Эн. — Люди должны помогать друг другу. Эй, Вилен, заезжайте во двор.
Глава третья
Инженер Юсупов ест быстро и неряшливо. Пяток картофелин и дикушку он уминает со скоростью мясорубки и с надеждой смотрит на Эн сквозь очки близорукими голодными глазами.
— Натали, эта… а больше нет?
Хал ругается. Ник смеется.
— Увы, Вилен, это все, что у нас было, — разводит руками девушка. — Эксо-эксо, Кэнди.
Они сидят у стены главного здания училища, украшенной большим мозаичным панно на милитаристскую тему. Внизу панно идут буквы: «КВТККУ». Это значит — Казанское Высшее Танковое Краснознаменное Командное Училище.
— Жаль. — Юсупов снимает очки и протирает их грязноватой тряпочкой. — Ну что ж… Наверное, эта… я должен вас отблагодарить. А поскольку самым ценным товаром всегда была информация, я расскажу о том, что видел.
Хал снова ругается. Инженер ему не понравился с самого начала.
— Прежде чем вы начнете, скажите — а куда вы ехали? — спрашивает Ник.
— В город, — удивленно смотрит на него Юсупов. — Домой! И эта… давай на «ты», что мы, на фуршете, что ли?
— Боюсь, в городе вам… тебе не понравится. — Ник сводит брови к переносице. — Хреново там сейчас.
— Я так и думал, — кивает инженер. — Мародеры… Но за городом — то же самое.
И он начинает рассказывать, как неделю назад пришел в себя среди руин дачного домика, в котором собирался провести пару законных отгулов.
— Мы эта… С мужиками на рыбалку хотели съездить. У меня дача на Светлой поляне, ну, знаете, за Боровым Матюшино. Я приехал первым, порядок маленько навел. А потом эта… раз — и всё…
Очнувшись, Юсупов обнаружил, что все вокруг изменилось — лес поглотил дачный поселок и окрестные базы отдыха. Очутившись в непролазной чащобе, среди бурелома, мхов и зарослей папоротника, Юсупов растерялся. Он целый день бродил вокруг своего покосившегося домика, кричал, звал на помощь, но на его вопли откликались только птицы.
— А потом эта… человек пришел. Сторож из санатория. Там санаторий был, «Санта», большой, семь этажей. Сторож сказал, что все сгорело, только давно. И людей нет. Никого нет. Непонятно. В общем, решили мы выбираться. Эта… вышли на дорогу, а дороги тоже нет. Асфальт растрескался, расползся весь, одни ямы. Лес кругом. Дошли до Борматюшина. Ночевали в каком-то доме, а утром увидели… Хозяев, короче. Мертвых. Ну, эта… не мертвых, а скелеты одни остались. Кости. Тут я понял, что времени много прошло. Что меня через время перенесло, и сторожа тоже.
— Почему вы… ты думаешь, что перенесло? — заинтересованно спрашивает Ник.
— Так эта… я-то такой же, как был. А все вокруг состарилось, сгнило.
— А одежда? — вмешивается Эн. — Одежда ведь тоже сгнила.
— Хм… — Юсупов задумчиво чешет лохматую голову. — Верно, верно. Получается, эта… только тело перенеслось?
— Тебе плохо было, когда очнулся?
— Очень! — кивает инженер.
— Это потому, что никуда твое тело не переносилось. Оно просто пролежало все это время на даче. — Ник вздыхает. — Мы здесь уж тысячу раз все это обсуждали. У всех одно и то же. Те, кто в пожар попал или там придавило чем-то или током шарахнуло — те и погибли. Остальные выжили. Тридцать лет прошло примерно, понял?
— Понял, — потрясенно шепчет Юсупов.
— Очки, а чё ты там про РКБ нес, блин? — встревает в разговор Хал. — Велик-то новый.
Юсупов некоторое время молчит, потом с сожалением смотрит на опустевший пакет, служивший походным столом, подхватывает грязными пальцами картофельную шелуху, сует в рот и продолжает рассказ.
В Боровом Матюшино они со сторожем провели два дня, встретив за это время всего несколько человек: таких же бедолаг, мыкающихся без одежды, еды и информации. Наконец, Юсупов твердо решил пробираться в Казань. Сторож собрался идти с ним. Пошарив по домам, они обзавелись кое-какой одеждой, нарыли на заросших огородах выродившейся моркови, картошки, набрали яблок и с этим запасом тронулись в путь.
У автобусной остановки возле сворота на Песчаные Ковали на них напали мародеры. Пятеро крепких мужиков с дубинками и ножами отняли у путников еду и одежду, а когда сторож начал возмущаться, без лишних слов убили его.
— Я эта… в лес убежал, — повесив голову, рассказывает Юсупов. — Сиганул, значит, как сайгак. А то бы и меня… эта… тоже.
Оставшись в одиночестве, голый — в одних очках — инженер сутки или около того блуждал по лесу, питаясь ягодами и сырыми лисичками, пока не вышел к окраине Казани, поселку Мирный. Оранжевый прорезиненный плащ и вьетнамки он нашел в одном из сараев. Юсупов решил было задержаться там, чтобы запастись продовольствием — у рачительных мирнинцев были большие огороды, — но его быстро вычислила и обстреляла из охотничьих ружей какая-то местная банда.
— И что ведь главное, — обиженно трясет головой инженер, — даже эта… разговаривать не стали. Сразу из двух стволов — бах, бах! Не попали, правда. Да и ружья у них не сильно стреляли — больше шума. Я долго бежал, через железную дорогу, опять по лесу. Как раз к РКБ и вышел. А там…
По словам Юсупова, весь больничный комплекс и окрестности тонули в каком-то золотистом свечении.
— Это, типа, как туман, только не туман, а свет, — путано объясняет он. — Вблизи еще что-то видно, а дальше эта… вот как на лампочку смотришь, сощурившись — все расплывается, так и тут.
— Фигня, блин, — недоверчиво говорит Хал. — Туман, свет… С голодухи, наверное, а, Очки?
— Я пошел туда, — проигнорировав слова Хала, продолжает Юсупов. — Вблизи оно выглядит как эта… сетка такая, тюль или женский платок газовый, только прямо до неба и во все стороны уходит. Ну, как стена. Я смотрю — трава там, за нею, растет, деревья, птицы летают, пчелы, мухи. Ну, в общем, прошел я насквозь эту стену. Вроде ничего, нормально. Иду в сторону Фермы-2, дома там. И эта… нормальные дома, понимаете? Целые, без грязи, без мусора. Асфальт целый тоже, машины. Только людей нет совсем. Вижу — гараж большой, открытый. Ну и эта… зашел. Велосипед вот взял. И тут мне ка-ак по голове даст!
Юсупов произносит последнюю фразу так, что все вздрагивают. Схватившись за голову, он частит, глотает слова:
— Все закружилось, завертелось… Голоса какие-то, шум. Как будто эта… я посреди улицы стою. Дети смеются, машины едут. А вокруг на самом деле — ни-ко-го! Трава, деревья, дома. Я на велосипед вскочил — и ходу оттуда. Ехал, ехал… Вижу, вторая стена, такая же золотистая, только плотнее. А за ней как раз РКБ и новостройки. И там… — Он пучит глаза за стеклами очков, понижает голос до шепота и говорит: — Провода по синусоиде ходят, как живые… И эта… Земля дышит! Камни ползают… В общем, не помню, как я оттуда уехал. Вырвался, значит, за стену, в кусты закатился, упал и часа два лежал, пока голоса в башке не умолкли. Ну, а там ночь, кое-как пересидел и вот… сюда приехал.
— Ну, и куда ты дальше думаешь? — спрашивает после некоторого молчания Ник.
— В город. Эта… квартиру надо посмотреть — может, что осталось.
— А родственники где?
— Ну, эта… мать с отчимом в деревне живут, Карадуван, Балтасинский район. Третий год уже. Дядька с семьей — в Ульяновске.
— А жена? — осторожно интересуется Эн.
— Как-то не сподобился, — виновато улыбается Юсупов.
— А квартира где? — продолжил допрос Ник.
— На Ямашева.
— Сгорела, блин. Точно говорю, Очки — тю-тю твоя хата. — Халу, похоже, надоедает разговор с инженером. Он поднимается, сплевывает, глядит на серые крыши каких-то построек, виднеющихся за деревьями, и подытоживает: — Не хрен тебе в городе делать. Аковцы прибьют.
Юсупов, переводя близорукие глаза с Ника на Хала, с Хала на Эн — и обратно, робко спрашивает:
— Эта… может, я с вами?
— Как вести себя будешь, — важно отвечает за всех Хал. — Мы ж тут не просто так шаримся. Задание у нас. Секретное, блин.
Ник морщится.
— Да ладно тебе тень на плетень наводить! Видишь, человек не в курсе…
Ник коротко излагает Юсупову обстановку в городе.
— Так что нам теперь оружие нужно. Без него никак. И оно здесь должно быть.
Инженер чешет затылок, указательным пальцем вдавливает очки в переносицу и неожиданно весело говорит:
— Конечно, должно. Что ж, эта… будем искать.
Солнце переваливает за полдень. Над крышами дрожит марево. Для конца лета жарковато. Хал скидывает куртку, линялую футболку и подставляет и без того смуглую спину солнечным лучам. Ник следует его примеру. Эн завистливо вздыхает, но ограничивается тем, что заворачивает рукава футболки — купальника у нее нет.
Только Юсупов, кажется, никак не реагирует на жару. В своем оранжевом плаще и вьетнамках, напоминая гротескного персонажа из фильма какого-нибудь Бюнуэля, он мотается от бокса к боксу и с сожалением повторяет:
— Замок врезной, пломба цела. Не открыть. И здесь замок… эта… тоже не открыть.
— Давайте обедать, — предлагает Эн. — Чаю попьем. Потом продолжим.
Устроившись в густой тени здания спорткомплекса, они быстро сооружают костерок, обложив его битым кирпичом. Ник, посчитав спички, горестно вздыхает. Спичек осталось девять. Когда они закончатся, придется переходить на первобытные способы добычи огня.
Налив в котелок воды из бутыли, Эн пристраивает посудину на кирпичах, достает узелок с подвядшими листьями смородины. Хал выкладывает последнюю банку шпрот, Ник — опять же последние лепешки. Припасы не то чтобы подошли к концу, они просто закончились.
— Чем же мы ужинать будем, а? — ни к кому конкретно не обращаясь, спрашивает Эн, и тут же, поймав быстрый взгляд Хала, поспешно заявляет: — Нет! Собак я есть не буду!
— Жить захочешь — будешь, — усмехается татарин, ловко открывая консервы.
— Эй! — кричит откуда-то из двора учебного корпуса Юсупов. — Тут эта… дверь открыта в какой-то бокс. Темно только.
— Очки, блин! Хватит шароводиться, иди жрать, потом посмотрим, чё там, — зовет его Хал.
Проходит несколько секунд. Вода в котелке закипает, Эн бросает туда листья и вокруг сразу распространяется терпкий, знакомый с детства аромат черносмородинового варенья.
— Ну, где он там? — ворчит Хал. — Падла, блин. Я его ждать…
Он смотрит в ту сторону, откуда должен прийти Юсупов — и осекается на полуслове, потому что из-за облупившегося угла учебного корпуса выходит не инженер, а собака. Большой, лохматый кобель какой-то неопределенной, песчано-бурой масти, с крупной головой, украшенной стоящими торчком ушами. Сделав несколько шагов в сторону людей, пес замирает, чуть вытянув короткую шею. Шерсть на загривке встает дыбом, и от этого собака кажется еще больше.
— Ой, мамочки, — шепчет Эн и, как завороженная, глядит на незваного гостя.
— Лук, — шипит Ник, отчаянно шаря вокруг себя глазами. — Где лук?
— Там остался… — Хал кивает в сторону главного корпуса и берет половинку кирпича.
Пес, отследив его движение, чуть-чуть, еле заметно, приподнимает верхнюю губу, демонстрируя внушительные клыки. После этого он вдруг припадает на передние лапы и виляет пушистым хвостом, к которому прицепилось несколько репьев.
Хал поднимает осколок кирпича, замахивается. Пес отскакивает, но не убегает. Продолжая повиливать хвостом, он по дуге обходит костер и останавливается.
— Погоди-ка. — Ник придерживает Хала. — Он не жрать нас пришел, похоже… Эй, псина! Чего тебе надо?
Пес коротко гавкает.
— Разговаривает… — восторженно шепчет Эн.
Ник смотрит на нее и видит, что в глазах девушки стоят слезы.
— Куть-куть, — зовет собаку Хал, но избавляться от половинки кирпича не спешит. — Чё, кечек[25], по людям соскучился?
Пес наклоняет тяжелую голову, вываливает язык и вправду становится похожим на большого, лохматого щенка. Встопорщенная шерсть на загривке опадает.
Ник улыбается. Эн затаивает дыхание.
— Ну, иди сюда. — Хал вытягивает руку, складывает пальцы щепотью и трет их друг об друга. — Куть-куть…
Пес делает шаг, другой…
Юсупов оранжевым пугалом вываливается из кустов, громко шлепая вьетнамками. Он очень возбужден и очки его победно сверкают. Пес, увидев инженера, тут же вновь весь ощетинивается, скалит клыки, рычит и отскакивает в сторону.
Хал замахивается, Ник тоже хватает кирпич…
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не Эн. Она подбегает к собаке и бесстрашно обнимает готового к битве пса за толстую шею.
— Да он сам боится! Дрожит весь! Эх, вы! Бросьте камни.
И, наклонив голову к собачьей морде так, что челка свешивается едва ли не на глаза псу, ласково начинает что-то говорить ему, поглаживая между ушами.
— Вот это номер, — только и может выговорить Ник, выронив кирпич.
Пса называют Камилом. Имя придумывает Хал.
— У моего абы[26] в деревне такой же был. Кавказская овчарка. Камилом звали, блин. У-умный…
— Какая же это овчарка? — удивляется Юсупов, прихлебывая смородиновый чаек. — Эта… он дворняга типичная.
— А ты, Очки, вообще молчи! — окрысивается Хал. — Если бы не ты, блин, он бы ко мне первому подошел.
Эн, не слушая их, тихо говорит улегшемуся у ее ног псу:
— Камил… Нравится тебе?
Навострив уши, пес виляет хвостом.
— Нравится! — улыбается девушка. — Камил, а вот покормить тебя и нечем…
— Он, небось, не голодает, — говорит Ник. — Вон упитанный какой. Интересно, зачем он к нам пришел? Мы же его стаю того…
— Он из другой стаи, — уверенно заявляет Эн. — Или вообще одиночка. Генетическая память в нем проснулась. Костер, люди…
— Слушайте! — не выдерживает Юсупов, которого, похоже, мало волнует пес. — Я там эта… два бокса смежных нашел. И дверь открыта. Ворота вот только просели, в землю вросли. И внутри темно. Возле входа бочка стоит. Я эта… открыл, палку сунул внутрь. Вроде солярка. Надо факелы делать и смотреть.
Резкий, сладковатый аромат солярки перебивает тонкий и терпкий запах старого железа, стоящий в боксе. Факелы, на скорую руку сделанные Юсуповым, горят плохо — чадят, стреляют искрами, заставляя всех кашлять и жмуриться. Но их неровный, мигающий свет все же разгоняет темноту, и из мрака выступает угловатая, пыльная морда какой-то военной машины.
Покатые плиты лобовой брони, люки наверху, сбоку маленькая башенка с закрытым клеенчатым чехлом пулеметом, решетчатые колпаки на фарах, широкие гусеницы…
— Ух ты, танк! — радуется Хал.
Юсупов, шагнув вперед, поднимает свой факел повыше.
— Нет, всего лишь МТ-ЛБ. «Многоцелевой транспортер легкий бронированный».
— «Маталыга», — кивает Ник. — У нас были такие в Шелихове.
— Но гусеницы же есть, блин. И пушка! — тыча в башенку, не унимается Хал.
— Это пулемет ПКТ, — со вздохом говорит Юсупов и, размахивая факелом, уходит куда-то вглубь бокса, за корму тягача.
— Умный больно? — спрашивает ему в спину Хал.
Вопрос остается без ответа. В темноте слышится металлический лязг, что-то с грохотом падает, звенит…
— Что случилось, Вилен? — окликает инженера Ник.
— Двигатель смотрю, — отвечает уже сверху Юсупов. — Пылища. Ну-ка, ну-ка… Тэ-экс… А что, эта… вполне себе двигатель, на консервации, все жидкости слиты… А электроника… Тэ-экс… М-да-а…
— Да нафига он нужен, тягач-то, — с презрением бросает Хал и пинает гусеницу. — Вот если бы танк, блин!
Из темноты появляется Юсупов, на ходу вытирающий о плащ руки.
— Там контакты окислились, но если почистить, масло залить в движок и коробки, солярку… Может, и заведем! Аккумуляторы только нужно найти сухозаряженные, ну да эта… найдем, думаю! — И, повернувшись к Халу, добавляет: — МТ-ЛБ — хорошая машина, пройдет везде, где только можно. К тому же плавающая. Видишь вот этот лист на крепежах? Это волноотражательный щиток.
— Слышь, Очки! — вскидывается Хал. — Нам куда плавать-то? Думай башкой, блин!
— Броня — полтора сантиметра, берет на борт одиннадцать человек десанта, — почему-то обижено говорит Юсупов. — Эта машина, «маталыга», использовалась во всех военных конфликтах последней трети двадцатого века — и отлично себя зарекомендовала. Ты эта… если не знаешь, то молчи!
— Я тебе сейчас помолчу!
— Хватит! — гасит в зародыше вспыхнувшую перепалку Ник. Он подходит к тягачу, оглядывает гусеницы, корпус. — Что, правда, сможем завести?
— Эта… — Юсупов снимает очки, протирает их тряпочкой и вновь водружает на короткий курносый нос. — Как два пальца… ох, пардоньте, Натали. Нефиг-нафиг, короче. Работать надо!
Камил, вместе со всеми зашедший в бокс, шныряет по углам, потом подбегает к Эн. Морда пса испачкана пылью. Чихнув, он ложится у гусениц тягача и зевает.
— Что ж, — глядя на собаку, говорит Ник. — Значит, будем работать. Но прежде давайте посмотрим, может, из этого бокса можно пройти в другие помещения. Оружия-то мы не нашли.
— Замки на других боксах надо вскрывать, блин, — предлагает Хал. — Верняк говорю — все стволы там.
— Как ты их вскроешь? — поблескивает очками, спрашивает Юсупов. — Замки внутренние, ворота железные, металл эта… толстый. Я смотрел. И еще эта… пломбы там.
— Да чё ты там смотрел, Очки! — презрительно бросает Хал. — Смотрел он, блин… Ломиком подденем — и алга! А пломбы твои… Фигня, короче.
Инженер недовольно сопит, но ничего не говорит. Хал, светя себе дымящим факелом, лезет через бочки и ящики в самый угол бокса, долго гремит там какими-то железками.
— Во! — радостно кричит он спустя несколько минут. — Нашел, блин!
Размахивая обросшей пылью монтировкой, Хал отправляется вскрывать опломбированные боксы. Ник и Эн, оставив Юсупова осматривать тягач, идут с ним.
Высоченные, крашенные в защитный цвет ворота с подвыцветшими номерами кажутся незыблемыми, вечными. Время вообще никак не коснулось их, разве что слегка пострадала краска — ее покрывает какой-то сероватый налет.
— Ща мы, один момент, биш[27] секунд! — уверенно вертя в руке монтировку, сообщает друзьям Хал и втыкает расплющенный конец инструмента в еле заметный зазор между воротами. — Ну-ка… И-и-ы-ы-ы… Ни-ик! Помогай!
Бросившись к нему, Ник наваливается на монтировку, пытаясь отжать воротину. Слышится скрип, скрежет…
— Навали-ись! — мычит Хал. — Энка, давай!
И тут монтировка с сочным лязгом выворачивается из щели. Ник успевает отскочить в самый последний момент.
— А-а-а! — тряся ушибленными руками, пляшет на месте Хал. — У-у-у, вот она сволочь, блин, а!
Камил весело лает, прыгая вокруг человека. Пнув пару раз ворота, Хал усаживается на землю, нянча сбитые пальцы.
— Очень больно, да? — Эн садится рядом.
Камил, любопытничая, подходит ближе, наклонив лохматую морду, с видом знатока смотрит на распухшие, кровоточащие костяшки и вдруг лижет их.
— Ты чё? — Хал отдергивает руку. — Жжется, блин!
— Пусть, пусть залижет, — говорит ему Ник. — У собак слюна целебная.
— Ну да, потому что они свои… лижут, короче, блин, — бурчит Хал, косясь на Эн.
Девушка хихикает. Камил машет хвостом.
Потерпев фиаско с запертыми боксами, в которых наверняка — Ник в был этом уверен — стояли танки, друзья решили обыскать казармы училища. Подсознательно они оттягивали этот момент до последнего, опасаясь, что обнаружат там останки курсантов.
Опасения развеивает Юсупов. Инженер плотно занимается двигателем тягача — он уже снял головки блоков, топливный насос и теперь промывает найденным в боксе керосином цилиндры.
— Эта… — говорит он, стряхивая с пальцев капли керосина, — если вы говорите, что все уснули в июле, то в казармах пусто должно быть. Абитура экзамены сдала и разъехалась до сентября, курсачи на каникулах. Так что если там кто-то и есть… ну, эта… остался… то только дежурные. А вот оружейные комнаты должны быть в порядке.
— Вилен, тебе, может, помощь нужна? — глядя на поблескивающие в свете факелов металлические части двигателя, разложенные на стеллажах, спрашивает Ник.
— Пожрать бы чего, — застенчиво улыбается инженер. — А так пока всё эта… в норме. Вот потом, когда промазывать и протягивать ходовую будем — тогда да.
— Мы с Камилом на охоту пойдем, — решительно говорит Эн. — Лук заберем — и пойдем.
— Осторожнее только, — предупреждает ее Ник. — Вдруг собаки вернутся…
— Эксо-эксо, Кэнди! — подмигивает ему Эн. — Камил меня в обиду не даст.
Пес, словно понимая, о чем идет речь, виляет хвостом и тычется лобастой головой в бедро девушки.
Кирпичные жилые корпуса училища, когда-то выкрашенные в экономичный желтый цвет, сейчас стоят серыми, неопрятными, но окна почти везде сохранились целыми, следов огня не видно. Ник и Хал замирают перед дверью с красной стеклянной табличкой. Краска на табличке облупилась, но при желании можно прочесть: «Казарма № 5».
— Ну что, идем? — дрогнувшим голосом спрашивает Ник.
Хал кивает.
Казарма встречает их тишиной и строгим армейским порядком. Конечно, и здесь внутри всюду пыль, а стекла в окнах затягивает короста грязи, но кажется, что даже пыль тут лежит строго по ранжиру — тонкий, ровный слой темно-кофейного цвета, безо всяких неопрятных куч и кисельных хлопьев, покрывает железные дужки кроватей, синие одеяла, белые подушки, тумбочки, табуретки.
Длинное широкое помещение, ряды аккуратно застеленных коек. С потолка свисают светильники с желтыми абажурами, на стенах — горшки с давно погибшими цветами, стенды, эстампы. Музей орднунга, да и только.
Ник, отслуживший срочную и хорошо знакомый с устройством армейской казармы, несколько секунд оглядывается, потом машет в конец коридора.
— Вон туда, по «взлётке». Оружейка должна быть с железной дверью и сигнализацией. Наверняка вон та, видишь?
— А чё такое «взлётка»? — не понимает Хал.
— Центральный проход казармы, переходящий в коридор, — усмехается Ник. — Ну, типа, взлётная полоса. Драить «взлётку» — главная обязанность наряда по роте. Чтоб блестела, как у кота эти самые…
Оружейную комнату они находят без проблем. Но могучая, современного вида, стальная дверь с двумя врезными замками повергает их в уныние. Повертев в руках прихваченную Халом злополучную монтировку, Ник со вздохом прислоняет ее к стене.
— Тут динамит нужен.
— Или ключи, блин, — поддакивает Хал.
— Твою мать! — хлопает себя по лбу Ник. — Ключи! Ключи должны быть у дежурного или… или в штабе. И от тех боксов тоже. Пошли!
Черт его знает, что происходит. Я как-то успокоился, что ли? И все время звучит у меня в башке песня, которую Филатов пел, про мародеров. Мы все сейчас — мародеры. И Аслан со своими бандюгами, и те, кто в Цирке и других общинах живет, и Энка с Халом, и я сам. Ничего не делаем, в смысле — не производим, не создаем. Просто живем за счет грабежа собственного прошлого. Раньше-то у нас в стране этим только олигархи занимались, а теперь вот — все. И когда до меня дошло, что никто сейчас не хуже, не лучше, все одним миром мазаны, я и успокоился.
А может быть, все совсем не так и просто у нас появилась цель. Настоящая, реальная цель — завести тягач, погрузить в него оружие и ехать… Куда? Вот это я пока представляю с трудом. Прямо в Цирк — нельзя. Аслан, точнее, его люди засекут нас сразу. Засекут — и покрошат в мелкий винегрет.
Сперва нужно собрать мужиков, вооружить. С оружием хорошо получилось. Две сотни автоматов, нормальные калаши, «весла», калибр 7,62. Или, если по правильному, АКМ. У нас в армии говорили, что такие с трехсот метров рельс пробивают. Это, конечно, легенда, но лупят эти «весла» действительно дай Бог.
Патронов тоже нашлось в достатке. Я раньше не знал, как они хранятся. Слышал, конечно, о «цинках» и думал, что это такие здоровые ящики, в которые патроны засыпают, как картошку, и запаивают. Оказалось всё не так. Патроны для калаша укладывают в картонные пачки, а уже этими пачками заполняют продолговатые железные коробки защитного цвета, действительно запаянные. Две коробки укладываются в деревянный ящик. В комплекте идет нож типа консервного — распаковывать «цинки». Мы с Халом пару вскрыли, на пробу. Посчитали — в одном «цинке» ровно шестьсот шестьдесят патронов. Ящики тяжелые, килограммов тридцать.
Еще нашли гранаты РГД-5, штык-ножи, каски, броники, ОЗК — полный комплект на две стандартные роты. Наверное, тут где-то в каптёрках и комплекты формы должны быть, переодеться было бы здорово, а Вилену — так просто и необходимо, но на сегодня сил уже не осталось. Завтра. Завтра мы перевернем все училище с ног на голову.
Наташа вернулась с охоты вся в слезах. Они с Камилом вышли за ворота, видели тех собак, что раньше тут жили. Псы теперь бегают за спортивным комплексом, где мы прятались. Трупы своих сородичей они растащили и частично сожрали. Камил на них лаял. Наташка испугалась и залезла на дерево, но собаки не стали нападать. Камил, наверное, и впрямь из другой стаи, крутой и авторитетной.
Потом они пошли в сторону оврага, где мы резали заготовки для стрел. Видели каких-то зверей, похожих на оленей, но далеко. Я думаю, это были косули. Наташа попробовала стрелять птиц, но не попала. Ну, а потом Камил выгнал из кустов зайца. Тут все и началось. Заяц бегал как ненормальный — это Наташкино выражение. Она потратила семь стрел и два раза попала. Но заяц, даже пробитый насквозь стрелой, все равно бегал. Тогда Камил его догнал. И съел. Остались только голова, лапы и уши. Наташка разозлилась, наорала на пса и вернулась к нам.
Пришла, носом хлюпает. Гад он, говорит, а не собака. И смех, и грех. Есть-то реально нечего. Все голодные и злые. Запалили костерок, чай поставили. Тут пришел Камил, весь такой виноватый, и принес в зубах еще одного зайца. Целого. Сам поймал. Тогда Наташка его простила, поцеловала в нос и гордо так сказала: мол, с собаками надо как с мужчинами — в тонусе все время держать. Тоже мне, знаточиха мужской психологии нашлась!
В общем, ободрали мы зайца, сварили и съели. Не вкусно, честно говоря, дичиной отдает сильно, но питательно. На ночлег расположились в казарме номер пять, поближе к оружейной комнате. Мы туда после ужина перетаскали автоматы, патроны и гранаты из другой казармы, номер три. Там два скелета лежат у входа. Отчего погибли — черт его знает. И в главном здании скелеты видели — их, похоже, током убило, горело там что-то, но пожара большого не случилось.
Перед сном Вилен сказал, что завтра мы будем «маталыгу» смазывать и масла заливать в агрегаты — в коробки передач, в редукторы. Масло в закрытых бочках в боксе стоит. А он попробует двигатель привести в рабочее состояние и аккумуляторы электролитом заправить. Бутыли с дистиллированной водой и серной кислотой в боксе есть, в специальном закутке с вывеской «Аккумуляторная».
Еще Вилен предложил склад НЗ поискать — там продукты долговременного хранения должны быть. Без еды мы скоро ноги протянем. На Камила надежды мало — это сегодня он провинился и зайца принес, а завтра встретит в здешних пампасах какую-нибудь сучку и свалит. А что? Мужская психология…
Глава четвертая
Когда солнце опускается к самым верхушкам деревьев, Ник понимает, что сил у него попросту не осталось. Весь день они помогали Юсупову: таскали какие-то тяжеленные канистры, ведра с маслом, огромные аккумуляторы, неподъемные бутыли с серной кислотой, весь день в носу першило от пыли, запаха солярки, едкого электролита…
Эн сдается первой. Сообщив, что Камил принес добычу и надо готовить ужин, она быстренько убегает из бокса. Хал с завистью смотрит ей вслед, вытирает грязной рукой потный лоб, оставив на нем жирную темную полосу, и уныло плетется к тягачу — Юсупов, ковыряющийся в моторе, попросил его подать со стеллажа набор головок.
Ник, отмачивающий в ведре с керосином шестеренки непонятного назначения, с трудом поднимается и массирует натруженную поясницу. Поясница болит так, словно он несколько дней внаклонку проработал на стройке — был у него в жизни такой опыт.
Оглядев темный бокс, освещенный коптящими факелами, он с удивлением понимает, что Юсупов взялся за дело серьезно — на разостланных вокруг тягача ветхих брезентовых полотнищах аккуратно разложены узлы и детали, разноцветные электрические провода, напоминающие внутренности экзотического существа. Все дверцы, люки, лючки, бойницы раскрыты настежь, и МТ-ЛБ напоминает больного на операционном столе.
— Ты эта… что притащил? — слышится из открытого люка гневный голос инженера. — Головки! Чтобы болты и гайки эта… откручивать, понял? Набор целый, там, на второй полке лежит. А это — сменные насадки для отвертки: крестовые, шлицовые… Балбес!
— Сам ты! — огрызается Хал. — Не объяснит толком, блин…
Подивившись работоспособности Юсупова — он словно и не устал вовсе, увлеченно ковыряясь во внутренностях МТ-ЛБ — Ник решает, что пришло время задействовать то, что журналисты завуалировано именуют «административными рычагами», и громко объявляет:
— Всё, мужики! Шабаш на сегодня! Пошли на воздух, поглядим, чем нас там Камил осчастливил.
Эн колдует у костра, помешивая оструганной веткой в большой закопченной кастрюле. Пес лежит неподалеку, на морде явственно читается полное удовлетворение жизнью.
Хал тянет носом.
— Куриный супчик?
— Почти, — поворачивает к нему раскрасневшееся лицо Эн. — Похлебка из куропатки с корнем лопуха и крапивным листом.
— Блин, мы как коровы, жрем всякое сено — то крапива, то лопухи… — недовольно ворчит Хал.
— Ничего ты не понимаешь в кулинарии, — смеется девушка. — Между прочим, лопух — ценнейший продукт, в Японии его, например, даже выращивают на огородах. Там он называется гобо. Японский лопух в три раза толще нашего и листья до метра в диаметре, вот. Из гобо делают салаты, повидло, жарят, варят… А наилучшие вкусовое качества он набирает ближе к осени.
— Сдаюсь! Сдаюсь! — поднимает в притворно испуге руки Хал.
— Энка, а ты откуда это все знаешь? — удивляется Ник. — За тобой раньше вроде кулинарных талантов особо не замечалось…
Наградив любимого тренера красноречивым взглядом, Эн все же снисходит до ответа:
— У нас в десятом классе в спортивном лагере вечер японской кухни был. Все готовили по какому-нибудь национальному блюду. Ну, суши там, сашими, мисо, унаги-маки разные. А мне захотелось что-то совсем необычное сделать.
— И как называлось твое блюдо?
— Кинпура, — гордо сообщает Эн. — Всё, давайте к столу… в смысле, помогите мне кастрюлю перенести.
Похлебка оказывается вполне сносной — куропатка была жирной, бульон получился наваристым, порезанные листья крапивы напоминают шпинат, а волокнистую мякоть корня лопуха при известной доле фантазии можно принять за разварившуюся картошку.
— Хорошо, но мало, блин, — традиционно заявляет Хал, покончив со своей порцией.
— У тебя это уже стало вместо «спасибо», — поддевает парня Эн.
— Ну, спасибо…
— «Нуспасибо» за водой не ходит и дрова не собирает, — завершает нехитрую интригу девушка и поворачивается к остальным: — Кстати, и посуду оно тоже не моет. Намек ясен?
Юсупов улыбается, подмигивает Нику.
— Вот кому-то эта… с женой повезет.
В вечерних сумерках вся компания располагается на отдых.
— Санаторий, блин, — высказывается Хал, развалившись на траве. — Жаль, курёхи нет. Очки, слышь, а ты курил раньше?
— Нет, — отрицательно мотает головой Юсупов.
Он даже сейчас продолжает работать: приволок из бокса пучок каких-то проводов и шершавым плоским камнем зачищает кон shy;такты.
— Ты вот умный, блин, — безо всякого перехода продолжает Хал. — Инженер. В школе отличником был, так? Чё думаешь — как все это получилось? В Цирке про конец света говорили. А кто его устроил, блин? Монах считает, что Бог. Он все про этот… как его… апокла…
— Апокалипсис, — лениво подсказывает Ник.
— Во, точняк! Про него задвигал. Какой-то святой давно все это в книге написал. Ну, там конь бледный, а всадник на нем — смерть!
— Отстань ты от человека, — вмешивается Эн. — Тебе делать нечего, а он работает, между прочим.
— Дурная голова… — начинает было Хал, но не развивает тему и снова обращается к Юсупову: — Очки, слышь, так ты чё думаешь-то?
Помолчав, инженер откладывает провода, снимает очки и в задумчивости протирает стекла.
— Конец света — интересная версия, — говорит он наконец. — Человечество почему-то эта… всю свою историю об этом думает. Пророки, предсказатели, ученые — все его предрекали. Апокалипсис и Страшный суд — это религиозный вариант. Я эта… плохо помню, давно читал, но вроде бы Бог должен собрать всех людей, воскресить мертвых и оценивать добрые и злые дела каждого, чтобы решить — кому эта… в ад идти, кому — в рай. Но эта… не похоже. У нас что-то другое случилось.
— Другое — какое? — не отстает Хал.
— Всемирная катастрофа, я так думаю. — Юсупов покусывает дужку очков. — И этого, судя по всему, ни Нострадамус, ни Ванга, ни кто другой не предсказали.
— А как же майя? — вставляет свои пять копеек Ник, прислушиваясь к разговору.
— Эта… а что майя? — поворачивается к нему Юсупов. — Там вообще другая история. Во-первых, речь у них шла о две тысячи двенадцатом годе, во-вторых, никакого конца света они эта… не пророчили. Это просто неправильный перевод и эта… много-много… как это говорится, охочих до дутых сенсаций журналистов.
— Что значит «неправильный перевод»? — удивляется Эн. — Я сама читала, что по каменному календарю майя в декабре двенадцатого года время человечества должно было закончиться. Вот оно и закончилось. Просто в другой год. Может, не перевод, а просто посчитали неправильно?
Юсупов усмехается, водружает очки на нос, жует губами. Изрекает:
— Про время — в самую точку. Действительно, в декабре две тысячи двенадцатого года закончился круг времени майя. Эпоха, понимаете? Ну, эта… календарь у них был рассчитан до этой даты. И не более того! С января две тысячи тринадцатого началась новая эпоха, просто календарь для нее майя вырезать… эта… высечь не успели — вымерли.
Хал коротко гыгыкает и сразу снова становится серьезным.
— Очки, ты нам, блин, про науку давай.
— Наука… — Юсупов чешет затылок и усаживается поудобнее. — Вообще, существует четырнадцать версий… ну эта… сценариев конца света. Глобальное потепление, например. В ходе него растают все льды и в Арктике и в Антарктиде. Уровень океана повысится на восемьдесят метров. Пол-Европы и пол-Азии затопит, по всей планете эта… изменится климат. Холодные воды из Северного Ледовитого океана хлынут в Атлантику, Гольфстрим исчезнет, и в Европе наступят холода, как в Сибири. Англия, вся Скандинавия эта… вымерзнут… вымерзут. Жить там будет нельзя. А в Америке…
— Погоди, Вилен, — останавливает инженера Ник. — К нам-то это какое отношение имеет? Ясно же, что с климатом все в порядке.
— Да, этот вариант не катит, — поддерживает друга Хал. — Давай, блин, дальше — чё там еще у тебя есть в загашнике?
Юсупов усмехается.
— Еще есть сценарий, согласно которому Земля сталкивается с крупным астероидом…
— Не пойдет, — качает головой Эн. — Я по телевизору смотрела — там такое должно начаться… Везде землетрясения, новый всемирный потоп, в атмосферу поднимается гигантское количество пыли и наступает глобальная зима, потому что солнечные лучи не могут пробиться сквозь эту пыль.
— Правильно, — соглашается Юсупов. — Такой вариант нам действительно эта… не подходит. Есть еще версия, что в один прекрасный… ну, точнее, ужасный день земная кора провернется.
— Это как, блин? — вытаращивает глаза Хал. — Чё такое «провернется»?
Юсупов опять усмехается и назидательным тоном произносит:
— Ученые считают, что земная кора эта… как бы плавает в магме, ну, в расплавленном камне. Она — как скорлупа на яйце. И одновременно как куски масла на горячей сковородке. И если вдруг произойдет перераспределение массы… из-за вулканов, например, которые выбрасывают из земных недр тысячи тонн лавы, то земная кора придет в движение и поедет. Северный и Южный полюса эта… поменяются местами. Опять же будут землетрясения, катаклизмы всякие.
— Опять мимо, — говорит Ник. — Давай дальше. Что там еще?
— Вспышка на Солнце. Такой глобальный термоядерный взрыв. Землю сперва атакует эта… мощный электромагнитный импульс, который выведет из строя всю электронику, потом придет ударная волна и температура повысится до тысячи градусов. Вся планета превратиться в выжженную пустыню… Да, тоже не то.
— А что — то? — спрашивает Эн. — Столько всяких ужасов, но с нами-то они не происходили.
— Ну, есть совсем фантастические гипотезы… — Юсупов машет грязной рукой в воздухе. — Вторжение инопланетян…
— Во-во, точно! — обрадовано вскакивает Хал. — Я же говорил — инопланетяшки, блин! Прилетели и ставят над нами эксперименты всякие, уроды зеленые!
Ник и Эн, вспомнив разговор по дороге в Большие Клыки, смеются.
— При всем моем уважении, — иронически выгибает бровь Юсупов, — эту версию серьезно рассматривать нельзя.
— Чё это? — сразу насупливается Хал, не выносящий насмешек. — Другие, значит, можно, а мою — нет?
— Инопланетяне — это из той же серии, что и эта… Бог там и прочие мистические варианты, — посерьезнев, пытается объяснить инженер. — Не рационально, понимаешь? Абсурд. Фантастика. Знаешь, как в интернете писали: «Что курил аффтар?»
— Пошел ты… — Хал выглядит не на шутку обиженным.
— Да я не тебя имею в виду, — старается смягчить ситуацию Юсупов. — Ты же эта… не сам придумал — в кино видел или читал где-нибудь.
Сжав кулаки, Хал сопит. Последняя фраза окончательно выводит его из себя.
Эн и Ник переглядываются. Оба прекрасно понимают, что если не разрядить обстановку, дело может закончиться дракой.
— Оставим инопланетян на потом, — дипломатничает Ник. — А сейчас лучше обсудим оставшиеся версии. Катастрофы там всякие, экологию…
— А что «экологию»? — пожимает плечами невозмутимый Юсупов. — Как мы видим, она-то как раз в порядке — природа возвращает себе то, что отвоевал у нее когда-то человек. Наше счастье, что прошло не сто, не двести лет, мы бы эта… вообще не узнали наших городов. Нет, то, что произошло, к экологическим бедствиям не имеет никакого отношения. Если обсуждать гипотезы, то я бы выдвинул три: катастрофа космического масштаба, которую породили какие-то явления во Вселенной, результат некоего глобального научного эксперимента и биологическая причина.
— В смысле — биологическая? — не понимает Ник.
— Ну эта… можем же мы предположить, что у всех особей эта… хомо сапиенс случился сбой на генетическом уровне? Люди уснули…
— И спали тридцать лет, блин? — Хал морщится. — Фигня! Да нас бы всех если не звери, то червяки с муравьями заточили бы, блин, за это время!
— Ну, кого-то они и того… действительно съели, — рассеянно говорит Юсупов, явно думая о чем-то другом.
— Да ни фига! — вскидывается Хал. — Смотри — те, кто умер… погиб, короче — те давно лежат, кости остались только, блин. И умерли они или от пожаров, или от того, что их придавило чем-то, или взрывы были…
Ник поддерживает Хала:
— В самом деле, мы видели останки тех, кто попал в аварии, кого убило током. Но главное даже не это — не бывает так, чтобы вдруг целый биологический вид впал в кому…
— Может быть, может быть… — кивает Юсупов. — Я эта… вот о чем сейчас подумал: а что, если произошел временной скачок? Нет, не скачок, а перенос? Мы все, разумные существа, точнее эта… наше сознание, наш разум — перенеслись во времени, а все материальные предметы, вещи, строения — все добиралось своим ходом?
— Ерунда, — отмахивается Ник. — Слишком много нестыковок получается.
— Эх ты, Очки! — искренне расстраивается Хал. — Я думал, блин, ты чё-то умное задвинешь… А ты пургу несешь конкретную. Баклан ты, блин, тупорылый.
— Слышь, улым. — Юсупов снимает очки, складывает их и убирает в нагрудный карман. — Ты кончай борзеть. Я эта… хоть и интеллигент, но казанский! Я вырос на Хади Такташе. Если что, я и въе…
— Брэк! — вмешивается Ник, ухватив Хала и Юсупова за плечи. — Кончайте, мужики. Тоже мне, горячие казанские парни! Нам только мордобоя тут не хватало. И главное — из-за чего? Кстати, Вилен, ты еще про космическую катастрофу говорил и научный эксперимент.
— Ничего я не говорил, — раздраженно стряхивает руку Ника со своего плеча Юсупов. — Это все бред взбудораженной совести…
— Совесть-то тут при чем? — удивляется Эн.
— Натали, не обращай внимания. Я просто процитировал одну хорошую книжку. Там эта… описано нечто вроде того, что случилось с нами. Эксперимент есть Эксперимент[28].
— Значит, блин, наука все же виновата, — бурчит Хал.
— Наука виновата в том, что ты на свет родился! — не выдерживает Юсупов. — Если бы не достижения современной медицины, тебя и на свете бы не было. В средние века детская смертность такая была, что эта… только десять младенцев из сотни выживали, понял?
— А я никого не просил, блин! — заявляет Хал, вставая. — Может, и хорошо было бы… Короче, я спать.
Он уходит и даже со спины видно, что парень продолжает злиться. Ник провожает худощавую фигуру Хала взглядом, подбрасывает дров в притухший костер и спрашивает у мрачного Юсупова:
— Что это вы с ним как кошка с собакой?
— Это вечное противостояние, — инженер по привычке изображает в воздухе какой-то энергичный жест. — Гопота против тех, кто использует голову не только для того, чтобы эта… в нее есть. У нас в Казани штук двадцать вузов, студентов много. И таких вот, как он, эта… тоже дополна. Ох, я в молодости натерпелся от них… Дебилы!
— В молодости? — деланно удивляет Эн, явно собираясь поменять тему. — А сейчас вы что, старый?
— Мне тридцать четыре года, Натали, — грустно улыбается Юсупов.
— А выглядите вы так молодо… Никогда бы не сказала, что вам столько! — теперь удивление девушки уже не притворное.
— Вернемся к нашим баранам. — Ник начинает скучать от этого «бабского» разговора. — Итак, где-то кто-то проводит какой-то глобальный эксперимент, в результате которого все люди на планете засыпают. Впадают в своеобразный анабиоз, так? Спрашивается — кто, где, как и зачем все это сделал?
— Я эта… не знаю, — разводит руками Юсупов. — Но если у Теслы в начале двадцатого века, при тогдашнем уровне развития науки, получалось ставить всю планету на уши, то почему бы сейчас не сделать что-то подобное?
— Тесла — это который с электричеством, с магнитными полями что-то мутил? — уточняет Ник.
— Он занимался разными вещами, — уклончиво отвечает Юсупов. — В частности, попытками передачи энергии на расстояния без проводов, перемещениями во времени — и так далее. Пойду-ка я тоже спать, ребята. Эта… устал я. Спокойной ночи.
Пожелав инженеру в ответ сладких снов, Ник и Эн еще долго сидят у костра. Взбудораженный разговором, припомнив все, что он знает о Николе Тесле, Ник разворачивает перед Эн одну гипотезу за другой.
Он очень увлечен и совершенно не замечает, что девушке невыносимо скучно слушать эти околонаучные бредни и что она явно хотела бы поговорить с ним о совсем других вещах…
В боксе не продохнуть — тяжелый, сладковатый солярный выхлоп заполняет его полностью, от пола до потолка.
— Мы тут как в коптильне, — шутит Ник, но, когда Юсупов теряет сознание, шутки кончаются.
— Надо эта… во двор выбираться. Угорим насмерть, — придя в себя, не то просит, не то приказывает инженер.
— Ворота как будем открывать? — Ник подходит и пинает тяжелым ботинком створку. — Вросло. Выкапывать, что ли?
— Да эта… вышибем, и всё. — Юсупов поднимается с пола, покачиваясь, подходит к воротам. — Вы только подальше отойдите.
Вскоре бокс оглашает утробный рык заведенного двигателя. Из открытой дверцы валит синеватый дым выхлопа. Лязгают гусеницы. Слышатся глухие удары.
— Он там опять не отрубится? — интересуется Хал.
Грохочет, гремит, земля под ногами у Ника и остальных вздрагивает, и вдруг большие деревянные ворота, обитые жестью, складываются посредине, как крыша карточного домика, сами собой вываливаются на площадку перед боксом и разъезжаются в разные стороны. Тягач, победно рыча и громыхая гусеницами, проползает по ним и останавливается, окутавшись облаком пыли.
Камил, яростно лая, скачет в стороне. Эн заслоняется рукой, Хал испугано приседает. Никто не ожидал от неказистого тягача такой прыти.
— Смотри-ка, получилось, — хмыкает Ник.
Откинув верхний люк, из «маталыги» выбирается страшно довольный Юсупов.
Усевшись на броню и обняв башенку с зачехленным пулеметом, он гордо заявляет:
— Ну эта… вот так вот!
Глава пятая
Солидол — это такая гадость! Бр-р-р… Как повидло, только есть нельзя. Камил вон, дурачок, попробовал — бегал потом и смешно, по-собачьи, плевался.
У меня все руки в солидоле. И вся одежда. Это потому, что я целый день мазала тягач. Всякие железки и колеса. Шприцом таким большим металлическим закачивала солидол в специальные дырочки. Вилен сказал, что это специальные пресс-масленки. Хорошо хоть Ник с Халом нашли комнату с военной формой, каптерка называется. Конечно, моего размера не оказалось, но все равно: поменять одежду на чистую — это здорово.
Ребята, похоже, собираются воевать по-настоящему. При этом они ругаются, спорят. Хал и Вилен готовы друг другу в горло вцепиться. А я вот не понимаю — ну какая война? Для войны солдаты нужны, которые всё умеют. А Хал вон автомат взял и не знает, как его зарядить. Ник, конечно, в армии служил, но ведь война — это людей убивать надо. А я даже представить не могу, чтобы Ник в человека выстрелил. Он же тихий, спокойный, нерешительный. Рохля. И Юсупов тоже такой же, как мне кажется. Умный он, конечно, и знает много. Но какой из него боец? Смех один. И слезы.
Они, мужики, хорохорятся — вот мы, мол, партизанский отряд, боевая единица, Аслану надаем и вообще всё круто будет. А я почему-то всегда ополчение хоббитов вспоминаю. Вояки такие же. Хотя хоббитам-то удалось с врагами справиться, но это только потому, что у них вожди были настоящие. А мы… В общем, бежать нам надо из города.
Бежать…
Третий день в Танковом училище начинается с уже привычной процедуры всеобщего благодарения Камила за своевременное снабжение продовольствием. На этот раз пес притаскивает сурка, здорового и очень жирного. Хал быстро раскладывает перед казармой костер, ловко разделывает тушку зверька, нарезает мясо тонкими пластинками, кидает его на решетку и жарит над углями. Получается вкусно, гораздо вкуснее зайчатины. Камил, получивший в полное и безраздельное владение всю требуху и голову сурка, радостно их съедает и теперь лежит рядом с Эн, сыто облизываясь.
— Не понимаю я его, блин, — доедая сурчатину, говорит Хал. — Бегал, ловил. Мог в однёху всё захавать. Нет, блин, нам принес, самому только кишки достались — и доволен до жопы!
— Психология, — улыбается уголками рта Ник и встает. Завтракают они во дворе, обустроив здесь что-то вроде столовой — стол, табуретки, сложенный из кирпичей мангал с решеткой, когда-то служившей для чистки обуви. — Ладно, хватит загорать. Солнце уже высоко. Эн, поможешь Вилену, а мы пойдем этот долбанный склад НЗ искать.
— Гранаты с собой возьмите, — советует инженер, поднимаясь и по привычке вытирая о новую форму жирные пальцы. — Двери эта… взорвете, если что.
— Эргедешкой? — прищуривается Ник. — Не выйдет. Это же так, хлопушка.
Он сует руку в карман камуфлированных штанов, вытаскивает гранату и подбрасывает на ладони.
— Хочешь — покажу? Пыли много будет, а толку…
Камил вдруг начинает ворчать, тревожно задрав голову.
— Не надо показывать, — укоризненно смотрит на Ника Эн. — Видишь, ему не нравится.
— Да я пошутил…
— Погоди-ка, — перебивает Ника Хал. — Он, блин, учуял что-то…
Пес вскакивает и поворачивается в сторону ворот. До них отсюда довольно далеко, метров триста, а разросшиеся деревья мешают увидеть, что там происходит.
— Собаки? — испугано восклицает Эн.
Хал тут же вскидывает автомат, с которым не расстается ни на минуту.
— Вроде тихо? — прислушиваясь, говорит Ник. — Надо бы вообще-то пост какой-то установить, дежурство… Живем тут, как в пионерском лагере.
— Ага, — кивает Юсупов. — А потом эта… местные придут. Девчонок на дискотеке зажимать.
— Не смешно, — дергает плечиком Эн. Форму для нее подобрали с большим трудом, таких маленьких размеров на складе училища не нашлось, и девушка напоминает этакую «дочь полка». — Ник прав — надо на крыше того домика, с которого я собак стреляла, наблюдателя поставить.
— Давайте лучше эта… побыстрее тягач до ума доведем и уедем отсюда, — не соглашается Юсупов.
— Куда? Куда ты собрался, Очки? — немедленно бросается в спор Хал. — Тут про нас никто не знает хоть.
Спор этот, то затухая, то разгораясь вновь, продолжается уже второй день. Когда стало ясно, что у них есть оружие и бронированный тягач с пулеметом, вопрос «А что же дальше?» сделался донельзя актуальным.
— Забор надо укрепить и людей сюда сманивать, — гнет свою линию Хал. — Тут танки, оружие, байда всякая военная. Крепость сделаем, блин! А чё? И никакой Аслан не сунется.
Ник считает, что первым делом нужно помочь людям из Цирка, поднять что-то вроде вооруженного восстания против АК, а потом уже думать о создании общины в училище.
Юсупов вообще предлагает уехать из города, обосноваться где-нибудь в хорошем и спокойном месте, делая вылазки за техникой и оборудованием.
— Генератор достанем, запустим, электричество будет, радиостанцию заведем, компьютеры. Не может быть, чтобы эта… по всей земле так. Найдем людей, сохранивших цивилизованный облик, свяжемся…
Еще он хочет начать диверсионную войну против Аслана.
— Будем эта… ощипывать его постепенно, с разных сторон. Пока один костяк не останется, — хищно оскалясь, говорит Юсупов.
Очередной виток спора достигает своего пика, страсти накаляются, как вдруг Камил начинает лаять и бросается все туда же — в сторону ворот.
— Нет, там все-таки собаки, — подхватив свой автомат, Ник передергивает затвор и делает несколько шагов вдоль жилого корпуса.
Лай Камила резко обрывается — словно отключают трансляцию. Слышатся крики, ругань, а затем воздух распарывает короткая, злая автоматная очередь.
— Ка-амил! — взвизгивает Эн. — Ка-амил, ко мне!
Хал, выставив ствол, уже крадется вдоль деревьев. Ник бежит вперед, готовый в любую секунду упасть в траву. Юсупов зигзагами несется к казарме — за оружием. Эн бестолково мечется возле костра и всё зовет пса.
— Ка-а-амил! Ко мне!
— Не ори, дура! — шипит на нее Хал.
В этот момент Ник видит тех, кто стрелял в Камила. Видит — и сразу падает в бурьян.
Незваных гостей пятеро, все с оружием и белыми повязками на рукавах.
Аковцы.
Нашли.
Люди Аслана цепью идут поперек двора училища, держа автоматы наизготовку. Они совершенно спокойны, разговаривают, даже смеются, уверенные в своей силе и безнаказанности. У Ника мелькает мысль, что это не целенаправленный рейд, а обычная разведка или даже простое патрулирование. В этот район города, достаточно удаленный от центра, патрули аковцев, судя по всему, еще не забредали. Но все когда-нибудь бывает в первый раз.
— Их нельзя упустить, — доносится до Ника со стороны деревьев тихий голос Хала. — Мочим всех, блин. Где Очки?
— Я здесь, — отзываются из-за его спины Юсупов. — Наверное, эта… надо подпустить ближе, да?
— Когда дойдут до акации — стреляем разом, — чуть приподнявшись из травы, говорит им Ник. — Я беру двух левых, вы поделите остальных. И хорошо бы кого-то живьем взять.
— Языка, блин, — шепотом смеется Хал. — Слышь, Очки, по ногам стреляй, понял?
Тянутся томительные и волнующие секунды ожидания. Ник через просветы в траве разглядывает противников. Это взрослые, крепкие мужики. Оружие они держат умело, в движениях угадывается расслабленная сила и немалый опыт. Подняв ствол автомата, Ник ловит в прорезь прицела крайнего, небритого, с расплющенным носом, и кладет палец на спусковой крючок.
Когда до раскидистого куста акации, зеленым шаром выкатившегося на край плаца, аковцам остается пройти метров десять, неожиданно грохочет автомат Хала и тут же ему в унисон начинает стрелять Юсупов.
— Куда, рано! — в отчаянии орет Ник и тоже дает короткую, экономную очередь в три патрона — как учил на стрельбище армейский инструктор, подполковник Новиков.
Пули выбивают фонтанчики пыли у ног аковцев. Они сразу начинают отходить, отстреливаясь в ответ. Ник на секунду представляет, что будет, если Аслан узнает о том, что его патруль напоролся на вооруженное сопротивление. Воображение за доли секунды рисует вполне реалистичную картину — несколько десятков аковцев мелкими группками проникают на территорию училища, окружают казарму номер пять… Стрельба, битые стекла, взрывы, выкрошенная пулями штукатурка. И четыре трупа, развешанные в назидание другим на погнутых воротах училища.
Зримо представив себе все это, Ник обливается холодным потом, вскакивает и огромными прыжками бросается вперед, не обращая внимания на вжикающие над головой пули. На бегу перехватив автомат левой рукой, он закидывает оружие за спину, достает из кармана гранату, ломая ногти, отгибает усики чеки. Прикрываясь все тем же злосчастным кустом акации, Ник изо всех сил рвется вперед, сокращая расстояние. Дергает кольцо. Вслепую, на звуки выстрелов, бросает темно-зеленый железный мячик — и валится прямо в ломкие ветви, густо усеянные спелыми стручками.
Взрыв! Свистят осколки. Действуя скорее по наитию, чем осознанно, Ник на четвереньках, обдирая руки, лезет прямо сквозь куст, вскакивает, перехватывает автомат…
На углу главного корпуса училища висит рыжее пыльное облако. В нем колышутся какие-то тени, напоминающие рыб в грязном, запущенном аквариуме. Уже не экономя патроны, забыв обо всех наставлениях подполковника Новикова, Ник начинает стрелять в эти тени, выкрикивая что-то, какие-то злые и грозные слова.
Он не видит и не слышит, как сбоку подбегают Хал и Юсупов и в два ствола поддерживают его, наполнив все пространство впереди смертоносным свинцом.
Поднятая взрывом гранаты пыль как-то очень быстро опадает. Наступает тишина. Ник тупо смотрит на россыпь тусклых гильз у своих ног, потом переводит взгляд туда, откуда стреляли бойцы Аслана. Он видит четыре пятна на припорошенной охряной пылью траве и мелькающую вдалеке, возле ворот, фигурку.
— Один ушел, блин! — как сквозь вату доносится до него голос Хала. — Заложит. Сматываться надо отсюдова, по-бырому…
Убитых они хоронят у забора, с внутренней стороны.
— Всё же они тоже люди, — говорит Эн.
Она помогает Нику и Халу рыть братскую могилу. Юсупов возится с тягачом, гоняя двигатель на разных режимах, проверяя электросистему и ходовую.
Потом, уже в сумерках, мужчины грузят оружие и боеприпасы, а Эн с Камилом, который совершенно не пострадал от пуль аковцев, сидят «на стрёме», чтобы люди Аслана не застали их врасплох. Погрузка занимает несколько часов — двести автоматов сваливают в длинные зеленые ящики, которыми забивают почти весь десантный отсек «маталыги». Две бочки с соляркой, запасной аккумулятор, ремкомплект, канистры с маслом, комплекты обмундирования, обувь, сумки с гранатами, ОЗК — все немаленькое пространство отсека забито, что называется, под завязку.
Хал приносит последний тюк с формой.
— Как ныне сбирает все вещи Олег, — глядя на него, шутит Юсупов.
— Какой Олег, блин? — не понимает Хал. — Меня зовут Дамир.
— Олег конефоб.
— Коне… кто?!
Ник беззвучно трясется от смеха, догадавшись, что послышалось парню.
— Зря вы так, — укоризненно говорит Юсупову Эн.
Хал сбрасывает на землю тюк, набычившись, идет на инженера, сжав кулаки.
— Чё ты сказал, блин? — цедит он сквозь зубы.
Юсупов хватает гаечный ключ на тридцать два, бледнеет.
Ник срывается с места и бежит к ним.
— Стоять, мужики! Перестаньте!
— Пошел ты, — не глядя на него, кидает Хал и кричит Юсупову: — Ну чё, Очки! Зассал смахнуться? Брось ключ!
— Эта… убью, гаденыш! — сипит тот и замахивается.
Эн бросается между ними.
— Не смейте! Нам же всем вместе надо быть, вы что, не понимаете? — в отчаянии она срывается на крик. — Дураки! Камил!
Пес лает, рычит, встопорщив шерсть. Ник отталкивает Хала от Юсупова. Звенит выбитый из руки инженера гаечный ключ.
— Умные вы все, да? — Хал смотрит на свои запыленные ботинки. — Командиры все… А я не командир, блин! Но еще раз кто пошутит, в пятачину заряжу, грести-скрести. Поняли?
И зацепив тюк с формой, он волоком утаскивает его к тягачу.
Ник приносит две последние коробки с лентами для пулемета ПКТ, перебрать и опробовать который так и не дошли руки, вручает их Халу.
— Тяжелые, блин, — распихивая коробки между ящиками, бурчит татарин.
— Тяжело в учении — легко в бою, — невпопад брякает Ник.
Он очень устал, и усталость эта не физическая, а скорее нервная, психологическая. Скоротечный бой, сумевший уйти аковец, конец беспечной жизни и увлекательной эпопеи с реанимацией тягача, ссора Юсупова с Халом. Теперь впереди — неизвестность, позади — майор Асланов со своими отморозками. Партизанская война, о которой столько говорено, становится реальностью помимо их воли.
— Ну, все готово? — спрашивает из темноты Юсупов.
Ник кивает, спохватившись, что инженер его не видит, произносит:
— Вроде да. Осталось только аутодафе, вернее — костер тщеславия…
Они разбредаются по казармам. У Ника в одной руке факел, в другой — канистра с керосином. Поливая пол, стены, кровати, тумбочки, он морщился от резкого запаха и всё думает, всё сомневается: правильно ли это, надо ли сжигать училище?
С одной стороны, надо — люди Аслана придут сюда, и все достанется им, и оружие, и техника из запертых боксов. Если там действительно танки, это будет настоящая катастрофа.
А с другой — ну кончатся же когда-нибудь эти мрак и дикость, восстановится нормальная жизнь, появится власть, наведет порядок, и в училище снова придут курсанты…
Осознав, что он по-прежнему ждет чуда, ждет, что кто-то сильный и мудрый во главе суровых и справедливых придет откуда-то и все наладит, настроит, вернет жизнь в старое русло, Ник вслух ругается самыми черными словами, какие знает, швыряет факел в лужу керосина, разлитого по «взлётке».
— Никто не придет! — говорит он, перешагивает разгорающееся пламя и идет к двери.
Никто не придет. Он — и все остальные люди тоже — предоставлены сами себе. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому никакой рефлексии! Никаких сомнений! Принял решение — доводи до конца. Делай — или умри. И точка.
Ник, пошатываясь от внезапно накатившей слабости, выходит на улицу, не обращая внимания на разгорающийся за спиной пожар. Начинается дождь, и холодные капли падают ему на лицо, а он ловитл их ртом, слизывает с губ и все повторяет про себя: «Делай — или умри».
В десантном отсеке душно. От рева двигателя закладывает уши. Под полом грохочет, лязгает, над головами тоненько дребезжит какая-то плохо закрепленная железка. Крашенная белой краской переборка, отделяющая двигатель от десантного отсека и от кабины водителя, ходит ходуном.
Ник поднимается со своего места, дергает Хала, торчащего в открытом люке, за штанину.
— Что видно? — перекрикивая грохот, спрашивает он.
— Ни фига, блин, — скрючившись, орет тот в чрево тягача. — Туман! Кажись, кольцо проезжаем. На, сам посмотри…
Дождавшись, когда Хал слезет вниз, Ник хватается за теплую ручку, ставит одну ногу на какой-то металлический короб, другую — на ящики с автоматами, и высовывается наружу. Его глазам предстает зрелище, достойное кисти художника-сюрреалиста.
Тягач уверенно прет по сильно заросшей кустарником канаве, в которую за тридцать лет запустения превратился Оренбургский тракт. Пласты сизого тумана перекрывают канаву, напоминая слоеный пирог, пробитый во многих местах темными силуэтами деревьев.
Тягач мокрый, словно его поливали из пожарного брандспойта. Капли воды дрожат на броне, а когда машину сильно дергает на очередной яме, стряхиваются вниз, но на их месте тут же появляются новые.
Юсупов ведет «маталыгу», не разбирая дороги. Плоский нос тягача сминает кусты, ломает небольшие деревца. Ник выворачивает шею и смотрит назад. Вопреки его ожиданиям, он не видит остающейся там просеки. Пройдя под днищем машины, кусты тут же выпрямляются, и туман скрывает их. У Ника складывается впечатление, что они едут по огромному ворсистому ковру, без дороги и следа. Это хорошо. Это даже здорово. Если беглецов начнут искать, сделать это окажется затруднительно. Жалко, начавшийся ночью дождь быстро кончается. Вода хорошо смывает следы — и в прямом, и в переносном смысле слова…
Впереди неожиданно встает раскидистая липа, старая, с толстым, в два обхвата, стволом. Юсупов резко поворачивает вправо, объезжая дерево, тягач мотает, и Ник едва не проваливается в люк, прикусив язык. Рот наполняется кровью, от боли темнеет в глазах. Сплюнув, он сжимает зубы, мысленно выругавшись. Ругаться вслух чревато — «маталыгу» начинает таскать из стороны в сторону, подбрасывая то вверх, то вниз.
Туман немного рассеивается, и Ник видит в просветах между деревьями, по правую руку от себя, отблески воды. Он вспоминает, что где-то здесь находится озеро Кабан, то ли Верхний, то ли Нижний. Впереди сереет бетонный короб автобусной остановки, за ним — кривая просека, уводящая вверх и несколько остовов легковых машин, перегораживающих бывшую дорогу. Тягач дергается и останавливается. Ник бьется грудью о край люка. Рев двигателя переходит в утробное урчание. Люк над водительской кабиной приподнимается и появляется взлохмаченная голова Юсупова. Повернувшись к Нику, он скалится, тычком поправляет очки и кричит:
— Я эта… прямо через машины поеду!
Ник молча кивает. Выбора у них действительно нет — по обе стороны дороги высятся большие деревья. Юсупов ныряет обратно. «Маталыга» словно бы приседает на корму — и резко рвется вперед. Задрав нос, тягач наползает на ближайшую легковушку — кажется, это какой-то джип — и лихо проутюживает его, лязгая гусеницами. Молодая сосенка, на свою беду выросшая слишком близко к центру дороги, сгибается, ствол ее с громким треском лопается и длинная белая щепка отлетает, кувыркаясь, в сторону.
Выбравшись из низины, они едут по более-менее ровной местности. Низкие облака сливаются с туманом и где-то там, в белесой мути, оловянно светится кружок встающего солнца.
На пересечении с Фермерским шоссе Юсупов теряет дорогу, впарывается в березовую рощу, валит несколько больших деревьев и едва не сажает тягач днищем на завал.
Пока «маталыга» задом, вырыв под собой изрядную яму, выбирается оттуда, туман рассевается. Солнце находит себе дыру в облаках, наливается желтизной, блеском. Сразу становится жарко, броня высыхает.
Оставив раскуроченную рощу позади, тягач выбирается на тракт и прет в сторону Республиканской клинической больницы. Слева, в зарослях, время от времени проглядывают квадратные рамы поваленных рекламных щитов, справа тянутся какие-то ангары с просевшими крышами — видимо, раньше тут был складкой комп shy;лекс.
Ржавых машин на пути «маталыги» становится больше. Юсупов уверенно давит легковушки, грузовики и автобусы объезжает или таранит, спихивая в сторону. Грохот при этом стоит такой, что слышно, наверное, даже в центре города. По крайней мере, Ник думает именно так. Он даже представляет, как Аслан отдает приказ своим людям, и отряды «кремлевских», дергая затворы автоматов, с нескольких сторон несутся через всю Казань, чтобы отрезать тягачу все пути к отступлению, взять машину в кольцо и…
Собственно, о том, что будет дальше, Ник имеет самые смутные представления. Юсупов говорил, что броня МТ-ЛБ выдерживает автоматную пулю на средней дистанции. Значит, чтобы подбить «маталыгу», вывести из строя ходовую часть, нужно что-то посерьезнее — гранатомет, например. Наверняка гранатометы у Аслана есть. Значит, открытый бой, прямое столкновение с «кремлевскими» — верная смерть. Это, в свою очередь, означает, что решение спрятать тягач с оружием и начинать партизанскую войну — верное и правильное.
Ник несколько успокаивается, опять сплевывает накопившуюся во рту кровь, изгибается и смотрит в отсек. Эн, вжавшись в закуток между ящиками, двумя руками вцепилась в густую шерсть на загривке Камила и бормочет ему в мохнатое ухо что-то успокоительное. Пес довольно жмурится, вывалив длинный розовый язык.
Хал, завернувшись в тент, безмятежно дрыхнет в корме «маталыги», на тючках ОЗК. Позавидовав нервной системе парня, Ник высовывается наружу, и тут тягач во второй раз резко останавливается.
Кустарник закончился. Метров через тридцать начинается широкий, ровный луг, уходящий вдаль, к проспекту Победы. Далеко слева, в дымке, высятся серые многоэтажки района Горки-2. Справа, тоже не очень близко, темнеет лес, а за ним громоздятся новостройки района «Солнечный город», некогда самого молодого жилого массива Казани.
А прямо перед «маталыгой» из земли торчит наискось вкопанный в землю и подпертый жердями столб, на котором висит привязанный за ноги голый человек. Мертвый человек. Вороны выклевали ему глаза, лицо почернело и распухло, на животе зияет огромная дыра, сочащаяся чем-то темным. Из дыры время от времени вылетают какие-то птички. Грязные руки мертвеца свисают почти до земли.
К столбу прибит кусок синего пластика, на котором черной краской значится:
СТОЙ! ОПАСНАЯ ЗОНА! ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН!
НАРУШЕНИЕ КАРАЕТСЯ СМЕРТЬЮ.
И вместо подписи внизу — осточертевший уже круг с буквами АК…
Глава шестая
Вначале все пугаются. Юсупов отгоняет тягач назад, в заросли, глушит двигатель. Похватав автоматы, друзья вылезают на броню, тревожно оглядываясь. Камил, выпущенный «в пампасы», бегает туда-сюда, то задирая лобастую голову вверх, то что-то вынюхивая в траве. Потом пес запрыгивает на нос «маталыги», ложится в самой непринужденной позе и принимается выкусывать блох.
— Вроде никого, — глядя на собаку, неуверенно говорит Хал. — Камил не кипишует.
— Его сначала эта… убили, а потом повесили, — с дрожью в голосе произносит Юсупов, сквозь зеленое кружево листвы разглядывая казненного.
— Меня больше интересует — кто это сделал и зачем. — Ник тоже смотрит на повешенного.
Эн, тиская автомат, вздыхает и шепчет:
— Кто — понятно, там подпись есть. Зачем — тоже понятно. Твари они потому что.
— Это предупреждение всем — дальше ехать… или ходить нельзя.
— На разведку надо идти, блин, — высказывается Хал.
— А смысл? Если там блокпост или просто засада, то нас уже засекли. Это ведро с гайками, — Ник каблуком бьет по броне, — грохочет так, что в Кремле слышно. Причем в Московском.
— Не обижай машину, — очень серьезно говорит Юсупов и украдкой гладит нагревшуюся броню. — «Коробочка» у нас молодец.
— Ты ее еще поцелуй, блин, — недобро смеется Хал.
— Надо будет — поцелую, — с вызовом отвечает инженер.
— Хватит! — хлопает ладонь по люку Эн. — Не начинайте. Поехали дальше. Наверняка они уже в училище.
Хал отворачивается. В том, что пятый аковец ушел, он винит в первую очередь себя. Винит, но при этом никогда не признает свою вину вслух.
— И то верно, — еле ворочая прикушенным языком, соглашается Ник. — Вилен, заводи. Будем делать так, как решили.
— Камил, в машину! — кричит Хал собаке, но пес даже ухом не ведет.
— Камуша, — зовет Эн. — Давай, милый. Потерпи, скоро приедем.
Пес немедленно поднимается на лапы, спрыгивает с тягача и бежит к корме, туда, где находятся десантные люки МТ-ЛБ.
— Смотри, блин, какая у них любовь, — с плохо скрываемой завистью ворчит Хал и тут же снова начинает злиться: — Один с танком целуется, другая…
Эн реагирует немедленно.
— Заткнись. Эксо-эксо, Кэнди!
— И это не танк, сколько раз тебе повторять! — поддакивает ей Юсупов, забираясь в проем водительского люка.
Хал открывает рот, чтобы ответить обоим что-то очень резкое и грубое, но инженер перебивает его, обратившись к Нику:
— Эта… за пулемет сядь, что ли. На всякий случай.
— Так он же весь в консервационной смазке, не опробованный!
— У нас эта… выбора нет.
Открыв коробку с лентой, Ник с непривычки очень долго заправляет ее в пулемет. В армии на занятиях по огневой он делал это сотни раз — подполковник Новиков был мужиком въедливым и гонял связистов в хвост и в гриву. «Солдат — это, прежде всего, оружие, — любил повторять он. — Когда дойдет до дела, оружие должно стрелять».
Наконец, справившись с непослушной лентой, Ник опускает крышку ствольной коробки и ставит ПКТ на боевой взвод.
— Готов? — спрашивает инженер.
— Давай.
Пожужжав стартером, Юсупов запускает двигатель, дает обороты и гонит тягач далеко в объезд. Продрав через кусты, он выводит машину на луг и едет вдоль леса. Ник, упершись поясницей в жесткую спинку сидения стрелка, одной рукой крутит маховик поворота башенки, рыская стволом ПКТ из стороны в сторону, а большой палец другой держит на кнопке электроспуска, готовый в любой момент начать стрельбу.
Видно через мутноватую оптику башенного прицела плохо. Да чего там плохо — вообще ни черта не видно. Тягач постоянно подбрасывает, и Ник то лицезреет поголубевший небосвод, то зеленую мешанину травы, а один раз и вовсе «ловит» солнце и на несколько секунд слепнет.
Наконец, не выдержав пытку неизвестностью, он кричит Юсупову:
— Ну что там, что? Где мы вообще?
— Тихо всё. К проспекту Победы подъезжаем, — доносится сквозь рев двигателя в ответ. — Эстакада упала. Буду пробовать напрямик. Эта… держись!
Тягач ухает вниз и катится под уклон. Ник, вцепившись в рукоять маховика и коленями раскоряку упершись в стойки, молит всех богов, чтобы «маталыга» не заглохла, не перевернулась и вообще чтобы эта поездка поскорее закончилась.
В прицеле мелькает бурьянистый склон, раздается скрежет — Ник чувствует сильный удар по корпусу машины, — и тут же нос тягача задирается вверх. Юсупов прибавляет обороты до максимума, двигатель переходит на какой-то авиационный, реактивно-турбинный звук. Ник успевает удивиться — как же на войне люди, сидя вот в таких железных «коробочках», умудряются еще и стрелять, куда-то попадать, побеждать врага?
Тут подъем заканчивается и тягач выскакивает на бугристую равнину, поворачивает вправо и ползет в сторону многоэтажных жилых комплексов на улице Уныш. Ехать прямо к больнице, поглощенной золотистым сиянием, Юсупов не рискует. В сущности, он почти в точности повторяет тот путь, по которому ехал на велосипеде несколько дней назад к Танковому училищу.
Тягач застыл на краю старого котлована, заполненного водой. Глинистые склоны оплыли, обильно поросли травой, но на темной поверхности рукотворного озера не видно даже ряски.
— Темна вода во облацех, — бормочет Ник и поворачивает голову.
Небо окончательно проясняется и слева, далеко, за лесом и домами, хорошо просматривается столб жирного черного дыма — это горит танковое училище.
— Будем считать, что аковцы уже там. Не уверен, что тот, который сбежал, видел тягач, но следы они найдут. И рано или поздно придут по ним сюда.
— И увидят это… — с дрожью в голосе говорит Эн, глядя на золотистую стену, вставшую впереди.
Ник пытается вспомнить, где он уже видел эти странные сполохи. Пытается — и не может.
— Увидят — и дальше не полезут, — подхватывает Хал. — Очканут, блин! Точно говорю.
— Может, они уже видели. Мертвец же не зря там висел, — предполагает Ник и тут же добавляет: — Но нам от этого не легче.
— Гараж вон там, где деревья. — Юсупов показывает, где. — Дом надо объехать только. Вы эта… не бойтесь, когда голову начнет жать. И голосов всяких, звуков…
— А может, это радиация? — Видно, Хала, не смотря на всю его браваду, страшит золотистое марево, колышущееся впереди.
— Может. Только вряд ли. — Юсупов вертит в руках похожий на авторучку дозиметр ИД-1. — Не знаю… Может эта… он из строя вышел, но, в любом случае, ничего не показывает.
— У нас выхода все равно нет. — Ник пристукивает кулаком по борту «маталыги». — Или сразу сдаваться, или делать то, что решили.
— Партизанский отряд имени Камила, — хохочет Хал, маскируя страх за немудреными шутками. — Вооруженная группа полевого командира Проскурина, блин.
— Хватит болтать! — обрывает его Ник. — Лезем в «коробочку». Нам еще потом через весь город топать.
Вырывая гусеницами куски дерна, тягач ползет к золотистой стене. Ник, высунувшись из люка, с замиранием сердца ждет, что будет, когда они пересекут границу сияния.
Двадцать метров. Пятнадцать. Десять. Пять…
Он зажмуривается, невольно задерживает дыхание, словно перед тем, как нырнуть…
Два метра, один…
Золотистое сияние наползает…
И ничего не происходит!
Все так же рокочет двигатель, все так же уползает под нос тягача трава. Стена, завеса, пелена, грань — назвать это можно как угодно — остается позади. Две ласточки, догоняя друг друга, проносятся над самой головой Ника, едва не задев задранный вверх ствол ПКТ. Божья коровка приземляется на нагретую солнцем броню, замирает, потом быстро-быстро ползет вверх по башне, раскидывает крохотные крылышки и исчезает, унесенная ветром.
Вокруг шелестят листвой те же деревья, мощная крапива выперла из двора многоэтажки и заполоняет собой пространство между домами. Бетонная коробка трансформаторной будки торчит из крапивного моря, как айсберг.
И вдруг Ник понимает, почему он сравнил будку с айсбергом. Она белая! Абсолютно белая, точно только вчера покрашенная. И провода, уходящие от нее к столбу, выглядят как новенькие. Блестят на солнце изоляторы — ни пыли, ни грязи.
И торчащая из крапивы крыша жигулей-десятки тоже выглядит обычно, обычно для того мира, который существовал пару недель — или тридцать лет? — назад. Даже выцветшая георгиевская ленточка на выдвинутой антенне сохранилась!
Ник вертит головой — действительно, всё так, как и рассказывал Юсупов. За золотистой стеной предметы, постройки, машины не подверглись действию времени. Никакой ржавчины, грязи, разложения, гнили. Но при этом трава, деревья растут тут так же буйно, как и по всей Казани.
Почему так? Что явилось причиной этого феномена? Ник не знает, хотя и догадывается, что все дело в золотистой стене, точнее, в стенах. Вторая завеса отчетливо просматривается впереди, примерно в полукилометре. Она кажется более плотной, осязаемой, имеет более насыщенный, медовый цвет. Что находится за ней, рассмотреть уже не получается — здания, деревья искажаются, дрожат, утопая в желтом тумане.
Тягач дергается, поворачивает и, ломая забор, лезет напрямик через чей-то участок, едва не своротив угол одноэтажного кирпичного коттеджа. Еще раз свернув, Юсупов подгоняет машину к гостеприимно распахнутым железным воротам большого гаража. Хозяин, видимо, выстроил его для грузовика — тентованный КАМАЗ с красной кабиной застыл рядом, в нескольких метрах.
Двигатель МТ-ЛБ рявкает и глохнет. С наслаждением вслушиваясь в наступившую тишину, Ник различает в ней треск кузнечиков, пересвист птиц, деловитое жужжание пчел, торопящихся собрать последнюю дань с августовских цветов.
— Эта… приехали! — сообщает Юсупов, вылезая из люка, и тут же спрашивает: — Всё нормально? Как голова?
— В порядке, — кивает Ник и спрыгивает в траву. — Хорошо тут.
Клацают дверцы десантного отсека. Эн, Камил и Хал выбираются наружу, удивленно оглядываясь.
— Как на даче, блин, — резюмирует Хал и по привычке сплевывает. — Найдут они тут наши волыны. Звиздун ты, Очки. Не фига тут не страшно.
— В самом деле, Вилен… — начинает Ник и тут его накрывает.
Шум накатывается одновременно со всех сторон и бьет по ушам. Перед глазами плывут какие-то темные пятна, резные, разлапистые, колючие. Сердце бьется так сильно, что Ник с перепугу хватается за грудь, словно пытаясь удержать его там.
Камил взлаивает, но Ник не слышит звука — просто пес, ощетинившись, разевает пасть и пятится задом к тягачу. Эн хватает его за шерсть на холке, тащит куда-то в сторону. Хал, приседая и выпрямляясь, ладонями бьет себя по голове. Юсупова Ник вообще не видит — инженер куда-то исчез.
Шум в ушах стихает, распадается на множество составляющих, на звуковую мозаику, а она, в свою очередь, складывается в знакомые, привычные голоса людей, тарахтение двигателей и шуршание шин по асфальту. Ник закрывает глаза и у него создается полное ощущение того, что он стоит на тротуаре посреди обычной городской улицы.
— Да, приложение к договору надо подписать отдельно! — басит совсем рядом мужской голос. — Что? Не слышу? Тут ловит плохо…
На смену басу приходит щебетание двух подружек явно пубертатного возраста:
— А Юлька ему — я ни-ку-да с тобой не пойду!
— Ой, а он?
— А что он? Сказал, что она дура, и поехал к Ремезовой.
— Во-от сволочь!
Детский голос, звонкий и нетерпеливый, перебивает сплетничающий подружек:
— Мама, мама, возьми на ручки! Мама, я устал…
Шелест поливальной машины заглушает все прочие звуки, где-то в стороне звенит трамвай.
Ник открывает глаза и видит за стеклами очков веселые глаза Юсупова. Инженер что-то говорит, оживленно жестикулируя.
— Отойди! — долетают до Ника через несколько секунд его слова. — Загонять буду.
— Хорошо! — громко, как глухому, отвечает Ник и, борясь с головокружением, делает несколько шагов по направлению к красному КАМАЗу.
Там уже сидят прямо на траве Хал и Эн с Камилом. Девушка гладит дрожащего пса — пожалуй, самого напуганного из всех.
Когда Ник садится рядом, до него сквозь по-прежнему звучащий в ушах городской шум доносятся слова Хала:
— Тут звуки медленно доходят, блин…
— Я понял, понял! — кричит Ник. — Это какая-то ерунда. Архивные фоновые звуки, которые застряли тут почему-то.
— Давайте уйдем отсюда, — говорит Эн. — Камилу не нравится.
Юсупов загоняет тягач в гараж, прикрывает железные двери, подпирает их лопатой и машет рукой — пошли, мол.
С явным облегчением все спешат за инженером. Шагая следом за Эн, Ник чувствует острое желания заткнуть уши, что немедленно и делает. Но шум жизни большого города никуда от этого не исчезает. Он звучит в голове, воздействуя не на барабанную перепонку, а непосредственно на какие-то центры мозга, ответственные за передачу звуков.
— Магазин! — орет Юсупов и сворачивает к одноэтажной пристройке, украшенной вывеской «Ашамлыклар[29]».
— Зачем? — с запозданием в несколько секунд кричит ему в спину Ник и тут же понимает: если тут не «постарели» машины, дома и прочее, значит, и продукты тоже.
В магазине пованивает — мясо и рыба уже успели подпортиться за прошедшие с момента пробуждения дни. Торты и пирожные в обесточенной витрине поросли нежно-зеленой пушистой плесенью. Хлеб и батоны высохли до каменного состояния. Но консервы, пресервы, твердые сорта сыра, сухари, баранки, молоко в пакетах, колбасы, нарезки, копченая рыба — все это годится в пищу.
Набив рюкзаки, партизаны делают несколько ходок к гаражу, сваливая тушенку, сгущенку и консервы в десантный отсек. Все это время их изводят шумы давно омертвевшего города.
— Я больше не могу! — в отчаянии заявляет Эн, тряся головой. — Я сейчас с ума сойду!
— Всё. — Ник спортивным жестом скрещивает руки, показывая остальным, что пора заканчивать. — Берем то, что унесем с собой — и валим!
Покинув разграбленный магазин, они гуськом двигаются вдоль дома, сминая огромные лопухи.
— Зырьте! — Хал останавливается и вытягивает руку. — Провода, блин…
Ник смотрит туда, куда указывает татарин и видит невозможное: извивающиеся кабели линии электропередач, уходящей в сторону второй золотистой стены. Стоит практически полное безветрие, ни птиц, ни каких-то иных источников движения поблизости от линии нет, но тем не менее провода вытанцовывают какое-то змеиное танго. Ник ловит себя на том, что тоже начинает покачиваться в такт этих колебаний.
— Не надо смотреть! — пробивается сквозь гомон и какофонию звуков голос Юсупова. — Пошли скорее!
Через несколько минут, добравшись до границы этой жуткой территории, Ник с облегчением понимает, что шум в голове начинает затихать. Пройдя сквозь золотистую завесу, он в изнеможении валится на траву.
— Очки, что это было, блин? — спрашивает Хал, плюхнувшись рядом.
— Откуда я знаю? — пожимает плечами Юсупов. — Но надеюсь, что наших кремлевских друзей это всё сильно напугает. Они ведь не знают, что там можно эта… ходить.
— В Цирк пойдет Вилен. Его никто там не знает, а убежавший аковец вряд ли рассмотрел в пылюке тех, кто в него стрелял.
— Да я не отказываюсь, — пожимает плечами Юсупов. — Я эта… не знаю просто, смогу ли…
— А чё там мочь-то, блин? — Хал презрительно плюет под ноги инженеру. — Придешь, прогонишь пургу про Светлую поляну, дачу и все такое. Потом найдешь Бабая и скажешь, чтобы он пришел сюда. Всё, блин, товарищ полковник, задание выполнено.
— А если его убьют? — спрашивает Эн, поглаживая Камила.
Они сидят на чердаке старого трехэтажного дома, кирпичным фасадом выходящего на улицу Айвазовского, а задней частью — на Муштари. Раньше здесь была школа, причем не простая, а с углубленным изучением английского языка. Пройдя по пустым, гулким классам и стараясь оставлять как можно меньше следов, бойцы партизанского отряда имени Камила не обнаружили человеческих останков. В здании побывали какие-то люди — на первом этаже в коридоре имелось кострище, а в одном из классов явно ночевали, сложив из столов и стульев нечто вроде большой многоместной кровати. Но других следов присутствия человека они не нашли.
С чердака, через небольшие окна, которые во Франции называют «сидячие собаки», хорошо просматривалась примыкающая к школе территория и часть улицы Бутлерова. Удостоверившись, что в случае чего чердак можно будет покинуть с разных сторон, Ник объявил, что здесь будет временный командный пункт.
— Нам нужен Бабай. Через него мы сможем поднять людей. Договоримся о месте сбора, подгоним «маталыгу», раздадим оружие…
— Хороший планчик, — усмехается Хал. — А если Бабай уже того…
— Ну, вряд ли. — Нику как-то не хочется верить в то, что Аслан и его отморозки могут убить главу общины.
— Ладно, нечего эта… коты тянуть… — Юсупов вытаскивает из армейского рюкзака грязные вьетнамки и свой оранжевый плащ. — «Если», «а вдруг», «может быть»… Пока не схожу, ничего не узнаем. Сидите и ждите меня. Ну, или Бабая. День, два, три, но не больше. И эта… осторожнее тут.
— Пароль надо, — согнав с лица улыбку, говорит Хал.
— Да какой пароль, — раздраженно отмахивается Ник. — Вилен, тот, кто придет от тебя, должен встать во-о-он там, возле того дома на Бутлерова, где на стене ржавые ящики…
— Это кондиционеры были, — приглядевшись, отмечает Юсупов. — Лады, эта… я все понял. Ну, пока, что ли?
— Удачи, Вилен. — Ник пожимает инженеру руку, Эн чмокает его в небритую щеку, Хал салютует сжатым кулаком.
Скрипят пыльные доски, и оранжевый плащ Юсупова исчезает в проеме чердачного лаза.
Никогда не думала, что ждать — это такое мучение, особенно когда ждешь человека, от которого зависит очень многое и жизни людей в том числе.
Этот Вилен смешной, конечно. Нелепый даже. Плащ этот, велосипед с зонтиком, шлепанцы. По крайней мере, он мне нелепым показался вначале. Когда Хал на него наезжать начал, мне даже жалко стало — взрослый мужик, а отпор дать не может. И разговаривает — словно стесняется чего-то все время.
А потом, когда мы тягач начали чинить… ну, не чинить, а пытаться отремонтировать, чтобы он завелся, Вилен оказался самым главным. И мы все его слушались. Я, честно говоря, не верила, что у нас получится. А он знал. И всё по его вышло. Теперь мы — сила. И будем сражаться. Страшно, конечно, но не так, как там, за желтой стеной, где мы тягач и оружие оставили. Там я просто до обморока испугалась — голоса эти, шум. И главное — ведь все эти люди, которых мы слышали, они же, наверное, умерли давно…
Жуть. И объяснения никакого нет. Мы, пока сюда шли через весь город, все пытались понять — что это за стена, почему звуки, почему провода танцуют? Ник сказал, что это все наверняка как-то связано с тем, что со всеми нами случилось. Хал больше молчал, он, когда не понимает, всегда молчит или повторяет «сила дурака в молчании». Ну, хоть на это у него ума хватает.
А Вилен предположил, что мы столкнулись с каким-то неизвестным физическим явлением вроде электростатического поля, только стабильного во времени и пространстве. Они с Ником заспорили, но я ничего не поняла и молчала вместе с Халом.
Спорили, спорили, но так ни до чего и не договорились. Очень надеюсь, что, по крайней мере, поле это безопасно для здоровья. Мне болеть нельзя, потому что я обязательно с мамой должна встретиться. Вернуться домой. Когда наша партизанская война закончится, я поеду в Иркутск. Попрошу Вилена, чтобы он отремонтировал какую-нибудь машину, возьму Камила и поеду. С Камилом мне ничего не страшно. Я всю жизнь мечтала о таком друге — сильном, смелом и надежном.
Вот он лежит сейчас рядом со мной, спит вроде, но ушами все время двигает — слушает, что вокруг происходит. И если человек где-то по улице проходит, сразу вскакивает и всем своим видом показывает — тревога!
Люди здесь ходят часто. Мы второй день ждем Вилена и Бабая. За это время человек двадцать видели. Один раз группа из пяти человек даже завернула в школу. Мы уже приготовились уйти, но они походили по первому этажу — и ушли.
Вообще, тут ночью очень жутко. Все время кажется, что кто-то бродит внизу, по пустым классам, звуки какие-то раздаются оттуда. Но я всегда на Камила смотрю. Если он спокоен, значит, это всего лишь мыши. Или призраки. Призраков я не боюсь.
Я боюсь людей.
Глава седьмая
Бабай приходит утром на третий день ожидания. Приходит один. Хал, дежуривший у чердачного окна, тихонько свистит, привлекая внимание спящих Ника и Эн. Камил вскакивает, стуча когтями, подбегает к дозорному и высовывает лохматую морду в окно. Неизвестно, что он там видит, но неожиданно начинает махать хвостом и вываливает язык, словно бы улыбаясь.
— Он его признал! — радостно говорит заспанная Эн.
Ник хмыкает, снимает автомат с предохранителя и идет вниз. Вскоре он возвращается с Бабаем. Глава общины выглядит сильно похудевшим. Синяки на лице почти прошли, но двух передних зубов как ни бывало.
— Живые, значит, — говорит он вместо приветствия. — Едрит-архимандрит. Очкарик ваш тоже живой. Измудохали его сильно.
— Нафига, блин? — удивляется Хал. — Чё с него взять, с дохода?
— Проверка, — криво усмехается щербатым ртом Бабай. — У нас теперь так — всех новичков проверяют: кто, откуда, зачем пришел? Ну, и все такое прочее…
— Аслан приказал?
— А кто же еще. Он же теперь — власть. — Бабай наклоняет голову и тихо добавляет: — Сволочь, сука.
— В чем заключается проверка? — озабоченно спрашивает Ник.
— А у них все просто, парень — трое держат, один бьет ментовской дубинкой и вопросы задает.
— И? — напрягается Ник.
Не то чтобы он не верит в Юсупова, но уж больно жуткая картинка рисуется в мозгу.
— Нормально всё. Не сказал он про вас. Всё кричал про сторожа убитого и бандитов с двадцать пятого километра. «Вы же полиция, вы должны задержать преступников!» Кремлевские ржали потом долго.
— Понятно. А сейчас он где?
— Отлеживается. Бабы ему ребра тряпками перетянули, листами подорожника облепили. С завтрашнего дня на работу должен выйти. Пока его в землекопскую бригаду отрядили.
Бабай умолкает, оглядывает чердак, рюкзаки, спальники, задерживается взглядом на автоматах, встречается глазами с внимательно следящим за ним Камилом и переводит разговор на другое:
— Я смотрю, прибарахлились вы… Танковое училище?
— Угу, — кивает Ник.
— И сожгли потом.
— Чтобы врагу не досталось.
Бабай вытаскивает грязную тряпицу, заменяющую ему носовой платок, вытирает пот, выступивший на лысине.
— А Аслан со своими бошки ломают — кто пятерых его людей завалил и пожар устроил.
— Четверых, — поправляет Хал. — Мы, блин, четверых мочканули.
— А-а, значит, пятого не вы… — Бабай делает движение глазами — словно что-то отмечает для себя в памяти. — Ну, я так и подумал. Четверо-то пропали, с концами. А одного возле бывшего ресторана «Акчарлака» нашли. Четыре дырки в спине.
— Из чего стреляли? — заинтересовано спрашивает Ник.
— А в него не стреляли. Проткнули почти насквозь и ствол забрали.
— Это же Фи… — начинает Эн, но Ник резко обрывает ее:
— Погоди! Значит, они не знают, что…
— Что «что»? — прищуривается Бабай.
— Что у нас есть танк, двести стволов, патроны и гранаты! — режет правду-матку Хал.
— Едрит-маргарит, вот, значит, как… Ну-ну… — кивает Бабай. — А делать что собираетесь?
— Есть хотите? — отвечает вопросом на вопрос Ник и пододвигает к Бабаю вскрытую банку тушенки, в которую воткнут штык-нож.
— Рахмет[30].
Пока он ест, аккуратно, не роняя ни кусочка мяса, ни капли жира, на чердаке царит тишина, нарушаемая лишь постукиванием ножа о банку. Когда с тушенкой покончено, Камил подходит к Бабаю и, наклонив голову, внимательно смотрит на опустошенную банку.
— На. — Бабай ставит ее перед псом.
Камил радостно вылизывает жестянку и уходит в свой угол.
— Вы ему понравились, — тихо говорит Эн.
— Меня больше удивляет, как он вообще с вами ходит, — флегматично отвечает Бабай. — Видать, не может собака без людей. А про Танковое народ знаете, что говорил? Что там тысячи собак, людей жрут на раз. А дальше на запад по Оренбургскому тракту вообще местность зараженная, газ какой-то желтый или туман. Все, кто туда попадает, с ума сходят и мрут, как мухи.
Помолчав, он добавляет:
— Теперь вижу — врут люди. А?
— Ага. — Ник протягивает Бабаю бутылку с водой и сухарь с кусочком сыра. — Расскажите, что в городе сейчас творится.
— Что-что… Власть у нас теперь есть, крепкая и полномочная, мать ее. Военный комендант города Казани — это майор Асланов, понятно, да? Монах при нём как бы политруком. Общественная организация «Второй шанс». Мулла один еще, Фарид-ага, тоже с Монахом, спелись они — мол, Бог един, только молимся мы по-разному, а так все одинаковое, и всему народу надо стараться, работать, не грешить, власть почитать и все такое прочее. И если грешников не станет, то наступит всеобщее счастье — всех на небо возьмут, прямо в рай.
— А как же люди Аслана? — удивляется Эн. — Они же грешат! Убивают даже…
— А им можно, — недобро ухмыляется Бабай. — Они как бы божьи прислужники и всё, что ими делается — во благо и на пользу. «Второй шанс» — это вам не бирюльки, там все серьезно.
Эн вспоминает лицо уголовника, тащившего ее в кусты, и закусывает губу от злости.
— Ну, а исполнительную власть в городе осуществляет мэрия, — продолжает с той же злобно-глумливой интонацией Бабай. — Возглавляет мэрию ваш покорный слуга, да. Рыбу ловим, охотничать начинаем помаленьку, рвы копаем…
— Противотанковые? — удивляется Ник.
— Скотопоимочные, — говорит Бабай и отворачивается, словно ему стыдно.
— То есть все, в общем-то, нормально? Жизнь наладилась? Так получается?
— Да как бы да, выходит, что так… Генератор вон в Кремле обещали запустить. Электричество будет, рации заработают, приемники, может, удастся с другими городами связаться, с Москвой… Прожектора будут, лампочки, ну, освещение то есть, да. Машины чинят, шесть штук, разобрали все, до винтика. На Кремлевской улице деревья вырубают, пни корчуют, чтобы проехать можно было.
Бабай говорит все это тихим голосом, не поворачиваясь. У Ника возникает ощущение, что в душе этого пожившего и многое в жизни повидавшего мужика идет упорная внутренняя борьба. Кто с кем там сражается, понять, конечно, невозможно, но наверняка ни одна из сторон не может сейчас одержать верх, и Бабай попросту тянет время.
Ник решает, что торопить события не стоит и задает следующий вопрос:
— А что в Кремле?
— Сосредоточие, — отвечает Бабай. — Центр всея земли. Пулеметы на стенах. Три штуки. Перед главными воротами траншеи вырыты, окопы. Колючка везде, в несколько рядов, такая, кольцами… забыл, как называется…
— Спирали Бруно или «Егоза», — подсказывает Ник.
— Во, точно, «Егоза». Из нее заграждений наделали везде — не пролезть, не перепрыгнуть. Когда надо рабочих пропустить, например, заграждения отодвигают, а так путь в Кремль всегда перекрыт.
Припомнив, что на экскурсии им показывали несколько ворот, через которые можно попасть внутрь старой крепости, Ник спрашивает:
— А другие башни?
— Ту, через которую туристов водили обычно, Аслан велел законопатить. Проход камнями заложили и землей засыпали. Нижнюю башню тоже. Проезд засыпали.
— То есть теперь внутрь можно попасть только через самую большую башню, которая с часами?
— Ну да, через Спасскую. — Бабай, наконец, поворачивается и из-под косматых бровей тяжело смотрит на Ника. — А вы никак штурмовать Кремль задумали, да?
Хал вскакивает, проходится по чердаку, всем своим видом давая понять, что ему не нравится этот разговор. Гневно посверкивая глазами, он говорит, постепенно повышая голос:
— Да вы там совсем, блин… Прижились! Этот ментяра вас зашугал, что ли? Зачмарил, блин? Он завтра скажет — землю жрите, и что, блин, будете жрать?
— Сопляк! — вдруг рявкает Бабай. — Что ты понимаешь, а? Там женщины, дети… Это же последние люди, нету других! Да я, чтобы жизнь каждому сохранить, не то, что землю — навоз буду жрать, понял? На брюхе буду ползать… Аслан порядок установил. Свой, конечно, говняный, но порядок! Народ работает, пайку получает. Все общины в городе объединились. Почти все… Одиночки к нам идут, из-за города народ начинает подтягиваться. Потому что понимают люди — без порядка нельзя. Если каждый сам за себя будет, чем все закончится? Перебьем, передавим друг дружку… нам надо вместе. И верить. И работать. Все будет хорошо.
Последние слова Бабай бормочет совсем тихо и с такой тоскливой интонацией, что Эн тоже не выдерживает. Совсем как Хал, она вскакивает и кричит:
— Вы сами-то верите в то, что говорите? Какой порядок? Какое «все вместе»? Это же средневековье просто! Сеньор и его вассалы сидят в замке, а вокруг пеоны, ну, крестьяне, трудятся и выполняют все их приказы. Почему?
— Потому что у сеньора и вассалов есть автоматы, — негромко подсказывает ей ответ Ник. — Ты права, действительно средневековье. Только раньше были мечи и кольчуги, а теперь бронежилеты, АК и РПК[31].
— Нет у них бронежилетов, — качает лысой головой Бабай. — Но народу много, больше двухсот пятидесяти человек. И все с автоматами, верно. Плюс в Кремле постоянно бригады работают — землекопы, строители… Если что, Аслан их в бой первыми погонит. Ну, и женщины. Они там устроили что-то типа публичного дома, да. Дозоры на стенах, на башнях. Пост в тех воротах, что на Казанку смотрят…
— А они что, не засыпаны? — удивляется Ник.
— Нет, зачем? Там же вместо реки теперь сплошное болото, прямо до стен — ни пройти, ни проехать.
— Вы про генератор говорили — ну, что свет будет, прожектора и прочее. Когда его запустят?
— Через пару недель Садыков обещал.
— Садыков — это кто? — интересуется Хал. — Не Закир? Не с Адельки?
— Нет, его вроде Наилем зовут. Он не наш, не из Цирка. Механик, наладчик… по железной части, короче. Хороший специалист, толковый.
Ник вытаскивает из половицы воткнутый туда Бабаем штык-нож, тщательно вытирает его и убирает в ножны. Мысли в его голове путаются. Положение партизан аховое, если не сказать — вообще проигрышное. Аслан хорошо укрепился в Кремле, а главное — сумел создать систему власти, несправедливую, как и любая подобная система, но к которой люди уже начали привыкать.
— Стабильность, — говорит Ник, прислушиваясь к звукам собственного голоса. Помолчав, он повторяет еще раз: — Ста-биль-ность… Человек способен привыкнуть ко всему. Говорят, в концлагерях люди умудрялись выпускать газеты, играть свадьбы, рожать детей, ставить спектакли.
— А ты как думал? — сверкает глазами из-под бровей Бабай. — Появишься весь такой краснознаменный, с оружием, с огнем большевистским в груди: «Я пришел, чтобы дать вам волю!», и тебя народ на руки поднимет? Да он тебя до ближайшего столба как раз и дотащит. А там вздернут тебя еще выше — и бетте.
— И что, все вот так думают, все так считают? — Ник набычивается и смотрит на Бабая исподлобья.
— Нет, конечно. Вместо Семена у нас новый старший над рыбаками — Заварзин Николай. Бедовый мужик, тертый, да. Похоже, у них там, в артели, подполье какое-то создается. И главный врач наш, Цапко, тоже вроде как с ними.
— А что Аслан, не знает?
— Нет, — качает головой Бабай. — Но узнает, конечно. Боюсь, тогда одними порками не отделаемся.
— Порками? — не понимает Ник.
— У нас теперь по новым законам в тюрьму не сажают и не штрафуют. У нас теперь порют. Ну, секут. Детей и женщин ивовыми прутьями, мужиков — стальной проволокой. Не поклонился аковцу — пять ударов. Не выполнил дневную норму — пятнадцать. Отказался от работы — двадцать пять в первый раз, потом вплоть до сотни. И так далее…
Вновь вытерев лысину, Бабай тихо добавляет:
— Сотню никто не выдержал еще…
Видимо, внутренняя борьба в душе новоявленного городского головы вновь входит в острую фазу. Ник понимает, что надо ковать железо, пока оно горячо и решительно трогает Бабая за плечо.
— Вы можете вывести Юсупова из Цирка и направить к нам?
В воспаленных, покрытых сеточкой полопавшихся сосудиков глазах Бабая мелькает на мгновение злость, но тут же уступает место обреченной усталости.
— Завтра. Завтра его вместе с другими отправят рыть рвы, в которые будут загонять коров. Это за Победилово, в Отарах, возле старых очистных. Там у нас… Великая Стройка, мать ее… С полдороги я его отцеплю от бригады и отправлю, вроде как с посланием. Но раньше обеда не ждите, понятно?
— Второй вопрос: где можно будет найти рыбаков?
— Где-где… на реке. Откуда я знаю, в каких местах они ловят? — неожиданно психует Бабай. Похоже, упоминание Ником рыбаков вконец расстраивает его. — Выходят затемно, работают в две смены. Вместе с нашими, из Цирка, на промысел ходят бригады из других общин. Пойманную рыбу обрабатывают — чистят, солят, коптят, вялят — на старом стадионе. Это недалеко от Цирка, но там всегда аковцы дежурят, туда вообще не суйтесь.
— А на реку с рыбаками они ходят? Ну, вроде как охрана там или конвой? — продолжает задавать вопросы Ник.
— Нет, а зачем? — усмехается Бабай. — Народ в рыбацкие бригады подбирается так, чтобы в общинах у всех жены, дети, близкие родственники были. Они навроде заложников, понял? Если кто сбежит, за него родню накажут — каждый день пороть будут до полусмерти.
Хал матерится. Эн тоже цедит что-то очень нелицеприятное в адрес бывшего майора Асланова.
— И последний вопрос, — говорит Ник. — Вы сами — за нас? Тут много слов было сказано про власть, про стабильность…
— Про стабильность — это ты говорил, парень. — Бабай поднимается. — А последний твой вопрос — глупый, ты уж извини за прямоту. Если б я был против вас, едрит-трахеит, вы бы уже перед ясными очами Аслана стояли, голые, связанные и на коленях. Всё, пора мне. Ждите завтра вашего очкарика, а после уходите отсюда. Аслан большую зачистку замышлял, чтобы центр города полностью контролировать. Когда начнут, не знаю, но могут в любой день. Всё, счастливо вам!
Он спускается с чердака, но его тяжелые шаги еще долго звучат внизу.
— Я чё-то не понял, — говорит Хал, в упор глядя на Ника. — Завтра Очки придет, а потом чё делать, блин?
— Действительно, — поддерживает его Эн. — Если там такая организация, столько народу — как мы будем с ними бороться? Они нас просто числом задавят. Окружат где-нибудь — и эксо-эксо, Кэнди!
Ник по очереди оглядев друзей, переводит взгляд на беспечно дрыхнувшего у чердачного окна Камила и тихим голосом произносит:
— План у нас будет такой…
Я вроде никогда перед махачем не очковал. А сейчас прямо чувствую, блин, как внутри все жмет. Ник, конечно, классно все придумал, но это же война будет, настоящая, как в кино. Когда с пацанами двор на двор машешься, там такого нет. Ну, договорились, встретились, смахнулись, блин — кому челюсть сломали, кому башку разбили, потом менты на лыжах, трёш-мёш, аля-улю — и всё.
А тут убивать ведь будут. По настоящему, наглушняк. Интересно, а что будет, если убьют? Вот я сейчас живой — дышу, вижу, думаю, блин. И фигак! — ничего не станет. Просто темнота. Или как будто уснул? Или действительно вся эта шняга — светлый коридор, голоса там разные — всё это существует? Рай, ад… Тогда еще ладно, тогда не так страшно. Я-то в рай вряд ли попаду, не за что. А вот ад — там как, блин? В кино всякие ужастики показывают — огонь, котлы, черти разные, демоны. Но вырваться можно, если очень постараться. По любому движуха какая-то есть, значит, прорвемся. Главное, чтобы не темнота. Чтобы что-то было.
По плану Ника я буду с отрядом рыбаков — типа контролировать, как представитель. Мужики там вроде нормальные, все путем будет. Скорее бы уже все началось. Не люблю, блин, ждать. Если уж начали делать — надо быстро ураганить. Иначе мысли разные появляются, ненужные. Навтыкают вот нам аковцы по самые помидоры. Их много, все борзые, деловые. Зуб даю — навтыкают. Или мы им. Нам терять-то нечего, отступать некуда. В общем, зарубь будет крутая.
Скорее бы уже. Очки придет — и начнем…
Тягач, съехав с небольшого травянистого пригорка, звучно плюхает по воде днищем и урчит, как огромный сытый кот, медленно уходя все дальше и дальше от берега.
Волноотражательный щиток сминает рогоз и камыши, сплошным ковром покрывающие бывшее русло реки Казанки. Ник вспоминает, что до катастрофы здесь везде расстилалась водная гладь, через которую было переброшено несколько мостов.
Казанка впадает в Волгу чуть ниже Кремля, и пока уровень воды в Куйбышевском водохранилище был высоким, река выглядела как полноводная. После разрушения плотины в Жигулевске — это, по мнению многих, было стопроцентным фактом, а как иначе объяснить нынешний уровень Волги? — Куйбышевское водохранилище «слилось», «утекло», наверняка смыв по дороге какие-то приволжские города, расположенные ниже по течению. Упал уровень Волги — обмелела и Казанка. Обмелела, заилилась, заросла водными растениями и постепенно на том месте, где купались, катались на лодках и ловили рыбу казанцы и гости Третьей столицы России, раскинулось обширное болото, царство уток, стрекоз, комаров и лягушек.
Мутный рассвет еле-еле набирает цвет, восточный край неба напоминает кусок деревенского сала — бледно-розовые полосы там чередуются с густо-багровыми. Ник сглатывает некстати образовавшуюся во рту слюну и запрещает себе думать о еде.
Туман, три дня и три ночи висевший над болотом, по закону подлости начинает рассеиваться и сквозь него даже отсюда, фактически с другого берега, просматривается Кремль — стены, башни, пирамидка Сююмбике и тонкие спицы трех уцелевших минаретов Куль-Шарифа.
Ник вскидывает монокуляр, разглядывая крепость и припоминая, что рассказывал им экскурсовод во время обзорной экскурсии по Кремлю.
Казанский Кремль не похож на Московский. Никакой помпезности, никаких архитектурных излишеств. Все очень строго и просто — крепость на холме у слияния Волги и Казанки. Толстые стены, круглые и квадратные башни с шатровыми крышами. Возведенный из кирпича и дикого камня, побеленный, Кремль кажется сказочным градом из древнерусских былин, такие любили изображать на своих полотнах братья Васнецовы и Николай Рерих.
На фоне белых стен Кремля сильно выделяется краснокирпичная семиступенчатая дозорная башня с острым шпилем, выстроенная в готическом стиле. По легенде, на ней стояла казанская царевна Сююмбике, когда русские войска штурмовали город. Московский царь хотел взять красавицу в жены, а она, чтобы не достаться врагу, бросилась с башни вниз, в воды Казанки. После этого башня покосилась. Теперь она отклоняется от вертикальной оси почти на два метра и входит в знаменитый общемировой список падающих башен. В народе, естественно, ее так и зовут: «башня Сююмбике».
Экскурсовод рассказала нам эту романтическую легенду, а потом скучным голосом сообщила, что к реальной истории она не имеет никакого отношения. Башню построили уже после взятия Казани, а царица Сююмбике, мать малолетнего царевича Утямыш-Гирея, никак не могла броситься с нее, так как задолго до этого была низвергнута и увезена вместе с сыном в Москву, где и умерла. Да и река Казанка никогда не подходили к подножию башни, которая стоит внутри стен Кремля. В общем, легенда красивая, но всего лишь легенда.
При этом история Казанского Кремля мне показалась увлекательнее любого сказания. Когда-то на этом месте стояла ханская крепость с дворцом и мечетями, вокруг которой шумел богатый торговый город. Казанское ханство, одновременный наследник Волжской Булгарии и Золотой Орды, угрожала восточным рубежам недавно народившегося Русского государства. Иван Третий Великий воевал Казань несколько раз, но подчинить себе не сумел. Казанцы в ответ совершали набеги, уводили в полон жителей приграничных земель. Между Москвой и Казанью шла перманентная война за приволжские области, населенные малыми народами — черемисами, мордвой, чувашами.
Главной опорной крепостью русских в здешних землях был Нижний Новгород — там стояла дружина, там хранились воинские припасы, имелись пушки и опытные пушкари. Но чтобы сдерживать казанскую экспансию, одного Нижнего было не достаточно. Московские государи стали переманивать на свою сторону татарскую знать, обиженную на казанских ханов. Карамзины, Державины, Юсуповы — это все потомки мурз и ханов, перешедших на сторону двуглавого византийского орла, символа Третьего Рима — Москвы. А царевич Касим и вовсе получил во владения земли неподалеку от Рязани, где и осел вместе с семьей и подданными — в обмен на обязанность нести пограничную службу.
Однако все это были полумеры. Набеги продолжались. Более того, казанские ханы искали союза с крымчаками, с Блистательной Портой, а это означало для Москвы — война на два фронта. Почти пятьсот лет назад Иван Васильевич Четвертый Грозный взялся за окончательное решение «Казанского вопроса». Было собрано войско, в верховьях Волги по приказу царя срубили деревянную крепость — стены, башни — которая должна была стать базой русской армии. Потом крепость разобрали и, не привлекая лишнего внимания, сплавили по реке до слияния Волги со Свиягой. Там, на высоком прибрежном холме, крепость, получившую название Свияжск, быстро собрали, и ее заняли войска. Под влиянием этих обстоятельств татары были вынуждены принять к себе царем Шах-Али, ставленника Москвы, жестокого и двуличного правителя. Однако казанцы остались недовольны промосковской политикой Шаха-Али, и тому пришлось уйти. Затем татары согласились принять царского наместника, русского воеводу. Но когда этот самый воевода, князь Семен Микулинский, подъехал к Казани, они заперли ворота и не пустили русских. «Ступайте, дураки, — насмехались казанцы, — в свою Русь, напрасно не трудитесь, мы вам не сдадимся, мы и Свияжск отымем!»
Осаду Казани Иван Грозный вел по всем правилам. Были и ночные штурмы с приставными лестницами, и обстрелы стен из пушек, и осадные башни, и попытки ворваться в крепость на плечах возвращавшегося после вылазки неприятеля. Судя по всему, та, старая, ханская крепость была очень мощным оборонительным сооружением — численно превосходящее казанцев русское войско, имевшее сто пятьдесят мощных пушек с чудными названиями — «затинные пищали», «гафуницы», «можжиры» — билось в ее стены довольно долго. Осада оказалась драматичной, кровавой, были в ней свои герои и антигерои. Мне запомнился один момент, о котором рассказывал экскурсовод: на службе казанского хана находились пушкари из Армении. Скорее всего, это были обыкновенные наемники, хотя не исключено, что и рабы, которых прислал в дар хану турецкий султан Сулейман Первый Великолепный. Так или иначе, но артиллерией ханской крепости заправляли они. Заправляли — и саботировали изо всех сил, не желая стрелять и убивать единоверцев-христиан. Финал этой истории был, естественно, трагичным — армян казнили, насаженные на колья головы выставили на крепостных стенах в назидание своим и на страх врагам. Но русские не забыли подвиг пушкарей. Среди приделов построенного в честь победы над Казанью московского храма Покрова на рву, больше известного как собор Василия Блаженного, есть один, посвященный святому Григорию Армянскому. Это память и благодарность безвестным героям.
Русское войско таяло. Тогда фортификаторы-горокопы по приказу царя прокопали подземный ход под одну из башен, в которой находился колодец, снабжавший осажденных водой. Взорвав в подкопе несколько бочек с порохом, русские заставили казанцев страдать от жажды. В городе начался голод и болезни. Недалеко было и до эпидемии. Иван Грозный, вовсе не собиравшийся разорить Казань и бросить его — у царя были совсем иные планы касательно города, — понял, что нужно действовать решительно и быстро. Под стены крепости прокопали второй подземный ход. Он шел под рекой Казанкой и достигал в длину более километра. Горокопы рассчитали все с точностью до аршина — конечная камора хода расположилась точно под Арскими воротами. Камору набили бочками с порохом и утром второго октября тысяча пятьсот пятьдесят второго года крепость сотряс страшный взрыв. Башня и стены рухнули, и русские ратники устремились в проломы. Казанцы отчаянно сопротивлялись, дрались за каждый дом. Вся земля в городе была залита кровью. Когда стало ясно, что Казань не удержать, большой отряд защитников вышел в поле — биться с русскими на просторе и пить смертную чашу, не сдаваясь врагу. Иван Грозный не умел жалеть неприятеля — все мужчины-воины были истреблены, русские войска заняли Казань. Толпы русских пленников встречали царя, обливаясь слезами: «Избавитель ты наш! Из ада нас вывел, для нас, своих сирот, головы не пощадил!» Царь приказал отвести их к себе в стан, накормить, а потом разослать по домам. Все сокровища Казани, кроме пленного хана, пушек и ханских знамен, Иван Васильевич приказал отдать ратным людям. К вечеру третьего октября все было кончено — в городе остались только женщины и дети. Казанское ханство перестало существовать. Но город, конечно же, остался. Он стал новой русской опорной крепостью, новым бастионом, позволившим начать экспансию на юго-восток, в сторону Среднего и Южного Урала.
Старая ханская крепость обветшала, и Иван Грозный повелел зодчим Постнику Яковлеву и Ивану Ширяю выстроить на ее месте белокаменный детинец-кремль. Предполагалось, что он станет надежным убежищем для русских войск в случае, если регион захватят кочевники из южноуральских степей. Этого, к счастью, так и не произошло. Кремлю пришлось повоевать всего один раз — во времена Пугачевского бунта.
Захватив Воткинский и Ижевский заводы, Пугачев двинул свои войска на Казань и взял город довольно легко. Бунтовщикам помогли особые орудия «воровского боя» — стволы у них имели не круглое, а овальное сечение и картечь после выстрела разлеталась в одной плоскости, поражая большее количество врагов.
Казань была взята, разграблена и сожжена пугачевцами. Губернатор края вместе с небольшим отрядом солдат заперся в Кремле. Бунтовщики несколько раз пытались взять крепость, но безрезультатно. Тем временем к городу подошел корпус генерала Михельсона. В состоявшемся сражении Пугачев был наголову разбит, потерял всю артиллерию и обоз. От стен непокоренного Казанского Кремля он бежал на юг, в низовья Волги, где и был выдан соратниками правительственным войскам. Под конвоем, закованный в кандалы и посаженный в специально сделанную железную клетку, Пугачев был доставлен в Москву и четвертован на Болотной площади.
С тех пор много воды утекло в Волге и Казанке. Но красавец-кремль все так же стоит на высоком холме, и Спасская башня белоснежной ракетой вонзается в голубое волжское небо. Про ракету — это слова экскурсовода. Мне, если честно, увенчанная звездой башня больше напомнила гигантский поминальный обелиск, такие обычно устанавливают на местах боев. Учитывая историю этого места, сравнение вполне уместное.
Сегодня ночью нам предстоит сделать то, чего не сумел Пугачев. И мы возьмем Кремль, чего бы нам это ни стоило.
Ник косится на ивовые ветки, закрепленные повсюду на броне тягача, для чего-то поправляет пучок камыша, маскирующий башенку с пулеметом, и сползает пониже в люк, оставив снаружи только голову в зеленом мягком шлеме.
— Вилен, не газуй! Потише, — говорит он в микрофон ПУ[32], реанимированный Юсуповым как раз накануне начала операции.
— Не бойся, — трещит в наушниках голос инженера. — Они эта… спят там все. Да и далеко, звук не добьет.
Тем не менее Ник чувствует, что скорость движения тягача по болоту, и без того не высокая, сразу снижается. Юсупов может говорить все, что угодно, но умом он понимает, что преждевременное обнаружение МТ-ЛБ сорвет всю операцию.
Тягач прет и прет сквозь водные заросли, оставляя за кормой перекрученные стебли рогоза, сломанный тростник и мутную, грязную воду, от которой в воздух поднимается тяжелое, гнилостное зловоние.
— Никита, посмотри, я с курса не сбился? — спрашивает спустя какое-то время Юсупов.
Ник, вытянув шею, достает монокуляр, ищет в тумане ориентир — здание с куполом и башенкой, которое все казанцы называли Дворцом Минсельхоза. По мнению Ника, корявое слово «минсельхоз» не имеет ничего общего с этой изящной, стилизованной под барокко постройкой, но оказалось, что дворец действительно строили как обычный министерский офис.
Монокуляр у Ника откровенно дерьмовенький, с небольшой кратностью, к тому же оптика помутнела. Ник нашел его в ЦУМе еще в первые дни, когда общинники потрошили склады магазина. Обнаружив в тумане узнаваемый силуэт дворца, Ник говорит:
— Всё нормально. Метров через сто — поворот. Подойдем ближе к дамбе, где деревья — и глуши мотор.
— Хорошо, — отзывается Юсупов. — Ты только эта… скажи, когда поворачивать. Ничего не видно, вообще…
Как это часто бывает, мешкавший рассвет вдруг словно вспоминает, что пришло его законное время — восток вспыхивает, закрасив полнеба багрянцем, звезды над головой Ника мгновенно тают, залитые синевой. Заполошно орут вороны на старых ивах, густо облепивших дамбу. Одеяло тумана расползается буквально на глазах. Еще несколько минут — и ворочающийся посреди болота вездеход будет виден из Кремля как на ладони.
— Право руля, — с досадой рявкает в микрофон Ник. — Гони прямо к дамбе и стоп-машина. Иначе засекут.
— Понял тебя, командир, — как-то очень по-военному отвечает Юсупов, поворачивая тягач.
«Маталыга» приближается вплотную к зеленой стене тальника, чуть-чуть проползает вдоль скрытой зарослями дамбы и, наконец, останавливается, уткнувшись носом в густой частокол камышей.
— Всё, приехали! — обрадовано сообщает Юсупов и глушит двигатель.
Ник стягивает со вспотевшей головы шлем, с наслаждением вдыхает свежий утренний ветерок и тут же морщится — вонь от взбаламученного тягачом болота по-прежнему висит в воздухе.
Тишину теперь нарушает только шелест камышей и рогоза да комариный звон. Люк над сидением механика-водителя приподнимается и появляется всклокоченная голова Юсупова.
— Эта… ну, чего тут?
— Пока ничего, — пришлепнув на щеке первого комара, отвечает Ник. — Давай-ка вниз, и я за тобой. Иначе нас тут сожрут заживо. Это ж не болото, это филиал замка Дракулы — одни кровопийцы кругом.
Закрыв за собой люк, Ник усаживается на командирское сиденье, с трудом вытягивает затекшие ноги и говорит:
— Часа два можно поспать. Потом разведаем обстановку.
— А если эта… они патрули по дамбе пустят или отряд на ту сторону отправят? — спрашивает Юсупов, устраиваясь поудобнее на своем кресле. — Большая Зачистка, помнишь? Засекут нас.
— Во-первых, с дамбы нас не видно. Во-вторых, мост Миллениум обрушился, и отряд из Кремля на другую сторону болота может пройти только двумя путями — через дальние мосты или тут, по дамбе, с которой, напомню, нас не видно. Так что спи, отсыпайся впрок, ночью времени не будет.
Юсупов вздыхает, натягивает на голову полу камуфлированного бушлата и закрывает глаза.
Глава восьмая
Они опять оставили меня. Война, видите ли, не женское дело. А несчастных собак из лука убивать — выходит, женское, так, что ли? И это при том, что собаки-то в чем виноваты были? Только в том, что выбрали себе для жилья место, которое понадобилось нам.
А теперь — совсем другое дело. Теперь мы собираемся штурмовать Кремль, где засели бандиты. Там почти каждый виновен, и можно никого не жалеть. Хотя, конечно, это не мне решать — кто виноват, кто нет. Суд будет разбираться. Так Ник сказал. Он сильно изменился за последнюю неделю. Когда Вилен вернулся к нам, весь избитый, со сломанным ребром и свороченным набок носом, Ник первый раз при мне выругался матом. И в глазах его как будто огонь зажегся, такой темный, нехороший огонь, страшный.
Из красного дома, где была школа, мы сразу, как и советовал Бабай, ушли. Пробирались обратно к золотистой стене и гаражу, где спрятали тягач — и возле Архангельского кладбища напоролись на банду. То есть натуральная такая шайка отморозков, человек десять их было. У троих ружья, остальные кто с чем — ножи, топоры, дубинки… Камил их первым учуял, лай поднял. Мы за автоматы взялись, а они решили, что раз собака лает, значит — дикая, и на нас бросились. Там кусты такие и насыпь железнодорожная. Хал сказал, что раньше электрички и поезда ходили. Ну, внизу этой насыпи мы и встретились. Их главный, пахан или как там правильно, сразу начал орать, чтобы мы оружие кидали и сдавались, тогда, мол, они нас не тронут.
Ник с ними разговаривать начал, предлагать вступить в наш отряд и сражаться против Аслана и его людей. «Когда мы победим, — сказал он, — вы сможете вернуться к человеческой жизни». Тут эти отморозки ржать начали, как лошади. А потом их пахан говорит: «На кой ляд нам твоя человеческая жизнь? Мы сейчас имеем всё, что хотим, и живем, как хотим. Сами себе хозяева. Так что кидайте стволы и мешки, иначе будем стрелять».
Я на лица остальных посмотрела, на ружья и поняла — будут, действительно будут стрелять. А еще я на поясе у одного из бандитов уши увидела, человеческие, коричневые уже. Он их веревочкой привязал. Целая связка ушей.
Ну, в общем, я первый раз из автомата стреляла. Оказалось — очень громко, и дергается он сильно. Хал тоже сразу за мной начал стрелять. Он справа от Ника стоял, я — слева. У Вилена позиция плохая была, ему Ник все загораживал. И Вилен закричал: «Падай, падай!», и когда Ник упал, прямо над ним начал стрелять.
Бандиты тоже два раза выстрелили, но у них ружья охотничьи, дробью заряжены и порох в патронах старый. Вилен сказал, что патроны «прокисли». Короче, не опасные у них ружья оказались. К этому моменту мы троих уже убили. Остальные побежали, и тогда Ник гранату кинул им вслед. Не знаю, кого там осколками задело, мы не смотрели. Мы тоже сразу начали уходить с этого места, потому что сверху, с насыпи, кто-то стал кричать: «Что за стрельба? Выходить по одному, без оружия и с поднятыми руками!»
Наверное, это патруль аковцев был. В общем, ушли мы, прямо через кладбище, без дороги. Когда возле озера Средний Кабан привал сделали, Ник на меня за то, что стрелять без команды начала, так ругался, что я даже заплакала. А Хал сказал ему, что если бы не я, они бы нас врукопашную уделали бы, потому что дистанция была маленькая, и мы лопухи, что так близко их подпустили. Ник спорить не стал, он только сказал, что если мы хотим победить, то у нас должно быть единоначалие и дисциплина. Вилен его поддержал и Хал тоже согласился, что без дисциплины на войне нельзя.
Вот поэтому меня оставили. Хал ушел с мужчинами из общины, они будут отвлекающий маневр выполнять. Ник и Вилен на тягаче уехали в обход. Сегодня ночью все начнется. А я сижу тут, в подвале Дома Кекина, запершись вместе с Камилом, и жду. Это, наверное, вообще главная женская работа — сидеть и ждать. Хорошо еще, что я тут не одна. Камил, когда мы сюда забрались, все обнюхал, во все уголки залез, все ходы-выходы проверил. Поймал крысу, съел и возле двери лег — охранять. Я дверь на замок заперла и села рядом.
Замок с ключами, настоящий, работающий, не ржавый. Мне его Филатов подарил. Мы его встретили, когда к рыбакам поехали первый раз. Там место такое — раньше речной порт был, а потом, когда Волга ушла, все травой заросло и деревьями. Протоки какие-то остались, озера. Жарко было, мы все наверх повылезали, на броне разлеглись, только Вилен один в духоте мучился, но иначе никак — сменить его некому, никто из нас водить тягач не умеет.
Филатов из кустов вышел, и мы так резко остановились, что Камил чуть не слетел на землю. Я думала — он лаять будет, а он уши прижал и за меня спрятался. Испугался, что ли? Или пахло от Филатова чем-то таким, неприятным для собачьего носа?
Мы, вообще-то, все пахнем. Это так ужасно, что я иногда просто утыкаю нос в воротник или в угол одеяла, если ночь. Мыла нет, шампуня нет, про дезодорант я вообще молчу. Нет, нагреть воды и помыться — не проблема, но только на первый взгляд. Потому что для этого нужно время, емкости подходящие и место, причем укромное. А самое главное — чем мыться-то? Одной водой — ерунда получается. Кто-то из моих знакомых ролевиков с реконструкторами тусовался и говорил, что в старину мылись золой — там все вещества такие же, как в мыле. Ну, попробовала я… Нет там никаких веществ, одни грязные разводы остаются. В общем, с гигиеной у нас беда. Действительно — живем, как в средние века. Цивилизация наша без электричества и магазинов оказалась в полуобморочном состоянии. Хотя кого я обманываю? При смерти она: чуть дышит и пульс еле прощупывается.
На самом деле, это не мои слова. Так Филатов сказал. Он все такой же, в плаще и с вилами. Я про пятого аковца вспомнила, спросила у него — как, мол, он сумел? А Филатов только плечами пожал, давая понять, что вообще не понимает, о чем речь.
Ник ему говорит — давайте с нами. А он — не могу, очень занят. И ушел. На прощание замок с ключами мне подарил, а Нику — две сигнальные ракеты военного образца. Сказал, что пригодятся. Там такая трубка и металлический колпачок в конце. Его нужно открутить, появится веревочка. За нее дергаешь — и ракета взлетает.
С рыбаками мы быстро договорились. И с Цапко, он раньше фельдшером был, а теперь — главный врач города. Но Аслана и всех его отморозков он ненавидит. Просто и сразу сказал, что поможет всем, чем может. Цапко нас предупредил, чтобы мы к Монаху даже не думали обращаться и его людей опасались. Ник тогда сказал, что с Монахом разбираться будем позже, после победы.
Только бы у них все получилось! Только бы никого не убили…
Вообще — никого.
Когда солнце поднимается высоко и дело идет к полудню, Ник делает неприятнейшее открытие: в тягач поступает вода. Сначала ее совсем немного, так, похлюпывает что-то под ногами в десантном отсеке. Но потом уровень поднимается на несколько сантиметров, и Ник начинает паниковать.
— Вилен, мы утонем в этом болоте!
— Ну, утонуть, наверное — вряд ли… — глубокомысленно заявляет сонный Юсупов, глядя на залитый пол. — А вот эта… системам оно всё повредить может.
— И что делать?
— Вычерпывать, — пожимает плечами инженер. — Ведро эта… смять чуть-чуть, чтобы удобнее с плоского пола воду забирать — и айда.
Потрясенный простотой решения, Ник, расплескивая воду, безропотно шлепает через десантный отсек в корму тягача и находит там замасленное ведро. Открыв верхний люк, он принимается за работу. Тут же налетают комары, несколько слепней с басовитым жужжанием бьются о стенки в тщетных попытках выбраться из стальной ловушки, в которую превратился для них тягач.
Вычерпав почти всю воду за каких-нибудь пятнадцать минут, Ник веселеет. Становится понятно, что течь не помешает выполнить задуманное, да и занятие на весь долгий день найдено.
Как известно, хуже нет, чем ждать и догонять. А если вдобавок от тебя, от твоих действий зависят жизни нескольких сотен — а в конечном итоге и тысяч! — человек, ожидание превращается в изощренную пытку. И тут есть только одно лекарство — отвлечься, причем не просто там пасьянс раскладывать или ворон считать, а чтобы дело было важным и нужным, вот как с этой водой.
Так или примерно так рассуждает Ник, выгоняя из тягача слепней. Комаров он попросту шлепает старой рукавицей-верхонкой. Наконец, ложится на лавке, весьма довольный собой. До «часа Ч» остается еще долгих двенадцать часов…
— Слышь, ты не дергайся, не дергайся, парень. Все будет как в аптеке, — говорит Николай Заварзин нетерпеливо вышагивающему туда-сюда по поляне Халу.
— Сам знаю, блин!
— Ну, тогда сядь и не мельтеши, не пугай народ раньше времени. И так все на взводе.
Хал хочет ответить бригадиру рыбаков что-то резкое, но натыкается на лениво-спокойный взгляд Заварзина, машет рукой и садится прямо на землю.
— Вот так-то лучше, — кивает Николай, поудобнее устраиваясь на стволе упавшей осины. — До вечера у нас времени — пруд пруди. Всем отдохнуть надо, успокоиться. Жека, проверь посты!
Один из рыбаков, рыжеватый, с длинными волосами и густой бородой, вскакивает, неловко закидывает за спину автомат и исчезает между деревьями. Остальные — ровно шестьдесят пять человек — провожают его взглядами.
Посты Заварзин выставил на тот случай, если вдруг кому-то в городе взбрело бы в голову проведать, как нынче ловится рыбка. По плану Ника о вооруженных рыбаках до поры не должна знать ни одна живая душа.
— Интересно, — покусывая травинку, говорит Заварзин, — какое сегодня число? Часом не первое сентября?
— Анна Петровна календарь ведет, — откликается кто-то из рыбаков. — Я только забыл с утра посмотреть…
— Хорошо, если первое сентября, — с какой-то мечтательной интонацией произносит Николай. — Приметный день. Дата.
Хал угрюмо смотрит на скуластое лицо Заварзина, на немытые волосы, сосульками свисающие на лоб, на кудрявую светлую бороду и неожиданно для самого себя говорит:
— Сейчас бы в школу. В третий класс. Пришел, сел, звонок, училка, здрассте-дети-здрассте, блин… Тишина, покой, цветами пахнет и мелом, в столовке кисель дают. А я школу не любил тогда, блин. Дурак потому что был.
Заварзин негромко, но обидно смеется. Хал понимает, что, по мнению бригадира, он и сейчас не особенно умный, сплевывает в траву и отворачивается.
Трещат ветки, из кустов выскакивает рыжий Жека. Прозвище свое он получил не от имени Евгений, а от фамилии Жеканов.
— Всё нормуль, босс, — улыбаясь, докладывает Жека Заварзину.
— Через час сменишь ребят, потом обед, — все с той же ленцой в голосе приказывает Николай. — Потом проведем занятия — сборка-разборка автомата, чистка там и смазка. Десятникам скажи, чтобы готовы были.
— Всё сделаем, босс, — продолжая улыбаться, энергично трясет волосами Жека и уходит.
— Слышь, а чё они тебя боссом называют? — спрашивает Хал.
— Потому что я знаю, как надо, — усмехается Заварзин и щелчком отправляет изжеванную травинку в последний полет.
— Что «надо»?
— Да всё. И вопросов я, парень, тоже не задаю. Потому что… — Николай перекидывает ногу в резиновом сапоге через осиновый ствол, садится верхом и заканчивает свою мысль: — Потому что у слов «спросить» и «просить» один корень, а я не люблю унижаться. Понял?
— А ты кем был… ну, раньше, до всего?
Заварзин внимательно смотрит на Хала, потом откидывается назад, опершись спиной о ствол. Он явно не спешит отвечать. Проходит минута, другая… Вдруг Николай серьезно и тихо, чтобы никто не слышал, произносит:
— Учителем начальных классов. Только не трепись.
Рыбаки сидят на поляне посреди небольшого леска, выросшего на бывшем дне Волги. В нескольких сотнях метров от поляны, невидимый из-за деревьев, высится подковообразный холм с постройками наверху. Тридцать лет назад этот холм был пристанью с пирсами и причалами. Лодки, яхты, катера, небольшие суда и даже один гидросамолет сейчас во множестве лежали по склонам, напоминая о том, что когда-то тут была вода.
За пристанью начинается город — узкая полоса промзоны, железнодорожные пути, затем вокзал, Привокзальная площадь, от которой к центру ведет улица Чернышевского. Именно по ней отряд Заварзина должен с наступлением темноты продвигаться к Кремлю.
По плану Ника рыбакам в ночном штурме отводится едва ли не самая главная роль, но при этом и риск погибнуть для этих людей — максимальный. Когда он впрямую сказал об этом Заварзину, тот, не раздумывая, кивнул:
— Все всё понимают. В лоб на пулеметы пойдем. Но так даже лучше — народ злее будет. Ты нам, главное, оружие дай. Автомат — он окрыляет лучше редбула.
Оружие, конечно, выдали тут же. Пожалуй, появление тягача МТ-ЛБ, ящики с автоматами и патронами, бронежилеты, каски произвели на рыбаков самое сильное впечатление. Они увидели, поняли, почувствовали, что есть сила, способная противостоять силе Аслана. Хал заметил тогда, как грязные, загорелые, небритые лица вдруг озарялись каким-то внутренним светом. Разбирая оружие, набивая рожки патронами, примеряя броники и каски, взрослые, семейные мужики радовались, как дети.
Потом было два дня подготовки — обсуждались детали, рассчитывалось время, проводилась разведка. Каждую мелочь проговаривали по несколько раз, понимая — второго шанса Аслан не даст никому.
Кремль тем временем готовился к Большой Зачистке. По городу были развешены рукописные листовки, призывающие всех жителей прийти в мэрию, расположенную в здании бывшего Цирка, пройти добровольную регистрацию и получить удостоверение личности. Нарушителей ожидало суровое наказание: патрули должны были ловить их, доставлять в Кремль для порки, после чего на лоб бездокументному лицу ставилось татуированное клеймо «АК», и он до скончания дней считался «человеком администрации», попросту говоря — рабом.
— А что, все очень гнусно и правильно, — прочитав листовку, сказал Юсупов. — Государство, оно эта… учетом и бюрократией сильно. Аслан государство строит? Строит. Значит, эта… без переписи населения ему никуда. И потом: как налогами людей облагать, если не знать, сколько их у тебя? Вполне себе нормальный эта… тоталитаризм.
— Сволочизм это — людей в рабство загонять! — разозлился тогда Ник. — И никто не имеет права…
— Тихо-тихо, не горячись, — осадил его Заварзин. — Про права и обязанности — это мы потом разговаривать будем. Сейчас надо дело сделать. Так что бумажка эта на подтирку пойдет, а мы давайте еще раз обсудим, что будет, если второй отряд не успеет вовремя…
— Хорошо бы, если б дождь пошел, — в очередной раз высовываясь из люка, чтобы опорожнить ведро, говорит Ник.
Юсупов вертит головой и скептически хмыкает.
— Не похоже.
— Сам вижу, что не похоже. А жаль. Дождь шумит, видимость плохая — для нас самое оно.
Неспешно, словно делая великое одолжение всем живущим на планете Земля, солнце начинает клониться к закату. Озверевшие от духоты, комарья и болотных запахов, Ник с Юсуповым по очереди изучают в монокуляр будущий театр военных действий.
— Часов пять осталось, — глядя на покрасневшее небо, говорит Ник. — Вилен, а если ракеты не сработают?
— Давай эта… без если. Меня самого трясет.
— Надо было водки взять, — бормочет Ник и, поймав удивленный взгляд Юсупова, поясняет: — Во время войны перед атакой выдавали же наркомовские сто граммов!
— Во-первых, не перед, а после, — начинает загибать грязные пальцы инженер. — Во-вторых, это делалось для снятия стресса и эта… чтобы бойцы лучше спали. В третьих, я не люблю спиртного…
Ник разочаровано машет рукой.
— Понял, понял. Будем воевать насухую. Кстати, давно хотел тебя спросить — ты где служил? Ну, в каких войсках?
Юсупов застенчиво улыбается, снимает очки и принимается протирать стекла, медля с ответом. Водрузив очки на нос, он хмыкает и произносит:
— Я эта… вообще не служил. У меня же зрение. И здоровье такое… не подходящее.
Ник изумленно смотрит на инженера.
— Так ты белобилетник?
— Ну да.
— А откуда тогда знаешь все про «маталыгу»? Где водить научился?
Юсупов снова улыбается и, глядя в сторону, еле слышно говорит:
— Ну, эта… я моделями бронетехники увлекаюсь. У меня коллекция, большая. Больше тысячи единиц. Ну, и эта… книжки читаю разные. История создания, ТТХ[33] там всякие, боевое применение… Я ведь этот тягач, — он хлопает ладонью по броне, — первый раз в жизни вижу, если честно.
— Ни хрена себе! Ладно, движок ты запустил и ходовую в порядок привел, потому что это твоя работа — ты ж инженер, образование позволяет. Но водить-то, водить ты где научился? — все больше изумляясь, продолжает допрашивать Юсупова Ник.
— Я эта… вообще-то специалист по узлам механизации крыла среднемагистральных самолетов гражданской авиации, — уточняет инженер. — А водить… Деду надо моему спасибо сказать. Он у меня бульдозеристом был, на карьере. Старый такой бульдозер, еще советский. Когда совхоз в девяностых развалили, всю технику в качестве компенсации людям эта… раздали. Деду и достался бульдозер. Дизель у него все время ломался, изношенный уже был. Ну, дед его чинил, а я эта… помогал. Пацаны деревенские меня щемили, поэтому не любил я там на речку ходить или в клуб. Все время с дедом был, в сарае в железках ковырялся. А когда эта… мне двенадцать исполнилось, дед меня начал учить ездить. Там все просто — три педали, два рычага, переключение скоростей. Точно так же, как здесь, в тягаче. Я, когда увидел, решил — попробую. Ну и эта… смог.
И Юсупов улыбается в третий раз, почти счастливой детской улыбкой.
— Ну, Вилен, ну ты… — Ник разводит руками, стараясь не свалить ветки камуфляжа, которыми обвязан весь тягач. — Молодчик, одно слово! Спец!
— Да ладно… — скромно отмахивается инженер. — Я просто человек такой… с интересом. И время сейчас такое… все пробовать надо, за все хвататься.
Они еще некоторое время обсуждают отдельные забавные моменты, связанные с реанимацией МТ-ЛБ, вспоминают, сколько сил было потрачено, и как они радовались, когда двигатель в первый раз завелся. Ник вдруг ловит себя на том, что воспринимает эти совсем недавние события как нечто очень далекое, случившееся давным-давно.
«Наверное, — думает Ник, — это связано с тем, что в Танковом училище никому из нас и в голову не приходило, что придется не просто выживать, спасая себя от аковцев, захвативших весь город, а бросить им вызов и на равных сразиться с этим грозных противником».
И подумав обо всем, Ник суровеет, еще раз поднимает монокуляр и осматривает дальний берег болота, вплотную подходящий к Кремлю. Особенно пристально он разглядывает низкую, приземистую Воскресенскую башню с черной аркой ворот, притулившуюся у крепостной стены.
— А помнишь эта… как Хал в ведро с маслом наступил в темноте? — продолжает веселиться Юсупов.
— Всё, Вилен, вечер воспоминаний закончен, — обрывает его Ник. — Давай, еще раз проверь всё. Солярки точно хватит?
— Полбака и в красной бочке выше половины. А бочку с полосками мы вообще еще не трогали. Мы ж эта… экономим, — обиженно отвечает инженер и скрывается в люке.
Ник следует за ним — в десантном отсеке вода поднялась до щиколоток, пора вычерпывать.
Когда в чистом аквамариновом небе над болотом зажигаются первые звезды, неожиданно где-то левее Кремля вспыхивает перестрелка. Ник и Юсупов вылезают на броню, уже не опасаясь, что их заметят — густые сумерки затапливают болота, от воды поднимается еле заметный пока еще парок, грозящий, однако, скоро сгуститься в плотный туман.
— Кто это там эта… палит? — задает риторический вопрос Юсупов.
— Не знаю, — не столько всматриваясь, сколько вслушиваясь, отвечает Ник. — Но тут не только автоматы… Во, слышишь, слышишь? Одиночные, глухо так — ты-дых! Ты-дых! Это ружья, наверное.
— Значит, аковцы с кем-то столкнулись. — Юсупов тычет себя в переносицу, поправляя очки. — Испортит нам эта перестрелка все дело.
— Думаешь?
— Переполошатся они, будут следить усиленно.
— Бог не выдаст — свинья не съест, — уверенно говорит Ник. — О, вроде стихло все. Давай, готовься. Когда луна выползет, начнем.
Глава девятая
План захвата Кремля и разгрома группировки Аслана, придуманный Ником и доработанный при участии Юсупова, Хала, Эн, Бабая, Заварзина и Цапко, в сущности, был прост. И чисто теоретически он должен был сработать на сто процентов. Но практически… Ник понимал, сколько их ожидает «подводных камней» и «узких мест». Взять то же время — часов ни у кого из общинников не было, аковцы по особому приказу Аслана изымали их все, даже сломанные. Поэтому время начала операции решили отслеживать по восходу луны. Когда «волчье солнышко» поднимется на ладонь от горизонта, Ник должен подать сигнал. Никто не подумал о том, что будет, если небо вдруг заволокут тучи. Слава Богу, этого не произошло, но Ник, вертя в руках картонный тубус сигнальной ракеты, чувствует: все висит на волоске, и тучи тут не главная проблема. Наверняка они что-то еще не учли, о чем-то забыли, чего-то не просчитали…
Холодает. Вглядываясь в силуэты башен и стен Кремля, Ник представляет, как сейчас там, внутри, сотни людей несут дозорную службу, отдыхают, едят, пьют, развлекаются с насильно согнанными в Северный корпус Пушечного двора женщинами, а в подвале здания бывшего Юнкерского училища допрашивают какого-нибудь несчастного, может быть, бьют, пытают его или даже…
Тряхнув головой, Ник отгоняет жутковатые видения и думает о людях, что собрались в эти минуты неподалеку от Кремля. Первый, большой отряд, возглавляемый Халом и Заварзиным, должен быть у церкви на Профсоюзной улице, второй, ведомый Бабаем и состоящий всего из двадцати человек — на улице Батурина.
О чем думают, что переживают сейчас общинники, какие мысли теснятся в их головах? С большой долей вероятности, да даже наверняка многие из них погибнут во время штурма, погибнут, чтоб освободить город от той мрази, что засела за серыми кремлевскими стенами…
Громыхает люк — Юсупов вылезает наверх, отмахивается от комаров, смотрит на звезды, на показавшийся над далекой Волгой, над Услонскими горами, серебряный диск луны.
— Вечер-то какой, а!
— Да уж… Сейчас бы не в болоте сидеть, а где-нибудь на юге, в парке, на скамейке с девушкой, — в тон ему отвечает Ник.
— Вы с Натали ездили?
Несколько опешив, Ник поворачивается к инженеру.
— Мы с Наташкой? А… Э… Нет, конечно! Мы вообще не это… ну, не встречаемся. С чего ты взял-то?
— Да все думают, что она эта… твоя девушка, — с обезоруживающей прямотой говорит Юсупов.
— С какого перепугу?
— Ну, вы вместе всегда, заботишься ты о ней…
— Я же тренер! — несколько громче и поспешнее, чем хотел, восклицает Ник и тут же понимает, что получилось фальшиво и глупо.
— То есть?
— Да нет у нас ничего!
— Зря, — усмехается Юсупов. — Хорошая девушка. Ты смотри, упустишь. Пацанчик этот, Хал который, он эта… на нее запал, по-моему.
— С чего ты взял? — хмурится Ник.
— Вижу, — уклончиво говорит Юсупов.
— Ладно, тоже мне, знаток.
— Знаток — не знаток, а эта… трудно не заметить.
— Всё, — решительно обрывает неприятный разговор Ник. — Вон, луна поднялась уже. Пора, Вилен. Я подаю сигнал.
— Ну, давай. Эта… «Ак Барс» чемпион!
И коротко хохотнув, Юсупов ныряет в люк.
Ник стискивает зубы, заставляя себя не думать об Эн, вытаскивает из-за пояса трубку ракеты, отвинчивает колпачок, расправляет шнур с кольцом и поднимает картонный раструб вертикально в небо.
В темноте не видно, но Ник знает, что на корпусе ракеты имеется маркировка: «реактивный двухзвездный сигнальный патрон зел. огня». Он успевает подумать, что это еще один «подводный камень» — если ракета «протухла», сигнал подать не удастся, но тут же усилием воли гонит эту мысль и резко дергает за кольцо, инстинктивно отвернув лицо в сторону.
Зашипев, точно тысяча рассерженных змей, в темное небо вертикально уходит изумрудная огненная стрела. Наверху она раздваивается, светящиеся шарики зависают в верхней точке — и летят вниз, теряя яркость.
— Вилен, заводи! — командует Ник. — Началось!
В недрах тягача оживает стартер. Натужно жижикнув, он вдруг умолкает. Юсупов повторяет попытку — с тем же эффектом.
Двигатель не заводится, его бодрый рык не нарушает ночной тишины. Звенят комары, шелестит камыш. И стучат зубы Ника, облившегося холодным потом от ужаса. Сейчас там, в полутора километрах отсюда, по темным улицам, прилагающим к Кремлю, со всех ног бегут, сжимая автоматы, десятки людей. Спустя несколько минут они вступят в бой, пойдут на пулеметы, отвлекая на себя основные силы Аслана. А главный козырь, ключевое звено всей операции — тягач МТ-ЛБ — стоит на краю болота мертвой глыбой железа!
— Заводи! — согнувшись, орет в люк Ник.
— Аккумуляторы эта… сдохли! — кричит в ответ Юсупов. — Слазь, поменяем один на запасной.
Обрушившись внутрь тягача, Ник принимается бестолково метаться по отсеку, матерясь сквозь зубы. Он хватает запасной аккумулятор, тяжеленный, как гроб, и тащит его к переборке.
— Куда? — тонким голосом возмущается Юсупов. — Погоди, я эта… один старый сниму.
Чтобы завести дизельный двигатель Ярославского моторного завода, которым оборудован тягач, требуется напряжение в двадцать четыре вольта, и для этого используются два двенадцативольтовых аккумулятора. За прошедший день они подсели — Юсупов и раньше жаловался, что где-то «пробивает на массу» и «эта… ток утекает». Запасной аккумулятор может решить проблему, но на то, чтобы его поставить, требуется время, а счет уже идет — и Ник буквально физически ощущает это — на секунды.
Лихорадочно звеня ключами, Юсупов отворачивает болты на клеммах, снимает провода и, едва не переломившись пополам, оттаскивает в сторону один из черных пластиковых ящиков.
— Давай!
Ник, рыча от злости на всё сразу — на этот гребаный мир, на себя-раздолбая, на время, которое никак нельзя попросить, да чего там просить — заставить остановиться, на Юсупова, на тягач, на аккумуляторы, весящие, словно золотые, — на выдохе передвигает запаску, и инженер тут же накидывает клеммы, затягивает их и бросается к рычагам.
Затаив дыхание, Ник замирает, зажмуривается…
Звук работающего стартера тонет в грохоте «схватившегося» дизеля.
— Йес! — сделав победное движение рукой, Ник бьется локтем о бочку с соляркой и шепчет ругательства.
Юсупов решает не церемониться с тягачом — они безнадежно опаздывают — и рвет с места так, что не успевший забраться на сидение Ник кувырком летит на мокрый пол.
«Маталыга» ворочается в болоте, точно доисторическое чудовище, какой-то гигантский ископаемый звероящер. Взбаламутив воду, извергая потоки грязи, тягач разворачивается носом на Кремль и прет, гоня впереди себя волноотбойным щитком пенистый вал.
— Давай, давай! — надсаживаясь, кричит Юсупову пробравшийся в кабину Ник. — Жми!
— Связь! — инженер указывает на шлемофон.
Натянув потный шлем, Ник подключается к бортовой сети.
— Как слышишь?
— Эта… нормально. Вылези, посмотри, чего там.
Высунувшись из командирского люка, Ник видит совсем близко черный ступенчатый силуэт башни Сююмбике, треугольную крышу Тайницкой башни и острые огненные иглы, время от время от времени посверкивающие в небе.
— Трассеры! — говорит он в микрофон. — Они уже начали! Левее, левее давай! И врубай фары, теперь можно, а то ни хрена не видно!
Три луча света протягиваются от тягача к краю болота, желтые пятна прыгают по камышам, по метелкам тростника, по траве и стенам крепости.
— Вот, вот так и держи, ровно! — заметив низкую, похожу на русскую печь Воскресенскую башню, командует Ник Юсупову. — Чуть-чуть осталось…
Полукруглую арку ворот загораживает рогатка, срубленная из неошкуренных жердей и опутанная колючей проволокой. Возле нее мелькают человеческие фигуры.
Ник понимает, что их заметили и спешит убраться вниз — ему пора садиться за пулемет.
— Иду на таран! — весело вопит Юсупов, разгоняя тягач.
Болото кончается. Выгнав вал мутной, илистой воды, МТ-ЛБ вцепляется гусеницами в грунт, сминает низенький заборчик, когда-то огораживающий набережную и, всё увеличивая скорость, с ревом и лязгом несется к башне.
Припав к прицелу, Ник чуть поворачивает башенку, целясь в людей у рогатки. В рев двигателя и лязг гусениц вплетаются какие-то щелчки и удары. Ник догадывается, что по ним стреляют и произносит, ни к кому не обращаясь, но с глубоким удовлетворением:
— Не я первый начал!
Одновременно он нажимает кнопку электроспуска и пулемет в башенке начинает грохотать, плюясь гильзами. Хотя ПКТ и отличается от обычного семь-шестьдесят-два пулемета Калашникова тем, что пороховые газы у него выводятся наружу, тем не менее в тягаче сразу пахнет кислым и горелым.
Короткая очередь стегает по стене башни возле ворот, выбив в штукатурке здоровенные дыры. Пощелкивание пуль по броне сразу прекращается — аковцы спешат покинуть площадку перед воротами, отступая под защиту древних стен.
Прямо перед башней, в пологой низинке, тягачу приходиться преодолеть обширную лужу, больше похожую на пруд. Скорость продвижения машины сразу снижается, и Ник в боевой горячке начинает кричать на Юсупова.
— Не ори, — спокойно отвечает инженер. — Все равно эта… быстрее, чем может, «коробочка» не поедет.
Сломав рогатку, подмяв ее под себя, тягач врывается в арку, с жутким скрежетом бортом прочерчивает по стене глубокую борозду, и Ник видит через стекло прицела впереди темную громаду Президентского дворца, подсвеченную горящими на площади кострами.
Это красивое, величественное здание, построенное еще в эпоху императора Николая Первого, в прежние времена было резиденцией главы республики, но случившаяся катастрофа не пощадила его — дворец выгорел дотла, крыша провалилась и лишенные стекол окна напоминают закопченные бойницы какого-то исполинского дота, пережившего ожесточенный штурм.
— Впереди! — возвращает Ника в реальность голос Юсупова. — Ты эта… ослеп, что ли?
На расчищенной от кустарника дороге, ведущей вверх, к Сююмбике и огромному Благовещенскому собору, появляется группа аковцев, человек десять. Ник, закусив губу, дает пристрелочную очередь, а затем начинает вести огонь, стремясь не столько уничтожить, сколько отогнать противника и расчистить тягачу путь.
Аковцы пробуют организовать перекрестный обстрел невесть откуда взявшегося бронированного врага, но не могут выстоять под очередями ПКТ и двух десятков секунд.
Юсупов выжимает педаль газа до упора, и «маталыга» буквально взлетает к собору, тоже сильно пострадавшему от огня. Оставив справа вычурный Восточный корпус Пушечного двора, тягач выбирается, наконец, на проезд Шейнкмана, ведущий через всю территорию Кремля к Спасской башне, возле которой кипит бой.
Слева промелькивает темный абрис памятника зодчим Казанского Кремля, а впереди вырастает длинное двухэтажное здание Присутственных мест — по крайней мере, Ник запомнил, что экскурсовод называл этот больше напоминающий казарму дом именно так.
По броне снова стучат пули, но среагировать на них и ответить стрелкам Ник не успевает. Тягач катит прямо, и его фара-искатель высвечивает далеко впереди ту самую, похожую на ракету глыбу Спасской башни, и множество темных фигурок у ее подножия. Стены по соседству с башней тоже усыпаны аковцами.
— Ну, вот и началось веселье, рано думать про похмелье… — бормочет себе под нос Ник.
Повинуясь его воле, пулемет в башенке оживает и начинает лупить по бойцам майора Асланова, никак не ожидавшим удара с тыла. Тягач немилосердно кидает из стороны в сторону, от рева двигателя и грохота пулемета Ник, несмотря на шлемофон, практически глохнет и даже хлопок взрыва он не то что бы оставляет без внимания, а скорее, не слышит на общем фоне боя.
— Граната! — пробивается сквозь звуковой кавардак голос Юсупова. — Сбоку где-то…
— Не останавливайся! — кричит Ник. — Нам надо расчистить проход! Давай, Вилен, давай!
Спасская башня надвигается, закрыв собой половину звездного неба. Фары «маталыги» освещают разбегающихся в стороны аковцев и тут же гаснут, разбитые пулями. Теперь по тягачу ведется густой, плотный огонь. Свинцовый ливень барабанит по броне, и Ник представляет, что если она не выдержит, то все эти пули изрубят их с Юсуповым тела в фарш.
Он бешено вертит рукоятку поворота башенки, беспорядочно стреляя во все стороны.
— Со стен, со стен их эта… сними! — подсказывает Юсупов. — Они сверху бьют!
Задрав ствол пулемета, Ник дает длинную, почти до конца ленты, очередь, и на этот раз попадает очень удачно — сразу пять или шесть человек, засевших на крытой галерее стены, падают, выронив оружие, а остальные бегут прочь от башни, стремясь уйти из зоны обстрела.
Ворота, через которые тягач должен пробиться, чтобы смять заграждения на площади с внешней стороны, приближаются. Стрелять становится практически не в кого — все аковцы теперь находятся позади тягача. Ник начинает быстро перезаряжать пулемет — в первой ленте осталось всего четыре патрона.
Мощный удар подбрасывает машину, двигатель хрипит, словно живое существо.
— Что это?
— Граната под днище залетела, — отвечает Юсупов. — Мощная! Если эта… под гусеницу попадет, то все…
Второй взрыв, прозвучавший где-то сзади, уже не так опасен. Ник торопливо захлопывает горячую ствольную коробку и взводит затвор. Он успевает подумать, что если тягач сейчас остановится, это будет равносильно провалу всей операции. И с почти стопроцентной вероятностью — их с Виленом гибель.
Еще взрыв! Еще!
— Жми-и-и! — не помня себя, надрывается Ник.
Рядом с тягачом мелькает покосившийся столб с декоративными фонарями, стилизованными под пушкинскую эпоху, что-то сильно ударяет в люк десантного отсека. На несколько секунд Ник теряет выдержку — ему кажется, что он навечно заперт в этом грохочущем, душном стальном гробу. Врезавшись плечом в стойку, он орет от боли, но эта боль оказывается спасительной — приступ клаустрофобии проходит.
До ворот остаются считанные метры. Выжав из двигателя «маталыги» все, что только можно, Юсупов вгоняет тягач в арку. О листы лобовой брони щелкают пули — те аквоцы, кто удерживают траншеи с внешней стороны башни, слишком поздно понимают, что случилось у них в тылу. Ник припадает к прицелу, несколько раз чувствительно бьется лбом о резиновый предохранительный валик, но не обращает на это никакого внимания.
ПКТ, плюясь гильзами, лупит по защитникам траншеи практически в упор, пули прошивают человеческие тела насквозь и уходят глубоко в землю. Тягач, переваливаясь на ухабах, рвется вперед, под гусеницами что-то трещит, лопается, вокруг грохочут выстрелы. Ник вспоминает фразу из старого советского фильма «На войне как на войне»: «Поддержите нас огнем и гусеницами». Вот сейчас они с Юсуповым именно это и делают — поддерживают отряды, штурмующие Кремль, огнем и гусеницами. Причем гусеницы делают гораздо больше пулемета в башенке — они давят уцелевших аковцев, ломают заграждения, рвут колючку, пробивая людям Заварзина и Бабая дорогу в крепость.
Если внутри Кремля горели костры и было хоть что-то видно, то снаружи царит ночная темень. Ник совсем теряется, пытаясь хоть что-то разглядеть через прицел и триплексы. Стреляет практически наугад.
— Них шизен! — говорит Юсупов, когда они выкатываются далеко за ворота. — Наших эта… заденешь.
— Где тут наши, где тут вообще кто? — Ник с досадой бьет ладонью по колену. — Как у негра в жо…
— Держись! — кричит инженер.
«Маталыга» почему-то взлетает вверх, словно бы зависает в воздухе — двигатель переходит на турбинный вой, — и грузно обрушивается на землю, загрохотав всеми своими стальными внутренностями. Ник, вцепившись в поручни, догадывается, что тягач преодолел ров, выкопанный вокруг прибашенных укреплений.
— Ра-а-азворот… — увлеченно комментирует свои действия Юсупов, дергая рычаги. — А теперь еще раз-з-з…
Тягач, перемалывая гусеницами землю, куски асфальта, остатки заграждений, разворачивается носом к воротам, проезжает несколько метров и останавливается. Двигатель работает на холостом ходу, и становится почти тихо.
Ник прислушивается к тому, что происходит снаружи, за броней.
— Почему никто не стреляет?
Словно в ответ на его вопрос, со стены звучит одинокая очередь — несколько пуль цокают по башне и с визгом рикошетят в стороны.
— Эта… сейчас бутылки полетят! — предупреждает Юсупов. — Просто подождать надо.
Позавидовав твердой уверенности инженера в том, что все идет как надо — самому ему кажется, что весь их план захвата Кремля давно провалился — Ник приникает к прицелу.
Первая брошенная из темноты бутылка разбивается об угол башни и голубоватый огненный шар освещает площадку перед воротами. Ник успевает ужаснуться увиденному — перепаханные гусеницами траншеи, загогулины колючей проволоки, похожие на ветки невозможного стального терновника, обломки жердей, бревен — и трупы, множество трупов в окровавленном камуфляже, вмятые в глинистую землю.
Опять наваливается темнота, но следом за первой бутылкой летят новые — одна, две, три, пять. Вместо зажигательной смеси Бабай придумал использовать растворитель, который прекрасно прошел тридцатилетнюю проверку временем и которого в строительных магазинах и на складах было полным-полно. Бесцветная резко пахнущая жидкость отлично воспламеняется, но, в отличие от керосина, бензина и прочих нефтепродуктов, не дает яркого, долгого огня, быстро выгорая в ноль.
Тем не менее этот импровизированный «коктейль Молотова» делает свое дело — растворитель поджигает прилепившиеся к стене кусты, деревья и ночная мгла отступает. Ник поворачивает башенку и видит множество людей, бегущих к воротам со стороны темных домов.
Охваченный каким-то невыразимым восторгом, он откидывает люк, высовывается и кричит:
— Хал! Живой?
— Живой, блин! — орет из темноты татарин. — Все ништяк, блин! Без булдырабыз[34]!
— Пропустите людей и давайте за нами, — перебивает его Заварзин. — Будете прикрывать. Как с патронами?
— Нормально, — отвечает Ник в темноту.
Со стены снова стреляют, на этот раз одиночным. Видимо, засевший там неизвестный аковец воображает себя великим снайпером — пуля высекает искру в нескольких сантиметрах от локтя Ника.
— Лезь внутрь! — рычит совсем близко от тягача Бабай, и тотчас же несколько автоматов начинают грохотать со всех сторон, поливая огнем бойницы на стене.
Ник проваливается в люк, захлопывает его за собой и, ощущая в душе странную веселую злость, поворачивается к Юсупову.
— Чуть-чуть не попал, сука! Представляешь?
— А ты эта… зачем полез-то? — флегматично спрашивает инженер и поясняет: — Нормально же все. Сейчас поедем.
Бойцы из отрядов Заварзина и Бабая постепенно втягиваются в ворота. Разбитые на десятки, люди разбегаются в стороны, обшаривая территорию. Внутри Кремля немедленно вспыхивают короткие перестрелки, кто-то дико кричит, дважды гулко бухают гранатные взрывы.
— Давай, давай, Вилен, поехали! Там же наших убивают! — торопит Ник Юсупова.
Наконец тягач дергается и ползет к воротам, возле которых остается на карауле последняя десятка штурмующих.
Колян Заварзин — четкий мужик. Автор. В смысле — в авторитете. Если говорит — то реально так, по делу, без байды всякой. Я с ним когда общаюсь, тоже стараюсь пургу не мести, типа я серьезный пацан, не фуфлогон какой-нибудь.
Мы когда к штурму готовились, он меня в первую десятку поставил. Я ему кричу — ни фига ты начальник, блин! Мы с Ником и Очками всю эту движуху замутили, а ты меня простым бойцом ставишь. Не по честнаку, понял? Поставь хотя бы десятником.
А он посмотрел на меня и в таком роде сказал, что справедливость — это круче честности. И вообще, главное в жизни — чтобы все было по справедливости. А когда салага без опыта командует взрослыми мужиками, у которых семьи, то никакой справедливости тут нет. Короче, развел он меня, блин — высший класс. Умеет. И я не в обиде, потому что понимаю, что так-то, чисто по жизни, он прав со всех сторон.
В общем, дождались мы ночи и пошли. Впереди разведка идет, семь человек. Квартал пройдут и знак подают — всё чисто, можно двигаться. Тогда мы перебежками, перебежками — и опять затихаримся. Так до Профсоюзной и добрались. Кругом темнота такая, что ног не видно. Один раз совсем близко, по Баумана, патруль прошел. Три человека, идут, анеки травят, ржут. А нас тут сидит такая бригада, что за минуту не оббежишь — и все стремаются, блин, потому что если кипиш начнется, то всё, капец всему.
Посидели мы с полчаса где-то, и опять перебежками, перебежками — до точки добрались. Залегли, натурально, как в кино про немцев. Потом Колян троих выдергивает — меня и еще двух пацанов, ну, молодых в смысле, — и говорит: валите на церковь — она там справа стояла — и секите во все зенки, когда над Казанкой ракета взлетит сигнальная.
А церковь давно пустая, даже не пахнет в ней уже. Обычно-то там запах такой, как в магазине, где всякие индийские приблуды продают, ну, там, сувениры, звенелки. А тут даже такого запаха не осталось. Просто дом — и всё. Один из пацанов, который с нами был, сказал, что Монах в этой церкви хотел обряды всякие проводить, но чего-то ему тут не понравилось, и он теперь рулит в большом таком соборе, который возле геофака.
Короче, поднялись мы наверх, туда, где колокола должны висеть. Сами-то они попадали, один, большой такой, раскололся даже. В общем, долго сидели, я даже замерз, но это хорошо, потому что спать охота, а когда холодно, то фиг уснешь.
Ночь, блин, густая стоит. В Кремле костры горят и возле Цирка, и еще дальше, где стадион. Я тогда подумал, что людей в Казани вообще много осталось, и что мы для них для всех стараемся, потому что Аслан реально всех вместе достал и каждого конкретно, по отдельности.
Пока я думал и представлял, какие мы все будем герои крутые, и как Энка меня заценит наконец, что я классный пацан, ракета и взлетела. Зеленая, двойная, нифига не красивая, на Новый год у нас фейерверки намного круче.
Я через перила свесился — чуть не навернулся — и ору шепотом Коляну, мол, атас, погнали наши городских, заводи мотор, пора щипать гусей.
Он мне так конкретно говорит — понял тебя, Хал, спускайтесь. И произносит речь. Я бы такого никогда не смог задвинуть. Колян сказал: «Лучше умереть стоя, чем сосать сидя!» И мы пошли, блин, умирать. Вернее, побежали. Сначала молча, а когда до памятника Мусе Джалилю добежали, все как заорут — кто матом, кто «Ура!», а кто просто «А-а-а-а!» от страха. Эти, «кремлевские», в траншеях своих переполошились, стрелять начали. Мы сразу залегли и тоже огонь открыли. Я тогда подумал, что если бы мы продолжили бежать и кричать, то смогли бы, наверное, добраться до этих долбанных траншей и захватить их, но людей бы с нашей стороны много погибло, а потом нас бы со стен всех положили.
А так ползаем мы в темноте по кустам с места на место, пуляем в сторону «кремлевских», они в ответ по нам долбят. Пулеметы у них, патронов много. Всё, короче, по плану идет, как доктор прописал. Тут еще Бабаев отряд подтянулся с другой стороны, там крутая перестрелка была, и даже гранаты кидали. Аслан не слабо пересрал от такой войнушки, подкрепление выслал — и в траншеи, и на стены. Тут вообще чума стала — пули везде свистят, трассеры летают. А Колян зубами скрипит и сквозь этот скрип все время матерится, потому что переживает — если наш танк не проедет через болото, то всё.
Но он проехал. Я, когда услышал, как он ревет на другой стороне Кремля и как Ник из пулемета вламывает по кому-то, чуть-чуть не вскочил на ноги от радости. Заварзину кричу — слышь, мол, братан? Грести-скрести, а ты боялся! И Колян засмеялся вдруг — мне аж страшно стало, и запел песню про то, что гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. И чё-то там про товарища Сталина, блин.
Я про Сталина почти ничего не знаю, но нам везде всегда говорили, что он плохой и угнетал всех и вообще ничтожная личность. И в школе, и по телику. Так много говорили, что даже я просек — чё-то тут дело не чистое. О ничтожных личностях так много не говорят, особенно если после того, как эта самая личность зажмурилась, шестьдесят с лихуем лет прошло.
А Колян песню про Сталина спел и велел прекратить огонь. Лежим мы в кустах, слушаем, как танк наш в Кремле шорох наводит. Громко так. «Кремлевские» гранаты кидать начали, стрельба там, ор стоит, блин, как на стадионе, когда «Зенит» приезжает.
Ник пулеметчиков на стене снял, потом танк в ворота выперся — и сразу на траншеи попер. Очки классным водилой оказался, хотя и ботан он причумлённый. А Ник из пулемета затушил всех, кто в траншеях был, конкретно так. В общем, порвали они всех нах, гусеницами подавили, заграждения разломали. Танк развернулся и встал. Тут Колян скомандовал, чтобы мы ползли к башне и бутылки готовили. Кто-то из бабаевских с той стороны первым бутылку метнул, и мы тоже фитили подожгли и айда кидать в стену. Зажглось там что-то, стало светлее. Я смотрю — Ник из люка вылез и орет мне — живой?
Я ору в ответ, что все чики-поки. Тут какой-то мудель со стены стрелять начал, а мы в ответ тоже вдарили и загасили этого муделя, наверное. Колян Нику сказал, чтобы они обратно в Кремль после нас ехали, и мы внутрь побежали. Мужик на нас вылез, из «кремлевских», не стреляйте, кричит, я сдаюсь. А какой там «не стреляйте», когда у всех стволы и все на конкретной военной мазе? Замочили его, конечно — и айда в атаку.
Забежали мы внутрь, Колян нас в разные стороны направляет — первая десятка туда, вторая — сюда. «Кремлевские» в домах засели, опять стрельба, движуха мутная пошла, блин. Ну, мы дали жару и давай зачистку делать — трое бегут, трое прикрывают. Зашли четырьмя десятками в длинный дом, который прямо за башней, пошли по коридорам, в комнаты гранаты кидаем. Пыль, темно, песок на зубах хрустит, как сахар. Танк на улице с пулемета валит тех, кто в окна кидается. Половину первого этажа зачистили — тут «кремлевские» кричат, что, мол, всё, хорош, мужики, мы сдаемся. Колян сразу приказывает: пленных разоружить, гнать к воротам. И чтобы никакого самосуда, блин. И костров побольше, потому что в темноте они разбежаться могут.
Короче, мы дальше пошли, до корпуса добрались, где бабы были — типа публичный дом. «Кремлевские» нам из окон кричат, что они баб замочат, если мы их не выпустим. Это такая старая тема — террористы, заложники. А нам пофигу, блин, мы же не менты. Колян «кремлевским» кричит — если вы хоть одну женщину убьете, мы вас все равно возьмем и каждого — каждого! — по очереди танком нашим раздавим заживо. А так, если сдадитесь, то гарантируем жизнь до суда, и если кто в особых зверствах не замечен, то и дальше жить будет. И счет до ста на размышления.
И тут мы хором считать начали, громко, чтобы всем слышно было. И до сорока четырех когда дошли, они начали в окна автоматы выкидывать. Семнадцать человек сдалось, блин.
Бабы из дома этого выбегают, плачут. А мужики озверели — там у кого-то жена, у кого-то дочка. И давай они прессовать этих уродов, конкретно так — руками, ногами, прикладами. Если бы не Колян, наверное, забили бы, наглушняк. В общем, увели пленных тоже к воротам, а мы ломанулись дальше — там, где-то возле Сююмбике, стрельба шла густая. Колян нам всем кричит — Аслана, Аслана ищите, живьем падлу брать надо! А где его тут найдешь, когда темно, все бегают, стреляют?
До утра этот цирк с конями продолжался. То там стрельба, то тут кипиш какой-то. Бабай пулю в руку словил, я о стекла порезался сильно, когда в окно залезал. Ну, и насмерть убило многих. Трупы везде валялись — и на улице, и в домах.
А потом все вдруг закончилось. Тихо стало, только танк ревет внизу, возле Президентского Дворца. Там какая-то бригада «кремлевских» засела, отморозки конченые, беспредел галимый. Их долго выковыривали, блин. Гранаты уже кончились, народ устал. Тогда Колян сказал всем, что это Аслан со своим штабом. Ну, тут, понятное дело, бодрости у людей прибавилась — достали этих тварей, даже двоих живыми взяли. А Аслана нет. Он, сука, уйти успел. Через нижние ворота, откуда танк из болота в Кремль и заехал. С ним еще человек десять свалили. Ник наладился за ними ехать, а потом оказалось, что это все еще ночью случилось. Беспонтовым боевиком оказался Аслан. Зато гнидой зачетной.
Так наша войнушка и закончилась.
Часть третья
«Бог есть любовь…»
Глава первая
Колонна пленных под усиленным конвоем двигается к Цирку. Позади нее устало ползет тягач, весь испещренный пулевыми отметинами. На броне сидят и лежат в разнообразных живописных позах легкораненые. Тяжелых положили в десантный отсек, там над ними колдует Цапко.
Ник, на правах командира боевой машины, расположился на носу тягача, положив на колени автомат, из которого он за время ночного боя не сделал ни единого выстрела.
«Администрация Казани» потерпела полный и окончательный разгром. Сорок девять человек убито, больше тридцати ранено, почти семьдесят сдались в плен или были захвачены силой, остальные попросту разбежались. Нападавшие тоже понесли жестокие потери — тридцать два мертвых тела лежат на травянистом склоне возле Спасской башни, а неподалеку от памятника Джалилю уже роют большую братскую могилу.
На рассвете Бабай на правах мэра города закрепил фактический успех, юридически объявив АК преступной и запрещенной организацией. Раненый навылет в руку, он сидит тут же, на передке «маталыги», и вслух рассуждает о том, что делать с пленными.
— В тюрьму их сажать? То есть кормить-поить за счет общины? Так это, едрит-трахеит, получится курорт какой-то. Похерить всё и отпустить? Где гарантия, что они обратно не возьмутся за старое, тем более что Аслана мы упустили? Да и крови кое на ком немало…
— И прочих мерзостей, — вставляет Ник.
— Вот именно. Значит, наказать надо. А как? Я думаю — только каторжный труд. Тяжелый, изнуряющий и каждодневный. Чтобы поняли, едрит-архимандрит, чтобы до кишок пробрало, чтоб как кони — рыдали по ночам. Что думаешь?
— Все верно, — рассеяно кивает Ник. — Только вот…
— Что?
— Там ведь, — он показывает на грязно-зеленую колонну пленных, извивающуюся впереди, — народ разный. И вроде рядовых есть, и типа офицеры. Кто-то вообще по мобилизации попал, мне тут сказали, пятьдесят человек они собрали по всем общинам, да?
— Было дело.
— Ну, вот! В общем, комиссия нужна. По расследованию. А еще — охранники для тех, кого… ну, вы поняли. Каторжный труд — это хорошо, но их же, каторжников, охранять надо, а?
— Полиция, короче, нужна, — резюмирует Бабай и, сморщившись, осторожно перемещает простреленную руку. — И народный суд. Едрит-трахеит, все возвращается на круги своя…
— Это вы о чем?
— Не обращай внимания. Скажи лучше — вот ты в полицию эту пойдешь?
— Я? — Ник от неожиданности едва не выпускает из рук автомат. — А почему я?
— А почему не ты? Почему кто-то другой?
— Ну, я не знаю… — замявшись, Ник вдруг находит подходящий аргумент и с облегчением выкладывает его: — Я же не местный! Нам с Наташкой все равно в Иркутск надо возвращаться.
Бабай поворачивает круглую голову и с нескрываемой иронией смотрит на Ника.
— Серьезно? Когда вылет, какой рейс? На чем, на Боинге полетите? Или на Сушке?
Ник хмурится — язвительное замечание Бабая попадает в точку. Ясно, что в ближайшее время ни в какой Иркутск они точно не попадут, причем под словосочетанием «ближайшее время» можно понимать сколько угодно долгий промежуток — от месяца до нескольких лет.
— И во славу воинов, одолевших исчадия тьмы, вознесем благодарность господу! — низким, пробирающим до мурашек голосом выпевает Монах.
Вся арена и проходы к ней заполнены молящимися. Многие держат в руках зажженные лучинки, заменяющие свечи. Сотни огоньков трепещут в густом, тяжелом воздухе. Погасшие лучины немедленно зажигаются вновь. Люди вразнобой повторяют за Монахом:
— Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прийми молитвы и рук наших воздеяния о оставлении всех грехов и беззаконий наших, имиже раздражихом Твое человеколюбие и прогневахом Твою благость: и отврати от нас весь гнев Свой, праведно движимый на ны, и утоли вся крамолы и нестроение, и раздоры, ныне сущия, и кровопролития, и междоусобную брань, и подаждь мир и тишину, любовь же и утверждение, и скорое примирение людем Твоим, их же честною Твоею искупил еси Кровию, славы ради имени Твоего, утверждения же и укрепления Церкве Твоея Святыя, яко благословен еси во веки веков.
— Амии-и-и-инь! — торжественно воздевает вверх крест Монах.
— Это вроде не во славу, а про другое немножко, а? — тихо говорит Ник Заварзину.
— Да пусть тешатся, — Николай дергает уголком рта, словно у него нервный тик. — Сейчас вся эта бодяга закончится — на Совет приходи. Знаешь, где у нас теперь госпиталь?
Ник кивает. Раненых разместили в комнатах бывшей дирекции Цирка, на двух этажах пристройки, выходящей окнами на болото. Цапко вместе с добровольными помощницами, по большей части родственницами тех, кто пострадал в ночном сражении, не выходит оттуда весь день — оперирует, извлекает пули, как может, облегчает страдания испытывающих нестерпимую боль людей.
Имея из медикаментов только марганцовку и спирт — все остальные лекарства пришли в негодность — фельдшер обратился к народной медицине. Отвары, примочки, мази, листья и корни растений — за прошедшее время его врачебный арсенал существенно пополнился, но все равно этого недостаточно для того, чтобы помочь всем страждущим.
— Газовая гангрена будет, — сокрушался он сразу после окончания штурма и боев внутри Кремля. — К гадалке не ходи — будет. Антибиотиков у меня нет. Сульфаниламидов нет. Анальгетиков нет. Анестезии нет! Что делать, как людей спасать? Ума не приложу…
На торжественный молебен Цапко выйти отказался, сославшись на неотложные дела в госпитале. Ник видел его в коридоре, ведущем из главного здания Цирка в пристрой — фельдшер, а ныне главный врач общины, еле держится на ногах от усталости. Под глазами фиолетовые круги, лицо серое, губы обмётаны. Как говорится — краше в гроб кладут.
Утром, сразу после того, как «маталыга» доковыляла до Цирка, с трудом продравшись через заросли кустарника на площади Тысячелетия, Ник собрался за Эн. Он тоже с ног валился после событий прошедшей ночи, но не мог оставить девушку в неведении. Неожиданно откуда-то появился Хал, который теперь хвостом ходил за Заварзиным, и весело сообщил, что сам сходит к Дому Кекина. Ник совсем уже было согласился, но тут вспомнил разговор с Юсуповым и впервые за все время в душе его вспыхнул странный огонек, маленькая такая искорка, которая, однако, жгла и терзала изнутри, точно кусок раскаленного железа.
Довольно грубо отказав Халу, Ник отправился за Эн в гордом одиночестве, и уже в дороге понял, что заставило его так поступить.
Он банально приревновал свою воспитанницу. Приревновал, даже не решив для себя толком, как к ней относиться. Это открытие разозлило Ника. Добравшись до дома Кекина и постучав в запертую подвальную дверь условным стуком, он в ответ на радость Эн повел себя холодно и отстраненно, отчего разозлился еще больше. В итоге все закончилось ссорой, Ник был облаян Камилом, и до Цирка они шли практически порознь.
Дальше — больше. Эн радостно бросилась к Халу, они даже обнялись и вообще разговаривали так, точно были знакомы всю жизнь. Огонек внутри Ника разгорелся с новой силой. Он окреп, набрал жар и сделался похожим на пламя газовой горелки, ровное и мощное. Скрипя зубами, Ник полез было помочь Юсупову — тот в окружении толпы зевак возился с тягачом, — но там помощников хватало и без него, «героя ночного штурма», как назвала Ника Анна Петровна.
Так он без цели и без дела и прошатался до полудня, на который был назначен торжественный молебен.
— Братья и сестры! — гудит тем временем на арене Монах. — Испытания, ниспосланные нам свыше, положили конец вековой вражде вер и религий. Вернулись времена вавилонские. Ныне едины мы перед лицом единого для всех господа. Брату нашему, уважаемому Фариду, даем мы слово.
Ник, отогнав от себя неприятные воспоминания сегодняшнего утра, вытягивает шею, стараясь разглядеть неожиданного соратника Монаха, муллу Фарида, о котором он только слышал.
На центр арены степенно выходит сухонький, тощий старик с темным, сердитым лицом, на котором двумя угольками горят неожиданно большие, как будто бы нарисованные глаза. Ник успевает подумать, что мулла Фарид и Монах внешне странным образом дополняют друг друга, но тут мулла начинает говорить высоким и очень чистым для своего возраста голосом. Вначале звучит переливистая фраза на арабском, потом Фарид говорит по-татарски, а уж потом переводит свои слова на русский:
— Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Господу Миров, сотворившему нас и разделившему на племена и народы, чтобы мы познали друг друга, а не чтобы презирали друг друга. Если враг склоняется к Миру, склонись к Миру и ты и доверься Богу, ибо Господь — тот, кто слышит и знает всё. Среди слуг Бога самые милосердные те, кто ходит по земле в смирении, и обращаясь к ним, мы говорим: «Мир»!
— Ибо смирение есть высший добродетель! — диссонансом басит Монах.
— Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его! — взвивается под самый купол голос муллы.
— Аминь! — хором провозглашают оба.
— Слуги врага рода человеческого низвергнуты, как низвергнут был в адские бездны падший ангел, что предал своего Господа и творца! — продолжает Монах. — То было великое испытание, и мы с честью выдержали его. Но рано, рано, братья и сестры, нам пожинать плоды и почивать в покое. Всеблагой Господь дал нам второй шанс, дабы могли мы деяниями своими доказать ему, что достойны войти в царство Божие!
Ник наклоняется к Заварзину:
— То есть сперва Аслан с подельниками были вроде как хорошие, а вот теперь они — слуги Сатаны, я правильно понимаю?
Николай сердито дергает уголком рта и ничего не отвечает. Бабай, стоящий с другой стороны от Ника, слышит его слова и вполголоса произносит:
— И имей в виду — это фактически уже официальная версия.
Монах снова поднимает вверх крест:
— Как сказано в Откровении Святого Иоанна Богослова: после сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!
— Он что, наизусть его помнит, что ли? — удивленно шепчет Ник.
Анна Петровна поворачивается к нему, прикрыв сухой ладонью пламя лучины. В мокрых от слез умиления глазах женщины отражаются огоньки.
— Благодать какая! — восторженно говорит она. — Что бы мы без батюшки делали? Бог не оставил нас! Все хорошо будет…
А Монах уже начинает новую молитву, которую громогласно объявляет покаянной:
— Смута тяжкая над землей нашей. И мы, недостойные чада Божьи, обращаемся к нему: Господи Боже, Вседержитель, призри на нас, грешных и недостойных чад Твоих, согрешивших пред Тобою, прогневавших благость Твою, навлекших гнев Твой праведный на ны, падших во глубину греховную.
Заварзин после этих слов скрипит зубами, резким движением гасит лучину и начинает пробираться к выходу. Ник провожает его удивленным взглядом.
— Ты зриши, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, веси растление умов и сердец наших, оскудение веры, отступление от заповедей Твоих, — ревет Монах. — Умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры церковныя, Ты зриши печали и скорби наша, от болезней, гладов, потопления, западения и междоусобныя брани происходящыя. Но, Премилостивый и Человеколюбивый Господи, вразуми, настави и помилуй нас, недостойных.
— Я, может быть, и недостойный, но эта… по-моему, эта молитва сейчас не в тему, — вздыхает Юсупов за спиной Ника. — Пойду-ка я тоже, пожалуй. Дел полным-полно…
А Монах все читает и читает. Общинники внимают старинному напеву молитвы:
— Исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери расточенныя, соедини разсеянныя, подаждь мир стране нашей и благоденствие, избави ю от тяжких бед и несчастий.
Ник думает, что в сущности-то в молитве все правильно, а принять ее людям типа Заварзина или Вилена мешает то, что в церковных книгах зовется гордыней. Впрочем, его тоже царапнуло, с какой ловкостью Монах объявил аковцев слугами ада, выполнявшими волю врага рода человеческого. Ник вспоминает, что раньше он именовал людей Аслана «наши заступники» и «славные ратники Христовы».
Монах выпевает финальные слова молитвы:
— Всесвятый Владыко, просвети разум наш светом учения Евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея и направи я к деланию заповедей Твоих, да прославится в нас всесвятое и преславное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков.
— Амии-и-и-инь… — многоголосо звучит отовсюду.
— Второй шанс! — вдруг выкрикивает Монах так громко, что где-то в толпе от испуга начинает плакать ребенок. — Помните о втором шансе, братья и сестры! Идите и делами своими докажите, что достойны вы называться чадами господними и рабами его смиренными!
Совет в бывшем кабинете директора Цирка собрался. Тут у Бабая теперь приемная, все как положено, даже секретарша есть, пожилая, правда, такая тетка, некрасивая. Если бы я мэром был, я бы Энку вон в секретарши взял. Только она не пошла бы, конечно. Нафига ей это — сидеть, бумажки перебирать или там чай из малиновых листьев заваривать?
Внизу, под кабинетом — госпиталь. И в нескольких комнатах на этом, втором этаже, тоже раненые лежат. Я больницы с детства не люблю — запахи всякие лекарственные, врачи в белых халатах, туда не ходи, сюда не смотри, таблетки, уколы и прочая фигня.
Но это тогдашние больницы, а здесь, в госпитале, все вообще страшно. Вонь такая… Раненые стонут, кричат, один уже умер. Еще ночью был живой и здоровый, а сейчас вот вперед ногами его вынесли. Цапко сказал — обезболивающих у него нет, коагулянтов каких-то и кетгута, а без этого полостные ранения он лечить не сможет и даже аппендицит не удалит. Мне сразу плохо стало от таких слов. У меня-то аппендицит целый, ну, в смысле — здесь он, в животе, с ним проблем-то никогда не было. И я как представил, что вдруг — р-раз! — и заболел он, и операцию надо делать… Чё вот будет? Всё, тапки в угол. Как в старину.
В общем, Цапко долго говорил. Его первого слушали, потому что ему надо было к раненым идти. А еще перед этим Бабай гонцов отправил в другие общины, чтобы все те, кто медицинское образование имеет, к нам в Цирк шли — помогать раненых спасать. Только никто не пришел, блин.
Когда фельдшер закончил говорить, начался такой серьезный и вдумчивый базар — как жить дальше. Не, про раненых и медицину тоже все серьезно было, конечно, но там конкретная тема, а тут — вообще про всё.
Бабай сказал, что нам менты нужны, суд и все такое прочее — законы там всякие, тыры-пыры… А еще он сказал, что пленные будут после суда дороги расчищать и дрова заготавливать на зиму. И утеплять выбранные для зимовки дома. Это, сказал Бабай, первоочередная задача. При этом все остальное идет по старому — и рыбаки на Волгу ходят, как раньше, и рвы какие-то, чтобы одичавших коров в них загонять и по новой приручать, тоже надо продолжать копать, потому что коровы — это молоко и мясо.
Начали думать, кто судьями будет. Решили, что трех человек достаточно. Этими тремя стали Колян Заварзин, Анна Петровна и Фарид-ага. Он на Совет пришел, а Монах — нет. Его право, я считаю. Не нравится мне он, блин. Мутной какой-то. Я при нем даже дышать не могу нормально.
Потом Колян сказал, что суд должен работать быстро — проверили, есть ли за человеком преступления, свидетелей там опросили — и аля-улю: или на свободу, если мобилизованный и никого не убил, или на каторгу, или в расход. Фарид-ага заспорил, говорит — нельзя в расход, аллах против. Решили этот вопрос на потом отложить и перешли к полиции — кто будет командовать, кого в нее набирать. Бабай вдруг говорит — предлагаю начальником вот Проскурина. Это Ника, ага! Я чуть не заржал: Ник — главный мент! А Бабай дальше базарит: заместителем к Проскурину предлагаю Халилова. Тут уже мне не до смеху стало, блин. И тут такой Колян — нельзя, типа, Халилова, он невыдержанный и влиянию поддается.
Я, блин, сижу ни живой, ни мертвый. Вот такая подляна мне выпала ни с хера лысого. Обидно стало, даже в носу защипало. Я ж Коляна уважаю, он реально доказал, что мужик конкретный. Если бы там Очки, да даже Ник или Бабай такое сказали — и пофиг, а тут Колян…
Короче, встал я и ушел. Пошел гулять. Вокруг Цирка походил, потом до нашего танка дошел. Его пять человек охраняют — Бабай так велел. Ну, меня, понятное дело, пропустили. Залез я внутрь и спать лег. Пошли они все…
Глава вторая
— Ты пойми! — втолковывает Нику Бабай, то и дело потирая красные от бессонницы глаза. — Всё, детство кончилось. Жизнь пошла серьезная. Никакой помощи ниоткуда мы не получили, связи даже с Усадами, Бирюлями, Лаишево нет, я уж про дальние города и поселки не говорю. Нам выживать придется самим. А раз так, то всё, всё, пойми! Никто ничего за нас не сделает. Если хочешь знать, нам государство надо обустраивать. Что ты улыбаешься? Да, государство. Маленькое Казанское…
— Ханство, — подсказал Ник.
— Нет, ну почему ханство… — Бабай смущается, вздыхает и снова потирает слезящиеся глаза. — Демократия у нас, едрит-трахеит, настоящая, народная. Ханство — это вон Аслан хотел сделать. И мы права не имеем дать ему или кому-нибудь еще второй шанс.
Где-то над Волгой кричит чайка. В темном небе горят звезды. Очередной день, первый после освобождения города от власти Аслана и АК, заканчивается.
— Да, вот именно — второй шанс. — Ник выразительно смотрит в сторону входа в Цирк. Где-то там, среди укладывающихся людей, находится и Монах. — Если уж серьезно говорить о серьезных вещах, то этот самый «Второй шанс»…
— Погоди, погоди, — останавливает его Бабай. — Ты кислое с пресным не путай. Монах, он нужен, понял? Он людям надежду дает.
— Надежду дает, а потом власть захапает, — кивает Ник. — Он же сумасшедший, неужели вы не видите?
— Погоди, я сказал! — в голосе Бабая прорезается сталь. — Едрит-трахеит, когда мы все по-нормальному наладим, он в тень уйдет. Или, глядишь, настоящий батюшка появится… — низко наклонившись к сидящему у костра Нику, Бабай свистящим шепотом произносит: — Он же… Монах… не монах никакой! Жил при монастыре, в работниках. Как там у них называется, не помню… послушник, да? Ну, нахватался по верхам. Фанатик, да. Он, и правда, не в себе. Но видишь — нет у нас другого священника. Фарид-ага старый совсем, еле ноги таскает. Да и мулла он, а у нас мусульман меньше половины, а всерьез верящих — вообще с гулькин хрен.
— А откуда у вас такие сведения — про Монаха? — заинтересованно спрашивает Ник.
— Филатов рассказал.
Ник сводит брови к переносице, ворошит прогоревшие ветки. В темное небо взметается сноп искр.
— Кстати, — говорит он через какое-то время. — Вот про Филатова…
— Э, не нашего ума это дело, — неожиданно сворачивает разговор Бабай. — Филатов сам по себе. Забудь. Ты лучше скажи — что решил-то? Принимаешь назначение?
— Вы же мне до утра дали время подумать!
— Утро, вечер… Ты дурака не валяй, отвечай как мужик: будешь работать начальником полиции?
Ник смотрит в красные глаза Бабая, отражающие блики костра и стискивает зубы. Он прекрасно понимает, что все его, в сущности подростковые, аргументы про то, что мент — это западло, не имеют никакого значения. Совету общины нужен порядок. Порядок нужно наводить жестко. Для этого нужен молодой, энергичный и уже проявивший себя человек. Еще вечером, на Совете, Ник объявил, что берет самоотвод и предлагает Заварзина. Но сразу несколько членов Совета чуть ли не хором объяснили ему, что Николай уже выбран судьей и при этом он — бригадир рыбаков, потому что разбирается в этом деле.
Ник в рыбалке был если не полным профаном, то где-то рядом — так, любитель-поплавочник, и заменить Николая, конечно же, не мог. Масло в огонь своим демонстративным уходом с Совета подлил Хал, кандидатура которого на должность заместителя начальника полиции как раз не прошла — тот же Заварзин его и задвинул, причем по делу, объективно.
Что такое полиция в нынешних условиях, Ник понимал плохо, о чем честно и заявил. Ему популярно растолковали: нужно отобрать людей, организовать пункты охраны правопорядка, пресекать преступления, бороться с мародерами, которых за время аковщины в городе расплодилось немало — и прочая, и прочая, и прочая…
— Я все-таки до утра хочу подумать, — отведя глаза, тихо, но твердо говорит Ник. — Утром все скажу, обещаю.
Бабай коротко блякает, машет рукой и идет спать. Ник оглядывается. Стоит тихая, темная августовская ночь. Довольно холодно, но от костра идет приятное тепло. Мимо проходит десятник и несколько общинников, вооруженных автоматами — смена караула. Теперь с наступлением темноты Цирк охраняют десять человек, причем посты вынесены далеко от здания — чтобы больше никто не застал общину врасплох.
Завтра утром, если Ник даст согласие, эти и многие другие люди станут его подчиненными. И всё, приключение под названием «новые робинзоны» закончится окончательно.
— Да боюсь я, что ли? — зло говорит Ник, глядя в костер.
— Именно что боишься, — скрипит за спиной.
Не оборачиваясь, Ник бурчит:
— Как через посты прошли?
— Молча. — Филатов усаживается напротив, кладет рядом вилы, вытягивает ноги к огню. — Грош цена пока вашим караулам. Как рыбы сонные. И глухие к тому же.
— Других-то нет.
— Этих надо учить.
— А кто учить-то будет? Может, вы?
— Нет, ты. Не боги горшки обжигают, Никита.
— Слушайте, — Ник вскидывает голову, — вы кто такой вообще? Откуда взялись? Ходите, высматриваете, вынюхиваете… Когда воевать надо было, где вы были? И нашим, и вашим… Наблюдатель херов!
Узкое лицо Филатова делается вдруг хищным, глаза сужаются в щелки. Он скрипит, почти не размыкая губ:
— Однажды, очень давно, я произнес перед строем моих товарищей такие слова: «Клянусь мужественно, не щадя своей жизни, защищать народ и государственные интересы России. Клянусь не применять оружие против своего народа и законно избранных им органов власти[35]». И не тебе, сопляк, учить меня, что и как я должен делать!
Ник косится на вилы, лежащие в стороне, вспоминает про пятого аковского патрульного, убитого этими самыми вилами, и ему становится стыдно. Если бы не Филатов, скорее всего МТ-ЛБ так и стоял бы сейчас в боксе Танкового училища, а кости Эн, Хала, Юсупова и самого Ника давно уже растащили бы собаки.
И не было бы никакой победы, никакой свободы, а Аслан со своими подручными развлекался бы в Кремле с новыми наложницами, попивая коллекционный коньяк.
Слышатся тяжелые, шаркающие шаги. Ник поворачивается и видит Цапко. Белый халат его спереди весь покрыт темными пятнами. Выглядит бывший фельдшер, а ныне главный врач общины ужасно — серое, землистое лицо, всклокоченные волосы, борода сосульками.
— Здравствуй, Анатолий, — кивает Цапко Филатову и буквально падает на пластиковый стул, стоящий поодаль.
— Как там? — спрашивает Ник.
— Еще двое умерло, — отвечает врач. — Внутренние кровотечения. Остальные вроде ничего. Руки уже инструменты не держат. Я на свой страх и риск отвар какой-то из дурмана даю вместо анестезии. Помогает, но хреново. Господи, когда ж это кончится!
— Тебе поспать надо. — Ник встает, подходит к Цапко. — Пошли, я провожу…
— Какой там спать! — с надрывом выкрикивает тот. — Пацаненка сейчас принесли. Температура за сорок. Водку развели, обтерли, малины заварили… Вроде сбили до тридцати восьми, теперь дежурить надо. И главное — диагноз не могу поставить. На простуду не похоже, горло в порядке, насморка нет, кашля тоже. То ли энцефалит, то ли менингит, а может и пневмония! Вот такой разброс… Я же фельдшер, просто фельдшер, а не педиатр!
Скрипнув зубами, Цапко поднимается и уходит обратно в Цирк.
— А ему, — нарушает тягостную тишину Филатов, — до утра думать никто не предлагал. Он, может, тоже хотел бы — как все. Рыбку ловить, дрова рубить, спать по ночам и на больших дядей-начальников надеется — авось они придумают, как дальше жить.
— Не надо! — раздраженно перебивает его Ник. — Не маленький, понял…
— Да я знаю, что не маленький. — Филатов подбирает вилы и собирается уходить. — Совет: ты мальчика с температурой на контроль возьми. Не нравится мне эта история…
Он уходит, а Ник еще долго, до следующей смены караульных, сидит у костра, время от времени подбрасывая в огонь нарубленные ветки.
Утро выдается недобрым: еще двое детей с температурой госпитализированы, и не сомкнувший всю ночь глаза Цапко объявляет по общине карантин. У первого заболевшего к этому времени на теле проступают какие-то пятна, набухают лимфоузлы в паху. Цапко приказывает вывесить над входом в Цирк черный флаг и вводит обязательное ношение масок.
— Эпидемия в нашем случае — это конец всем, — говорит он.
Ник по-простому, буднично известив Бабая и других членов Совета, что он вступает в должность начальника полиции, быстро отбирает тридцать человек из числа мужчин, участвовавших в штурме Кремля, разбивает их на пятерки и отправляет патрулировать центр города.
Халу, которого, не обращая внимания на вчерашнюю обиду и возражения, он записывает в рядовые бойцы полиции одним из первых, Ник поручает контроль за порядком на территории госпиталя. Эн с Камилом остаются при начальстве в качестве курьеров. Ник с удовольствием сделал бы своим заместителем Юсупова, но у Вилена масса дел с тягачом. Вместе с двумя помощниками, выделанными Бабаем, он с рассвета возится с ходовой — что-то там у него травит масло, то ли редуктор, то ли коробка…
Цапко, не смотря на протесты, отправляют отдыхать.
— Едрит-архимандрит, если что-то с тобой случится, мы ж совсем загнемся, — говорит ему Бабай. — Спать — и никаких разговоров.
Врач с импровизированной — из куска более-менее чистой ткани — повязкой на лице отходит в сторону и ложится прямо в кабинете, на стулья у стены.
Все помогающие Цапко в госпитале женщины безропотно носят теперь маски, но Хал, вставший на пост в карантинный блок, пытается отказаться от этой меры предосторожности. Ник, не выбирая выражений, говорит:
— Сдохнуть хочешь? Чтобы по-быстрому на тот свет, а нас тут бросить?
Татарин недовольно сопит, матерится вполголоса, но маску надевает.
В столовой начинают раздавать завтрак: вареную рыбу, салат. Детям — кашу. Перед началом раздачи Монах благословляет пищу и читает короткую молитву. Ник замечает, что никто не противится этому, хотя видно, что люди голодны.
После завтрака должен был начаться суд на аковцами. Пленных содержат в помещениях, предназначавшихся в прошлом для цирковых животных. Бабай просит Ника направить туда пятнадцать автоматчиков.
— А на Волгу кто пойдет? — возмущается новоиспеченный судья Заварзин. — Он же всех людей у меня забрал!
— Сегодня — никто, — отвечает Бабай. — Запасы у нас солидные, денек перетопчемся. Надо с этими вопрос решить.
Хал, похожий в белой повязке на какого-то неправильного ниндзя, появляется у Бабая за спиной.
— Там в госпитале доктора зовут, — говорит он. — Пацану одному совсем плохо, блин.
Ник идет будить Цапко. Тот поднимается, трет глаза и шаркающей походкой удаляется по коридору в сторону карантинного блока. Буквально через минуту — Бабай с Ником и Заварзиным еще не успели обсудить регламент судопроизводства — возвращается, сдирает повязку, сует в карман. Цапко бледный, руки трясутся.
— Я все понял! — тихо говорит он, пытаясь унять нервную дрожь. — У мальчика на ногах… там следы укусов от блох. Понимаете?
— Нет, — качает головой Бабай. — При чем тут блохи?
— Дети ловили сусликов на железнодорожной станции, мне родители рассказали. Они силки делали и возле нор ставили… — Цапко нервно шарит руками по карманам, вытаскивает грязную повязку и вытирает ею крупные капли пота со лба. Сосредоточившись, он переходит на шепот: — Шкурки сдирали. Блохи… Переносчики… Эпидемия… Черт, неужели вы не понимаете?
— Переносчики чего? — вдруг громко кричит Бабай. — Да говори ты нормально!
Ник чувствует страх — в памяти всплывают какие-то полузнакомые термины, вывеска возле дверей небольшого кирпичного здания с длинной трубой крематория и высоким забором. На вывеске написано: «Иркутский Государственный…»
— Это чума! — выдыхает Цапко.
«…противочумный институт», — блок воспоминаний заканчивается и сразу же начинается новый: «Чума — опасное инфекционное заболевание, человек заражается после контактов с грызунами, блохи переносят возбудитель, а затем начинается эпидемия…»
— Чума! — бывшего фельдшера снова начинает трясти. — Один ребенок скоро умрет, это вопрос пары часов. Поделать ничего нельзя. Двое других — я уверен, что к вечеру. И к нам поступили еще трое заболевших. Симптомы те же. Всё, конец! Нам всем… — он вдруг по-бабьи взвизгивает: — коне-ец!
Ник делает шаг и резко бьет Цапко по щеке отрытой ладонью. Звук пощечины разносится по всему помещению, привлекая внимание. Наступает тишина, все смотрят теперь на них — на Цапко, на Ника, на Бабая, на Заварзина.
— С-спасибо… — потирая налившуюся краснотой щеку, говорит фельдшер. — Извините. Просто я не знаю…
— А что случилось? — Анна Петровна отодвигает Ника, Заварзина и встает напротив Цапко. — Что такое?
— Я п-поставил диагноз… — начинает говорить фельдшер.
Бабай за спиной Анны Петровны делает ему знак, чтобы молчал, но Цапко не видит и продолжает:
— Диагноз страшный, но я уверен… Увы, это чума.
— Чума-а-а?! — округлив глаза, восклицает Анна Петровна так, что слышно во всех уголках пристроя. — Господи боже мой! Чума! Батюшка-а! Вы слышали? У нас чума-а!
Она срывается с места и, не разбирая дороги, отталкивая людей, бежит по проходу в сторону арены.
— Что ты наделал, — не глядя на Цапко, говорит Бабай. — Вот теперь, похоже, действительно всё…
— Нечестивцы. — Монах наконец подбирает и выдает правильное слово. — Нечестивцы, вмешавшиеся в Божий промысел! И навлекшие на всех гнев Господен. Он, Вседержитель всемогущий, даровал нам второй шанс, даровал спасение, а они… — следует негодующий жест, — они его у нас похитили.
— Я его сейчас пристрелю, блин, — цедит сквозь крепко сжатые зубы Хал.
— Стоять! — тихо одергивает его Бабай. — Только не ты. И вообще — никто. Стойте спокойно.
Ник усмехается. Стоять спокойно очень сложно, потому что дело идет к бунту. В старину бывали соляные бунты. А этот назовут потом чумным. Если будет кому называть, конечно.
Монах, потрясая крестом, начинает рассказывать сгрудившимся вокруг него людям про Каина и Авеля и про то, что Каин тоже необходим, чтобы все поняли, что есть добро и что есть зло.
— И не в праве Авель убивать Каина, ибо добро тогда оборачивается злом и промысел Божий нарушается…
— Вот зараза, — теперь уже Ник хватается за автомат.
Монах хитер. Хитер особой хитростью фанатика или, если называть вещи своими именами, шизофреника. Общинники верят ему и готовы идти за ним, как овцы за вожаком. Ник помнит, кто обычно бывает вожаком отары овец. Но ему сейчас не смешно. Монах, после победы над Асланом вроде бы полностью поддержавший восстановленную власть Бабая и все нововведения, сразу же после того, как Цапко подтвердил страшный диагноз, начал бурчать про кару Господню. Это было вчера.
А сегодня он открыто обвинил Ника и остальных в том, что именно их действия стали причиной появления болезни. Что самое удивительное — напуганные люди сразу приняли эту версию. Анна Петровна какой-то взлохмаченной кликушей металась по Цирку, собирая членов Совета и авторитетных общинников. Вместо суда над аковцами случилось какое-то невозможное, немыслимое действо, похожее на средневековые процессы над ведьмами и колдунами, где обвинение изначально базируется не то что на неверных предпосылках, а вообще напоминает по степени абсурда вербализацию картин Иеронима Босха.
Самое печальное, что Заварзин и его ребята, объявленные Монахом слепыми орудиями в десницах отступников, только разводили руками: мол, против Бога и мнения большинства общинников мы не пойдем — демократия. А когда Ник излишне эмоционально попытался объяснить им, что Бог здесь вовсе не причем, что сейчас надо не молитвы читать, а обустраивать карантинные зоны, проводить дезинфекцию и искать способы борьбы с самой болезнью, кто-то из бойцов полиции, фактически его подчиненный, высказался в том смысле, что Аслана они свалили не для того, чтобы его место занял Ник. После этого все разговоры можно было считать законченными.
Но становиться жертвенным бараном, бессловесным и покорным, никому не хотелось, и Эн, Хал, Юсупов, даже Бабай пытались оппонировать, холодной логикой разрушить громоздкие умозаключения Монаха — безрезультатно.
На судилище не было Цапко. Всю ночь продежурив в госпитале, называемом теперь не иначе как «чумной барак», утром он сам вынес тела троих умерших, проследил, чтобы их сожгли, как положено, и только после этого лег спать.
— Дабы восстановить справедливость и положенный Господом порядок проистечения жизни, смутьянов и нечестивцев… — Монах делает паузу, горящими глазами оглядывает внимающих ему, — смутьянов и нечестивцев надобно исторгнуть из числа верных рабов Божьих, как исторг сам Господь ангела Сатанаила, умыслившего против своего творца и господина.
— Изгнать их! — раздаются в толпе старушечьи голоса. — Изгнать! Вон из общины!
— Что здесь происходит? — на пороге битком набитой людьми комнаты Совета появляется заспанный Цапко. — Кого изгнать?
— И о самозваном лекаре, неумением своим прогневившем Создателя, забывать не след, — немедленно переключается на него Монах. — Вон пошел! Вон!
И все немедленно начинают орать:
— Вон! Пошли вон! Сволочи! Из-за вас всё! Вон!
Глава третья
Нас выгнали. Это ужасно, это неправильно и непонятно, но это так.
Как они вопили! Я видела вокруг только искаженные злобой лица, выпученные глаза… Анна Петровна… Она раньше называла меня «доченька»… А теперь… Я никогда не забуду, как она брызгала слюной, как тыкала в меня желтым согнутым пальцем… А какие слова она выкрикивала! «Потаскуха» и «ведьма» были самыми безобидными из всех.
Нас выгнали. Всех. И Цапко. Ему, наверное, обиднее всего. Он все то время, которое прошло после пробуждения, лечил людей. Не спал ночами, делал все возможное и невозможное. И вот такая благодарность. Они все сошли с ума. Говорят, что шизофрения не заразна. Неправда. Это опасное инфекционное заболевание, такое же страшное, как чума. Монах заразил нас всех. То есть мы, те, на кого повесили всех собак, вроде бы нормальные, но на самом деле мне кажется, что где-то в наших мозгах тоже гнездится этот вирус. Рано или поздно он проявится. Но мне уже не страшно. Я не боюсь ничего, вообще ничего. Очень может быть, что Ник, Юсупов, Хал, Бабай или Цапко — или я сама! — уже заражены не выдуманным мною вирусом помешательства, а вполне реальным чумным микробом, вибрионом, палочкой, спирохетой или как там оно называется. Но мне пофиг. Я устала бояться. Хал правильно сказал: «Если всего бояться, то жить не стоит». Он не так сказал, конечно, там совсем другие слова были, но смысл именно такой. Хал вообще сильно изменился — или я просто по-другому стала его воспринимать? Он ведь на самом деле очень честный, смелый и умный. Да, да, умный, просто не всегда может выразить то, о чем думает, правильными словами. И еще у него есть душа. Странно, если бы мне год назад сказали, что у гопника есть душа, я бы долго смеялась. А теперь вижу, знаю — есть. Хал — человек, тонко чувствующий и ранимый. Он всю жизнь провел среди всяких отморозков и вынужден был прятать свое «я», чтобы не быть слабее. Это жестокие законы мира, в котором он жил, сделали его таким грубым, резким. Но если очень захотеть, можно разглядеть под маской его настоящего — человека, друга, способного отдать жизнь за тех, кто рядом.
Мы ушли из общины. Сели в тягач, Вилен, который так и не понял, что произошло, завел мотор. И мы поехали прочь от Цирка. Я посмотрела на хмурых охранников, сжимавших в руках автоматы. Никто из них не сказал нам ни одного доброго слова на прощание. А ведь если бы не мы, они сейчас всё так же были бы в рабстве у Аслана.
Мы поехали вдоль берега Казанки в сторону Волги. Тут растут только кусты вербы, и тягач может свободно проехать. Я сидела с Камилом на броне и все время поворачивалась. Над Цирком развевался черный карантинный флаг. Такие же флаги теперь висят и над другими общинами.
Чума — как странно. Я и не знала, что такая древняя болезнь до сих пор существует. Цапко говорит, что в средние века от нее вымирали целые страны. Тогда люди не знали о причинах, вызывающих болезнь. Они молились, искали виноватых — колдунов, грешников, еретиков. Тех, кто мог прогневать Бога. И вот все повторилось — наступило новое средневековье. Снова чума, снова умершие. И снова люди надеются на Бога и ищут виновных. Наверное, это не правильно. Но наука, справившаяся с чумой, теперь бессильна. Ее просто нет. И людям не остается ничего другого, как искать защиты и спасения у высших сил, про которые тоже не известно, есть они или нет. Такая вот история: науки нет, Бога нет. Ничего нет. Есть только мы, больные, злые, глупые люди. Кучка мародеров. Если так будет и дальше, мы вымрем. Человечество вымрет. Совсем…
— Давайте остановимся, — свесившись в люк, перекрикивает рев двигателя Цапко.
Он уже в пятый раз предлагает поговорить. Но люди, сидящие внутри тягача, не хотят ничего обсуждать. Бабай, притулившись на скамейке в десантном отсеке, уперся лбом в сложенные на коленях руки и, похоже, дремлет. Хал чистит автомат. Он уже час натирает детали оружия, елозит шомполом с намотанной на конце промасленной тряпочкой в стволе, полирует затвор. И молчит.
Ник, сидящий на командирском сидении, не отрывая глаз, смотрит вперед. Юсупов рвет рычаги, ведя МТ-ЛБ по берегу старого русла Волги. Эн вместе с псом — наверху. Цапко даже не пытается обращаться к девушке — она плачет. Зарывшись лицом в густую шерсть Камила, время от времени Эн вскидывает голову, и фельдшер видит ее залитое слезами лицо.
Подминая под днище ивовые кусты, тягач выползает на край заболоченной протоки. В небо взлетает потревоженная стая уток. Шелестят камыши. Юсупов глушит двигатель. Наступает тишина, нарушаемая лишь звоном комаров, жужжанием слепней и кваканьем лягушек.
— Вылезайте! — кричит инженер. — Устроим эта… пикник.
Хал в ответ громко матерится. Матерится в том смысле, что вертел он на одном месте пикник, Юсупова и вообще всё и всех.
Цапко первым спрыгивает в густую осоку. Под ногами фельдшера сочно чавкает болотина. Камил, лизнув Эн в мокрую щеку, уносится в заросли тростника. Грохочет откинутый люк — Ник выбирается на броню, недовольно смотрит на всех, кладет рядом с собой автомат.
Бабай открывает дверцу десантного отсека. У него отекшее лицо, на лбу отпечатался рисунок ткани с рукава камуфляжа.
— Рука болит, — глухо произносит он.
— Мы не можем их так бросить! — в отчаянии говорит Цапко. — Они же все умрут! Без соблюдения элементарных карантинных норм через пару дней эпидемия охватит весь город, понимаете?
— И что ты предлагаешь? — Ник сверху вниз смотрит на фельдшера. — Пробраться ночью в Цирк, убить Монаха, остальных связать…
— Не городи ерунды! — взрывается Цапко. — Уже поздно. Теперь спасти людей может только помощь извне. Ну не может же быть, чтобы на всей Земле всё — так же, как у нас. Нам нужны специалисты-эпидемиологи, а главное — вакцина! Противочумная вакцина, понимаете?
— Да что ты заладил, как попугай: «понимаете», «понимаете»? — рычит Юсупов. — Не дурнее тебя. Где ее взять, эта… вакцину? Связи нет, месяц прошел, а никто не прибыл нас спасать. Всё, это всё. Мы можем только эта… сбежать.
— А здесь, в Казани, были запасы вакцины? — дрожащим голоском спрашивает Эн.
— Раньше были. — Цапко садится прямо в траву. — Но срок годности… Все давно пропало, испортилось.
— А где были-то? — неожиданно вмешивается Хал. — В аптеках, что ли, блин?
— Почему в аптеках? — Цапко срывает травинку, режется об острый край листа и сует окровавленный палец в рот. Не вынимая его, он невнятно произносит: — У экабэ ханиища…
— Чего? — вдруг кричит Юсупов.
Сорвавшись с места, он подбегает к фельдшеру, хватает его за плечи, вздергивает на ноги. Вытащив палец изо рта, Цапко слегка испугано повторяет:
— В РКБ хранилища. Там были запасы сухих вакцин на случай массовых заражений. И противочумная была…
Ник спрыгивает на землю, забыв про автомат.
— Вилен, а ведь это шанс! — говорит он.
— А, ты тоже эта… понял? — улыбается инженер.
— Что понял-то? Что? — таращится на них Цапко.
— Время, братан! — скалит зубы в довольной усмешке Хал и хлопает его по плечу. — Время не властно над истинными ценностями, блин.
К полудню небо над городом заволакивает тучами. Иссиня-черные снизу и грязно серые наверху, тучи похожи на туши гигантских обитателей моря — кашалотов, странным образом вознесшихся ввысь. Они плывут в сомкнутом строю, голова к голове, опускаясь все ниже и ниже. Нику кажется, что вскоре город будет раздавлен этой массой. Чувствуя себя ничтожным, крохотным, он с внутренней дрожью отводит глаза от неба. Нервы, это просто нервы. Нужно собраться, сосредоточиться на главном. Тучи, ветры, дожди, снега — природа все равно возьмет свое. У людей другие задачи, другие дела и заботы.
Сейчас главное — РКБ. Республиканская клиническая больница. Комплекс многоэтажных зданий, окруженный перелесками, полями, жилыми кварталами. И золотистыми стенами, за которыми привычный мир сходит с ума. Они побывали только за первой стеной, внутри первого слоя, но и этого хватило, чтобы навсегда отбить охоту соваться туда. Теперь нужно идти дальше, глубже — за вторую, третью, пятую, десятую — сколько бы их там не было! — стену.
Ник предпочитает не думать о том, что ждет их там, в глубине этой странной территории. Лучше туши облачных кашалотов, лучше мысли о том, что будет, когда они добудут вакцину, лучше мучительная надежда на спасение, чем безнадежные мучения — мы не дойдем, золотистый туман сожрет нас, поглотит, перемелет кости и даже памяти не останется о горстке безумцев, дерзнувших сунуться в место, куда по своей воле не пойдет ни один здравомыслящий человек.
Тягач с натугой ревет на подъеме. До знакомого пустыря возле улицы Фермы-2 осталось совсем чуть-чуть. Где-то за деревьями, слева — сгоревшие корпуса и казармы Танкового училища. Ник на мгновение чувствует стыд — зря сожгли, теперь там можно было бы сделать базу, чтобы вернуться после всего.
И тут же холодный и злой внутренний голос говорит: никогда не жалей о том, что уже сделано. Не жалей, потому что все равно невозможно ничего исправить.
А еще Ник понимает: нельзя сейчас думать про «после всего». Главное — сделать дело, добыть вакцину. Если за золотистыми стенами время не властно над вещами, у них есть шанс. Не «Второй шанс» Монаха, а просто один-единственный шанс спасти людей. Это сейчас главное. Основное. Единственное.
Удар по спине едва не сбрасывает задумавшегося Ника с брони. Тягач резко останавливается, качнувшись вперед. Сжав автомат, Ник рывков перекидывается на нос машины и сталкивается с Халом.
— Филатов! — орет Хал и машет рукой вперед.
Там, на опушке небольшого леска, скорее даже рощицы, окружающей кварталы бурых многоэтажек, выстроенных к Универсиаде тринадцатого года, действительно стоит человек в плаще, с вилами в руках и рюкзаком за плечами. У него красное, мокрое лицо. Он машет рукой, привлекая к себе внимание. Рыкнув, двигатель тягача умолкает. Камил спрыгивает с брони и бежит по густой траве к Филатову.
— У нас мало времени! — издали предупреждает Ник. — Что случилось? Откуда вы вообще здесь взялись?
— Я… — Филатов тяжело дышит, со свистом втягивая ртом воздух. Обычная выдержка изменяет ему, он взволнован. — Я очень торопился… Фу-ух… Извините… Мне надо вам сказать…
Ник подходит ближе. Камил усаживается поодаль, не сводя внимательных глаз с Филатова. Эн, Бабай, Хал — все уже здесь. Юсупов и Цапко стоят возле тягача.
— Ну, Филатов! — подбадривает человека в плаще Бабай. — Не томите, нам и вправду некогда.
— Вы ведь… Вы идете в червоточину, да? — не то спрашивает, не то утверждает Филатов. — Так вот…
— Погодите, — качает головой Бабай. — Что еще за червоточина?
— Область с измененными…. Искаженными… — Филатов никак не может восстановить дыхание и от этого злится. — Не перебивайте меня! — вдруг кричит он, втыкает вилы в землю и садится, привалившись спиной к ближайшему морщинистому стволу. — Это очень важно… Очень… На второй день после… после пробуждения я был здесь… Фу-ух… Дайте воды, моя вся вышла.
Хал кидает Филатову бутылку. Запрокинув голову, тот пьет — струйки стекают по щетинистому подбородку, по морщинистой шее.
Напившись, Филатов закручивает синюю крышечку, не глядя ставит бутылку в траву, проводит ладонью по лицу, виновато улыбается.
— Ох, такие марш-броски уже не для меня. Так вот — на второй день я осматривал территорию вокруг Академии тенниса. И встретил человека… Он был одет в такой серебристый костюм… Знаете, видели, наверное, в кино — их носят в лабораториях, где необходимо поддерживать режим стерильности. Человек был стар, очень стар — даже белки глаз у него пожелтели, причем мне показалось, что старение его организма произошло очень быстро. Он еле стоял на ногах и почти ничего не слышал, оглох. Мне кажется, он был немцем, по крайней мере, говорил он по-немецки. Я почти не знаю этого языка, а он не понимал по-русски. Поэтому общались мы на таком пиджинг-инглиш… Фу-ух, я еще попью, извините.
Все терпеливо ждут, когда Филатов утолит жажду. Камил зевает, ложится рядом с Эн и кладет голову на передние лапы. Ник мимолетно завидует псу — у собак все просто: выбрал хозяина и все, думать не надо, дальше твоя жизнь всецело зависит от него.
— Человек в серебристом костюме сказал, что его зовут Вольфганг, как Моцарта, — продолжает свой рассказ Филатов. — Еще он сказал, что пришел из червоточины…
— Откуда? — не понимает Хал.
— Червоточина… Это там, куда вы собрались. — Филатов указывает в сторону РКБ. — Золотой туман, слои, мерцающие стены. Вольфганг назвал этот объект червоточиной. Он объяснил мне, что их много, они покрывают всю планету. Это зоны искаженной физической реальности. Там, за стенами, внутри слоев, что-то случилось с привычными для нас законами физики. В его рассказе было очень много терминов, я, к сожалению, почти ничего не понял. Но это очень опасно, понимаете? Там… — снова следует жест рукой в сторону РКБ, — можно погибнуть за долю секунды. Вольфганг особо отмечал седьмой слой, окружающий центр червоточины. Он сказал: «Седьмой слой убил меня». А потом он умер.
На опушке рощи воцаряется тишина. Слышно только, как крепчающий ветер рвет листву с деревьев на той стороне пустыря да потрескивает в тягаче остывающий двигатель.
— Это всё? — спрашивает Ник.
— Не совсем… — Филатов твердо смотрит ему в глаза. — Вольфганг сказал еще, что если кто-то решит пройти через четвертый слой червоточины — и дальше, — необходим разряжающий контур. Что-то вроде вот этого… — Следует кивок в сторону воткнутых в землю вил. — Чтобы сбрасывать напряжение темпорального поля.
— Какого поля? — переспрашивает Юсупов.
— Темпорального. Так он сказал. Это как-то связано со временем. Грубо говоря, анод в одном слое, катод — в другом. Их надо замкнуть. Иначе всё, смерть…
— И с тех пор вы ходите с вилами? — усмехается Ник.
— Я нашел их вечером того же дня, когда возвращался в центр города. Помните, мы встретились возле Дома Кекина?
Ник кивает.
— Помним. Но на кой черт вы таскаете с собой вилы везде и всюду, если не ходите в эту…
— Вольфганг сказал, что червоточина может начать расти, что она нестабильна, — не дав ему договорить, торопливо произносит Филатов. — Правда, пока этого не произошло, и возможно, уже не произойдет.
— Он что-то не договаривает, — холодно говорит Эн таким тоном, как будто Филатов сейчас где-то далеко и не слышит ее.
— Я тоже так думаю, — соглашается с ней Юсупов. — Какая-то эта… своя игра.
Бабай, тяжело сопя, делает несколько шагов, выдергивает из земли вилы, взвешивает в руке.
— Контур, едрит-трахеит… — бормочет он. — Обычные ржавые вилы. Слышишь, друг любезный, а чего ж ты раньше-то молчал?
Филатов поднимает на него свои прозрачные глазки, кривит тонкие губы. Ник чувствует волну чистой, слепящей ярости, поднимающуюся изнутри. Такое с ним уже было во время ночного штурма Кремля. Вскинув автомат, он подходит к сидящему Филатову, тихо, но очень отчетливо произносит:
— Или вы сейчас рассказываете нам всё…
— Или что? — в скрипучем голосе Филатова проскальзывают саркастические нотки. — Вы меня убьете? Рекомендую стрелять вот сюда, в затылок — это гарантированная, без мучений, смерть. Быстро и четко.
Ник смотрит на потный лысоватый затылок Филатова, по которому тот только что постучал собранными в щепоть пальцами. Злость проходит. Остается только решимость.
— С чего вы взяли, что нам подходит такой вариант — «гарантировано, без мучений»? — усмехается Ник.
— Да прекратите вы! — не выдерживает Цапко. — Устроили телесериал «Братва против Бешеного». Филатов, вы были в червоточине? В РКБ? Туда можно пройти? Там, правда, всё осталось таким, как было тридцать лет назад? Мы сумеем достать вакцину и другие лекарства?
— Да, — коротко отвечает Филатов.
— Что «да»? — не понимает фельдшер.
— Всё «да». Я был в червоточине, дошел до пятого слоя и еле спасся. Не спрашивайте меня, от чего. Этого… этого не объяснить. Нужно увидеть и почувствовать самому. Но в РКБ действительно есть запасы противочумной вакцины и другие медикаменты — я это знаю. И они действительно не подверглись разрушительному действию времени.
— Ну почему из вас все нужно тянуть как клещами! — раздраженно кричит Эн.
Камил вскидывает голову и недовольно ворчит: ему не нравится, что его хозяйка говорит таким голосом, и он готов броситься на ее защиту.
— Я и так сказал гораздо больше, чем следовало, — устало говорит Филатов. — Что вам еще надо? Вот контур… то есть вилы. Повторяю: без них за четвертый слой лучше и не соваться. Где медикаменты, вы знаете. На всякий случай возьмите карту. Это обычная карта города. Осторожно, она очень ветхая. Что ждет вас в червоточине — этого никто не знает. Всё, я свое дело сделал…
— Какое дело, блин? — вступает в разговор Хал. — Ты вообще кто? Ну, по жизни? Колись давай, блин. На фига тебе все это?
Филатов усмехается. Сует узкую ладонь за обшлаг плаща, словно хочет что-то достать оттуда, но в последний момент передумывает, чешет впалую грудь и поднимается на ноги.
— Неужели вы еще не поняли? — говорит он своим обычным скрипучим голосом. — Есть такая профессия… Всё про всё знать. Прощайте.
Резко развернувшись, он уходит. Шум ветвей заглушает его шаги. Ник с Халом переглядываются, Камил вопросительно смотрит на Эн, готовый броситься вдогонку.
— Чуть не забыл, — доносится из рощи голос Филатова. — Вольфганг сказал еще, что все червоточины разные, и что некоторые из них связаны между собой! Но это…
Ослепительная молния рвет небо. Последние слова Филатова тонут в громовых раскатах. Ливень падает сверху, тонны воды обрушиваются на деревья, траву, людей.
Чертыхаясь, все бегут к тягачу, лезут внутрь.
— Ну, и чё теперь? — спрашивает Хал, заботливо стирая дождевую воду с автомата.
— Всё то же, — флегматично отвечает Бабай, разглядывая карту города, которую передал ему Филатов.
Юсупов заводит тягач и практически наугад ведет машину сквозь потоки воды к границе первого слоя червоточины. Ник ловит взгляд Эн, ободряюще улыбается, но так и не дожидается ответной улыбки.
Глава четвертая
Темнота, плотная, вязкая, непроницаемая для звуков. Черный туман. Мрак. Мгла. И при этом — косые лучи света, падающие откуда-то из-за деревьев. Они рассекают пространство впереди на неровные сегменты, режут на куски, расчерчивая тьму узкими, ослепительными линиями.
Свет не смешивается с чернотой, не освещает, не высветляет ее, но при этом слепит глаза не хуже электросварки.
Где-то капает вода.
Ник делает несколько шагов, притормаживает. Позади слышно шарканье ног. Или это эхо его собственных шагов? Чтобы понять, нужно остановиться, прислушаться. Но останавливаться нельзя. Земля сразу начинает шевелиться, засасывать, втягивать в себя. Внизу — как будто смола, твердая, если топнуть, но мягкая и податливая, если просто стоять.
Где-то капает вода.
— Эй! — кричит Ник. — Кто здесь?
Тишина. Наверху — ничего. Ни звезд, ни облаков, ни Луны. Просто тьма. Надо идти. Надо поскорее преодолеть этот кажущийся бесконечным отрезок пути. Ближайшая полоса света приближается. Шаг, другой — и Ник зажмуривает глаза от нестерпимого сияния. Но любопытство — или страх неизвестности? — пересиливают, и он приподнимает веки.
Солнце. Оно висит в безоблачном небе. Щебечут птицы. Качает ветвями старая липа. Под ногами — трава. Обычная, сорная трава — одуванчики, подорожник, мятлик. Справа — бензозаправка за ядовито-зеленым цементным забором. На заборе граффити — изображение улыбающейся рожицы и наползающие друг на друга буквы «smile», выполненные в обычной манере уличных художников. Слева — дорога, новенький рекламный щит с предложением покупать газонокосилки какой-то немецкой фирмы и деревья.
Ник смотрит вперед. Там колышется уже знакомая золотистая пелена. Третий слой. Сквозь него просматриваются сверкающий синими стеклами павильон автостанции и больничные корпуса. До них вроде бы рукой подать, но это только кажется — судя по карте, которую вручил им Филатов, до РКБ еще топать и топать.
Шаги позади звучат все отчетливее. Кто-то идет за ним. Идет и молчит. Кто это? Юсупов, Хал, Эн, Цапко? Но они остались там, возле тягача, у золотистой стены, отгораживающий этот невозможный мир от мира нормального, если можно называть нормальным первый слой червоточины, слой, в котором всего лишь звучат звуки умершего города.
Где-то капает вода.
Солнечный свет меркнет. Снова мрак. Переход такой резкий, что Ник невольно разводит руки в стороны, чтобы не потерять равновесия и не упасть.
Шаги все ближе. Нику становится страшно. Где он? Что происходит? Он резко оборачивается и видит, как полосу света пересекает чья-то размытая тень. Это тот, кто идет за ним.
— Стой! Ты кто? — крик вязнет в темноте, слова звучат глухо, незнакомо, словно их произнес кто-то другой.
Ноги вязнут, приходится вытягивать их и идти дальше. Нет, не идти — бежать! Быстро бежать прочь от этих шагов, от тьмы, от света, от невозможной жути. Бежать, как бегут от хищников звери, как бегут дезертиры на поле боя, спасая свои жизни.
Где-то капает вода.
Ник снимает с плеча автомат. Он знает — бежать нельзя. Неизвестно, что ждет его впереди. Один поспешный шаг, неверное движение — и всё, конец. Какая-нибудь яма без дна, вроде той, в которую провалился Бабай, каменные иглы, плазменные шары, живые деревья, мягкие стены, падающие бетонные плиты…
Ник вспоминает, как погиб Бабай. Он шел первым, ощупывая дорогу филатовскими вилами. Шел и говорил что-то об усталости, о том, как ему все надоело. Еще успел сказать про дом, который хочет построить на берегу Волги, на холме. А потом резко залаял Камил, и Бабай исчез — только бурьян зашумел. Они бросились вперед и застыли на краю круглой дыры метра три в диаметре. На дне ее колыхался фиолетовый кисель. Из киселя торчал черенок вил. Хал ухватился за него, дернул, но что-то вырвало вилы из его рук и утянуло вниз.
Они кричали, совали в яму ветки, потом Юсупов сбегал и подогнал тягач. Буксировочный трос ушел в кисель весь, целиком и повис, не достав до дна. Тогда Ник кинул туда камень. Звука удара никто не услышал. После этого он велел всем оставаться у машины и двинулся на разведку…
Затвор автомата лязгает с таким звуком, как будто это челюсти фантастического робота-трансформера из старого фильма. Ник поворачивается, поднимает оружие.
— Стой! Назовись! Буду стрелять!
Шаги умолкают.
Где-то капает вода.
Ник начинает пятиться — ноги опять засасывает. Задрав ствол в воздух, он нажимает на спусковой крючок. Звук выстрела бьет по ушам, голова отзывается нестерпимой болью. Гильза с отчетливым чавканьем поглощается ожившей землей.
— Следующий выстрел — на поражение! — чеканит Ник, морщась — в висках бьют кузнечные молоты.
Тихо.
Почти.
Где-то капает вода.
Ник поворачивается и прибавляет шаг. Вторую полосу света он проходит с закрытыми глазами — и снова слышит позади шарканье.
Идет. Этот неизвестный все так же идет за ним. Он не испугался выстрела и грозных окриков, он не свернул, не отстал. Он преследует Ника. Гонится за ним. Надо стрелять. За прожитое в этом новом мире время Ник хорошо понял, буквально печенкой уяснил простое правило, закон неизбежности: стреляющий первым остается живым.
Но Эн, остальные? Вдруг это все же они, вдруг проклятая червоточина играет с ним, как с котенком, подставляя друзей? Сейчас он выстрелит — и всё…
— Сволочь! — Ник чувствует, что сейчас заплачет, заревет, как в детстве — от обиды, от безысходности, от неумения принять правильное решение.
Сжав автомат двум руками, он бежит туда, где капает вода — наобум, наугад, уже не думая об опасности.
Свет, тьма, свет…
Резко остановившись, Ник оглядывается. Это совсем другое место. Нет, золотистое сияние, павильон автостанции и корпуса РКБ никуда не делись, вон они, впереди. Но вокруг теперь пустырь, заросший чертополохом и лопухами. В стороне, в нескольких метрах — бетонная плита и ржавый канализационный люк посредине. Ник подходит, ногой пробует плиту — твердая. Встав на нее, он опускается на одно колено, как учили в армии, вскидывает автомат и ждет.
Где-то капает вода.
— Никитос! — звучит буквально над ухом.
Голос странный, полузнакомый. Голос из прошлого. Ник вертит головой.
— Здорово, братуха!
Человек стоит в двух шагах от него. Ник опускает автомат, потому что это — Борька Сотников.
Борян. Баркас. Друг детства, верный корешок, с которым съеден не один пуд соли. В голове Ника проносятся воспоминания.
Первый класс, первый день. Старая двухэтажная школа номер четыре, класс на втором этаже, учительница Нелли Егоровна. Знакомство с Борькой происходит на перемене. «Ты откуда? С Четвертой Советской, а ты? С Трилиссера. А у меня отец летчик. А у меня шофер. Он меня на машине катает. А меня на самолете. Врешь! Сам ты врешь!» Короткая драка, примирение.
После уроков Ник и Борька идут изучать школьную территорию и находят в траве у забора мертвого голубя. Сразу решают — птицу надо похоронить. Отправляются к сторожу за лопатой. Лопату надо украсть. Это настоящее приключение, опасное и захватывающее дух. Голубя хоронят уже в сумерках. Лопату прячут в кустах. Грязные, голодные, но довольные, идут к школьным воротам. А там мечутся потерявшие голову матери, так и не дождавшиеся после уроков своих первоклашек.
Нагоняй они получают по полной — с криками, с подзатыльниками. С этого и начинается их дружба. Сколько потом всего было! Рогатки, самострелы, костры на стройках, драки с пацанами из тридцать первого дома, мороженое, поездка на грузовике Борькиного отца, закончившаяся столкновением с мусорным баком…
— Привет, Борян! — улыбается Ник.
Борька подходит ближе. Он все такой же — белобрысый, загорелый, с крупными руками. Костяшки пальцев на правой ободраны. Ник помнит — почему. Салтыков из девятого «А» отнимал у младшеклассников деньги — зажимал в туалете и заставлял отдавать все, что есть. Борьке сказал об этом зареванный пацан со двора. Когда они вошли в туалет, Салтыков курил, поставив ногу в яркой кроссовке на подоконник. Борька врезал ему только один раз, попал по зубам — Салтыков как раз со смехом рассказывал, какой он ловкий и умелый добытчик.
Потом был педсовет, праведный гнев директрисы, округленные глаза завуча: «Вы что, мальчик идет на медаль, его папа уважаемый человек, депутат городского собрания. Сотников, Проскурин, вам не стыдно? Избить вдвоем своего товарища! Обвинить его в ужасном преступлении — грабеже! — безо всяких доказательств…» И так далее и тому подобное.
Ник тогда жалел только об одном — что сам не успел навалять Салтыкову…
— Ну, ты как? — спрашивает Борька и улыбается.
— Да так… — пожимает плечами Ник. — Вроде ничего. А ты?
— Тоже в поряде, — смеется Борька.
Он и впрямь такой же, каким был весной две тысячи седьмого. Через три дня после истории с Салтыковым Борька поехал с отцом на охоту. Большая компания, взрослые мужики, опытные и умелые таежники. И — нелепый, глупый, идиотский случай. Раз в году и палка стреляет. Борька вечером забыл вытащить патроны из ружья, случайно нажал на спуск… Хоронили его в закрытом гробу — заряд картечи попал в лицо.
Они смотрят друг на друга и улыбаются. Говорить не нужно. Да и не о чем. Ник понимает, что Борька знает о нем всё. Там, где он сейчас, все всё про всех знают. Как Филатов. А о Борьке никакой новой информации не появилось, это понятно. Впрочем, нет, один вопрос у Ника все же есть.
— Это ты шел за мной? — спрашивает он, усевшись на нагретый бетон.
— Нет, — мотает головой Борька. — Зачем? Я всегда тут.
— А кто тогда?
— Твоя тень.
— Тень? Разве тень может ходить отдельно?
— Здесь — может.
И тогда Ник задает второй вопрос:
— Борян, а где мы сейчас?
Друг детства улыбается, показывая чуть кривоватые передние зубы. Улыбка застенчивая, словно бы извиняющаяся.
— А ты разве еще не понял?
Треск под ногами, сухой и какой-то скрипучий. Ник теряет равновесие, роняет автомат и летит спиной вниз в темноту. Удар, вспышка боли между лопатками и в пояснице. Рядом падают куски бетона, гулко хлопает о землю, поднимая едкую пыль, крышка люка. Последним приземляется автомат и бьет Ника прикладом по голове. Перед глазами вспыхивает фейерверк, руки и ноги становятся ватными. Ника рвет. Спазмы терзают желудок, выворачивают его наизнанку. Наконец, неожиданный приступ проходит. Отдышавшись, Ник встает на четвереньки и поднимает голову. Он — на дне какого-то квадратного помещения, находящегося ниже уровня земли. Сверху, через рваную дыру, сочится обычный дневной свет. Пыльно, грязно, кругом ржавые трубы, вентили, обросшие плесенью. Из трещины в трубе капает вода.
Капает вода.
Капает вода…
Ник теряет сознание.
Это очень странно — смотреть на себя со стороны, одновременно понимая, что ты не можешь этого сделать, потому что лежишь на спине в техпомещении старой теплострассы. И тем не менее, Ник видит свое тело, лицо, поросший короткой щетиной подбородок — после победы над Асланом он сбрил бороду, но вот опять оброс, — мешковатый комбез с камуфляжными разводами, грязный автомат, подошвы армейских ботинок, тоже очень грязные… Где же он умудрился найти столько грязи, наверху же вроде было сухо? Или это только иллюзия, что сухо, а на самом деле он шел по болоту, потому и ноги вязли, потому и грязь…
Надо встать. Надо выбраться отсюда и идти дальше. В общине, в городе умирают люди. Виной тому чума, жуткая гостья из прошлого. Нужна вакцина и лекарства. Только он…. Только ты… Только я могу добыть ее. Голова трещит. Черт, как же трещит голова!
Бах! — ослепительный шар вспыхивает перед глазами Ника, видение исчезает. Он снова чувствует свое тело, скрученное болью — руки, ноги, позвоночник. Боль засела там, ржавым дрыном пронзив его от лопаток до крестца.
Со стоном Ник шевелит руками, пытается сесть. Это удается, не с первой попытки, но он все же садится, нашаривает автомат. Теперь нужно встать. Цепляясь за мокрую, ржавую задвижку, он кое-как поднимается на ноги. Боль терзает спину, но это ничего, это даже хорошо. Раз он чувствует ее, значит, позвоночник цел, не сломан.
Проломленная бетонная плита над головой, через дыру льется солнечный свет. Кричать бессмысленно — никто не услышит. Выбираться придется самому. Всегда, всю жизнь вот так: рассчитывать нужно только на себя. Это правильно. Это честно. Ник выбрасывает автомат в дыру, хватается за острые края и упирается ногой в задвижку. На мгновение ему кажется, что сейчас он сорвется и опять полетит вниз, но страх вновь удариться спиной оказывает стимулирующее воздействие на мышцы — рывком выдернув себя наверх, Ник громко кричит от боли, распластавшись на теплом бетоне. Ноги свисают в дыру, но это ерунда, главное, что сам он уже наверху.
Все, дело сделано. Что дальше? Филатов говорил про разрядный контур. Вилы исчезли вместе с Бабаем. Без них не пройти к центру червоточины. Или все-таки… пройти?
Ник вспоминает картину из школьного учебника по литературе. Витязь на распутье. Витязь… Какой он к черту витязь! Так, заплутавший путник, не герой, не злодей, просто щепка в мутном потоке бытия. У щепки не бывает своей воли. Она плывет туда, куда ее несут вреющие воды. Вреющие воды — это из какой-то книжки. Вреющие означает — бурные, мутные.
Припекает солнце. Становится жарко. Конец августа — или уже сентябрь? — а жара, как в июле. Сейчас бы искупаться. Окунуться с головой в прохладную морскую воду, забыть обо всем. И чтобы боль в спине отступила. И чтобы не думать ни о чем, как в детстве. Просто лежать на горячем песке с закрытыми глазами, чувствовать, как капельки воды высыхают на коже, слышать, как гомонят и визжат малыши в полосе прибоя, как лениво переговариваются где-то под соседним зонтиком взрослые. И чтобы отец принес мороженое и бутылку кваса. Июль — это середина каникул, макушка лета, до школы еще далеко…
Резко вскинув голову, Ник испугано озирается. Кажется, он задремал, распластавшись на теплом бетоне. Похоже, тело таким образом выпросило у мозга передышку. Но это ничего не меняет. За июлем всегда приходит август, за ним сентябрь — и неизбежная школа. Неизбежность — вот главное слово. Ник растягивает потрескавшиеся губы в злой усмешке. Кого он пытался обмануть? Себя? Это невозможно. Нужно принимать решение. Вековечные русские вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?». На первый он обязательно найдет ответ, не сейчас, когда-нибудь потом. А второй требует ответа прямо сейчас.
Что делать? Идти вперед, к четвертому слою? Но Филатов сказал, что без разряжающего контура дальше третьего слоя не пройти. Получается, что Ник должен возвращаться обратно, через полосы света и тьмы, мимо Борьки, разгуливающего где-то там, мимо собственной тени, мимо…
— Нет, — шепчет Ник. — Ни шагу назад… Только вперед!
Опираясь на автомат, как на клюку, он поднимается. Вот он, следующий слой — стена густо-медового цвета колышется совсем рядом. Ник делает шаг, другой, третий — и исчезает за переливающейся завесой…
Вроде бы ничего не меняется — та же трава, тот же зной, то же раскаленное солнце в зените. Ник оглядывается. Он в третьем слое. Над головой пролетает пара голубей. Где-то совсем рядом заводит свою вечную как мир песню кузнечик. Интересно, кузнечики существовали на Земле еще в эпоху динозавров, когда не было не то что людей, а вообще — млекопитающих. И тогда они тоже вот так трещали в траве и замолкали, когда мимо проходил какой-нибудь велоцераптор или диплодок. Спустя какое-то время людей не станет — а кузнечики останутся.
— Какое-то время, — бормочет Ник и делает шаг. — Возможно, очень скоро. Совсем скоро…
Пройдя метров сто, он понимает, что граница четвертого слоя совсем рядом. Чем ближе к центру червоточины, тем слои становятся уже. Простая геометрия, концентрические окружности. Впрочем, слои не имеют четкой формы, они скорее похожи на неровные овалы. Размышляя над формами и содержанием, Ник добредает до четвертого слоя. Стена, отделяющая его от третьего, кажется очень плотной. Сквозь нее почти ничего не видно, особенно вблизи. Золотое пламя стекает сверху вниз, как вода по стеклу. Ник смотрит на землю в том месте, где с нею соприкасается стена. Там, в траве, что-то еле слышно шипит, и стебли мятлика шевелятся сами по себе, как будто их колышет легкий ветерок. Вот только никакого ветерка нет и в помине. Стоит абсолютный, полный штиль.
Неожиданно Ник вспоминает, где он видел золотистый мятущийся огонь, из которого сложены стены червоточины.
За секунду до пробуждения это пламя стояло у него перед глазами.
Задрав голову, Ник смотрит вверх. Мысли о том, что до центра червоточины можно добраться по воздуху, уже приходили ему в голову. Стена первого слоя не имеет верхней границы. Она просто растворяется где-то наверху, теряет цвет, сливается с воздухом. Стена второго слоя вроде бы чуть-чуть загибается внутрь. У третьей это загиб просматривается совершенно четко, но в пятидесяти метрах от стены он истончается и исчезает.
Четвертая стена — это и не стена вовсе. Ник ясно видит, что перед ним — овальный купол полукилометрового примерного диаметра. Внутрь этого купола, как в матрешку, вложены купола поменьше. Сосчитать их сложно, мешает золотистое пламя, но Нику удается разглядеть внутри шестого слоя главный корпус РКБ с красными буквами на крыше: «Республиканская клиническая больница».
Он снова смотрит вверх. Да, вариант с перелетом отпадает. Наверняка и под землей то же самое. Слои этой червоточины — сферы, окружающие центр. Физики всего мира жизни бы, наверное, отдали, чтобы узнать, что там, в этом центре. А он, Никита Проскурин, знает — там вакцина и лекарства для тысяч людей. Все остальное его не интересует.
Потоптавшись у границы четвертого слоя, Ник с тоской оглядывается. Вилы потеряны и теперь нужна какая-то скоба, железяка, чтобы сделать этот самый разряжающий контур. Нику очень не нравится шевелящаяся трава и тихое шипение. Такое шипение бывает в неисправных розетках, когда там нет хорошего контакта. Розетка греется, пахнет паленой изоляцией, а потом вдруг, неожиданно — бах! — и короткое замыкание.
Чуть нагнувшись, Ник прислушивается к ощущениям. Спина отзывается на движение вспышкой боли, но эту боль можно терпеть. Значит, пришло время экспериментов. Для начала надо попробовать с деревом. Доковыляв до ближайших кустов — кажется, это вездесущая акация, — Ник одним взмахом штык-ножа вырубает длинную гибкую ветку. Зажав ее под мышкой, он идет дальше, туда, где траву рассекает асфальтовая дорожка. Она совсем свежая, видимо, асфальт клали за несколько недель до катастрофы. Дорожка описывает кривую и уходит за стену. Там, где граница слоя соприкасается с асфальтом, Ник видит черную полосу, чувствует характерный запах. Асфальт здесь кипит, знакомее шипение чуть громче.
— Ну, с Богом, — машинально шепчет Ник и кидает ветку с таким расчетом, чтобы часть ее оказалось за стеной.
Ничего не происходит. Вообще — ни-че-го. Ветка ложится на асфальт. И лежит. Подождав на всякий случай несколько минут, Ник, чертыхаясь — все же спину дерет, словно раскаленным железом, — нагибается, выдергивает ветку и внимательно разглядывает ее.
Вроде бы ветка осталась такой же. Вроде бы ничего не изменилось. Но это только на первый взгляд. При внимательном осмотре Ник замечает: кора на той части, что побывала за стеной, стала светлее, листочки уменьшились.
— Темпоральное поле, — произносит он вслух. — Темпо — это значит время…
Позади, чуть в стороне от дорожки, ведущей на забитую автомобилями стоянку, из травы торчит толстая арматурина с приваренной к ней и выкрашенной в желтый цвет табличкой. Обычной такой табличкой с грозной надписью: «Не копать! Кабель!» Ник идет туда, начинает раскачивать арамтурину. Вскоре ему удается вытащить ее из земли. Очень жарко. Хочется пить. Пот ест глаза, солнце по-прежнему в зените. Волоча табличку за собой, Ник бредет к стене. Автомат он оставляет в траве. Испачканный землей ржавый конец арамтурины дребезжит по асфальту, оставляя за собой длинную светлую царапину.
У Ника не остается сил на какие-то осмысленные действия — он просто бросает табличку через стену, так же, как ветку пять минут назад. Желтая железка наискось падает на асфальт. Тот конец арматурины, что был в земле, оказывается за стеной. Резкий хлопок, шипение усиливается, золотистое пламя стены прорезает красивая сиреневая молния, за ней следует вторая, третья…
Взрыва Ник не слышит — его просто отбрасывает назад. Бормоча ругательства, он с трудом поднимается на ноги и видит дымящуюся табличку, торчащую из травы. Желтая краска обгорела, от надписи «Не копать! Кабель!» не осталось и следа.
— Сволочь! — говорит Ник золотистой стене.
И видит человека. Какой-то мужчина в военной форме стоит по ту сторону, внутри четвертого слоя. Стоит — и смотрит на Ника. От незнакомца исходит угроза. Он явно появился там после глупого эксперимента с табличкой. Как будто сработала сигнализация, и часовой вышел посмотреть, в чем дело.
Пошарив глазами, Ник видит в траве свой автомат и бросается к нему. Бросается — это, конечно, громко сказано. Он пытается бежать, но спину скручивает болью, и бег превращается в такое обезьянье ковыляние на получетвереньках. Тем не менее. Ник добирается до автомата, тяжело дыша, дергает затвор и поднимает оружие наизготовку. С автоматом сразу становится спокойнее, появляется уверенность, страх прячется куда-то в специальный уголок мозга, туда, где ему и положено быть.
Сквозь дрожащее марево стены Ник видит, что загадочный часовой тоже изготовился к стрельбе. Между ними — метров сорок. И стена света. С такого расстояния трудно промахнуться. В голове Ника стаей проносятся мысли. Центр червоточины обитаем, надо стрелять первым, это не дуэль, тут не до приличий и законов чести, а может быть, все же попробовать поговорить? Интересно, что произойдет с пулями, когда они пробьют стену? На звуки выстрелов наверняка прибегут другие военные. Почему Филатов ничего не сказал про них? Он же просто заманил нас в ловушку, точно, это ловушка…
Палец, дрожащий на теплом спусковом крючке, словно бы сам собой сгибается.
Выстрел!
Уже не мысль, а так, ее мимолетный контур: я не перевел флажок на автоматическую стрельбу.
Второй выстрел!
Тот, военный за стеной, тоже стреляет. Пуля взвизгивает где-то рядом, чуть выше головы Ника. Он большим пальцем наконец-то перещелкивает злосчастный флажок и дает очередь, крепко вжав приклад АКМ в плечо. Нервы, боль в спине, усталость — ствол ходит ходуном, и все усилия Ника пропадают втуне. Его противник за стеной даже не пытается уклониться, спрятаться — продолжает вести ответный огонь, стоя во весь рост под пулями.
И тоже не попадает. Пули с глухим чавканьем входят в землю, парочка пробивает асфальт.
— Стрелок, твою мать, — цедит сквозь зубы Ник и со злостью высаживает в противника весь рожок.
Вспышка, удар в голову — точно в школьном спортзале, когда во время матча класс на класс в баскетбол ты замешкался и литой резиновый мяч прилетел тебе точно в затылок.
Ник еще успевает удивиться, насколько это не больно — получить пулю в голову, и тьма накрывает его…
Глава пятая
Самая страшная смерть — захлебнуться. Вода, источник жизни, превращается в коварного врага. Она заливает нос, рот, дыхательные пути, проникает в легкие, не дает вдохнуть, она душит, давит, убивает…
— А-а-а! — кричит Ник, выгибаясь всем телом.
Спину тут же пронзает болью. Отплевываясь, он садится и бьется головой о фляжку, которую не успевает убрать Хал, ливший воду ему на лицо.
— Ты чё, блин! — испугано кричит татарин. — Псих!
— Где… что?.. — Ник ошалело крутит мокрой головой.
Он видит всё то же слепящее солнце в зените, траву, стоянку, дрожащие контуры зданий. А совсем рядом — Камила с вываленным языком, Эн, как-то мрачно смотрящую на него из-под челки, Цапко возле костра, заляпанный грязью нос «маталыги», и Юсупова, поблескивающего стеклышками очков.
И еще видит совсем близко границу четвертого слоя, ту самую, за которую так и не смог пройти.
Видит изнутри! Вон, за золотистой стеной — она, асфальтовая дорожка, даже дыры от пуль различимы, вон дурацкая обожженная табличка… И лом, косо воткнутый в землю. Лом соединен проволокой с монтировкой, глубоко вбитой в асфальт на той стороне, в третьем слое.
— А где? — Ник сглатывает, ему никак не удается подобрать слова. — Где этот… которого я… который меня…
— Ты эта… зачем в одиночку? — укоризненно спрашивает Юсупов.
— Куда полез, в натуре? — поддерживает его Хал. — Пить будешь еще?
— Я… нет, не буду. — Ник садится, проводит рукой по лицу, стирая воду. — Как вы прошли… там, где полосы?
— А мы на танке, — объясняет Хал. Он упорно называет тягач танком. — Стрельбу услышали. Очки как дал, блин, по газам — и понеслась! Проскочили… Там глюки какие-то, затмение мозгов.
— Чего? — Ник даже пытается улыбнуться. — Чего затмение?
— Не важно, блин, — легко отмахивается Хал.
— А вы не встречали… — снова спрашивает Ник.
Он хочет рассказать про Борьку, про свидание с человеком, которого давно нет, и вдруг понимает, что не должен ничего говорить, потому что это глубоко личное, это не для всех, а только для одного человека — для него.
— Ты в кого стрелял-то? — в свою очередь интересуется Хал.
— Не знаю, — качает головой Ник. — Там… тут военный какой-то…
— В себя он стрелял, — убежденно говорит Эн. — В себя…
Перекусив под сенью тягача разогретой на костре тушенкой — солнце наконец-то покидает зенит и начинает медленно клониться к западу — исследователи червоточины пьют чай и пытаются выработать план дальнейших действий. Все помнят слова Вольфганга, переданные Филатовым: «Седьмой слой убил меня».
Седьмой слой — это как раз РКБ. Цапко предлагает и дальше прорываться всем вместе на тягаче, делая остановки перед границами слоев.
— Хватит уже. Сперва Бабай… Потом Никита едва не… В общем, я за прорыв. Предлагаю голосовать. И давайте быстрее, у нас каждый час на счету. Я как представлю, что сейчас творится в Цирке…
— Да чё тут голосовать, блин. — Хал треплет вылизывающего банку из-под тушенки Камила по спине. — Ясно же, что в одиночку не пройти. Броня крепка, блин. И танки наши быстры.
Юсупов разбрасывает прогоревший костер, заливает остатками чая головни. Эн забирается повыше, на башенку «маталыги», и в монокуляр долго разглядывает окрестности больничных корпусов.
— Смотреть очень неудобно, — сообщает она через несколько минут. — Все дрожит, плывет. Ничего такого я не вижу.
— Какого «такого»? — спрашивает Ник.
— Странного. Или необычного. Трава, деревья слева и справа, дорога, торговый комплекс «Эдельвейс», автовокзал, еще одна стоянка, машины, будка кирпичная. Потом забор и въезд на территорию. Но это уже в пятом слое. Дальше — просто как растопленный мед. Или янтарь. Только он еще колышется.
Ник, превозмогая боль в спине, лезет на тягач, берет из рук девушки монокуляр. Через некоторое время говорит Юсупову:
— Вилен, поедем до тех ворот. Медленно, не больше десяти кэмэ. Я буду наверху. Два удара по броне — немедленная остановка, понял?
— Эта… поехали, — кивает инженер и лезет в люк.
Цапко, Хал и Эн с Камилом забираются в десантный отсек. МТ-ЛБ выбрасывает длинную сизую струю выхлопных газов и рвет гусеницами стерню. Нику приходит на ум, что тягач похож на гигантское ископаемое членистоногое, этакого стального трилобита цвета хаки. Трилобит ползет по траве, переваливает через беленый бордюр, корежит машины на стоянке и приближается к трансформаторной будке, которую видела Эн. На серых железных дверях будки хорошо видна надпись: «Осторожно! Высокое напряжение!» и треугольный знак с черепом и скрещенными костями.
Ощутив холодок где-то под сердцем, Ник дважды ударяет прикладом автомата по командирскому люку. Юсупов бьет по тормозам. Тягач оседает вперед, гусеницы окутываются пылью. Из десантного отсека высовываются Хал и Эн.
— Чё такое?
— Не знаю, но там высокое напряжение. — Ник указывает на будку.
— И чё? Тока-то все равно нет, блин. Ты это… на шугняке, похоже, а, братан? — Хал усмехается, крутит ладонью у виска.
Ник, подавив в себе острое желание двинуть ему с ноги в челюсть, спрыгивает на асфальт. Из тягача вылезают Юсупов и Цапко.
— Стой! — Эн бежит за Ником. — Не ходи один…
— Ну, пойдем вместе.
Камил, сделав несколько шагов за хозяйкой, вдруг садится у края заасфальтированной площадки, задирает голову и начинает выть. Это настолько неожиданно и страшно, что Ник с Эн возвращаются с половины дороги.
— Камиша, ты что? — присев рядом с псом, Эн обнимает его за шею. — Что с тобой? Не хочешь, чтобы мы шли дальше? Не хочешь?
Перестав выть, Камил смотрит на девушку, лижет ее в щеку шершавым языком. Ник задумчиво пощипывает волоски на подбородке, потом вспоминает, что это было любимой привычкой покойного профессора Аркадия Ивановича, и сует руку в карман.
— Так и будем стоять? — подает голос Цапко. — Там люди гибнут…
— Да знаем, знаем, не нуди! — кричит Хал. — Я пойду, гляну, чё там, блин. Подумаешь, говна-пирога — будка…
И он решительным, широким шагом идет по стоянке, обходит чуть припорошенный пылью двести шестой «пежо», поворачивает…
Камил с яростным лаем вырывается из объятий Эн и несется за ним. Вцепившись в штанину Хала, пес тащит его назад с такой силой, что материя рвется. Хал от неожиданности падает на спину, матерится, пытается ногой отпихнуть пса. Эн с криком бежит к нему. Ник тоже что-то орет, размахивая руками.
Когда все возвращаются к тягачу, Юсупов, козырьком приставив ко лбу ладонь, смотрит на будку и задумчиво произносит:
— И не объехать никак. А Камил эта… чует, что там опасность.
— Все штаны подрал, блин! — Хал замахивается на пса.
— Дурак, он тебе жизнь, может быть, спас, — заступается за своего любимца Эн.
— Спас — молорик, блин. А штаны-то зачем было рвать?
— А как он тебя еще остановит-то? Что, подойдет и скажет человечьим голосом: «Дальше идти нельзя?»
Наступает тишина. Все смотрят на Камила, а пес все не сводит глаз с проклятой будки, время от времени катая в горле сдержанный рык. Ник представляет на секунду, что Камил и впрямь поднимется на задние лапы и произнесет что-нибудь, какой-нибудь «абырвалг». От этого видения становится жутко.
— Держите собаку, — решительно говорит Цапко и срывается с места.
Он не идет, бежит к будке. Камил, в которого вцепляются Эн и Юсупов, дыбит шерсть и снова принимается выть.
— Стой! — орет фельдшеру Ник и мчится за ним. — Стой, тебе нельзя! Ты же один умеешь… Ты врач. Стой!
Он хватает Цапко за худое плечо, толкает назад и, превозмогая боль в спине, большими прыжками несется к будке. Позади слышатся крики, а потом вырвавшийся Камил, пуча бешеные глаза, обгоняет Ника. С гандикапом в десяток метров пес первым оказывается у выкрашенных серой шаровой краской дверей с грозной надписью…
Ослепительная вспышка бьет Ника по глазам. Тугая волна горячего воздуха толкает в грудь, валит на землю. Когда зрение восстанавливается, Ник видит, что никакой будки впереди больше нет. На ее месте лежит багровый блин, от которого пышет жаром. Воздух над блином струится и дрожит, трава по краям дымится, сворачиваясь и осыпаясь кучками пепла. Листья на деревьях по обе стороны пожелтели и скрутились в трубочки.
Навзрыд плачет Эн. Хал пытается ее утешить. Цапко бормочет что-то, боком отступая к тягачу.
— Он эта… всех нас спас, — говорит Юсупов.
Ник встает, подходит к краю блина. Отсюда видно, что это никакой не блин, а лужа лавы. Будка со всей начинкой и Камилом в придачу расплавилась, причем расплавилась мгновенно, за какую-то долю секунды. Нестерпимый жар медленно спадает. Ник поднимает из травы камень, кидает в самый центр лавовой лужи.
Камень выбивает кусочки окалины. Ничего не происходит. Когда лава остынет, путь будет свободен. Камил собственной жизнью заплатил за возможность людей двигаться дальше. Ник думает, что когда-нибудь здесь, вот на этом самом месте, псу поставят памятник.
Эн продолжает рыдать.
— Ну всё, всё, блин. — Хал гладит ее по голове, прижимая к себе. — По Бабаю не плакала, а тут собака…
— Да он лучше любого человека-а-а… — заходится Эн. — Он нас спа-а-ас…
Эн сказала, что я стрелял в самого себя. Наверное, это правда. Тот человек в камуфляже действительно был похож на меня. Но я стрелял, не задумываясь особо, кто передо мной. Как сильно мы все изменились за время, прошедшее после пробуждения… Тогда, в самом начале, когда мы встретили медведицу и лигра в заросшем саду, мне казалось, что это вот — самое страшное, что может быть в жизни.
Сколько всего произошло с тех пор! И каждый раз я думал, что очередной Рубикон, который мне, нам предстоит перейти — последний, что новых испытаний не будет. Но, похоже, испытания никогда не закончатся. Наверное, такая же жизнь была у людей в древности — каждый новый день преподносил сюрпризы, причем сюрпризы неприятные. Геракл, небось, свои двенадцать подвигов совершил не оттого, что он крутой, как горная вершина. Тоже ведь хотел, скорее всего, тихой и спокойной жизни — коз там пасти на склонах греческих гор, пить вино, играть с подрастающими ребятишками, любить жаркими южными ночами жену и ни о чем таком не думать. А ему пришлось давить всякую нечисть, мотаться туда-сюда по всему Средиземноморью по воле богов и в итоге помереть героем…
Нет, такая судьба меня как-то не прельщает. Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. Собака… Камил вот как раз погиб как самый настоящий герой. А мы, люди, не смогли его уберечь, защитить.
Черт, что-то я сейчас упустил. Какую-то важную деталь. О чем я думал? О Геракле… А, точно! Воля богов. Вот, наверное, ключевой момент. Не зря Монах стал таким популярным в общине. Самое просто и понятное всем объяснение — воля Господа. Все совершается по ней. И точка. А мы, похоже, идем против этой воли, потому что рассчитываем только на себя, на свои силы. Как Геракл. И нас тоже настигнет рано или поздно божья кара. Геракл надел пропитанную ядом одежду и страшно мучился, а потому попросил своего друга сжечь его заживо. Смерть в огне еще страшнее, чем смерть в воде. Но я не остановлюсь. И Хал, и Юсупов, и Эн не остановятся. А Цапко и подавно.
И раз так, то нечего рассусоливать и тратить время на размышления. В нашем случае цель действительно оправдывает средства, потому что она благая. Интересно, а если мы творим добро против Божьей воли, то что главнее — добро или Бог? М-да, дилемма. Нет, нафиг, блин, как любит говорить Хал. Вон из головы все ненужные мысли. Всё лишнее — вон. Правильный лозунг был во время войны: наше дело правое, победа будет за нами! В это и надо верить…
Глава шестая
К границе пятого слоя тягач добирается без помех. В десантном отсеке жарко, как в бане. Эн все еще всхлипывает, уткнувшись в плечо Хала. Ник пытается не обращать на это внимание. Цапко осматривает его спину, давит на грудную клетку, проверяя, целы ли ребра.
— Судя по всему, сильный ушиб. Кости целы. Одевайся, — говорит он.
Натянув провонявшую потом хэбэшку, Ник трогает Эн за руку.
— Наташ, ну всё, заканчивай уже.
— Отстань, — не поворачивая головы, отвечает девушка.
Тягач останавливается.
— Всё. Эта… приехали, — сообщает Юсупов.
Все выбираются наружу. Ворота, через которые можно въехать на территорию РКБ, совсем рядом, в нескольких метрах. Стена уже не золотистого, а рыжего какого-то пламени — буквально в двух шагах. Пока все мнутся, решая, как быть, Юсупов возвращается к тягачу, достает старое, помятое ведро и бросает его через границу слоя.
Ведро беспрепятственно пролетает через пламя и с неприятным, жестяным грохотом катится по дороге до самых ворот.
— Ты чё, дурак? — от неожиданности Хал приседает.
— Эта… можно ехать, — говорит Юсупов и лезет в тягач.
Ник проходит через стену холодного огня следом за МТ-ЛБ, пешком. Он абсолютно спокоен. После третьего слоя у него появилось какое-то внутреннее чутье на опасность. Сейчас это чутье молчит, а значит, внутри пятого слоя им ничего не угрожает.
Решетчатые ворота, ведущие на территорию Республиканской клинической больницы, чуть приоткрыты. Рядом блестит на солнце стеклами будка охраны. Там никого нет. Ник успевает подумать, что надо бы обогнать тягач и открыть ворота, но Юсупов решает по-своему. Он добавляет газу и таранит ворота, вывернув их в обратную сторону. «Маталыга», грохоча гусеницами, выкатывается на больничный двор, проезжает мимо нескольких бело-красных и красно-желтых микроавтобусов с крестами и цифрами «03», разворачивается в сторону проезда, ведущего к главному корпуса, и останавливается.
Ник догоняет тягач, смотрит по сторонам. Слева и впереди высятся серо-зеленые трех- и четырехэтажные больничные здания — широкие окна, плоские крыши. Кое-где к стеклам изнутри приклеены листы бумаги с номерами палат. Тишина. Над нагретым асфальтом дрожит марево. Ник поднимает голову и видит наверху еле заметное желтоватое сияние. Все верно, пятый слой намного меньше предыдущих. Он похож на купол, полусферу, накрывающую РКБ.
Из тягача доносятся звуки работающего стартера — Юсупов пытается завести неожиданно заглохший мотор. С десятой попытки это ему удается. МТ-ЛБ проползает еще несколько метров и снова глохнет. Но Ника это не волнует. Он смотрит на темные окна больницы и думает о том, куда делись пациенты и медперсонал.
— Всё! — кричит ему Юсупов, выбравшись следом за Эн, Цапко и Халом из тягача. — Эта… отъездились.
— В обратку он пойдет, — говорит Ник.
— Почему ты эта… так думаешь?
— Я не думаю, я знаю, — убежденно отвечает Ник, не отрывая глаз от окна на втором этаже.
— Ты чё там увидел? — спрашивает подошедший Хал.
— Не пойму никак…
И тут из глубины комнаты за стеклом медленно, как в компьютерной игре, начинает проявляться нечто… Желтое пятно, размазанное, нечеткое, оно постепенно приближается к окну. Эн вскрикивает. Цапко пятится к тягачу. Ник слышит, как Хал лязгает затвором и тихо говорит ему:
— Только не стреляй…
Пятно обретает силуэт, превращается в человеческую фигуру. Бледное, безжизненное лицо, белый халат, черные провалы глазниц, распяленный в немом крике рот. Приблизившись вплотную к стеклу, эта жуткая маска смотрит на людей внизу, затем начинает отдаляться, тая в полумраке.
— Может быть, надо попробовать войти туда, — неуверенно говорит Цапко. — Может быть, ему… ей… нужна помощь?
— Там никого нет, — отвечает Ник.
— Но мы же видели… И ты сам.
— Там никого нет, — повторяет Ник. — Это просто изображение. Как в кино. Но нам нельзя тут задерживаться. Надо идти к шестому слою.
У стены на асфальте лежит белый больничный халат. Прямо за ним начинается граница шестого слоя. Она выходит из-за здания и огненным полукругом отсекает главный корпус РКБ. Что там, внутри, разглядеть очень трудно. Ник останавливается, разводит руками.
— Ничего не видно. Слепит.
— Идем? — тихо спрашивает Хал.
— А есть варианты? — пожимает плечами Ник и первым шагает в золотое пламя.
Время исчезает. Ник понимает это, но не может объяснить, что происходит. Просто он оказывается где-то вне времени. Его взгляду — скорее внутреннему — открывается странный мир, «зависший» в доле секунды от обычного. Параллельная вселенная. Иное измерение. Здесь нет привычных форм и красок, здесь царствуют иные цвета и объемы. В колышущемся нигде сверкают то ли звезды, то ли ядра атомов, несущиеся непонятно откуда — и неведомо куда. Вокруг них мчатся по вытянутым орбитам не то планетоиды, не то невидимые и неведомые ученым частицы. Их траектории трассерами режут еще более экзотические порождения этого удивительного мира. Ник вспоминает когда-то слышанные слова, которые явно имеют отношение ко всему тому, что он сейчас видит, но звучащие для него совершенной абракадаброй: кванты, нейтрино, мезоны, бозоны…
Конечно, он проходил физику в школе: делал лабораторные, решал задачи, заучивал постулаты Нильса Бора, законы Ома и Ньютона, уравнения Бернулли и Ломоносова-Лавуазье. Но, кроме архимедовского «на тело, погруженное в жидкость, действует сила…» в памяти, по сути, ничего не осело, не задержалось. Даже строение атома Ник помнил очень приблизительно — вроде бы в центре протон, вокруг летают электроны, причем они одновременно являются и частицей, и волной. Еще есть какие-то «спины», что-то с чем-то соединяется, куда-то летит…
Озираясь, Ник с досадой понимает, что, по сути, он — папуас, дикарь, варвар, наблюдающий за работой, скажем, электрического генератора. Перед ним в абсолютной тишине, в стерильном вакууме, происходят драматичнейшие столкновения. Вспышки холодного огня озаряют все вокруг, пламя волнами всех цветов радуги расходится в стороны, чтобы через миг исчезнуть в сполохах новых беззвучных взрывов.
Нику кажется, что он заглянул за подкладку Вселенной, попал на запретную территорию, в служебное помещение, куда посторонним вход категорически запрещен. Он ничего тут не понимает, но даже то, что он вообще увидел эту адскую кухню, уже достаточно, чтобы покарать любопытного.
Вот только кто будет карать? И как? И чем?
— Нет, — говорит Ник, не слыша собственного голоса, — врете, господа физики и лирики. Букашку, проползшую по капоту стоящего автомобиля, никто не карает. Главное — чтобы она проползла быстро. И незаметно.
И он покидает бесконечное нечто, просто делая шаг вперед. Покидает — и оказывается в шестом слое, у угла девятиэтажного здания, облицованного по цоколю плиткой приятного оливкового цвета. Резко повернувшись к остающимся за золотой огненной стеной спутникам, Ник кричит:
— Бегом! Эту границу надо пересекать только бегом! Быстро, быстро!
Первым рядом с ним оказывается Цапко. Фельдшер ошарашено мотает головой, трет красные глаза, спрашивает:
— Что это было?
Ник не отвечает — а что он может ответить? Указав за угол, он идет туда. Хал, Эн и Юсупов появляются одновременно и бегут прочь от огненной стены.
Дождавшись всех во внутреннем дворе РКБ, Ник оглядывается. В шестом слое очень много движущихся объектов. На бетонных колоннах дрожат плазменные шары. Стена здания время от времени идет волнами и из нее выглядывают каменные иглы, словно там, в глубине ожившей материи, прячутся гигантские морские ежи. Кабели над головой извиваются, как змеи. Воздух потрескивает. Но это все ерунда, это они уже проходили во втором слое и это — не страшно, главное только ничего не трогать руками и не делать резких движений.
Седьмой слой живым янтарным куполом накрывает въезд в подземные помещения больницы. Он совсем маленький, этот купол — метров сорок в диаметре. «Седьмой слой убил меня», — вспоминает Ник и идет туда.
— Децл тормози, блин, — говорит за его спиной Хал.
Он дышит тяжело, точно только что пробежал кросс по пересеченной местности. Ник поворачивается, смотрит на него, на Эн, на Цапко и Юсупова.
— Нам нельзя останавливаться!
— Лезть на рожон эта… тоже нельзя. — Юсупов чешет затылок. — Ты же помнишь, что рассказывал Филатов.
Посмотрев на Цапко, Ник спрашивает:
— Где хранилища с вакциной?
— Там, — неуверенно кивает на переливчатый янтарный купол фельдшер. — На нулевом этаже.
— Другой вход туда есть?
— Должен быть.
— Тогда давайте искать. Обойдем здание по пери…
Договорить Ник не успевает — реальность вокруг искажается, все прямые линии словно бы расслаиваются, распадаются на пласты, как в компьютерной трехмерной модели.
А потом он видит человека, который идет прямо сквозь то, что еще минуту назад было бетоном, кирпичом, стеклом. Идет не спеша, даже устало. Человек одет в грязную военную форму, у него большая круглая голова, лысина, крупный нос и маленькие, прижмуренные глаза. В руке он сжимает вилы. Такие знакомые, филатовские вилы.
— Бабай, — пораженно вскрикивает Эн и пятится.
Ник и остальные тоже отступают, не сговариваясь, выставляют стволы автоматов. Дело в том, что идущий прямо на них Бабай может свободно заглянуть в окно четвертого этажа — росту в нем никак не меньше десяти метров.
— Эй! — кричит Хал. — Абы! Слышишь меня?
Бабай не слышит. Мерно переставляя ноги, он идет и идет через расслоившуюся реальность к янтарному куполу седьмого слоя. Ник еле успевает отскочить — огромная ступня, обутая в армейский ботинок, опускается на асфальт совсем рядом.
— Он… он живой? — спрашивает Эн.
— Может, галлюцинация? — неуверенно предполагает Цапко.
Дойдя до купола, Бабай останавливается. Он лишь чуть-чуть, на какие-нибудь пару метров, ниже выпирающей из земли полусферы. Медленно, словно преодолевая вязкое сопротивление, Бабай оборачивается, но смотрит не на людей, а куда-то вдаль. Потом он поднимает вилы и вертикально вонзает их в землю с таким расчетом, чтобы два зубца оказались внутри купола…
— Осторожнее, ради Бога, осторожнее! — кричит Цапко, размахивая руками. — Не впихивай, ну что ты делаешь!
— А как я ее тебе сюда поставлю, блин! — оправдывается Хал, застывая с белой картонной коробкой у десантного люка тягача. — Тут места не осталось уже.
— Значит, ставь сверху, — командует Цапко.
— Сверху тоже не влезет, все, под самый потолок забито.
— Тогда… — Цапко в отчаянии ломает тонкие пальцы, лицо его страдальчески искажается. Он бежит вокруг «маталыги», заглядывает в передний люк и радостно объявляет: — Тут еще есть место! Давай, давай!
— Может, наверху привяжем? — предлагает Ник.
— Обязательно, обязательно, — радостно кивает фельдшер. — Физраствор и инъекторы — это наверх.
— Вот это всё? — изумляется Ник, кивая на пирамиду коробок и ящиков. — Мы же хотели второй раз приехать.
— Мало ли что случится, — опасливо говорит Цапко и рубит воздух ладонью: — Берем всё по максимуму.
После того, как на нулевом этаже главного здания РКБ они нашли хранилища с медикаментами, Цапко словно подменили. Куда только девалось его нервная неуверенность, усталость… В фельдшера точно вселился другой человек, энергичный, бодрый и стопроцентно уверенный в себе.
Весь остаток дня они таскали к тягачу лекарства, вакцины, упаковки одноразовых шприцов и ящики, в которых булькали бутыли с физраствором.
— Стрептомицина еще шесть коробок! — орал Цапко в распахнутые двойные двери, откуда веяло холодом. — И тетрациклина.
— А бицилин брать?
— Обязательно! Против воспалительных процессов в мочеполовых органах!
Конечно, львиную долю всех медикаментов составляли противочумная вакцина и антибиотики, которыми лечат древнюю болезнь — стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин. Но помимо них Цапко набрал кучу всевозможных медикаментов, а когда Ник попытался урезонить аппетиты фельдшера, отбрил его с чисто докторской безаппеляционностью:
— У меня больных полный город! Всё берем, всё!
Проходит несколько часов. Наконец Цапко понимает, что больше на МТ-ЛБ погрузить нельзя. По пояс голый Хал притаскивает из хранилища последнюю коробку с детскими витаминами. Фельдшер штык-ножом вскрывает ее и высыпает весело дребезжащие баночки с яркими этикетками прямо в командирский люк.
— И под ноги, под ноги смотрите! — наставляет он Ника и остальных. — Не дай Бог подавите.
Ник свешивается в люк, усмехается. Тягач забит лекарствами под завязку. На сидении стрелка лежат плоские коробки с желтыми наклейками.
— Если что случится, как я огонь вести буду? — спрашивает он у Цапко.
— На коленочки положишь, — ничуть не смущаясь, говорит фельдшер. — Всё, поехали, поехали!
— Сейчас. — Ник спрыгивает с тягача, идет к главному зданию.
Юсупов, Эн и Хал устремляются следом. Цапко недоуменно смотрит им вслед, потом до него доходит — он срывается с места и бежит, громко топая сапогами.
Все пятеро подходят к черному кругу копоти на асфальте. Из центра его торчат вилы, тоже черные, обугленные. Рукоятка сгорела. Это все, что осталось от Бабая.
— Может, он еще живой? — спрашивает Хал. — Мы же думали, блин, что он погиб, а он вона как… Ходит где-нибудь там…
— Нет, — твердо говорит Ник. — Не ходит. Он умер. Совсем. Умер, чтобы мы были живыми и спасли остальных.
— Откуда ты знаешь? — Эн смотрит на Ника, и он понимает, что девушка очень недовольна его словами.
— Знаю. Объяснить вот не могу.
— Здесь эта… тоже произошло что-то вроде разрядки двух полей, — пытается объяснить Юсупов. — И было искажение оптической…
— Не надо, Вилен, — останавливает его Ник. — Не нашего это ума дела. Но когда-нибудь мы обязательно разберемся, кто, зачем и каким образом это сделал и как нам все это прекратить. А сейчас давайте выдвигаться, нам надо до темноты попасть в Цирк.
Все, кроме Юсупова, сидят на броне — и потому, что внутри тягача нет места, и для того, чтобы удерживать разъезжающиеся по наклонным плитам коробки с медикаментами. Пятый слой, четвертый, третий — червоточина смирилась, она больше не строит козней, не пытается убить проникших в нее людей. Бабай словно бы разрядил какой-то невидимый и неведомый конденсатор, и пока энергия не накопится вновь, червоточина будет относительно безопасной. Относительно, потому что каменные ежи в живых стенах домов никуда не делись, провода все так же танцуют свою беззвучную самбу, и бледно-желтое лицо в окне больничного корпуса все смотрит и смотрит на машины «Скорой помощи» внизу.
Филатова Ник замечает у границы второго слоя. Силуэт в длинном плаще причудливо искажается, и кажется, что он пляшет какой-то народный танец, размахивая руками и приседая. Тягач пробивает полупрозрачную стену и останавливается.
— Что-то случилось? — спрашивает Ник.
Филатов опускает руки.
— Всё, конец! — скрипит он. — Они идут сюда. Они… крестный ход… сюда!
— Кто? Какой еще крестный ход? — наперебой спрашивают все.
Подойдя к тягачу, Филатов опирается на гусеницу.
— Монах собрал всех. И людей из Цирка, и из других общин. Он сказал им, что здесь, в червоточине, находятся райские врата. И что все, кто хочет спастись, должны идти крестным ходом и просить апостола Петра пропустить их.
— Какого еще Петра? — Ник спрыгивает на землю. — Они что там, с ума сошли?
— Хуже. И они несут с собой больных. И умерших.
— Что? — страшно кричит Цапко. — Идиоты! Это же стопроцентная вероятность заражения…
— Зачем? — не понимает Ник.
— Чтобы исцелить и оживить.
— Бред!
Хал растерянно моргает, потом говорит:
— Бред — это там, где мы были, блин.
— Далеко они? — спрашивает Ник.
Филатов тяжело дышит, у него дергается небритая щека.
— Танковое училище прошли, — скрипит он. — Через полчаса самое малое будут здесь.
— Идиоты, какие идиоты, — сокрушается Цапко, по-бабьи всплескивая руками.
Он бродит вокруг тягача, нелепый, рассерженный и потерянный одновременно.
— Что же теперь будет? — громко спрашивает Эн.
— Ничего не будет, — резко поворачивается Цапко. — Понимаешь, девочка? Ничего… Тотальное заражение. Они там…. — фельдшер машет рукой в сторону города, — уже все покойники. Если не соблюдать карантинный режим, смертность при чуме достигает девяноста процентов.
— И их никак нельзя вылечить? — напряженным голосом интересуется Ник.
— Если мы провакцинируем всех, изолируем больных и начнем их немедленное лечение, можно будет взять ситуацию под контроль. Но надо…
— Я знаю, что надо делать, — говорит Ник и забирается на тягач.
Он встает там во весь свой немаленький рост, достает монокуляр и надолго застывает, разглядывая заросшую дорогу, ведущую в город.
— Ну, и чё ты придумал? — Хал дергает Ника за штанину.
— Увидишь, — коротко бросает Ник, не отрываясь от монокуляра.
Глава седьмая
Оно, конечно, стремно — когда вот так. Все на измене сидят, да мне и самому очково, блин. Я про чуму вообще ничего не знал раньше. Думал, это просто слово такое прикольное — чу-ма. Ну, когда там пацан телке страшной говорит: «Вот ты чума, блин», или наоборот, когда кипиш идет и кто-нибудь потом рассказывает: «Там такая чума началась». Еще другие слова есть — «чумаход», «чумагон», «чуматары», «чучмек». Хотя «чучмек» — это уже другое что-то. Короче, я не думал, что это болезнь, от которой умирают все. А оказалось — это просто капец какая зараза. Так-то я про болезни серьезные знаю немного: СПИД там, гепатит Б или триппер. Еще есть энцефалит, это когда клещ укусит, и мышиная лихорадка, у нас мужик со двора чуть однажды кони не двинул от нее.
Когда Филатов сказал про крестный ход, я ничего не понял сперва, блин. Какой рай, какие врата? А потом, когда все узнали, что больных с собой тащат и на измену крепко присели, до меня дошло — Монах всех перезаражал. Он верит, что Бог поможет и спасет, но в червоточине-то никакого Бога нет, там просто беда какая-то происходит. Я как лицо это в окне вспомню, у меня мурашки по спине бегают, и сразу спрятаться куда-нибудь охота.
В общем, чё делать — никто не знает. Никто, кроме Ника. Ник чё-то придумал, но не говорит никому. Он вообще стал в последнее время борзый какой-то и типа крутой. У нас таким профилактических звездюлей выписывали — чтобы не мастерились, блин. И Энка раньше на Ника не так смотрела. Она сама мне вчера сказала, что Ник изменился. У нее типа любовь к нему была, я думаю. А теперь нет. Теперь она одна, и можно попробовать к ней подкатить, блин. Ну, это если мужики с чумой сладят, конечно. Потому что если не сладят, то уже ничего не будет.
Пестрая колонна крестного хода появляется вдали минут через пятнадцать. Ник видит мелькающие между деревьями фигурки людей, опускает монокуляр, сует его в клапан камуфляжных брюк. Всё, время наблюдений закончилось, наступает иное время.
Время действий.
Он запрокидывает голову и смотрит в небо. Уже по-осеннему бездонное, светло-голубое, подернутое легкими облаками, небо всегда было и всегда будет. А вот будет ли спустя час Никита Проскурин? Ник видит птицу, белую чайку, кружащуюся в вышине. Чайка точно будет. Ей ничего не угрожает.
— Перед смертью не надышишься, — говорит он.
Мысли о смерти давят на Ника, мешают ему, но избавиться от них он не может. Это становится невыносимым — чувствовать, понимать, что ты не управляешь собственным мыслительным процессом!
Ник ругается сквозь зубы, тянет с плеча автомат, отсоединяет рожок и проверяет патроны. Все в норме, оба смотанных вместе изолентой магазина полны. Скорее всего, столько патронов и не понадобится, но на всякий случай…
— Всякий случай… — вслух произносит Ник и со щелчком вгоняет рожок в автомат.
— Ты эта… что задумал? — спрашивает его Юсупов.
— Все нормально, Вилен, — не поворачивая головы, отвечает Ник. — Все нормально. Сидите тут, ждите. — И повысив голос, сообщает всем: — Будьте у тягача! Я сейчас…
Спрыгнув с брони, Ник широкими шагами движется навстречу уже хорошо различимой на опушке леса колонне. Сзади что-то кричат, но он не оборачивается. Разнотравье, которым заросло поле, доходит Нику до пояса. Он идет быстро, и кудрявые головки полыни хлещут по прикладу автомата, по ремню, по фляжке и брезентовому подсумку.
Ветер доносит до Ника звуки сотен голосов, поющих одно и то же, одну и ту же фразу:
— Господи милосердный, спаси и помилуй нас…
— Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и не герой… — шепчет Ник.
Он не помнит, откуда эти строчки, они как-то сами собой возникают в памяти[36].
А потом Ник замечает Монаха. Огромный, в развевающемся белом одеянии, на котором контрастно выделяется черная, широкая и длинная борода, высоко подняв крест, он шагает впереди всех, и его колокольный бас гремит над лесом, над полем, заглушая все прочие звуки.
— Господи милосердный, спаси и помилуй нас…
Ник поднимается на небольшую возвышенность, холмик, поросший чертополохом. Колючие растения уже отцвели, теперь их головки сорят пушистыми семенами. Ник случайно задевает их, и по ветру летят невесомые комочки, похожие на хлопья снега.
Снег — это зима. Ник останавливается. Он думает о зиме, о том, увидит ли он когда-нибудь ее, вдохнет ли морозный воздух. Почему-то это кажется ему сейчас очень важным — зима.
Толпа общинников приближается. Между нею и Ником — не более двухсот метров. Хорошо видны самодельные хоругви и кресты, которые они несут. Острое чувство жалости сдавливает грудь Ника. Ему жаль этих людей, жаль себя. Все очень нелепо, неправильно, гнусно. Ему предстоит сделать то, чего делать нельзя, за что наказывают, даже казнят. Но при этом в душе Ника живет четкая уверенность в том, что осуществить задуманное необходимо. Отчасти это будет медицинская процедура. Ампутация. Наверное, хирург, отрезающий молодому, сильному человеку ногу или руку, тоже терзается в нравственном выборе, ведь он фактически калечит больного, спасая ему при этом жизнь.
Но у хирурга все просто — удалив пораженную конечность, он почти на сто процентов уверен, что его пациент выживет. У Ника такой уверенности нет. Есть только вера в правоту своего решения.
Усмехнувшись — надо же, опять он столкнулся с дилеммой веры и правоты — Ник поднимает автомат. Один выстрел, всего один.
А может, всё проще? И нет никакого противостояния хорошего зла и плохого добра? И жизнь — действительно миг между прошлым и будущим? Ник упрямо мотает головой, трет костяшками пальцев внезапно заслезившиеся глаза. Вся эта философия хороша, когда ты сидишь в уютном кресле с бокальчиком хорошего вина. Теории, гипотезы, идеи…
А сейчас, здесь, на этом холмике, поросшем чертополохом, как раз и есть жизнь, настоящая, реальная. И ее движут поступки. «Боишься — не делай. Делаешь — не бойся»[37], — кажется, так.
Ник расставляет ноги, как учил подполковник Новиков, вжимает в плечо приклад автомата…
— Стой! — раздается за спиной срывающийся голос Эн. — Ник! Никита… Не надо!
Я не смогла его остановить.
Или не захотела? Не знаю. Дамир… ну, Хал, он сразу сказал: «Не ходи, он так решил». Но я пошла. Зачем? Может быть, потому что еще надеялась его вернуть? Тоже нет. Не надеялась. Того Никиты, которого я знала практически с детства, моего тренера, моего… В общем, человека, казавшегося мне самым лучшим, самым правильным, его ведь больше не существует. Он исчез, а на его место пришел другой — жесткий, даже жестокий. Теперь Ник всегда знает, что надо делать и как надо. Мне плохо становится, когда я на него смотрю.
Никогда не любила вот таких — уверенных, с холодными глазами. Они думают, что все в этом мире просто и легко. А мир сложный, тут никогда не бывает однозначных решений. За все надо платить.
Душа… Вот у Ника теперь как будто нет души. Нет сердца. Только разум. Математический такой разум, как у робота. Когда он выстрелил первый раз и не попал — пуля вошла в землю, — у меня мелькнула мысль толкнуть его, схватить автомат, кричать, царапаться… Только я сразу поняла, что это не поможет.
Могла, но не сделала. Не стала. И еще я поняла в тот момент, что он не пойдет со мной в Иркутск, домой. Вот Дамир пойдет. И будет защищать меня всегда и везде. Как Камил. А Ник… Ему проще опять оставить меня в каком-нибудь подвале, запереть — и идти одному.
Он думает, что стал сильным. А он слабый. Потому что главная сила — она в душе и сердце, а не в голове. И не в автомате. Хотя, наверное, я и ошибаюсь — ведь он думал в тот момент, когда стрелял, не о себе, не обо мне, а обо всех людях.
Он попал с третьего раза. И все там, впереди, закричали, страшно очень закричали, и побежали к нам, и тоже начали стрелять. Я легла в траву, колючую такую, жесткую и закрыла голову руками. А он остался стоять. Эксо-эксо, Кэнди…
Эпилог
Могилу Монаху вырыли на том самом холмике, откуда Ник стрелял в него. Но это случилось уже вечером. Весь день Цапко и добровольцы делали прививки общинникам, кололи антибиотики заболевшим. Поле на краю червоточины превратилось в госпиталь под открытым небом. Никто уже не надевал маски — смысла в них не было никакого.
Ник все это время просидел возле МТ-ЛБ в обнимку с автоматом. Он смотрел в небо. К нему никто не подходил, не разговаривал с ним…
Когда начинает темнеть, на поле вспыхивают многочисленные костры. На тягач грузят самых тяжелых больных, в основном детей, и Юсупов увозит их в Цирк. Цапко обходит костры один за другим, разговаривает с людьми, дает советы. За ним по пятам тенями движутся Анна Петровна и бригадир рыбаков Заварзин. Фельдшер убеждает общинников остаться на поле до утра. Ему задают множество вопросов, главный из которых — сумеет ли он остановить болезнь.
Ник слышит ответы Цапко, осторожные, взвешенные, но полные оптимизма. Он вздыхает. Да, все получилось именно так, как Ник и предполагал — после смерти Монаха люди словно очнулись. Нет, поначалу они, конечно, попытались убить его, Никиту Проскурина, но Юсупов подогнал тягач к холмику и Цапко, взобравшись на башню, закричал, что они добыли вакцину, что за золотистыми стенами червоточины нет никакого рая, и много чего еще…
Дело сделано. Мавр может уходить. Уходить потому, что никто и никогда не простит Нику смерти Монаха. Он, Монах, хотел как лучше. Хотел искренне, от всего сердца. А Ник его убил. Потому что тоже хотел, как лучше. Смешно, конечно. Но это жизнь, она так устроена.
Ник где-то читал, что, на самом деле, самым главным учеником Христа был Иуда. И что он принял на себя самое тяжелое и главное бремя — грех предательства, позволивший учителю стать Спасителем. Принял осознанно, из любви к тому, за кем шел, кому верил.
А кому верит он, Ник? Себе? Еще утром он был уверен в этом. Но после того как третья пуля, вылетевшая из его автомата, попала в грудь Монаху и он упал, выронив крест, вера эта исчезла.
Ник больше никому не верит. И ни на что не надеется. Что остается? Просто жить. Обустраивать новый мир, что лежит вокруг. Пахать, сеять, строить, возрождать, чинить, воевать. И медленно, по капельке, копить в себе новую веру — в будущее, в людей, в себя и в Бога.
Так будет. Но потом. А сейчас ему предстоит дальняя дорога. Утром Ник уйдет из города. Уйдет вместе с Филатовым на запад, в сторону далекой Москвы. Нужно обязательно выяснить, что там происходит. Нужна информация, нужна связь с другими городами.
Ник принимает решение, и ему становится легче. В голове звучат слова песни, которую пел Филатов бездну времени назад в Доме Кекина…
Ник вздыхает и смотрит на Эн и Хала, сидящих возле одного из костров. Они о чем-то говорят, склонив друг к другу головы. Что ж, Ник не держит на них зла или обиды. Если у его воспитанницы и этого парня что-то получится — он не против. Как говорится, совет да любовь.
Филатов неслышно подходит к Нику, садится рядом на траву.
— Нам надо взять с собой универсальный набор медикаментов, — скрипит он.
Не поворачивая головы, Ник отвечает:
— Только не много. Самое необходимое. Приготовьте воду, патроны и гранаты. И какие-нибудь теплые вещи — сейчас по ночам холодно.
Филатов некоторое время сидит рядом, потом встает и уходит. Солнце садится за зубчатую стену леса на западе. На небе высыпают яркие звезды. Ник откидывается на спину, подтягивает к себе автомат и закрывает глаза.
Официальный сайт проекта «Анабиоз»: anabioz.com
Официальная группа «ВКонтакте»: vkontakte.ru/anabioz_books
© Волков С. Ю., 2011
© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», оформление, издание, 2012