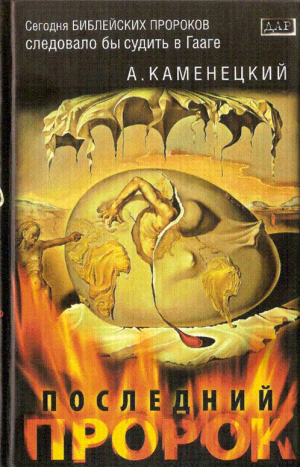
Пролог
Бог и свобода — понятия полярно противоположные; люди верят в вымышленных богов, как правило, потому, что страшатся довериться дьяволу. Я прожил достаточно, чтобы понять, что руководствуются они при этом добрыми побуждениями.
Джон Фаулз
Люби сирот и мой Коран Дрожащей твари проповедуй.
А. Пушкин
Я ехал на «Северном сиянии» из Москвы в Питер. Не помню, по каким делам, видимо, что-то срочное. Я нечасто езжу, у меня сидячая работа, я программист. Была зима. Какие-то мелкие подробности всплывают в памяти: январь, метель, вечер, долгий рабочий день, вокзальная толкотня, два гамбургера из «Макдоналдса» в дорогу… Усталость. В купе было тепло, но я сел, не сняв куртку, даже воротник поднял. По-моему, начиналась простуда. Никаких соседей, к моему удивлению и радости, не было, я мечтал о спокойной поездке, спокойном сне. Оставалось две минуты до отхода, когда ввалился этот тип. Именно ввалился — был уже довольно пьян, вонял. С его появлением в купе стало неуютно, тесно.
— Зёка, — развернул перед моим лицом бугристую, красную пятерню.
Мне пришлось представиться. Зёка был здоровенный бритоголовый зверь, в камуфляжном сыром бушлате и тельнике, с вещмешком, пропахший табаком и перегаром. Я обратил еще внимание на его худобу — необычную для такого накачанного, спортивного парня. Костистое крупное лицо было бледным, даже мороз и алкоголь ничего с ним не сделали, — бледным и туберкулезным каким-то. Потрескавшиеся, бескровные почти губы подрагивали, и он часто закусывал нижнюю свою губу, как будто испытывал боль. Мне попутчик показался странным и опасным, он занимал слишком много места, был слишком длиннорук для тесного купе и, я сказал уже, пьян.
— Выпьем? — это было второе его слово, произнесенное отрывисто и как бы через силу, но тоном таким, что трудно отказаться. Одновременно его рука выудила из вещмешка и твердо установила на столе бутылку «Московской». Я отказался — довольно вежливо, но неубедительно, с колебанием. Конечно, никакой водки мне не хотелось, тем более дорожно-застольных разговоров. Моей целью был сон, и перед сном еще таблетка аспирина, растворенная в тепловатой железнодорожной воде. К тому же люди, к которым относился незваный Зёка, обычно пугают меня: в них слишком много неразбавленной силы и злости.
— Как знаешь, — сказал он неожиданно миролюбиво. — А я выпью.
Поезд тронулся, и мой новый попутчик тотчас сдержал свое обещание: свернул голову бутылке и сделал несколько долгих и жадных глотков из горлышка. Пил Зёка, я искоса наблюдал за ним, с истерикой, словно у него отчаянная мысль была победить водку, уничтожить ее. С каким-то жестоким запалом пил, даже трагически, вот так. Черт знает, что у него на уме, думал я. Он опасен в этом своем состоянии, он может быть непредсказуемым. Такой нес в себе взрывчатый заряд, мне казалось.
Явился равнодушный проводник, проверил билеты. Зёка вел себя смирно, все сделал молча: показал свой билет, даже улыбнулся, Вот от этой его улыбки мне стало совсем нехорошо. С такой улыбкой, мелькнула мысль, могут затем и зарезать.
Прошло десять — пятнадцать минут, и я совсем издергался. Попутчик мой сделал еще один долгий глоток из бутылки и принялся глядеть задумчиво в окно, за которым расправляла плечи нешуточная вьюга. Выла и швыряла комья в запотевшее стекло. Пробравшись осторожно мимо него, я вышел в коридор с твердым намерением сменить купе. Разыскав проводника, меланхоличного седого дядьку с мутными глазами полуночника, я добился от него обещания помочь. Ободренный, отправился покурить в тамбур. Заметил: руки у меня дрожат, сигарета скачет в пальцах. Что такое, что со мной творится? Почему этот тип так напугал меня? Покурив немного, я успокоился, расставил все на свои места. Мы как раз сдавали сложный заказ — о, теперь я вспомнил точно, когда это было: в январе 1999 года! Именно так: наш первый иностранный заказ. Некто мистер Джордан, владелец небольшой компьютерной фирмы в Силиконовой долине, согласился наконец купить наш программный пакет. Мы работали по восемнадцать часов, и по ночам тоже, спали урывками, вливали в себя канистрами кофе — наверное, поэтому так расшатались нервы. Но было еще что-то, непрозрачное до конца. Возможно, я уяснил бы для себя, в чем дело, но внезапно дверь тамбура распахнулась, и я увидел Зеку. С водкой в одной руке и дымящейся сигаретой в другой, он выглядел так, словно вместо этих двух мирных предметов держал, скажем, гранату и автомат. И выше был меня на целую бритую голову.
— Ты не бойся, ботаник, — сипло сказал он, водя сигаретой перед моим носом. — Я тебе ничего не сделаю. Я домой еду.
— Хорошо, — одними губами ответил я и поперхнулся дымом.
Некоторое время мы молчали. К моему несчастью, Зёка загораживал тушей своей выход из тамбура. Обычная вагонная качка, даже помноженная на алкоголь, не действовала на него совсем — Зёка стоял монументом, не прислоняясь к стене, и не шатался.
— Домой еду, — повторил он отсутствующим голосом и глубоко затянулся. Затем швырнул окурок себе под ноги, затоптал и ушел.
Спустя пару минут я вышел следом и принялся стучаться в купе проводников. Но все там как вымерли. Поезд несся сквозь снежную бурю и мрак, позванивая металлом на рельсовых стыках. Свет в коридоре погас до слабого тления. Все спали. Потоптавшись на месте, я понял, что придется возвращаться в свое купе. Мне хотелось верить, что и Зёка уснул, — ведь бывает же такое с крепко поддавшими людьми, что они мгновенно отключаются. Но ничего подобного: когда я вошел, он сидел все в той же позе и смотрел не мигая на свою бутылку. Стараясь делать вид, что мне все равно, я, не раздеваясь, не разуваясь, забрался на свою полку и замер как мышь. Я чувствовал, что мой попутчик переместился сейчас в свой далекий мир и отсутствует в купе; было очень рискованно возвращать его обратно внезапным шорохом или кашлем.
— Слышь, ботаник, — донеслось до меня снизу. — Ты разденься, ляг как человек. Я тихий, буянить не буду.
Повозившись, я слез. Вести себя как маленький ребенок было стыдно, в конце концов. Тридцатилетний мужчина, имеющий жену и дочь, мог бы выглядеть и подостойнее. Итак, спустился вниз, больно ударившись коленом, сел за столик напротив Зеки. Надо было что-то сказать, чтобы сохранить лицо, но нужные слова не приходили в голову. Наконец промямлил:
— Вы в Питере живете, да?
— Ты где служил? — ответил он вопросом на вопрос.
— Да, в общем, нигде… Так получилось.
— Водки хочешь?
Сам не зная зачем, я кивнул. Он протянул мне бутылку, затем передумал, достал из кармана бушлата пару замызганных пластиковых стаканчиков. Разлил — до краев.
— Давай, — произнес без выражения и залпом выпил. Я одолел стаканчик в несколько мучительно долгих глотков.
— Закусить есть? — последовал равнодушный вопрос. Я выложил свои гамбургеры: один — мне, один — ему.
Странно, но озноб отпустил и голова прояснилась. Зёка помотал головой:
— Ешь, а то окосеешь быстро. Нам еще ехать и ехать. Сжевав дрянь, я молча ждал, что будет дальше. Страх как-то рассосался; по крайней мере я уже не думал, что мой попутчик внезапно кинется меня душить. Он выглядел очень отстраненным, чуждым всему, всем предметам, которые его здесь окружали, и разве что метель привлекала его внимание — сплошная стена летящего наперегонки с поездом колючего снега.
— Вы… там служили? — очень осторожно предположил я.
— Какая разница? — глухой, безучастный голос, обращенный скорее уж к метели, чем ко мне. Словно у нее он спрашивал: какая разница?
— И воевали… да?
Немой кивок. Все Зёкино огромное тело было абсолютно неподвижно, замерло и застыло. Мне ведь казалось, что он, пьяный, немедленно обрушит на меня какую-нибудь кровавую кавказскую быль, я готовил себя к долгому выслушиванию грязных и страшных подробностей, но оказался в дураках. Зёка не хотел разговора. Может, целую вечность мог бы так сидеть у окна и пить свою водку. Мне тяжело молчать, я не умею. Нужно было срочно куда-то себя деть, что-то такое сделать. Ну, навязать ему беседу даже, уж раз я сейчас не сплю, а сижу за столом, и заснуть, видимо, не удастся.
— В «Новостях» передавали, что сейчас там мир… Правда мир? Он медленно сосредоточил свой взгляд на моем лице:
— А тебе-то что?
Я не нашелся что ответить.
— Там мира не бывает, — тихо сказал Зёка и опустил глаза.
Эта абсурдная ситуация продолжалась еще некоторое время: мы молчали. Мне отчего-то казалось, что обязательно должно быть продолжение, мы не можем ведь без конца молчать. Должно что-то произойти. Он допил бутылку, спустил ее под стол, затем лег, подложив руку под голову. Поезд мерно качало, за окном угрюмо, в ритм, выла буря. Зёка лежал мертвецом, совершенно неподвижно. Я оставался за столиком. Нечто внутри подсказывало, что следует обязательно оставаться на этом самом месте, уходить нельзя, иначе нарушится определенное невидимое равновесие между нами двоими, сломается подспудная, парадоксальная гармония. Несколько раз я проваливался в полудрему, соскальзывая подбородком с ладони. Зёка дышал ровно, неглубоко, спокойно. Нет, я чувствовал себя в совершенно идиотском положении: он давно спит, а я жду вот непонятно чего от этого пьяного уснувшего человека! Но в тот момент, когда я окончательно уговорил себя покинуть этот глупый пост, Зёка произнес очень внятно и уверенно, как приказал:
— Там, в сидоре, полезь… Возьми водяру, и еще там есть фотокарточки.
Я покорно подчинился его странному приказу, полез в вещмешок. Пахнуло кислятиной, дешевым табаком, бензином. Бутылку я нашел сразу, но с фотографиями провозился долго. Пришлось даже подсвечивать себе зажигалкой. Ничего особенного, оружия, например, Зёка с собой не вез — скомканное грязное белье, кулек с остатками еды, липкий и в крошках, еще ерунду всякую. Дембельский альбом лежал на самом дне. Во время всех моих манипуляций хозяин мешка-сидора валялся бревном. Даже не глянул в мою сторону. Затем велел равнодушно:
— На втором листе… верхняя карточка… найди третьего слева.
Обжигая пальцы о раскалившуюся зажигалку, я третьего слева нашел. Румяный белобрысый парень, деревенский с виду, стоит, обхватив за плечи двух своих товарищей. В одном я сразу узнал Зеку — бравого, веселого, загорелого, без этой жуткой белизны щек и губ. Бодрое молодое мясо распирает новенькую униформу.
— Нашел? — Да.
— Теперь водку открой. Выпей за упокой души.
Так странно все это происходило с нами, даже напоминало ритуал: полутемное купе, летящий сквозь вьюгу и мглу поезд, негромкие приказы лежащего неподвижно человека…
— А вы?
— Мне хватит. Пей, ботаник. Скажи: «За упокой души раба Божьего Алексея». Повтори.
— За упокой души… — Вагон встряхнуло, и водка плеснулась из стакана мне на руку, обожгла. — За упокой души раба Божьего Алексея. — Выпил.
— Спасибо.
И снова, черт побери, замолчал надолго! Я пролистал альбом. От страницы к странице лица становились все мрачнее, все более пыльной — одежда, и в окружающих пейзажах замелькали выразительные руины. Особенно поразила меня одна фотография: несколько перемазанных грязью парней с автоматами на броне танка. Один из них, лихо закусив папиросину, держит человеческий череп в пятнистой каске. Живой смеется, и скалится череп. Снимок был профессиональным — я подумал, может, оставил на память кто-то из заезжих журналистов. Несколько персонажей к концу альбома исчезло. Зёка — тоже. Он вообще появлялся лишь на nape-другой карточек и вынырнул лишь в самом конце, портретом — такой, каким я видел его сейчас.
— Слышь, ботаник… Это я его убил, Леху, — прозвучал в темноте далекий Зёкин голос.
— Вы? За что? — Я отдернул руки от альбома, тяжелые картонные страницы громко захлопнулись, обдав меня легким ветерком.
— По справедливости, — вздохнул он. — Ты вообще верующий, нет? Молитвы знаешь какие-нибудь? В церковь ходишь?
— Нет, — тихо ответил я.
— Слышь, ботаник, ты умный? — вдруг спросил Зёка, как бы ища поддержки своему внутреннему спору. — Умный, а?
— Не знаю…
— Как ты думаешь, Бог один?
Я не нашелся что ответить, и ответа моего он не ждал.
— А как так получается, слышь, ботаник, что чечены тоже Богу молятся? Ихний Бог тоже настоящий?
— М-мм… Может, и так.
Зёка взял свободной рукой с пола вещмешок, подложил под голову, поворочался с едва слышным стоном.
— Ну, выпей тогда еще.
— Мне довольно…
— Пей!
Собравшись с духом, проглотил водку. Уже был сильно пьян, начинало тошнить, и кружилась голова. Обычно я пью мало.
— Готов? — поинтересовался даже с любопытством каким-то Зёка.
— Гот-тов… — Посреди слова застряла икота.
— Тогда слушай. — Он помолчал еще, давая спиртному овладеть мной всерьез. — Короче, мы в учебке познакомились, я и Леха. У меня первый юношеский по дзюдо, и Леха тоже спортсмен был, парашютный спорт. В военкомате куда таких? Ясно, в десантуру. Значит, в учебке, говорю, познакомились. Он классный был пацан, Леха, веселый. Мечтал знаешь о чем? В «Альфе» служить. Говорит, оттарабаню два года, останусь на сверхсрочку, потом поступлю в Рязанское десантное, а оттуда буду в «Альфу» прорываться. И меня все подбивал тоже в Рязанское. Короче, мы с первых дней с ним как братья стали, такие дела… Ну, шесть месяцев пролетели, я даже не заметил… Поднимают нас ночью по тревоге в полной выкладке, грузят в поезд. Я у ротного спрашиваю: «Куда едем?» Он отвечает: «Служить». Хороший мужик был ротный, Климов по фамилии. Его под Ачхой-Мартаном убило… В общем, едем-едем, приехали: станция Владикавказ. Ну все, значит, ясно: война. Я, ты знаешь, занервничал, а Леха даже рад: мол, тем, кто после Кавказа, им поступать легче… Помурыжили нас во Владикавказе три недели — учения, то-се, а потом бросили в горы. На блокпостах дежурить. В общем, в первую же ночь погнали нас «деды» с Лехой в аул за водкой. Чё делать — пошли. Туда добрались нормально. Разыскали этого старика, взяли у него ящик, распихали по сидорам, идем обратно. Тут нас и повязали обоих, мы и «мяу» сказать не успели. Бросили в «жигуль» и повезли. Так что мы, ботаник, и повоевать не успели.
Попали мы к Руслану Дудаеву — но не тот Дудаев, даже не родственник, однофамилец. У него маленький был отряд, человек двадцать. С федералами воевать они боялись, просто похищали людей, потом продавали. Я слышал, через Дудаева человек сорок наших прошло.
Ну, короче, выгрузили нас, отметелили и бросили в зиндан. Это земляная такая яма, метра три, а сверху — решетка. Утром — допрос. Мы Руслану сразу сказали: мол, срочники, все такое, бабок никаких нет. Откуда бабки? У меня мать с отцом всю жизнь на заводе горбатились, у Лехи батя помер, а матушка на базаре стоит. Разве что хату продать, да и то… Короче, Руслан все понял. Он вообще был нормальный мужик, с понятиями. Пока не уколется — человек, а вот после укола зверел. Мы ему сразу: делай чё хочешь, но выкупа за нас никто не даст. Командованию вообще до сраки все, особенно если ты рядовой.
Наших вообще знаешь сколько в Чечне пропадает? Пишут: «Пропал без вести», — и точка. А человек может целый год в плену сидеть, пока не загнется или не убьют его… Ладно. В общем, были мы у них как рабы. Дрова кололи, окопы рыли, камни таскали, а ночью — опять в яму. И еще кандалы на руках и ногах. А пиздили нас, ты понял, каждый день, чтоб страх не теряли. И кулаками, и сапогами, и прикладами… Обкурятся к вечеру, и давай. В общем, месяц где-то прошел, и стало им скучно. Мы уже были вообще никакие оба, от любого удара сразу падали. Но держались. Леха все как заведенный повторял: ничего, ничего, выберемся отсюда — и в Рязанское… Я-то сразу понял, что нас тут похоронят, а он еще верил во что-то…
Короче, стало им, говорю, скучно, и повели они нас расстреливать. Дали лопаты, как фашисты, — ройте себе яму. Ну вырыли. Поставили нас на колени, руки за спиной связали… Вижу: Леха плачет. Кончай, говорю, не хватало, чтоб эти суки видели твои слезы. Подыхать так подыхать, они тоже когда-нибудь подохнут… Выстрелили, сволочи, — оказалось, холостыми. И ржут, ржут, весело им! Вот так. И потом они часто нас на расстрел водили. Когда холостыми, когда настоящими — мимо. Или бутылку на голову ставят и стреляют по ней. Тренируются. Я, ты знаешь, уже как мертвый стал, все мне было по хую. Ни о чем не думал, ничего не чувствовал. А Леху на измену пробило. Плакал каждую ночь как помешанный. Так жалко его было… Ну, в общем, однажды стоим мы с Лехой, пилим колоду. И тут выходит Руслан. Глаза стеклянные, обколотый, значит, и с автоматом. Все, думаю, вот теперь хана. Пилу бросил, стал спокойно, стою. Руслан затвор передернул и орет: принимайте, собаки, ислам, или замочу! Я не говорю ни слова: хули там, все равно живым отсюда не выбраться. А Леха вдруг, ты понял, на колени упал и говорит: согласен. Руслан мне стволом под ребра: давай, мол, и ты. Я молчу. Но не убили меня. Били в тот день сильно, но не убили. Потом я долго еще кровью ссал. А Леху в баню повели, накормили, выдали ему форму. По ночам он мне то лепешки кусок притащит, то еще что. Я на него не злился. Он с ними молился пять раз в день, даже отожрался немного…
В общем, привезли однажды двух наших пленных, контрактников. С контрактниками свой разговор, их мочат сразу. Срочников еще так-сяк, а контрактников — нет. Ну чё… вывели Леху, дали ему автомат. Ты ж наш, говорят, мусульманин — стреляй! Или мы тебя вместе с ними… Он глаза закрыл — и выстрелил им по ногам. «Чехи» его похлопали по плечу, взяли контрактников раненых и головы им отрезали. Я это видел все, при мне все было. Леха рыдает, бля, по земле ползает, а чечены смеются. Потом взяли одну голову, начали в футбол играть, а его на ворота поставили… Вот как вышло, ботаник. Я им могилы копал, хоронил. Потом Леха на операции еще ходил…
В общем, уговорил он Руслана меня отпустить. Типа, на хера я им нужен, все такое… Руслан, когда на ломке, всегда был почему-то добрый. Черт с тобой, говорит. Посадили меня в тот же самый «жигуль» и выкинули возле ближайшего блокпоста. И головы этих контрактников еще с собой дали — мол, покажешь своим. Ну, меня сперва в штабе допросили, потом — в госпиталь… А когда вышел, банду Дудаева взяли. Кого сразу завалили, на месте, Руслана фээсбэшники в Москву увезли, а Леху пацаны спрятали. Решили его по-своему судить. Чё сделали — просто положили под бэтээр… Сначала колесом по ногам проехались, затем грудак раздавили. А за баранкой знаешь кто сидел?.. Я сидел.
Меня, очень пьяного, трясла крупная дрожь, так что даже зубы стучали. Стараясь совладать со своими челюстями, не прикусить язык, я через силу пробормотал лишь одно-единственное слово:
— П-почему?
Зёка закрыл лицо обеими своими громадными ладонями:
— Потому что так надо было, ботаник. Потому что закон такой.
Время провалилось в бездонную вязкую паузу. Снарядом пущенный сквозь мрак и буран, летел наш поезд, наше «Северное сияние». Мускусный, звериный запах пота, солдатского грязного белья смешивался с духотой и испарениями алкоголя. За тонкой перегородкой храпел и булькал кто-то спящий, пережевывая в забытьи невнятные возгласы.
Вагон трясся, звенел оледеневший металл буферов. Тлела последним угольком костра лампочка. Я налил себе еще водки, проглотил, не чувствуя ни вкуса, ни крепости. Впервые в жизни вдруг почувствовал, как может быть далек от меня человек. За миллион километров, в другом мире жил несчастный Зёка, на противоположном конце бескрайней Вселенной. На необитаемом острове чудовищного одиночества. Он хотел, может быть, отпущения грехов своих, не знаю, хотя уж явно не от меня… хотя кто ему вообще мог отпустить этот грех? Может, там, в самой крайней точке отчаяния, где он сейчас находился, было такое место, откуда человек в состоянии напрямую разговаривать с Богом? Не знаю…
— Я его в цинковом гробу в Москву привез, — долетел до меня запредельно тихий Зёкин голос. — Матери сказал, мол, погиб смертью храбрых, как герой. А теперь вот домой еду… Слышь, ботаник, у тебя есть какие-нибудь таблетки, чтоб заснуть? Я вообще теперь спать не могу, и водяра не берет… Матушка Лехина повела меня в церковь, она верующая. Поставила свечку, имя его на какую-то бумажку записала, чтобы поп потом прочел, когда служба будет. А поп ей сказал, мол, все, кого на войне убили, попадут в рай. Слышь, ботаник, я вот все думаю: если Бог есть, как страшно жить, бля!..
И больше он не сказал ни единого слова, замер и затих. Я, захмелевший совершенно, уснул за столиком, а когда проснулся, Зеки в купе уже не было. Он, наверное, не в Питере жил, где-то в области. С трудом придя в себя, я автоматически сунул руку в карман куртки и не нашел там портмоне.
…Эта странная ночь в скором поезде, мне кажется, вызвала к жизни события, которые будут описаны ниже. Но она не имеет к ним никакого отношения, даже приблизительно, она сама по себе. Вы замечали, наверное, что некоторые случайные встречи, непредвиденные ситуации как бы бросают быстрый свет на нашу дальнейшую судьбу, выхватывая из тьмы будущего вехи, отправные точки, из которых оно состоит. Встреча с Зёкой, убийцей, вором и мучеником, оказалась мрачным конспектом истории, которую я попытаюсь вам рассказать. Впрочем, если редактор (я все же надеюсь, что рукопись выйдет за стены Лефортовской тюрьмы, мне даже выплатили аванс за будущую книгу) найдет нужным вычеркнуть этот пролог, я в принципе возражать не стану. Но я не писатель. Мое имя вы прекрасно знаете из газет, и поэтому ни в одной строке книги оно названо не будет. Писать, заниматься творчеством мне непривычно. Всю жизнь я читал лишь специальную литературу. У меня нет в голове образца для подражания, кроме нескольких одноразовых авантюрных романов в мягкой обложке, которые потребляют в метро. Закончив пролог, я понял, что писать буду именно в этом стиле, к сожалению. Но не важно. Вы должны меня извинить.
Сейчас я много думаю о том, что именно приводит нас к тем или иным результатам, итогам. О том, что начало романа всегда определяет его конец, какая бы ни лежала между ними пропасть. Каждый день в мире случается что-либо, противоречащее нашим представлениям о разумном ходе вещей. Одиночная камера, где я сейчас ожидаю суда, дает достаточно времени для размышлений. Некоторые из них принимают форму монологов моих героев. Я не тороплюсь с выводами. Достаточно и того, что сказал в свое время имам Ниматулла:
То, что ты называешь жизнью, — лишь ближний удел преисподней. Огонь пожирает тебя и в минуты любви сладчайшей. Когда же поистине кончатся адские муки и срок свой избудешь,
Вернешься туда, откуда не будет возврата.
Не думай, что грех твой безмерно тяжел и страдания вечны,
Пусть даже в аду не бывает ни года, ни века. Воля Аллаха тебя поместила на грешную землю, Милость Аллаха от жизни страдальца избавит.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Вы любите китайскую еду? Многие люди думают точно так же.
Кириллу тридцать два года. У него красивое тонкое лицо с аккуратным мышиным хвостиком эспаньолки на подбородке. Подбородок портит Кирилла, скошенный и жирноватый. Кирилл вертит в руках толстостенный стакан, в котором плещется «Джек Дэниэлс», позвякивая льдом. На правой его руке — еще не потемневшее, яркое обручальное кольцо. Светильник, спущенный низко над столом, освещает наши две лысины, его и мою. Моя голова выбрита почти наголо, череп крупный, выразительной формы. Кирилл пытается спрятать свою лысину, тщательно зализав волосы гелем. У него черная вьющаяся шевелюра, голубые глаза и новая супруга-фотомодель. Наш столик застлан темно-красной, цвета давленой смородины, атласной скатертью, на нем — приборы и белые салфетки. Ресторан почти пуст, полутемен и кажется таинственным. В синеватом сумраке видны китайские ширмы с драконами, огоньки свечей и смазанные профили нескольких поздних посетителей. За окном беззвучно проносятся в потоках света ночные автомобили. Две проститутки в коротких кожаных юбках курят у дорожного знака и отпивают по очереди колу из пластиковой бутылки. В ресторане прохладно, но мой пиджак после двух виски кажется мне неудобным. Я снимаю пиджак, вешаю его на спинку лакированного черного стула и остаюсь в белой тишотке с надписью «Lonsdale». Кирилл делает глоток, достает пачку «Мальборо-лайтс», нервно перекатывает в пальцах длинную, стомиллиметровую сигарету, сует в рот. Плотно ухватив губами, прикуривает.
— Что у нас сегодня? Понедельник? — спрашивает он. Я киваю. — В пятницу придет заказчик. Я бы хотел обо всем переговорить заранее.
— Говори.
Ярко-голубые глаза Кирилла снуют по столу, как бы в поисках какого-то мелкого предмета, хлебной крошки, например. Меня это немного раздражает. Мой друг нервничает.
— Очень серьезный человек, понимаешь?
— Или бандит, или депутат, — отвечаю я. — Или два в одном.
— Не угадал. — Кирилл глубоко, до кашля, затягивается, долго пережевывает дым. — В общем, не важно. Нужно будет сделать одну работу. Так получается, что сделать ее можешь только ты.
— Почему? — Мне не очень нравится, как обстоят дела. Я внимательно гляжу на Кирилла.
— Ну, во-первых, потому что я тебе доверяю. А во-вторых, в нашей конторе сделать это больше некому. Ты — лучший. Если бы не ты, конторы бы не было.
— Спасибо, — киваю я, — за комплимент. Так что ему нужно, этому твоему серьезному человеку?
Девушка с непроницаемым татарским лицом, раскрашенным до состояния маски, приносит два блюда пекинской утки. Мелко нарубленное мясо перемешано с овощами. Рагу какое-то, а не нормальная птица. К ней полагается салат с замысловатым названием «Дракон спускается по бамбуковой лестнице». Никогда не знаешь, чего они намешают в свои блюда, китайцы. Заказ делал Кирилл. У меня нет времени ходить в рестораны. Особенно такие.
— В одном банке на Азорских островах у людей зависли большие деньги. Счет, как ты сам понимаешь, приватный. Он заблокирован. Не знаю почему, я не вникал. Короче говоря, нужно вытащить деньги оттуда. Вот так.
Я распечатываю дурацкие палочки, закатанные в пластик, — пользоваться ими не умею. Со стороны, наверное, выглядит смешно, как я ими пытаюсь подцепить скользкий кусок утки. Наконец это удается — нюхаю, отправляю в рот. Острая, пряная, гадкая мешанина. Лучше бы заказать обычный стейк в обычном заведении. Отхлебываю виски. Оно уже не холодное, лед растаял.
— Ты что, шутишь?
— Нет.
Пожимаю плечами:
— Кирюха, я этим заниматься не буду.
— Почему?! — Он сразу вспыхивает, как девушка. Заливается румянцем. Когда Кирилл волнуется, у него всегда румянец во всю щеку. И уши розовеют. Еще с детства.
— Я не Кевин Митник. И не хочу связываться со всяким дерьмом. Пусть другие грабят банки, Кирюха, мне это не надо. И тебе в это влазить не советую. Хочешь, чтобы тебе башку отстрелили, да? И мне заодно?
Он молчит, барабанит палочками по столу — в школьном ВИА когда-то мой друг лабал на ударных. Сигарета торчит в зубах — уже пепла насыпал на чистую скатерть. Руки заняты пепел стряхивать.
— Забудь, — говорю я. — Давай лучше есть. А серьезный человек пусть идет в жопу.
— Это мы с тобой пойдем в жопу, — мрачно отвечает он, не прикоснувшись к китайской птице. — Он знаешь откуда? — Кирилл суетливо и испуганно перемещает зрачки вверх, на то место, где к потолку крепился светильник. — Оттуда. Он полковник.
— Ты чего, Солженицына перечитался? — улыбаюсь я и демонстративно жру свою утку. — Думаешь, на «воронке» приедут и заберут?
Кирилл внимательно разглядывает циферблат своего тяжелого, как бабушкин будильник, швейцарского хронографа. Там, на циферблате, куча дополнительных табло и маленьких стрелок. Может, они ему показывают верное направление жизни, не знаю.
— Он — наша «крыша», ясно?
— Чего-о?
— Того.
— Почему я об этом ничего не знаю? — Вытираю рот салфеткой, швыряю белый комок на середину стола. Комок шевелится, как живой кролик. — А чего я еще не знаю?
— Послушай, — говорит он, потупясь, не поднимая глаз, красный весь как рак. — Мы же с тобой друзья. Помнишь, как яблоки вместе воровали, как… Ладно. А как фирму придумали, помнишь? Сидели в детском садике, в подсобке. На каких машинах работали… «Четверка» — за счастье… И не было у нас с тобой ни денег, ни хрена — только умные головы. Твоя и моя.
— Да-а, сначала кололи Windows три одиннадцать, потом шестую «винду»… Молодость.
— Вот и весь был бизнес! — Кирилл одним махом допил виски и зло грохнул стаканом о стол. — Колоть лицензионные диски и толкать, колоть и толкать… А теперь — сорок человек в конторе, офис в центре, контракт с Силиконовой долиной! Ты на что свою «шкоду» затруханную поменял?
— На «шевроле».
— Во-во. И квартиру купил…
— Да и ты, в общем…
— И я, и я… У нас с самого начала какой был уговор, помнишь? На мне — менеджмент, на тебе — творчество. Я же программер никакой, пустое место, так я и не лезу. Мое дело — бухгалтерия, договора, крестики-нолики… Когда у нас в последний раз налоговая была?
— Давно, — морщусь я.
— А пожарные? А все остальные? Ты думал когда-нибудь, почему так? Нет, не думал? Куда тебе… Ты умный, ты в облаках витаешь. А тупой Кирюха тебе условия создает, блин, для свободного полета. То в бумажках копается, то клиентам жопу лижет… Уборщицы — и то на мне! Ты когда-нибудь интересовался, как это все происходит?
— Перестань, — говорю я, стараясь сохранять трезвую голову. Самое ценное, видимо, что у меня есть. — У меня нет времени заниматься уборщицами и «крышей». Работу надо сдать Джордану к первому сентября, а у меня ни черта не готово. Мы же все каждый день сидим до полуночи. Меня жена скоро съест с потрохами.
Кирилл вздыхает, запускает пальцы обеих рук в свои кудри, жирные от стайлинг-геля. Безмолвная татарская девица приносит нам еще выпить.
— Семья, семья… — ворчит он. — Знаешь анекдот: нашел один программер в лесу лягушку. Ну, принес домой, посадил в банку. А она ему говорит: я не лягушка, а заколдованная принцесса. Поцелуй меня, и стану кем была. Программер посмеялся, за машину сел. Час там прошел, два… Короче, лягушка ему опять говорит: может, ты чего не понял? Я — принцесса, поцелуй меня, то-се… Он опять посмеялся и отвечает: понимаешь, работы много, на баб времени нет. А говорящая лягушка — это круто.
— Дружище, а в морду за такие анекдоты?
— Они на «воронке» не приедут, — вздыхает он со стоном. — Просто не дадут работать. Начнутся проверки постоянные, всякая лабуда. Если Джордан узнает, что у нас проблемы, контракт в жизни не продлит. Зачем? В одной Москве компьютерных фирм до черта. А в Мадрасе, в Сингапуре, в Бангкоке? Им ведь все равно, где софт по дешевке заказывать, лишь бы качественно и в срок. А без Джордана мы — никто. Что ж теперь, десять лет работы — коту под хвост? И все из-за твоих понтов? Из-за того, что ты хочешь оставаться чистеньким?
— Хорошо… Но почему они не могут своих специалистов привлечь? Что у них, никого нет?
— Выходит, не могут, — грустно отвечает Кирилл, поддевая палочками кусок китайского рагу. Управляется он с этими деревяшками дурацкими отлично, но, по-моему, и вкуса еды почувствовать не в состоянии. — Там же свои расклады… Прошу тебя как друга: сделай. Пожалуйста! Жалко ведь, если все так бездарно кончится…
— Ну ты хоть представляешь себе, что такое — кракнуть банк?
— С трудом.
— Я тоже. У них ведь системы защиты, у них… А если не получится? Что тогда?
Кирилл оживает, блестят глаза:
— Ты, главное, соглашайся. Придет этот козел, отвечай ему: сделаю. Там видно будет. Мы же не Кевины Митники, правильно ты сказал.
Сжимаю кулаки, ставлю их перед собой на стол — мой жест, когда я принимаю решение. Твердо гляжу в Кирилловы влажные, перепуганные глаза. Как ни крути, он мой единственный друг. С самого детства. Одноклассник, однокурсник. Родной человек.
— Он придет, мы с ним поговорим обо всем. Я тоже не хочу лажаться. Если да — значит, да. А нет — то нет. Если он «оттуда», значит, умный. Должен понимать.
Моя комната, день, лето.
Я встаю из-за стола, подхожу к окну и вижу у перекрестка торчащий из асфальта пожарный гидрант, похожий на позеленевшую от времени водяную колонку. Или голову языческого идола, занесенного по плечи песками времен. Внезапно гидрант взрывается с громким хлопком, и из земли начинает с шипением хлестать вода. Удивленный, я выглядываю на улицу и вижу, что все до одного гидранты в городе одновременно взорвались. Мутный поток заливает мостовую. Я понимаю, что начинается наводнение.
Паника. Перепуганные люди собираются на сухих островках, сбиваются в кучки и устанавливают нечто вроде походных алтарей различных религий: христианской, мусульманской, иудейской… Подчиняюсь общему для всех импульсу, я тоже выхожу из дому. Люди стоят в длинных очередях у алтарей, молятся с громкими криками страха и страдания и отходят в сторону, уступая место другим. Я брожу от алтаря к алтарю, пытаясь найти свой, близкий мне и моей душе, но, потратив много времени, возвращаюсь в свою квартиру ни с чем.
Вода прибывает. Она не проникает в комнату, но уже поднялась до середины окна, затем еще выше. Город погружается в океан. Я чувствую, как во мне нарастает клубящийся страх. Страх не утонуть, но чего-то другого, гораздо более жестокого и опасного, что может случиться. Это чувство становится все сильнее, оно мешает мне дышать. Внезапно за окном мелькает длинный белый силуэт, спустя пару секунд он возвращается уже отчетливо видным: огромная белая акула, как в фильме «Челюсти». С отчетливым ужасом я сознаю, что это и есть моя смерть, мне суждено умереть не от воды, а от акулы…
Сознаю и просыпаюсь.
Моя голова лежит у клавиатуры, подмяв под себя «мышь». На мониторе движется, живет своей жизнью бесконечный Save Screen — канализационные трубы вырастают одна из другой, похожие на клубок спагетти. Почему-то всегда перед самым пробуждением чувствую себя уверенным и счастливым, как в детстве. Такой прозрачный отрезок между сном и бодрствованием, наполненный светом. Но стоит только переключиться чему-то в голове, некто нажимает Alt+Tab, переходя к другому «окошку», и дневные мысли сразу выстраиваются шеренгой перед тобой, требуя, чтобы ты их немедленно думал. Словно стояли за дверью и ждали утра, а потом как по команде сразу вошли.
Я сознаю, что Тани нет в доме. Наверное, потому и уснул за компьютером, что кровать моя пустая, холодная. Не хочется туда идти, где Танькой еще пахнет. С того дня, как она ушла и забрала дочь с собой, я не менял постельное белье, а уже полтора месяца почти прошло. Сказать, что мы плохо жили, скандалили? Нет вроде. Десять лет все-таки вместе. В последнее время — да, у нее была депрессия. Когда женщина сидит дома, а муж уходит рано утром, приходит ближе к полуночи, без сил, валится и засыпает, депрессия может возникнуть. Так получалось, что все почти наши разговоры происходили по утрам. Я просыпался с тяжелой головой, брел, как зомби, в ванную, далекую, словно Антарктида, ворочал зубной щеткой, которая казалась тяжелее бревна. Таня готовила мне кофе и жарила яичницу. Одну и ту же яичницу на тефлоновой сковородке, без сала, моего любимого, — будь они прокляты, женские журналы! Садилась за стол, наливала себе стакан сока и начинала… Говорила всегда одно и то же: мне скучно, мне скучно, когда это все кончится… Ну что я мог поделать? Заказы шли один за другим, работы невпроворот — и мне нравилась, черт возьми, моя работа, всегда нравилась! Она говорила: ты больной человек, тебе не нужно иметь семью, семья ни к чему тебе… У компьютерщиков из-за излучения монитора «это самое» не стоит, мы с тобой не трахаемся неделями, я ведь женщина, в конце концов, я чувствую себя как мартовская кошка… Я отвечал всегда одно и то же: давай съедем с этой квартиры, подарим «шевроле» детдому, откажемся от стоматолога, от твоих курсов йоги, фитнес-клуба и походов в «Беннетон», от дочкиной хореографической школы, от всего откажемся и будем жить как простые люди. Я говорил: найди себе работу, хоть какую-нибудь, не сиди сиднем… Заведи себе любовника, в конце концов, говорил я ей, или собаку. Я говорил: поедем в отпуск, в какую-нибудь экзотическую страну вроде Никарагуа или Гондураса, где только пираньи и партизаны, а у власти — усатый брюнет-диктатор, который влюбится в тебя, а меня бросит в темницу… Я шутил. И дошутился. Думал, это пройдет: депрессия, истерики, вспышки бешенства, мигрени… Друзья, знакомые, соседи — все так живут. Вкалывают по двенадцать — четырнадцать часов, почти без выходных, а как же иначе? Мы так живем, да. Мидл-класс. Не олигархи, не бандиты, не «новые русские», это наш стиль. Наш безумный город, безумный мир. У этого мира надо вырвать успех, деньги, взять их силой, потом — иначе не бывает. Чем-то надо жертвовать, убеждал я себя, хотя бы временно, на какой-то определенный срок, чтобы потом расслабиться, расслабиться…
Идиотство, какое идиотство, честное слово! Что я должен сделать? Бросить работу? Я даже рабочий день свой сократить ни на минуту не могу: на мне же люди висят, на мне все завязано! Заказ надо сдавать срочно, очень срочно. Мы делаем софт для Силиконовой долины, совместное со Штатами предприятие. Двенадцать специалистов плюс переводчики, бухгалтерия, завхоз, уборщицы, служба безопасности и президент Кирилл. «Интерком» занимает этаж в авангардном небоскребе рядом с метро «Кропоткинская». Прозрачные лифты, охрана, трехступенчатая система допуска. Даже в собственную машину ты так просто не войдешь, ее распароливают для тебя с головного терминала. Пароли меняются каждую неделю. Это необходимые меры предосторожности. То, что мы продаем в Америку, не облагается налогами. Совершенно нелегальная продукция, контрабанда. Они лицензируют готовый программный продукт и толкают его у себя за настоящие деньги. Принцип очень простой. Есть литературные негры, а мы — компьютерные негры. Сам мистер Натаниэл Джордан — темная личность итальянского происхождения. Если он в коза ностра, я не удивлюсь. Привозит наличные деньги в черном кожаном чемоданчике. Похож на зажиточного армянина.
Она сказала однажды: «Мне с тобой страшно. Ты рядом, а такое ощущение, что тебя нет. Я не чувствую тебя. У тебя такие глаза иногда бывают, как у мертвого». Зато теперь я ожил, твою мать! Теперь у меня болит сердце, я не нахожу себе места. Мечусь в четырех стенах, все валится из рук. Противно самому себе готовить жрать — как будто совершаешь гнусность, предательство какое-то. Похлебал с утра наскоро кофе, высосал сигарету — и бегом, бегом, вон из дому! Не хватало, чтобы она подала на развод, только этого еще не хватало…
…Он приехал ровно в десять, как было условлено. По крайней мере их можно уважать за точность, тех, кто нас бережет. Суровых мужчин «оттуда». На парковку, как скромный лакированный крейсер, торжественно прибыл черный «БМВ». Мы наблюдали из окна, я и Кирилл, прилипнув к стеклу, расплющив о стекло носы, как дети. Ждали. Из машины вышел энергичный полноватый мужчина с кожаным дипломатом, в дорогих штиблетах с модными квадратными носами. Дымчатые очки и серебро на висках. Очень официальный, как телекомментатор. Через несколько минут он был уже в приемной: дизайнерский темный пиджак, водолазка, благообразное, любовно выбритое загорелое лицо с раздвоенным крепким подбородком, коротко стриженная шевелюра, пышные седые брови. Барин. Пахло от него сладковато-пряным резким одеколоном. Дорого и по-солдатски крепко, словно вышел из полковой цирюльни. Широко улыбнулся секретарше белоснежной металлокерамикой, пожал нам руки — мягкая кожа ладони, неожиданно сильные, хваткие пальцы.
— Борис Борисович.
— Пойдемте в кабинет, — вежливо промямлил Кирилл.
Остановившись на пороге, визитер оглядел все по-хозяйски внимательно и цепко, в деталях, словно это были его новые апартаменты. Я поймал этот фотографирующий взгляд — профессиональный, с прищуром, с быстрой искрой. Может, боялся, что здесь пулеметчики во всех углах? Покивал головой, снова улыбнулся:
— Хорошо тут у вас. А совсем недавно, кажется, переехали, да?
— Полгода уже, — подсказал Кирилл.
— Хорошо-о, — густым, вязким баритоном повторил он. — Мы в свое время поскромнее жили, поскромнее.
Борис Борисович прошествовал к Кириллову креслу, вбивая граненые каблуки в податливый ковер, поставил рядом свой дипломат, сел, закурил. Расслабленные, с ленцой, движения человека, который не стесняется своего влияния и власти. Которому в этом мире принадлежит многое, очень многое. Секретарша принесла кофе и печенье. Поблагодарил, взял чашку — мизинец по-купечески оттопырен, — шумно отхлебнул.
— Хороший кофеек, благодарю. Как вас зовут, девушка?
— Ира, — ответила секретарша.
— Вас тут не обижают начальники ваши, а? Такие молодые оба, симпатичные… Цветы дарят на Восьмое марта?
— Все хорошо, спасибо. — Она попятилась к выходу, слегка зардевшись, как положено, опытная.
— Если обижать будут, вы мне позвоните, я их прищучу! — легко засмеялся он и подмигнул исчезающей Ирине. — А вы, Кирюша, какой-то бледный. Почему? Я знаю почему. Когда зарядку в последний раз делали? Молодежь, молодежь… Вот я, например: каждое утро в семь — подъем, зарядочка с гантелями, потом бегаю в парке. А зимой купаюсь в проруби. И давление не скачет, и сердце не шалит. Только вот курю много. — Он с осуждением покосился на свою сигарету, «Собрание», с золотым ободком. — Жена говорит: бросай, бросай, — а не получается. Привычка. И вообще, мои юные друзья, что может быть лучше, чем чашка крепкого кофе, пятьдесят капель коньячку и хорошая сигарета? Не знаю, как вы, а я люблю наш, армянский. Старые товарищи не забывают, шлют из Еревана. Иногда заработаешься до ночи, устанешь как последний пес, вынешь из шкафа бутылочку, нальешь — запах, запах какой! Я ведь когда в Москву из Саратова в институт поступать приехал, не то что на коньяк — на пиво с трудом наскребал…
Меня это развязное балагурство начало беспокоить. Когда человек, чей секретный банковский счет в оффшорной зоне заблокирован, так себя ведет, становится неприятно. Но к делу Борис Борисович и не думал переходить.
— Я когда в Москву приехал, — продолжал он невозмутимо, похлопывая ладонью по кожаному подлокотнику, — у меня такой маленький был фибровый чемоданчик, один. В нем две рубашки, одни брюки и галстук. Мне галстук дядька подарил на день рождения. Красивый такой, с павлинами. Ох, что за павлины! Куда он делся, ума не приложу. Так жалко! А сапоги отец справил. Он штатской обуви не признавал, ходил всегда в сапогах. Со скрипом, м-мм… Сошел я с поезда и сразу на Красную площадь поехал. Иду, значит, сапогами скриплю, а вокруг народу, народу! Аж страшно. Не-е, думаю, надо назад возвращаться. Потеряюсь я здесь, затопчут. Только когда экзамены сдал, малость успокоился. А бедность какая была! Я себе первый свой костюм только к свадьбе справил. А женился я, мои юные друзья, в двадцать семь лет. И выделили нам в общежитии комнату, так-то. Как у Высоцкого: «На тридцать восемь комнаток всего одна уборная». Квартиру получил в тридцать пять… Так что я вам даже завидую.
Он умолк, заботливо погасил сигарету. Собрал окурком пепел в аккуратную горочку посреди пепельницы. Мы с Кириллом оба теряли терпение, раздраженно переглядывались исподтишка. Борис Борисович, закинув ногу за ногу и слегка покачивая носком сверкающей, как офицерский сапог, туфли, продолжал как ни в чем не бывало:
— Все, знаете, к компьютерам не могу привыкнуть. В наше-то время компьютеров не было. Я еще арифмометр застал, железный «Феликс». Крутишь ручку и считаешь. Вот такая древняя штуковина. Мне вот сейчас в кабинет компьютер поставили, а я, ей-богу, даже включить его боюсь. Мало ли, не на ту кнопку нажмешь, еще сломается… Так и стоит себе. А вот внук мой, Данька, — того вообще от компьютера за уши не оттащишь. Восемь лет пацану, а уже все знает. Как ни приду — все в кого-то стреляет, в каких-то монстров. Или на самолете летает, Америку бомбит. Черт-те что, какие игры придумывают! Говорю ему: «Даня, пойдем в зоопарк сходим, что ли, мороженого поедим». А он мне: «Отстань, дед, мне еще главного гоблина замочить надо». Видали?! Что такое гоблин, Кирюша?
— Чудовище, Борис Борисович, — невесело ответил Кирилл, сцепив пальцы в сложный тугой замок.
— А слово «театр» через «и» пишет, вот вам и все чудовища, — сокрушенно заметил он, доставая новую сигарету. — Ладно, на правильную дорогу поставим, когда время придет… Так вы, мои юные друзья, уже обо всем переговорили, да?
Мы кивнули.
— Вот и славненько. У вас небось своих дел хватает, но уж простите. Надо постараться. Молодой человек в курсе, Кирюша?
— В курсе, в курсе, — пробормотал Кирилл.
Борис Борисович не торопясь открыл свой дипломат, повозившись с золочеными кодовыми замками, вынул пластиковую папку, подал мне. Но сделал это так, что пришлось потянуться через стол, хрустнув позвонками. Улыбнулся:
— Ознакомьтесь, пожалуйста. Здесь все, что вам нужно. Я накрыл папку рукой:
— Почитаю дома. В спокойной обстановке.
— Дома, мой юный друг, надо отдыхать, — произнес Борис Борисович таким тоном, что охота возражать сразу отпала. — А на работе надо работать. Читайте. Пока я здесь, можете задавать вопросы. Потом поздно будет.
Я послушно (в генах, наверное, сидит это послушание) пролистал бумаги. Ничего особенного: реквизиты банка, номер счета… Делу не поможет.
— Есть вопросы?
Выдержав паузу, собравшись с мыслями, сказал:
— Есть.
Кирилл вздрогнул.
— Задавайте. Если смогу, отвечу. — Борис Борисович был снова само радушие.
— Вот представьте себе… — начал я, понемногу смелея. — Представьте себе, что вы узнали некую информацию, которую вам знать не положено. Вы возвращаетесь поздно вечером к себе домой, входите в подъезд, и из темноты вам навстречу вылетают ровно девять граммов свинца…
Кирилл больно толкнул меня ногой под столом. Но я продолжил:
— Это очень неприятно. В газетах каждый день сообщают о таких происшествиях. А у меня жена, ребенок… Да и вообще…
Борис Борисович неестественно громко, подчеркивая каждое раскатистое «ха-ха», засмеялся. Делал он это с удовольствием, настойчиво и долго. Когда смеяться надоело, помахал ладонью в воздухе, разгоняя дым.
— Как учил в свое время товарищ Сталин, «кадры решают все», мой юный друг. А мы кадрами не разбрасываемся… Еще вопросы есть? Нет? Закрываем заседание? Ну, тогда за работу, товарищи. Увидимся в понедельник.
— Простите, — как можно вежливее произнес я. — Вы, наверное, не вполне себе представляете…
— Это вы не вполне себе представляете! — грубо оборвал меня он, с резким стуком опустив на подлокотник кресла крепко сжатый кулак. — Сколько вам потребуется времени?
— Не знаю… Может, месяц…
— Две недели, — жестко и отчетливо, звеня вороненым металлом каждого слога, отчеканил Борис Борисович, слегка изменившись в лице. — И не вздумайте меня дурачить, мой юный друг. Это неразумно.
Когда он вышел, мы с Кириллом долго молчали, стараясь не глядеть друг на друга.
— Он что, всегда такой? — спросил, наконец, я.
— Пьет много в последнее время, — глухо ответил Кирилл. — Тебе хватит двух недель?
— Господи, ну где ты ходишь? Сколько времени уже! — криком встретила меня Таня у дверей.
Глянул на часы: полседьмого. Сказал (ведь обычно являюсь ближе к полуночи):
— А что? По-моему, не поздно.
— Как не поздно! Осталось всего полчаса, — топнула жена ногой — это ее смешной жест нетерпения. — Машку я уже давно к родителям отвезла. Давай быстро собирайся, я тебе кофе с бутербродом сделаю, и полетели.
— Куда? — спросил я, глупый склеротик. Даже не обратил внимания поначалу на то, что Таня накрашена, причесана, эти важные процедуры могут отнять у нее и полдня, одета в вечернее платье. Этот чешуйчато-рыбий, в обтяжку, невероятного какого-то черно-бурого цвета наряд от Ватанабе я подарил ей на годовщину свадьбы. А купил в одном забавном комиссионном магазине, куда жены «новых русских» сдают наскучившие тряпки, Абсолютно новые вещи там обходятся в треть настоящей цены, чудеса капитализма. Так вот, я спросил ее: куда?
— Что? — Таня застыла в полудвижении, половина ее тела уже стремилась в кухню. С трудом удержала равновесие. — Что ты сказал?
Конечно, я сразу все вспомнил. Сегодня у нас событие. Идем слушать «Виртуозов Москвы», самого маэстро Спивакова во главе их, виртуозов. Консерваторская девочка, несостоявшаяся звезда виолончели, утонченное мое создание, она через третьи руки достала эти драгоценные билеты, с бешеной переплатой. Слева от нас, сообщила мне гордо, будет сидеть испанский атташе, справа — культовый театральный режиссер.
— «Виртуозы Москвы», — произнес я с мукой.
— Ну и?.. — В Танином голосе тяжело звякнуло настороженное железо, сталь ударила о сталь.
Я сел на табурет в прихожей, начал разуваться. Медленно расшнуровывал туфли, пытаясь подобрать нужные слова, выстроить их в соответствующем порядке. Какой, к черту, концерт, если сроку — всего две недели и я понятия не имею, что делать! Каждая минута дорога! Сесть немедленно за машину и думать, думать… Н-да, говорящая лягушка — это круто…
— Знаешь, солнце, — начал я, тупо глядя в пол, — ты не могла бы сама сходить, а? Или звякни Василисе, она будет счастлива, пойдете вместе… Как насчет этого?
— Что случилось? — Таня, растерянная, так странно обернулась ко мне, словно не вполне владела своим телом, голые руки болтались у бедер. — У тебя что-то случилось?
— Да ничего особенного… Просто опять загрузили срочной работой.
— Но ты же обещал мне! — Руки ожили, взлетели к груди, словно не зная, что им делать или куда спрятаться, ведь на вечерних платьях не бывает карманов. — Ты же еще месяц назад мне обещал!
— Обещал… ну прости, маленький! — Я встал, наверное, поза у меня была драматической, попытался обнять Таню, она отшатнулась, объятие печально сомкнулось в пустоте. — Так получилось. Явился заказчик, и… Ну, в конце концов, я же ни черта не понимаю в классической музыке, я сплю на этих концертах, зачем я тебе там нужен, сама подумай? И голова сейчас забита совершенно другим… Серьезно, позвони Василисе, вы же с ней давно не виделись…
Что толку было в оправданиях! Я сам понимал, как никчемно это все выглядит, и крушение надежд даже в миниатюре — паршивая штука, но…
Сначала Таня не сказала ничего. Стояла и молчала, очень бледная. Даже губы под густой вишневой помадой, и те как-то побледнели. Глаза широко открыты, смотрела на меня, но словно не видела, размыто смотрела. Затем начала судорожно сглатывать. Ох, я знаю это глотание — за ним обычно следует долгая, изматывающая истерика с громкими рыданиями, с запиранием дверей ванной, с моим многочасовым сидением у запертых дверей и уговорами, уговорами… Я, честно скажу, в аптечном шкафчике над умывальником оставил только вату, активированный уголь и йод, выгреб от греха подальше все таблетки еще давно… так вот, Таня глотала. Что-то приговаривая воркующим, фальшивым голосом, я пытался к ней приблизиться, там, может, выйдет вместо театра затащить в постель или еще что… Потянулся к голому плечу, хотел дотронуться, еще подумал, что ладони у меня, как назло, холодные и влажные…
— Убери руки! — взвыла-выкрикнула она дурным голосом. — Пошел, пошел вон отсюда!
Я таких нот в ее крике раньше не слышал, оторопел. Очень нехорошо Таня вскрикнула, с сумасшедшиной, безумно. И глаза оставались сухими — круглые, неподвижные.
— Маленький, маленький, перестань, — заикаясь, стал я тараторить испуганно.
Она метнулась — скорость, бешенство, ухватки фурии — к вешалке, сорвала свою сумочку, раскрыла и, дико тряхнув, вывалила на пол содержимое. Посыпалась мелочь, косметические штучки, тени, платочки, тампаксы. На лету, вот уж не ожидал — в воздухе! — подхватила злосчастные билеты, принялась остервенело рвать их на мелкие кусочки, измельчая до пушистых бумажных снежинок. Был противный, ненавистный мне звук, когда ноготь царапает о ноготь, а у Тани — длинный дорогой маникюр. Швырнула с размаху мне в лицо горсть билетных хлопьев и побежала в ванную, стуча каблуками. Да, на ней же были красные лакированные французские туфли, каблуки-шпильки, театрально-вечерне-парадные… Уже у самой двери оступилась, каблук кракнул, был очень живой звук, физиологический, как кость треснула, и дверь с грохотом захлопнулась у меня перед носом. Звякнула яростно задвижка, а красный каблучок-карандашик остался лежать снаружи. Хлынула с шипением вода, как обычно. Ну, что я всегда делаю в таких случаях? Вздохнул, подтянул брюки, сел на пол, начал прислушиваться. Удар судьбы, наверное, проник в Таню очень глубоко, глубже обычного. Сквозь шум воды пробивалось ритмичное, с воем, без слез:
— Я больше не могу-у… я больше не могу-у… я больше не могу-у…
Подождем, сказал я себе, подождем. Все на свете имеет конец, женские заскоки тоже когда-нибудь заканчиваются, не привыкать. Сел же, говорю, на пол, принялся вертеть так и эдак отломанный каблук. В такие моменты я всегда старался занять себя мыслями, отвлечь ум, потому что внимание намертво прикипало к звукам, доносящимся из ванной: не могу… не могу-у… Стал медленно размышлять о том, как починить туфлю, где находится ближайшая мастерская, сколько возьмут и качественно ли сделают… Но не успел я толком сосредоточиться, как вода умолкла, грохнула недобро задвижка, и дверь, резко открытая, сдвинула, смела меня в сторону. Решительная, Таня вышла, сорвала с ноги целую туфлю, швырнула ее в угол с грохотом, попала в керамическую вазу, но не разбила, протопала в комнату. Слишком быстро, мелькнула беспокойная мысль, слишком быстро все кончилось… А ничего не кончилось, все только начиналось! Вот что я увидел, когда вошел в спальню вслед за женой. На кровати — большая спортивная сумка «Reebok», с нею Таня ездит заниматься фитнесом и йогой. Шкаф распахнут, в сумку летят вещи.
— Что ты делаешь?! — вырвалось у меня беспомощно, на вдохе.
— Ухожу, — короткий, спокойный ответ.
Черт, черт возьми — от меня никогда в жизни еще не уходила жена! Вообще никто никогда не уходил, собрав вещи в чемодан или, как сейчас, в спортивную сумку. Только в кино я видел подобные сцены, а теперь все происходило на самом деле, притом в точности как в кино! Таня методично швыряла тряпки в утробу «рибока», с размаху, не складывая, как попало. И молчала. Самое ужасное, что молчала. Нужно было ей что-то сказать немедленно, переубедить, сбить пыл, но как? Как?!
— Послушай, ну… давай поговорим? Перестань, ну прошу тебя, сядь… Давай поговорим, я все тебе объясню. Потом, хочешь, позвоню в кассу, скажу, что билеты ты потеряла, у них же там, наверное, все отмечено…
— Нам не о чем с тобой разговаривать! — такую банальность она выпалила мне в ответ.
Знаете, я не писатель. Настоящий писатель, он бы развил эту сцену, чего-нибудь длинное, трагическое придумал, чтобы слезы из глаз. Но когда описываешь то, что действительно было, что происходило с тобой на самом деле… Как встал я немым столбом, ошарашенный, так и стоял. Наблюдая, как Таня с трудом застегнула свою сумку, переоделась, сверкнув трусиками, в черную тишотку и джинсы, протопала в прихожую, влезла в растоптанные сникерсы и ушла. Вот так все просто, и развивать нечего. Совершенно лишился дара речи, соображения, не знал, что предпринять, как быть. Язык, блядь, отсох! Потом целую ночь, задним умом крепкий, перебирал варианты диалога, нашел тьму нужных, точных слов, фраз… Эх ты, лопух, казнил я себя, достаточно было просто отнять у нее эту проклятую сумку, наорать, крепко схватить, опрокинуть в постель, зло делать любовь, со слезами, со стонами… Ведь Таня любит, она сама мне говорила, жесткую мужскую руку, любит покоряться, чувствовать себя немного изнасилованной… Эх ты, лопух, компьютерный человечек! Какой же ты мужик на самом деле?.. Тряпичная кукла, у которой только и есть твердого, что голова, а все остальное — мятый пестрый ситчик… Кончилось тем, что спустился в ночной ларек, купил бутылку водки, пил и плакал до утра. Лучше бы в театр, ей-богу!..
…Машина идет хорошо, ровно. В прошлом году взял себе «шевроле». Может, надо было потребовать у полковника «ягуар»? Недавно видел рекламу: икс-тайп, два, два с половиной и три литра на шесть цилиндров, трехлетняя гарантия без учета километража, встроенная мультимедиа-система. Красиво. Двадцать восемь тысяч, дешевле нормального джипа. Думаю, мистер Джордан за такую работу платит еще больше. Капитализмус, как говорил один мой немецкий коллега. Я купил у него забавную пиратскую разработку на СеВIТ-е в Ганновере. Они там смешно говорят: Ханнофа. Что-то восточное. Двадцать восемь тысяч за две недели круглосуточной работы. Банк «Финансьель интернасьональ», тоже, видимо, жулики. Они даже не почешутся, потому что я работаю честно. Как порядочный человек. Честно и чисто.
Это называется троянец, троянский конь. Могу даже сказать, как официально зовется подобный крак: вирус с функцией «интернет-червя» и несанкционированного удаленного администрирования (Backdoor). Внедряется в любой Windows, заражает РЕ ЕХЕ-файлы, HLP-файлы, библиотеку работы с сетями WSOCK32.DLL и дает возможность несанкционированной загрузки из инета дополнительных плагинов. Для внедрения в память вирус инсталлирует себя как резидентный системный драйвер. Он выделяет блок Windows VxD памяти, помещает туда свою копию и перехватывает низкоуровневые функции доступа к файлам (IFS API). Для работы на уровне системных драйверов используется старая шутка с Interrupt Descriptor Table. Ну, что дальше-то… После заражения библиотеки WSOCK32.DLL получаем доступ к функции «SEND» и внедряем в нее процедуру, которая посылает резидентной копии вируса инструкцию на распространение по локальной сети. Достаточно войти в любой компьютер банка, чтобы все было тип-топ. Когда вирус внедряется в систему, он создает в корневом каталоге диска С: свой файл, куда записывает код «троянской» программы. После запуска этого файла программа регистрирует себя в качестве «сервиса», и ее нельзя увидеть в списке активных задач. Затем копирует себя в системную директорию Windows и регистрирует этот файл в секции автозагрузки системного реестра. После этого программа связывается с моим компьютером и загружает оттуда дополнительные модули, которые будут использоваться для собственно крака. Если говорить проще, я таким образом получаю собственный доступ к системе, как говорится, «удаленное администрирование». Дальнейшее, простите, дело техники. Не станем углубляться, для неспециалиста это сложно. Они, в своем банке, даже не знают, что произошло. Бедные… Красиво получилось, вряд ли наш черный полковник сможет по достоинству оценить. Жаль.
Чувствую себя отвратительно. Две недели — сигареты и кофе. Чугунная голова, изжога, руки дрожат. Можно подумать, выхожу из запоя. Кстати, надо будет хорошенько надраться после всего этого. На выходных непременно… Только с Таней бы помириться, ноги ей буду целовать, чтобы простила, помириться надо, да… А самое главное, я такой же мерзавец, как они все. Мерзавец, слуга мерзавцев. Гнуснее всего, что слуга. Маленький яйцеголовый человечек. Карманный Билл Гейтс. Дрессированная крыса с красным дипломом мехмата МГУ, да-с! С красным. Я даже научный коммунизм сдал на «отлично». Это называется: любимая работа, призвание… Называется. Дурень грабит на большой дороге, умный — за монитором компьютера. Разницы — ноль. Я не ханжа, не надо так думать. Меня звали в аспирантуру, у меня все материалы для кандидатской. Плюс жена и дочь. И доллар постоянно растет. И уже успел втянуться… Таня если подаст на развод, я убью ее, честное слово!
А «шевроле» так хорошо идет, ровненько…
Борис Борисович выглядел гораздо загорелее, свежее и элегантнее, чем положено обыкновенному успешному человеку. Даже галстук зачем-то надел по такой жаре. Без павлинов, с неброской вышивкой на темно-синем фоне «Yves Saint Laurant». Белая рубашечка, строго, но со вкусом. Демаскировался, нюх потерял, старый хрен. Перед ним на столе — ноутбук «Sony Vaio», милая игрушка. Моя любимая модель — с черно-белым корпусом. Они могут себе позволить. С такими деньгами, которые спрятаны на Азорских и прочих романтических островах, позволить себе можно все. Вплоть до собственного спутника.
— Рад вас видеть, мой юный друг, — роскошно улыбнулся он, пожимая мне руку. — Знаете, я горжусь нашей страной. Какие специалисты, а! И почему мы живем в таком дерьме, когда в России полно специалистов? У нас ведь даже простой самогонный аппарат что ни возьми — произведение искусства. Я когда в Москву приехал, денег-то на выпивку не было. А жили мы в общежитии, в Быкове. Ну, значит, соберем в субботу по пятьдесят копеек, и бегу я к Михал Исаковичу. Он по соседству проживал. Музыкант, значит, трубач. Старенький уже, на пенсии. Так он что придумал — он из своей трубы сварганил самогонный аппарат. И такой продукт получался — слеза! Как вспомню, до сих пор жалею, что Михал Исаковича забрали. Погорел он на самогоне. Но аппарат — я бы его в музей сдал, честное слово. А чего — пусть люди смотрят, гордятся своей Родиной. Хороший был человек, хоть и еврей…
Борис Борисович замолчал. Даже глаза прикрыл — показывал, как одолели его воспоминания. Я решил сразу прекратить балаган.
— Значит, так, — сказал холодно, располагаясь за столом и раскуривая свою «Мальборо-лайтс», будто готовился отдавать распоряжения. — Докладываю: операция прошла успешно. Денег нет, счета нет, ничего нет. В банке паника, служащие выпрыгивают из окон.
— Уточните, — бровью не повел Борис Борисович.
— Давай без этого, ладно? — не удержался Кирилл, выбивая пальцами по столу дробь: там-та-да-дам-там-пам-пам.
— Извиняюсь, извиняюсь… Все сделано, как вы просили. Счет ликвидирован, его больше не существует и не было никогда. Клиент за номером таким-то в списках не значился. Деньги переведены по указанным вами реквизитам. Теперь я убедительно просил бы вас перевести их еще куда-нибудь, и как можно скорее.
— Приятно, приятно слышать, — снисходительно произнес полковник, наслаждаясь тембром своего бархатного голоса. — Я когда в институте занимался, был у нас такой преподаватель, Ремусов. Он как любил делать: говорит-говорит, потом замолкнет на полуслове, поднимет кого-нибудь и потребует: «Иванов, продолжите мою мысль». Вот так и учились. А вы мысль хорошо продолжаете, вы бы Ре-мусову экзамен легко сдали…
— Стараюсь, — хмыкнул я. — Мне совсем не улыбается лежать в какой-нибудь вонючей подворотне с пулей в башке. Не люблю плохое кино.
— А вы ходите в кино хорошее, — с ухмылочкой ответил Борис Борисович и подмигнул, не утруждая себя прочей мимикой. — Особенно триллеры смотреть не советую. Вот Дань-ка мой, внук — если в фильме не стреляют, ему неинтересно. А слово «театр» через «и» пишет, паршивец…
— Давайте так: мы сейчас освобождаем кабинет, а вы отдаете соответствующий приказ. Это мое условие. — Мне удалось достаточно твердо сделать свое заявление.
Борис Борисович снова улыбнулся — точь-в-точь кот, довольный тем, что надкушенная мышь еще жива:
— Условия здесь ставлю я. А вы, мой юный друг, напрасно беспокоитесь, напрасно. Знаете, как нас учил Рему-сов: случайности происходят только с тем курсантом, который неправильно себя ведет. Если вы будете правильно себя вести, доживете до глубокой старости в мире и здравии. Это мудрость. Учитесь, пока старики живы.
На этих словах он открыл свой дипломат, вынул бутылку тяжелого стекла — коньяк. Я, в свою очередь, — мини-диск.
— Вот, можете проверить. Проинсталлируете диск, это минут пять — семь. Сначала программа запросит код доступа. Наберете 1917…
— Почему эта цифра? — удивился Борис Борисович.
— Ну, мы же им как бы революцию устроили… — усмехнулся я. — В пределах одного отдельно взятого буржуазного банка.
— Правильно! Я, знаете, человек старых взглядов, убеждения менять поздно. И к международному империализму отношусь по-прежнему плохо. Возьмите, например, диссидентов. Что они знали о капиталистическом мире? Только то, что им внушило ЦРУ через радиоприемник. Хотели, понимаешь, свободы! А ее, друзья, не существует. Есть осознанная необходимость. Вот у империалистов, например, была необходимость — развалить Советский Союз. И они это сделали. Теперь, понимаешь, бомбят кого хотят, запугивают. Желают власти над всем миром. Вот так, значит, желали диссиденты свободы для своей страны, а вышло, что боролись они за свободу американских ястребов. Их же вызывали куда положено, объясняли, объясняли… А они неправильно себя вели. — Он помолчал. — Ну, идите сюда, покажите мне, как это все тут делается…
— Вот, — я протянул ему ЕС-карточку «Sparkasse Hannover», которую купил у того же немца. Кажется, его звали Йорг. — Этот номер. Программа должна запросить номер актуальной кредитной карты. Уже появилось окошко?
— Да, — кивнул Борис Борисович. — А что у вас за карта?
— Моя рабочая. Специально для таких фокусов.
— Опасный вы человек. — Он ввел код и чиркнул по мне быстрым холодным взглядом.
— Вы тоже.
— Теперь?
— Ваш номер счета. После этого появится сообщение: «Данный счет не обнаружен. Уточните…» и чего-то там еще. Вы понимаете по-немецки?
Спустя пару минут сукин сын убедился в моем триумфе.
— Как вы это сделали?! — Он качал головой, проедая глазами монитор. — Это же практически невозможно. Я специально консультировался.
Пришлось демонстративно пожать плечами:
— Знаете, есть такой анекдот. Встретились однажды хакер и ламер. Ламер показывает хакеру свой алгоритм и говорит: «Что-то в программе ничего не клеится. Скажи, пожалуйста, где тут у меня ошибка?» Хакер смотрел-смотрел, а потом отвечает: «В ДНК».
Кирилл гыгыкнул. Борис Борисович отстраненно улыбнулся — не понял профессионального юмора.
— Он у нас гений, — сказал Кирилл.
— Поздравляю, — сказал полковник.
Коньяк оказался прекрасным. Я, видно, был на таком взводе, что совершенно не опьянел. Борис Борисович тоже. Они там все, наверное, такие, что лучше бы гвозди делать.
— Знаете что, — он убрал пустую бутыль под стол, — переходите работать к нам. С такими специалистами мы горы можем своротить.
Я поднял на него глаза:
— Ну уж чего-чего, гражданин начальник…
Борис Борисович смолчал, давая понять, что шутка не удалась.
— Интересно, а если бы у меня не получилось? — задал я неизбежный вопрос. — Что тогда?
— Я вам тоже, мой юный друг, веселый анекдотец расскажу, — охотно ответил он, убирая в чемоданчик свой ноутбук. — Из жизни. Был у меня один сослуживец, Ларионов по фамилии. Этот Ларионов страдал запорами. И вот однажды поехал он к теще на дачу. Дача старая была, а сортир — ну просто развалюха. Сидел-сидел в этом сортире целый час, тужился-тужился, а потом доска под ним наконец не выдержала, и — хрясь! И не стало человека, захлебнулся. Мы потом на похоронах не знали, смеяться или плакать. Так вот, мой юный друг… Если бы у вас не получилось, вы бы оказались — в дерьме!
Борис Борисович запрокинул голову и захохотал, резко содрогаясь всем телом, как эпилептик, и притопывая левой ногой.
Когда полковник убрался, Кирилл подошел ко мне, молча обнял. Кажется, довольно искренне. Он выглядел как человек, чудом избежавший справедливого наказания.
— Хочешь добрый совет? Уезжай в отпуск. Куда-нибудь в Таиланд или на Багамы. Я все оплачу.
— Ты хотел сказать, уезжай из Москвы?
— Билеты, виза — проблем не будет. Но связь держи, не пропадай, понял?
Понял, конечно, понял.
Я вышел из офиса и неожиданно попал в лето. Оказалось, оно давно уже наступило. Наверное, для всех, кроме меня. Воздух был горяч и влажен, насквозь пропитан ароматом цветущей липы. Его можно было резать на части и продавать за границу, как нефть. Небо горело, словно раскаленный купол мечети в Бухаре, — ездили туда в шестом классе. Василий Блаженный был невероятен, как мираж в пустыне. В мире существовали птицы, и они пели, перекрикивая автомобильные гудки. Пенились, фыркая и топорщась, струи фонтанов. Красивые девушки в джинсах клеш гуляли в одиночку, парами и стайками. Хотелось пить, есть, целоваться, бежать куда-нибудь сломя голову без важной цели. Хотелось удить рыбу. Разуться и идти босиком. Пригласить вон ту, длинноногую, на платформах, в ближайшее кафе. Покурить травки. Подраться. Прыгнуть с парашютом. Испечь торт.
Мне вдруг пришло в голову, что я жив. Это было что-то вроде открытия: жив! Существую. Отдельно от компьютера, от работы, от всего остального. Как будто наконец проснулся, вынырнул из затянувшегося бреда, пришел в себя после комы. Я наблюдал свою эйфорию: выходит стресс, едет крыша. Лучше всего приехать поскорее домой и лечь спать. Но вместо этого оставил машину на паркинге и набрал номер родителей жены. Удивительно: Таня сама сняла трубку — впервые за две недели. «Привет, — сказал я, сдерживая скачущее сердце. — Можно, сегодня я сам заберу Машку с танцев?» — «Да… А что случилось?» — «Все хорошо. Слава Богу, все хорошо. Все кончилось», — и кожей ощутил буквально, как она пожала плечами и, может быть, улыбнулась.
Впервые за последний год я шел пешком. Необычное чувство. Мы все живем в каком-то сумасшедшем Вавилоне, думал я. Ведь произойти может все, что угодно. Кто-то раскурочит какую-нибудь важную систему, и на нас упадет ракета. Или на американцев. Или сойдет с орбиты спутник. Или обвалится доллар. Кто он, вон тот смуглый усатый парень, что садится в автобус? Что у него в спортивной сумке?
Булка хлеба? Взрывчатка? В фирме этажом ниже недавно убили коммерческого директора. Исполнительный директор пропал без вести. И неизвестно, что будет завтра со мной лично.
Хороший фильм «Матрица», думал я. Подозреваю, что на самом деле все именно так и есть. Мир — бесконечные колонки цифр. Машинные коды. Единицы и нули в неисповедимой последовательности. Безупречная трехмерная графика, супердостоверные спецэффекты. Герой старой игры «Цивилизация» создает свой собственный мир, не подозревая, что и он, и его мир одинаково созданы кем-то третьим. Ведь должен существовать и Вселенский Программер. Но в его матрице нет обязательной функции Help. Некуда кликнуть мышью, чтобы получить разъяснение происходящему. Если оно, это разъяснение, есть. И если кто-нибудь не влез в эту программу десять миллионов лет назад и не сотворил того же, что я с банком «Финансьель интернасьональ». Хотя нет, это лирика, лирика, лирика… Это всего лишь Кирилл пересказывал мне когда-то содержание книг писателя Пелевина, от которого сам балдеет.
У подъезда хореографической школы, на аккуратно расчерченном асфальте стояли три или четыре машины. Красный джип «вранглер», я запомнил, лиловая гоночная «тойота» и «опель-астра». Рядом с красным джипом лежал умный рыжий зверь. Громадный азиат, мохнатый, с черной влажной пастью. Псу было жарко, язык свисал между желтых длинных клыков. При виде меня собака вздрогнула, но не двинулась с места. Всю жизнь мечтал завести себе что-то подобное, волосатого зубастого теленка. Из дверей школы выпорхнула крохотная девчушка в джинсиках, с растрепанной желтой гривкой. «Джохар!» — позвала она птичьим голоском. Азиат послушно вскочил и оскалился. С ближайшей лавочки поднялся, покуривая, высокий бритый мужчина. Красная бычья шея распирала ворот тишотки. Телохранитель, пес и дитя погрузились в джип. Интересно, могла бы она жить без мужчины и собаки? И нужна ли, например, моей дочери такая же судьба?
У самого входа меня мягко перехватил вежливый молодой человек в камуфляже и неуставных английских ботах. Кобура на ремне выглядела настоящей. И курортные очки в пол-лица.
— Простите, вы к кому? Я объяснил.
— Минуточку, я уточню. Подождите, пожалуйста, здесь. Он вернулся совсем скоро:
— Проходите. Класс на втором этаже, в самом конце коридора.
Школа была старая, переделанная из особняка. Пузатые колонны, лепнина, настенная роспись, восстановленная, я так думаю, в последние годы. Обнаженные античные герои выглядели целомудренно. Фаллосы козлоногих сатиров тщательно задрапированы тканью. Сатиры дули в свои свирели, вокруг них водили хороводы грудастые нимфы, похожие на нянечек детсада. Новенький, надраенный до флотского блеска паркет слепил, отражая солнечные водопады из распахнутых окон. Казалось, кто-то нарочно выплеснул на пол ведро воды. Из-за дверей с бронзовыми гнутыми ручками доносилась ритмичная музыка, вызванная простыми комбинациями клавиш. Задорные женские голоса повторяли на разные лады: «И-ии — раз! И-ии — два! Сделали шажочек, повернулись, и-ии — раз!» В вестибюле второго этажа еще один камуфляжный читал газету. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. На первой полосе газеты красовалась фотография украинского истребителя «Су-27», который врезался в толпу на авиашоу во Львове. Погибли — 83, из них 23 ребенка. Ранены — 116. На груди охранника висел бейдж с украинской фамилией Лысенко.
Осторожно скрипнув дверью, я заглянул в зал. И без того большой, он раздавался вдвое из-за зеркал. Маленькие девочки в смешных разноцветных трико и чешках терялись в зеркальном кубе. Свою я не заметил, она, видимо, была ближе к центру, а мне открывался ближний угол. Строгий хрипловатый голос давал отсчет: раз-два-три — левая нога! Раз-два-три — правая нога! Девочки, сосредоточенно пыхтя, выполняли одно и то же несложное движение. По-моему, оно им удавалось неплохо, но строгий голос требовал еще и еще. Милые круглые щечки налились пунцовым, крохотные ноздри раздувались, мокрые прядки прилипли к наморщенным лбам. Тяжелая взрослая работа, муштра. Почему моя Машка так рвется на эти тренировки? «Остановились! — потребовал женский голос. — Лепешова не держит спину. Муртазина, куда ты все время косишься? Черкасова, подойди сюда. Все посмотрели на Черкасову. Она единственная делает правильно. Покажи нам еще раз, чтобы все видели. Раз-два-три — левая нога! Раз-два-три — правая нога!»
Я умилился и скрипнул дверью громче, пытаясь разглядеть невидимую мне Черкасову.
— Добрый день, — сказали за спиной.
Высокая стройная женщина лет сорока протягивала мне ладонь, унизанную тяжелыми кольцами. Длинная черная юбка до пят, белая блуза тонкого льна — экостиль, толстая витая цепь с овальным кулоном лимонного золота на балетной жилистой шее. Жесткие черные волосы затянуты на затылке в тугой узел. Осанка и грация коронованной особы. Слишком подвижная и легкая для обыкновенного человека. Настолько, что реально ощущался вес ее украшений. Впервые в жизни я видел перед собой балерину и поневоле выпрямил спину, напрягся, как солдат в строю: раз-два-три — правая нога! Рядом с такой женщиной хотелось выглядеть.
— Вы отец Машеньки?
— Так точно.
— Я Ариадна Ильинична, директор школы.
— Очень приятно. — Пожимать руку дамам я не привык, но кисть у нее оказалась сильная, мужская.
Ариадна Ильинична улыбнулась. Свое лицо она носила с достоинством, как венецианскую камею.
— Обычно за Машей приезжает Татьяна Павловна…
— Теперь моя очередь.
— Хорошо, что вы зашли, — улыбнулась она и взяла меня под локоть. — Нам надо бы поговорить. Идемте в мой кабинет. До конца занятий еще целый час.
Единственное, что отличало эту комнату от обычного офиса, — дюжины полторы фотографий хозяйки разного формата, занимавших целую стену. В белоснежной пачке, с цветами, в компании Плисецкой, Лиепы, Барышникова и почему-то Горбачева. Михаил Сергеевич целовал ей руку. Может, она ждала того же от меня?
— Интересные снимки. — Я уважительно изучал иконостас. — А на этом фото, простите, кто?
— Наташа Макарова, — снисходительно объяснила Ариадна Ильинична, бросив короткий взгляд на снимок. — Мы с ней в Нью-Йорке, на Пятой авеню. Снимал сам Хельмут Ньютон. Хотя в общем-то случайно получилось. Хельмут покупал в «Блумингсдейле» собачьи консервы и не мог разобрать мелкий шрифт. Обычно все вредные химические элементы пишут такими маленькими-маленькими буковками. — Она смешно показала двумя пальцами, насколько эти буквы малы. — Наташа говорит: «Давайте я вам помогу». Такой совершенно неприметный пожилой человек, обыкновенный пенсионер в очках. Мы прочитали все, что было на этой этикетке, он поблагодарил, а потом вдруг сказал: «Хотите, девушки, я вас сфотографирую на память?» Вот так просто. Достал «мыльницу» и щелкнул. Наташа дала ему свою визитку с адресом. Еще обиделась, что он никак не прореагировал на ее имя. А потом звонит мне вдруг среди ночи: «Аричка, это же был сам Хельмут Ньютон!»
К сожалению, я не знал ни ее, ни его.
— А вот, если я не ошибаюсь, Березовский?
— Да, Боря. Он здесь такой молодой…
Мы посмотрели друг на друга и промолчали.
— Хотите кофе? — наконец предложила она.
— С удовольствием.
Ариадна Ильинична удалилась и скоро принесла на фарфоровом подносике две крохотные расписные чашки, от которых поднимался сумасшедший незнакомый аромат.
— Прошу.
Ее движения были так грациозны, точны и безукоризненны, что по ним можно было бы, наверное, проверять начертание геометрических фигур. Притом что сам балет я не понимаю и не люблю. Взял чашку — внутри, на донышке, чернела густая клейкая масса на полглотка.
— Что это? — Напиток показался мне странным.
— Кофе, — улыбнулась она, продемонстрировав без стеснения здоровые, чуть желтоватые зубы. — Который подают в арабских кофейнях. Мне специально присылают зерна. Вообще-то странно: Москва — такой большой город, а хороший кофе найти невозможно.
Я пригубил: дикая, непереносимая горечь. Лучше уж нюхать, чем пить. Она засмеялась:
— Вы просто не привыкли.
Скрепя сердце я проглотил отраву. Эффект оказался поразительным и наступил практически сразу. Примерно так действует кокаин. Не стоит удивляться, что с этими напитками они становятся камикадзе.
— Можно еще?
— Нельзя. — Отставная балерина поднесла к губам чашечку, смакуя. — Могут быть проблемы с сердцем.
Она придвинула ко мне большую бронзовую пепельницу с инкрустациями в стиле «Тысячи и одной ночи»:
— Не стесняйтесь, курите.
Я закурил и почувствовал себя человеком, размяк.
— Мне хотелось бы поговорить с вами о Машеньке. Она очень способная девочка. Не просто способная, а одаренная. У Машеньки исключительная, врожденная культура движения. Такие дети всегда редкость.
— Спасибо за комплимент. Боюсь, вы преувеличиваете.
— Ничуть. Маша может стать талантливой балериной. Мне кажется, это ее судьба.
— И что же?
— Балет — это трудно. — Она вздохнула и бросила взгляд на свой иконостас. — Очень трудно. Тяжелая ежедневная работа на износ. Но зато и большой успех.
— Если честно, сложно всерьез думать о будущем восьмилетнего ребенка.
— Именно сейчас об этом и следует думать! — довольно резко возразила Ариадна Ильинична. — Потом будет поздно.
— Чего же вы хотите от меня?
— Маша… — Она замялась. — Маша — трудная девочка. Неуравновешенная, вспыльчивая. Мне кажется, ей не хватает родительской заботы, внимания. Она дискомфортно ощущает себя в семье. Вы понимаете, о чем я?
— Понимаю.
— Подумайте об этом, пожалуйста. Девочка должна чувствовать, что ее поддерживают. Не только материально, разумеется. Ребенок очень впечатлительный, и любая, вы меня понимаете, размолвка между родителями может нанести серьезную психологическую травму. Маше нужно привить дисциплину, осознание цели. Семья должна в нее верить. Но вам, наверное, кажется, что есть заботы и поважнее…
— Да нет… — Я почувствовал неловкость. — Вы правы. Но приходится слишком много работать. Без этого не обойдешься.
— Вы, простите, кто по специальности? Если не секрет, конечно?
— Программист. Никаких секретов.
— Вот как? — Она вдруг заинтересовалась. — Приятная неожиданность.
— В каком смысле?
— Полюбуйтесь на это чудо. — Ариадна Ильинична кивнула на компьютер, стоявший на специальном столике в углу. — Неудобно просить, но раз уж вы здесь… Наша вечная головная боль. Я ведь к технике и близко подойти боюсь. Записала на бумажке, какие кнопки надо нажимать, и жму. А больше — упаси Бог.
— И что с вашей техникой?
— Понятия не имею. Сломалась. — Ей очень шла эта кокетливая гримаска.
— Вы — важное лицо, с вами надо дружить, — усмехнулся я, с дикой неохотой усаживаясь за машину. — Моя мама, например, всегда носила в школу конфеты. Она работала на «Красном Октябре».
— Вы, наверное, были плохим учеником, — обоснованно предположила Ариадна Ильинична.
— Еще хуже, чем вы думаете. Знаете, что я однажды учудил?
— Даже не могу представить.
— Насыпал в туалет дрожжей.
— О Боже!
— Это было после того, как получил двойку за сочинение об образе Евгения Онегина. Русичка заявила, что я его оклеветал.
— Чем же вам так не понравился бедный Онегин? — Балерина красиво всплеснула руками, звякнули кольца.
— Всем. Я честно написал, что считаю Онегина богатым бездельником. Богатым, ленивым и скучным.
— Так прямо и написали? — захохотала она, хлопая в ладоши.
— Да. Мы жили в коммуналке в Долгопрудном, мать полдня пропадала в цеху, а вечерами шила на заказ лифчики соседкам. Отец нас бросил, когда мне было три года. Я его почти не помню. Так что пришлось расти циником.
— Так что же насчет дрожжей?
— Да ничего особенного. — Войти в систему я по-прежнему не мог. — Дело было вечером. А наутро случился потоп. Все это… в общем, школу залило. Меня должны были выгнать, но некого было послать на городскую математическую олимпиаду. Мать все районо закормила шоколадом… Что вы сделали с компьютером, Ариадна Ильинична?
Она замялась:
— Кажется, что-то не то, верно?..
— Признавайтесь.
— Я хотела навести порядок в своих файлах… У меня кругом хаос — и дома, и вот в компьютере… Вечно забываю, что где лежит, потом целый месяц не могу найти книгу или брошку. Ужасно рассеянная. Там есть одна программа… ну, такая синенькая табличка…
— DOS, — подсказал я.
— Да, совершенно верно. Хотела рассортировать все по отдельности: служебные документы, письма, отчеты. Стала копировать, копировать, а потом оно все вдруг как-то разом пропало…
— Ясно. — Теперь было действительно все ясно. — Вы нажимали вот эту клавишу, F6?
— Не помню… А что, ее нельзя нажимать, да? Святая простота, безупречная.
— Нажимать-то можно. Вы, я так думаю, пытались перенести системные файлы.
— Какие?
— Господи… Директории, где лежит, скажем, ваш Windows. Их трогать с места нельзя. Иначе — вот, пожалуйста.
— Что, все пропало? — Она перепуганно уставилась на меня.
— Боюсь, что да, — печально подтвердил я. — У вас там было что-нибудь серьезное?
— Да как вам сказать… И что, действительно ничего-ничего нельзя сделать?
— Надо бы заново отформатировать жесткий диск и реинсталлировать Windows. Другого выхода я не вижу. У вас загрузочная дискета есть?
— Что-что?
Я хотел засмеяться, но сдержался. Я вежливый.
— Вот, ищите. — Несчастная балерина вывалила передо мной груду компакт-дисков. — Ужасно, просто ужасно. Умирающего Лебедя станцевать гораздо проще. Однажды я на спор выполнила фуэте сто раз подряд без остановки.
— Можно спросить, почему вы ушли со сцены? — спросил я, не отрываясь от монитора.
— Замуж вышла. — Я услышал щелчок зажигалки, потянуло дорогим табаком. — Потом дочка родилась. Сами понимаете.
— У вас тоже дочка? — почему-то обрадовался я. — Сколько ей?
— Шестнадцать.
— Танцует?
— Нет. Муж хочет, чтобы она стала юристом. Или занималась международной торговлей.
— А вы?
— Ну какая разница. Мужчина — глава семьи.
— Не всегда…
— Вы не согласны?
— Я за равноправие.
— Многие женщины думают иначе. Особенно на Востоке.
— Но мы-то с вами на Западе.
— Увы. — Ариадна Ильинична звякнула браслетами у меня за спиной. — Я недавно ездила к дочке в Лондон, она там учится в колледже, и знаете что? Мне не понравилось. Раньше, когда мы выезжали с труппой, все казалось так волшебно… А теперь совсем наоборот.
— У нас что, лучше?
— Повеселее. Но Эмине нравится там. Она по-английски говорит лучше, чем по-русски. Ее бойфренд — сын какого-то макаронного магната. Недавно разбил отцовский «феррари».
— Дорогой мальчик. А у вашей дочки интересное имя.
— У моего мужа еще интереснее: Аль-Факих аль-Латеф Мохаммед Юсуф Курбан. Я до сих пор сбиваюсь.
— Богато звучит. — Программа наконец начала грузиться. — Все, минут через двадцать закончим. Он у вас шейх?
— Нет, — покачала головой балерина. — У него в Москве бизнес. Включим кондиционер? А то слишком жарко.
Я кивнул. Супруга экзотического араба вынула из ящика стола пульт. Комната наполнилась равномерным вкрадчивым гудением. Повеял прохладный бриз. Я встал, потянулся, похрустел косточками. Отер пот со лба.
— Вы очень бледный, — заметила Ариадна Ильинична. — У вас такой усталый вид. Неужели вам на работе не дают отпуска?
— Читаете мысли? Буквально час назад шеф отправил меня в отпуск. Такое совпадение.
— Бедный, я вам не даю отдыхать! Вы, наверное, уже видеть компьютеры не можете.
— Примерно так, — уныло согласился я. — И компьютеры, и Москву.
— Тогда берите жену, дочку и поезжайте к морю! Машеньке тоже нужна разрядка. И она непременно должна побыть с родителями, со своей семьей.
— Надо бы поехать… В какое-нибудь дикое местечко, где нет этих огромных гостиниц, туристов, дискотек… Тринидад и Тобаго, например. Или в амазонские джунгли…
— Где много диких обезьян…
— Вот-вот. На необитаемый остров. Интересно, где можно достать путевку на необитаемый остров? Чтобы, кроме нас, там жил только Кинг-Конг.
— Любите экзотику? — глянула она на меня с одобрением.
— Скорее всего.
— А точнее?
— Просто нигде ее не встречал. Египетские пирамиды — это разве экзотика? Смотрятся как голливудские декорации. Не хватает только Элизабет Тейлор в роли Клеопатры.
— Поезжайте в Индию.
— Вот уж спасибо! Моя супруга учится в школе йоги, и в прошлом году их гуру побывал в Индии. Сбылась мечта идиота. И подцепил там жуткую дизентерию. Медитировал в туалете до конца тура. Даже из гостиницы не вышел.
— Ох эти русские йоги, — улыбнулась балерина. — Я вам другую историю расскажу. Один мой приятель начитался Хемингуэя и поехал в Испанию. Там, знаете, перед корридой по улице гонят быков, а народ их дразнит. Так вот, его укусил бык. Не забодал, а именно укусил! Представляете? Этот анекдот, наверное, до сих пор гуляет по Барселоне.
Я взглянул на монитор:
— Готово. Получите и распишитесь.
— Огромное вам спасибо! — Она снова протянула мне руку. Я собирался ее поцеловать, но все-таки пожал.
— Не за что.
— Дадите мне когда-нибудь пару уроков?
— С удовольствием. Она посмотрела на часы:
— Сейчас будет звонок. Кстати, у меня есть для вас одна идея. Насчет отдыха.
— А именно?
— Отец моего мужа владеет сетью отелей в Хаммарате. Очень симпатичное место, Средиземное море, тихо, уютно. И очень мало туристов. Вам понравится.
— Это где — Хаммарат? — С географией у меня всегда были большие проблемы.
— Северная Африка. Там пять лет назад сменилось правительство, ну, вы понимаете, возникли свои сложности. Теперь все в полном порядке, но турагентства не хотят рисковать. И совершенно напрасно. Сервис на европейском уровне, отличный климат, масса достопримечательностей. Есть на что посмотреть. Мы каждый год ездим туда отдыхать и очень довольны. Я всех знакомых агитирую за Хаммарат.
— Надо же поднимать экономику Северной Африки, — съязвил я.
— Вы напрасно так, — укоризненно возразила Ариадна Ильинична. — Я никогда не советую того, в чем сама не уверена на сто процентов. Если соберетесь, я позвоню тестю, и он вас прекрасно устроит со скидкой. Или вообще бесплатно.
— Хорошо, буду иметь в виду, — ответил я, и тут загремел звонок.
Настоящий, колокольно-пулеметный звонок, от которого дрожат стены и рвется наружу в экстазе школьная душа. Я его не слышал с незапамятных времен. Раскатистое эхо конницей пронеслось по коридорам. В нем можно было различить звон подков и шпор. Следом за тем по паркету застучали бескаблучные пятки — освободившиеся балерины сразу перешли в галоп. Дверь распахнулась, и мой зверек прямо с порога метнулся мне на шею: «Папа-а!» Маленькая, юркая, как ящерица, тяжеленькая, потная, с уже заметной округлой попкой и соломенной короткой трогательной косицей — моя дочь. Ткнулась мне в глаз мягкими губами: «Привет!»
— Соскучился, Еж?
Я ее называю Ежом. Может, и не очень хорошо для девочки, но нам обоим нравится.
— Соскучился ужасно!
— Тогда быстренько переоделся — и вперед! — с удовольствием командую я. — Сегодня у нас День исполнения желаний.
— А куда вы с папой пойдете? — педагогически тонко вставила Ариадна Ильинична.
— В зоопарк! — не задумываясь ответило дитя.
— Все, давай, жду, — сказал я и подтолкнул Машку к выходу.
— Приятно было познакомиться. — Балерина встала. — И огромное спасибо за ремонт. Передайте Татьяне Павловне, у нее замечательный муж. '
— Хорошо, передам. И осторожнее с компьютером, умоляю.
— А вы подумайте насчет Хаммарата. Там действительно очень славно. Возьмите мою визитку, позвоните, если что.
Машка, сияя, уже ждала меня в коридоре. За плечами — плюшевый рюкзачок в форме обезьянки. Мохнатая обезьяна уцепилась сзади и улыбается до ушей.
— Так что, зоопарк?
— Зоопарк, — подтвердила она, и мы вышли на улицу. Охранник помахал рукой нам вслед.
— А что случилось? — вдруг очень серьезно спросила Маша, едва лишь мы свернули в переулок. Я заглянул ей в глаза — густо-голубые, серьезные, с темными длинными ресничками. Дочка обещала расти красавицей — в мать. А ее мать я всерьез считал самой прекрасной женщиной на свете. Ха, разве это видно по моим поступкам?
— В смысле, Еж?
— Почему ты за мной зашел, а не мама?
— Потому что я, Машка, решил плюнуть на все и рвануть в отпуск. Вместе с тобой и с мамой.
— Правда?
— Правда. Чтоб у меня хвост отпал! — Моя самая страшная клятва.
— Ур-ра-аа!
Моя девочка очень непосредственно реагирует на хорошие новости. Она запрыгала на месте, размахивая руками, и завизжала так, что обернулись несколько спокойных прохожих. Я ощутил гордость за своего зверька, который растет свободным в несвободной по-прежнему стране. Естественным, как Маугли. По-моему, это здорово.
Впереди показалась пестрая будочка мороженщика. Машка-дикарка, уцепившись за мой палец, поволокла к ней папашу, как огромного несмышленого дога. Я повиновался безропотно.
— Заказывайте. — Седой нестарый дядька в фирменном переднике и колпаке походил на дореволюционного повара. На лице у него было написано добротное высшее образование.
— Так, — по-деловому заявил ребенок, оглядывая хозяйство высокообразованного дядьки. — Мне шарик клубничного с йогуртом, шарик орехового и шарик вот этого зелененького…
— Папайя, — подсказал продавец.
— И папайю. А папе… папа, что ты будешь?
— То же, что и ты.
— О'кей, тогда нам два стаканчика.
— Что надо сказать? — кисло-сладко прищурился мороженщик.
— Скорее, пожалуйста.
— Машка, не наглей, — потребовал я, доставая деньги.
— А что я такого сказала? — возмутилась она.
— Прошу. — Продавец протянул нам два вафельных конуса, поверх которых грудой лежали разноцветные снежки.
— Спасибо, — пробубнила Маша и самозабвенно впилась в мороженое.
— Сколько ей? — любовно спросил дядька.
— Восемь.
— Моей тоже восемь… Внучке, — добавил с улыбкой. — Во второй класс пойдет.
Мороженого я не ел лет сто. Почти с самого детства. Кажется, тогда оно было вкуснее и от него не ломило зубы. Старею, подумал я. Вспомнил канувшее в Лету эскимо на палочке за двадцать копеек и саму двадцатикопеечную монету — «двадцончик» мы ее называли. Помню, как рыскали около телефонных будок в поисках мелочи. Двушка, пятак, десончик, пятнарик, двадцончик, очень редко — «полташ» и совсем невозможное — железный руб. Его посчастливилось найти только мне одному, и то не на улице. Дежурный по школьному гардеробу, я иногда шарил по карманам чужих пальто. Когда выходила пописать старенькая Сталина Карповна. Жили мы с мамой бедно.
— Папа, о чем ты все время думаешь?
— Я думаю? — Мороженое медленно оплывало мне на пальцы — клубничное с йогуртом, ореховое и это, как его… папайя. — Ни о чем я не думаю.
— Нет, думаешь! — с обидой. — Ты совсем не обращаешь на меня внимания.
Я лихо подхватил моего Ежа и усадил на шею.
— Ты будешь стучать по лысине и мешать мне думать. Идет? Только не закапай меня мороженым смотри.
Мы вышли к фонтану, сотворенному гением Церетели. Бронзовые твари плескались в твердых струях пенистой воды. В чаше фонтана копошилась мелюзга. Зверек на моих плечах ожил и заерзал. Холодная капля хлопнулась о макушку. Папайя, решил я и почувствовал себя немножко верблюдом. Чувство оказалось приятным. Я послушно потопал к воде. Небо над Москвой раскалилось до прозрачной белизны.
— Пусти меня вниз, — потребовала Машка и, не дожидаясь, сама сползла на землю. Бросилась к фонтану.
В чашу набилось с десяток детей — плескались, визжали, поднимали брызги. Солнце вело по ним прицельный шквальный огонь. Мокрые тела слепили бликами. Тонкие лучи сбивали капли на лету, и они взрывались разноцветными брызгами. На парапете, поставив в воду босые ноги, лениво плавились мамаши в солнцезащитных очках, студенты и бродяги. Взлетали донцами вверх пивные бутылки, извергаясь пеной в подставленные рты классово чуждых людей. У фонтана наблюдалось всеобщее равенство.
— Папа, можно? — Машка с надеждой заглянула мне в глаза.
Мама бы не одобрила, но я ответил:
— Валяй.
Машка молниеносно разделась до синих трусиков и плюхнулась в воду. Ее погружение сопровождали счастливые вопли. Подумав, я снял галстук, расстегнул рубашку. Разулся, поставил туфли рядом, у дочкиного рюкзака. Оглянулся по сторонам, подкатил брюки до колен и погрузил ступни в теплую мутную жидкость. Наблюдая себя со стороны, отметил, насколько нелепо выгляжу. Лысоватый офисный служака воровато отдыхает. Его туфли «Ллойд», вывалив языки черных носков, усталыми собаками отдыхают рядом. Крахмальная белая рубашка режет глаз окружающим. Шелковый галстук болтается на плече. Рожа незагорелая, зеленая, усталая. Белые волосатые тонкие ноги. Во рту торчит сигаретина. Лоб наморщен, брови сведены. И в глазах баксы, баксы, баксы…
Рядом со мной, звякнув бутылками, уселась веселая парочка. Он: тишотка без рукавов, широченные вельветовые шорты, сандалии, копна растафарских косичек, перехваченных резинкой, серьга. Она: веснушки, короткая рыжая шерстка дыбом, огромные развязанные кроссовки, цветная татуировка на левом плече. По виду лет четырнадцать, не больше. Он усадил ее к себе на колени, обнял и целует взасос. Плевать на целый мир, если людям хорошо. Завидую!
— Уф-фф! — Машка наконец выбралась на берег, фыркая и отряхиваясь, как щенок.
— Накупалась?
— Ага.
— Теперь в зоопарк?
— Конечно! И еще мороженого.
Странно, до сих пор не могу поверить, что мне тридцать три года и у меня есть дочь. Иногда смотришь на себя в зеркало и не веришь, что стал взрослым. Когда Машку принесли из роддома, она была такая мелкая, скрюченная, морщинистая, красная… Вообще непохожая на человека. Я испугался ужасно. Не знал, с какой стороны к ней подступиться. Не мог представить, как можно вот это любить. Смывался на работу, притворялся сильно занятым. Хотя тогда было и впрямь уже много работы. Бедной Танюшке досталось. А потом… Ну что с отцами бывает потом? Влюбился. Пеленки — молочная кухня — аптека. Манная каша, свинка, краснуха, ползуночки, бантики, сказки… С удовольствием завел бы второго ребенка. Может, так и сделаем когда-нибудь. Может, и совсем скоро — скажем, сегодня.
По зоопарку мы оттопали часа три, не меньше. Сделали все, чтобы смертельно устать. Лев разевал нам на радость зубастую пасть, зевая. Слона мы кормили яблоком. Дразнили краснозадых мартышек. Решили во что бы то ни стало купить аквариум со скаляриями и неоновыми рыбками. Долго ждали бегемота, но он не всплыл. В его луже варились в горячей воде огрызки.
— Помнишь, — вдруг сказала Маша, — я была маленькая и болела, а ты рассказывал мне всякие истории? Про двух бегемотиков, Гипу и Поню. Они были такие крошечные, что только вместе их можно было считать целым гиппопотамом.
— Конечно, помню, — ответил я.
Еще бы: воспаление легких, температура под сорок не спадает третий день, у ребенка бред. Врачи требуют немедленной госпитализации. Прилетела из деревни Танькина какая-то дальняя родственница и не позволила. Привезла с собой какие-то корешочки, травы, настойки — мешок. Поставила внучку на ноги и уехала. «У меня же там хозяйство, буренка, куры…» Сама умерла через два года от саркомы. А такая крепкая казалась бабёха, казачка.
— Папа, смотри, верблюд!
Точно, верблюд. Собственной персоной. Облезлый, но гордый. Глядит на всех свысока, безразлично мусолит во рту желтоватую пену. Воплощенная независимость.
— А почему у него два горба? На сигаретах у верблюда только один.
— На сигаретах нарисован кэмел, а это наш верблюд, каракумский, — авторитетно объясняю я, табачный зоолог. — У него два горба, потому что много запасает впрок пищи. Жизнь в Каракумах тяжелая.
— А где кэмел? — упорствует дитя.
— Ну, где-где… В Египте. Там же на пачке пирамиды нарисованы.
— Тогда поехали в Египет!
— Прямо сейчас?
— Прямо сейчас.
— Отлично.
Мимо нас катит тележка, запряженная осоловелым от жары пони. Пыльная лошадка едва переставляет ноги, уныло цокая сбитыми копытами. Забрались в расписную тележку, которой правил здоровенный детина в кожаном жилете на голое тело. Его бы самого в хомут, подумалось мне. Пони жалко. Я потребовал:
— В Египет!
— Чего-чего? — От удивления возница проснулся. — Куда?
Я повторил направление.
— Это новый ресторан, что ли, открыли? — Красная лепеха его физиономии смотрела на нас немигающими водянистыми глазками.
— Египет — это где фараоны и кэмелы, — сказала Машка. — Везите нас в Шереметьево-два.
Накатавшись и нагулявшись, мы упали на облезлую скамеечку в тени огромной старой липы. Усталые, довольные собой и друг другом. Где-то за кулисами орали попугаи. С другой стороны кто-то лениво рычал, прочищая глотку. В пруду хлопали крыльями утки-мандаринки и гуси-лебеди. Липа экзотически пахла. Мы чувствовали себя немножко путешественниками. Как бы в джунглях.
— Знаешь, Еж, — сказал я, — ваша директриса предлагает нам поехать в Африку. Хочешь в Африку?
— Конечно! — Машка даже подпрыгнула на месте. — Хочу!
— Значит, поедем, — ответил я и в этот самый момент решил: действительно поедем. — А чего ты хочешь еще?
— Секрет. — Она прижалась ко мне горячей щекой.
— Большой секрет? — Я погладил дочь по соломенным волосикам.
— Очень большой.
— Ну, скажи на ушко.
— Не скажу.
— Пожа-алуйста!
— Хочу… — Она подтянулась и спрятала мокрые губенки в моем ухе. — Хочу, чтобы ты все время был дома. И не работал ночью. Вообще никогда-никогда не работал. И ходил со мной гулять. И катал на машине. И покупал мороженое. И любил нас с мамой…
Я вдруг понял, что ее губы были мокрыми от слез. Губы и все лицо.
Теперь мне предстояло испытание нешуточное. Визит в старую арбатскую квартиру, куда сбежала моя Таня. В дом, где меня никогда особенно не любили. В королевство, где правил, растеряв все иные свои привилегии, Илья Иванович Смоктунов — великий советский скульптор, лауреат Госпремии, старый партиец и почетный пенсионер. Тесть мой. Когда дочь поставила его перед фактом, что собирается замуж за голодранца-студента из Долгопрудного, он не разговаривал с ней целый год и на свадьбу не пришел. Теперь давно уже остыл, но смотрит на меня свысока по-прежнему. Гордый тип, с большими причудами. Похож лицом на артиста Ульянова.
Старые квартиры, в них что-то есть особенное. Особый запах. Пахнет книжной пылью, сыростью немного, скрипучим паркетом, нафталином из шкафов и кладовок, с антресолей, где хранятся давно не ношенные вещи… Сложный коктейль, как у дорогих духов. В таких квартирах люди живут поколениями, они как крепости. В них покойно, уютно, в них чувствуешь себя в ощутимой точке между прошлым и будущим, в длинной цепи, в единой связке. Арбатскую квартиру нельзя купить, это глупо. Она должна достаться по наследству, от дедушки с бабушкой — коренных, родовитых, московских. Парень из коммуналки, я всегда мечтал жить в таком доме, как этот, например: Овсяниковский переулок, четырнадцать дробь восемь. Чтобы полуобсыпавшиеся кариатиды с аскетичными мужскими лицами поддерживали ветхий балкон. Чтобы многослойно крашенная узорчатая дверь в два моих роста, тяжеленная и скрипучая, была с позеленевшей ручкой. Чтобы широкая лестница, как во дворце, с чугунными витыми перилами, и высокие потолки с лепниной, и грязный задний двор-колодец с гаражами и остатками гипсового фонтана… И чтобы древняя, пережившая все физические пределы возраста старушка со стеклянной брошью на заштопанном платье выгуливала у подъезда жирную, седую и лысую собачку… В Овсяниковском, четырнадцать дробь восемь, я не был уже давно, с год. А подъезд преобразился. Хоть мочой воняло по-прежнему и еще прибавилось надписей на ободранных стенах, многие двери были уже стальные, танковой брони, свежевстроенные. На втором этаже, квартира слева, где жил, как его называла Таня, «вечный жид», столетний почти большевик Исай Фомич, знакомый лично с Лениным, Сталиным и Троцким, на месте двери вообще зиял провал. Перестройка добралась до логова старого коммуниста, и новый хозяин, выполняя волю истории, произвел тотальный аборт, выскоблив стены до кирпича и полы — до подозрительно гнилых черных бревен перекрытия. Внутри выла, надсаживаясь, дрель — что-то буравили, может, пропавшее золото партии искали, не знаю.
Вздохнув тяжко, я покосился на полированную латунную табличку с надписью «Заслуженный скульптор СССР Илья Иванович Смоктунов», позвонил. Заслуженный скульптор мне и открыл. Высокий рукастый дед-здоровяк, он поправился, обрюзг, облысел еще больше, как-то осел в землю, но все еще напоминал одно из своих творений, угловатую гранитную фигуру с грубыми и мощными простыми чертами, молотобойца. Улыбнувшись Машке, раздвинув губами тяжелую, застывшую маску лица, тесть выдавил мрачно:
— Ну, проходи, раз явился.
С большой неохотой я переступил порог. В этой многокомнатной пещере с полутемными пыльными закоулками, уставленными антикварной мебелью, с мохнатыми коврами и бронзовыми светильниками, я всегда терялся. Огромная, запущенная, полумузейного вида, я вечно туалет в ней найти не мог. Где-то в неисповедимой глубине скульпторского дома протяжно ныла медитативная музыка — наверное, Таня делала свои упражнения, боролась с тоской. Сутулый, в обвислых штанах и майке, из-под которой выбивалась густая белая щетина, Илья Иванович смерил меня недобрым взглядом:
— Что ты у нас забыл?
Прозрачно-голубые, с красными прожилками глаза уперлись в меня, прячась пулеметными гнездами в тени крепкого лба и спутавшихся мохнатых бровей. Когда старик злился, с ним было нелегко.
— Таня есть? — спросил я.
— Она тебя не звала. А я так и подавно.
— Ну не сердись, деда! — вдруг встряла Машка, теребя тестя за руку. — Пожалуйста, не сердись. Мы тебе большого рака купили в подарок. Хочешь рака?
Сами не зная зачем, мы набрали в супермаркете кучу еды, сладкое и тысячу других бесполезных предметов. Например, мороженого лангуста. Клешни у него были склеены синим скотчем. Как будто deep-frosted тварь не сдохла, но впала в анабиоз.
— Беги играйся, внучка, — отрезал старик. — Пошли, зятек, разговор есть.
На кухне пахло роскошным обедом. Если есть в этом доме тот, кто мне хоть немного сочувствует, это, как ни странно, теща, Евгения Петровна. Мне позволено называть ее «тетя Женя». Значит, готовились к моему приходу, простили уже заранее. Приятно. Илья Иванович плотно закрыл дверь, достал из буфета, похожего на готический собор, пару стопок и графин с водкой. Разлил. Потребовал:
— Выпьем сначала.
Чокнулись, выпили. Водку они настаивают на лимонных корках, еще шут знает на чем. Получается отлично. А вообще скульптор попивает. Наша семейная тайна.
— Стало быть, мириться пришел, — сказал он, шумно фыркнув, как старый морж.
— В общем, да, — подтвердил я. Илья Иванович помолчал.
— А ты знаешь, как она плакала? Каждую ночь ревела в подушку. Мы с матерью за эти две недели валерьянки выпили на полпенсии. Ложится спать и ревет…
Я виновато поморщился.
— Вот скажи: ты зачем работаешь? — Он снова наполнил стопки. — Для чего?
— В каком смысле?
— В прямом.
— Ну как… Я люблю свою работу, — замялся я. — И деньги неплохие в общем.
— Во-во, деньги. — Заслуженный скульптор залпом проглотил водку, ловко влил ее прямо в желудок. — Только о них и думаешь. Деньги, деньги… Все мало тебе. Сколько человеку надо для счастья, скажи? Миллион? Миллиард?
— Но при чем тут…
— А при том! — Он с размаху грохнул кулаком по столу, так что даже графин подпрыгнул. Скульпторы, они сильные. — Ваше поколение вообще ни во что не верит, кроме денег. Расплодили торгашей, торгашескую эту психологию расплодили, а она как зараза, ко всем теперь липнет. Ну скажи прямо: во что ты веришь? Есть у тебя какая-нибудь идея в жизни? Мы тоже, знаешь, в свое время от зари до ночи вкалывали, жены нас не видели. Только мы новую жизнь строили, здоровье гробили на это. А ты — что ты строишь?
Тесть мой дядька умный, но демагог. Спорить с ним невозможно, не переспоришь. Навис над столом тяжелой тушей, уперся локтями — попробуй сдвинь.
— Ничего я не строю, Илья Иванович, — ответил я спокойно. — Мое дело — компьютер. А насчет идеи… вы меня простите, конечно, но идея у меня одна: я хочу, чтобы моей семье было хорошо. И все. Чтобы Таня и Маша ни в чем не нуждались.
— Вот им и хорошо! — проревел тесть, снова хватая графин за тонкое горлышко мускулистой ручищей. — Лучше некуда. Жена от него сбежала — это он, понимаешь, о ее счастье так позаботился! Заруби себе на носу: ни дочку, ни внучку я в обиду не дам, понял?! Нам с матерью каждая ее слеза знаешь во что обходится? Пей давай, что ты на меня уставился.
Мы помолчали, каждый подумал о своем.
— Илья Иванович, я сегодня первый день в отпуске. Хочу, чтобы мы все вместе поехали в Хаммарат, к морю. Так что все будет нормально, поверьте.
— Это где еще — Хаммарат? — Тесть недоверчиво хмыкнул.
— В Северной Африке. Говорят, отличный курорт.
— Африка, Африка, — презрительно процедил он. — Черное море вас не устраивает, по заграницам хотите мотаться. Чтоб заразу там подцепить какую-нибудь.
— Напрасно вы волнуетесь…
— Такую страну развалили. — Тесть помотал мощной своей головой, поскрипел зубами. — Помню, Дом творчества в Гурзуфе — это ж рай, чего еще надо-то? Танька, она ведь в Гурзуфе, считай, выросла. Эх-хх… — Он задумчиво почесал седую грудь. — В общем, ты понял меня. Если семья на первом месте — значит, семья. Твои слова. Отвечать за них будешь как мужик. А за компьютером сидеть и дурак может.
Он встал, отодвинув ногой табурет, потер поясницу, крякнул, открыл дверь и зычно рявкнул в глубь дома:
— Таня! Сюда иди!
Вошла моя Таня — раскрасневшаяся, тоненькая, в облегающем трико и тишотке до пупа. Выпирали, торчали крупные соски. Косилась в сторону, не хотела смотреть на меня. А мне, знаете, захотелось сейчас же прямо затащить ее в постель и забыть обо всем на свете к чертям собачьим.
— Сядь, дочка, — велел Илья Иванович. Таня послушно села.
— Поговорил я по душам с твоим мужем, — сурово произнес он, похлопывая по столу ладонью. — Он мне слово дал.
Если сбрешет, я ему, хоть старый, все ребра переломаю. — Заслуженный скульптор, храбрый, снова потянулся к графину. — А теперь миритесь, орлы!
— Папа, тебе хватит. — Таня попыталась остановить его движение, но хрустальная посудина была уже ухвачена мертво.
— Отца не учи! — Понятия не имею, откуда он выудил третью стопку. — Ну, давайте, что ли! Мир?
— Мир, — сказал я, любуясь Танькой моей, еще влажной от пота, непросохшей.
— Мир, — тихо отозвалась она, и, все трое, мы выпили.
— Мать! — взревел Илья Иванович, ухмыляясь довольно. — Накрывай обедать!
В каждой бочке дегтя существует и своя ложка меда. Например, единственный человек в моей жизни, который вкусно и с любовью готовит, — Евгения Петровна, теща. Таня рафинированная, только микроволновку включать умеет, ей не передалось. Сухонькая, вертлявая и крохотная, востроглазая и с вечным счастливым румянцем, «тетя Женя» объявилась тотчас же, водружая в центре стола огромное блюдо с моими любимыми голубцами. Умопомрачительный запах заставлял думать о каком-то незапамятном детстве и сказочных лакомствах, в которые иногда превращалась обычная стряпня вроде макарон и сосисок. На запах принеслась запыхавшаяся Машка («Там такие мультики показывают! Такие мультики!»), получила три нешуточных, политых щедро сметаной голубца и умчалась назад, к телевизору. Их поколение выбирает «Покемона».
— Ну, будем здоровы. — Илья Иванович с полным правом, торжественный, просветлевший, наполнил свою стопку до краев.
С едой покончили быстро. Тесть, наполовину опорожнив свой графин, смотрел на него снисходительно. Молчал. Я краем глаза, робко, косился на жену. Она — на меня. Сытые, довольные, говорить ни о чем не хотели.
— Спасибо огромное, Евгения Петровна, — сказал я. Голубцы уютно лежали в желудке, словно для них только и был он, мой желудок, всегда предназначен.
— Спасибо, мамочка, — поддержала меня Таня.
— На здоровье, на здоровье, дети, — счастливо залопотала теща. — Вы бы чаще приходили, кушали… А то бледненькие такие оба, едите небось все магазинное, синтетику эту всю. Танюшка вон тоже привереда такая — ничего не ест, все кашки и кашки. Я на той неделе такой суп-харчо замечательный сварила, с баранинкой, а она хоть бы притронулась… Только плачет и плачет и кашки себе варит…
— Мама, перестань, пожалуйста, — потребовала Таня. — Это никому не интересно.
Вдруг тесть, он у нас человек внезапный, снова потянулся к графину, плеснул себе решительно водки. Начинается, тоскливо подумал я. Поддав, Илья Иванович произносил речи.
— Вчера по телевизору Егорку Гаранина видел, — объявил он, вытирая рот салфеткой, недовольный.
— Да ты что! — Евгения Петровна всплеснула руками. — И как там наш Егор?
— Хорошо, — обиженно проворчал тесть, пожевав губами, все еще жирными от голубца. — Очередную награду получил за своих бронзовых чучел. И нарядился, нарядился — такой весь из себя, во фраке, с бабочкой, куды там! А мне на семьдесят лет хоть бы открытку прислал… Зажрался, зажрался Егор. — Он помолчал немного, глядя в окно на старую липу. Словно там, на липе, среди веток сидел зажравшийся скульптор Гаранин. — Вот тебе, понимаешь, мать, и старый друг. Я его из какого дерьма вытащил, а! Егорка ж, он когда в семьдесят девятом интервью дал Би-би-си против афганской войны, его в дурдом упекли. А я сразу — на прием к Демичеву. Он мне: «Что же это вы, товарищ Смоктунов, за врагов советской власти просите? Или вы сами с врагами заодно?» Я ему: «Да какой же Гаранин враг, товарищ Демичев? Он запутавшийся человек, ему просто из приемника голову заморочили, и все». — «Вот мы ему больную голову и подлечим». Я все равно стою на своем. «Мы же, — говорю, — таким образом льем воду на мельницу. Даем империалистам очередной повод нас поливать грязью. Не надо Гаранина держать в клинике. Не нравится ему Советская страна — пусть катится себе на Запад…» А Демичев: «Отчего же вашему дружку Советская страна не нравится? Мы его в институте выучили, в Союз художников приняли с грехом пополам, мастерскую выделили, квартиру дали, выставки устраивали, в Дома творчества профсоюзные путевки чуть не даром получал. А Гаранин, как Пастернак, где жрал, там и срать сел…» Вот так, короче. Два часа мы пререкались, и в конце концов Егора выпустили. А теперь он все забыл, все забыл, поросенок…
— А как он у нас на даче жил, в Переделкине, помнишь? — отозвалась мечтательно Евгения Петровна. — Как вы с ним ночами спорили! Засядут с вечера — и давай, и давай… Я проснусь в полшестого, выйду на веранду — а там дым коромыслом. Две бутылки выпьют, окурков навалят полную пепельницу, и чуть не до драки… А потом все вместе шли купаться.
— О чем же вы спорили, интересно знать, с врагом народа? — полюбопытствовала ехидная Таня. Она отца боится, но иногда подкалывает, храбрый заяц.
Илья Иванович насупился. Черты отвердели, налились упругой массой:
— Ты, дочка, если не понимаешь, так и не умничай тут, ясно?! Я вашего Солженицына прочел, когда ты еще пеленки марала. Как раз Егорка и принес «Архипелаг ГУЛАГ». Помню, читал мне вслух, а потом вдруг сказал: мы, говорит, когда победим, мы вас не будем судить. Просто вышлем всех в Америку к чертовой матери. А то им слишком хорошо живется.
Таня неприлично прыснула в кулак. Я невозмутимо поморгал и разделил надвое вилкой последний кусок голубца, который уже есть не собирался.
— Зато теперь вишь как получилось: мы — здесь, а они — там, — невесело подытожил скульптор, гоняя под кожей щек чугунной тяжести желваки. — Победители, понимаешь. Такую страну развалили… Да если б та же Америка пережила то, что мы, — что бы от вашей Америки осталось? Революция, Гражданская война, разруха, голод… Только-только очухались — на тебе, тридцать седьмой год. А потом сразу — Гитлер. Двадцать миллионов погибших, понимаешь, а другие считают, что и все сорок. Опять разруха, опять все сначала, с нуля. Только после всего этого спутник в космос — раз! — Илья Иванович грохнул кулаком по столу, посуда дрогнула, но устояла. — Гагарина — два! Луноход — три!! — На луноходе банка майонеза опрокинулась, жестяная крышка со звоном покатилась под стол.
— Пап, я прошу тебя, — умоляюще скривилась Таня. — Это скучно, в конце концов, твои лекции слушать.
— Илюша, Илюша, хватит! — подхватила, затрещала мелко добрейшая моя теща. — Ты уже выпил, тебе хватит…
— Только-только нормально жить стали, — продолжал реветь Илья Иванович, блестя стеклянно-красными белками. Пьянел он внезапно и катастрофически. Преображался на глазах. — Только-только экономика заработала, людей из коммуналок в квартиры переселили, только-только дети родились, которые ни войны, ни голода не видели, — и тут трах-тарарах! — Стопка маленькой бомбой взорвалась о пол, шарахнув по ногам искристыми осколками. — Явились реформаторы на все готовенькое! Вы же эту несчастную страну уже десять лет грабите и все разграбить не можете до конца! Все, что советская власть создала, жрете-жрете, а оно есть и есть! И будет! Вы же ни черта не строите, кроме дворцов своих, вы же о будущем не думаете, у вас девиз: нахапать побыстрее сегодня, потому что завтра, может, вообще чечены эту вашу «новую Россию» на хрен взорвут. А Сталин правильно сделал: он нац-менскую кодлу выселил подальше, и стало на Кавказе тихо и спокойно. Потому что мыслил го-су-дарст-вен-но! Потому что строил Империю — да-да, Империю, с большой буквы, — как царь Петр свой Петербург — на крови. И построил, черт усатый! Ни одна зараза в нашу сторону плюнуть не смела. А теперь? Теперь что? Теперь о нас все ноги вытирают, вот вам и демократия ваша долбаная! Нищету расплодили, бандитов расплодили, в долги влезли, страну на колени поставили и радуетесь…
— Отец, ну хватит уже, честное слово! — Таня в сердцах шлепнула ладошкой по колену и бросила в мою сторону виноватый взгляд. Видимо, я отвечал здесь за тех самых, которые и «разрушили», и «довели». — Иди отдохни, хватит!
— Нет, ты скажи, зятек. — Теперь с тестем моим справиться было никому не под силу, периодически такое случалось. Настоянная на спирту кровь наконец шибанула ему в голову, долго готовилась, наверное. — Скажи: ты Россию любишь? Ты Родину свою любишь? А?!
— Илья Иванович, я не люблю Россию, — сказал я правду, стараясь держать себя в руках. — Я люблю свою жену и свою дочку. А Россия слишком большая, ее трудно любить. Пусть лучше каждый занимается своим делом и заботится о своих близких. Так мне кажется.
Голубец мой закончился, спасительный, и я теперь тупо разглядывал свое отражение в блестящем серебре вилки, искаженное, уродливое, но очень отчетливое притом. Таня осторожно положила руку мне на бедро под столом, погладила: спокойно, спокойно, потерпи… Может, стоило навещать тестя чаще: слишком много эмоций накапливалось к моему приходу.
— Вот! Вот! Что я говорил?! Не любишь, значит… ик-кк… И никто ее не любит. Все ненавидят Россию, все ее презирают. И армия у нас плохая, и колбаса плохая, и правительство плохое, и машины плохие — все плохое! Горбачев правду дал о Сталине сказать, а кому от этого лучше стало? Только еще больше начали свою страну ненавидеть, говнюки. А эпоха Сталина, в ней была возвышенная красота, понимаешь?! Как рушились и созидались судьбы! Какое было вдохновение, какой порыв! Какие чувства люди испытывали!
Смерть и победа, взлет и падение, кровь и железо, герои и предатели, любовь и страх… Настоящая трагедия, как «Гамлет» или «Король Лир»… Дух захватывает! Она эстетически была прекрасна, понимаешь, нет?! А сейчас на сцене играют дрянной фарс пополам с цирком. Сплошной балаган: маски, клоуны, дрессированные медведи пляшут… Нет героев, героизма больше нет. Ведь страна в жопе, в жопе! Сейчас нужны такие люди, чтобы закатали рукава, взяли молот и пошли вкалывать, восстанавливать, как в двадцатые, в тридцатые… Павка Корчагин нужен. Но где его взять-то, если всем Россия до лампочки?.. Я при этой вашей власти дышать не могу, мне кажется, что даже воздух подменили! — Он захрипел и закашлялся, схватился пальцами за горло. — Воняет чем-то таким… поганым… Поганым!
Налившись багровым жаром, Илья Иванович долго кашлял, отдувался, судорожно сглатывал какие-то крупные, мне показалось, комья. Мы, все трое, сидели и ждали, пока закончится приступ. Сценарий опьянения выдающегося скульптора и лауреата был мне примерно известен. Сейчас он присмиреет, устанет, прекратит бесноваться, потом начнет клевать носом и уснет за столом этак через полчаса. Тогда мы с Таней и Машкой спокойно уйдем восвояси, чтобы не появляться здесь еще… Я бы в этот дом, если честно, больше вообще не зашел. На кой мне?..
— Ты вот думаешь: напился старый дурень, да? — Илья Иванович осуждающе уткнулся в меня рассеянным взглядом, потерянный, уже без прежнего запала. — Пьяный, значит, как зюзя, ничего не соображает, да? А я все соображаю очень даже хорошо. Вот Егор Гаранин все меня попрекал: и зачем ты, мол, талантливый человек, идолов ваяешь, чтобы народ им молился вместо Бога истинного, зачем дар свой губишь… А я всегда знал: нужны идолы! Нужны кумиры! Без вождя народа нет. Хоть ты Библию открой, хоть учебник истории — везде одно и то же. Нет без вождя народа. Егор, значит, чучелов своих лепил и думал, что с советской властью сильно борется. Я всегда ему говорил, дураку: не надо с нею бороться. Потому что советская власть людям дает веру! Основу в жизни, внутренний стержень, главную идею. Без веры жизни нет, запомни хорошенько. Без нее человек только болтается как говно в проруби, хотя ему кажется, что живет. Ведь ваша идеология сейчас какая? Вы боретесь за право мыши сидеть в своей частной норе, чтоб ее там никто не трогал, — вот что такое эта демократия. Забиться в уголок, грызть свое зерно и тихонько пердеть. Только мыши, они ничего не могут построить, ни на что не способны, только жрать и бояться… Вера в идею, вера в будущее и готовность положить за это жизнь — вот что главное! Умереть за идею — и убить за идею. Да-да, убить врага, того, кто стоит на пути, кто мешает… — Он вздохнул совсем беззлобно, даже жалобно. — Я не свихнулся, ты не думай. Просто… понимаешь… как бы тебе это сказать… Мы все жили будущим, строили будущее… Столько людей за это погибло, и винных, и невинных… всяких… Думали: завтра, завтра заживем по-человечески. Не мы, так дети заживут… Дорога верная, шаг за шагом… Еще поднажмем, еще перетерпим… Совсем-совсем скоро… А вы пришли и будущее отняли, понимаешь?! Единственное, в чем был смысл жизни, вы отняли. Самое паскудное, ты пойми, что никакой идеи новой нет. Нет ее, и все! Ведь раньше был хоть какой-никакой, но порядок, связь вещей… все на своем месте… А теперь? Понимаешь, я по утрам выглядываю в окно, вижу все это: ну, новые дома там, офисы, «Макдоналдсы»… и такое у меня чувство… как будто все ненастоящее… декорация… Стоит один раз тряхнуть хорошенько, и рассыплется. А там — пустота. Самое страшное в мире, сынок, это пустота… пустота…
Он заплакал — пьяными жидкими слезами, растирая их негнущимися корявыми пальцами по щекам. Сидит перед вами такой старый, заросший диким волосатым мясом кабан и плачет как ребенок.
— Илюша, Илюша, ну успокойся, ну будет. — Евгения Петровна, хлопотливая, сухонькая, обхватила его, огромного, веточками-руками, прижалась. — Вставай, пошли отдохнешь…
— Оставь, мать, нечего! Сам до кровати дойду.
Илья Иванович распрямился, все еще грозный, пошатываясь, мотая головой. Вздохнул и вышел, сильно задев плечом о косяк. Евгения Петровна опасливо покосилась ему вслед, прислушалась. Скоро в полутемных недрах дома мягко завозилось и рухнуло тяжелое тело, взвизгнули пружины.
— Простите его, дети, ради Бога, — сказала она полушепотом, виноватая. — Вчера звонили из собеса. Собираются лишить звания почетного пенсионера. Он так расстроился… Целую ночь министру письмо писал… Простите его, дети…
— Почему ты мне не сказала, мама? — растерянно проговорила Таня.
— Бабушка, дедушка, можно мне еще один голубчик? — Это вбежала веселая, насмотревшись мультфильмов, стуча по старому паркету босыми пятками, Машка.
Арбат, Арбат… Знаете, полезно сидеть в тюрьме. В тюрьме, я считаю, каждый человек должен оказаться хотя бы раз в жизни. Одиночная камера, четыре серых стены, отполированная сотнями задниц шконка, громкие щелчки задвижки-глазка… Многие вещи воспринимаешь по-другому. Иначе. Качество восприятия меняется. Начинаешь вдруг понимать, что такое свобода. Философы о ней спорят — чушь! Свобода — это возможность в любое время покинуть данное помещение. И все. Минимум. Встать, открыть дверь и выйти, так просто. Вообще, господа, основа жизни, фундамент ее, состоит из очень простых вещей, элементарных. Протянул руку — и выключил радио, если захотел. В Лефортове радио бормочет с утра до ночи. Устроить себе пять минут тишины когда хочется — это свобода. Съесть на завтрак яичницу, просто изжарить ее и съесть — минимум, мизер. Ах, Арбат… Сейчас написал это слово, вспоминаю… Обыкновенный москвич, он редко гуляет по Арбату: работа — дом, дом — работа… Вечер, лето, стены домов дышат теплом, огни кафе, музыка, праздношатающаяся публика, мы трое — Таня, Машка, я. Черт возьми, уже тридцатник стукнул давно, а своего города я ведь почти не знаю! Где не был еще, к примеру? Сейчас прикинем: ну на Новодевичьем кладбище — раз… в Оружейной палате — очень давно, ребенком, так что тоже, можно сказать, не был, и остальные музеи перечислять не будем… в Мавзолее — почему нет? Может, когда я выйду на волю, его ликвидируют, снесут, к тому все идет. Жаль, если это случится. Знаете, меня недавно осенило: жить надо так, чтобы не было пустых мест. Ты мог куда-то, скажем, пойти, что-то сделать, с кем-то поговорить, не знаю, а потом время прошло — и дом снесли, и человек исчез (уехал, умер), и сам ты не тот уже, а в прошлом зияет дыра. В нее что-то утекает важное, в дыру, нарушается какая-то целостность. И не зашить прореху, не восполнить никак. Сижу в тюрьме, в одиночной камере, и вот видите, о чем догадался. А без тюрьмы — не знаю, вряд ли.
— Слушай, а помнишь, как мы с тобой познакомились? — вдруг говорит Таня.
— Конечно, помню. — Я держу ее за руку, теплая, немного влажная ладонь. Мы всегда так: не извиняемся друг перед другом, не выясняем, кто первый завелся и зачем, а просто начинаем жить новый кусок своих биографий. И правильно делаем.
— Был ноябрь… Жутко холодно, дождь… Шел тогда дождь?
— Еще бы! Я промок как собака.
— Да-да, точно — дождь. Такой противный, моросящий дождь. Я стояла на остановке, ждала трамвая…
— Нет, это я стоял и ждал, а ты потом пришла.
— Нуда. Стою, жду. Десять минут проходит, пятнадцать — нету и в помине. Пол-одиннадцатого было, кажется?
— Почти одиннадцать. У меня в часах сломалась подсветка, а фонарь горел еле-еле. Замерз, мокрый стою, злой… А тут ты.
— А тут я. Вижу; крутится рядом какой-то подозрительный типчик в пальтишке, в кепочке, и все курит, курит… У тебя тогда видок был — в темном переулке лучше не встречаться,
— Как же, как же!.. Единственное пальто, единственные ботинки, драные джинсы… В отличие от некоторых простой советский студент плохо жил и мало кушал. И курил вонючие сигареты без фильтра.
— Да-а… Мне, ты знаешь, как-то не по себе уже становится: чего он ходит, думаю, кругами — туда-сюда, туда-сюда?.. И хоть бы одна живая душа еще появилась! Думаю, вот так зарежут, и поминай как звали. А в кошельке у меня, между прочим, — стипендия. Мы в тот день стипендию получили, ходили с девочками в кафе. Иначе ни за что так поздно не ехала бы.
— Испугалась?
— Конечно!
— А я гляжу: стоит симпатичная такая, в беретике, с во-о-от такой громадной виолончелью. И глазками стреляет…
— Я глазками стреляла?!
— Стреляла, стреляла. И, главное, у тебя был зонт. Большущий зонт. Вот бы, думаю, забраться к ней под зонтик…
— Ой ли — под зонтик?
— Ну не в карман же!
— А под юбку?
— Мне, солнце, не до юбки было. На носу зачеты, а слечь с гриппом — сама понимаешь. Как бы, думаю, к ней повежливее обратиться…
— Стеснительный ты наш!
— Стеснительный, да! Я же был студент-математик, цифирная душа, с женским полом как-то не складывалось. В общем, думал-думал…
— И тут подошел трамвай. Я вскочила, говорю себе: слава Богу! Едем-едем, и вдруг…
— И вдруг гаснет свет. На линии отключили электричество. Вышел водитель…
— Водительница. Такая мордатая здоровенная баба, и говорит: «Вагон дальше не пойдет. Просьба освободить вагон». Пришлось освободить.
— Да… Сошла, Господи Боже, темень, хоть глаз выколи! Какая-то грязь, еще помню, доски…
— И остались мы одни. Тогда я подошел к тебе и сказал: «Девушка, можно вам помочь?»
— А я, представь, оцепенела от страха. Стою и молчу. Ты был такой жуткий, мокрый, воротник поднят, кепочка эта на глазах, небритый, цигарка тлеет… И мне, скрипучим голосом: «Можно вам помочь?» Кошмар… Отдала инструмент, что было делать.
— Взял я у тебя виолончель, и мы пошли. Тяжеленная такая виолончель! Бедная девочка, думаю, как она ее таскает…
— Идем-идем, а я все голову ломаю: кто же он такой? Что бандит, это точно, а вот зачем он мне помогает? Начала всякие истории сочинять. Ну, мол, ты только что совершил какое-то жуткое преступление…
— Старушку топором зарубил…
— Может, и старушку, а теперь решил сделать доброе дело. Или ты сбежал из тюрьмы, а тебя ловят…
— Бурная фантазия у консерваторской девочки…
— В общем, рассудила так: выйдем, если повезет, на светлое место, где люди, а потом посмотрим. В любом случае там ты меня не зарежешь.
— А я иду, смотрю на тебя искоса — какая красивая! Вот бы познакомиться. А слова на ум не приходят. Так и топал молча как дурак до самого твоего подъезда.
— Самое главное, я ведь тебе не сказала, где я живу. Еще чего — говорить свой адрес бандиту! А ты взял — и вывел меня куда надо. До сих пор не пойму как.
— Очень просто. Всего лишь вел тебя к метро.
— А потом — бросил бы?
— Не знаю… Но самое интересное, как меня арестовали. Ты юркнула в свой подъезд, а я остался снаружи топтаться.
До того разозлился на себя! Такая классная девчонка, а у меня даже познакомиться с нею духа не хватило. Сказал «до свидания», и все. Стою, курю, сам не знаю зачем. И вдруг выходит из подъезда милиционер: «Молодой человек, что вы здесь делаете?» Я ему что-то такое ответил недоброе…
— Ага. А я пришла, переоделась, выглядываю в окно — тебя куда-то ведут. Накинула плащ и побежала…
— Зачем?!
— Знаешь, я подумала: он, может, и преступник, но добрый человек, помог мне. Я тоже должна ему помочь.
— А мент спрашивает меня: «Вы знаете эту девушку?» Отвечаю: «Нет». «Тогда пройдемте…»
— И познакомились мы в отделении милиции. Романтика…
— Потом пришел отец, наорал на них на всех и забрал меня домой. А тебе — что он тебе сказал, помнишь?
— Конечно, помню: «Если я еще раз увижу вас возле моей дочери, посажу по-настоящему!» Такой грозный был.
— Если бы он знал, чем дело обернется…
— Может, и впрямь посадил бы. Он в свое время даже с Андроповым дружил. Еще собирался ему потом надгробный памятник делать, но не сложилось.
— Прости меня, маленький, ладно?
— И ты меня прости…
Боже мой, что это был за вечер! Последний наш счастливый вечер, последние минуты покоя в моей жизни. Арбат, ярко освещенные витрины, улыбающиеся прохожие, запахи… Видите, написал диалог вообще без ремарок, мне больно вдаваться в подробности, да я и не помню их, подробностей. Машка сидела у меня на плечах, мы ей какие-то шарики воздушные купили, потом, кажется, начала клевать носом, задремала. Еще зашли в магазин, купили свечей и вина (нас ждала ночь примирения, ночь любви!), а уж потом наткнулись на этот лоток. Не знаю, что она там делала в такое время, эта женщина, когда и музыканты, и торговцы сувенирами давно разбрелись по домам. Сидела на складном рыбацком стульчике. Длинноволосая, косички, вплетенные в спутавшиеся полуседые лохмы, перехваченные на лбу широкой кожаной лентой, на шее — побрякушки, четки, амулеты. Босая, грязные корявые ступни, ногти крашены черным лаком. У щиколоток — непонятные тесемки, бубенчики. Трубка во рту дымит. Экзотический типаж, нечто вроде престарелой хиппи, подвявший такой цветок. Я их не люблю, сомнительную арбатскую публику, прибалдевшую обычно от марихуаны, не мой стиль. А Танька как ребенок — тянется к каждому клоуну. Вот и сейчас — застыла, разглядывает разноцветные, разложенные по коробочкам камни, кристаллы, какие-то связки перьев, прочую дребедень. И дитя пробудилось, сползло на землю, крутится возле матери, лезет всюду, роется, счастливо вскрикивает. Босая тетка меланхолична и неподвижна, пускает себе дым. Неприятное у нее, тяжелое лицо, морщины, темные подглазья. Старая ведьма, бормочу себе под нос, скорее бы от нее прочь.
— Давай купим мне талисман! — неожиданно предлагает Таня, обернувшись ко мне, глаза блестят.
— Какой? — вяло интересуюсь я.
— Ну, какой-нибудь. На счастье. Чтобы у нас с тобой все было хорошо.
Я пожимаю плечами: талисман так талисман. Почему нет? Вряд ли он дорого стоит.
— Давай, — говорю.
Таня начинает приставать к босой тетке, выведя ее из полусонного состояния (может, из медитации, пусть она меня извинит). Тетка ворошит свое хозяйство, не выпуская изо рта трубки, длинные пальцы с черными квадратными ногтями вяло перебирают медальончики, цепочки, кристаллы, клыки с надписями. Потом поднимает голову, смотрит на Таню:
— Дайте руку, девушка.
Какой противный, отмечаю я, скрипучий низкий голос, прокуренный. И черные, с маслянистым блеском, зрачки.
Берет Танину ладонь, подносит близко к лицу, водит по ней пальцем, как полуграмотный крестьянин — по газетным строчкам. Мне неприятна эта процедура, что-то в ней есть, так кажется, физиологически нечистое, словно босая тетка может заразить мою жену какой-нибудь инфекцией, дотрагиваясь до руки. Долго, долго изучает (я был уверен: притворяется) линии, морщит лоб, шевелит губами, мрачнеет. Затем лезет в сумку (тряпичная, из лоскутков, сумка с бахромой стоит рядом), выуживает оттуда маленький металлический прямоугольник. Дует на него, протирает о рукав, что-то бормочет под нос, подает Тане. Хорошо еще, хоть не поплевала для блеска.
— Что это? — спрашивает жена.
— Руна защиты, Альгиз, — так же хрипло, пережевывая дым, отвечает тетка. — Тотемное животное — лось, его могучие рога…
Я хихикаю: рога — отличный символ супружеского счастья. Торговка сурово косится на меня, дернув ртом, продолжает:
— Альгиз символизирует связь между человеческим и божественным мирами, покровительство богов. Вам оно потребуется совсем скоро.
— Почему? — Таня уже встревожена. Магия, мистика — эта ерунда очень действует на нее.
— Трудно сказать… Еще Альгиз символизирует осоку, которая своим шорохом может предупредить внимательного путника о приближении опасности. Так считает Рольф Блюм. В системе Таро этой руне соответствует восьмой аркан — «Правосудие», то есть космическая сила, которая всем воздает по заслугам. А я вам скажу… — тетка очень внимательно посмотрела на Таню, потом на меня — быстро, и на Таню снова, — я вам просто посоветую осторожнее себя вести.
— Вы что-то видите? Что-то не так с аурой?
Школа йоги не идет моей половине на пользу: аура, чакры, астрал… Но зато сколько раз я ни пробовал встать на голову — ни черта не получается, хоть убейся!
— Возьмите. — Тетка вложила талисман Тане в ладонь. — Наденьте сегодня же и никогда не снимайте. Даже в ванной. И не позволяйте никому трогать его руками.
— Если нас в Хаммарате схватят дикие берберы, ты покажешь им свой Альгиз, и они мгновенно тебя отпустят. Еще пару верблюдов подарят, — сострил я.
Взгляд босоногой провидицы сосредоточился на мне, и почему-то засосало под ложечкой. Вообще на мгновение нехорошо стало, зябко. Как в детстве, когда гасят свет, и ты — в своей постели, и темнота.
— Берегите свою жену, молодой человек, — медленно произнесла она, отчеканивая каждое слово.
Вещица, Таня ее тотчас надела, стоила копейки. Еще мы купили ей кусочек аметиста, который как-то связан был с талисманом, а Машке — китайскую нефритовую лягушку, зеленую и толстую. Затем ехали в метро — я и забыл, когда в последний раз пользовался подземкой, необычное ощущение. Уже у самого нашего дома Таня, осторожно трогая свой талисман под тишоткой, как будто он был живой и мог куда-нибудь улизнуть, вдруг пробормотала:
— Чего-то я боюсь. Сама не знаю чего. Может, не поедем ни в какой Хаммарат, а?
Я, помню, высмеял ее:
— У этих ведьм работа такая — пугать и втюхивать побрякушки. Если сказать человеку, что у него все будет хорошо, зачем тогда талисман? А ты уши развесила…
Сказать, что у меня было плохое предчувствие? Что кошки скреблись на душе? Нет, не было никаких кошек. Действительно не было.
В постели мы с Таней оказались не сразу. Наш ребенок Маугли, обрадовавшись воссоединению семьи, очнулся вдруг и разошелся не на шутку. Все вещи в квартире были вверх дном. Свой компьютер я защищал грудью, как последнюю пядь родной земли. Меня штурмовали с фронта и с флангов. Наконец, обнаружив неестественную тишину, я пошел искать Машку. Она уснула прямо на ковре, у телевизора. Отнес ее в комнату, переодел, укрыл, выключил свет, пожелал спокойной ночи. Ребенок не отреагировал.
…Зажигать свечи и пить вино (я купил хорошее — французское бордо «Николя Наполеон») уже не было сил. Дочка нас доконала. Таня лежала голая, вытянувшись поверх одеяла. Крупные белые груди свисали в разные стороны. На лобке слегка курчавились рыжеватые подстриженные волосы. Дышала ровно, спокойно, чуть приподнимая белоснежный мягкий живот. Улыбалась, полуприкрыв глаза. На щеках темнели ямочки. Я лег рядом, опершись на локоть. Начал гладить груди, живот, бедра. Получалось скверно. Рука деревянная, чужая, грубая. Я ничего не чувствовал, и у меня… В общем, я был совершенно не готов. Тело казалось напичканным мокрой ватой. Голову тянуло к прохладной подушке.
— Ты, кажется, была права насчет монитора, — пробубнил я зло. — Ни черта после него не стоит.
— Бедный. — Таня погладила меня по голове, как маленького, и поцеловала в лоб. — Ты уже вообще еле живой. Давай лучше спать.
Поворочавшись и потискав ее соски, я смирился со своей горькой участью и провалился в забытье. Лишь где-то под утро, еще не вполне сознавая себя, нащупал Танино сонное тело, обнял его, проник, и мы долго возились в простынях, пока не кончили вместе. Около двенадцати разбудил телефонный звонок.
— Да, — промурлыкал я в трубку.
— Привет, старик, как поживаешь? — весело сказал Кирилл на том конце провода.
— Нормально, — сквозь сон ответил я. — Тебе чего?
— Короче, так, в двух словах. Борис Борисычу ты сильно понравился. Он предлагает послать на хер Силиконовую долину и работать на них. Абэвэгэдэйка хочет установить совершенно новую систему защиты своих локальных сетей. Их недавно, оказывается, чеченские хакеры трахнули, и у всех очко сыграло. Так что просыпайся и выходи строиться.
— Кирюха, родной, — я положил ладонь на Танин мягкий живот, и она приятно просела, провалилась в теплую податливую плоть, — а не пошел бы ты…
И трубку повесил.
— Иди ко мне, — прошептала Таня. Мы набросились друг на друга — теперь уже всерьез.
Супружеское счастье — странная штука. Его не замечаешь и не ценишь. Оно как бы фон, декорация, на фоне которой совершается твоя жизнь. Ты что-то делаешь, куда-то торопишься, работаешь до потери пульса, а декорация стоит и покрывается пылью. Но иногда нужно останавливаться и проводить уборку. Иначе твое счастье сожрут какие-нибудь паршивые мыши. Я сказал себе в то утро: пропади оно все пропадом! Ни на что не променяю больше эту постель, Таню мою, наш покой и уют. Стану мещанином, поставлю на подоконнике герань, заведу канарейку, и ничего мне не надо больше. Всех денег не заработаешь, а жизнь идет… Правильно сказал мой сумасбродный тесть: самое страшное — это пустота. Когда внутри тебя не горит маленькая яркая лампочка. Мы проживем долгую и безмятежную жизнь, грезил я. Родим еще пацана, а то и двойняшек, если повезет. Я найду себе спокойную работу на меньшие деньги — но спокойную. Стану приходить домой рано, гулять с собакой… Конечно, мы заведем себе большую мохнатую собаку, которая будет нас любить — а мы ее. Будем все друг друга любить, это самое ценное, что есть на свете…
— Слушай, — жена допивала кофе, я тянулся к обычной с утра сигарете. — Зачем нам ехать в эту глушь, а? Есть же нормальные страны: Испания, Греция, Кипр, Турция…
— Италия, Египет, Майорка, Эмираты… — продолжил я.
— Вот именно. Аричка, конечно, Хаммарат хвалит, а мне вот… беспокойно как-то.
— Просто у босоногой карги было плохое настроение, и она нагадала тебе черт знает что.
— Я чувствую: это был знак, понимаешь? Давай лучше купим нормальный тур, отдохнем по-человечески.
— Да надоели мне эти «человеческие» курорты, — хмыкнул я. — Самое противное, что там полно «новых русских» с золотыми цепями. Не пляж, а блатная малина. Ты же помнишь Хургаду? И достопримечательности все такие подмалеванные, специально для туристов. Противно. Народу валом, шум, тарарам. Плюс бордели на каждом углу. Я ведь женатый мужчина, как тебе известно.
— Ну да, по-твоему, лучше Соломоновы острова. Где до сих пор людей едят.
— Лучше не лучше, но хоть природа чище.
— А я бы вот в деревню поехала, — мечтательно сказала Таня. — Лес, речка, молоко парное… Машка какая худая стала, ей бы молочка попить в самый раз. И коровьего, и козьего.
— Это без меня. Ты же знаешь, я на даче больше трех дней высидеть не могу.
— Ишь ты, урбанист проклятый, — рассмеялась она. — Скоро вообще перейдешь в виртуальное состояние. Будешь со мной общаться по электронной почте.
— Знаешь, чего мне хочется, Танюха? Хочу сидеть среди римских руин и наблюдать закат. Чтобы только мы и пустыня, а больше ничего.
— Нет, не все! — рассмеялась она. — Тебе еще нужно, чтобы рядом стоял автомат с кока-колой.
Я разглядывал свою Таню, любовался. Вам знакомо это чувство, когда любуешься своей женой, пробежав бок о бок десятилетний марафон? Оба заморенные, взмыленные, никакие, а вдруг оборачиваешься на бегу, бросаешь взгляд… Может, она у меня рахитичная немного, думал я, слишком белая, беленькая, не загорает совсем, хрупкие черточки лица, и в них — постоянная темная печаль. Каштановые прядки падают на матовый гладкий лоб, касаются тоненьких стрелок-бровей… Бархатно-серые глаза — огромные, глядят как бы сквозь туман немного, издалека. Девочка-подросток, тонкие руки, трогательные косточки запястий выпирают, маленькие круглые ноготки… Деточка моя, моя деточка…
Вошла Машка с пирожным в руке и перемазанной мордашкой. Она перед телевизором добила целую упаковку.
— Ну, что же вы сидите, — заявил неугомонный ребенок. — Папа обещал покатать меня на кэмеле!
В Хаммарат мы уехали не сразу. Я побродил по Интернету, связался с приятелем, который держал турагентство. Информации оказалось немного. Страна жутко древняя: финикийцы, греки, римляне, Геродот, Плиний Младший. До пятьдесят какого-то года — французская колония. Потом революция, у власти — то демократы, то оппозиция. Не так давно случилось нечто вроде переворота, но сейчас все спокойно. Красивая природа, шикарные курорты, смешные цены. Что еще? Пустыня, неприрученные берберы, дромадеры, кускус. Периодически оживают фундаменталисты. Государственные языки — арабский и французский. Местные жители приветливы и добродушны. На рынках принято долго и шумно торговаться. Имеются изделия народных промыслов. Пища экзотическая, но вкусная. Свинина запрещена. В специальных барах можно снять мальчика-педераста. В начале следующего месяца ожидается фестиваль суфийских дервишей. Практически все. Да, вот еще что: в последнее время чартеры из Москвы туда не ходят. Нужно делать пересадку в Каире. Самолет местной авиакомпании. Билеты дешевые. Вот теперь точно все.
Из интервью телекомпании Си-эн-эн:
— …Вы пытаетесь изобразить меня в роли ужасного русского хакера. Не нужно этого делать. Я хочу объяснить, чтобы было ясно: я обыкновенный человек. Типичный мидл-класс. Я зарабатывал в год двадцать пять тысяч, это совсем не много. Таких, как я, сотни в Москве и тысячи в России. У нас достаточно хороших программистов и специалистов по компьютерам, поверьте. Большинство из них работают честно. Только единицы нарушают закон. У вас таких людей, я думаю, гораздо больше.
— Скажите откровенно: вы занимались компьютерным пиратством, находясь в Москве?
— Фактически один раз. Я сделал это не по своей воле. Мой босс и те, кто ему приказывал, заставили меня проделать определенную работу.
— Какую именно?
— Сейчас уже не имеет значения какую.
— Вы получили крупный гонорар?
— Нет, не такой, как вы думаете. Гораздо меньше.
— Вы работали на русскую мафию? Я хочу сказать, ваш босс и те люди, которые стояли за ним, они принадлежали к русской мафии?
— Не знаю. Это был приказ. Если бы я не выполнил работу, у нашей компании могли быть крупные неприятности. И у меня лично.
— Русская мафия вам угрожала?
— Мне никто не угрожал. Но я делал успешную карьеру, занимал ведущее положение в компании. Мне не хотелось терять все. У меня были очень серьезные перспективы.
— Вы совершили практически невозможное. Трудно поверить, что на такое способен человек, не являющийся опытным хакером.
— Боюсь, вы преувеличиваете. Ваши газеты и телевидение нуждаются в сенсациях. Притом у меня не было выбора. Я не мог поступить иначе.
— Почему вы это сделали? Из-за денег?
— Вы прекрасно знаете, что нет. Мне нужно было спасти жизнь жены и дочери. Они могли погибнуть в любой момент. Меня держали за горло. Если бы я отказался, мы, все трое, были бы давно мертвы. Загнанная в угол крыса способна на все, что угодно.
— Вы представляли себе последствия ваших действий?
— Задайте сначала этот вопрос тем, кто отдавал приказы о ракетных ударах по мирным жителям.
2
Я расслабился только тогда, когда мы наконец оторвались от земли. Машка летела впервые, испытывала нечеловеческий восторг. Ей до всего было дело: почему летает железный самолет, зачем пристегивают ремни, почему в небе такие странные облака. Сначала я пытался объяснять, затем отнекивался, потом просто замолчал. Не добившись от меня ничего, дочь обиженно уставилась в иллюминатор. Зазвенела в проходе никелированная тележка с напитками. Долговязая красотка в униформе предложила выпить. Синяя форменная пилотка с золотой кокардой смотрелась на ней как парижская шляпка. Пахло от девушки шикарно и приторно, словно ее саму тоже можно было заказать вместе с напитками.
— Что будем пить? — спросил я Таню.
— Минералку, — процедила она сквозь зубы.
— А ты, Еж?
— Пипси-колу, — ответила дочка, не поворачивая головы.
— Значит, так, — обратился я к ароматной форменной девушке. — Нам, пожалуйста, одну пипси-колу, одну минералку и один сухой мартини со льдом.
Она кивнула, и мы получили три толстодонных одинаковых стакана с эмблемой Аэрофлота. Их содержимое тоже оказалось сравнимым. Самым натуральным питьем была минеральная вода. И та почему-то без газа. Мы, все трое, выглядели, наверное, замученными до предела. Сборы были затеяны в последнюю минуту. Купальники, тишотки, шорты летели в чемоданы без разбору. Таня вдруг выяснила, что ей катастрофически не хватает того-то и того-то. Прыгнув в машину, ринулись искать то-то и то-то, нашли и купили совершенно другое и, разумеется, втридорога. Плюс неразбериха и нестыковки с билетами. Вдобавок у жены пошли месячные, болел живот и кружилась голова. Дочка грезила одногорбыми верблюдами, жена лежала пластом и не давала мне взять с собой ноутбук: «Еще не хватало, чтобы ты и там работал!» Но самая главная неприятность случилась в такси. Уже на полдороге ко Внукову Таня вдруг схватилась в ужасе за шею:
— Где моя руна?!
— Понятия не имею, — предчувствуя беду, мрачно отозвался д.
— Я ее забыла! Переодевалась и забыла на тумбочке! Стоп, стоп, поворачивайте обратно! — водителю. — Без руны я никуда не поеду!
Таксист пожал плечами, тормознул. Я, уже и так на нервах весь, взбесился:
— Ты хочешь, чтобы мы опоздали? Чтобы сгорели билеты? Таня, я не миллионер — сорить деньгами. Из-за какой-то побрякушки весь отпуск — коту под хвост!
— И хорошо, и ладно! — Она сразу в слезы. — А тебе все равно, что будет со мной, с девочкой! Вбил себе в голову как осел этот проклятый Хаммарат… Лети сам туда, если хочешь, мне все равно. Мы дома останемся.
— Ты суеверна, как деревенская бабка! — ору я. — * Что, ты веришь в этот дурацкий кусок железяки? Таня, приди в себя: рейс через двадцать минут! Едем, быстро! — тормошу я таксиста.
— Куда? — Улыбчивый полуседой дядька рассматривает нас в зеркало.
— Домой! — рыдает Таня. — Я точно знаю: если мы полетим без руны, будет несчастье.
— В аэропорт! — рычу я. — Не обращайте внимания, она сегодня немножко нервная.
Таня рвет на себя ручку двери, пытается выйти, ручка не поддается — ее заклинило, что ли. Я подпрыгиваю на своем переднем сиденье, как в жопу раненный, правильно говорят, Машка крутит головой, вот-вот разревется.
— Так что делать, ребята? — интересуется таксист. — Едем или как?
— Нет! — жена сквозь слезы.
— Что, пошла на принцип? Хочешь все испортить? Молчит, плачет. Я, тоже молча, киваю водителю: мол, давай, поехали, и точка. И доехали, слава Богу, и погрузились в самолет. Но до самого Каира жена смотрела на меня волком. Вытащила толстую книгу, уткнулась в нее, накуксилась, и молчок. А за иллюминатором, в небе, ослепительно синем, плыли облака, пронизанные легким солнечным светом. Такой был покой, такой простор! Так я радовался, что мы оторвались от земли, что висим в бесконечном пространстве, где нет ни человеческой сутолоки, ни Борис Борисы-чей, нету даже птиц — только солнце, синь, облака да редкие самолеты…
— Танюш, что ты там читаешь?
Молча показала мне обложку: Согьял Ринпоче, «Книга жизни и практики умирания».
— Где ты откопала? — удивляюсь.
— Наш йог дал в дорогу.
— Зачем?
— Затем, — мне адресован колючий, косой взгляд.
— А что такое ринпоче?
— Отвяжись!
— Ну-у… ну скажи-и… ну, пожа-а-алуйста!..
— Это когда душа одного гуру после смерти переселяется в другого, — неохотно бормочет.
У них интересная школа йоги. Пишут рефераты, контрольные. Хотя, чем бы дитя ни тешилось…
— И что там интересного?
— Какая разница. Ты все равно ни во что не веришь, — дернула острым плечиком.
— Я верю во все на свете! И в ринпоче поверю, только не сердись. Вот увидишь, все будет хорошо. Отдохнем, накупаемся, загорим как черти… Я бы на месте Лужкова всех гадалок к чертовой матери с улиц поубирал, чтобы народ не путали.
— Дурак. — И снова носом в книгу. Я не унимаюсь:
— А в кого бы ты хотела переселиться после смерти?
— Идиотский вопрос.
— Но ты странные книжки читаешь в самолете, честное слово.
Таню передернуло. Хотела, видимо, сказать гадость, но промолчала. Перевернула страницу.
— Вот, — ткнула мне. Я прочитал:
«Строить планы на будущее — все равно что рыбачить в сухом ущелье.
Ничто никогда не будет так, как ты хотел, так что откажись от всех своих расчетов и стремлений.
Если тебе обязательно нужно о чем-то думать — пусть это будет неизвестность часа твоей смерти…»
Если бы я встретил этого ринпоче, рассказал бы с удовольствием ему историю про Зеку. Что бы он потом написал, интересно, про неизвестность часа своей смерти?..
Объявили посадку.
— Слава Богу, — сказала жена.
Мы спустились по трапу, раздвигая телами сжиженный горячий воздух. В абсолютном безветрии он напоминал безвкусный кисель. Вдыхать невозможно, приходилось глотать. К тому же воздух не усваивался легкими. Мне казалось, что я плыву в кипятке. Чтобы поднести ладонь ко лбу и вытереть пот, требовались нешуточные усилия. Высокое и круглое небо над нами обрело свой естественный цвет. Оно выглядело без преувеличения синим. Таким, что для сравнения следовало сказать не «аквамарин» или «лазурит», а просто «небо». Ни с чем иным не сопоставлялось. В центре из-разцово-глянцевой, покатой синевы висело такое же несравнимое солнце. Все вместе напоминало вывернутую наизнанку голландскую печь. Вместо свинины с капустой печка жарила нас.
С трудом мы погрузились в автобус, который встретил нас лебединой прохладой салона, В Каире торжествовала цивилизация. Она, к счастью, начиналась прямо на взлетно-посадочной полосе. Совсем скоро мы уже сидели в божественной свежести зала для транзитных пассажиров. Ребенок получил двухлитровую фляжку грушевой воды — «пипси» отказывалась утолять жажду. Таня часто моргала и отирала лицо ароматизированной салфеткой «Клинекс». Салфетка отвратительно пахла гнилым апельсином. На стеклянную стену аэровокзала ощутимо давила жара, распиравшая пространство. Фразочка «Два мира — два образа жизни» воспринималась совершенно всерьез. Московское лето в сравнении с Каиром было зябким и пасмурным.
Европейцев я заметил немного. Среди носатых и усатых деловых арабов в свежих костюмах и галстуках белая раса выглядела сомнительно. Гадкий тип, напоминавший престарелого хиппи, лежал прямо на полу, подложив под голову рваную торбу. Жидкие сальные волосы цвета старых простыней свисали с полулысого черепа потными сосульками. Одет он был в дырявые джинсы и грязную хламиду, увешанную фольк-побрякушками. Стоптанные сандалии валялись рядом. Кажется, хиппарь обкурился. Поодаль, у газетно-жур-нального лотка, стоял высоченный, гигантского просто роста, ярко-рыжий бородач. Смертельно-бледная кожа, щедро присыпанная веснушками до кончиков пальцев, неестественно громадный выпяченный зад. Очки с бифокальными линзами. Бородач листал «Хастлер» и походил на сексуального маньяка. Во всяком случае, я решил, что он напоминает мне маньяка. В дальнем углу две пышные крашеные блондинки уплетали мороженое и громко болтали. Прислушавшись, я уловил родную речь. На груди блондинок откровенно таращился весь арабский зал. Девки ехали работать. В их физиономиях было что-то пресное, какой-то неуловимый отпечаток Тверской. Очень странные люди ожидают рейса, подумал я. Очень странные.
Вылет был через час. Семейство занималось своими делами: Таня читала, Машка спала. Удивительна эта ее особенность отключаться где придется! Ночью бы так дрыхла, ведь не уложишь. Пошатавшись по залу, я купил «Форбс» и вернулся к своим. Англоязычную прессу я встречаю редко и читаю с удовольствием. Наши magazins достигли лишь полиграфического качества. Таково мое частное мнение. Я не патриот. С обложки на меня глядело знакомое лицо. Рядом крупно: «Бомба для президента!» Внизу помельче: «Если вы считаете, что у меня есть ядерное оружие, я благодарю Аллаха за то, что он помог мне его приобрести». До сих пор не могут точно выяснить, владеет Террорист Номер Один атомной бомбой или нет. Я внимательно посмотрел на портрет. Крупный план, великолепная резкость, профессиональная съемка. Этот человек, объявивший войну Соединенным Штатам, любит позировать западным фотографам. Они его находят, ЦРУ — нет. По-моему, развал Советского Союза — единственная удачная операция доблестного CIA. С реальными врагами получается гораздо хуже.
Я, как и все, видел это лицо тысячу раз. Оно мелькало в «Новостях» едва ли не каждый день. Но рассмотреть как следует до сих пор не удавалось. Вгляделся: такие люди заслуживают долгого пристального взгляда. От них трудно отмахнуться. Они делают Историю. Мы — их пешки и заложники. Умные рабы и слуги должны изучать своих хозяев. Знать их как самих себя. Иначе в какой-то момент хозяин может стать богом, и нить, связующая обоих, навсегда прервется. Исчезнет бытовая взаимозависимость. Я, повторяю, вгляделся пристально. Знакомые мне физиономии больших злодеев редко будили любопытство. Гитлер — явно истероидный тип, психопат. Нервное, дерганое лицо, неестественно выпуклый лоб, придурковатые усики. Кошмарный сон Зигмунда Фрейда. Сталин противен физиологически, высокомерная гримаса на рябой кошачьей морде вызывает гадливость. Мао — китайская маска, о нем вообще трудно что-то сказать. Китайцы, простите, для меня все одинаковые.
Террорист Номер Один напоминал библейского патриарха. Красивое семитское лицо, неуловимо лошадиное и оттого еще более выразительное. Аристократически изысканные, благородные черты. Тонкий, с горбинкой, нос, раздуваются чувственные ноздри. Крупные, сочные губы, мечта любой женщины. Белоснежная величественная борода свободно струится на грудь. И глаза, конечно, глаза… Я твердо знаю, что есть вещи, подделать которые невозможно. Это покой и мудрость. Трижды великий актер не сыграет этого до конца. Да, покой и мудрость. Так вот, это были глаза человека, умудренного покоем. Или успокоенного мудростью. Выражаюсь сложно, но иначе не получается. Ни у кого из моих знакомых нет таких глаз. Их вообще не бывает в реальной жизни. Это мое мнение. Я лично не встречал. Только на иконах. Но христианские святые страдают, чуть не плача, а этот не был печален. Он выглядел в чем-то глубоко уверенным, очень глубоко. Знал такое, отчего жизнь не кажется ни раем, ни адом. Видел не предмет, а то, что за предметом. Или внутри его. Какую-то скрытую суть. Танькин йогический гуру напоминал шизоидного инженера-шестидесятника. Собственно, им он и был. Мутные зенки встревоженно зыркают по сторонам. Кашпировский, Чумак… Тьфу! Кто еще? Нет, никого не знаю. Террорист Номер Один — я жадно рассматривал его фото. Неужели этот человек совершил то, что совершил? Видимо, да. Как же он мог, с таким лицом, которое могло принадлежать, не знаю, Моисею, Аврааму, кто там еще?.. А если мог, то почему?
— Что ты на него уставился? — толкнула меня в бок жена. — Самолет через пятнадцать минут, а посадку до сих пор не объявляют. Может, что-то случилось? Поди узнай, не сиди сиднем.
Я послушно встал и пошел. Мы уже на Востоке, но, в семье все еще равноправие. Командует женщина.
Нашего рейса на табло не было. Я почувствовал себя неуютно. Ласковый женский голос в динамиках ничего не обещал на английском, французском и арабском языках. Самолеты летели куда угодно, но не туда, куда собирались лететь мы. Публика вела себя безразлично. Мимо шел веснушчатый сексуальный маньяк со своим «Хастлером». Я задал ему вопрос. «Каине анунг», — равнодушно бросил веснушчатый, оказавшись немцем. В общий зал из транзитного не выпускали. Для общего зала требовалась египетская виза. Пришлось скрепя сердце двигать к русскоязычным девкам. Они так обрадовались земляку, что могли бы, наверное, обслужить прямо здесь. Но знать ни черта не знали.
— У них тут вечно бардак, — уверенно заявила, тряхнув бюстом, та, что пониже, Жанна. — График вечно меняют. Сиди и жди как дурак.
— Вы, мужчина, не переживайте, — утешила вторая, щекастая Марина из Чебоксар. — Все равно полетим. А вы отдыхать, да?
Я кивнул.
— Ой, нам такого про них понарассказывали! — перебила подругу Жанна. — Такие ужасы! Вроде кочевники нападают на автобусы и берут туристов в заложники. Кошмар какой-то.
— Слушай больше, — нерешительно возразила Марина из Чебоксар.
— Смелые вы девчата, — сказал я и представил, как берберы или туареги на своих кэмелах штурмуют автобус. Эта парочка с удовольствием согласилась бы на плен. — Если что-нибудь узнаете, скажите. Мы вон где сидим.
— Ага! — ответили они дружным хором.
Мне задержка показалась подозрительной. Нормальные авиакомпании уважают график. Даже Аэрофлот. Это же, черт возьми, небо, не шоссейная дорога. Но мы стали ждать. Полчаса. Час. Два. Таня психовала, несколько раз начинала длинные сбивчивые монологи в мой адрес. («Я же говорила: не надо ехать! Я же говорила!! Вечно надо делать только как ты хочешь, как тебе нужно… Никого не слушаешь, никого не слушаешь!») Я трагически молчал. Дочка проснулась и потянула «Форбс» у меня из рук.
— Папа, а кто этот бородатый дедушка?
— Санта-Клаус, — буркнул я.
— А что здесь написано?
— «С Новым годом, дорогие ребята!» Отвяжись.
— А тут написано: пре-зи-дент, — заявил грамотный детеныш. Не зря мы отдали его в английскую гимназию.
— Ну, американского президента они тоже поздравляют…
Наконец Аллах снизошел к нам, и объявили посадку. Рейс по невыясненной причине задержали на час и сорок минут. Мы поволокли вещи к автобусу. Покатили мимо роскошных белоснежных лайнеров «Люфтганзы», «Суис Эйр», «Эйр Франс». «Боинги» и «конкорды» скользили по гладкому бетону, величаво расправив крылья, невесомо отрывались от земли. Видели сирийские, кувейтские, израильские самолеты, свернули от них вбок, в неизвестном направлении. Уже показались разноцветные приземистые ангары технических служб, красно-белые локаторы гражданской авиации и темно-зеленые — военной. За нашим автобусом с хриплым пронзительным лаем увязалась куцая дворняга. Обнаружилась вертолетная площадка, бараки вроде казарм, частные домики и кривенькие пальмы. Невинно белели вывешенные на просушку полотнища простыней.
— Куда мы едем? — Жена была как лимонка с выдернутой чекой. Отпусти — взорвется.
— Все будет нормально, — ответил я без особой уверенности.
Сделав порядочный крюк, автобус остановился у третьеразрядной взлетно-посадочной полосы. Сразу за ней начиналась бурая пустыня, отгороженная некрашеной сеткой забора. То, что я увидел, превосходило все ожидания. Нас ждал линялый и потрепанный двухмоторный самолет с выцветшим национальным флагом на боку. Винтокрылая машина выглядела как ветеран тяжелых воздушных боев. Она годилась для подвига, для какого-нибудь тарана, но не для перевозки мирных людей. Или, на худой конец, сбрасывать продукты голодающим таежникам. Опрыскивать поля ядохимикатами.
— О Господи! — Таня остолбенела. — Я на таком не полечу. Хоть режьте, я на таком не полечу.
Наши попутчики — хиппарь, немец, несколько деловых арабов и Жанна с Мариной — были абсолютно спокойны. Взяли вещи и потопали. Только моя Таня не желала трогаться с места:
— Вот тебе твой Хаммарат поганый! Давай лети! Разобьешься — и хрен с тобой! А я ребенка в эту колымагу не пущу.
— Keine Sorgen, Kollegen, — обернулся к нам с добродушной улыбкой маньяк-бородач. — Don't worry. It will be a nice trip.
— Какой там найс! — возмутился я по-английски. — The fucking machine'll bring us in hell.
— Blode Arschlocher haben leide keine anderen Flugzeuge, — с пониманием сказал немец. — Take it easy. Keep smile.
— О чем вы там треплетесь? — подала голос онемевшая было Таня.
— Иностранец говорит, что у них нет других самолетов.
— И что теперь делать? Мы же развалимся в воздухе. Нет, я не полечу, серьезно.
Машка, с любопытством глядя на великана, выступила вперед, протянула ладошку и четко, по складам сказала:
— My name is Mary. I have father and mother. I live in Moskow. What is your name?
Немец расхохотался басом и пожал моей крошке лапку:
— Gunther. My name is Gunther. Are you russians?
— Yes, — подтвердил я без энтузиазма. Ребенка от маньяка следовало держать подальше.
— Oh, Russland, Vodka, Gorbatschov! — обрадовался он. — Ihr President ist ein KGB-Beamter.
— Ваш тоже хорош, — огрызнулся я. — Все, хватит болтать. Таня, Еж, пошли!
Мы обреченно тронулись с места.
Изнутри проклятый флюгцойг выглядел не лучше, чем снаружи. Тесный, как шифоньер, салон, продавленные кресла, вытертый половичок со следами пролитых напитков. Крепко воняло казармой. Задрожав, fucking кукурузник покатил по бетону и натужно оторвался от земли. Равномерно затрясло, но только на первых порах. Затем тряска сбилась с ритма, и мы почувствовали себя в кузове грузовика на проселочной дороге. В таких грузовиках нас возили на картошку в студенческие годы. Спотыкаясь на невидимых воздушных ухабах, проваливаясь в ямы и с трудом выбираясь из них, самолет пер среди реденьких тряпичных облачков. Похоже, воздух был для него серьезной преградой. Гул стоял такой, что не было слышно собственных мыслей. На Таню я предпочитал не смотреть. Это было опасно. Одна Машка, ненормальный ребенок Маугли, чувствовала себя хорошо. Когда самолет проваливался в очередную воздушную яму, визжала от восторга. Немец глядел на нее с широченной улыбкой до ушей. Кажется, он был совсем не страшный, как и положено маньяку. Подмигивал моему Ежу.
Через час, когда мои внутренности были в состоянии коктейля, шасси коснулось земной тверди. Чувство — куда лучше оргазма. Никогда еще я не был так счастлив. У Тани просто не хватало сил разорвать меня в клочки. Дочь сияла.
Аэропорт: состояние вечного ремонта. Казалось, его построили римляне. Псевдоклассическое здание с пузатыми колоннами облепили ржавые леса, на которых копошились коричневые полуголые человеки. Кроме нашего воздушного судна на бетонке покоилась еще парочка таких же развалюх. Вдалеке стоял родной Ту-154 с эмблемой неизвестного государства. Кругом — ни души, автобуса не подали. Пассажиры гуськом потянулись к центральному входу. Жанна с Мариной громко матерились, обливаясь потом. На них жалко было смотреть. Особенно печально выглядели темные круги под мышками. Размером с чайное блюдечко.
— Ничего, — твердо сказал я Тане, которая мстительно молчала, стиснув зубы. — Ничего страшного. Ты же знаешь, все договорено, возле аэропорта нас ждет машина. Сядем и нормально поедем. Отдохнем, поедим, искупаемся. Завтра ты будешь как огурчик.
— Потом поговорим, — зловеще отвечала жена.
По словам Ариадны Ильиничны, господин Курбан обещал лично встретить нас и доставить прямо в гостиничный номер. Видимо, он любит свою невестку. Конечно, задержка рейса… Но ведь они, местные, должны быть в курсе, не так ли? Балерина сказала, что в Хаммарате уже забронирован номер люкс. Отель «Лез Оранж-Бич резот», четыре звезды. У самого синего моря. Площадка для гольфа и центр талассотерапии. У нас там большой блат. Платить будем лично господину Курбану. Примет как родных.
У таможенной стойки, напирая на нее раздутым брюхом, стоял красномордый наглый тип в зеленой форменной рубахе и фуражке с кокардой. Пуговки на рубахе трещали, готовые отлететь одна за другой пулеметной очередью. С левого запястья свисали неприлично крупные золотые часы. На мизинце правой блестел новорусский перстень. Несло от таможенника крепким сладким одеколоном, многократно умноженным на тяжелый звериный пот. Рябые дряблые щеки свисали с черепа от самой фуражки. Из пасти торчал затушенный окурок толстой сигары. Сигара тоже воняла.
Арабов пропустили без разговоров. Документы хиппаря чиновник долго рассматривал, потом грохнул штамп и махнул волосатой ручищей — проходи! Немец что-то впаривал ему на двуязычной смеси и тоже прорвался. «Fm waiting for you, Kollegen!» — крикнул нам зачем-то на весь аэровокзал.
На черта ты нужен, еще подумал я. Жанну с Мариной увели двое молодых-симпатичных в униформе с автоматами. Они явно не собирались их расстреливать. Последними оказались мы. Я выложил на стойку паспорта и спокойно застыл. По идее никаких осложнений не предвиделось. Благополучная семья приехала на отдых. Поднимать экономику Северной Африки кровно заработанными долларами. Пропустить — и дело с концом.
Таможенник долго листал паспорта, переводя сонный взгляд с фотографий на наши измученные лица. Хоть приблизительное сходство все-таки должно было сохраниться.
— Цель прибытия? — процедил он наконец на отвратительном английском.
— Отдых, — ответил я.
— Русские?
— Да. Из Москвы. Москоу, Москоу.
— Род занятий?
Мне вопрос показался странным.
— Я программист, жена — домохозяйка. Какое это имеет значение?
Таможенник посмотрел на меня без выражения:
— Все имеет значение. Приехали в первый раз? — Да.
— С какой целью?
— Отдохнуть, — напомнил я, начиная нервничать. Предъявите контракт с турфирмой и бронь на места в отеле.
— Мы едем в гости. В Хаммарат, к господину Мохамме-ду Курбану.
— Покажите гарантийное письмо от вашего Курбана.
— Что?!
— Документ, в котором он обязуется вас принять, — брезгливо ответил таможенник и с важным видом переместил окурок сигары в другой угол рта, пожевав мокрыми губами.
— У нас нет такого письма… Он осклабился, довольный:
— Ваше пребывание на территории республики незаконно.
— Как вас понимать?..
Несколько минут я безуспешно пытался объяснить этому свиному рылу, кто мы такие и как здесь оказались. Он, кажется, вообще не слушал. Затем буркнул:
— Предъявите декларацию, — и вяло махнул рукой в сторону окошка с надписью «DecIaration de devises».
— Мы не везем ничего запрещенного. Нам нечего декларировать.
— Наличные деньги?
— Триста долларов.
— И все? — Он скривился, утопив глазки в складках жира.
— Дорожные чеки «Thomas Соок» и кредитная карта «American Express».
— Предъявите.
Раздражаясь все больше, я выложил перед ним содержимое барсетки.
— Предъявите багаж для досмотра, — потребовал он все тем же безразличным тоном.
— Пожалуйста. — Наши чемоданы стояли рядом, на специальном помосте. Плюс сумка с ноутбуком.
— Откройте.
Пришлось открыть. Он с трудом вышел из-за стойки, брезгливо потянулся к вещам. Брюхо колыхалось под рубашкой. Ткнул в ноутбук коротким волосатым пальцем. Ноготь был обведен грязной каймой.
— Это что?
— Компьютер.
— Зачем?
— Я программист, собираюсь немного поработать.
— Нужно проверить.
— Что здесь происходит?! — прорвало меня. — Вы же видите, мы семья, едем отдыхать. Отель «Лез Оранж-Бич резот» в Хаммарате, по приглашению Мохаммеда Курбана. Все документы в порядке, чего вам еще надо?
Таможенник вроде и не слышал. Нагнувшись, запустил пятерню в наши трусы и тишотки. Что-то ухватил. Морда его озарилась радостью долгожданной находки. На стойке появились две бутылки подарочной «Московской», которые мы везли господину Курбану. Балерина сказала, он будет очень доволен.
— Что это? — осклабился жирный сукин сын.
— Водка. — Я старался держать себя в руках. — Не более литра спиртных напитков на человека. Подарок.
— Пусть возьмет себе, если хочет, — испуганно вставила жена.
Но было поздно. Таможенник щелкнул пальцами, и рядом с нами появились двое давешних автоматчиков. Вид у них был очень довольный. Недаром русских женщин ценят во всем мире. Автоматчики бесцеремонно взяли нас под руки.
— Вам нужно пройти.
— Где ваш начальник? Я хочу говорить с начальником! — заорал я в ответ. — Нас ждет машина. Мы должны ехать в Хаммарат.
— Сейчас будем составлять протокол, — удовлетворенно сообщил таможенник. — Следуйте за мной.
Нас завели в большую комнату с зарешеченным окошком. Стены кое-как подмазаны казенной зеленой краской. По потолку — вычурные разводы. Спертый горячий воздух пополам с застоявшимся табачным дымом. Письменный стол у окна, расшатанный стул, допотопная печатная машинка. Нам сидеть оказалось не на чем. Арабская Лубянка. Автоматчики весело взялись за чемоданы. Шмотки полетели на заплеванный пол. Они их, осмотрев, просто отшвыривали в разные стороны. Комната напоминала еврейскую квартиру после погрома. Трое перепуганных жильцов стояли, подпирая спинами сырую прохладную стенку. Сумку с ноутбуком я держал в руке. Не хватало, чтобы эти кретины полезли в компьютер и что-нибудь там натворили. Или, опечатав, заперли в сейф. Навсегда. Жирный уселся за печатную машинку, поманил меня пальцем. Жена прижимала к себе перепуганную девочку. Один из автоматчиков наступил ботинком на Машкину любимую майку с зеленым дельфином. Поверх дельфина лег грязный рубчатый след. Жирный протянул мне засаленную бумагу:
— Читайте.
Текст был написан по-арабски. С французским переводом. Я швырнул листок обратно. Хотел прямо в морду, но не решился.
— Не умеете читать?
— Не знаю французского.
— Здесь написано, что ввоз спиртных напитков — уголовно наказуемое преступление. Мы — исламская страна. Шариат запрещает употреблять спиртное. Мы обязаны заключить вас под стражу.
Его акцент был невыносим. Так же, как нас раздражает кавказское: «Панымаэшь, дарагой, ты минэ денег должен…»
— Послушайте, — сказал я, пытаясь быть убедительным. — Нас никто ни о чем не предупреждал в Москве. Если хотите, давайте выбросим эти бутылки. Или разобьем у вас на глазах. Никакой контрабанды у нас нет. Мы едем в Хаммарат, отель «Лез Оранж-Бич резот», к господину Курбану. Он ждет нас в машине. Позвоните в отель и выясните, кто мы. Нас ждут. Это какое-то недоразумение.
— Вы нарушили закон, — без выражения сказал он, раскуривая свой сигарный огрызок. — Попытка нелегального проникновения в страну — раз. Нарушение таможенных правил — два. Кто такой господин Курбан?
— Не знаю… — нехотя признался я. — Его невестка договорилась насчет нас еще в Москве.
— Невестка? В Москве? — скривился таможенник. — Что за чушь.
— За кого вы нас принимаете, в конце концов?
— С этим разберется следствие. Вы арестованы. Я остолбенел. Машка вдруг заплакала и сказала:
— Хочу писать.
Автоматчики готовились взять нас под стражу.
— Немедленно вызовите российского консула! — взвыл я, как в американском фильме. Кто бы мог подумать. — Я иностранный гражданин. Я требую встречи с российским консулом!
Эти вопли даже мне показались смешными. Ему — тем более.
— Завтра придет следователь, — непреклонно заявил таможенник, пуская вонючий дым мне в лицо. — Будете разговаривать с ним. Я не уполномочен звонить в консульство.
— Тогда я сам позвоню! Дайте номер телефона!
— Завтра, завтра… Сейчас вас проводят в камеру.
Из меня ушли последние силы. Я сдался. От жары и духоты готов был упасть в обморок.
— Сэр, — произнес очень, очень вежливо. — Мистер…
— Али, — буркнул таможенник, заправляя лист бумаги в печатную машинку.
— Мистер Али… Мы же взрослые люди… Должен быть какой-нибудь нормальный выход. Войдите в наше положение. Посмотрите: женщине негде даже присесть. Маленький ребенок хочет в туалет. Давайте искать выход. Пожалуйста.
— Закон предусматривает тюремное заключение сроком до двадцати пяти лет. — Он грохнул по клавишам. — Или штраф в размере пятидесяти тысяч долларов.
— Сколько-сколько?!!
Он поднял на меня равнодушные свиные глазки:
Я могу сделать исключение. Только для вас. Пятьсот долларов, и вы убираетесь в свой Хаммарат.
Что ж ты пугал меня своим шариатом, чертов хряк! Если только в этом все дело…
— Мамочка, писать хочу! — проныла дочь.
Я достал сто баксов и хлопнул купюру о стол.
— Вот! Все! И ни центом больше. Собирай вещи, Таня! — Это уже по-русски.
— Триста, — таможенник поглядел на меня исподлобья.
— Сто. Any cent more. I'nt wonna speak about this shit too much.
Жирный сгреб сотку и выплюнул:
— Вон отсюда. И чтоб я тебя больше не видел.
Едва живые, выползли из аэровокзала.
— Неу! — окликнул нас немец. — Problemen?
— Что здесь творится? — злобно поинтересовался я.
— Verdammte Arschlecker, — покачал он головой. — Good luck, Kollegen!
Ловко маневрируя между машинами, немчура скрылся из виду.
— Ну, и что ты обо всем этом думаешь? — с ненавистью спросила Таня. — Это, по-твоему, нормальный отдых? Сейчас беру ребенка, и мы возвращаемся домой. Хватит с меня экзотики. Урод проклятый!
— Успокойся, пожалуйста, — потребовал я не очень уверенным тоном. — Приедем в гостиницу, будешь затевать истерики сколько угодно. А сейчас успокойся.
— Завез в какую-то дикую страну… Представляю, что будет дальше. Я же говорила… И ребенок должен все это терпеть. Давай сюда наши документы и билеты!
— Хватит! — взревел я наконец. — Приедешь в гостиницу, выспишься, поешь и езжай куда хочешь! Ребенок должен выспаться и поесть.
Таня примолкла. Она побаивается меня бешеного. Машка спряталась за мать.
— Ну и как мы доберемся до Хаммарата? Где этот твой Курбан?
— Найдется.
Площадь у аэровокзала: корявый квадрат, стиснутый со всех сторон убогими строениями в колониальном стиле. Между ними — тощие пальмы, понуро свесившие обожженные листья. Экзотика налицо. Машины, дико сигналя, несутся во все стороны сразу, уворачиваясь друг от друга. Правил движения для них не существует. Между транспортными средствами тащатся повозки, запряженные ослами, велосипедистами и пешеходами. Никто ни на кого не обращал внимания, все двигались в кипящем вареве, смешиваясь и звуча на разные лады. Прямо на нас гордо шагал драный верблюд в проплешинах, на котором восседало нечто, замотанное в пестрые лоскутья.
— Кэмел! — заорала Машка. — Папа, мама, смотрите — кэмел!
Мы уступили дорогу зверюге. Верблюд явно считал себя в больших правах, чем троица белокожих иностранцев. Прямо на заплеванном асфальте кипела торговля: фрукты, овощи, какие-то сомнительные сласти. На пылающей жаровне стоял гигантский котел, из которого валил густой вкусный пар. Молодой развеселый араб в адидасовской грязной майке шуровал в котле деревянной палкой размером с бейсбольную биту и пританцовывал. Периодически выкрикивал длинные гортанные фразы, обращаясь в пространство. Варево никто не покупал. Немного в стороне я разглядел автостоянку. Несколько желтых такси и еще какой-то транспорт. Мы пошли, раздвигая чемоданами плотную и пеструю толпу. На нас никто не обращал внимания, кроме стаи мальчишек самого грязного и паршивого вида. Лохматые, исцарапанные, костлявые и наглые. Увязались за нами, бежали впереди и сзади, дергали за рукава, гримасничали, требуя милостыни. Никакого сострадания их вид у меня не вызвал. Но жена — надо же знать мою, черт возьми, жену!
— Боже мой, бедненькие, — громко охнула Таня. — Какой ужас. Особенно этот малыш, посмотри на него только!
Самый невзрачный недоносок был покрыт с головы до ног коростой какой-то.
— Деньги у тебя? Дай им мелочи, пожалуйста! Господи, какие же они…
— Ты что, в Москве тоже всем беспризорникам подаешь? — Меня даже передернуло от брезгливости. Не люблю уличных. — Или эти чем-то лучше?
— А тебе жалко пяти копеек? Для несчастных детей тебе пяти копеек жалко?
— Папочка, мне страшно, — пролепетал мой собственный ребенок и ухватился сзади за брюки. — Я их боюсь, они плохие.
— Пошли, — потребовал я. — Что с тобой, Таня, честное слово! Тибетских книг перечиталась, на добро потянуло?
— Опять?! — В глазах исподлобья — угроза. Не глаза любимой женщины — гнезда какие-то пулеметные. — Опять все должно быть по-твоему, да? Так ты бы себе лучше собаку завел и командовал: сидеть, лежать! Ты бы лучше знаешь что…
— Хватит!
Остановился. Они тоже — встали кругом. Как волчата учатся загонять добычу, пришла мысль. Скалятся. Полез в карман, но мелочи не было. Тогда достал из сумки барсетку, расстегнул «молнию»… Все остальное произошло так внезапно, что среагировать не успел. Молниеносно. С многократно отработанной точностью. С артистизмом фокусника. Мальчишка сзади, пронзительно и тонко вскрикнув, толкнул меня в спину. Я подался вперед, теряя равновесие. В этот момент барсетка сама, как по собственной воле, соскользнула с руки. Я даже ничего не почувствовал. Опомнился — поздно! Через секунду они исчезли. Все до одного. Как растворились. Унося с собой все наши документы, деньги, кредитные карты, дорожные чеки — все. Все!!
— Police! — тонко вскрикнул я подбитой птицей. — Police!
Какая там полис… Толпа двигалась, обтекая нас, — животные, люди, повозки. Я совершенно потерял самообладание. Таня села на чемодан, завыла в голос. Машка дергала меня за палец:
— Папа, что мы теперь будем делать?
Ценой неимоверных усилий разыскал полицейского. Выяснилось, что он все время был на виду. Высоченный, метра два, детина пожарной каланчой торчал посреди площади. Вид у него был отмороженный. Наверное, со своей высоты видел больше, чем все остальные люди-карлики. Поэтому лицо утратило всякое подобие осмысленного выражения и было устремлено вдаль. Тем не менее на боку у полисмена висела внушительная черная дубинка и увесистая пистолетная кобура. По-английски он не понимал ни слова. Вообще говорил с трудом. Слова и фразы зарождались, вероятно, в самом низу его великанского тела и медленно поднимались к ротовой щели. Мозг в этом процессе, судя по выражению лица, не участвовал. Я теребил его, как лилипут Гулливера, пытаясь объяснить наши несчастья. Полицейский кивал, пытаясь сосредоточить на мне давно расфокусированный взгляд. Зрачки не поддавались. Наконец он поднял руку и простер ее в направлении кирпичного здания с новеньким национальным флагом. Там находился участок.
Кабинет, куда нам велели пройти, смотрелся поприличнее таможенного. Имелся даже ремонт, то есть стены недавно окрасили, а пол — подмели. Старенькие кресла были пригодны для сидения. Вдобавок существовал стоячий вентилятор, дура здоровенная, который с ревом перемешивал крутой воздух. Мсье капитан, как нам его представили, восседал за просторным столом, над которым в аккуратной рамочке висел портрет очередного отца нации. Вид у отца был задумчивый и вороватый. Капитан оказался примерно моего возраста, усатый крепыш в очках. На шее, под воротом расстегнутой форменной рубахи, виднелась толстая золотая цепь. Ее наполовину скрывала черная густая шерсть. Судя по всему, шерсть росла прямо от лобка и постепенно переходила в шевелюру, приплюснутую фуражкой. В остальном мне показалось, что капитан — неглупый малый. Владел английским в приличном школьном объеме. Говорил короткими предложениями, но мысль формулировал четко. Я объяснил, что к чему. В приличных, сдержанных выражениях. Как подобает заморскому гостю.
— Хорошо, понятно, — сказал мсье капитан. — Мне очень жаль. В следующий раз будьте осторожны с попрошайками. Все нищие здесь — профессиональные воры.
— Буду иметь в виду, — скорбно согласился я.
— Значит, вы утверждаете, что никаких документов, удостоверяющих личность, у вас не осталось?
— К сожалению, никаких.
— Но это невозможно!
— Очень возможно. Обратитесь в посольство, в консульство, проверьте.
— Вы — гражданные России? (Он сказал: «рашэнс»).
— Да.
— Вы имели неприятности на таможне?
— Откуда вы знаете? — удивился я.
— Ваша страна имеет дипломатические проблемы с нашей. Надеюсь, временные, — осторожно пояснил капитан, делая пометки в блокноте.
— Какие проблемы? Мы не знаем ни о каких проблемах!
— Ваш Кэй-джи-би объявил на весь мир, что наша страна укрывает некоторых чеченских повстанцев, бежавших из России (мсье капитан так и сказал: rebels, повстанцы). Тем самым ваш Кэй-джи-би утверждает, что мы поддерживаем международный терроризм. Это злобная клевета. Наш министр иностранных дел уже выступил с нотой протеста. Вы что, не читаете газет?
Нам попался весьма начитанный полицейский. Идеологически грамотный. А что касается таможни, они просто свиньи. И политика тут ни при чем.
— Простите, мы не имеем к этому никакого отношения, — торопливо заверил я. — Мы приехали отдыхать. Некоторые граждане вашей страны нас ограбили. Я рассчитываю на помощь полиции. Я могу рассчитывать на помощь полиции?
— Можете, — кивнул капитан. — Мы сделаем все, что в наших силах. В каком отеле у вас забронированы места?
— Отель «Лез Оранж-Бич резот» в Хаммарате. Но места не забронированы. У нас личная договоренность с владельцем, господином Курбаном. Он нас должен был встречать здесь, у аэропорта. К сожалению, мы так и не встретились.
Капитан напрягся и посмотрел на меня очень внимательно. Взгляд его вдруг сделался опасным.
— Вы прибыли к мсье Курбану?
— Да, а что?
— Вы знакомы с мсье Курбаном?
— Лично нет. Его невестка… — И далее пошла сбивчивая история про невестку.
Капитан слушал очень внимательно, не пропуская ни одного слова. Торопливо записывал что-то в свой блокнот. Почти стенографировал.
— Эта история кажется мне фантастичной, — нагло заявил он, когда я иссяк в своих показаниях. — Вы прекрасно говорите по-английски. У вас нет никаких документов, удостоверяющих личность. Вы везете с собой персональный компьютер. Почему я должен верить, что эти женщина и девочка — ваши жена и дочь?
— Спросите их!
— Я не владею русским. Вдобавок вы, оказывается, знакомы с мсье Мохаммедом Курбаном.
— Я ничего такого не говорил!
— Тем не менее.
— А в чем проблема? Кто он такой, этот мсье Курбан? Капитан глянул на меня с вызывающим недоверием.
— В какую игру вы с нами хотите сыграть?
О Господи! Неужели они все посходили здесь с ума? Или за то, чтобы найти наши документы и деньги, я тоже должен давать взятку? Но деньги-то украли! Ничего себе, курорт… С таким же успехом можно ездить отдыхать в Колумбию.
— Мсье Мохаммед Курбан убит, — сказал капитан. — Взорван в собственной машине. Как здесь говорят, ему спели хаддута.
— Что это значит?
— Хаддута? — Он недобро прищурился. — На жаргоне террористов — «взрывное устройство». А буквальный перевод — «сказка, которую рассказывают на ночь маленьким детям». Мы подозреваем заказное убийство. Руководство Национальной службы безопасности специальным циркуляром объявило расследование этого преступления делом государственной важности. Поэтому мы вынуждены вас задержать до выяснения всех обстоятельств.
Влипли! Я перевел новости жене. Она сгребла дочь в охапку и смотрела на меня с ужасом. Вот так и забывай талисманы… Я проклинал себя за эту поездку. Больше Машка в хореографическую школу не пойдет. Сожгу поганую богадельню к чертовой матери. Если мы вообще когда-нибудь выберемся отсюда.
— Требую встречи с российским консулом, — сказал я второй раз за день. — Требую немедленно. Вы не имеете права отказать мне.
Капитан пожал плечами:
— Хорошо. Вот телефон, звоните.
— Номер?
— Пожалуйста. — Порылся в справочнике, протянул мне листок с номером. — Только говорить вам придется по-английски. Иначе я прерву связь.
— Да, согласен, согласен!
На том конце провода (слышимость была омерзительная) сонный женский голос произнес «алло». Пяти минут разговора хватило, чтобы возненавидеть родную страну. Если я не стою на консульском учете и не имею документов, помочь они ничем не могут. Обещали дать запрос в Москву. Обещали проинформировать о результатах запроса. Адвоката консульство не предоставляет. И вообще, намекнула барышня, если вы в полиции, значит, нарушили закон. Согласно международному праву, следствие и суд будут осуществляться на территории того государства, где совершено преступление или правонарушение. Чтоб ты сдохла, сука!
— Вы все поняли? — инквизиторским тоном полюбопытствовал капитан.
— Более чем, — замогильно ответил я.
— Теперь расскажите всю правду.
— Мне нечего рассказывать! Поймите, нечего!
— Хорошо. — Капитан был пока еще миролюбив. — Посмотрите на эти снимки. Кто-нибудь вам знаком?
Он разложил передо мною веером дюжину фотокарточек: бородатые люди в чалмах со злобными физиономиями. Совершенно отпетые. Но одно лицо показалось действительно знакомым.
— Это полевой командир Хаттаб, — сказал я, указывая пальцем на снимок.
— Откуда вы его знаете? — удивился доблестный капитан.
— Часто показывали в русских «Новостях». По ти-ви.
— А этот? Этот? Этот?
— Остальных не припоминаю, извините. А кто они?
— Могли бы и сами догадаться. Террористы-фанатики, которых разыскивает Интерпол. Вы точно никого не узнаете? Взгляните еще раз, внимательно.
— Нет. Нет.
— Хорошо, допустим. — Он помолчал. — Хотите, мы заключим с вами небольшой договор?
— Насчет чего? — насторожился я.
— Вы расскажете правду, и я сделаю так, что вы с семьей окажетесь сегодня же ночью на территории российского консульства. В противном случае при обыске в ваших вещах случайно найдут пакетик с двумя-тремя граммами героина. Этого достаточно, чтобы упечь вас за решетку на четверть века. Сколько вам потребуется времени для размышлений?
— Нисколько, — сказал я.
— Итак?
— Мы прибыли сюда, чтобы убить вашего президента, его жену, детей, министра внутренних дел, разогнать парламент и сделать коммунистическую революцию. Мы — агенты Фиделя Кастро. В частности, я его сын. Вас устраивает мое признание?
Капитан рассмеялся:
— Я рад, что в самые сложные минуты жизни вы сохраняете чувство юмора.
Он нажал под столом какую-то кнопку, и в кабинет вошли двое в униформе, с пистолетами и дубинками. Отдал приказ по-арабски. Нас повели в камеру.
Мой директор школы любил говорить, что если я не исправлюсь, то рано или поздно попаду за решетку. Так оно и случилось. То была еще не тюрьма, конечно, хотя в Лефортове намного уютнее, верьте мне на слово. Представьте себе подвал, длинный коридор. Те, кто строил полицейский участок, сделали это на совесть. Французы вообще разбираются в тюрьмах, одна их Бастилия чего стоит. В подвал ведут скользкие, как положено, сырые ступени. Потом коридор — потолок едва не касается макушки. Метров двадцать длина, ширина — около двух, может, чуть меньше. Пол выложен аккуратно подогнанными бетонными плитками. Под потолком, в начале и в конце коридора, горят тусклые электрические лампы, забранные железными прутьями. Из-за этих прутьев на полу лежат пятна полосатого света. Дверь в начале коридора не решетчатая, а деревянная. Из толстенных досок, схваченных металлическими полосами. Кажется, присутствовали еще крупные ржавые головки заклепок. Дверь запирается на два могучих засова, сверху и снизу. Верхний засов — гнутый ломик в петлях, замок ему не положен. Нижний — классический амбарный, с таким же замком. Замок напоминал кинореквизит, но оказался настоящим. Дужка — толщиной в мой большой палец. Запирался и отпирался антикварным длинным ключом с узорчатыми зазубринами на конце. Сделано было, еще раз повторю, все на совесть, с уважением к традициям. С противоположной стороны в коридор вела обыкновенная решетчатая дверь, по виду довольно новая. Притом, я после обратил внимание, через нашу дверь, деревянную, вводили только заключенных. Полицейские и обслуга входили с другой стороны. И еще я подозреваю, что наш каземат — не единственный. Позже мне сказали, что город стоит на древних катакомбах. Их начали рыть еще финикийцы, продолжили римляне, затем арабы и так далее, до наших дней. Короче говоря, при желании здесь можно было обустроить шикарную подземную тюрьму. Целый ГУЛАГ, при желании. Просто грех не воспользоваться.
Камеры расположены по обе стороны коридора. Камера: помещение примерно три на три метра, отделенное от коридора толстыми прутьями решетки. Прутья установлены вертикально. Расстояние между ними — сантиметров пятнадцать — двадцать. Вход сбоку: решетчатая дверь в стене и еще одна, ведущая в камеру. Похоже на вольер в зоопарке. Если ты захочешь сбежать, придется открыть два замка, а не один, только тогда попадешь в коридор. Наша камера — третья от начала. Первые две были пусты, в камере напротив копошились двое бродяг. Сопровождавший нас безразличный полицейский попросил не нарушать порядок. В руке держал большую связку ключей. Тюремщик Монте-Кристо.
Куб душного пространства, решетка, в углу — вонючее ведро, накрытое прямоугольной доской. Больше ничего. На элементарные нары я даже не надеялся. В книгах и фильмах заключенным бросали гнилую солому, чтобы лежать. Никакой соломы. Холодный и влажный бетонный пол. Даже сидеть на нем опасно, почек у человека всего две. Свет — только в коридоре. По разреженной темноте можно догадаться, что где-то существует электричество. Состав воздуха: представьте себе ночь в бесплатном общественном туалете. Температура, несмотря на подвал, близка к тридцати градусам. Чем это объяснить, не знаю.
(Здесь хочу сказать доброе слово хозяевам Лефортовского замка: ребята, у вас отличный пятизвездочный отель! Так держать! Единственная просьба: избавьте меня от проклятого радио. Выключите его!)
Сняв с себя и с Тани кое-какие вещи, я организовал нечто вроде лежбища. По крайней мере мы смогли уложить дочку. Свернулась тугим клубком, прижавшись к матери. Спросила:
— Пап, за что нас посадили?
— Не знаю, — ответил сквозь зубы.
Жену била крупная дрожь. Тряслась, ушибаясь затылком о стену. Я пытался ей что-то сказать, но Таня не реагировала: шок. Пройдет, подумал я. Обычно шок сменяется глубокой апатией. Лучше бы им сейчас заснуть, Тане с девочкой. Если удастся.
— Папочка, я хочу домой. Забери меня отсюда, пожалуйста!
Я сел рядом на бетон, обнял несчастного Ежа.
— Потерпи, родной. Ты же большой, взрослый Ежик, надо немножко потерпеть. Завтра утром все выяснится. Все будет хорошо.
— Мы же ни в чем не виноваты, правда, папа?
— Конечно, доча. Это все недоразумение. Нас должны освободить.
— Почему эти люди такие злые? За что они нас посадили? Если бы я знал. Если бы я только знал!
— Спи, Машуник. Тебе тепло?
— Тепло.
— Вот и хорошо. Спи, маленький. Хочешь, я спою тебе колыбельную?
— Хочу!
Когда нашей дочке было три с половиной, я уже писал об этом, она слегла с крупозным воспалением легких. Бредила. Тогда и появилась эта колыбельная собственного сочинения. Вздохнув, я тихонько запел:
Спят деревья и мосты, Спят лисицы и коты, Ежик-Ежи к, засыпай, Баю-баю-бай…
Спят и солнце, и луна, И не видно ни хрена, Ежик-Ежик, засыпай, Баю-баю-бай…
Вторую строфу я выдумал около трех ночи, в таком состоянии, что лексика уже не играла роли, только ритм. Потом она прижилась, осталась. Подумав, вдруг родил еще одно четверостишие:
Ничего не бойся, Еж, Нас так просто не возьмешь, Пусть мы и в чужом краю, Силу знаем мы свою.
— Клёво! — воскликнула Машка. — Клёво, папа.
Насчет силы я был совсем не уверен. Что делать? Что происходит? Если действительно недоразумение, оно должно совсем скоро разъясниться. А если нет? Если нас, например, взяли в негласные заложники? Все может быть. Нет, нужна четкая стратегия поведения. Мы ни в чем не виноваты — раз. Мы иностранные граждане — два. Нарушение прав человека — три. Значит, надо сделать так. С самого утра потребовать свидания с каким-нибудь начальником. Написать и передать ему заявление: требуем свидания с российским консулом! Немедленно. Если откажут, объявляем голодовку. И Машка тоже объявит голодовку? Хорошо, пусть представителям России передадут женщину с ребенком. Пускай даже одного ребенка. Его нельзя в чем-либо заподозрить. Мы с женой остаемся в камере и голодаем. Требуем пресс-конференции. Нет, не так. Когда мы выйдем, дадим пресс-конференцию. Самую настоящую. Интервью Би-би-си и Си-эн-эн. На первых полосах газет: «Русские туристы в арабском подземелье!», «Коррумпированные полицейские захватили…»
Господи, ну и чушь лезет в голову!
Я обнаружил, что уже с полчаса бесцельно брожу по камере, изучая настенную живопись. Видимо, участок жил насыщенной жизнью. Разноязыкие граффити покрывали стены от пола до потолка. Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, арабский. Какой, однако, интернационал! Содержание надписей удручало однообразием: «Fuck you!», «Fick euch», «Merde», «Porci malagetti», «Bloody bastards»… Попадались краткие сообщения с привязкой к месту и времени: «Big Johny was here. 12.02.2000» или самокритичные: «Ich bin 'ne dumme Kuh. Susi Bohnsack. 21. Mai '98 м. Некоторые авторы изъяснялись цитатами: «I hate myself and I want to die», задумчиво выражали насущные желания: «Хочу слънца» или острили: «Przeprasemo do dupy». Рисунки я нашел банальными: фаллосы в избытке, обнаженные женщины с большой грудью, пацифистская символика… Впрочем, один женский портрет был выполнен довольно прилично. Если бы его не портил громадный член, зависший над приоткрытым ртом. Потрудившись, обнаружил и русский текст: «Я ебал вас в рот, ебаные суки!» Кратко и содержательно. Без подписи.
Мои женщины — о чудо! — спали. Нервы, хоть отчасти, были спасены. Думать о завтрашнем дне не хотелось. В тюрьме, я об этом читал, нужно научиться жить настоящим. Тем, что происходит сию минуту. Кажется, йоги имеют в виду то же самое. Я сосредоточился на бродягах в соседней клетке. Один из них, местный в засаленных лохмотьях, валялся на полу. Вроде бы спал. Другой, я пригляделся, — наш знакомый, престарелый хиппарь. На душе сделалось тепло: не мы одни! Хиппарь сидел на своей торбе, прислонившись к стене. Вид у него был угрюмый. Бодрствующий европеец в арабском подземном каземате вызвал у меня глубокую симпатию. Мы были вроде братьев по разуму среди кровожадных туземцев.
— Do you speak English? — тихонько окликнул я его.
— Ye! — тотчас отозвался хиппарь. — Ты тоже здесь паришься, русский?
— Ты не видишь?
— А за что взяли?
— Не знаю. Думают, что я убил какого-то Мохаммеда Курбана.
— Bullshit! — рассмеялся хиппарь. — Как же ты мог убить этого асхола, если приехал только сегодня?
— Он большая шишка? Ты о нем что-нибудь знаешь?
— A little bit. Очень крутой ублюдок.
— В смысле?
— Вроде местного Лаки Лучиано. Слыхал о таком?
— Приходилось.
— Вот-вот. Ну, ты же из России, парень, у вас там мафия. Слышь, а кто у русских самый крутой?
Я задумался. Перед иностранцем нужно было не ударить в грязь лицом.
— Слышь, — предположил хиппарь, — а этот мен… Boris Berjezowsky… он cool?
— Wery cool, — ответил я. — Тебя самого за что взяли?
— За наркоту, — равнодушно ответил хиппарь. — Купил на площади пару джойнтов, а тут как раз облава. Не повезло.
— И что думаешь делать?
— А ничего. Отпустят. Они американцев боятся трогать.
— Ты из Штатов?
— Да-а, живу в Европе. Здесь травка самая дешевая, я часто езжу.
— Что у них творится с алкоголем? — задал я больной вопрос. — Его запрещено ввозить, да? Спиртным вообще торгуют?
— Как тебе сказать… По закону все запрещено. За grass, видишь, грозятся посадить. А сами толкают на каждом углу. И виски тоже, в любом баре. Только на витрине не стоит. Ты, парень, не дрейфь. В отелях все по-европейски. Если у тебя белая кожа, покупаешь все, что хочешь. Мой приятель сюда без денег приехал, так он как делал. Брал выпивку в отеле и загонял на рынке. Только его замели.
— И что?
— Дал полтинник и вышел. Ну, еще часы им свои подарил. Потом очень жалел.
Мы замолчали. Я переваривал услышанное. Интересный тесть у Ариадны Ильиничны. Знает она об этом или нет?
— Слышь, русский, у тебя сигареты есть?
Я похлопал себя по карманам. Нашлась початая пачка «Мальборо».
— Есть.
— Брось парочку, будь другом!
Пришлось поделиться. Он с удовольствием подкурил мою сигарету:
— Ты классный мужик, русский. Ты из Москвы? — Да.
— Как у вас там с планом?
— Дорого, — подумав, ответил я. — В Москве все дорого.
— Fucking Uncle Sam вас подставил, парень, — авторитетно заявил хиппарь. — Он купил вашего Горби за большие бабки. А Горби уничтожил все ваши ракеты. Теперь вы в полном говне, a Uncle Sam хочет трахнуть весь мир. Он stinking fucking crazy, понял? Знаешь, что я думаю?
— Не знаю.
— Арабы должны объединиться и трахнуть дядю Сэма. Вообще все нормальные парни должны объединиться и сделать это. Русские, арабы, черные — все. I hate America! Знаешь, что я сделал одиннадцатого сентября? Надрался от радости как последняя свинья. Одному копу я крепко заехал в рыло. Это было в Амстердаме. Потом мы смывались от колов, и нас застукали на мосту. Обложили со всех сторон. Тогда я сказал им все, что думаю, и прыгнул в воду. Понял? Видел бы ты их рожи, fucken mother! — Хиппарь счастливо засмеялся и больше не сказал ни слова.
До самого утра я бродил как зверь в клетке, считая шаги. Таня моя всхлипывала во сне. Пару раз за ночь появлялся дежурный. Не просыпаясь топал по коридору. Рожи у местных полицейских были выразительно московские.
Утром, около семи, прибыла внушительная делегация. Мсье капитан, с ним неизвестный тип в штатском, рядовой состав — пятеро молодчиков в отутюженном камуфляже. Лицо у капитана было серьезным и обеспокоенным. Штатский сразу напомнил подзабытого Борис Борисыча. Где их всех штампуют, одинаковых? Нас выпустили, доставили через решетчатую — служебную — дверь наверх. Ни слова не говоря. Погрузили в джип и куда-то повезли. Через затененное стекло я разглядывал незнакомый город: мавританский стиль, иногда пышный, но чаще — неброский и провинциальный. Домики, домишки пыльного цвета, глинобитки с плоскими крышами. Ближе к центру сквозь нагромождение хибар и роскошных особняков пробивается европейская архитектура. Стекло, бетон, деловая безвкусица. Дорожное движение отсутствует. То, что творится на ухабистых, разбитых дорогах, движением назвать нельзя. Толчея, толкотня, хаос муравейника. Светофоры мигают безучастно. Они — элемент декора. Автомобили сигналят всему, что движется. Рев стоит как в аду. Всем этим кошмаром заправляют здоровенные женщины-регулировщицы в кирзовых сапогах. Такие не то что коня, наверное, грузовик на скаку остановят. Перед нашим джипом (с мигалками, да-да, с родными московскими мигалками!) автомобильная толпа расступалась в почтении.
Все первые этажи — лавчонки и магазинчики. Узкие тротуары перегорожены, как баррикадой, грудами товаров. Фрукты лежат горой. Выше человеческого роста. В ящиках, в мешках, в коробках, просто так. Рядом с фруктами — такая же гора электроники. Магнитофоны, телевизоры, видео. Свалены в кучу. Проехали огромный лоток с сияющей медной посудой, коврами, побрякушками. Через каждые два шага жарят мясо. Черный дым валит столбом. Миллион кафе, закусочных, забегаловок. Латинские буквы вывесок не складываются в слова. Однозначны лишь «Кока-кола» и «Пепси-кола». Животных не меньше, чем людей. Больше всего — бродячих собак. На втором месте ослы и верблюды. Какой-то Насреддин в тюрбане переводит своего ослика через дорогу. Осла под вьюками почти не видно, но трусит он быстро. Машины сигналят и визжат тормозами, усато-носатые водители высовываются из окон и страшно орут. Еще звуки: нечеловечески громкая восточная музыка из выставленных на тротуар динамиков. Каждый торговец считает своим долгом врубить звук на всю катушку. Без этого торговли нет. Периодически ревут верблюды. Голоса у верблюдов львиные, я всякий раз вздрагивал. Десятки живописных нищих неподвижно сидят где придется. Как камни.
Нас привезли, я так и понял, в городское управление полиции. Особняк в стиле «Тысячи и одной ночи», но поскромнее размерами. У входа: джипы, «мерседесы», «БМВ». На специальной парковке — одинокий белый «линкольн». Длинный, как арабская сказка. Очень знакомо. Охраняют управление свои омоновцы с чешскими автоматами «скор-пио». Очень бравые рослые ребята в черных беретах и сверкающих начищенных ботинках. Ходят взад-вперед, зыркают по сторонам. Народ решительный и опасный.
Через центральный вход, разумеется, не провели. Вошли через служебный, сзади, в незаметную снаружи пристроечку. Я сразу понял: особый отдел. Стерильная чистота, обитые суровым дерматином двери, зеркальный узорчатый паркет. Мраморный бюст отца нации на лестничной площадке. Ни единого человека, кроме нас. Примерно так я и рисовал себе пресловутый Кэй-джи-би. Посетить, к счастью, не довелось. Мсье капитан не поднимал глаз, заметно нервничал. Видимо, шли к высокому начальству. Штатский шагал уверенно, ровно. Здесь он был как дома.
Кабинет принадлежал большому боссу. Полированный, светлого дерева стол буквой Т размером с палубу авианосца. Кресла с высокими спинками — мягкая даже на взгляд, темно-коричневая благородная кожа. Дворцовый паркет — досочка к досочке с неуловимыми переливами оттенков. Несколько застекленных шкафов с длинными рядами одинаковых толстых переплетов. Золоченая арабская вязь по корешкам. У шкафа, в углу — узкогорлая бронзовая ваза, покрытая тонким ковровым орнаментом. Я всегда поражался их галлюцинаторной фантазии, помноженной на нечеловечески кропотливый труд. Чтобы ее создать, вазу, должно, наверное, уйти полжизни. Кондиционированный, прохладный воздух. Огромйая пальма в кадке, ее тени хватило бы на скромный караван. Аудиосистема «Yamaha» — полутораметровые серебристые колонки, страшноватая воронка сабвуфера, в которую можно просунуть кулак, матовый хром панелей. Инопланетный дизайн high-end. Очень, очень дорого.
Хозяин: оливковая униформа, ни единой складочки. Золотые галуны, генеральский аксельбант, крупные остроконечные звезды погон. Фуражка с задранной тульей сияет слепящей кокардой: когтистый орел среди венков и лучей. Лицо без выражения. Отвернувшись, невозможно вспомнить. Такие лица изготавливают в специальных лабораториях и выдают под расписку. Вместе с погонами. Нет, кое-что помню: усы. Черные, лоснящиеся, аккуратно подстриженные. Перед ним на столе — iMac с прозрачным оранжевым корпусом, похожий на открытую раковину. Очень неплохая машина, хотя у нас мало кто работает на макинтошах. Предпочитаем по старинке «Ай-би-эм». Сзади, на стене — отец нации в полный рост. Тоже в форме, но как товарищ Сталин — простенько. И так ведь все понятно, зачем лишние детали. Стоит ровно, смотрит покровительственно, а физиономия такая, что хоть сейчас под суд.
И главная деталь интерьера — еда. Сервирован специальный стол. В хрустальной вазочке — свежие цветы. Серебряный сервиз: изысканный узорчатый кофейник с длинным раздвоенным носиком, миниатюрные кокетливые чашечки.
Пахнет божественно. На круглом блюде грудой фрукты: апельсины, бананы, гранаты, финики, виноград, хурма. Печенье, сыр, еще какие-то лакомства. Французская минеральная вода «Эвиан» в поллитровых бутылках. Специально для ребенка: йогурт, клубника со сливками, шоколадные конфеты. У Машки загорелись глаза.
— Не смей ничего трогать! — сразу приказал я.
Мы, все трое, голодные как звери. И страшно хотим пить. Большой босс встал, просиял белозубой улыбкой, приветливо раскинул руки:
— Присаживайтесь, господа. Вы в полной безопасности. Вот его английский уже безупречен. Легкий, приятный кембриджский говорок. Никакого американского рыканья и местного пришепетывания. Каждое слово пропето с волнующей точностью. Мы сели, ожидая, что будет дальше. Большой босс — нет. Сопровождающие тихо стояли в стороне. Им садиться не предлагали. Свои правила.
— Господа! От имени республики, министерства внутренних дел и от себя лично приношу вам свои искренние извинения. Мои подчиненные превысили свои полномочия и будут наказаны. Мне очень, очень жаль, поверьте! Наша страна всегда славилась своим гостеприимством. Ваш случай — несчастливое стечение обстоятельств. Прошу отнестись снисходительно к нашим ошибкам. Российское консульство уже сделало насчет вас соответствующий запрос. Если вы настаиваете на встрече с консулом, она состоится в течение часа.
Мы ошарашенно молчали. Машка сглатывала кипучую слюну. Пожирала глазами холодную клубнику со сливками. Присыпанную сахарной пудрой. Жена переводила удивленно-испуганный взгляд с большого босса на меня. Я не знал, что сказать. Еще не понимал, в какую сторону оборачивается ситуация. Большой босс сел. Пригладил усы. Улыбнулся. Принял серьезный и трагический вид.
— Страна потрясена зверским убийством Мохаммеда Кур-бана. Это очень уважаемый человек, известный предприниматель и политик. Депутат Национального собрания. Вы же знаете, пять лет назад в стране была предпринята попытка государственного переворота. Власть хотели захватить экстремисты. Мы дали им решительный отпор. Республика идет по пути демократических преобразований. Мы развиваем туристический бизнес, возводим отели. Мсье Курбану принадлежала крупнейшая в стране строительная корпорация «Мелиа». В Хаммарате он построил пятизвездочные туристические комплексы: «Мелиа эль Моуриди», «Мелиа Марко Поло», «Ясмин-Бич», «Лез Оранж-Бич резот». Ему удалось привлечь в свой бизнес средства американских, английских и французских инвесторов. Даже ваши русские компании вкладывают сюда свои деньги. Но есть силы, которые желают этому воспрепятствовать. Прежде всего исламские фундаменталисты. Вам ведь не нужно объяснять, в чем дело, верно?
Я кивнул.
— Еще раз прошу минъя извинит, дорогие товарьящи. Мне очень жал, — произнес он с акцентом.
— Простите? — Мои глаза, я почувствовал, по-детски округлились.
— Я учился в Москве, — улыбнулся большой босс. — Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Правда, очень давно.
Ах вот оно что! Теперь ясно, почему он изъясняется как партработник или диктор телевидения. В Дружбе народов готовили коммунистические кадры для развивающихся стран. От президентов до партизан. И кембриджский прононс понятен. Редко где в мире так хорошо преподают классический английский. Небось и партбилет имеется.
— Мы за мирь во всьем мирье, — сказал он. — Но с теми, кто хочет дестабилизировать обстановку в стране, будем бороться беспощадно. Президент лично отдал указ как можно скорее расследовать это убийство. Кроме того, не так давно парламент принял национальную программу по борьбе с преступностью и коррупцией. Ваш арест — случайность, но моих людей тоже можно понять. Речь идет о международном престиже нашей страны. Согласитесь, кто поедет отдыхать туда, где совершаются политические убийства?
— И воруют кошельки, — неприязненно вставил я. — И вымогают взятки на таможне.
— Увы, увы! — вздохнул большой босс. — Трудно решить так скоро все накопившиеся за годы проблемы. У нас еще очень молодая демократия. Но вы не волнуйтесь. Пропажу найдем, таможенники будут наказаны. Я лично этим займусь. Вы удовлетворены, господа?
Мы с женой переглянулись.
— В общем-то да, — кивнул я. — Но как быть с деньгами и документами? Нам даже поесть не на что.
— Ноу проблем! — Он подарил нам еще одну роскошную улыбку. — Позавтракать предлагаю прямо здесь. Я с удовольствием составлю вам компанию. А потом обсудим дальнейшие планы. У меня есть для вас отличное предложение.
Что же, мы поели. Кофе оказался именно таким, на который я и рассчитывал: кофеин с кокаином. Отличный кофе. Единственное приятное ощущение после Каира. Машка уминала все подряд. От клубники не осталось и следа. Мы с Таней тоже приложились к еде. Ведь, в конце концов, все разъяснилось, не так ли? Нам принесены извинения. Чего же еще хотеть? Большой босс продолжал мило улыбаться.
— О'кей, мои русские друзья, — довольно произнес он, завершив трапезу. — Кстати, у меня осталось в Москве много друзей. Надеюсь, завтрак вам понравился? Пообедать вы сможете в ресторане «Фурати», это один из лучших ресторанов столицы. Все расходы оплатим мы. Далее, — большой босс выложил на стол пять стодолларовых купюр. — Это вам, пока не найдется пропажа. Совершенно безвозмездно. Компенсация за моральный ущерб. Вот ключ от номера в отеле «Chiraz». Превосходный отель. Можете жить там бесплатно до конца своего тура. Через пару дней документы и деньги будут вам возвращены. Слово офицера.
— Благодарю, — сказал я. Щедрость большого босса меня смутила. Эти люди ничего не делают просто так.
— И еще одна маленькая формальность, самый настоящий пустяк. Для отчетности. Напишите, пожалуйста, заявление, что вы не имеете претензий к органам внутренних дел республики. Форма произвольная.
Значит, из консульства на него все-таки надавили. Что ж, спасибо, мои русские друзья… Заявление я написал.
Из интервью телекомпании Си-эн-эн:
— …Я действительно не был замешан в убийстве Мохаммеда Курбана. Даже понятия не имел, кто он такой. Потом я сделал для себя вывод, что это один из местных олигархов, как говорят у нас в России. Человек, близкий к мафии, который нужен стране больше, чем президент и парламент. Вам знакомы эти имена: Березовский, Гусинский, Ходорковский… СМИ выливают на них много грязи. Некоторые считают их государственными преступниками. Мне кажется, такие люди — отличные менеджеры. Они должны занимать ключевые посты в правительстве. В России есть бизнесмены, которых можно сравнить с Генри Фордом или Джорджем Соросом. Но государство считает их своими врагами. Власть в России принадлежит чиновникам и бюрократам. Если бы она принадлежала таким людям, как Березовский или Гусинский, ситуация была бы совершенно иной.
— Вы утверждаете, что точкой отсчета следует считать убийство Мохаммеда Курбана?
— Да. То есть нет. Вы должны понимать, что творилось в стране в последние годы. В пятидесятые здесь произошла революция, французам пришлось уйти. С помощью своей агентуры Советский Союз установил коммунистический режим. После развала СССР за власть боролись две партии: исламисты и их противники. Это было как раз пять лет назад. Исламисты проиграли. Радикалы ушли в подполье, умеренные остались в парламенте. Нужно было развивать национальную экономику, привлекать инвестиции, брать кредиты. Мировой банк и Всемирный валютный фонд диктовали свои условия. Они требовали проведения экономических реформ, принятия демократических законов. Но основным условием было заткнуть рот исламистам. Нейтрализовать их. Это политика Соединенных Штатов. Однако население поддерживало исламскую оппозицию. Девяносто процентов людей здесь очень бедны. Реформы не сделали их богаче. Бедные ненавидят правительство, американцев и вообще всех немусульман. Они ненавидят роскошные гостиницы и курорты, в которые вкладываются миллионы долларов. Им из этих миллионов не достается ничего. Народ поддерживает экстремистов. Это почти как в России в 1917 году. Но правительство делает свое дело. Западные кредиты они инвестируют в курортный бизнес, но огромный процент незаконно берут себе. Мафия и государство действуют вместе. И чтобы получать еще больше денег, им нужно было покончить с фундаментализмом. Америка платила им за лояльность. На все остальное Вашингтон мог закрыть глаза. На то, что они строили не демократию, а банановую республику.
— Каким образом было решено подавить оппозицию?
— Мохаммед Курбан имел достаточно врагов. Он много брал в долг и не торопился отдавать. Кое-кто завидовал его успехам. Кроме того, было большое желание сделать корпорацию «Мелиа» государственным предприятием. Чтобы выручка шла лично президенту и его окружению. Но через несколько лет Курбан мог бы сам баллотироваться в президенты. Он был достаточно богат, многие стояли на его стороне. Поэтому его смерть кое-кого очень устраивала. Исламисты тоже не любили Курбана. Он хотел превратить их страну в цивилизованное светское государство. Еще Курбан владел сетью подпольных борделей и казино. Контролировал наркоторговлю. Он был мафиозо, но деньги вкладывал в свой строительный бизнес. Фанатики подбрасывали ему письма с угрозами, шантажировали. Угрожали его семье. Во всяком случае, именно их официально обвинили в убийстве. Появился легальный повод для арестов. Тайная полиция схватила несколько десятков человек. Некоторые из них были террористы, наверное. Эти люди дали показания против определенных депутатов Национального собрания. Я думаю, эти показания были получены насильственным путем. Готовился крупный судебный процесс. То же самое происходило у нас в России, когда убили Кирова. Сталин очень жестоко расправился со своими врагами.
— Вы считаете, что мистера Курбана убили по заказу правительства?
— Я так не говорил. Но его убийство оказалось очень кстати. Потому что в это время велись серьезные переговоры с Международным валютным фондом. Речь шла о нескольких миллиардах долларов. Аресты поставили под сомнение существование оппозиции как таковой. Они вынуждены были защищаться. Правительство само виновато в том, что обстановка в стране стала критической. В том, что Всемирный исламский фронт объявил джихад.
Нас очень вежливо выпроводили наружу. Мсье капитан, на котором лица не было, и еще один полицейский несли наши вещи. Самое дорогое, ноутбук был в порядке. Я проверил его еще в кабинете большого босса. Едва мы оказались на улице, к управлению полиции на скорости подрулил черный «ягуар», перегородив нам дорогу. Дверца открылась, и заплаканная Ариадна Ильинична бросилась Тане на шею.
— Боже мой, наконец-то! Танечка, Машуня, бедные вы мои! — вскрикивала она, целуя по очереди нас всех. — Какой кошмар. Если бы вы знали, как я переволновалась. Все это ужасно, просто ужасно! Вы в порядке? С вами все нормально?
— Да, да, — кивнули мы, оторопев.
— Мы как только узнали об убийстве, сразу вылетели сюда, — продолжала тараторить балерина, с чьей легкой руки мы оказались в этой заднице. — А чартер только через неделю, вы же знаете, пришлось в Афинах арендовать частный самолет. Потом сообщили насчет вас. Мой Юсик очень рассердился. Он так кричал по телефону! Так ругался! Ведь вас даже через таможню не должны были проводить. Машину Мохаммед распорядился подать прямо к трапу самолета. Но из-за убийства все так спуталось… Эти фанатики — просто нелюди! Мохаммед никому ничего плохого не сделал. За что его убили, понять не могу… Мы все в таком шоке… Какое счастье, что хоть с вами все в порядке. Я просто места себе не находила… Да, так что же мы стоим здесь! Идемте, я вас познакомлю с мужем. И поедем отсюда скорее. Бедная Машенька, сколько ребенку пришлось вытерпеть!..
Наш спаситель оказался элегантным подтянутым мужчиной европейской наружности, в отличном костюме-тройке и темных очках. Легкая седина висков придавала ему осанистую значимость. На правом запястье Юсика я разглядел швейцарские часы «Вашерон Константин», любимые новорусские ходики середины девяностых. Блестящие камешки заставляли думать о бриллиантах. По-русски он изъяснялся с легким кавказским акцентом.
— Прошу прощения за несчастливое начало поездки, — вежливо сказал Юсуф. — Здесь совсем как в Москве — правая рука не знает, что делает левая. Теперь, я вас уверяю, кое-кто отправится мести улицы.
— Может, не надо так серьезно? — предположила по-христиански оттаявшая немного моя жена. — Ведь они перед нами извинились.
— Надо-надо, — потребовал я. — Еще как надо. Особенно этот мерзавец на таможне.
— Прослежу. — Юсуф коротко кивнул. — Что они вам предложили?
Выслушав мой подробный отчет, спаситель брезгливо скривился.
— Чушь! Я им подробно объясню, что значит моральный ущерб. Если Мохаммед Курбан приглашает гостей, к ним надо относиться как к самому Мохаммеду Курбану! Ладно, с этим разберусь сам. Вот что, господа, выслушайте мое предложение. Сейчас мы садимся в машину и едем в Хаммарат. Будете жить в моем собственном доме столько, сколько пожелаете. Там есть все: прислуга, частный пляж, библиотека, кинозал, фитнес-центр. В прошлом году я нанял отличного повара, он готовит и европейские, и наши блюда. Если угодно, моя яхта тоже к вашим услугам. Кроме того, я готов выписать чек на любую сумму, которую сочтете достаточной. Вы не должны отказываться. Гости отца — мои гости. Даже если отец мертв…
Он помолчал, закусив губу. Потом продолжил:
— Деньги и документы будут вам возвращены. Хорошо, если вы составите точный список украденного.
— Ну что, едем? — спросил я Таню.
— А куда деваться? — тоскливо ответила она. — Без паспортов в самолет не посадят.
Пока Таня тихо переговаривалась о чем-то с Ариадной Ильиничной на заднем сиденье, я внимательно слушал Юсу-фа. Он показался мне человеком волевым, разумным и образованным.
— Наша страна очень древняя. Первые человеческие поселения возникли примерно за пятьсот тысяч лет до нашей эры. Отец спонсировал Национальный институт археологии, несколько раз сам ездил на раскопки. Он по образованию инженер, учился в Париже, но всегда очень интересовался историей. Мечтал написать книгу о финикийцах. Великая нация! Появились здесь за тысячу двести лет до Рождества Христова. Отличные мореплаватели, воины, торговцы. Вообще, я думаю, бизнес у нашего народа в крови. Финикийцев победили римляне. Пунические войны, Ганнибал… Сохранилось много римских развалин: храмы, амфитеатры. Есть действующие термы. Музей под открытым небом. Кстати, если заговорили об античности… У нас здесь останавливался сам Одиссей. Даже сохранился его дом — так и называется — Дом Улисса. Великолепные мозаики. А Эней гостил здесь у царицы Дидоны. Туристам показывают место, где она сожгла себя на костре. Помните эту трагическую историю?
— Смутно.
— Римлян сменили арабы — тоже много строили. Знаменитые династии Фатимидов, Альмонадов. У нас здесь есть уникальные исламские святыни, на них стоит взглянуть.
— Какие? — Мне даже стало интересно.
— Святой город Кайруан, например. Считается четвертой по значению святыней после Мекки, Медины и Иерусалима. Семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку. Затем, уникальная мечеть Брадобрея с усыпальницей личного парикмахера пророка Мохаммада — Абу Джама эль-Балави. Там хранится саркофаг с тремя волосками из бороды Пророка. Целительный источник Бир-Барута, который можно уподобить знаменитому Зем-Зему. Кое-что есть и в самом Хаммарате: мавзолей святого шейха Сиди-Абдель-Кадера и мавзолей Сиди Бу Али, Али-Мазар.
— Кто они были?
— Сиди-Абдель-Кадер — великий суфий ордена Накш-банди. Каждый год дервиши со всей Азии съезжаются к его могиле. А Сиди Бу Али — местный святой, покровитель города. На средства отца оба мавзолея были отреставрированы, построена гостиница для паломников, ритуальный бассейн. Кроме того, в последние годы он оплачивал еду для дервишей. Нынешний имам ордена наградил отца специальным знаком «Опора Веры». Редкий мусульманин бывает удостоен такой высокой чести.
— Вы не верите, что его убили фанатики?
— Не верю! — отрезал Юсуф и хлопнул зло ладонями по баранке. — Ни один мусульманин не посмеет поднять руку на человека, названного Опорой Веры.
— Ваш отец был верующим человеком?
— Отец надеялся на себя больше, чем на Аллаха, — лаконично ответил он. — Но люди помнят то добро, которое он для них сделал. Если существует рай, отец сейчас в раю.
— Кого-нибудь подозреваете?
— Конечно! Я публично назову имена убийц. Не самих убийц, заказчиков.
— Кто же они?
— Люди из семьи Азиз. Те, кто узурпировал власть в стране и сосет из нее кровь. И я добьюсь того, чтобы они ответили за все. За все!
Сказано патетически, но искренне. Я был готов поверить.
Началась пустыня. Мне она представлялась совершенно иной: пески, высокие барханы, какой-нибудь саксаул, верблюжья колючка… До самого горизонта лежала плоская бурая равнина, поросшая клочьями рыжей травы и кривыми невысокими деревцами. Песка не было. Вместо него на растрескавшемся грунте толстым слоем лежала пыль. Легкого ветерка хватало, чтобы густое желтое облако поднялось до неба и медленно оседало вниз. Зрелище смертельно унылое. Голая бугристая земля с красноватыми экземными проплешинами. Куртины жухлой травы, запорошенной песчаной пудрой. Змеистые трещины в грунте, ползущие в разные стороны. Иссушенные, скорченные мумии деревьев. Где величественные лунные пейзажи? Где романтика Экзюпери? Мертвый, околевший кусок суши. И небо — не синее, как в Каире, а прозрачно-голубое, размытое, водянистое. Раскаленное добела или такое же негодное, мертвое, как земля внизу. Между ними — мерцающее марево, жидковатый непрозрачный воздух. В нем, казалось, можно утонуть, как в воде. Впрочем, иногда мы пролетали сквозь пышные рощи олив и финиковых пальм. Попадались и убогие деревеньки. Жалкие глинобитки с плоскими крышами ютились у дороги, как нищие. Сквозь кое-как замазанные прорехи виднелись рахитичные кости перекрестной дранки. Стоило, наверное, сильно топнуть ногой, чтобы эти строения рассыпались в прах. Иногда на пороге дома сидел морщинистый терракотовый старик в лохмотьях, едва прикрывавших хрупкий скелет. Казалось, у него уже нет сил подняться. Мы видели истощенную молодую женщину, которая безразлично мочилась, закрыв голову подобием юбки. Рядом с нею играл в пыли вялый заморыш с огромной головой на тонкой шейке — ребенок. Облезлая собака копошилась в пыли, пытаясь что-то разгрызть. Верблюд с плешивыми боками, пошатываясь на длинных тонких ногах, объедал чахлый кустарник. Мы на своем черном «ягуаре» были здесь чем-то вроде миража. Настолько невероятным, что на нас не обращали внимания. Или пустыня, превратившая этих людей в безвольные скелеты, отняла у них способность удивляться?
— Посмотрите только, какая нищета! — с горечью сказал Юсуф. — Правительство ничего не сделало для них. И не собирается делать. Немногие доживают до пятидесяти лет. Читать и писать умеют единицы. Французы хотя бы открывали школы, силой загоняли туда детей. Теперь никаких школ нет. Вообще ничего нет. Взгляните вон туда, влево!
На горизонте отчетливо рисовался силуэт римского акведука. Поморгав, я поверил, что он мне не кажется.
— Видите? При римлянах здесь были плодородные поля. Сохранилась вся их ирригационная система: каналы, акведуки, искусственные водоемы. Двое французов, Дюваль и д'Аршак, по заказу отца составили подробнейшую карту. Между прочим, Дюваль — профессор Сорбонны. Он написал книгу «Живая пустыня». О том, как римляне занимались здесь ирригацией.
— Как же они это делали? — вдруг заинтересовалась моя жена с заднего сиденья.
— По-разному. Рыли глубокие колодцы. Здесь же, под землей, — огромное пресное море. В некоторых местах вода подходит совсем близко к поверхности. Вы слыхали о проектах орошения Сахары?
— Конечно. Но ведь они остались на бумаге, — блеснула эрудицией Таня. — Это слишком дорого.
— Смотря для кого, — возразил Юсуф. — Отец собирался купить все эти земли — тысячи гектаров, которые считаются бесплодными. И разбить здесь виноградники. У нас есть отличные сорта винограда, и местные, и французские. Приедем в Хаммарат, обязательно попробуете наше вино. У меня отличный погреб. Первые виноградники здесь разбили финикийцы. А римляне наладили уже массовый экспорт. И вино, и оливковое масло. Так что опыт есть, можете не сомневаться.
Очевидно, планы у мсье Мохаммеда Курбана были огромные. И средства тоже. Человек с такими планами и средствами должен иметь много врагов.
— Кроме того, — продолжал Юсуф, увлекшись, — римляне умели собирать и хранить дождевую воду. Дожди здесь, сами понимаете, — большая редкость, но если уж льет, то льет. Строили специальные крытые резервуары. И, естественно, подводили воду с гор, из пресных источников. Триста пятьдесят километров акведуков! Даже дорога, по которой мы едем, проложена римлянами. Ей две тысячи лет, и никакого ремонта!
— Невероятно! — подала голос Ариадна Ильинична. — Но сколько людей погибло, когда все это строили…
— Не надо считать мертвых, Ари, — резко бросил он. — Считать надо живых. И думать тоже о живых.
Некоторое время ехали молча. Местность не изменялась, но античные развалины стали появляться чаще. Промелькнули колонны храма, высокие пролеты еще пары акведуков. Действительно, когда-то здесь было все по-другому. Правда, очень давно.
— Неужели тут можно заниматься сельским хозяйством? — спросил я. — По-моему, все же не очень рентабельно. Как вам кажется?
— Вы ошибаетесь, — убежденно ответил Юсуф. — Сейчас наша экономика держится почти только за счет туризма. И то доходы все время падают. Почему так сложилось? Девяносто процентов страны занимает пустыня. Вся жизнь сосредоточена у моря. При этом в крупных городах живет всего около четверти населения. Для остальных города закрыты. Въезд закрыт. Некоторые тайно пробираются в город на заработки. Если такого человека поймают, его сразу вышвыривают вон. Правительство, если бы могло, с радостью построило бы стену между побережьем и пустыней. Наподобие Берлинской. Тем более что эти земли они все равно не контролируют. Здесь своя власть, свои порядки.
— А что собирался сделать ваш отец?
— Привлечь инвестиции в сельское хозяйство. Обеспечить людей работой. Через пять — семь лет нам бы не пришлось импортировать пшеницу. Мы сами торговали бы и пшеницей, и фруктами, и винами. Понимаете, долгосрочная программа экономического развития! А туризм… Надо понимать специфику нашей страны. Люди здесь хоть и нищие, но гордые. Прислуживать богатым иностранцам для них унизительно.
Говорил он красиво и складно, явно готовился к политической карьере. Скорее всего ситуация была прямо противоположной. Кто-то с кем-то не поделил большие деньги. Я же из России, мне такие вещи объяснять не нужно. Казалось, Юсуф репетирует речь перед большой аудиторией. Может быть, в парламенте. Или еще где-нибудь. Ведь он теперь — наследник магната. Практически сам магнат. И человек, судя по всему, ясно видящий свою цель.
На горизонте показалось облако пыли. Оно перемещалось, росло и стремительно двигалось в нашу сторону. Точнее, наперерез. Сквозь вязкое марево я разглядел силуэты бегущих верблюдов и всадников. Одногорбые звери неслись удивительно быстро. Их интересовали мы. Наш роскошный черный «ягуар». Самое неприятное заключалось в том, что дорога, проложенная римлянами, загибалась впереди петлей, обегая вокруг каменистого холма. Мы приближались к основанию петли. Всадники метили в то место, где петля выпрямляется, убегая к видневшемуся вдали поселку. Половина их отделилась на скаку и стала заходить нам в тыл. Верблюжья конница загоняла нас, как дичь.
— Папа, кэмелы! Смотри, их сколько! — радостно запищала Машка.
— Господи, что это еще такое? — вскрикнула Таня.
— Берберы, — сквозь зубы пробормотал Юсуф и надавил на газ до отказа. — Думаю, проскочим.
Но проскочить нам не удалось. Когда машина вынырнула из-за холма, дорогу преграждала толстая шипастая лента. Рядом с ней гарцевали всадники, перекрикиваясь гортанными голосами. Люди с автоматами Калашникова в голубых и синих длинных халатах, замотанные до самых глаз в белые тряпки. Такими странными узлами была завязана материя вокруг голов, что напоминала бугристый древний шлем. Автоматы новенькие, блестят на солнце. Верблюды — сильные, холеные, злые. Совершенно лысые. Может, их бреют специально, не знаю, — ни клочка шерсти, сплошные мускулы и кости. Храпят, косят глазом, роют голенастыми ногами сухую землю. Вот это уже настоящая экзотика, подумал я. Попасть в плен к настоящим берберам. Вряд ли намного лучше, чем к какому-нибудь Шамилю Басаеву. Сразу вспомнились Зёка и его несчастный друг Леха. Один из всадников, с зеленой тряпкой поверх головного убора, рисуясь подъехал к нам и ткнул стволом автомата в лобовое стекло. Мы замерли.
— Сидите, — приказал Юсуф. — Никому не выходить из машины,
— Боже, Боже, — Ариадна Ильинична закрыла лицо красивыми ладонями.
— Что это за чучела? — спросила Таня, с трудом выговаривая слова.
— Представители отчаявшейся бедноты, — попробовал я сострить. — Революционное крестьянство.
— Пошел ты…
— Они могут забрать машину, раздеть и оставить посреди пустыни. — Ариадна Ильинична плакала. — Сколько раз я просила его не ездить по этой дороге! Ведь есть же нормальное шоссе. Нет, он всегда хочет быстрее…
Юсуф очень медленно открыл дверцу и вышел к бедуину. Верблюд попятился и громко всхрапнул, брызгая желтой слюной. Юсуф приложил ладонь к груди:
— Ассалам алейкум! — И еще что-то добавил, я не разобрал.
— Аль-хамдулелла! — ответил ему всадник, тряхнув автоматом. Громко клацнул затвор.
Юсуф, по-прежнему медленно, поднял руку, взял верблюда под уздцы. От неожиданности зверюга рванула в сторону, но он держал крепко. Всадник визгливо и неприязненно затараторил на своем языке. Юсуф отвечал тихо, уверенно, ровным спокойным тоном. Несколько раз внятно произнес слово «Курбан».
— Курбан-эфенди! Курбан-эфенди! — заорали бандиты и, подгоняя верблюдов, окружили Юсуфа. Он что-то долго говорил им, резко рубя воздух решительными жестами. Кочевники отвечали ему дружным ревом. Затем подняли автоматы и принялись палить в воздух. У меня заложило уши от такого салюта.
— Аллаху акбар! — грянули хором и умчались прочь, нахлестывая длинноногих кэмелов и постреливая вразнобой. Юсуф вернулся в машину, утирая с лица горячий пот. Достал из бардачка тонкую гнутую турецкую сигару. Щелкнул серебряной зажигалкой «Зиппо». Глубоко затянувшись, выпустил клуб ароматного дыма. Пальцы дрожали, прыгал кончик сигары.
— Они поклялись мстить за смерть человека, названного Опорой Веры, — наконец хрипло произнес Юсуф. — Назвали убийц отца своими кровными врагами.
— Кто был этот человек с зеленой повязкой? — осторожно спросила Ариадна Ильинична.
— Шейх Халид. У него пять сотен вооруженных бойцов. Обещал, что на похороны отца соберутся все шейхи берберов: аль-Аршад, Абу Абдель, Сайд Фазул и Исам аль-Тура-би. Вот тогда я и скажу все, что думаю. Едем!
Следующие полчаса провели в полном молчании. Я отчетливо понимал, что нужно ехать не в Хаммарат, а в аэропорт. Или в порт. Куда угодно, но только бы скорее попасть домой. События грозили обернуться чем угодно. Например, общей резней. Мы действительно приехали не в ту страну. В джунглях Амазонки наверняка спокойнее. Только бы нашлись паспорта!
Хаммарат. Маленький южный город в уютной скалистой бухте. Оазис за острыми гребнями. Пустыня заканчивается так резко, что в это трудно поверить. Проезжаешь перевал и попадаешь в другой мир. Даже воздух совершенно другой. Влажный, подсоленный морем и пахнет хвоей. Не то соснами, не то кипарисами. От самого перевала начинаются кипарисовые рощи, разбросанные среди гигантских скальных глыб. Сквозь трещины в камне пробивается можжевельник, что-то вьющееся с острыми темно-зелеными листочками и даже цветы! На террасах, прилепившихся к крутым откосам, — виноградники. Аккуратные, как под линейку, курчавые полосы. Город сползает с перевала к морю. Предместья: те же самые домики с плоскими крышами, но ухоженные, выкрашенные в белый или желтый цвет, окруженные зеленью. Сады растут на каждом пригодном пятачке: персики, хурма, абрикосы, миндаль, гранаты, гигантские яблоки. Плоды оттягивают ветви, клонят вниз. Возделан каждый сантиметр грунта, каждая щель, забитая землей. Со стороны моря предместья — сахарные кубики, брошенные щедрой горстью в сочную траву. Снежно-белый сахар и желтый — тростниковый. Насыщенные, яркие, резкие цвета. Если где-нибудь вспыхнет оконное стекло, поймав солнечный луч, отшатываешься, болезненно щурясь. Постепенно предместья сгущаются, переходя в старый город-лабиринт. Узкие улочки, где едва ли разойтись двум прохожим, забиты народом и повозками. Попав туда без провожатого, можно блуждать до вечера. Несколько минаретов парят над этим муравейником. Невозможно синие купола, местная глазурь, давно утерянный секрет. Но туристов здесь почти нет. Туристы — в курортной зоне.
Юсуф объяснил мне замысел отца, который руководил застройкой. Курортная зона — шесть отелей и два пансиона — город в городе. От всего остального мира отделена высоким бетонным забором. Местным вход категорически воспрещен. Только по специальным пропускам. Зона белого человека: безопасность и покой без посторонних глаз. Спиртным торгуют свободно: for whites only! Может, это и дискриминация, но удобно для гостей. Здесь же: казино, бордели, стриптиз-бары, клубы по интересам. Интересы удовлетворяются любые. За стеной — территория Мохаммеда Курбана. Вотчина, удел.
— Отец считал, что это временно, — чуть виновато сказал Юсуф. — Нужно привлечь как можно больше туристов, ведь в стране — тысяча двести километров великолепных пляжей. А стена — чтобы не раздражать народ. Нравы у нас очень традиционные, жесткое законодательство. Но за стеной как бы все это не действует. Раньше казино и бордели размещались в старом городе. Подпольно. Полиция устраивала облавы, иностранцы попадали за решетку. Согласитесь, многие едут в отпуск не только для того, чтобы загорать. Было очень много проблем. Теперь их нет. Власти согласились, что за стеной — другие правила. Отец сумел их убедить. Но преступность, воровство — в курортной зоне с этим покончено. Отец организовал собственную службу безопасности…
Ну конечно: если мафия берется навести порядок, она всегда добивается своего. Гораздо эффективнее полиции.
— Конечно, многим не нравится такое положение дел. — Юсуф сделал выразительное лицо. — Знаете, как горожане называют курортную зону?
— И как же?
— Шармуда, — ответил с кривой, смущенной улыбкой. — В переводе на русский… м-мм… женский половой орган.
Я деликатно промолчал, соглашаясь с мнением горожан.
Особняк Курбана-младшего стоял в дальнем углу Шар-муды, в самом живописном ее месте. Округлый, утиным носом, полуостров выдается далеко в море. С берегом его связывает узкая полоса суши — апельсиновая роща. С другой стороны полуострова — маленькая бухта, частное владение. Как на ладони — залив и город. Дом: вилла в стиле модерн, три этажа, никакого мавританства. Ухоженное, неброское с виду, типично европейское здание. Мы шли по вьющейся, выложенной разноцветной фигурной плиткой дорожке среди старых апельсиновых деревьев. Слева и справа просвечивало море. Пахло ботаническим садом, свистели птицы, невидимые в ветвях. Под ногами лежала густая, маслянистая тень, похожая на разлитую воду. Юсуф сорвал огромный зрелый апельсин, протянул Машке:
— Кушай, пожалуйста.
— Хорошо здесь! — сказала Таня, взяв меня под руку. — Хочется верить, что все кончилось. Я уже начинала сходить с ума.
— Все кончилось, — уверенным эхом тотчас отозвался Юсуф. — Теперь я лично буду заботиться о том, чтобы у вас все было в порядке. Дом вам понравится. Это ведь наполовину музей.
— В каком смысле? — спросил я, подумав о музее клана Курбан. Мафия — это тоже история. Спросите Марио Пьюзо.
— Виллу построил в 1922 году миллиардер Джордж Себастиан. Он же разбил здесь сад. На этой вилле гостили Клее, Сартр, Камю и даже сам Уинстон Черчилль. В холле вы увидите его фото с автографом. После войны здесь размещалась резиденция для почетных гостей. Когда в 1956-м началась революция, дом очень пострадал. Был сильный пожар, погибли великолепная библиотека, картины. Единственное, что сохранилось в полной неприкосновенности, — кровать, на которой спал Черчилль. Если пожелаете, вы тоже можете на ней спать.
— Спасибо, нам бы чего попроще, — усмехнулся я. — Еще сны будут сниться плохие. Ялтинская конференция. Или Тегеранская.
Юсуф вежливо улыбнулся:
— На вилле четыре спальни. Можете выбрать себе любую.
— А что было после пожара? — полюбопытствовала жена.
— Около двадцати лет не было ничего. Потом компания «Мелиа» получила подряд на реконструкцию пляжей. На собственные средства отец восстановил виллу. А затем выкупил ее у государства. Связался с наследниками Себастиана, они прислали ему все материалы. Теперь внутри и снаружи все выглядит точно так же, как восемьдесят лет назад. Но сам он жил не здесь. Его собственный дом — на другом краю бухты. Отсюда не видно. А вот и Жан-Эдерн!
Навстречу нам, чуть прихрамывая, вышел невысокий грузный мужчина. Дочерна загорелый, в расстегнутой до середины груди пестрой и старомодной рубахе баттон-даун, в джинсовых шортах. Седая щетина на темном скуластом лице, полированный солнцем выпуклый лоб, сухие мускулистые руки. Птичий, горбатый нос. Насмешливые синие глаза — быстрый, умный, цепкий взгляд чуть исподлобья. Спортивный, крепкий старик. Шрам на правой брови мог выдавать бывшего боксера. Пенковая трубка в зубах. Без слов обнял Юсуфа, похлопал по спине, что-то сказал на ухо. Я расслышал только одно слово — gredines.
— Позвольте представить: Жан-Эдерн Вальмон. Близкий друг отца и директор городской картинной галереи. Галерея — это бывшая частная коллекция Джорджа Себастиана, она не беднее Лувра. Только поменьше размерами. Кроме того, Жан-Эдерн — историк, поэт и гурман. Он любезно согласился быть вашим гидом и заботиться о вас.
— С огромным удоволствием, — улыбнулся Жан-Эдерн.
— Его бабушка — урожденная графиня Ростопчина, — объяснила Ариадна Ильинична, до сих пор хранившая молчание.
— Мы вас покинем, господа, — сказал Юсуф. — Нужно готовиться к похоронам. Надеюсь, еще увидимся. Всего доброго! И еще раз извините.
— До свидания! — Ариадна Ильинична протянула мне руку.
Мы распрощались.
— Идемте. — Жан-Эдерн все-таки перешел на английский. — Мне уже рассказали о ваших несчастьях. Очень сочувствую. Ари (он сделал ударение на последнем слоге), как всегда, витает в облаках. Вас нужно было тщательно проинструктировать. Ну, ее можно понять, она ни разу не имела дела с местной полицией и таможней.
— Что за инструкции? — Таня напряглась.
— Например, таможенникам принято давать взятки.
— За что? — возмутился я.
— Ни за что. Символическая плата. Десять-двадцать долларов кладутся в паспорт. Уж если вы везли водку, это надо было сделать обязательно. Когда они видят, что человек способен платить, но не платит, садятся ему на голову. Тем более ваш компьютер. С компьютерами путешествуют обеспеченные люди. Ведь вы не американцы, не немцы, даже не французы. К русским в последнее время здесь относятся неважно. Хотя русские в свое время сделали для страны больше, чем кто бы то ни было. Сейчас другая политика, ваших уже не любят. Ну да Бог с ним. Теперь запомните: никогда не подавайте милостыню. Здесь все нищие — жулики и воры.
— Это мы уже поняли, — грустно подтвердила Таня.
— Вообще, будьте поосторожнее с местными. Преступность в городе высокая, вы иностранцы, не знаете языка, не можете ориентироваться. Гулять советую только по центральным улицам в светлое время суток. Не берите с собой ничего ценного, не заходите ни в какие сомнительные заведения. Ребенка всегда держите за руку. Девочку могут похитить и потом требовать выкуп. Такие случаи были.
— А почему все так ужасно? — спросил я. — Это же курортный город…
— Это не просто курортный город, друзья мои. — Жан-Эдерн невесело усмехнулся. — Здесь перебывала вся европейская богема, и знаете почему? Дешевые наркотики, дешевые проститутки, дешевые мальчики-педерасты. Почитайте того же Берроуза. Если угодно, я вам покажу его дом. Мохаммед правильно сделал, что построил стену, но ситуация не изменилась. Полиция насквозь продажная… В последнее время стало еще хуже. Кстати, на всякий случай: не вздумайте покупать в городе наркотики!
— За кого вы нас принимаете?! — возмутилась жена. — Еще чего не хватало.
— Мало ли… Вам продают гашиш и сразу надевают наручники. Потом вымогают огромные деньги. Если придет охота покурить, за стеной все есть. Хаш и травку можно купить в любом баре и абсолютно безопасно, как в Голландии. Юсуф попросил меня о вас заботиться, поэтому я обязан все сразу рассказать.
— Честно говоря, мы бы хотели получить наши паспорта и как можно скорее вернуться домой, — признался я. — Мне все это очень не нравится.
Жан-Эдерн засмеялся:
— Простите, что начал с худшего. На самом деле здесь не опаснее, чем в Париже или Нью-Йорке. У вас в Москве тоже, наверное, всякое бывает?
— Бывает, — сказал я. — И заказные убийства тоже. Почти каждый день.
Только к вечеру мы наконец полностью пришли в себя. Жан-Эдерн распоряжался на вилле как хозяин. Едва ли не силком затащил нас в баню, отдав на растерзание огромному жуткому банщику со свирепой физиономией янычара.
— У нас в Хаммарате лучшие бани в мире. Еще римляне лечились здесь грязями. В прошлом веке приезжали лечиться Флобер и Мопассан. А в годы Второй мировой — солдаты «лиса пустыни» Роммеля. И раны, представьте себе, заживали очень быстро. Мохаммед Курбан построил в Хаммарате крупнейший центр талассотерапии. А наш Хусейн, — Жан-Эдерн улыбнулся банщику, — просто лучший из лучших. Здесь это искусство передается по наследству. Хусейн знает своих предков до десятого или двенадцатого колена, и все мужчины в роду занимались банным ремеслом.
Хусейн посмотрел на нас, как мясник на тушу, — оценивающе. Но то, что он делал, описанию не поддается. Какое-то восхитительное варварство. Мне казалось, живым я от него не уйду. Банщик выкручивал руки, топтал ногами, переламывал хребет. И мне, и Тане, и Машке. Мы думали, нам всем конец. Но оказалось — вернулись к жизни. Вышли из парилки легкие, почти невесомые, совершенно счастливые. Состоящие из одной только лучистой энергии. Потом нас намазали какой-то жирной, остро пахнущей грязью и снова погнали в парилку. Я думал, отдам Богу душу, но не отдал. Аллах не захотел ее принять. Грязь мы смыли в круглом бассейне с морской, круто соленой водой, отдававшей йодом. Втерли в кожу прозрачное масло и были напоены чем-то холодным и травяным. После всего этого хотелось лишь одного — летать.
Обедали у самого моря, на террасе. В трех метрах внизу ленивые волны нехотя разбивались о валуны. Нас обдавало прохладными брызгами пены. Отсюда, с террасы, бухта выглядела волшебной. Неправдоподобной. Созданной только для того, чтобы любоваться. Скалистый перевал, рафинадная россыпь предместий, терракотовый лабиринт старого города, узорчатые колонны минаретов, увенчанные лазурными шапками. Стеклянные, обращенные к морю стены отелей. В них отражаются горизонт, треугольные паруса серфингистов, силуэты яхт. Сине-зеленая масса прозрачной воды равномерно покачивается, оттачивая золоченый серп пляжа. Бриз небрежно ерошит шевелюры пальм. Идиллия. Можно почувствовать себя миллиардером Себастианом. По крайней мере его гостем.
Еду подавал сам повар — высокий поджарый негр в полосатой национальной одежде. От запахов кружилась голова. Белизна фарфора, серебряный блеск приборов и хрусталя требовали темных очков. Жан-Эдерн, развалившийся в плетеном кресле, с удовольствием комментировал меню, посасывая свою трубку:
— Эти пирожки называются брик-а-лёф. Начиняются яйцом, тунцом или рубленым мясом, потом обжариваются в масле. Они совсем не острые, можете не бояться. Это, наоборот, острая приправа — табил, это шарба, местный суп, рекомендую. Там — дулма, фаршированные кабачки-цуккини. Жареные колбаски мериз подают с соусом арисса — он для вас, возможно, будет слишком острым. Отличная вещь — бараньи лопатки кефта с мятным соусом. А вот и наш кускус. Вы представляете себе, что это такое?
— Нечто вроде плова? — предположил я.
— Ничего подобного! — Жан-Эдерн, довольный, помотал головой. — Плов, точнее пулав, едят в Средней Азии. Там, где растет рис. У нас риса нет, поэтому используется манная крупа очень грубого помола. В нее кладут баранину, овощи, специи. Бывает кускус с курицей, рыбой, мидиями, сладкий кускус. Вообще в каждой провинции, в каждом городе — свой собственный рецепт. Есть семьи, в которых рецепт кускуса передается по наследству, от отца к сыну, как фамильная драгоценность. Наш Абдель Хаким, — он кивнул на повара, — знает сто рецептов. Или больше?
— Семьдесят восемь, — смутившись, ответил повар.
— Вот видите! На десерт мы угостим вас миндальным печеньем «Дуа де Фатма». Только Абдель Хаким умеет готовить его так, как положено. Кроме него, никто не в состоянии положить столько шафрана, сколько нужно. Два сорта баклавы — асад и махруд, советую попробовать. Булочки самса с миндалем и кунжутом, пирожные «Малбиа»… Теперь вина. — Жан-Эдерн широким жестом указал на полдюжины бутылок, выставленных в центре стола. — Рекомендую попробовать красное «Шато Морнаг» 1999 года — молодое, но очень тонкий вкус. «Шато де Мандагон» — более легкое, розовое, урожая прошлого года. А вот наша гордость — знаменитое «серое» вино. Его делают из винограда, растущего на песке. Если захочется чего покрепче — инжирная водка «Буха», ничем не хуже вашей русской водки. К кофе нам подадут отличный ликер из фиников и трав «Тибаран»…
О винах Жан-Эдерн мог говорить без конца. Мы узнали, что пили финикийцы: сейчас из аналогичного винограда производят «Мускат де Келебия». Какие сорта винограда предпочитали римляне (Картаж и Пино). Какое вино имел в виду Омар Хайям (скорее всего «Сиди Саад»), Как делают настоящие дубовые бочки и пальмовую водку. Что виноградное сырье экспортируется во Францию, а в свое время его охотно закупал Советский Союз. И как отзывался о местных напитках сэр Уинстон Черчилль.
Когда есть больше не было сил, подали зеленый чай с мятой и кедровыми орешками, а потом — кофе с кардамоном. Жан-Эдерн раскурил трубку и приготовился рассказывать послеобеденные истории. Стоило только дать ему подходящий повод. И нас это устраивало: сидеть с полным животом в тени, в безопасности, у моря и слушать треп,
— Значит, вы немножко русский? — начала Таня.
— О да! Русский, француз и араб одновременно. И еще немного курдской крови, вот такой коктейль. Мою бабушку звали Маргарита. Марго Ростопчина. Семья жила в Петербурге, родители бабушки были близки ко двору. Потом, в 1917 году, им пришлось бежать. В России оставили почти все, прибыли в Париж нищими. Марго было двадцать два года. Как-нибудь покажу вам ее фотографию. Очень красивая женщина. Шила шляпки в мастерской на рю Дарю. Эти деньги кормили всю семью. Однажды на улице с ней познакомился немолодой военный. Пригласил в кафе, потом назначил свидание. Его звали Ксавье Вальмон. Вдовец, боевой офицер, прошел Первую мировую, едва не погиб под Верденом — надышался газов. Дедушка получил назначение в колонию и искал женщину, которая готова была разделить с ним жизнь вдали от Франции. Одним словом, они поженились. Конечно, антр ну суади, брак был по расчету, но бабушка очень уважала деда и замуж после его смерти не вышла. Здесь, в Хаммарате, купили дом. К сожалению, его давно снесли. Через два года родился мой отец, Винсент. Ксавье Вальмон обожал живопись и особенно Ван Гога, он хотел, чтобы его сын стал художником. Очень нетипично для военного, согласитесь. Отец был талантлив, окончил Академию живописи, потом вернулся сюда. Оказался неплохим пейзажистом. У отца имелась и невеста, некая Лулу, дочь местного врача, они даже обручились. Но в один прекрасный день отец повстречал маму. Мама была из местной знати, дочь кади, то есть судьи. Как говорится, молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. Обе семьи были, естественно, против брака. Тогда отец тайно увез маму в Париж. Там они поженились. Дедушка, узнав об этом, проклял сына Винсента и лишил его наследства, но не перенес позора, заболел и умер. О, это долгая история! Была война, отец сражался в Сопротивлении, мать со мной на руках скрывалась от нацистов. Мне было два года. В Хаммарат они оба так и не вернулись — погибли в автокатастрофе. Вернулся я один. Мне было тогда тридцать семь лет. Отец умер, но бабушка еще жила. Мы провели с ней три чудесных года. Марго — я всегда называл ее Марго — учила меня русскому языку, много рассказывала о России. Очень хотела, чтобы ее похоронили в Петербурге. Я обещал ей, что рано или поздно сделаю это. Но до сих пор, к сожалению…
— А другая семья, родители вашей мамы? — Таня была заинтригована. Трогательные книжонки о любви она всегда зачитывала до дыр.
— Это и есть семья Курбан. Когда я вернулся, из них всех в Хаммарате остался лишь Мохаммед. Мы легко сошлись с ним и подружились. Ужасно, что он погиб. Хотя Мохаммед жил рискованной жизнью. На его месте я бы выбрал более безоблачную судьбу.
— Мне кажется, у Юсуфа довольно опасные планы, — заметил я. — Хотя, конечно, это не мое дело.
— Хочется верить, Бог его сохранит, — хмуро ответил Жан-Эдерн. — Как здесь говорят, инша Аллах. Если будет угодно Аллаху.
Весь следующий день не вылазили из моря. Море — да, действительно великолепным оказалось море! Чистейшая, кристальной прозрачности зеленоватая вода, стайки мелких рыбешек. Мелкое, правда, как наше Азовское, и многовато водорослей. Дно — мягкий песок, ни камней, ни ракушек. Постоянно веет ветерок, так что жары не чувствуешь. Машка нашла себе компанию — сына и дочь повара, темнокожих двойняшек. Трудно сказать, на каком языке они общались, поднимая дикий крик и визг, но были абсолютно довольны друг другом. Мы с Таней немного успокоились, забыли проклятый талисман и дурные знаки. Попали в тропический рай из телерекламы.
— В конце концов, — говорил я, блаженно растянувшись на горячем песке, — мы получили больше, чем хотели. Гораздо больше.
Таня молча соглашалась.
Наутро было решено осмотреть город. Улицы: откровенная грязь. Огромные пластиковые пакеты с мусором стоят, прислоненные к стенам зданий, к деревьям. Десятки бездомных собак и кошек раздирают бесцеремонно эти мешки, роются в отбросах, что-то там пожирают. У помойки стоит грязный небритый мужик в баскетбольных трусах и торгует китайскими солнцезащитными очками. Дети налетают стаями, дергают за рукав, требуют купить жвачку. Разгоняешь детей — лезут нищие. Причем ведут себя так, что, если ты им немедленно не подашь, заразят какой-нибудь отвратительной кожной болячкой. Вообще постоянно приходится от кого-нибудь отбиваться. Торговцы: наглые, бесцеремонные твари. Хватают тебя за руку (хватка бульдожья), волокут в лавку и требуют немедленно что-то купить. От ковра до тульского самовара! Притом орут во всю глотку тебе на ухо — убеждают. Избавиться от них невозможно. Цены запрашивают нереальные, но уступают и уступают, даже если ты не скажешь ни слова. Стоит только остановиться, посмотреть — пропал. Полчаса выпали из жизни. Когда им не надо, понимать европейские языки мгновенно отказываются, память отключается железно, а вот бакшиш — это разумеют сразу. Но купить все можно действительно дешево. На десять динаров (чуть меньше десяти баксов) и на первом же углу Танюшка набрала целую сумку лазурных расписных кружек и тарелок из Набуля — это местный центр керамики. Арабская гжель такая, для туристов. Есть действительно отличные, изысканные вещи: пиалы, кувшины, чеканные медные сосуды ручной работы, ножики фигурные всякие, шелковые и шерстяные ковры, великолепные керамические блюда, серебряные браслеты с эмалью, стеклянные стаканчики для мятного чая, фантастического вида кальяны-шиша, невероятные пряности в любом количестве… За полтинник обычную московскую квартиру можно превратить в пещеру Аладдина. Один усатый тип приклеился намертво — хотел продать нам скорпионов. Здоровенные черные твари — то ли дохлые, то ли просто спят. Полным-полно очень странных заведений, я их прозвал «лавки ведьм». Торгуют травами, смолами деревьев, сушеными мышами и морскими коньками, головами козлов, панцирями черепах, живыми тритонами и змеями… Я так и не выяснил у Жан-Эдерна, для чего все это. Неожиданная и вкусная штука — розовые изнутри, без колючек, плоды кактусов, вкусом напоминающие дыню! А финики странно дорогие: чуть меньше полутора долларов килограмм. Непонятно… Еще фишка — лортреты президента. На каждом углу. В кофейнях. В парках. Везде. Такой упитанный мужчина с пышными кавалерийскими усами. Напоминает торговца урюком на московском рынке. С обменом валюты вещи творятся странные. Обменных пунктов в городе нет. Только в банках и только до двух часов дня. В четырнадцать ноль одну официально обменять доллары невозможно. Зато строем подкатывают спекулянты на шикарных авто прямо к дверям банка. Рядом спокойно дежурит полицейская машина…
Народ: мягко говоря, своеобразный. Кричат, жестикулируют, хватают друг друга за руки, за одежду. Некоторым, наоборот, все по фигу. Сидят на корточках возле своих лавок, курят кальян или едят мороженое. Абсолютное безразличие. Задаешь вопрос — он полчаса приходит в себя, потом отвечает невразумительным мычанием. На белую женщину, хоть она с мужем и с ребенком (плюс еще Жан-Эдерн), глазеют так, что хочется подойти и дать в морду. Никакого, даже элементарного, уважения нет и в помине. Их женщины выглядят по-разному. Некоторые, молодые, одеты по-европейски: джинсы, тишотка. Большинство — в цветных платках по самые глаза. Кое-кто носит чадру — я чадру видел впервые. Цельная накидка с головы до пят синего, голубого, лилового цветов. Материал дорогой — может, шелк или еще что. На уровне лица — четырехугольное или овальное отверстие, забранное густой сеткой из толстых нитей. Ходят стайками, жмутся друг к другу — одиночек в чадре я не встречал. Разглядывать их нельзя, сразу предупредил Жан-Эдерн. Неправильно поймут. Все женщины, одетые традиционно, — поголовно в золоте. Не преувеличение: буквально килограммы украшений: толстенные цепи, подвески, ожерелья, браслеты, кулоны. Ходячий ювелирный магазин. Оказалось, мусульманская традиция. По исламским законам развода никакого не существует: достаточно мужу трижды отречься от жены вслух, и она бегом отправляется к своим родителям в чем была. Поэтому драгоценности всегда таскают на себе. Дикие, дикие нравы!
Еще впечатления. Есть, пить и курить на улице нельзя. Чтобы попить воды или выкурить сигарету, надо зайти в «европейское» кафе. Как правило, это пиццерия, но их тут — раз-два, и обчелся. Алкоголь в городе продают, оказывается, но цены — бешеные. Бутылка обыкновенного вина — двадцать пять долларов! Пить постоянно хочется. Пальмовое молоко, которого потребовал ребенок, оказалось страшной гадостью. Жан-Эдерн заставил нас купить четыре литровые бутылки местной минеральной воды «Айн-октор», мы высосали их за пару часов. Справить нужду невозможно: негде. Чтобы бедная Машка могла пописать, мы обежали несколько кварталов, нашли (я своим глазам не поверил) «Макдо-налдс». Захожу в сортир: прямо у входа лежит на полу белокожий обоссавшийся тип в клетчатой рубахе. Или укуренный, или обколотый до бессознания. Народ безразлично переступает через него. Не обращают внимания. Вонь несравнимая. Ни мыла, ни бумажных полотенец… Кошмар, одним словом.
Город, конечно, экзотический, но на любителя. Сказочные, необычные здания, разноцветные изразцы, тончайшая резьба по белоснежным алебастровым плитам. Но рассматривать это все невозможно. Тысячи торговцев сбивают с толку, отвлекают постоянно. Единственная приятная вещь: все более-менее говорят по-английски. Нашелся даже один русскоговорящий! Продает подержанную технику: пылесосы, телевизоры, холодильники, миксеры всякие, кофеварки… Высокий, дочерна загорелый, крепкий седой дядька лет под пятьдесят. Дай ему Бог здоровья, как говорится! Узнав, что мы из России, завел в лавку — там кондиционер, прохладно, рай. Мы наконец пришли в чувство. Угостил зеленым чаем с обязательными орешками. Муса его зовут. Раньше, когда дружили с Советским Союзом, служил в порту. Занимался какими-то рыбными поставками. Теперь открыл свой магазин. Доходы маленькие, но регулярные. Дочка его училась в Ленинграде на врача, сейчас работает в городской клинике. Русский знает сносно, как цивилизованный горец:
— Ви ишшо не ходили Медина? Надо ходит. Медина — очен, очен красиво!
Медина — это старый город. Бывшая крепость: высокие стены, башни, купола. Проходишь через ворота и попадаешь в другой мир. Никаких торговцев, никаких лавок. Тишина. Улочки кривые, узкие, но чистые. Сразу дышится легче. Нет этой бесконечной вони чего-то жареного и сладковато-пряного пополам с выхлопными газами. Ни нищих, ни попрошаек, зато гораздо больше женщин в чадрах. Бородатые мужчины в тюрбанах спокойно шествуют по своим делам. Шестнадцатый какой-нибудь век. Едва мы прошли пару кварталов, нам наперерез шагнул бородач в длинном национальном халате и платке на голове — таком же, как у вечно-живого Арафата. Лицо — недоброе. Жан-Эдерн поговорил с незнакомцем, в чем-то заверил его, сунул в руку пару купюр. Тот исчез и вернулся спустя несколько минут, неся длинное пестрое покрывало — красивую довольно вещь.
— Набросьте на себя, пожалуйста, — попросил Таню Жан-Эдерн. — Здесь все женщины обязаны прикрывать голову, плечи и колени. А вы вообще в шортах. Как я забыл, надо было из дому что-нибудь захватить…
В покрывале Таня оказалась удивительно хороша.
— Вылитая жена какого-нибудь шейха, — съязвил я. — Тут нигде не выдают шейхов вместе с покрывалами?
Таня фыркнула.
— А кто этот человек? — спросила у Жан-Эдерна.
— Он из религиозной полиции. В Медине — свои порядки. Свои отели, свои кофейни, свои магазины, свои банки. В полном соответствии с шариатом. Кстати, если захотите сфотографировать кого-нибудь, лучше спросить разрешения. Иначе могут оштрафовать, — пояснил тот, с улыбкой оглядывая свежеиспеченную мусульманку. — Вы красавица, мадам. Вашему мужу очень повезло. Хотя, будь я лет на двадцать моложе…
Мазор Сиди-Абдель-Кадера можно было обнаружить даже без карты городского центра. К нему, поодиночке и группами, шли люди, очень заметные в толпе. Большинство из них были одеты в длинные белые хламиды наподобие халатов и белые тюрбаны. У других вместо тюрбанов — черные или красные высокие шапки. Минареты на голове. Попадались нарочито оборванные, в лохмотьях, с посохами и заплечными мешками, босые. Таких было немного. Были ничем не примечательные, в обычной, но не местной одежде. Очевидно, паломники из разных стран. Их лица, одинаково смуглые и бородатые, тем не менее выразительно различались. Увязавшись за троицей седобородых сырокопченых старцев в грубых домотканых халатах (из Йемена, пояснил Жан-Эдерн), мы довольно скоро вышли к маленькой круглой площади, покрытой узорчатой мозаикой. Драгоценный каменный ковер. Сюда, со всех сторон пропорционально, втекали узкие улочки. Площадь окружало несколько домов с резными деревянными террасами, выкрашенными в голубой и золотой цвета. Террасы соединяли также и дома. Выходило, что мавзолей стоял во внутреннем дворике с арками и смотрелся по-домашнему мило. Сквозь арки площадь заполнялась народом. Еще издалека мы услышали музыку. Ритмичную и заунывную. Мелодию вела флейта или еще что-то духовое. Тягучее, ноющее, дребезжащее соло скручивало и расплетало в воздухе тугие змеиные кольца. Очень напоминало человека, блуждающего в лабиринте. Каждый раз он предпринимает новую попытку, выбирает другой маршрут, но неизбежно оказывается в изначальной точке, в центре. Как будто нет выхода. Флейта повторяла одни и те же пассажи десятки раз заново, с новыми оттенками и вариациями, но упорно возвращалась к ним же. Испробовала все возможности, но твердо стояла на своем. Ей глухо вторил рокот барабанов — большого, гулкого, и малого, гремевшего быстро и звонко. Резкий ударный ритм и пилящее однообразие мелодии показались мне крайне неприятными. Это раздражало. Заставляло чувствовать себя очень неуютно. Как будто нашли какой-то особый нерв в мозгу и пропускают по нему легкий электрический ток. Какое-то мерзкое зудение в голове я испытывал. И в то же время ловил себя на том, что против собственной воли словно отключаюсь, теряю над собой контроль. Выпадаю из реальности. Даже несколько раз споткнулся, больно ушиб правую ногу.
Когда мы вышли на площадь, я увидел этот оркестр. Музыканты стояли на террасе, на втором этаже. Два барабана: большой, вроде нашего оркестрового, и поменьше, напоминавший африканский тамтам. Не флейта, но специфическая дудка, похожая на рог. Она расширялась к концу. Кроме того, присутствовал еще смычковый инструмент — длинный тонкий гриф с крупными черными колками оканчивался внизу маленькой полусферой. Смычок — маленький лук, согнутая рогулька с натянутой тесьмой. У инструмента этого было всего две, кажется, струны. Ему принадлежала самая противная, самая зудящая, царапающая мозг партия. Все музыканты — тоже в белом, молодые, безбородые. С красными минаретами на головах. Играли самозабвенно, закрыв глаза. По отсутствующим лицам можно было догадаться, в каком они все состоянии.
Мазор: правильный куб чуть выше человеческого роста, накрытый золоченой ребристой полусферой. Как орнаментом, весь покрыт разноцветной каллиграфической вязью. Весь. Тончайшая работа, изощренное искусство резчика. Лазурь и золото, золото и лазурь. Похож на драгоценную шкатулку, на ларец из сказочной сокровищницы. Мохнатый от налипшего солнечного света. Такую вещь нельзя держать на улице, подумал я. Ее хочется украсть.
— Что здесь написано? — спросила Жан-Эдерна очарованная Таня.
— Легенда о двенадцати имамах, — ответил он. — Плюс еще много чего, конечно. Суры Корана, жизнеописания самого святого.
— А что это за легенда?
— О, старинные мусульманские дела. У пророка был зять, его звали Али. Он основатель течения суннитов, которые закрепились как раз здесь, в Северной Африке. Наследники Али по мужской линии назывались имамами. Считается, что имамы передавали учение пророка в чистом виде, незамутненном. Их было двенадцать, но последний имам загадочным образом исчез. Испарился. Исторически все это очень сомнительно, но неоспоримо для суннитов. Они считают себя наследниками пророка. Легенда гласит, что этот имам тайно странствует по свету, инкогнито. Его еще называют сокрытым имамом, носителем истинной веры и священного знания. Любой уважающий себя мистик мечтал с ним повстречаться. Или хотя бы увидеть во сне. Есть и другое имя — Мунтазар. Согласно легенде, Мунтазар на белом коне поведет армию правоверных против всего мира. И, конечно, победит. Полный и окончательный джихад.
— Неужели в Коране записано, что мусульмане обязаны убивать всех немусульман? — задал я вопрос, который волновал меня достаточно давно. — Неужели есть такая заповедь? Или это все позже придумали? Как католики — Крестовые походы?
— Ничего подобного в Коране нет, — поморщившись, ответил Жан-Эдерн. — Слово «джихад» в переводе означает «усилие», «рвение». Когда, например, во время пожара люди вместе спасают свое имущество. Или защищают свою страну. Это и есть джихад. Он… ну, определенное эмоциональное состояние, что ли. Например, если вы решите придерживаться каких-нибудь религиозных правил или перестать лгать, это будет ваш личный джихад. Суфии, те вообще говорят, что единственный враг человека — это его «эго», и единственный джихад — борьба с ним. Другое дело, что Коран велит начинать джихад тогда, когда есть угроза жизни мусульман. Или исламской религии. В этом случае разрешено все. А «ислам» переводится как «мир». Просто террористы и фанатики считают, что Запад унижает мусульман. Поэтому призывают всех к священной войне. Хотя есть и другая сторона медали. Слыхали, наверное, о ваххабитах?
— Что-то где-то. — Таня пожала плечами. — У нас говорят, что чеченцы — это ваххабиты, поэтому они убивают русских.
— Немного не так… В восемнадцатом веке в Аравии жил такой Мухаммед ибн Абдуль-Ваххаб, который проповедовал среди бедуинов. Бедуины — люди темные, неграмотные и вооруженные, поэтому в философские дебри Абдуль-Ваххаб не углублялся. Просто хотел поднять народ на борьбу с турками-османами, захватившими Аравийский полуостров. Он, как Мартин Лютер, призывал, что называется, «вернуться к истокам». Началась долгая религиозная распря, но ваххабиты закрепились в тех местах. Они не то чтобы очень агрессивны, но понимают все слишком буквально. В том числе и джихад. Получился специфический мусульманский протестантизм. Хотя, с другой стороны, ваххабитский ислам стал гибким, понятным простому народу. Вместо суфийского та-риката — так называется духовный путь, там тьма сложнейших ступеней — они предложили Талибан, свой учебный курс. И нашли сторонников во всем арабском мире, ввязались в политику, как американские протестанты. Но террористы и ваххабиты — совсем не одно и то же. В Саудовской Аравии давным-давно правит ваххабитская династия, и от Абу Аб-даллы они открещиваются как могут. Им нефть продавать надо, а не бороться с Америкой…
— Так что там насчет сокрытого имама? — продолжала настаивать Таня.
— Насчет его очень интересно. В начале десятого века некто Убайдаллах провозгласил себя Мунтазаром, или ал-Махди… Да, я забыл сказать, что третье имя имама — Мах-ди. В этой ипостаси он появляется в конце времен, перед самым Страшным судом. И вот этот Убайдаллах так убедил правоверных, что в конце концов основал династию Фати-мидов! Через двести лет в ту же самую игру сыграл другой Махди — Мухаммад ибн-Тумарт. От него пошла династия Альмохадов. Обе эти династии зародились и правили в нашей стране. В мусульманском мире что ни век — то очередное махдистское восстание. Например, в девятнадцатом веке в Судане. Во главе стоял Мухаммад ибн-Ахмад. Его прямой потомок — шейх Хасан аль-Тураби, которого еще называют «черным папой». Знаменитый суданский оппортунист, отец панисламизма, мусульманский Мартин Лютер Кинг. Правда, сейчас о нем забыли, никто даже не знает, жив он или нет, А знаете, когда состоялось последнее восстание? Захват Большой мечети в Мекке 20 ноября 1979 года. Боевики Джу-мейхана аль-Отайби, около двух сотен, взяли в заложники сто тридцать паломников и потребовали признать Махди некоего Мохаммеда аль-Кахтани. Расставили автоматчиков на семи минаретах Большой мечети. Был страшный скандал. Две недели никто вообще не знал, что делать. В Саудовской Аравии тогда не было никаких спецподразделений, они попросили помощи у французов. Оперативный отряд военной жандармерии, GIGN.
— Еще бы МОССАД задействовали, — усмехнулся я.
— Это был анекдот, друзья мои! Неверный не имеет права ступать на священную землю, и французам пришлось срочно принять ислам. Но это еще не все. Добраться до террористов можно было только по подземельям, а точную карту всех подземных коммуникаций имел… угадайте кто.
Мы не угадали.
— Хаджи Абу Абдалла. Тот самый. Тогда он еще не был террористом. Занимался строительным бизнесом с большим размахом. Его компания получила подряд на реконструкцйю святых мест. Вот так великий злодей помог, как говорится, торжеству добродетели. Кстати, еще один интересный момент. Старый Абдалла, Хусам, до самой своей смерти верил в пришествие Махди. Даже создал благотворительный фонд — двенадцать миллионов долларов, — чтобы помочь ему возродить славу ислама во всем мире.
— А при чем здесь Сиди-Абдель-Кадер?
— Его тоже считали сокрытым имамом. Его подталкивали к тому, чтобы он назвал себя им открыто, но Сиди был мудрым стариком и отказался. Вообще-то традиционно принято считать, что мазор пуст.
— То есть как? — не поверил я такому ходу ортодоксальной мысли. Обычно ведь полагается думать наоборот.
— Сокрытый имам не может умереть до самого Страшного суда. Он поклялся незримо присутствовать в мире и помогать правоверным. Поэтому в могиле, как вы понимаете, ему не место.
— Кто же там лежит? — удивилась Таня.
— Сиди-Кадер, кто же еще, — рассмеялся Жан-Эдерн. — Его вообще часто путают с Хазрати Бурхом. Две легенды нало-жились друг на друга, так иногда бывает. Я когда-то писал на эту тему статью, но до истины так и не докопался.
— Кто такой Хазрати Бурх?
— Трудно сказать, кто именно. По легенде, он родился на острове Джозира Сарандева, так арабы называли Цейлон. Каким-то образом Бурх попал в Афганистан — тогда еще никакого Афганистана не было, существовала мифическая страна Уддияна, которую некоторые ученые отождествляют с Шамбалой. Все это происходило задолго до появления пророка. Бурх прожил несколько лет в долине Шахраб, потом ему во сне явился Аллах и повелел странствовать. Он побывал в наших краях, в Египте, в Индии и осел в Оби-Хингоу, это в Таджикистане. Там стоит его мазор. Но что их связывает? Рассказывают, Хазрати Бурх прожил триста лет в яме, заросшей кустарником. Однажды явился пастух и нечаянно разрушил его жилище. Бурх повелел ему построить новое, но у пастуха не было ни еды, ни помощников. «Пойди в горы, — сказал ему святой, — увидишь черного козла, назови ему мое имя, и он пойдет за тобой». Так оно и вышло. Из мяса козла пастух приготовил шурпу (у нас, конечно, кускус), которой накормил всю свою деревню. Вместе люди построили новый дом для Хазрати Бурха.
— И какая же тут связь? — спросил я.
— Смотрите сами, — ответил Жан-Эдерн. — По-моему, в этих легендах сам черт ногу сломит.
На площади около мазора разворачивалось странное действо. Бородачи выстроились в круг, словно подростки на дискотеке. Под барабанный бой ритмично притопывали ногами и напевали глухим утробным хором: «Алла! — Аллаху?! — Алла-хум! Алла! — Алла-ху! — Алла-хум!» Толпа, наблюдавшая за ними, подтягивала. Хор звучал все громче, все исступленнее. Некоторые, запрокинув головы, ударяли себя кулаками в грудь, тоже выкрикивая это заклинание: «Алла! — Алла-ху! — Алла-хум!» Я физически чувствовал кожей, какая мощная распространяется от них энергия, как она проникает внутрь и захватывает сознание. Это были живые волны транса, которые накрывая людей, как плотное покрывало. Оркестр зазвучал совсем уже безумно и неуправляемо, словно играли одержимые. Таня стояла очень бледная, мне тоже было не по себе, Машка спряталась за Жан-Эдерном. Внезапно в центр круга вывалился человек. Не вышел, а именно вывалился, он выглядел полностью невменяемым, словно черти-дьяволы его толкали в спину. Раскинул руки и начал кружиться вокруг своей оси. Полы его белого халата распахнулись, и вертящийся волчком превратился в живую сферу. Следом за ним закружились еще двое, потом еще, и через несколько минут круг распался на полтора десятка белых шаров. Вращение было совершенно магическим действом, оно влияло на толпу, на нас гораздо сильнее, чем предшествовавшее ему камлание. Люди бесновались, дергались, воздевали руки к небу, орали что-то несвязное дикими голосами. Я испугался. Обнял, прижал к себе жену. Она дрожала.
— Что это такое? — едва выговорил я, ухватившись за плечо Жан-Эдерна.
— Вертящиеся дервиши, — невозмутимо ответил он. — Вам лучше на них не смотреть. В первый раз очень действует на впечатлительных людей.
— Они же сумасшедшие! — вскрикнула Таня. — Фанатики какие-то! Если им сейчас дать в руки автоматы…
— Не стоит судить сгоряча о чужих традициях, — спокойно возразил Жан-Эдерн. — Дервиши танцуют таким образом уже пять или шесть веков. Трудно сказать, что именно они чувствуют, но это их молитва. Их медитация, если хотите.
— По-моему, люди нарочно доводят себя до исступления, — раздраженно возразил я, рассматривая носки своих ботинок. — Чтобы ничего не соображать. Откуда берутся террористы-смертники, по-вашему?
— Все мы беремся из одного и того же места… Я не готов серьезно философствовать на эту тему. Единственное могу сказать: в Европе живое религиозное чувство умерло. Христианство — мертвая религия. Европейцы давно уже не способны к чистой вере. Белая раса — старая и циничная. Арабы моложе и искреннее. И в религии, и в других формах… самовыражения.
Спустя, может быть, полчаса дервиши отвертели свое и, снопами повалившись на землю, долго приходили в себя. Затем оркестр заиграл вновь, и началась новая церемония. Двое стариков вели к мазору огромного черного козла. Толпа расступилась и радостно гудела. Козел сопротивлялся и тонко блеял, стараясь боднуть кого-нибудь из стариков. Выглядел он глубоко несчастной скотиной.
— Вот почему я вспомнил Хазрати Бурха, — шепнул Жан-Эдерн. — Кроме того, козел — символ Азраила, духа зла и ангела смерти. Зло приносят в жертву добру. Смертью попирают смерть.
Старики прислонили козла лбом к лицевой стене мазора и что-то протяжно завыли. Толпа, разумеется, тотчас подхватила и опять впала в забытье. Закончив песнь на странно оборванной ноте, старик (я не заметил какой) полоснул животное по горлу тонким изогнутым ножом. Козел издал предсмертный булькающий крик, захлебываясь кровью. В расписную стену ударила алая струя. В эту самую секунду сверкнула фотовспышка. Потом еще и еще раз. Толпа дружно развернулась. Это был наш спутник-немец, показавшийся мне сексуальным маньяком. Забыв обо всем на свете, он снимал, с трудом удерживая в руках камеру, отягощенную великанским телеобъективом. Вполне профессиональную. Люди сразу окружили его плотным кольцом, подступали все ближе. Мне издалека не было видно подробностей, но настроение угадывалось безошибочно. Немца собирались растерзать. Они были в таком состоянии, что потом и не вспомнили бы, что случилось.
— Черт возьми! — Я инстинктивно рванулся на выручку белому человеку, но Жан-Эдерн очень крепко держал меня за локоть.
— Куда вы, сумасшедший?
— Они же его сейчас убьют!
— Не убьют, надеюсь. Здесь нельзя снимать. Категорически запрещено. Его должны были предупредить.
— Ну сделайте же что-нибудь! — вскрикнула Таня. — Сделайте что-нибудь!
Из рук немца выхватили камеру и разбили ее вдребезги. Растоптали ногами. Он стоял красный, прижавшись к стене, орал, выкатив глаза:
— Lasst mich in Ruhe, verdammte Schweine! Ich bin ein deutscher Burger! Ich arbeite fur «Spiegel»! Hilfe, Hilfe!
Надо же, журналист, подумал я. Приличный человек. С него уже содрали рубашку. В чьих-то руках я увидел палку. По рыжей бороде стекала кровь. Еще немного — и все. Мне к нему не пробиться — слишком далеко, и плотно стоит толпа, плечом к плечу. Сейчас, на моих глазах, фанатики убьют человека. Просто так, ни за что. И после этого не надо мне рассказывать, что «ислам» означает «мир»…
Внезапно, отшатнувшись, над самым своим ухом я услышал выстрелы. Один, второй, третий: бах! бах! бабах! Жан-Эдерн шел в толпу, в руке у него дымился пистолет. Стрелял он в воздух, конечно. Фанатики замерли. Толпа окаменела. С пистолетом директор картинной галереи, историк и гурман смотрелся почему-то очень естественно. Он громко кричал им по-арабски. Перед ним расступались, давая дорогу. Пробившись к несчастному немцу и схватив его за локоть, Жан-Эдерн скрылся в переулке. Опрометью мы бросились домой, дочь я тащил под мышкой, как куль. Боялся, что фанатики побегут следом, но никто не тронулся с места. Откровенной угрозы эти подонки все-таки боялись.
Когда мы, перепуганные насмерть, попали на виллу, бледный, перевязанный и оклеенный пластырем немец сосал черный «Бакарди» из горлышка. Отфыркиваясь и матерясь. Жан-Эдерн выглядел молодцом. Спокойный, сосредоточенный, с трубочкой. Как будто ничего не случилось.
— Hallo, Gunther! — Я был счастлив видеть его живым и почти невредимым. — How are you?
Цитировать ответ в оригинале не стану. Смысл в том, что проклятые свиньи едва не убили его, гражданина Германии, и уничтожили казенную камеру «Rollei» стоимостью пять тысяч евро (немцы говорят «ойро»). Из-за проклятых свиней сорвана важная командировка, и должность редакционного фотографа наверняка займет кто-нибудь другой. Пускай его, другого, пошлют снимать проклятых свиней куда-нибудь в Африку, где проклятые свиньи этого… (как перевести расхожее словечко международного сленга «асхол», или «аршлох» по-немецки? По-русски как-то не звучит: «дырка в заднице»…) съедят живьем. А он, Gunther, лучше отправится мести улицы, чем фотографировать жертвоприношения в чертовой дыре, где сплошные террористы и verdammter Scheisse. Я с ним согласился полностью, выслушав переводна английский этих двух слов. Жан-Эдерн нервно бродил по комнате и ревел:
— Вы должны хоть немножко думать, куда вы лезете, что вы делаете! Этому ритуалу уже лет пятьсот, не меньше. До самого последнего времени неверным было ка-те-го-ри-че-ски запрещено присутствовать на нем! В 1811 году французскому этнографу Лавашу просто отрубили голову. Но если сейчас иностранцам позволено наблюдать, то снимать нельзя, понимаете: нельзя!
— Подумаешь, несколько кадров… — пьяно бормотал Гюнтер. — Кому от этого стало хуже?
— Вы не у себя дома, — настаивал Жан-Эдерн. — Вы в гостях. Вы обязаны уважать обычаи хозяев. Хотя бы из обыкновенного приличия.
— А почему вы их защищаете? — возмутился я. — Почему вы на их стороне?
— Потому что на их стороне больше нет никого, кроме их самих, — отрезал Жан-Эдерн.
Наскоро пообедав, мы продолжили дискуссию. Мне очень хотелось выяснить взгляды этого странного человека. Пострадавший Гюнтер участвовать не смог, он крепко спал, заявив напоследок: «С меня хватит! ich hab'die Schnauzer voll!» Впрочем, его точка зрения была приблизительно ясна и без перевода.
— Мусульманский мир не слабее Запада, — убежденно доказывал Жан-Эдерн. — В нем есть громадный потенциал. В свое время мусульмане уже овладели половиной мира — вспомните хотя бы Тимура или Османскую империю. Потом Запад взял верх благодаря техническому прогрессу. Очень долго мусульманские страны были колониями. Их просто задавили. А потом начался нефтяной бум, и все резко изменилось. Появились силы, способные поспорить с Европой и Америкой. Но весь мир давно уже был поделен. Свободных мест нет. Это та же самая ситуация, как с Германией в начале века. Страна созрела и объединилась слишком поздно, ей уже не нашлось места возле общего пирога. Немцы решили взять это место силой. Сперва один раз, потом второй. Арабы хотят того же самого. Пока еще мирным путем. Но Запад, естественно, категорически против. Запад не хочет понять, что с арабами нужно считаться, что они — сила. У них пока нет развитой экономики и политического единства. Зато есть огромные деньги и нефть. И еще кое-что, чего нет на Западе.
— Что именно? — спросил я.
Жан-Эдерн помолчал, выразительно глядя на нас.
— Бабушка много рассказывала о вашей русской революции. Я и сам кое-что читал. В это трудно поверить. Орды голодных, полураздетых, вооруженных чем попало рабочих и крестьян победили кадровые войска. Вашу русскую Белую армию и союзников. Весь мир был против вас, но вы все равно победили. Невероятно! Если честно, я горжусь, что я немного русский. Французы на такое уже не способны, на Бастилии их силы исчерпались. Или взять ваших чеченцев. Не обижайтесь, конечно, я знаю, для русских это больная тема… Как может такая маленькая страна, в которой живет меньше людей, чем в Париже, уже десять лет противостоять огромной России? Регулярной армии с ее самолетами и танками? Вы два раза пытались завоевать Чечню, и оба раза у вас ничего не вышло. Там погибло пятнадцать или двадцать тысяч ваших солдат, и вы все равно не добились результата. Почему?..
Меня задело за живое. Я читаю англоязычную прессу, знаю, что на Западе чеченские события, так или иначе, считают агрессией. Вторым Афганистаном. Си-эн-эн и Евро-ньюс очень любят показывать разрушенный Грозный, трупы, раненых в больницах, мирных жителей, которые проклинают российских солдат… А для чеченских боевиков и террористов придуман изумительный термин — rebels, повстанцы. Очень хорошо помню, как «Файнэншл тайме» ставила на одну доску агрессию Ирака в Кувейте, талибов и чеченскую войну. Кое-какие мысли по этому поводу у меня были. Уже давно.
— Эта «маленькая страна», как вы сказали, ни черта толком сама сделать не в состоянии, — начал я. — Просто чеченская война всем нужна. Западу — чтобы катить бочку на Россию. Арабам — чтобы превратить Кавказ в исламское государство фанатиков, вроде Афганистана. И России тоже нужна… Во-первых, через Чечню проходит нефтяной коридор из Баку в Ростов. А запасы нефти в Каспийском море сравнимы с саудовскими. Во-вторых, надо припугнуть национальные автономии, чтобы не дергались. В-третьих, на восстановление Чечни выделяются огромные деньги, которые загребает себе мафия. А самим чеченцам, кроме войны, я думаю, вообще ничего не надо больше. Там ведь все мужчины почти поголовно воюют. Что они будут делать в мирное время? Коз пасти? Кроме того, их под это дело отлично финансируют арабы. А еще чеченская война нужна массмедиа. Всей этой своре — журналистам, телевизионщикам, интернетчикам, всяким экспертам и комментаторам. Чем больше убивают, тем лучше: эфирное время дорожает. И рекламодателям война нужна: люди «Новости» чаще смотрят. И политикам: любой засранный депутат может выползти на телевидение и сказать пару умных фраз. И тем, кто смотрит телевизор, читает газеты: отвлекаются от своих проблем, переживают, волнуются. И солдаты-контрактники не в обиде: они хорошие деньги получают за риск. А тех, кому действительно плохо, вообще не спрашивают…
— А я считаю, ты чушь городишь! — вдруг резко возразила мне Таня, хлопнув ладошкой по колену. — Надо им дать независимость, и дело с концом! Почему Украина получила независимость, Казахстан получил, прибалты получили, а этим нельзя? Что от России, убудет? Люди хотят иметь свою страну — пускай имеют. Они, между прочим, десять лет за это воюют, умирают за это, а хохлам или там казахам независимость на блюдечке с голубой каемкой дали — бери не хочу. Где справедливость? Может, если у них свое государство будет, они дома перестанут взрывать, брать заложников перестанут…
— Ага, сейчас! — Политическая измена жены меня возмутила. — Так они и перестали! Им независимость дай, они сразу Дагестан захотят оттяпать, а потом прибрать к рукам весь Кавказ. Они бандиты и фанатики, их бомбами надо молотить, пока не угомонятся!
— Не ссорьтесь, не ссорьтесь, друзья мои, — миролюбиво сказал Жан-Эдерн, обняв нас обоих за плечи. Я еще удивился силе его рук. — На месте вашего президента я бы все-таки дал чеченцам независимость. Потому что другого выхода, по-моему, нет. Но с двумя условиями. Во-первых, пусть выберут демократическое правительство, с которым можно вести переговоры. Чтобы в этом правительстве не было людей, обвиняемых по уголовным статьям закона: захват заложников, торговля людьми, убийство пленных и мирных жителей, терроризм, наркотики… Чтобы у них руки были чистыми. А во-вторых, те, кто виновен в этих преступлениях, должны быть выданы России. Мне кажется, это объективно.
— А мне кажется, нереально! — с большим апломбом отрезал я. — Потому что чеченцы в ответ на это сразу составят список русских, которых они обвиняют по законам шариата. И первым в этом списке будет стоять, естественно, президент…
— Я хотел сказать о другом. — Жан-Эдерн, вынув из кармана набор изящных серебристых инструментов, принялся очищать трубку над расписной фарфоровой пепельничкой. Дорогой табак, даже сгоревший, пах благородно. — Нужно понять психологию этих людей. Мы можем называть их террористами, фанатиками, но дальше примитивных ярлыков дело не двинется. У них есть вера. Почему они до сих пор не сложили оружие? Из-за своей веры. Ваши большевики верили в свободу, равенство и братство, как Марат и Робеспьер. Это была их новая религия вместо старой. Суть не изменилась, поменялись только боги. Но боги периодически умирают, вы знаете. На их место приходят другие. Возьмите Гитлера. Как могли немцы, эта практичная, трезвомыслящая нация, поверить маленькому сумасшедшему Адольфу? Как? Он дал нации новую религию. А человек счастлив только тогда, когда во что-то верит. Хоть в Бога, хоть в дьявола, но верит! Без веры, без вдохновения, он становится бессильной пустышкой. В доллары или в компьютеры, как вы сами понимаете, верить нельзя.
— Погодите, погодите, — прервала его Таня. — Странные вы приводите примеры. Ленин, Сталин и Гитлер уничтожили миллионы людей за свои безумные идеи. Придумали ГУЛАГ и газовые камеры. Вы что, все это одобряете? Вы считаете, что все это правильно?
— Христиане тоже сжигали еретиков, но это не означает, что не прав Христос. Я только привожу примеры. Мусульмане сохранили веру, вот что я хочу сказать. И патриотизм. И семейные ценности. И определенную нравственность, которую мы, впрочем, не можем принять. Их цивилизация держится на таких вещах, которые западному человеку трудно постигнуть. Вам показалось сегодня, например, что дервиши — фанатики. В каком-то смысле так оно и есть. Но тем не менее они достигают очень высоких духовных состояний. Парадокс.
— А те, кто захватывает самолеты? Взрывает людей на дискотеках, в автобусах? Террористы-самоубийцы? Да взять тех же чеченских боевиков — они тоже испытывают высокие духовные состояния? — раздраженно встрял я.
— Две стороны одной медали. — Жан-Эдерн сосредоточенно набивал свою трубку. Хотел казаться спокойным, взвешенным и мудрым. — Два полюса одного и того же явления. Я никогда не одобрял насилия. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Но террористы возникли не на пустом месте. Арабский мир требует, чтобы с ним считались. Требует, чтобы Америка и Европа немного потеснились, уступили место. Ведь это все равно неизбежно придется сделать. Но уступать никто не желает. Соединенным Штатам не нужен диалог с арабами, если речь идет о том, чтобы поделиться влиянием и прибылями. В ответ начинается терроризм. Вина Запада в этом не меньше, чем мусульман. Когда Советский Союз напал на Афганистан, ЦРУ давало миллионы долларов муджахидам, по пятьсот миллионов в год! Они присылали туда своих инструкторов, оружие, «стингеры». Создавали тренировочные лагеря. Операция «Циклон», может быть, вы слышали. Вот это самое «исламское сопротивление», с которым мы сейчас имеем дело, создано почти полностью на американские деньги. На деньги налогоплательщиков, которые поддерживали своего президента и свое правительство. Дрессировали собаку, чтобы стравить ее с Советским Союзом, вот так. Пока бешеный исламский пес кусает врагов демократии, все хлопают в ладоши… Потом война кончилась, но остались тысячи профессиональных, обученных солдат, которые не умели ничего другого, только убивать. И не просто солдат, а убежденных, преданных вере муджахидов, воинов Аллаха. Куда им было деваться? Но Америка, естественно, не признает своей вины. Она молчит насчет этих вещей.
— Не знаю. — Нервно измяв в пальцах сигарету, я закурил. — Мне кажется, ваши арабы просто шантажируют цивилизованный мир. Хотят его запугать. И никакой диалог с ними не получится. Они сами не хотят диалога. Ведь у ваших арабов ничего нет, кроме их Аллаха, нефтедолларов и оружия. Они почти ничего не производят, кроме сувениров и наркотиков. Разве не так? А эта ненормальная религия? Шариат? Надеть на женщин паранджу, отрубать руку вору… Что, талибы построили в Афганистане какую-то цивилизацию? Мне кажется, это еще хуже, чем коммунизм. Гораздо хуже. Я, может быть, и не в восторге от того, что называю цивилизацией… Есть свои минусы… Нам много чего не хватает, но знаете… Есть простые демократические ценности, на которых все зиждется. Свобода слова, свобода собраний, свобода совести, конституция, наконец. Демократические выборы. Право человека жить согласно своим убеждениям, если это не идет во вред другим… Не согласны?
— Согласен. Хотя для западных людей ислам — это то, что показывают по ти-ви. Вы сами хоть раз открывали Коран? Конечно, нет. Везде есть свои плюсы и минусы. То, что творится у нас за стеной, в Шармуде, так же отвратительно, как режим талибов. Западная цивилизация — достаточно гнусная штука. Цивилизация кока-колы, Windows и publicite. Даже из одиннадцатого сентября они сделали шоу, в конце концов. Во Франции все книжные магазины завалены шикарными фотоальбомами: развалины Центра международной торговли, бегущие люди с перекошенными лицами, трупы… Эти альбомы идут нарасхват! Самые популярные настенные календари в прошлом сезоне — башни-близнецы на фоне Манхэттена. Разве не гнусность? Абу Абдалла был никому не известным типом — они ему сделали такую телерекламу, что хоть сейчас баллотируйся в президенты! Переплюнул принцессу Диану… При этом никто ни во что не верит, все хотят только развлекаться. Я не могу жить во Франции, ненавижу французов. Думают одно, говорят другое, делают третье, объясняют свои поступки совершенно иначе, а о том, что происходит в душе на самом деле, не имеют ни малейшего представления. Никакой связи с собственным сердцем, никакой искренности. Безвольные, вялые, слабые людишки. Им ничего не хочется на самом деле. Они смертельно устали от самих себя. Не знают, что им делать со своими бессмысленными жизнями. На лицах — сплошная добропорядочность и скука. В прошлом году мне пришлось на пару месяцев съездить в Лилль. Это было ужасно, поверьте.
— Что же вам так нравится в арабах? — зло удивилась Таня. — Фанатизм? Кровожадность? Слепая, бездумная вера?
— Не фанатизм, а жертвенность. Не кровожадность, а отвага. Не слепая вера, а преданность идеалам. Вы чувствуете разницу, мадам?
— Вы играете словами, и только.
— Тогда скажите… — Жан-Эдерн пристально взглянул на нее. Синие глаза — две быстрые ледяные искры. — Есть ли хоть что-нибудь на свете, за что вы могли бы не задумываясь отдать свою жизнь? Исключая вашу девочку, конечно. Что-то по-настоящему ценное, подлинное, без чего все остальное теряет смысл?
Мы замолчали. Парадоксальные монологи Жан-Эдерна не казались мне совсем уж бессмысленными. В известной степени он прав, думал я, глядя в окно, за которым плескалось зеленое и безмятежное Средиземное море. Мой дед был офицером НКВД. Невысокого ранга, всего лишь старший лейтенант. В 37-м его арестовали. Из тюрьмы дед сумел передать бабушке одно-единственное письмо. Оно до сих пор хранится в нашей семье. «Клянусь до последней капли крови бороться за великое дело Ленина — Сталина!» — этими словами заканчивается письмо. Деда расстреляли. Мама рассказывала, он был совсем не глупый человек. Образованный, начитанный, очень любил «На дне» Горького. Окончил Высшую школу НКВД, знал польский язык. И верил в Сталина, верил Сталину, считал, что его самого взяли по ошибке, по недоразумению. Ведь краковский адвокат — ну что плохого, в конце концов, если у человека отец служил адвокатом в Кракове?! Дед Таниной двоюродной сестры, убежденный коммунист до самой своей смерти, десять лет оттрубил в Мордовии. Что у них было на душе? Очень трудно представить.
— Боюсь, что нет, — тихо ответила Таня Жан-Эдерну. — Мне это… не нужно. Моя семья, ребенок, а все остальное… Все остальное по большому счету меня не касается.
— А у них — есть! То, что выше семьи, детей и всего остального. Западному человеку это очень трудно понять. Мне, по правде говоря, тоже нелегко. Но мы должны пытаться. Если мы их не поймем, не поймем, что ими движет, может пролиться очень много крови. Насилием не остановить насилие. Вот, полюбуйтесь! — Он протянул мне местную газету. — Свежие новости.
На первой полосе я увидел огромную фотографию: два изуродованных, обезображенных женских трупа. Обе блондинки. Текст был по-арабски.
— Переведите, пожалуйста.
— Это две русские проститутки, Жанна Климофф и Марина Богатовски, — покачал головой Жан-Эдерн. — Приехали совсем недавно с поддельными визами. Их тела нашли вчера на пустыре, в предместье Шивар. Вину за убийство взял на себя Всемирный исламский фронт. Подбросили свою листовку. Призывают мусульман убивать «дочерей разврата, позорящих Святую землю имама Али».
— О Боже, это же наши девочки! Мы с ними вместе сюда летели! — вскрикнула Таня. — Какие звери, Боже мой, какие же они звери! И вы еще их оправдываете. Как вы можете?!
Она заплакала.
— А вы за проституцию? — жестко спросил Жан-Эдерн, убирая газету с глаз долой. — Представьте, что ваша Marie работает на панели. Ваша единственная дочь едет по фальшивой визе в чужую страну, чтобы продавать свое тело местным подонкам. Вы бы ее похвалили?
Я промолчал.
— Но зачем же убивать? Убивать зачем? — всхлипнула Таня.
— Библия называет разврат и убийство одинаково смертными грехами. Я хочу сказать, что у палки всегда два конца. Два, а не один. Их оба нужно иметь в виду. В городе, где похоронен великий исламский святой, около двадцати борделей! Из них четыре — для голубых. Полтора десятка казино. На каждом углу можно купить наркотики. Европейцы превратили город в притон. Как к этому должно относиться местное население? Люди, у которых еще сохранились моральные ценности? Религиозные, верующие люди? Которые живут на своей земле? Скажите, как?
— Вы говорите о палке, но вы ее перегибаете, — убежденно ответил я. — С проститутками должна разбираться полиция. А то, что город стал притоном, в этом виноваты не только проклятые европейцы. Ваш приятель, Мохаммед Курбан, — первый в стране мафиозо. Простите, но мне его совсем не жаль. Мне жаль этих девчонок, которые всего-то-навсего хотели заработать несколько сотен баксов. Курбан превратил курортную зону в Шармуду. Это был его бизнес. Вот уж кто действительно заслуживал смерти по законам шариата! А убили его, Опору Веры, мне так кажется, свои же бандиты. Не Всемирный исламский фронт. Вы просто подменяете понятия. Играете словами. Пытаетесь убедить нас, что фанатики и террористы — борцы за какую-то там идею, за справедливость. На самом деле, я уверен на сто процентов, все это — политические игры. Кто-то кого-то с кем-то стравливает и стрижет потихоньку купоны. А придурков, готовых стать камикадзе, всегда хватает. Приходи в любую психбольницу и вербуй на здоровье. Но будь по-вашему, пускай действительно борцы, да. Ну и что? Все эти «моральные ценности», о которых вы тут толкуете, — пустой звук. Побрякушка. Порядочный человек начинает с себя. Пусть эти ребята идут в монастырь, не знаю, в пещеру, молятся там своему Аллаху, постятся… Пусть познают истину сколько влезет, раз они у вас такие верующие, такие моральные и духовные! Но это, как известно, и трудно и скучно. Гораздо веселее воевать. Палить из автомата. И думать при этом, что ты чистый и невинный, поскольку убиваешь нечестивых. Зарезать двух беззащитных женщин — для этого не то что Коран читать не надо, вообще можно не уметь читать!.. Не обязательно.
— Знаете, — тихо, после долгой паузы, ответил Жан-Эдерн, — в пятнадцать лет я остался сиротой. Без гроша в кармане. В восемнадцать пошел в армию. В двадцать пять вступил в Иностранный легион. И провел там девятнадцать с половиной лет. Я был профессиональным наемником, господа. И очень много повидал, еще больше испытал на своей шкуре. Мне приходилось убивать, не раз и не два. Все мои боевые друзья давно лежат в земле. Я приехал в Хаммарат последней падалью. И единственный человек, которому я оказался нужен, кроме бабушки, был Мохаммед Курбан. Я никогда не забуду то, что он для меня сделал. А насчет того, что я вам сейчас наплел… не думайте об этом слишком серьезно. Чтобы понимать такие вещи, нужно прожить мою жизнь… не вашу. Кстати, завтра его похороны. Вы тоже можете прийти.
Таня не пускала меня и была во всем права. Мне нечего было делать на этих похоронах, но я пошел. Страшно поскандалил с женой и все-таки пошел. Зачем? Может, простое любопытство, не знаю. И еще: не хотел, чтобы Жан-Эдерн посчитал меня трусом. Трусливым туристом. Хотя им я, в сущности, и был, кем же еще.
Скрепя сердце одолжил Гюнтеру свою камеру — бедняга должен был работать. Цифровой Canon IXUS V3 (3,2 мегапикселя, 16 мегабайт флеш-карта, 550 долларов — купил перед самой поездкой, давно мечтал). Ничем не хуже трагически погибшего «Ролляй». Немец слезно благодарил, качал головой, удивлялся как дитя: круто. Он оказался неплохим малым, я напрасно о нем так гадко вначале думал. По дороге, заклеенный пластырем, еще в себя не пришедший, принялся жаловаться на жизнь, тряс рыжей гривой, обращаясь ко мне почему-то:
— Понимаешь, фройнд, я ведь сам с Востока, из Ляйп-цига. Полжизни прожил при Хонеккере. Думаешь, было так плохо? В чем-то плохо, конечно, но все имели работу. И получал солидно. Но мы на Запад смотрели, только о Западе и думали. Когда разрушили стену, я лично плакал от радости, и многие плакали. Верили: теперь все будет по-новому. Свобода, демократия… А вышло как? Вот смотри: работы на Востоке почти нет. Но те, кто работает, все равно получает меньше, чем на Западе. На двадцать процентов меньше! Кто может, едет сейчас в Гамбург, в Берлин, в Баварию… Многие приезжают к семье только на уик-энд. А кто нас ждал на Западе? Они там себя называют «весси», а нас — «осей». «Восточные», второй сорт. Знаешь, сколько я искал нормальную работу? Четыре года! Сейчас, конечно, жаловаться не на что, но все равно тяжело. Налоги, страховки, квартплата, телефон, еще рассрочки, если что-то купил в кредит… Остается треть. Работать вообще, если разобраться, невыгодно. У меня друзья годами сидят на пособии, а получают ненамного меньше, чем я. И никто не верит, что будет лучше. Многие уезжают — в Данию, в Швецию, в Италию, во Францию… Шредер и Йошка после выборов всех обманут, вот увидишь. Что они могут сделать, если у нас внешний долг — какая-то цифра, забыл, а к ней — двенадцать нулей?! А русские эмигранты едут и едут, думают, в Германии — рай. Знаешь, что у нас пишут на стенах тинейджеры?
— Наверное, «хайль Гитлер»? — предположил я.
— Ничего подобного! — осклабился Гюнтер. — Они пишут: «Nie wieder Deutschland» — «No more Germany», вот что…
— А как ты сюда попал? — Представитель цивилизованного мира выглядел из рук вон, я ему сочувствовал.
— Послали снять пару красивых картинок для курортного раздела…
— Думаете, снимки, из-за которых вас чуть не убили, могут привлечь туристов в нашу страну? — мрачно поинтересовался Жан-Эдерн, и Гюнтер сразу втянул голову в плечи, примолк.
Жан-Эдерн шагал рядом, серьезный и сосредоточенный. Европейский строгий костюм черного цвета, туфли по-военному начищены, выправка. Оружие взял с собой — кожаная кобура под мышкой. Шел молча, в глазах — тревога. Похороны должны были состояться на старом кладбище, у моря. Этому кладбищу, говорят, около двух тысяч лет. Останки римских легионеров зарыты в каменистую неподатливую почву. Кладбище: поросшая редкой жухлой травой долина с белыми вертикальными плитами памятников. Жан-Эдерн сказал: священное место. Считается, что с этого кладбища душа мусульманина отправляется прямо в рай. Долина сбегает к самой воде, на берегу сохнут перевернутые рыбачьи лодки. По одной из них лупил молотком загорелый рыбак в оранжевом грязном жилете. Вколачивал длинный гвоздь. Чуть повыше, на пригорке, стоял раньше храм Юпитера. Теперь на его фундаменте — мечеть Сиди-Окба. Непритязательное, крашенное известкой здание без росписи и мозаик, куб под приплюснутым куполом и низенький толстый минарет. Мечеть построили специально для Сиди-Аб-дель-Кадера, он там молился и проповедовал. Немусульманам входить туда запрещено. Еще издали мы увидели, что мечеть плотно окружена толпой. Дервиши в своих белых халатах — сотни, может быть, полторы. Не меньше — берберов в их странных головных уборах. Голова и торс крепко замотаны в ткань, сверху — полотняная грубая накидка. Под таким нарядом можно спрятать, наверное, гранатомет. Кроме берберов и дервишей — черт знает сколько зевак и незевак. Отдельно, за полицейским кордоном, — люди в европейской одежде. По сравнению с толпой их горстка. Я заметил черный «ягуар» Юсуфа Курбана. Много полиции: парни в зеленом и в черном. Черные, насколько я понял, — спецназ. Спецназовцев меньше. Стоят в тенечке, у стены, курят, переминаются с ноги на ногу. Короткие блестящие автоматы на плече, с откидным прикладом. У обычной, зеленой полиции — пистолеты и дубинки.
На помосте, одетый в белое, воздевал руки к небу длинный худой бородач. Протяжным, хорошо поставленным голосом выкликал над толпой слова молитвы, как шаман — свое камлание. Все подняли ладони перед лицом, словно читали невидимую книгу, потом опустились на колени, лбами прижались к земле. Ряды задранных к небу разноцветных задниц. Кто что демонстрирует небесам, еще подумал я. Окончив молитву, бородач начал говорить. Вначале спокойно, гладко, с мелодичным подвыванием, растягивая слова. Но затем все более отрывисто, лающим тоном, впадая понемногу в истерику. По ти-ви у нас иногда показывали фрагменты речей Гитлера — очень похоже. Особенно истерические взвизгивания. Фюрер отлично умел заводить толпу. Геббельс — тот, наверное, вообще был ас. Этот выглядел не хуже. Подпрыгивал на месте, тряс сжатыми кулачками, хрипло выплевывал гортанные фразы. Как взбесившаяся голенастая птица. Борода растрепалась, тюрбан сбился набок. Исступленно орал изо всех сил. Толпа гудела, топала, вторила ему. Гюнтер, счастливый как ребенок, снимал. Под такими кадрами подпись может стоять любая. Полиция была на взводе.
— Кто это такой? — спросил я Жан-Эдерна, стоявшего с напряженным, нехорошим лицом.
— Мулла Омар, — ответил он сквозь зубы. — Какой дьявол принес сюда этого салопарда?..
— Мулла Омар?
— Да. Его недавно выпустили из каирской тюрьмы. За отсутствием прямых улик.
— В чем его обвиняли?
— В подстрекательстве к терактам. Духовный отец фанатиков.
— Вы же не считаете их фанатиками, — съязвил я.
— Не время спорить, — поморщился Жан-Эдерн. — Я не знал, что Омар будет здесь. Этот тип всегда появляется внезапно. Нужно было принять меры…
— Меры? — удивился я странной оговорке. Жан-Эдерн промолчал, внимательно слушая вопли муллы.
— А что он говорит? — вдруг спросил Гюнтер.
— Обвиняет правительство в потворстве «обезьянам и свиньям». Говорит, что демократия есть самый большой грех в глазах Аллаха и способ угнетения народа. Вот сейчас он озвучил свой коронный афоризм: «Ислам есть мир. Следовательно, не может быть мира с обезьянами и свиньями до тех пор, пока они не обратятся в ислам».
— Оригинальная логика, — заметил я.
— Нацист, — буркнул Гюнтер.
— Он говорит: «Нас можно пичкать алкоголем, наркотиками, тем, что называется модным, но истинный мусульманин изблюет эту отраву. Нас ничто не остановит. Те, кто познал удовольствия, лишились духовных сил терпеть лишения в ходе долгой мировой войны. Нечестивцы не смогут вынести опасную жизнь под дамокловым мечом! Соединенные Штаты поддерживают сионистов, оккупируют наши земли, вынуждают наши народы эмигрировать. Мы, мусульмане, платим огромную дань, чтобы противостоять осуждению. Евреи диктуют американские решения. Мусульмане должны понять, что американцы могут изменить политику, если по ним будут нанесены прямые удары. В ответ на американскую ядерную силу у нас есть наша вера. Соединенные Штаты не могут жить в безопасности, пренебрегая мусульманскими народами. Нацию нельзя победить до тех пор, пока ее молодые люди готовы принести себя в жертву. Пусть наши враги живут в страхе и стыде, хотя и обладают оружием массового поражения!»
— Чушь какая-то. — Я пожал плечами. — Какой-то несвязный бред. Что он несет, этот сумасшедший?
— Он не сумасшедший. — Жан-Эдерн продолжал внимательно слушать. Перекатывал, сжимая челюсти, каменные желваки. — Зато прекрасный оратор. Поэтому его не смогли посадить за подстрекательство к террору. — Он помолчал. — Об Омаре вообще стоило бы написать книгу. Некоторые считают его святым.
— Почему? — удивился возмущенный Гюнтер, не отрываясь от камеры.
— Мулави Мохаммед Омар был простым пуштунским боевиком, муджахидом. Воевал в Афганистане против Советов вместе с Абу Абдаллой, вел себя как герой. Несколько раз был тяжело ранен. В одном бою осколок русского снаряда попал ему в глаз. Было ясно, что глаз не спасти, но могло начаться заражение крови. Тогда Омар своей рукой вырвал этот глаз, а руку вытер о стену мечети в Сингесаре. Маленькая деревушка в горах, которую они обороняли. Этот кровавый след там до сих пор охраняют как реликвию, туда паломники ездят. Потом война кончилась, муджахиды расползлись кто куда. Многие остались не у дел, кое-кто занялся разбоем. Толку от победы над Советами не было: снова борьба за власть, хаос, бандиты — как у вас в Чечне сейчас. Омар решил сложить оружие и удалился в Сингесар — изучать Коран подальше от всеобщего бардака. Это было в 1994 году. Однажды, когда он молился, пришли соседи и рассказали, что местный полевой командир со своими подручными похитили, обрили и изнасиловали двух девушек. Омар разыскал в ближайших деревнях с десяток своих старых друзей, и они вместе, вооруженные старенькими «Калашниковыми», расправились с бандитами, а полевого командира повесили на стволе трофейного русского танка. По крайней мере так утверждает легенда. А потом Омар стал кем-то вроде арабского Робин Гуда. Наводили порядок, ловили и вешали всякую шваль, раздавали имущество бедным. За этими занятиями Омара посетило видение. Ему явился пророк Мохаммад и повелел установить в Афганистане шариат. В его отряд стали стекаться бывшие муджахиды, сотнями. У них, хвала Аллаху, появился новый враг. Омар встал во главе этого войска и повел их, как Моисей — своих евреев. Он принял имя Амир уль-Моминин, вождь правоверных. Так в свое время называли самого Мохаммада. Через время к ним присоединились талибы, студенты медресе. В русском языке есть такое слово… м-мм… а, вспомнил: boursaki! Они любили драться и хулиганить. В 1995-м эти boursaki захватили город Дурахи под Кандагаром, потом им сдался Спин-Болдак, а затем, в 1996-м, — Кабул. Во главе шел мулла Омар, и города сдавались талибам без боя. После победы Омар решил, что в Афганистане ему делать уже нечего, и теперь разъезжает по всему миру, дразнит ЦРУ.
— Но почему этот аршлох здесь, на похоронах Мохамме-да Курбана? — подал голос Гюнтер.
— Потому что Юсуф уверен, что лучше знает, как надо, — ответил Жан-Эдерн с раздражением, и в этот момент Юсуф Курбан сам вышел к толпе.
Он был одет как правоверный мусульманин, в длиннополой одежде и в тюрбане. Трудно, невозможно было поверить, что этот человек всего несколько дней назад прилетел из Москвы. Что его жена — русская балерина. Преображение было полным. Нет, не так, как в кино. Как во сне. Юсуф заговорил без истерики, взвешенно и ровно. Так читает лекцию университетский профессор. Толпе, видимо, был необходим контраст. Юсуфа слушали внимательно и тихо.
— Дурак, — пробормотал вполголоса Жан-Эдерн. — Какой же он дурак…
— В чем дело? — Гюнтер встрепенулся.
— Он хочет натравить фанатиков на правительство. Говорит, что рука мусульманина не могла подняться на Опору Веры. Что его отец много грешил перед лицом Аллаха, но полностью искупил свою вину, покаялся и очистился. Что убить раскаявшегося грешника — преступление вдвойне. Обвиняет во всем семью Азиз.
— При чем тут семья Азиз? — спросил я, наблюдая за мимикой и жестами супруга утонченной Ариадны Ильиничны. Полагаю, он оставил ее в столице. Подальше от лица Аллаха.
— Вы так и не поняли до конца местную специфику. Здесь нет политики, политических партий, всей этой цивилизованной ерунды. За власть борются три клана: Азиз, Курбан и Малик. Семья Азиз захватила трон, оттеснив семью Малик, исламистов. Семья Курбан слишком долго собиралась с силами, чтобы встрять в борьбу сразу. Теперь она хочет объединиться с Маликами и свергнуть Азизов.
— Средневековье, — бросил, оторвавшись от камеры, Гюнтер. — Проклятое средневековье.
Юсуфа сменил человек в костюме. Ему даже рта не дали открыть! Бедняга загребал руками в воздухе, как тонущий пловец, пытаясь прокричать хоть слово, но дружный рев накрыл его штормовой волной. Человек в костюме попятился и исчез. На его место выскочил вертлявый молодчик и, что-то крича, принялся швырять горстями листовки. Выхватывал он их, как в фильме о первых большевиках, прямо из-за пазухи. Листовки сразу побежали по рукам — новый всплеск рева и истошных криков. Четверо спецназовцев в черном схватили пропагандиста, выкручивая ему тонкие руки. Тот визжал и плевался. Гюнтер, впившись в камеру, снимал. Молодчика-пропагандиста поволокли вниз с помоста, но толпа, ожив, ринулась вслед за ним. Поползла многоногим и многоруким чудовищем. Я наблюдал эту сцену издалека, подробности были мне не видны. Видел только суматоху и толкотню вокруг арестованного, слышал отчаянные крики. Полиция, зеленая и черная, пыталась оттеснить народ, но ее смяли. Внезапно шум и давка сменились жуткой мертвой тишиной. Наэлектризованная толпа расступилась и попятилась. Обнажился круглый пятачок истоптанной бурой земли. На нем, скорчившись в неестественной позе, лежал мертвый агитатор. Несколько секунд не происходило буквально ничего. Мир застыл, замер. Люди стояли неподвижно, окружив неподвижного мертвеца. Куда-то исчез ветер, шевеливший чахлую пальму у стены мечети. Море распласталось штилем. И рыбак, чинивший свою лодку, безучастный ко всему на свете, перестал греметь молотком. Мне показалось, что даже на небесах сейчас все притихли, ожидая, что будет. Не рискуя вмешиваться.
То, что случилось дальше, было вполне предсказуемо. Я предвидел это. По-другому выйти и не могло. К сожалению. Над толпой раздался вопль. Жуткий, визгливый вопль. Вопил, конечно, мулла Омар. Он взобрался на какое-то возвышение и указывал скрюченным пальцем в сторону городских властей. Людей в европейских костюмах. Очень хорошо помню эту мракобесную сцену. Сотни голов в чалмах, в арабских арафатовских платках, в шапках-минаретах. Над ними — распластанная сухопарая фигура в белом одеянии. Тощий старческий костяк, парящие полы халата, длинная острая борода с седыми прорезями. Воздетая рука. Вопль. Гюнтер веселился и приплясывал от восторга: мулла Омар в позе Ленина на броневике. Классический сюжет. «Шпигель» напечатает эти снимки на обложке. Они, может быть, обойдут весь мир. Счастливый рыжий Гюнтер.
В инструкциях толпа больше не нуждалась. Как большое проснувшееся животное, тяжело покатила вперед, подминая под себя зеленых и черных полицейских. Европейские костюмы сначала попятились, потом суетливо побежали. Недержавной прыткой рысью. Кордон спецназовцев, отделявший костюмных от толпы, был совсем тонок, но их машины стояли поблизости, метрах в пятидесяти. При желании можно было успеть. Огромный серебристый джип «тойота», пара черных «мерседесов» и темно-синяя гоночная «ауди». Хороший, быстрый транспорт. Но они замешкались, отступая. Не привыкли бегать быстро. И толпа, она бывает очень ловкой в таких ситуациях, перекрыла им дорогу. Отрезала от машин. В этот самый момент из-за мечети бегом вынеслась колонна черных. Наверное, они ждали там, прятались для подстраховки. На тот случай, если произойдет непредвиденное. Это были серьезные парни, человек тридцать — тридцать пять. В бронежилетах, в касках, с прозрачными пластиковыми щитами. И с автоматами. Выстроившись на бегу клином, врезались в толпу, прокладывая себе дорогу дубинками. Щит к щиту, рассекали пенящуюся биомассу, вспарывали ее. Толпа ахнула, подалась назад, расступаясь. Эффект неожиданности. Довольно скоро они добрались до пленников, окружили их плотным кольцом и повели, сомкнув щиты, к машинам. Некоторые из правоверных, особо рьяные, держались за головы, отирая кровь с лиц и халатов. Да, пролилась кровь. Черные колотили дубинками наотмашь. Еще немного, и все окончилось бы миром. Я искренне надеялся, что все кончится миром. Несколько синяков, разбитый нос… Уже толпа, почуяв отпор, ослабела, обмякла, потекла в стороны. Но над нею разъяренной бородатой цаплей снова вырос мулла Омар. Заорал, надсаживаясь, замахал руками.
Тогда началось то, с чего все и началось. Сначала в черных полетели камни. Там каменистая местность, полно крупных камней под ногами. Есть что швырять. Камни ударялись о щиты, не причинив черным особого вреда. Но толпа увлекалась все больше. Сгустилась, сомкнулась, отвердела.
Налилась дурной силой. Знаменем парил над нею, срывая голос в крике, мулла Омар. Черные дисциплинированно, пядь за пядью, отступали. И вдруг раздались выстрелы. Понятия не имею, кто и в кого стрелял. Может, в воздух. Чтобы испугать. Но, наверное, стреляли из толпы по черным. Из них никто не пошатнулся, не упал, точно. Я видел. Однако толпа завизжала сотнями глоток и навалилась. Сразу, тяжелым молотом, ударила в щиты. Как штурмовым бревном — в городские ворота. Черные посыпались в стороны, приседая, закрываясь от ударов. Их начали бить. На моих глазах двоих или троих просто затоптали. Тогда черные дали несколько очередей из автоматов. Точно, в воздух. Могу подтвердить под присягой. Толпа не реагировала, она почувствовала кровь, озверела. Была готова на все, что угодно. И черные ударили по людям. С бедра. Длинными очередями. Тоже потеряв всякий контроль над собой. Им было не до контроля, они хотели жить. Сразу упали человек восемь — десять, потом еще несколько. Бешеная толпа дрогнула, отступила и бросилась врассыпную. Им наперерез вырвались три полицейских грузовика — подкрепление. Черные со щитами посыпались на землю. Началось что-то дикое, жуткое. Людей хватали, валили на землю, избивали дубинками и прикладами. Только потом тащили в машины. Один, я помню, молодой парень упал на колени, поднял руки, защищаясь. К нему подбежали сразу трое. Один с разбегу ударил ботинком в лицо, другой — дубинкой по голове. Парень рухнул на землю. Даже не успел вскрикнуть. Его немного попинали и только потом поволокли. Хорошо, если он был просто без сознания. Какого-то старика дервиша тащили по земле, ухватив за бороду. Они тоже были звери, черные. Хуже зверей.
— Уходим! — коротко скомандовал Жан-Эдерн, как стенка белый. — Быстро за мной!
— Сейчас, сейчас! — Гюнтер, ненормальный, прикипел к камере. — Еще пару кадров. Это же сенсация, сенсация!
— Пошел, придурок! — Жан-Эдерн, невысокий и с брюшком, ухватил здоровенного немца за руку, как мальчишку, и так дернул, что Гюнтер чуть не упал. С виду директор картинной галереи казался куда слабее. — Я тебе покажу сенсацию!
Переулками, дворами-огородами, бегом мы кинулись прочь и оказались на вилле гораздо быстрее, чем я ожидал. Навстречу выскочила перепуганная злая Таня с малышкой. Что-то почувствовали они, наверное.
— Так. — Жан-Эдерн не дал никому сказать и слова. — Слушайте меня внимательно. Из дому ни шагу. Даже на пляж. Сидите все внутри. К окнам желательно не подходить. Следите за ребенком. Я скоро вернусь. Надеюсь, в течение двух-трех дней я доставлю вас на территорию российского консульства. Все.
— Погодите, погодите! — вскрикнула Таня по-русски. — Объясните мне, что происходит?
Он понял ее вопрос без перевода и ответил коротко:
— Самое худшее.
Повернулся и ушел. Теперь представьте наше состояние.
— Слушай, фройнд, — произнес Гюнтер, когда мы вышли наконец из транса. — Помоги мне переправить снимки nach Deutschland. Это же круто, это сенсация. Там не было никого, кроме меня. Понимаешь, никого! Я единственный все это видел и снимал. Такое бывает раз в жизни, понимаешь! Оказаться в нужное время в нужном месте. Помоги, прошу тебя, фройнд!
Я кивнул. Подключил свою машину к Интернету. И не отходил от нее три дня подряд. Новости катились одна за другой. Мы не успевали их переваривать. Разумеется, сайт CNN комментировал все иначе, чем ntv.ru или эн-ти-фау точка de. Но это было неважно. Ели, пили и спали рядом с включенным компьютером. Я связался со всеми своими друзьями. Электронная почта шла беспрерывно. С нами не происходило ничего, никаких внешних событий. Мы читали на английском, немецком и русском. Из приятных новостей была лишь одна: «Шпигель» выписал Гюнтеру премию. Погибшая камера списана на счет журнала. Его снимки были на всех сайтах новостей. Сам герой дня сидел у монитора, боясь подойти к окну. Нам всем было непередаваемо страшно. Жан-Эдерн не объявлялся. Казалось, бросил нас на произвол судьбы. Предал, смылся. Проклятый скользкий тип. Вот что происходило в мире:
…Массовые волнения во время похорон известного предпринимателя Мохаммеда Курбана в Хаммарате. Убито восемь, ранено тринадцать человек. Все они — мирные жители. Полиция расстреливала безоружных людей. Единственный фотокорреспондент, случайно оказавшийся на месте событий, — Гюнтер Нагель, «Шпигель». По свидетельству Нагеля, фанатично настроенная толпа, которую подстрекал хорошо известный спецслужбам идеолог исламских экстремистов мулла Омар, напала на представителей городских властей, явившихся отдать последний долг почетному гражданину Хаммарата Мохаммеду Курбану… Некоторые информационные агентства опровергают эту информацию.
…После кровавых событий в Хаммарате президент страны выступил с телевизионным обращением к народу. По его словам, мусульманские экстремисты, развязавшие бойню в Хаммарате, намеренно дестабилизируют обстановку в стране, пытаясь с помощью террора воспрепятствовать проводимой правительством политике демократических преобразований. «Нам не нужен второй Талибан, — заявил президент. — Мы не хотим, чтобы страна вернулась в средневековье. У нас достаточно сил и здравого смысла, чтобы не дать террористам запугать народ».
…Массовые аресты представителей оппозиции. Деятельность парламентской фракции «Исламское возрождение», в которую входят политические партии, оппозиционные правящему блоку, объявлена нелегитимной. Фракция распущена, депутаты лишены неприкосновенности и арестованы. Домашнему аресту подвергнут лидер фракции Хусам Малик. Всем арестованным запрещены контакты с представителями средств массовой информации.
…Представителями властей арестован идеолог экстремистов мулла Омар. Его обвиняют в подстрекательстве к насилию во время известных событий в Хаммарате. Два месяца назад мулла Омар, представший перед судом в Каире по сходному обвинению, был оправдан и освобожден из-под стражи. Как заявил его адвокат, мулла всегда придерживался буквы и духа священного Корана, позволяя себе лишь объяснять верующим написанное в книгах. Омару не раз удавалось опровергнуть предъявленные ему обвинения, но на этот раз, как заявил генеральный прокурор страны Муса Ясир Рифай, подсудимому грозит пожизненное тюремное заключение. Сенсационные снимки, опубликованные журналом «Шпигель», свидетельствуют, что мулла Омар лично руководил фанатично настроенной толпой и является несомненным виновником нападения на полицейских.
…Всемирный исламский фронт, возглавляемый террористом номер один Хаджи Абу Абдаллой, обнародовал экстренное коммюнике. Как следует из этого документа, все мусульмане, арестованные во время беспорядков, должны быть незамедлительно отпущены на свободу. В противном случае, сообщается в коммюнике, Всемирный исламский фронт рассматривает сложившуюся ситуацию как преступление против религии и исламских народов и оставляет за собой право на ответные действия.
…Прокурор южного округа Нью-Йорка Джордж Маккормик настаивает на немедленной выдаче муллы Омара Соединенным Штатам. ФБР обвиняет муллу в причастности к террористическим актам 11 сентября 2001 года, унесшим десятки тысяч жизней. По словам прокурора Маккормика, мулла Омар является правой рукой Хаджи Абу Абдаллы и персональным гуру террористов-смертников. Кроме того, Омару приписывается авторство провокационных брошюр и листовок, используемых для подготовки террористов в военизированных лагерях, а также руководство нелегальной газетой «Les Partisans de Shariah». «Это мусульманский Геббельс, — заявил в интервью нашему корреспонденту Маккормик. — Он достоин Нюрнбергского трибунала».
…Скандал в Финляндии: финансовые службы страны (RATA) случайно опубликовали в Интернете список из 370 сообщников Хаджи Абу Абдаллы, сообщает испанская «Эль Пайс», получившая доступ к этому документу. Список был передан финскому правительству под грифом «совершенно секретно» ФБР с целью блокирования в Финляндии счетов известного террориста и связанных с ним лиц. Документ, содержащий не только имена, фамилии и прозвища подозреваемых, но также место и дату их рождения, домашние адреса и номера телефонов, в том числе и мобильных, «провисел» на веб-сайте RATA в течение нескольких часов. По информации «Эль Пайс», данный документ был вручен несколько дней назад представителем США в Хельсинки Каролем ван Вуртцем министру иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя наряду с другими доказательствами причастности Абу Абдаллы и Всемирного исламского фронта к терактам в США 11 сентября. Накануне список, содержавший также названия 14 подозреваемых в террористической деятельности организаций, был передан финским банкам, которые должны были проверить списки своих клиентов. Однако по какому-то недоразумению секретный документ оказался в Интернете, откуда был убран лишь спустя пару часов. Большинство из указанных в документе сообщников Абу Абдаллы являются выходцами из Саудовской Аравии моложе 30 лет, проживающими в Соединенных Штатах (главным образом в южных штатах). Помимо выходцев из Саудовской Аравии в списке фигурируют также граждане других арабских государств. Двое из подозреваемых родились в США, двое в Голландии, один в Великобритании, трое в Германии и пятеро во Франции. В последних двух странах чаще всего бывали большинство подозреваемых. Возле имен некоторых лиц указаны весьма «говорящие» адреса электронной почты, как, например, lastdayl [email protected].. Такйке привлекают внимание несколько христианских имен и фамилий — Матье, Джером и Марио. Однако самым удивительным оказалось обнаружение в списке еврейского имени и фамилии, принадлежащего 49-летнему уроженцу Израиля, который, по данным ФБР, «возможно, уже скончался».
…Управление ФСБ г. Москвы начало проверку деятельности группы компаний «Джебраль», генеральным директором которой является Юсуф Курбан, сын убитого несколько дней назад в Хаммарате предпринимателя Мохаммеда Курбана. Как известно, это убийство повлекло за собой вспышку напряженности в стране, и представители местных спецслужб обратились за помощью к своим российским коллегам. Высокопоставленный источник в ФСБ полагает: есть основания считать, что через счета группы компаний «Джебраль» переводились средства для поддержки чеченских сепаратистов. «Контакты «Джебраль» с рядом банков и фирм Саудовской Аравии, Ливана и Сирии выглядят не вполне прозрачными. Необходимо тщательно проверить источники поступлений денежных средств и фирмы, которым эти средства были перечислены», — заявил представитель Федеральной службы безопасности.
…Предотвращена попытка государственного переворота. Сегодня ночью отряды вооруженных боевиков под предводительством полевого командира, шейха Халида, окружила и обстреляла президентский дворец. Бригаде Национальной гвардии удавалось выдерживать осаду до тех пор, пока им на помощь не пришли подразделения регулярной армии, оснащенные бронетехникой. С обеих сторон имеются многочисленные убитые и раненые. По данным министерства национальной безопасности, шейхи берберов, поддерживаемые исламской оппозицией, вступили в заговор против руководства страны. Их мобильные отряды локализуются в районе оазисов Лекеф и Макхар. В сентябре прошлого года спецслужбы обнаружили в пустыне неподалеку от города Айн-Драхема тайный склад боеприпасов, в том числе автоматы «Калашников» и двенадцать зенитных ракет «стингер». Предполагается, что оружие предназначалось для запланированных оппозицией боевых операций по свержению правительства. Сам шейх Халид с 1999 года разыскивается спецслужбами страны и Интерполом как особо опасный преступник. Его обвиняют в неоднократных похищениях иностранных туристов с требованием выкупа. Президент объявил в стране чрезвычайное положение.
…«Вашингтон пост» публикует сенсационные материалы о незаконной торговле радиоактивными материалами. По данным южноафриканской разведки, в июле 1998 года атомная электростанция в Пелиндбаде, в окрестностях Претории, продала радиоактивные материалы некоей фирме со штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Также в распоряжении газеты имеются материалы о похищении 10 килограммов плутония с закрытого российского предприятия Челябинск-25. Коррумпированный правительственный чиновник, прикрывавший операцию, получил взятку в размере пятисот тысяч долларов. Покупатель плутония до сих пор остается неизвестным, однако предполагается, что посредником выступила компания с офисом в Москве, которую возглавляет гражданин одного из арабских государств. Кроме того, как следует из секретных материалов, переданных сотрудником спецслужб республики Казахстан американскому консулу в Непале, знаменитый террорист Хаджи Абу Абдалла потратил около пяти миллионов франков на приобретение в Казахстане тактической ядерной боеголовки.
…Мулла Омар передан властям Соединенных Штатов и сейчас находится на территории американского посольства под усиленной охраной. Сопроводить преступника в Нью-Йорк, где он предстанет перед обвинителями Большого жюри, лично вылетел руководитель отделения ФБР по борьбе с международным терроризмом Эндрю Гарсиа. Президент страны заявил, что выдача мятежного муллы американцам — жест доброй воли, который демонстрирует полную готовность к дальнейшему политическому и экономическому сотрудничеству с Западом. Это следует понимать как завуалированную просьбу о силовой поддержке в случае, если политический кризис в стране будет грозить перерастанием в гражданскую войну. В кратком интервью, которое дал Эндрю Гарсиа корреспонденту «Интернэшнл геральд трибюн», было заявлено, что правительство США готово оказывать всестороннюю помощь странам, организациям и частным лицам, которые содействуют борьбе с международным терроризмом.
…Глава Палестинской автономии Ясир Арафат выразил серьезные опасения, что Америка готовит новую агрессию против исламского мира… Саддам Хусейн заявил, что мусульмане не обязаны более терпеть давление со стороны Вашингтона, и призвал нанести ответный удар в том случае, если американцами будет предпринята военная операция в Северной Африке… Муамар Каддафи потребовал немедленного освобождения муллы Омара. Он считает, что позорный процесс над исламским духовным лицом, который будет проводиться в стране, наиболее враждебной исламу, является тяжким оскорблением, которое Запад бросает в лицо арабскому миру… Власти Израиля готовятся к новой вспышке насилия. Газета «Едиот ахронот» предупреждает, что политические демарши Соединенных Штатов, при всей их неоспоримой оправданности, приведут к новым жертвам среди мирного населения… Президент Соединенных Штатов Америки выступил с очередным посланием к конгрессу. В нем, в частности, говорится: «События 11 сентября в Нью-Йорке наглядно показали, что террористы не остановятся ни перед чем в своей ненависти к цивилизованному миру. Это люди, не поддающиеся убеждению, люди, с которыми невозможны переговоры, неспособные к трезвой оценке своих действий. Очевидно, что они являются источником огромной опасности, от которой мы по возможности обязаны себя оградить. Именно поэтому мы готовы оказывать любую, в том числе и военную, помощь во всех тех случаях, когда террористы вступают в открытую конфронтацию с демократическими, законно избранными правительствами. Также Соединенные Штаты оставляют за собой право нанесения упреждающих ударов, если присутствует угроза национальной безопасности».
…Исламские группы хакеров активизировали атаки на сайты западных правительств и крупных компаний, сообщает Би-би-си ньюс. Представители лондонской компании «mi2g», занимающейся интернет-безопасностью, утверждают, что в июне 2002 года хакерские атаки достигли максимальных показателей за все время их деятельности — с 1995 года. По подсчетам экспертов, за этот месяц на компьютерные сети и системы было осуществлено 16 559 хакерских атак. «Мы обратили внимание, что все больше исламских хакеров начинают объединяться под общими антиамериканскими, антианглийскими, антиавстралийскими, антииндийскими и антиизраильскими лозунгами», — говорят представители «mi2g». Эксперты считают возможным существование глобальной сети хакеров-исламистов, которая финансируется Террористом Номер Один Абу Абдаллой и Всемирным исламским фронтом. В частности, на роль ядра этой сети претендуют известная группа Unix Security Guards (USG), в которую входят хакеры из Египта, Марокко и Восточной Европы, а также самая активная на сегодняшний день организация хакеров-исламистов FBN, базирующаяся в Пакистане и имеющая филиалы в бывших Среднеазиатских республиках СССР.
…Политический кризис усиливается. Вооруженные отряды оппозиции взяли под контроль южные и западные районы страны. Север и Северо-Восток, в частности, прибрежные провинции Дуз, Тебурсук и Йебел Чамби, где сосредоточены ведущие туристические центры, курорты, пятизвездочные отели и роскошные пляжи, пока остается под контролем правительственных войск. Президент обратился к иностранным гражданам с просьбой как можно скорее покинуть страну. Дипломатические представительства европейских стран, Канады, США и Австралии готовятся к срочной эвакуации.
…Руководитель вновь создавшейся партии «Исламский порядок» Юсуф Курбан, сын убитого Мохаммеда Курбана, провел пресс-конференцию в отеле «Ганнибал-палас». По его словам, возникший политический кризис обусловлен грубейшими нарушениями, допущенными нынешним руководством страны. «Тотальная коррупция, отсутствие вложений в реальный экономический сектор привели к массовой безработице и обнищанию населения. Правящая верхушка отделила себя от народа и делает все, чтобы ее власть стала абсолютной. Одно из самых кровавых преступлений правительства — зверское убийство моего отца, виновники которого должны быть наказаны по всей строгости исламского права. Незаконные аресты депутатов Национального собрания вызвали всеобщее возмущение и поставили страну на грань гражданской войны. Наша партия требует немедленной отставки правительства и президента, проведения новых демократических выборов и судебного разбирательства по делу об убийстве Мохаммеда Курбана. Только в этом случае в стране снова воцарятся мир и порядок». В ответ на это заявление корреспондент российской телекомпании НТВ Илья Артемьев сказал, что ФСБ выдала ордер на арест г-на Курбана по обвинению в финансировании возглавляемой им фирмой «Джебраль» чеченских боевиков и подозрении в посредничестве при продаже ядерных материалов, похищенных в Челябинске-25. Юсуф Курбан отверг выдвинутые обвинения.
…Уличные бои в столице. Отряды боевиков шейха Халида при поддержке многочисленных бандформирований блокировали аэропорт, телевещательный центр, железнодорожный и автовокзалы, а также все подъезды к городу. Захвачено здание Национального банка, обстрелян из гранатометов университет, сожжена Национальная библиотека. По некоторым данным, число погибших превысило восемьсот человек, около полутора тысяч ранено, в том числе и мирные жители. Посольство США окружено. Его сотрудникам предъявлен ультиматум: если мулла Омар будет отпущен на свободу в течение двенадцати часов, все иностранные граждане получат возможность беспрепятственно эвакуироваться. В противном случае сотрудники посольства объявляются заложниками со всеми вытекающими последствиями. В ответ на этот демарш представитель американского МИДа заявил, что подобные действия являются вопиющим нарушением норм международного права. Если жизни сотрудников посольства будет угрожать опасность, заявил представитель МИДа, правительство Соединенных Штатов считает себя обязанным вмешаться незамедлительно.
…Американский авианосец «Джордж Вашингтон», на борту которого имеются ракеты с ядерными боеголовками, покинул базу ВМФ США на Корсике и взял курс к берегам Северной Африки.
…Российский глава государства провел срочную телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов. В частности, речь шла о недопущении перерастания вооруженных столкновений в Северной Африке в крупномасштабную войну с участием иностранных государств. Президент России подчеркнул, что борьба с международным терроризмом должна вестись в рамках законности, и прямое вмешательство во внутренние дела суверенной страны он считает недопустимым. «Мы очень хорошо знаем, какую опасность представляет исламский терроризм для всего мира, — сказал президент, — и категорически осуждаем действия боевиков. Тем не менее мы считаем, что вопрос о применении силы должен обсуждаться в рамках ООН, и ни одно отдельно взятое государство не имеет права единолично решать вопрос о вооруженном вмешательстве».
…На подступах к курортному городу Хаммарат идут затяжные оборонительные бои. Правительственные войска несут тяжелые потери, противник превосходит их в живой силе и технике. Две с половиной тысячи иностранных туристов оказались в ловушке и ожидают помощи с моря. Авианосец «Джордж Вашингтон» вошел в территориальные воды страны. По словам капитана корабля, вице-адмирала Вильяма Хэйдбэка, судно выполняет гуманитарную миссию: спасение иностранных туристов, застигнутых врасплох гражданской войной. Помощь будет осуществляться всеми доступными средствами, с участием специальных катеров и военных вертолетов. Также капитан заявил, что имеет приказ открывать ответный огонь в случае, если авианосец подвергнется нападению в любой из возможных форм.
…Правительство низложено. Отряды боевиков заняли президентский дворец. Члены кабинета министров арестованы. Судьба президента и его семьи на сегодняшний день неизвестна. Сформирован временный кабинет во главе с Юсуфом Курбаном, лидером партии «Исламский порядок». Новый руководитель страны призывает воюющие стороны сложить оружие и обещает амнистию всем, кто сражался на стороне низложенного правительства. Тем не менее ожесточенная борьба продолжается. Генерал Абделькадер Дустум проинформировал СМИ, что формирует армию для подавления мятежа. Само собой разумеется, что Соединенные Штаты готовы всецело поддерживать Дустума, который также пользуется заслуженным авторитетом в армии. Проведший семь лет в Афганистане, оккупированном Советами, генерал-муджахид имеет немалый боевой опыт и был в свое время личным другом «пешаварского льва» Гульбетдина Хекматияра.
… Руководство расположенной в Сан-Диего охранной фирмы «Форенсиктек» объявило о том, что ее сотрудники сумели взломать защиту военных и государственных сетей США и получить доступ к секретной информации. В течение последних трех месяцев сотрудники этой фирмы с помощью широкодоступного программного обеспечения через Интернет могли читать электронные письма, получать данные о персонале и финансовую документацию ряда госучреждений США, работающих с засекреченной информацией. Президент «Форенсик-тек» Врет О'Киф пояснил, что сделал это заявление, поскольку руководство компании сочло необходимым предупредить заинтересованные организации о недостатках в защите их компьютерных сетей. По его словам, сотрудники «Форенсик-тек» были «поражены и почти напуганы» тем, насколько доступными оказались компьютеры американских военных. Сотрудники охранной фирмы, занимающейся еще и частными расследованиями, проникли в сеть американской военной базы Форт-Худ в Техасе, занимаясь делом одного из своих клиентов. Оттуда им открылся доступ в сети других военных баз и гражданских организаций, в частности, НАСА и министерства транспорта и энергетики. По словам О'Кифа, его сотрудникам удалось взломать систему без особого труда путем простейшего подбора паролей. Хотя добраться до секретной информации им все-таки не удалось, сотрудники фирмы тем не менее получили доступ к электронным письмам высокопоставленных военных чинов, номерам социального страхования и кредитных карт военнослужащих. Кроме того, они получили информацию, касающуюся радиошифровок, систем лазерного наведения и секретной курьерской службы. О'Киф не исключает, что низкий уровень защиты локальных компьютеров может вызвать серьезные трудности в работе более секретных сетей.
…Неуловимый руководитель Всемирного исламского фронта Хаджи Абу Абдалла, скрывающийся в тайном убежище в горах Гиндукуша, обратился с фетвой (посланием) ко всему исламскому миру. «Этот сенсационный документ, — считает эксперт ЦРУ Вильям Гроуб, — способен либо внести серьезнейший раскол в стан наших врагов, либо объединить их на таком уровне, которого не удавалось достичь еще ни разу за всю историю исламской религии». Не секрет, что страшнейшее пугало для Соединенных Штатов, миллиардер-оппортунист, создатель самой крупной, разветвленной и непобедимой международной экстремистской организации, весьма популярен в исламских кругах не только как последовательный враг Америки, но и как духовная особа, своеобразный «воинствующий пророк», образ которого отчетливо перекликается с образом самого создателя ислама Магомета. На этот раз Хаджи Абу Абдалла предпринял весьма рискованный шаг, который тем не менее не раз удавался его предшественникам. Таинственный бородатый старец, фотогеничный, как кинозвезда, объявил себя Хазратом Махди — сокрытым имамом суннитов, которого фетва представляет в роли Мунтазара, воина Аллаха, объявляющего тотальный джихад всему миру неверных. «От имени Аллаха, Всемилостивого и Всемогущего, я обращаюсь к сердцу каждого мусульманина, переполненному болью и надеждой. Я, Мунтазар, говорю: оставь свой мирный труд, оставь семью и детей, возьми меч и начертай на нем Имя Благословенного, чей Лик — Роза, Тело — Книга, а Дух — Сверкающее Пламя!» — так начинается это запутанное послание, переполненное специфической терминологией суфийских мистиков и велеречивыми поэтическими оборотами классической восточной поэзии. Из него следует, что Аллах, не в силах более терпеть надругательств над правоверными, велел Абу Абдалле уединиться в горах и предаваться неутолимой скорби. «Лицо мое день и ночь обливалось слезами, и слезы эти были так горячи, что выжгли рубцы на моей коже. По этим знакам узнаете вы Хазрата Махди, отмеченного печатью Аллаха». Так описывает Террорист Номер Один свои страдания. Очистившись, повествует далее фетва, Абу Абдалла вознес самую искреннюю из молитв, и душа его была принята на небесах, где восседала в роскошных хоромах и предавалась философским беседам с Магометом, его братом Али и одиннадцатью суннитскими имамами. Следом за тем некий голос поведал ему о его высоком предназначении и дал соответствующие инструкции: «Скажи мусульманам, что жизни их отныне принадлежат одному лишь Всемогущему; нет у них имущества, жен и детей, нет собственных мыслей и планов; лишь Моя Сила и Моя Воля будут отныне наполнять их сердца праведным гневом. И еще скажи: кто не пойдет за Хазратом Махди на битву с неверными, от того отрекаюсь Я и душу его ввергаю в адское пламя. И кто опустит меч, покуда жив на земле хотя бы один неверный, — будет гореть в огне его душа. И если кто осквернит себя страхом или жалостью, узнает месть Мою. Так скажи мусульманам».
Новоявленный пророк, за голову которого объявлено вознаграждение в размере одного миллиарда долларов, открывает список разыскиваемых ФБР особо опасных международных преступников. Ему вменяется в вину следующее:
— участие в подготовке и осуществлении теракта 29 декабря 1992 года в йеменской гостинице, где остановились американские солдаты, следовавшие в Сомали с гуманитарной миссией;
— участие в подготовке и осуществлении теракта 3–4 октября 1993 года в Могадишо против американцев, находившихся там с миротворческой миссией;
— участие в подготовке и осуществлении теракта 13 ноября 1995 года в центре связи Национальной гвардии в Эр-Рияде;
— участие в подготовке и осуществлении теракта 25 июня 1996 года на военно-воздушной базе Аль-Хобар в Дхаране (Саудовская Аравия);
— участие в подготовке и осуществлении попытки покушения на президента Египта Хосни Мубарака 26 июня 1995 года во время его официального визита в Аддис-Абебу;
— участие в подготовке и осуществлении терактов в американских посольствах в Кении и Танзании 7 августа 1998 года;
— участие в подготовке и осуществлении самой крупной в истории террористической атаки на башни-близнецы Центра международной торговли в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Кроме того, Хаджи Абу Абдалла обвиняется в финансировании исламских боевиков во всем мире, от Чечни и Боснии до Судана и Палестины.
«Переход Абу Абдаллы в новый статус может быть чреват самыми серьезными последствиями для всего мира, — убежден Ролан Жаккар, президент Наблюдательного комитета по проблемам терроризма и Центра исследований современных факторов угрозы. — Не секрет, что Террорист Номер Один пользуется колоссальной популярностью в арабских странах, особенно среди беднейших слоев населения, выходцы из которых наиболее охотно пополняют ряды боевиков. Его имя окружено легендами, его жизнь и борьба — это современная версия истории Давида и Голиафа. Если религиозные иерархи признают Абу Абдаллу сокрытым имамом, его положение в мусульманском мире станет абсолютно легитимным, и руководители исламских государств обязаны будут подчиниться его приказам. Тем не менее я предполагаю, что мнение улемов не станет единогласным, поскольку далеко не все религиозные и политические лидеры одобряют действия этого взрывоопасного человека. Скорее всего амбициозные попытки Террориста Номер Один объединить под своими знаменами суннитов и шиитов потерпят поражение. Ряд духовных авторитетов, особенно из шиитской среды, назовет Абу Абдаллу самозванцем, и это клеймо может навсегда подорвать его карьеру, которая сейчас находится в зените. Но единственное, в чем я уверен: Хаджи Абу Абдалла не станет ждать, пока улемы вынесут свой вердикт; он способен начать открытый джихад со дня на день».
…Руководитель сатанистской секты «Дети утренней зари» (Висконсин, США) Клаус Хаммер заявил, что ему и его братьям выпала великая честь быть свидетелями прихода Антихриста и долгожданного воцарения Зверя. Отныне, сказал Хаммер, все поклонники и слуги Темной Стороны обязаны молиться и приносить жертвы Святому Имаму Востока, а также по возможности присоединяться к его Великому Воинству. Над входом в свою вис-консинскую резиденцию лидер американских сатанистов вывесил огромный портрет Хаджи Абу Абдаллы и провел перед ним ритуальную церемонию, в ходе которой был сожжен национальный флаг. Хаммер задержан полицией; его ждет тюремное заключение сроком до трех месяцев или солидный денежный штраф.
3
…Стоп, стоп. Надо остановиться — слишком забежал вперед, растерял некоторые важные подробности. Во-первых, хочется написать роман быстрее. Я не из тех людей, кто умеет делать дело медленно, я привык быстро. Времени в тюрьме навалом, а вот видите — все равно тороплюсь. Ну и во-вторых, пытаюсь использовать какие-то приемы, чтобы читать было интересно. Каждая глава заканчивается или подборкой новостей, или цитатами из моего интервью Си-эн-эн. Американцы приехали буквально на следующий день после того, как я оказался в Лефортове, опередили наших. Забавные такие. Натащили в мою камеру своей машинерии — осветительные треноги, кабели, разъемы. Корреспондентка… как же ее… а, вспомнил: мисс Вирджиния Ли, восточная такая, молоденькая, очень серьезная. Длинный список вопросов принесла и еще всякой еды — меня же в русской тюрьме плохо кормят, разумеется. Писали интервью часа три, я весь упарился, ведь этот свет телевизионный, он очень жаркий, а помещение крошечное. Настоящая сауна. Ли, потная, дышит тяжело, ей каждые десять минут протирают и пудрят лицо, чтобы не блестело. Я тоже сижу мокрый, а она смеется: «Разве вы не привыкли к жаре в пустыне?» Смейся, думаю, смейся… Кстати, это она, Ли, и надоумила меня сесть за книгу. А уже потом я через Илью Артемьева с НТВ связался с издательством «АСТ». Кстати, Артемьев хорошо и много помогал мне — и с письмами, и со всем остальным. Спасибо тебе, Илюха!
Так вот, пытаюсь сделать интереснее, а забежал вперед. Сейчас быстро объяснюсь, в двух словах, а потом расскажу все подробно. События, в которые я совсем не по своей воле ввязался, происходили с июля по сентябрь 2002 года, поэтому последние мрачные известия (сегодня 10 декабря) — взрыв дискотеки на Бали, захват заложников в Москве, теракт в кенийском отеле «Парадиз», Нобелевская премия мира для Джимми Картера, создавшего в Афганистане «исламский легион», — в мои списки новостей не вошли. И много чего не вошло, я же не информационное агентство. Еще один важный момент — как мы все общались. Ну, английский я знаю очень неплохо по роду службы, немецкий учил в школе, кое-что засело в голове. Таня, золотая медалистка и краснодип-ломница, языком Шекспира тоже владеет (правда, разницу между I have, I had и I have been я так и не сумел ей внятно растолковать, Танька просто помнит много английских слов, и это ее выручало). Ясно, фразы мы строили не так чисто, как я по-русски пишу. Но вопрос, будем считать, снят. Теперь к делу.
Когда прибежали на виллу, обнаружили новость — охрану. Шестеро серьезных, суровых штурмовиков в черном, вооруженные, сидели на веранде. Их командир, очень вежливый, представился, отрапортовал:
— Вы не должны ничего бояться. Никаких оснований для паники. Правительство гарантирует безопасность всех иностранных граждан.
Загорелый, тщательно выбритый, подтянутый человек в погонах. Ему хотелось верить. В тот момент мы еще ничего не знали, понятия не имели, что случится, но эти три короткие фразы очень насторожили меня. Испугали. Молчаливые, переглядываясь, мы вошли в дом. Вечер и ночь, я уже сказал, прошли за компьютером. Наутро, часов в шесть, этот тип настойчиво постучался в дверь:
— Собирайтесь немедленно. Берите с собой только самое необходимое. Легкие вещи. В бухте стоит американский корабль. Катера будут забирать людей с берега. У вас есть максимум пятнадцать минут. Быстрее!
…Некоторые вещи трудно забыть. Живые картины стоят перед глазами, движутся в объеме и в красках. Наполнены звуками и ощущениями. Толпа, тысячи, может быть, полторы, я могу ошибаться. Вроде футбольного матча, болельщики на трибуне. Потому что там к набережной спускается очень широкая лестница, похожая на трибуну. Люди стояли так плотно, что даже приближаться к ним было опасно. Они были, я думаю, готовы на все. С вещами, с рюкзаками, чемоданами, сумками, взрослые и дети. Некоторые кричали, очень громко, размахивали руками. Набережная, променад, на высоте метров десяти над пляжем. В песок обрывается бетонная стена, забранная прочными перилами. От нее в море уходят несколько длинных пирсов для прогулочных катеров. У проходов к пирсам толпились черные с оружием. Они хотели нормальной погрузки, нормальной эвакуации. Но когда от сине-серого силуэта на горизонте отделилось несколько движущихся пятен, толпа взревела. По ней пробежала судорога, и те, кто был у самых перил променада, посыпались на пляж. Они прыгали еще добровольно, сами, собирались быть первыми и счастливыми. Прекрасно помню, как прыгнул один пожилой, толстый и лысый, в белых шортах и панаме. В руке — металлический блестящий чемодан на колесах. Так и прыгнул — с чемоданом. Приподнялся с песка, вскрикнул и снова упал, держась за ногу. Но ему повезло, он догадался отползти в сторону, под стену. Еще человек десять встать не смогли, лежали, звали на помощь. Там слишком высоко, хоть и песок. Остальные, хромая и пошатываясь, бежали к воде. Шансов у них не было, они не могли взобраться на пирс по скользким стальным опорам. Когда катера уже были отчетливо видны, толпа взорвалась. Как будто внутри ее что-то лопнуло и брызнуло в разные стороны. Кричали все, и здоровые, и раненые. Можно было различить голоса умирающих, тех, которых затоптали. Перед смертью, оказалось, человек кричит по-особенному, не так, как во всех других случаях, когда гибель ему не грозит. Не знаю, сколько задавили и затоптали сразу, когда толпа ринулась вперед. Но следом стали давить передних, прижимая их к железным трубам ограждения. Казалось бы, ограда символическая, декоративная, но сразу она не сломалась. Потом поддалась в нескольких местах, и люди посыпались вниз лавиной. Вставал примерно каждый четвертый, а некоторые, упав, даже не поднимали головы. Я не мог поверить, что это европейцы, цивилизованные люди. Хуже всего стало тогда, когда катера причалили. Маленькие суденышки, американцы хотели, наверное, обслужить сразу несколько прибрежных городков, они ведь совсем рядом, бок о бок стоят у моря. К пяти пирсам пристало всего три катера. Человек пятьдесят мог каждый взять на борт, вряд ли больше. И еще три прогулочных судна, не знаю, куда подевались остальные. Черных смяли мгновенно, растворила в себе орда. Ринулась на пирсы, половина людей валилась на песок и в воду. Как муравьи, как какие-то мясные куклы безвольные, падали и падали. Кишели на песке, шевелились, кричали, корчились. Катера были облеплены с верхом, каждый сантиметр был занят, но никто не думал останавливаться. Невозможно было остановиться, все двигались по инерции вперед. Один катер наконец отплыл, те, кто стоял с краю, упали в воду. Слышно было, что-то орали в громкоговорители, в мегафоны, но никто не обращал внимания. Над берегом кружили вертолеты, не знаю зачем. Может, снимали все это на видео. Никогда не видел такого количества озверелых лиц, безо всякого сходства с человеческими. Есть что показывать в «Новостях».
— Unmoglich, — только и сказал Гюнтер. Мы прекрасно его поняли.
Остальное наблюдали уже из окна виллы. Эвакуация длилась часа три. Забрали примерно половину, в основном здоровых. Тех, кто добрался. Остальные ждали до глубокой ночи, жгли на пляже костры. Я расслышал, в мегафон объявили, что эвакуация будет продолжена завтра. Будут подтянуты свежие силы, новые резервы. «Господа, не толпитесь, пожалуйста, — увещевал, порыкивая, бодрый и встревоженный голос. — Возвращайтесь в свои гостиничные номера, вы в полной безопасности! Правительство Соединенных Штатов позаботится о вас…»
Комната с видом на море. Отлично помню эту комнату. Большое окно, забранное полосатыми легкими портьерами, на мраморном сером подоконнике — горшок с кривым толстым кактусом. Кактус выпускает из себя мелкие розовые цветки, собранные в веночки на концах сосисок-побегов. Кожаный диван, неправдоподобно мягкий, пахнущий чем-то из прошлого века, пара кресел к нему, в которых неудобно, из-за мягкости, сидеть. Кремовый ковер на полу имитирует чью-то косматую шкуру, какого-то дикого зверя доисторических размеров. Может, гигантского верблюда-альбиноса. На стене, напротив дивана, — эскиз Сезанна, смутно обозначенный профиль женщины. Жан-Эдерн, смеясь, рассказывал, что Джордж Себастиан купил Сезанна у частного коллекционера в Швейцарии, а сам коллекционер приобрел эскиз у наследников художника. Потом выяснилось, что эта неизвестная работа, раритет, не обозначенный в каталогах, — изящная подделка. Миллиардер, у которого было неплохо с чувством юмора и со вкусом, объявил в газетах, что прославит на весь мир гениального подражателя. Подражатель не откликнулся. Жан-Эдерну очень нравилась эта история. Где же он, сволочь?
Мы, четверо, в том числе маленький ребенок и немецкий журналист, сидим в этой комнате, на диване и в креслах, ожидая, что с нами будет. Может быть все, что угодно.
— Ну и что нам теперь делать? — Таня не может усидеть на месте, расхаживает взад-вперед по комнате. Широкими, мужскими шагами, пятки стучат о пол. Взъерошенная, бледная, темные круги под глазами. Мы, наверное, со стороны напоминали компанию наркоманов. Машет сигаретой, сыплет искрами и пеплом.
— Надо выбираться отсюда, — не слишком уверенно отвечает Гюнтер. — Надо выбираться отсюда к чертовой матери. Фердаммте мазерфакерс убьют нас и насадят головы на кол. Эти люди зинд феррюкт.
Примерно так он выражался. Я пытаюсь сохранять спокойствие:
— Сюда им будет трудно добраться. Три-четыре дня, и все уляжется. Мы сами все равно не выберемся с виллы.
— Где ваш проклятый Жан-Эдерн? — кричит Таня. — Он нас просто кинул, сбежал, как помойная крыса. Я ему не верила с самого начала. Какого рожна я сюда приехала, зачем я тебя послушалась, какого рожна, Господи?! Ты во всем виноват, ты!
— Прекрати истерику немедленно! Нужно подождать, пока придет авианосец, — раздраженно настаиваю я. — Авианосец придет обязательно. Они же обещали забрать всех туристов с побережья. Не надо дергаться, с нами же ребенок, в конце концов!
— Ну где, где авианосец? — Таня подбегает к окну в сотый раз и тычет пальцем в бескрайнее и спокойное, как на картине, Средиземное море. — Всем на нас наплевать!
— Здесь нельзя оставаться, — гнет свое Гюнтер, трагически запуская пальцы в лохматую гриву. — Пока мы здесь сидим, мазерфакерс все ближе и ближе! Может, они через час будут здесь. Подумайте о девочке!
Ужасно, конечно, но о девочке мы совсем забыли. Машка тенью ходила где-то рядом, исчезала, появлялась, но никто не обращал на нее никакого внимания. Она вроде все понимала очень хорошо. Испуганный, заплаканный, молчаливый детеныш. Мы даже не знали, ела она или нет. Сами ничего не ели или какую-то мелочь, сейчас не вспомнить. И вдруг Машка подает голос:
— Смотрите, смотрите!
— Что? Где! — Мы, толкая друг друга, метнулись к окну. Наша охрана доблестная, все шестеро громил, гуськом скрывается в апельсиновой роще. Быстренько так, скорым походным шагом. Хоть бы одна тварь оглянулась приличия ради! Секунда — и нет их. Таня садится на пол и заходится отчаянным плачем. Над ней склоняется Гюнтер, неуклюжий, гладит по волосам, шепчет:
— Ду майне гюте…
Добрый Гюнтер. Таня плачет, прижавшись к его неширокой груди. Дочь беспомощно хлопает глазенками.
— Они нас не убьют, — твердо говорю я. — Они же не идиоты. За что им нас убивать? Все обойдется, я уверен. Иностранцам дадут возможность уехать.
— Ты всегда во всем уверен, — взвизгивает Таня, захлебываясь слезами. — Как я ненавижу в тебе эту уверенность! Зачем ты затащил нас в эту чертову дыру, зачем?! Неужели нельзя было найти какое-нибудь другое место? Нет, ты всегда поступаешь так, как тебе хочется, никого не слушаешь…
— Перестань, не надо, — твержу я. — Ведь еще ничего не случилось. Ничего страшного.
— Ты никогда ни о ком не думаешь! — кричит жена. — Думаешь только о себе. Я тебя ненавижу!
— Нужно спрятать Машку в подвале, — приходит мне вдруг нелепая мысль. — Они… мало ли что с нами может случиться, но ребенка они там не найдут.
— Просто подожгут дом, — жена сквозь слезы, со злостью.
— Я не пойду в подвал! — прорезается Машкин испуганный голосок. — Я останусь здесь.
Сидим, молчим. Может, мы еще о чем-то говорили, звучали какие-то мелкие, незначительные фразы, я не помню. Нужно было готовиться умирать. Все это сознавали, даже, наверное, Машка. Трудно сказать, сколько утекло времени, прежде чем Гюнтер встал, разминая сигарету, прошелся по комнате и вдруг заговорил. Он не обидится, если я переведу его монолог на нормальный русский:
— Мне тяжело об этом говорить, друзья… Вы стали мне теперь очень близкими людьми… Но я должен сказать. Мой дед воевал на Восточном фронте. Он служил в вермахте, не в СС, у него была в Ляйпциге кондитерская лавка, и его забрали на войну. Он получил Железный крест за мужество. Мой дед был честный и храбрый человек. Он не убивал женщин и детей, он воевал только с русскими солдатами. Наверное, он убил много русских солдат, раз ему дали Железный крест. Дед считал, что исполняет свой долг. Тогда все так считали, что они исполняют свой долг. А под Сталинградом он попал в плен. Его отвезли очень далеко на юг… я забыл, как называется эта страна… где живут казаки…
— Казахстан, — сказал я.
— Да-да, Казакстан. Там строили большую железную дорогу, и зимой там очень холодно. В Ляйпциге никогда не бывает так холодно. Однажды мой дед лег на снег и начал умирать. У него не осталось сил больше работать, он хотел умереть. Тогда его просто оттащили в сторону, чтобы не мешал другим, и оставили в снегу. Наступил вечер, все ушли, только мой дед остался. Он уже был почти мертвый. Но вдруг он почувствовал, что кто-то лижет ему лицо. Это была собака, которая лизала ему лицо. Собака русского конвоира, который шел вечером посмотреть за порядком. Русский конвоир мог пристрелить моего деда, имел право его пристрелить. Но вместо этого взвалил его на плечи и понес в госпиталь. Говорят, это не был добрый конвоир, это был очень злой конвоир, все его боялись. А он спас жизнь немецкому пленному…
Гюнтер замолчал, я увидел: глаза его влажно блестят. Не-потушенная сигарета тлела у самых пальцев. Столбик пепла, изгибаясь, дрожал в воздухе.
— Папа, а почему наши с немцами воевали? — вдруг спросила Машка.
— Не знаю, — ответил я. — Людям нравится воевать.
— А почему люди такие злые? Разве добрые не могут сделать так, чтобы больше никогда не воевать?
— Добрых на войне убивают в первую очередь, — вздохнул я.
— Ребята, хотите, я вам кофе сделаю? — вдруг беспомощно сказала Таня, всхлипнув. — И девочке поесть надо.
— Прости меня, — ответил я. — Прости меня, если можешь. Я всегда вас так любил обеих, тебя и Ежа. Простите вы меня…
И в этот момент ударили выстрелы — совсем близко. Автоматные очереди, беспорядочная пальба, крики. Вот и все, подумал я, вот теперь все…
Грохнула внизу входная дверь, застучали частым перебором шаги на лестнице.
Тяжелый бег по коридору, сопение, неразборчивые ругательства по-французски — Жан-Эдерн на пороге. Багрово-красный, в пыли, в расстегнутой рубахе баттон-даун, со спортивной сумкой на плече. Явился.
— Какого черта вы еще здесь?!!
— А что мы должны делать? — ору в ответ. — Что делать, если вы нас бросили?!
— Идиоты! Яхта, яхта!!
Проклятие, мы же действительно забыли про яхту! Про яхту, которая спокойно стоит в бухте, в заливе, по ту сторону нашего мыса. Которой мы любовались. Небольшая, изящная, белоснежная. С золотой надписью по боку «Sea Star». «Морская звезда». Наша вилла тоже называется «Морская звезда». Кажется, я забыл об этом сказать раньше.
— Быстрее! — ревет, надсаживаясь, Жан-Эдерн. Рвет «молнию», расстегивает свою сумку, достает два маленьких складных автомата. Я не приглядывался, но думаю, это были чешские «скорпио». Такие же, как у штурмовиков, которые сбежали. — Мужчины берут оружие. Gredines гнались за мной по пятам. Надо задержать их, пока яхта будет готова. Да не спите же!
Спотыкаясь, совершенно забыв про вещи, мы скатились вниз. Крики звучали где-то совсем рядом, в сотне шагов, среди апельсиновых деревьев. Неужели, черт побери, мне сейчас придется стрелять?
— Нужно залить горючее в баки, — на ходу объяснял Жан-Эдерн, пока мы забирались на борт, — и подготовить двигатель. Это займет минут десять. Женщина с девочкой — в трюм, немедленно. Вы и Гюнтер лежите здесь, на корме. Оружие заряжено?
Мы кивнули. Хотя лично я абсолютно не был в этом уверен.
— Они не должны подойти ближе вон тех камней, — коротко объяснил Жан-Эдерн. — Иначе смогут бросить гранату. У них есть ручные, гранатомета нет. Патроны экономить, бить прицельно. Головы не поднимать. Выполняйте!
— Я… не могу стрелять в людей, — неожиданно, заикаясь, проговорил побледневший Гюнтер и положил автомат на доски палубы, почти выронил. — Я… мирный человек, я не могу… Verzeihung…
Рыжие от природы люди так странно бледнеют, у них сразу все веснушки загораются огнем.
— Осел! — выругался Жан-Эдерн. — Вы не мужчина. Идите, помогите мне!
Я залег, приготовился. До последнего момента не верил, что действительно случится бой. Это напоминало маскарад, кино какое-то. Где-то за спиной Жан-Эдерн возился с двигателем, материл Гюнтера. Доносился Машкин плач. Они появились из-за деревьев, человек десять, в тюрбанах, в национальных длинных жилетках, в шароварах и армейских ботах с высокими голенищами. Бородатые, с автоматами. Такими показывали по ти-ви афганских муджахидов. Телемуджахиды радовались, что русские уходят из Афганистана. Плясали и палили в воздух. Резали, наверное, баранов и варили плов. Эти мысли внезапно меня взбесили, и я непроизвольно нажал на спуск. Даже не размышляя, давнул пальцем. Совсем не собирался стрелять. Думал, нужно подготовиться, собраться с духом. Ничего не произошло, абсолютно ничего. Я растерялся — ожидал выстрелов, крови. Затем вдруг осенило: ну конечно, предохранитель! Нашарил в панике какую-то задвижку, щелкнул, и автомат задергался в руке, запрыгал. Я уронил его от неожиданности, от испуга — как еще себе в ногу не попал! Люди в тюрбанах приближались, но не стреляли. Не ожидали, что мы будем сопротивляться. Я собрался с духом, прицелился, замер, выстрелил короткой очередью, охнул: приклад больно ударил в плечо. Остро запахло гарью и нагретым металлом. Посыпались, заскакали дымящиеся гильзы. Я вдруг вспомнил, что при стрельбе обязательно должны быть гильзы. В кино их обычно не показывают. Гильз оказалось на удивление много. Одна из них, горячая, чиркнула меня по лицу. Пули прошли над головами муджахидов, никого не задели. Но они испугались, попадали, залегли. Почему-то подумалось, что они такие же бездарные вояки, как и я. У нас в таких случаях говорили раньше: обманутые пропагандой. Вид у бойцов был действительно невоенный, ободранный. И лежали не прячась, как на ладони, стыд-позор. Я выстрелил снова. Поверху — не хотел никого убивать, только припугнуть, чтоб не рыпались. И вдруг один из них, в самом центре… У него как будто взорвалась голова. Тюрбан сразу снесло, и под ним оказался какой-то красный обглоданный кочан. Издалека подробностей было не разглядеть. Ему вышибло, наверное, мозги, этому несчастному человеку. Те, что рядом, заголосили, заойкали и открыли беспорядочную пальбу по нас. Я не глядя давил на спуск, закрыл глаза от ужаса. Потом обнаружилось, что по лицу течет кровь, меня слегка оцарапало пулей. Только слегка, вполсилы. Выражение «на волосок от смерти», оказывается, имеет очень глубокий смысл.
— Все позади, — убежденно произнес Жан-Эдерн. — Можете мне поверить, все уже позади.
Море: прозрачное чуть не до самого дна, золотисто-зеленое, с такими нежными волнами, словно кто-то осторожно дул на поверхность налитого в блюдечко чая. Небо: акварельная лучистая дымка, ласково нагретая негорячим высоким солнцем. Ветер: прохладное подсоленное дыхание. Далекий берег: острая, причудливая кромка укутанных в зелень скал. Чайки: две или три кружат, распластав крылья. Парус: слепящая белизна. Доски палубы: горячие, пахнут сосновой смолой. Мы: лежим на палубе без сил, не веря, что избежали гибели.
— Как же вы не догадались сразу воспользоваться яхтой? — пожал плечами Жан-Эдерн, выслушав наши сбивчивые, хором, рассказы о последних событиях. — Хотя вас можно понять. Мне сообщили, что русские остались на вилле. Извините, конечно, что добрался к вам немного позже, чем следовало, но так сложились обстоятельства…
Он снова выглядел невозмутимым, покуривая трубочку: бравый морской волк с выдубленной солнцем кожей. Седая щетина, голубые холодные глаза. Старик и море.
— А что произошло с теми, кто остался в Хаммарате? — спросила Таня, беспокойно вглядываясь в берег. — С туристами, которых не взял авианосец?
— Не знаю. — Жан-Эдерн нахмурился и выпустил клуб дыма. — Трудно сказать.
— Но ведь американцы должны были их спасти? — неопределенно спросил Гюнтер. — Как же иначе?
— Будем надеяться, — так же неопределенно ответил он.
Яхта, море, небо — все было таким спокойным и безмятежным вокруг нас. Кричали чайки, плескала волна о борт, пахло крепким трубочным табаком… Не хватало еще, наверное, рома и лангустов. Даже убийство, накануне совершенное мною, казалось чем-то нереальным, неслучившимся, принадлежащим миру мрачных иллюзий. Говорить ни о чем не хотелось. Разве что о самом насущном.
— Куда мы плывем? — поинтересовался я.
— Пока никуда, дрейфуем, — сказал Жан-Эдерн. — Авианосец и сторожевые катера должны быть где-то поблизости. Или нас заметят с вертолета, это уже не так важно. Важно, что мы не на берегу. У мятежников, к счастью, пока нет флота.
— Но вы можете объяснить наконец, что случилось? — произнес после долгой паузы Гюнтер, по-прежнему бледный, ярко-веснушчатый.
— Случилось то, чего давно ожидали, — только и проворчал Жан-Эдерн.
— Послушайте, — вдруг заявила Таня, решительно глядя на француза. — Кто вы на самом деле? Мы все в такой ситуации, когда правда важнее всего. Признайтесь, если можете, — кто вы?
Жан-Эдерн посмотрел на Таню, пыхнул трубкой, усмехнулся.
— Женщины всегда очень любопытны.
— И все-таки?
— Давайте прямо: на кого вы работаете? — поддержал я жену. — Выкладывайте, мы имеем право знать.
— Вы хотите от меня слишком многого. — Жан-Эдерн, невозмутимый, все курил и глядел мимо нас, прищурив глаза. — Но так и быть. Я работаю на тех, кого принято называть «хорошими арабами». Которые не хотят войны.
— А что, разве такие есть? — удивилась Таня. — По-моему, они здесь все одинаково помешанные.
— Ошибаетесь. В арабском мире есть очень влиятельные люди, которые привыкли добиваться всего мирным путем. Но этих людей не показывают в «Новостях», о них вообще мало кто знает…
— Нефтяные шейхи? — предположил я.
— Не только. Им невыгодна война, они делают большой бизнес, и на Западе тоже. Я вам говорил: после крушения Советского Союза на Земле осталось только две реальные силы: Америка и исламский мир.
— И вы приняли его сторону, — перебила Таня. Жан-Эдерн кивнул и продолжил:
— Есть, конечно, и другие: Китай, Юго-Восточная Азия… Но они пошли по иному пути. Если нет нефти и других полезных ископаемых, приходится вертеться. Япония, например, завалила весь мир своими товарами. Это их бескровная война. Что не удалось самураям, получается у тех, кто делает автомобили и компьютеры. При этом, будьте уверены, в душе они остались точно такими же, как раньше. Отомстили Америке за Хиросиму тем, что заставили покупать японские «тойоты» и «хонды». И продолжают мстить. Арабы выбрали другой вариант. Зачем строить заводы, если можно вкладывать деньги в любую отрасль в любой точке земного шара? Если копнуть поглубже, еще очень неизвестно, кто на самом деле заправляет мировой экономикой. Но за деньгами всегда тянется власть, а власти им как раз и не дают. Можете строить себе дворцы из золота, но цены на нефть будет диктовать кто-то другой. Неприятно, согласитесь. Слишком долго они были в тени, эти люди. Им очень хочется на свет. Они дают деньги экстремистам, потому что у них нет других способов реального давления на западные страны. Но как только ситуация изменится, терроризм исчезнет. Я убежден в этом, господа.
— А как вы относитесь к этому якобы пророку, Хаджи Абу Абдалле? — полюбопытствовал я.
— Удивительный человек. Совершенно необыкновенный. Такие рождаются, может быть, раз в тысячу лет, — не задумываясь ответил Жан-Эдерн.
— Вы им восхищаетесь, этим террористом? — выдохнула возмущенная Таня.
— Я восхищаюсь всем, что превосходит обычные человеческие рамки, — ответил Жан-Эдерн. — Гитлер и Сталин тоже, по-своему, заслуживают восхищения. Чингисхан, Наполеон… Они изменили историю планеты. Без них школьникам нечего было бы учить.
— Ну, это уже чересчур! — оскорбленно заметил Гюнтер. Хотя на его месте я бы помалкивал в тряпочку.
— Может быть, — улыбнулся Жан-Эдерн. — Наверное, жить в тридцать седьмом году в Германии или в России было довольно сложно. Но из сегодняшнего дня все это воспринимается по-другому.
— Как же? — перебил я.
— Хорошее и плохое перестают играть такую важную роль. Мертвые давно мертвы, живые занимаются своими делами… Все это на самом деле так мелко: политика, войны, интриги… До сих пор не могут выяснить, кто начал Вторую мировую — немцы или русские. А кто сейчас помнит о наполеоновских походах? Остаются только имена, личности. Они интересны потому, что сделали то, что обыкновенный человек сделать не в состоянии. Не важно, что именно. Главное — сделали. Ну-ну, господа, не смотрите на меня так. Ведь я в отношении вас не совершил ничего дурного, правда?
— Вы опасный человек, — сказала пасмурная Таня. — Я вас боюсь. Мне кажется, от вас можно ожидать чего угодно.
Жан-Эдерн рассмеялся:
— Представьте себе, мадам, вечер, темный переулок. Навстречу друг другу движутся двое. Один из них — обыкновенный прохожий, а другой, предположим, — грабитель. Что они чувствуют, как вы думаете?
— Нормальный человек боится, конечно. А тот, другой, — не знаю…
— Совершенно верно, нормальный, как вы выразились, человек испытывает страх. Если коротко описать его психические процессы, это страх жертвы. Что же касается грабителя, он себя отнюдь не чувствует жертвой. Он — охотник. При том, что в отношении взятого нами конкретного прохожего грабитель может не иметь никаких дурных намерений. В этом и состоит отличие одних людей от других. Жертва и охотник. Лично мне интересен только второй из них. Вы понимаете, о чем я?
— Интересно, а Иисуса Христа вы к кому причисляете? — Я не мог сдержать сарказма, внимая ницшеанским пассажам агента «хороших арабов».
— К охотникам, конечно! Он же прямо сказал апостолам: «Будете ловцами душ человеческих». Поймите, не важно, каким ярлыком помечен человек, важно то, охотник он или жертва. Скульптор или глина. Разве скопище потенциальных жертв не кажется вам чем-то вроде глины? В переносном смысле, конечно.
— Вы говорите как фашист, — заявил без тени сомнения Гюнтер.
— Зачем же вы нас спасли? — спросила Таня. — Нас, эту самую глину?
— Не стоит путать слова и действия, — кротко заметил Жан-Эдерн. — Кроме того, я дал слово заботиться о вас. И собираюсь его сдержать.
— Давайте сменим тему, — предложил я. — Мы все только что чуть не стали настоящими жертвами, и ваша философия, простите… она нам сейчас не близка. Лучше расскажите об Абу Абдалле. Я очень подозреваю, что он имеет отношение ко всему, что здесь происходит.
— С удовольствием. Только не надо считать, что я на его стороне. Я — наблюдатель. Я доверяю своим глазам и пытаюсь трезво оценивать то, что вижу. Насчет Абу Абдаллы вы, наверное, сами много чего знаете. Почти все, что о нем говорят, — правда. Редкий случай.
— Ну давайте, давайте, без предисловий, — мрачно проворчал Гюнтер. Что-то сильно ему не нравилось в нашем спасителе. Всегда ведь хочется видеть в таких людях саму доброту без изъяна.
— Абу Абдалла родился в 1957 году в Эр-Рияде. Его отец был кем-то вроде шаха из «Тысячи и одной ночи»: одиннадцать жен, полсотни детей, сказочный дворец… Занимался строительным бизнесом с огромным размахом, заработал около миллиарда или что-то в этом роде, не важно. Абдалла — это клан, империя, огромный процветающий консорциум с филиалами в двадцати или двадцати пяти странах мира. Но вы о нем никогда не слышали, верно? «Абдалла корпорейшн фор констрактинг энд индастри» не дает объявлений в газетах, не крутит ролики по ти-ви. Представьте себе, что помимо прочего, в 1998 году «Абдалла корпорейшн» построила для американских солдат, направленных в Персидский залив, казармы на сумму сто пятьдесят миллионов долларов! Кроме того, старый Абдалла был большим другом короля Саудовской Аравии Фейсала. Короче говоря, можете вообразить, в какой обстановке родился и вырос мистер Абу Абдалла. Парень обожал ковбойские фильмы, прекрасно играл в футбол, был даже капитаном команды. В 1973-м он окончил колледж в Джидде, затем два года учился в Бейруте с двумя своими братьями. Говорят, они не были примерными мусульманами и вели себя так, что папаше часто приходилось краснеть. Выпивка, девочки, бессчетные деньги… Словом, из Бейрута он уехал в Европу, затем вернулся, окончил университет. Для него уже было приготовлено кресло в совете директоров корпорации. К 1980 году Абу Абдалла стал примерным бизнесменом, руководил филиалом корпорации, заработал свой первый миллион. И тут внезапно происходит нечто странное. Вы помните, Советы напали на Афганистан. Никто не знает почему, но Абу Абдалла бросает все и вылетает в Пакистан, чтобы отправиться на войну. Оставляет бизнес, братьев и берет в руки автомат. Два года он воевал в Афганистане как простой муджахид, много раз рисковал жизнью. Наподобие лорда Байрона. Даже стал чем-то вроде легенды: ходили слухи, что он заговорен от пули, за его голову русские обещали большие деньги… Потом война окончилась, он вернулся домой героем. Но захотел вести джихад дальше. Семья от него отвернулась, такой бунтарь им был не нужен. Кончилось все тем, что Абу Абдаллу выгнали из страны и лишили гражданства. До сих пор у него нет легального паспорта…
…Он вынужден был начать все заново, с нуля. И начал. Абу Абдалла создал невидимую финансовую империю. Его люди вкладывают деньги по всему миру, выкупают пакеты акций, занимаются инвестициями. Но по документам ему не принадлежит ничего. Он — ноль, никто, аноним. Абу Абдалла никогда не подписывает никаких бумаг. Многие крупные компании даже не подозревают, кто является их настоящим владельцем. Проследить движение его финансовых потоков пока не удалось даже ФБР и Интерполу. Система настолько сложная, что эксперты становятся в тупик. Кроме того, Абу Абдалла великолепно играет на фондовых биржах. Специальная биржевая группа каждый день скупает и продает акции в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и Токио. Прибыли подсчитать невозможно. И невозможно поверить, что этим всем руководит один-единственный человек. Без паспорта, без гражданства, скрывающийся где-то в Гин-дукуше… А недавно я узнал любопытный факт: по сведениям «Нью-Йорк тайме», финансовая группа семейства Абдалла — один из ведущих соинвесторов американской «Кэролайн-груп». Это очень интересная компания. Известная только в очень узких кругах. Так называемый хаш-хаш-трей-динг. То есть предмет ее деятельности сугубо конфиденциален. В чем он состоит? Инвестиции в военную промышленность, космос и телекоммуникации. Финансовая группа «Абдалла» концентрировалась на аэрокосмической отрасли. А с американской стороны крупнейшими инвесторами «Кэрол айн» были, кроме прочих, семейства Рейгана и Буша-старшего. Есть даже информация о том, что старший Буш посещал штаб-квартиру «Абдалла корпорейшнл фор констрак-тинг энд индастри» в Джидде. Так что после 11 сентября Террорист Номер Один имеет самые выгодные инвестиции в тех отраслях, которые он же сам заставил развиваться с огромной интенсивностью. Разрушив Центр международной торговли, он стал богаче на десятки миллионов долларов…
…Второе: самая крупная в мировой истории тайная террористическая сеть. Его люди есть везде — в Европе, в Америке, в Азии. Сто тридцать четыре города, приблизительно десять тысяч человек, готовых незамедлительно исполнить любой приказ. Притом это не продажные наемники, а идейные камикадзе. Боевики Абу Абдаллы не получают денег за работу, это принципиальный вопрос. Конспирация, система международных коммуникаций — все отлажено невероятно. Можно убрать сколько угодно звеньев, но цепь останется. Известно около пяти тайных научных центров, которые занимаются всем: от паблик рилейшнс до бактериологического и химического оружия. Придумал все это, организовал и контролирует только он один, лично — Абу Абдалла.
…А теперь скажите: разве такое возможно? Чтобы некий тип, которого разыскивают спецслужбы всех цивилизованных стран, создал целое невидимое государство со своей экономикой, наукой, армией, реально угрожал Соединенным Штатам и при этом оставался беспаспортным бродягой без нормальной крыши над головой, без определенного рода занятий, изгнанный из собственной семьи?.. Если такой человек действительно существует, то он — гений…
— Мне кажется, что этого «гения» придумали реклам-щики, — возразил я, с любопытством выслушав эту краткую лекцию. — Или цэрэушники. Такой уж он крутой, такой супер-пупер… Может, он еще доказал теорему Ферма? Или открыл новый минерал?
— Напрасно вы шутите, — хмыкнул Жан-Эдерн.
— А я не шучу. Я просто не верю. Может, вообще нет такого человека — Хаджи Абу Абдаллы. Красивый собирательный образ — Идеальный Враг. И на фотографиях смотрится великолепно, и по телевизору его любят показывать. Если американцы действительно хотят прижать арабов, это же идеальный вариант! После одиннадцатого сентября руки у них полностью развязаны. Великую державу обидели, великая держава будет благородно мстить! Как в ковбойском фильме. Вам никогда не приходило в голову, мсье, что существует не глобальная террористическая сеть, а глобальный заговор между американскими и арабскими воротилами? Почему нет? Не менее абсурдно, чем новоявленный Леонардо да Винчи с автоматом…
— Знаете, — вдруг неожиданно, ни с того ни с сего сказала Таня. — Знаете, что я обо всем этом думаю? Вот американцы после одиннадцатого сентября катят бочку на арабов, да? А лучше бы спросили у своего президента: как же это так вышло? Они миллиарды долларов вкладывают в вооружения, эти всякие космические штуки, ракеты, такое прочее… Почему оно все не сработало? Президент, министры, сенаторы — они-то остались живы-здоровы, а пострадали простые мирные люди, те, кто платит налоги. Вот и надо спросить, куда эти налоги подевались! Кто виноват, что правительство самой вроде сильной страны мира не в состоянии защитить свой народ? Это же не только национальная трагедия, это национальный позор, хуже некуда! Президент первый должен был подать в отставку, если он порядочный человек… Помните, как все смеялись, когда Руст приземлился на Красной площади? Весь мир над нами смеялся, пальцами показывали… Так тогда хоть министра обороны сняли, еще маршалов каких-то. И Ельцин сам ушел — я так думаю, из-за Чечни тоже. Ведь просрали Чечню, стыдно. Столько народу положили зря. А американцам — как с гуся вода!
— Вы правы, — поразмыслив, отозвался Гюнтер. — После одиннадцатого сентября мы все думали, что начнем жить по-другому. Что все изменится, мир изменится. А ничего не изменилось, стало только хуже. Янки опять собираются бомбить Саддама… Нет, ничего не изменилось.
Я лежал на теплых ароматных досках палубы, закинув руки за голову. Стемнело; мы даже не заметили за разговорами, как быстро стемнело. Южная ночь возникает неожиданно, из ничего. Просто в несколько мгновений свет сменяется тьмой, словно выключают электричество. Яхту чуть покачивало, ласково, как колыбель. Прямо напротив мачты, низко, стояла красноватая круглая луна. От нее стлался по воде тонкий серебристый налет, живой и подвижный, как ртуть. Море дышало, можно было почувствовать его дыхание, сонное и ровное. В загустевшем небе были прорезаны яркие древние звезды, которые светили еще незапамятным финикийцам. Что-то покойное и торжественное присутствовало во всем этом пейзаже, чуждое людям, какие-то потусторонние силы царили над водой. Еще немного, почудилось мне, еще чуть больше тишины, и мир обязательно откроется другой своей стороной. Обнажит тайные пружины и механизмы, которые бесшумно движут явными вещами. Тогда станет ясно нечто такое, отчего жизнь сразу приобретет неоспоримый устойчивый смысл. Опору, которой все мы лишены, и мечемся в страхе, не зная, чего ждать от завтрашнего дня.
Мне вдруг захотелось, чтобы в мире непременно присутствовал Бог. Захотелось, чтобы Он был. Как факт. Как данность. Залог того, что есть некий определенный высший порядок, неподвластный ни Абу Абдалле с его террористами, ни вообще всему земному. Гарантия изначальной надежности механизма, неуничтожаемого порядка в системе. Тот, кто стоит выше всех этих нелепых исторических личностей, поганых сверхчеловеков, которые претендуют властвовать над нашей жизнью и смертью. Подлинный хозяин и жизни, и смерти, и всего, что находится между ними. Я хотел Его, Бога. Впервые в жизни я по-настоящему хотел знать, верить и надеяться на что-то высшее. Ведь действительно, думал я, насколько же мы все уязвимые и слабые существа. Наша жизнь не стоит ломаного гроша. Этот сумасшедший Санта-Клаус, который спрятался в Гиндукуше, уничтожил многие тысячи человек в Нью-Йорке. Что ему стоит направить свои самолеты на Москву? На Иерусалим? На Париж или Лондон? Мы, в двадцать первом веке, такие же беззащитные, как пещерные люди. Неужели все именно так и задумано? Чтобы человек жил в постоянном страхе за себя, за свою семью? Стоит только на мгновение отвлечься от будничной суеты, сразу понимаешь, что ты — бегущая мишень. Жертва. Все зависит от того, целятся в тебя или пока еще нет. Ситуация не меняется. Грабитель в переулке только думает, что он охотник. Это его личное заблуждение. На самом деле все мы стоим на одной доске. Все мы в одной лодке, в одной яхте. Без всяких переносных смыслов. Никто не знает, когда начнется шторм.
Кто он, Бог? — думал я. Моя жена считает, например, что Бог — это безличное высшее начало, абстрактный Абсолют, пронизывающий все вокруг. Так их учат в школе йоги. Я никогда не мог понять эту идею. Невещественный, абстрактный, условный Бог… Бог, сведенный к философскому понятию… Нечто, something… Оно… Нет, это не то, я чувствовал, что не то. Бог должен быть живым и осязаемым, он должен быть присутствием, собеседником… Только тогда в него можно верить, только тогда можно уповать на него. Бог должен быть выше всяческих измышлений, неподвластным человеческому уму, конечно. Но в то же самое время чем-то очень простым, очевидным, явным и ясным. Трудно описать слепорожденному апельсин. Но даже слепорожденный может его съесть. Так я думал, лежа на палубе и глядя на звезды. Тут важен факт, а не размышление. Не теория, а голый, осязаемый, ощутимый факт. Не понятие, не смысл понятия, но нечто очевидное, бесспорное. И не враждебное лично мне. Вообще никому не враждебное. Может, он не разделяет наших заблуждений, наших идеалов, стремлений и чувств. Может, у него свои взгляды на эти вещи. Скорее всего именно так и есть. Но он нас понимает. Понимает, какие мы есть, насколько мы запутались. Должен, обязан понимать, иначе какой же Он Бог на самом деле? Понимать и сочувствовать, быть добрым.
Однако эти фанатики-камикадзе тоже веруют в Бога. Не просто веруют и не валяются на палубе, как я, рассуждая о вечном. Их вера — это их жизнь, которую они не боятся отдать за свою веру. Как же так? Во что же они верят? Неужели существуют разные боги, добрые и злые? Нет, вряд ли. Иначе это не боги, а просто склочные небожители, как в древнегреческих мифах. Кто же прав? Абу Абдалла объявляет войну всему миру во имя Бога. Это же не шутка! Чего он хочет? Власти над целой планетой? Просто власти? Может, и так. Но слишком просто. Слишком простое, вульгарное объяснение. А что, если… если прав именно он, Террорист Номер Один? Если его Бог — единственный и истинный? Аллах, который акбар? Который благословил бойню в Центре международной торговли? Ведь все мои предположения — всего лишь испуганные вопли о помощи в пустоту. Случайные, по обстоятельствам, вопли. Адресованные условному доброму дедушке на небесах, который — мне так захотелось — должен существовать. И помогать мне, нам. Я не знаю ни одной молитвы, а эти люди молятся пять раз в день. Я за тридцать лет не пожертвовал для Бога ни единой секундой времени, а они не задумываясь отдают за него жизнь. Жизнь им не дорога! Так, может быть, они знают о Боге больше, чем я? Может, на их стороне истина?..
Но если они действительно правы, тогда всю нашу цивилизацию, культуру, достижения, идеалы, чувства, мораль — все абсолютно! — следует перечеркнуть жирным черным крестом.
И в моей голове вдруг сложилась молитва. Я сказал, обращаясь к Неведомому, к Тому, Кто мог бы это услышать и отозваться:
— Господи, кем бы Ты ни был! Ты видишь, в каком мы все сейчас положении. Может быть, мы жили неправильно, сделали много ошибок, натворили много глупостей. Но у нас, наверное, будет шанс все исправить. Мы не законченные тупицы, у нас есть сердце. Кроме Тебя, нам больше не на кого надеяться. Пожалуйста, помоги нам! Вытащи нас из этой ситуации. Сделай так, чтобы Машенька, Таня, Гюнтер, Жан-Эдерн и я остались живы и здоровы. Наверное, для Тебя это не трудно. Пусть мы проживем столько, сколько нам отпущено свыше, и умрем когда угодно, но только не сейчас, не здесь. Пожалуйста, сделай это!
В ответ издалека, из тьмы, отчетливо и громко застрекотал вертолет.
Первой отреагировала Машка:
— Ур-р-рааа! — и запрыгала по палубе.
— Слава Богу, — выдохнул я.
— Посмотрим еще, возьмет он нас или нет, — с сомнением сказала Таня.
— Ну вот, похоже, и все, друзья мои. — Жан-Эдерн поднялся, хрустнув косточками. — Ваше приключение подходит к концу. Через пару дней будете в Москве, дома… Я вам так завидую, — неопределенно, в сторону сказал он. — Необычный получился отпуск, да? Будет о чем вспомнить.
Один лишь Гюнтер мрачно молчал.
Вертолет был где-то поблизости, рядом. Но луна скрылась, и в кромешной темноте его было не различить. Кажется, машина делала круги на приличной высоте, возможно, направлялась куда-то по своим делам. Теоретически они должны были включить прожектор, если собирались кого-то искать на воде, беглецов. Или иметь прибор ночного видения. По тяжелому рокоту двигателей было ясно, что вертолет военный. Пару раз звук приближался к яхте совсем вплотную, вертолет был чуть не над нашими головами, но затем слабел, удаляясь. Воздушные их пируэты были непонятны.
— Надо дать им знак, — догадалась Таня. — Может, покричим вместе?
— Была бы ракетница, — пожалел я.
Мы не знали, что делать. Летчики явно не интересовались нами, если даже и видели яхту. У них были свои планы. Может, имели специальный приказ: никого не брать на борт, не знаю. Когда стрекотание раздалось совсем близко, я вдруг почувствовал: это — последний раз. Сейчас они уйдут, исчезнут, смешаются с тьмой. Мы все это почувствовали. Гюнтер, не говоря ни слова, неожиданно поднял с палубы автомат и дал несколько очередей в воздух. Три или даже четыре. Жан-Эдерн стал белый как стена, лицо просто засветилось белизной в темноте.
— Идиот! — заорал он во всю силу легких и с размаху ударил Гюнтера кулаком в лицо. Здоровяк, на полторы головы выше француза, взвыл и рухнул на палубу, выронив оружие.
— Fick dichins Knie! — Гюнтер корчился, держась рукой за челюсть.
— Salopard, будь ты проклят! — Жан-Эдерн метнулся к мотору, рванул на себя какую-то рукоять. — Что ты наделал, кретин!
Я не понимал, что случилось, стоял, остолбенелый. Мотор заурчал, мы тронулись с места — прямо к берегу.
— Что происходит? — ахнула Таня.
— Жилеты! — взревел Жан-Эдерн. — Там, на корме, спасательные жилеты. Всем надеть, быстро! Выполнять!!
Он говорил как гипнотизер, заставлял подчиняться не думая. Мы бросились, толкая друг друга, к корме, начали в спешке натягивать эти спасательные жилеты. Я вдруг понял, что сейчас будет. Очень быстро все понял! Невидимый нам вертолет, словно только того и ожидая, пошел на круг. Жан-Эдерн гнал яхту к берегу, берег уже смутно виднелся.
Угрожающее стрекотание приближалось, нарастая. Сомнений больше не было: там, в кабине, решили, что мы стреляем по ним. Гюнтер совершил самую большую ошибку в своей жизни.
— Прыгайте! — отчаянно крикнул Жан-Эдерн. — Прыгайте немедленно!
Мы прыгнули в парную, теплую, спокойную воду, в великолепное курортное Средиземное море. Жан-Эдерн тащил на себе Машку, греб как дельфин. Мы старались не отставать. Вертолет приближался. Минута, может быть, прошла, и громыхнул взрыв. Стало совершенно светло на мгновение, за нашими спинами поднялось алое полыхающее зарево. Гигантская, так показалось, волна швырнула нас вперед и погнала на скорости к берегу. Она нас спасла, волна от взрыва. Я оглянулся. Никакой яхты больше не существовало. Несколько горящих досок покачивались на поверхности. Вдарили ракетой, чтобы наверняка. Вертолет удалялся, стрекотание затухало вдали. Доложат на базе, что удар был нанесен с хирургической точностью.
Берег оказался близко, метров сто или меньше. Каменистый, пустой, без признаков жилья. Голые скалы. Кустарник, валуны. Мы выбрались на сушу, целые и невредимые. Останки яхты погасли, снова вышла луна. Серебристое море по-прежнему равнодушно плескалось у наших ног. В лунном рассеянном свете камни и островерхие скалы казались нереальными, инопланетными. Тишина была настолько густой, что звуки нашего тяжелого дыхания с трудом просачивались сквозь нее. Дикий берег, ни огонька, ни лодки. И приближаться к людям небезопасно.
— Господи, что теперь? — Таня дрожала, прижавшись ко мне. Хрупкое, холодное, мокрое тело. Оно билось, толкая меня в грудь отвердевшим плечом. — Куда нам теперь идти?
Жан-Эдерн внимательно озирался по сторонам, держа на руках моего Ежа.
— Кажется, это район Эль-Кантаи… Километров десять — пятнадцать до города. Насколько я знаю, Эль-Кантаи все еще контролируют правительственные войска. Нужно подняться по склону, там должна быть дорога. Идемте!
— Может, подождем до утра? — виновато попросил Гюнтер. — Es tut mir sehr weh.
Вид у него был усталый и побитый. На нижней челюсти — огромная алая ссадина.
— Только потеряем время, — отрезал Жан-Эдерн, поднимаясь.
Подъем: крутой и каменистый. Тропу в лунном свете было видно не так уж плохо, но она осыпалась под ногами, подошвы скользили. Какие-то мерзкие колючие растения царапали тело, норовили достать до глаз. Жан-Эдерн, посадив Машку на шею, карабкался первым. За ним — Таня, я и Гюнтер — в хвосте. Вздыхал, стонал, охал. Внезапно Таня покачнулась и с криком, заскользив, начала съезжать куда-то вбок.
— Ч-черт! — Я бросился к ней, едва успев ухватить за плечо. — Что с тобой?
— Помогите, помогите, — хрипела Таня, пытаясь свободной рукой поймать мою.
Ее ноги болтались в пустоте.
— Жан-Эдерн! — крикнул я. — Сюда, скорее!
Вместе мы с трудом вытащили Таню на тропу. Бедная моя девочка попыталась встать и тут же упала.
— Мамочка, что с тобой?! — Машка бросилась к ней.
— Ничего… нога… подвернула, кажется… пройдет…
— Отойдите, не трогайте ее!
Жан-Эдерн уселся рядом с Таней на корточки. Мы сгрудились за его спиной.
— Так больно?
— Ай!
— А так?
— А-аа!!
— Ясно… — после паузы. — Перелома нет, кость цела. Обыкновенный вывих. Don't cry, honey. Вам придется нести ее, парни.
— Простите меня, ребята, — сквозь слезы простонала Таня.
— У вашей жены хорошие связки, — уважительно заметил мне Жан-Эдерн. — Все могло быть гораздо хуже. Она спортсменка?
— Йог, — ответил я. Жан-Эдерн улыбнулся:
— Моя бабушка говорила: «До свадьбы»… Это правильно по-русски? Mariage, свадьба!
— Правильно, правильно… — всхлипнула Таня.
— Тогда вперед!
Мы с Понтером понесли Таню на плечах. Держась друг за друга, за Жан-Эдерна, скользя и спотыкаясь.
— Ты очень легкая russische Frau, — прохрипел, отдуваясь, Гюнтер, когда мы примерно через час оказались наверху. — Русские фрау обычно очень большие?
— Большую ты бы не вытянул, — тихонько ответила Таня. Гюнтер ее, кажется, понял.
Дорога действительно была — широкое и гладкое скоростное шоссе. Никаких древнеримских via. Никаких машин. Обессиленные, упали у обочины. Жан-Эдерн потребовал, чтобы мы отползли в кусты. Спросил шепотом:
— Болит нога?
— Не очень, — соврала Таня. Думаю, ей было невыносимо больно. Но держалась. Откуда в ней, капризной и избалованной, вдруг взялось столько стойкости?
— Дай-ка я попробую, девочка…
Он отломил от ближайшего кустарника толстую ветку и принялся обрезать карманным ножиком длинные колючки.
— Что вы собираетесь делать? — удивился я.
— Кое-чему научился в Камбодже… Нас осталось тогда пять человек в джунглях. Мартышки устроили засаду, перебили почти всех. Лейтенанта контузило. Его звали Пьер… Пьер Бодлер, как поэта. Мы сделали из лиан носилки и несли Пьера на руках. Хороший был парень, песни любил петь. Убили его в Анголе… Привязали к столбу, разрезали живот и натолкали туда соломы. Когда мы пришли, на нем были мухи, сплошным слоем мухи, рой… Ладно… Тогда в джунглях мы наткнулись на одну деревню. Все разбежались, остался только один старик монах. Так и стоит сейчас его лицо перед глазами… Маленький, тощий, желтый, уродливый. Передние зубы торчат вперед, как у хомяка. Какая крыса мерзкая, я еще тогда подумал. Храм сожгли — кто-то постарался до нас. И этот монах сидел на каменном крыльце, засыпанном пеплом. Один-единственный. Нас не боялся. Он вообще, по-моему, никого на свете не боялся. Перебирал четки. Взгляд его меня поразил. Вроде человеку совершенно наплевать на жизнь, на смерть… Мы для него — как тени. Поднял глаза, а смотрит куда-то сквозь. Как будто нас вообще нет. Мы тут стоим, понимаете, с оружием, пятеро здоровых мужиков, кровью перепачканные, злые как черти, а он нас не замечает! Мне его, честно говоря, страшно захотелось пристрелить. Вот за этот взгляд… Короче говоря, мы положили Пьера перед ним, молча. Он ничего не спрашивал. Тоже молча достал из-под своей рясы какие-то иголки, травы… Я наблюдал очень внимательно… Больно так?
— Нет, — удивленно улыбнулась Таня. — Совсем не больно.
— Пока старик лечил лейтенанта, я не отходил от него ни на шаг. Смотрел, мало ли что. Монах за это время и слова не сказал. Но он был… даже не знаю, как сказать… Рядом с ним чувствуешь себя в безопасности. Такая, знаете, уверенность приходит… ну, что на самом деле ничего с тобой плохого случиться не может. Как будто ты не в джунглях, а дома… море шумит за окном… Никогда в жизни, ни до того, ни после, мне не было так спокойно. Чудесный старик. А на третий день Бодлер очнулся. Знаете, какие были первые его слова? «Вёв Клико». Это шампанское, «Вёв Клико», отличное шампанское. Лейтенант его пил, пока был в обмороке. Ему приснилось, что выпил целый ящик… Через несколько лет, в Бангкоке, я целый год жил в лавке одного китайца. Тоже научился кое-чему… Я сейчас вспоминаю это все и знаете, о чем думаю? Мы ведь не за деньгами пошли в Иностранный легион. Ну, некоторые, конечно, только из-за денег, а большинство — нет. Хотелось быть героями, совершать подвиги. Почувствовать себя настоящими мужчинами… Что нас ждало во Франции? Работа, семья, телевизор… Дни все как один похожие друг на друга. Трудиться, чтоб наполнить желудок, и наполнять желудок, чтобы иметь силы трудиться дальше. Маленькие пошлые удовольствия и бессмысленность… бессмысленность до самой могилы. Пустота. Среди нас были образованные, начитанные парни, обожали экзистенциалистов. Я сам прочел «Постороннего» раз, наверное, двадцать. Война казалась единственным выходом, достойным мыслящего человека. Красиво жить, красиво умереть… Потом, конечно, мы поняли, что такое война, что она за дерьмо. Но этих арабских самоубийц, которые взрывают себя на дискотеках или еще где, — их тоже можно понять. Как хорошо геройски погибнуть в восемнадцать лет за великую идею, когда еще не раскусил жизнь, не узнал, в какой заднице мы все находимся!.. Когда в душе есть еще хоть капля искреннего чувства! Что толку быть таким, как я, старым занудой, который видит все как оно есть? Что за merde прожить полвека и убедиться лишь в том, что мир — всего-навсего обычный театр? Не болит нога?
— Не-е… — Голос Тани был вялый и сонный.
— Вот и хорошо. Теперь спи. Вы тоже поспите, друзья. Я буду в карауле.
Я проснулся от сильного тычка в грудь. Тыкали чем-то твердым, железным. Открыл глаза: у лица покачивался ствол «Калашникова». Мы уснули все, и Жан-Эдерн тоже. Теперь было утро, и вокруг нас стояли вооруженные люди. Один из них, видимо, старший, — в полевой форме без погон. Наверное, офицер. Жестом он приказал нам встать. Жан-Эдерн что-то сказал ему по-французски, тот ответил.
— Он хочет знать, кто мы такие.
— Скажите ему, — бессильно вздохнул я. Жан-Эдерн принялся что-то объяснять.
— Франсе, руссе, альманья, — брезгливо выговорил офицер. Загорелый, небритый, усталый и злой. И скомандовал по-арабски, обращаясь к своим солдатам.
Нас, без лишних слов, схватили, умело связали руки и повели к машине. Оказывается, на дороге стояли грузовик и армейский джип.
— Я гражданин Германии! — выкрикнул, упираясь, Гюнтер. — Я журналист! Вы не имеете права!
— What's a fuck are you doing? We are foreign citizens! — прохрипел я.
Офицер пожал плечами и ничего не ответил. Гюнтеру заломили руки за спину и потащили, вопящего, к грузовику. Мы благоразумно двинулись сами.
Таня молчала, хромала, но шла. Машку волок за руку один из автоматчиков. Бросили всех в кузов, повезли. Дали нам пару конвоиров. Молодого, с веселыми блестящими глазами, и постарше, угрюмого и чернобородого. Молодой пялился на нас с любопытством, искоса, бородач не поднимал глаз от пола. Машка испуганно таращилась на них, на их блестящее новенькое оружие.
— Папа, что теперь с нами будет?
— Ничего страшного, Еж. Нас просто взяли в плен.
— Но мы же не солдаты, как нас могли взять в плен?
— Не знаю…
— Бог ты мой, когда же это все кончится? — Таня снова зарыдала. — Чего они от нас хотят? Зачем мы им нужны?..
— Скорее всего возьмут в заложники, — скривившись, пробормотал сквозь зубы Жан-Эдерн. — Этот, в форме, насколько я понял, — Али Хамза, полевой командир. Здесь в каждом районе — своя банда. Merde, я уснул как последняя свинья!..
Бородатый конвоир грохнул по полу прикладом: прекратить разговоры! Мы испуганно смолкли. Со злой иронией я вспомнил, как молился на яхте. Что же, Всевышний воистину заступился за нас…
Очень скоро свернули с хайвея на разбитый и ухабистый проселок. Началась пустыня, каменистая и красноватая выжженная земля. Грузовик подбрасывало на колдобинах, швыряло из стороны в сторону. Все, что напоминало цивилизацию, исчезло. Только пыль, желтая трава, песок и кривой кустарник. Дышать стало нечем, носоглотку забило сухой пудрой, повисшей в воздухе.
— Мы где-то у оазиса Эль-Фахз, — тихо сказал Жан-Эдерн примерно после часа езды. — Наверное, туда и направляемся.
Бородатому наскучило, видимо, сидеть просто так. Из складок одежды он выудил короткую трубочку с круглой чашкой на конце и принялся меланхолично набивать ее коричневой смесью из полотняного грубого кисета. Молодой с интересом наблюдал за его действиями. Бородач чиркнул зажигалкой, затянулся. Резко и отчетливо запахло крепкой шмалью. Глубоко всосав дым, он передал трубку молодому, который тотчас жадно впился в нее.
— Kraut, — констатировал Гюнтер. — Marijuana. И без него было ясно, что курят эти бандиты.
Ехали долго. Страшно хотелось пить, кисти рук отекли из-за жестких веревок. От едкого дыма пополам с пылью болела голова. Наконец за грядой холмов показались пальмы, глинобитные домишки. Видимо, это и был Эль-Фахз. Грузовик встал, скрипнув тормозами. Конвоиры, пошатываясь, спрыгнули на землю, стволами показали нам: выходите. Оазис: кособокая, крашенная известкой мечеть с кургузым минаретом, обнесенная стеной. Дюжина финиковых пальм в ряд у стены. Дальше — глинобитки, кубики с плоскими крышами, бетонное приземистое сооружение, военное с виду. Окна забраны толстыми решетками. Несколько тощих собак лениво забрехали, увидев нас, затем равнодушно повалились в пыль. Показалась на секунду женщина, закутанная в покрывало. Несла на голове огромную плетеную корзину. Тотчас испуганно юркнула в проулок. Больше ни души. Нас погнали к мечети, из ворот которой шел навстречу низенький куцый человечек в камуфляже. Расстегнутый ворот, автомат на плече, блестящий выбритый череп, драная бороденка.
— Салам, Хусейн-бей! — крикнул ему офицер.
— Салам! — простуженно отозвался бритый Хусейн.
Нас одернули, заставили остановиться. Али Хамза о чем-то говорил с Хусейном, похлопывая его по плечу. Каждый хлопок выбивал облачко рыжей пыли. Хусейн недобро косился на нас, зыркал исподлобья. Затем покивал Али Хамзе, сплюнул, подошел.
— Русские?
Вопрос был задан на языке Пушкина и Достоевского. С непередаваемым горским акцентом.
— Не все, — ответил я. — Только мы трое. Еще француз и немец.
— Нигдэ от вас покоя нэт, от собак, — скривился Хусейн. — Руки покажи.
Я протянул ему связанные руки, затекшие, синие. Он брезгливо и тщательно осмотрел мои ладони.
— Армия ходил? Чечня воевал?
— Нет, нет, — поспешно ответил я. — Ни в Чечне, ни в Афгане. Я вообще не служил.
— Откуда сам?
— Из Москвы.
— Москва кем был? На кого работал?
— Я программист. Специалист по компьютерам.
— А тэпэрь гавно будэшь! — Хусейн ощерился, довольный. Сверкнули щедрые золотые коронки в ряд. — Параша заставлю чистить, хуже собаки будэшь. Бабу твою будэм ибат всэ вместе, понял, да? А ты смотрэть будэшь. Сапаги лизат заставлю. Старший брат мой, суки, убили, племянник тюр-ма сидит, дом спалили, атэц-мать в горах прячутся — за все мне отвэтишь, козел!
— Послушайте, я мирный человек… я никого не убивал… я не был на войне… чего вы от меня хотите?..
— Всэ русские — казлы и собаки, — заявил он, толкнув меня кулаком в грудь. — Хуже собак. Аллах вас нэнавидит.
Жан-Эдерн, побагровев от ярости, бросил ему по-арабски несколько фраз. Наверное, бабушка достаточно обучила его языку предков, чтобы понять чеченского подонка. Хотя бы в общих словах. Хусейн прищурился, зеленые глаза по-волчьи заблестели. На голом черепе выступил пот:
— Приятэлю своему скажи: насрать минэ, кто он такой, понял, да? Я ему сейчас голова, на хер атрэжу, чтоб языком нэ трепал. Пэрэведи. Я с этим гавном гаварыт нэ буду.
Я перевел. Жан-Эдерн стиснул зубы, но промолчал. Потом коротко бросил по-английски:
— Не бойтесь его.
— За вас всэх викуп будут платить. Много тисяч долары. Две неделя викуп не будэт, падохнэтэ бэз базара. А пока работат будэтэ. Всо.
Он круто развернулся и потопал обратно в мечеть, сволочь.
Самое худшее, что могло произойти с нами, произошло. Самое худшее, исключая смерть. Хотя смерть казалась тогда желанным исходом. Нас бросили в зйндан. Это яма в земле метра три глубиной. Ширина — тоже около трех. Сверху зиндан запирался грубой деревянной решеткой с амбарным ржавым замком. Внутри было только ведро для отходов, и все. Солнце стояло прямо над нами, над головой. Я не хочу сейчас это все вспоминать, слишком тяжело. Таня несколько раз падала в обморок. Жан-Эдерн приводил ее в чувство. Жажда… дай вам Бог никогда не узнать, что такое настоящая жажда. Когда язык распухает во рту, становится неподвижным, толстым и шершавым, как деревяшка. Слизистая высыхает, берется рубцами и жесткой коркой. Дышишь через нос, с трудом, рывками, свистя. Воздуха постоянно не хватает, тебя не отпускает страх задохнуться. Высыхают глаза, становится больно моргать. Как будто насыпали по горсти песка в каждый глаз. Тело немеет, теряет чувствительность. Чтобы пошевелить рукой или ногой, нужны нечеловеческие усилия. Перестает работать мозг, прекращает думать. Вокруг плывут синие и оранжевые круги, слышатся странные звуки, которые долго отзываются эхом. Например, пение. Несколько часов подряд я слышал заунывную русскую песню, все пытался разобрать слова и не мог. Пел хор мужских голосов, то громче, то тише. Потом песня распалась на куски. Они перемешались между собой и звучали одновременно, приходя с разных сторон. Так прошел первый день, до вечера. Когда стемнело, нам спустили грязную канистру с водой и несколько кусков окаменевшей лепешки. Как собаки, как звери, мы лакали вонючую, отдававшую бензином воду, протирали лицо, глаза.
Жара спала почти мгновенно. Стало прохладно, затем и по-настоящему холодно. Я читал когда-то, что в пустыне ночами бывает страшный холод, теперь узнал на практике. Мы пришли в чувство, но тряс озноб. Сгрудившись, обхватив друг друга, прижавшись, заговорили. Точнее, заговорил Жан-Эдерн:
— Они хотят нас запугать. Но убивать не будут, точно. Это простые бандиты, не фанатики. Им нужен выкуп. Только деньги, больше ничего. Не перечьте им, делайте все, что скажут. Зря ты, Гюнтер, сказал им про свой журнал. За тебя будут требовать больше, чем за других. Если станут спрашивать снова, скажи, что пошутил. Вы, русские, не бойтесь чечена. Он не главный, просто наемник. Их много воюет по всему миру. Главный — Али Хамза. Я о нем слышал. Бывший кадровый военный, спецназовец. Когда правительство начало чистку в армии, его выгнали. Теперь мстит.
— Что… нам… делать… — с трудом открывая рот, умоляюще прошамкал я.
— Пока не знаю. Завтра будут говорить с каждым отдельно. Или послезавтра, скоро. Плохо, что имя Мохаммед Курбан здесь ничего не значит. Он был силен на востоке, тут — нет.
— А сколько они захотят денег? — Таня громко стучала зубами.
— Неизвестно. За вас троих — тысяч сто, за Гюнтера — больше раза в два.
— А за вас?
— Если узнают, кто я, — убьют сразу. Если мне удастся их убедить — отпустят через время.
В который раз мне показалось, что Жан-Эдерн не тот, за кого себя выдает. Даже его признание на яхте — пустые слова.
— Они не имеют права, — принялся за свое Гюнтер, подвывая. — Sie haben kein Recht. Я буду требовать, чтобы меня связали с немецким консулом…
— Требуй, — отрезал Жан-Эдерн и умолк.
— Нужно согреться, — вдруг убежденно сказала Таня. — Есть одно йоговское упражнение. Машуник, ползи ко мне. Помнишь, я тебе показывала «уддияна-бандху»? Помнишь?
Машка затравленно кивнула.
— Давай-ка их научим, доченька. Смотри, здоровые дядьки замерзли и дрожат как кролики. Сейчас мы вас всех быстренько разогреем!
Мы с Жан-Эдерном тоскливо усмехнулись, Гюнтер все бормотал как припадочный, что они не имеют права.
— Показывай, Маш, — продолжала Таня, силясь выглядеть достойно. — Ты же умеешь, у тебя всегда получалось. Помнишь, как мы с тобой сильно-сильно замерзли тогда на пруду, помнишь? А потом сели на лавочку и начали греться. Ка-а-ак начали! Да ка-а-ак согрелись! Помнишь ведь, правда?
— Помню, мамочка, — пролепетал бедный Еж.
— Тогда начали!
— Ну… сначала нужно сесть в лотос… — сказала она нехотя, чуть отвердевшим голоском. — Одну ногу так, другую — так…
— У меня не получается, — капризно произнес Жан-Эдерн. — Я слишком старый и толстый.
— Пробуйте, надо пробовать! — потребовала Таня. — Можете только одну ногу пока положить, потом у вас получится и вторую. Только нужно обязательно каждый день тренироваться.
Не помню, на каком языке мы тогда говорили, как понимали друг друга… Наверное, открылось что-то бессознательное, как до Вавилонского столпотворения. Когда язык был у всех один. И люди строили башню, чтобы увидеть Бога и говорить с ним. И Бог отомстил им, навсегда посеяв непонимание и раздоры. Тот самый добрый Боженька… Как я его ненавидел тогда!
— Теперь спинку держите. — Машка понемногу увлекалась. — Спинку надо держать прямо-прямо, как на танцах.
Мы, кроме Гюнтера, кое-как выпрямили спины.
— У вас же сколиоз, молодой человек! — воскликнула Таня. — Я вам потом покажу специальные упражнения, будете лечить свой позвоночник. А позвоночник — основа здоровья. Есть прекрасная поза Змеи, поза Плуга, другие позы…
Гюнтер сопел, кряхтел, выпрямлялся.
— Втянули животик, положили ручки на коленки, — звенел в темноте тонкий голосок моего Ежа. — Вдо-о-ох — вы-ы-ыдох… Еще разочек…
Окончательно выбившись из сил, уснули почти под утро.
Нас разбудила отрывистая, как лай, команда. Отодвинули решетку, сбросили лестницу. Щурясь, мы выползли наверх. И я увидел кандалы. Настоящие, с крупными звеньями, тяжелые ржавые кандалы. Они валялись на песке у ног чечена. Чечен скалился, смоля самокрутку. Двое бородатых надели кандалы нам на ноги, заклепали их молотком на специально принесенном куске рельса. На Машку кандалов не нашлось. Чечен пальцем указал ей возвращаться в зиндан.
— Давайте поговорим о выкупе, — предложил я.
— Заткнысь! — отрезал он.
Подогнали грузовик. Звеня цепями, забрались внутрь. Это действительно было так: звеня цепями. Стальные обручи прилегали неплотно, царапали щиколотки. Я сразу понял, что ногам каюк. Исхудавшие, испуганные, ободранные и грязные, мы напоминали рабов на галерах. Впалые щеки, глаза горят, вытаращенные, на лицах беспомощность и страх. Даже Жан-Эдерн, показалось мне, сдал. Бывалый вояка уже постарел, наверное, для таких приключений. Гюнтер всхлипывал, закрыв лицо руками. Ногти у него были обкусаны до крови. Ехали часа полтора или чуть больше. Уже из кузова я увидел что-то зеленое, какое-то поле. Когда остановились, все стало ясно. Между пологими каменистыми холмами была спрятана укромная долина. Как два футбольных поля примерно. На длинных упругих стеблях покачивались крупные, с детский кулачок, головки с ажурными венчиками. Созревший мак. Не такой, как у нас, — скромный полевой цветок, коротенький, хлипкий. Стебли были высотой в полметра, даже больше, с мизинец толщиной, сочные. И головки — нежно-розовые, как тюльпаны, налитые, бокастые. На холмах я увидел вооруженных часовых, закутанных в тряпки. На плантации — с десяток меланхоличных работников, в основном женщин. Движущиеся мешки с руками и ногами. От макушки до пят — сплошной плотный мешок с прорезью для глаз.
Нам показали, что нужно делать. Головка мака тонко надрезается сверху вниз в четырех-пяти мертах. Сквозь надрезы проступает беловатый млечный сок. Это нужно оставить до следующего дня, пока сок загустеет. Загустевший сок, темную смолу, собирают в специальные посудины и делают новые надрезы. Нам выдали короткие ножички, посуду и погнали в маковые джунгли. Скоро стало ясно, что на этом поле мы и умрем. Вышло, выкатилось воспаленное солнце, обливая нас расплавленным прозрачным металлом. Двигались медленно, сонно, каждое движение давалось адским усилием. Кружилась голова. Пытались держаться друг за друга, чтобы не упасть, но чечен, матерясь и пинаясь ногами, требовал, чтобы каждый обрабатывал свою делянку. Внезапно я услышал протяжный вздох и шорох, резко обернулся. Над головками мака не было Таниной головы. Я бросился туда. Таня лежала на земле, разбросав руки. Я присел, начал тормошить, бить по щекам — бесполезно. Она дышала еле-еле, но совершенно не реагировала ни на что.
— Эй! — закричал я. — Эй, кто-нибудь, помогите!
— Что орешь, сука? — Чечен появился незаметно и тихо из зарослей, пожевывая травинку.
— Женщине плохо! Пожалуйста, дайте воды.
— Пэрэбьется. — Он подошел к Тане и безразлично, как вещь, пнул ее ботинком в бок. — Вставай, коза! Хватит притворяться.
— Не смейте ее трогать! — Я кинулся на чечена, оттолкнул его. — Вы же человек, не зверь. Она может умереть. Дайте воды, я вас прошу!
Чечен удивленно посмотрел на меня, как на странное природное явление — говорящую лягушку, покачал головой. Размахнулся, легко, без усилий, ударил в лицо. Я упал сразу, даже не почувствовав боли. Мгновенно оказался на земле. В голове стоял звон, перед глазами плыли, вырастая один из другого, оранжевые и белые круги. Чечен подошел, задумчивый, снял автомат, уткнул ствол мне в пах.
— Еще раз такое будэт — вистрелю, — сказал без особых эмоций и передернул затвор. — Тэпэр вставай, работай.
Я покорно, безропотно встал. Он отстегнул от ремня фляжку, протянул мне:
— Чэрэз пят минут она встанэт. Если нэт — сам приду и падныму. — Некоторое время он стоял молча, разглядывая мою Таню. — Хароший баба у тэбя. Может, сэбэ ее оставлю, нэ буду вообще продават…
Воды во фляжке оказалось достаточно. Я полил Тане на лицо, дал попить. Она закашлялась, открыла глаза:
— Господи, где я? Что со мной такое?
— Вставай, пожалуйста… Прошу тебя, встань. Иначе этот подонок…
— Я не могу…
— Надо… Надо встать…
Я обхватил ее, поднял, поставил на ноги. Таня шаталась, еле-еле держала равновесие. Глаза у нее были бессмысленные, мутные.
— Я… больше… не могу…
— Терпи, терпи… На, попей еще немножко. Появилась женщина в черном — ходячий мешок и щель для глаз. Проходя мимо нас, не останавливаясь, молча сунула мне в руку замотанное в платок яблоко. Сразу исчезла, бесшумная. Я ткнул яблоко Тане:
— На, поешь…
Кое-как мы закончили этот проклятый день, вернулись в зиндан. Машка лежала в углу ямы, свернувшись бубликом, как маленькое животное. Ее колотил крупный, со стуком зубов, озноб. Кожа была воспаленная, ярко-красная, обгоревшая.
— Солнечный удар, — сразу определил Жан-Эдерн. — Ребенку нельзя здесь находиться. Она может умереть…
— Что с тобой, девонька моя? — Таня подползла к малышке, но едва нашла силы протянуть руку и погладить ее по жестким, сухим волосенкам.
— Мне страшно, мамочка… — дрожа, еле выговаривая слова, ответила Машка.
— Почему тебе страшно, Ежик?
— Ко мне приходили белые медведи… большие белые медведи… Они сказали, что заберут меня на Северный полюс… Там так холодно, так холодно… Я не хочу на полюс… я там совсем замерзну…
— Какие медведи? Какой полюс? — Я провел кончиками пальцев по ее лицу — грубая, шершавая, горячая кожа.
— Она бредит, — сказал глухо Жан-Эдерн. — Еще один день девочка здесь может не пережить.
— Мне холодно, мамочка, — простонала Машка. — Укрой меня одеяльцем… Где мое одеяльце?
— Все в порядке, малышик, все в порядке, — еле слышно шептала Таня. — Медведи больше не придут… Все злые медведи ушли далеко-далеко…
— Подонки, они просто подонки, — хрипя, процедил Гюнтер. — Их всех нужно уничтожать напалмом…
— Хусейн! — закричал я в ночное небо, расчлененное грубым силуэтом решетки. — Хусейн! Хусейн!
На фоне высоких жирных звезд нарисовалась смутная фигура.
— Чиво надо?
— Наш ребенок умирает. Умирает ребенок, понимаешь?! Ему нужен врач.
— Прошу вас, пожалуйста… прошу вас, помогите девочке! — взмолилась и Таня.
Чечен звучно сплюнул. Сгусток вонючей слюны чиркнул где-то рядом со мной. Шлепнулся о твердую землю.
— Значит, адной русской сучкой будэт мэньше. Она нэ родит солдата, каторий придет в мой дом и убьет май дэти.
Развернулся и исчез.
— Чтоб ты сдох! — Таня ударила кулачками в стену, плача. — Чтоб вы все сдохли! Чтоб вы сдохли!..
— Позвольте мне. — Жан-Эдерн, хрустнув коленями, поднялся. — Позвольте, может, я как-нибудь помогу девочке…
К концу следующего дня мы отдыхали на краю макового поля. Грузовик запаздывал, стемнело. Нам разрешили несколько минут просто посидеть в покое. Тани не было. Я вертел головой, осматривался тревожно. Сейчас она придет, утешал я себя, может, присела помочиться где-то в зарослях и сейчас выйдет… Она действительно вышла. Спотыкаясь, держась руками за пах, лицо в слезах, Таня выбралась на межу, глянула издалека на нас, опустилась на землю и громко, с воем зарыдала.
— Что… что они с тобой сделали?! — Мой выкрик-вопрос был уже бессмысленным.
Следом за Таней появился чечен, облизывая руку, покрытую глубокими кровавыми царапинами.
— Паднымайся, русская курва! — заорал он на Таню и ударил ее с размаху ногой под ребра. — Вставай, блядь! Или я тэбэ сейчас матка твой вонючий вырву!
Я не успел опомниться, все случилось очень быстро. Гюнтер схватил с земли тяжелый камень и бросился на чечена. Их разделяли метров пятнадцать — двадцать, у Гюнтера на ногах были тяжелые кандалы. Но он двигался быстро, очень быстро. Рослый, нескладный, на полторы головы выше чечена. Тот опомнился, лишь когда Гюнтер уже почти заносил над ним камень. Уклонился со звериной ловкостью, выдернул из-за спины автомат… Грохнула очередь. Гюнтер замер с поднятым в руке камнем, застыл. В жидких сумерках он напоминал какого-то древнего германского бога или героя, высеченного из скальной глыбы. Зигфрида какого-то. Ничком упал на землю, всем весом грохнулся, не выпуская свой камень. Чечен тоже застыл, оторопел. Затем выматерился, харкнул, пошел по направлению к холмам. Что-то объяснял в переносную рацию.
Таня перестала всхлипывать, умолкла. Где-то кричала гортанным голосом восточная птица, невидимо кружа над полем. Зарокотал джип. Появился молчаливый Али Хамза. Чечен шел следом, тащил три ржавые лопаты. Злой, смурной, недовольный. Али Хамза что-то коротко приказал ему, ткнул в темноту пальцем. Хусейн швырнул инструмент нам под ноги.
— Могила копат будэтэ. Вон там, гдэ кусты. Шевелитэс, собаки! — И вдруг добавил, помолчав: — Нэмец как мужчина погиб. А ти, ее муж, пачэму камень нэ брал?
Снова сплюнул и ушел, вытирая о куртку ладони.
Земля: комковатая, твердая, спекшаяся. Почти не реагировала на удары тупых лопат. Каждую грудку этой проклятой земли приходилось вырывать у пустыни с боем. Мы не копали, били с размаху железом в грунт. Мозоли вспухали и лопались. Древка лопат стали мокрые от сукровицы, скользили в руках. Гюнтер заслуживал лучшей могилы, но на большее мы оказались не способны. К утру яма была глубиной в полметра. Положили туда тяжелое, окоченевшее тело, забросали землей и песком. Из кривых ветвей колючего кустарника Жан-Эдерн соорудил крест, воткнул в приземистый холмик. Затем опустился на колени, сложил руки перед грудью. Я услышал, как он молится по-французски. Небритое серое лицо, ввалившиеся щеки. Отчетливый шрам. Так они, наверное, провожали в последний путь лейтенанта Пьера Бодлера. Могила в чужой земле, самодельный крест из веток. Слова молитвы, заученные давным-давно вместе с уставом. Старый воин, потерявший друга.
— Отче наш… — пересохшими губами вторила ему Таня. — Иже еси на небесех…
Я попытался заплакать, но не мог. Чувствовал себя покинутым, брошенным ребенком. Заблудившимся, одиноким, беспомощным. Вдруг по-настоящему понял, что все наши жизни висят на волоске. Все до единой, с самого рождения. И есть дикая, чудовищная, слепая сила, которая бьет в гущу людей, как молния. Поражает наповал, не глядя, без разбора. И ничего другого в мире просто нет, только эта сила. Она, видимо, и есть Бог.
Жан-Эдерн обнял Таню, прижал ее голову к груди:
— Он был в тебя влюблен, бедняга. Он мне рассказывал, у него была невеста, Хайке, очень похожая на тебя. Хайке ушла к его лучшему другу, Ахиму. Гюнтер так и не женился больше…
— Боже мой, неужели никто не может остановить этих зверей?..
— Напалм, — вырвалось у меня очевидное. Больше никто из нас не произнес ни слова.
Оттрубив две недели на маковой плантации, я стал экспертом в заготовке первичного опия, сырца. Очень важно сделать правильный надрез. Не очень глубокий и не слишком тонкий. Целое искусство. При глубоком надрезе часть сока будет оставаться и загустевать внутри головки. Его оттуда потом не выковыряешь. За такие ошибки нас били чем придется, ногами или палкой, иногда прикладом. Если надрез слишком тонок, солнце быстро высушит корочку, и сок вновь-таки останется внутри. Рука должна привыкнуть, это достигается тренировкой. Надрез должен быть неоднородным по глубине. Сначала, от верха, чуть глубже, потом — равномерно. Это из-за округлой формы маковой головки. Сверху должно вытекать активнее, чем снизу. Надо также уметь определять, выработалась головка или еще нет. Обычно надрезы делают в два захода; Первые — самые лучшие, самые ценные. Для них у нас были особые жестяные кружки. Отработанная маковая головка заметно ссыхается и вянет. Но существует один фокус: нужно сделать круговой надрез у основания. Тогда есть шанс получить еще немного млечного сока. Совсем пустые головки мы срезали и складывали в холщовые сумки. Они шли в дальнейшую переработку. Всему этому нас жестами обучали бессловесные женщины. Не знаю, за деньги они работали или нет. Обычные крестьянки, судя по всему. Кажется, совсем не злые. По крайней мере к нам они относились нормально, терпеливо. Хуже всего, когда чечен приходил проверять работу. Он всегда находил ошибки и бил. Иногда бил просто так, чтобы старались. Перерыв — только один, в полдень. Нам полагался кувшин воды и кусок черствой лепешки. Иногда горсть крупы, кускуса, без приправ. Если ты сильно уставал или терял сознание на жаре, приходилось падать в заросли. Минут десять — пятнадцать можно было лежать безболезненно. Но потом часовые замечали чье-либо отсутствие. Они нас пересчитывали, видимо, по головам. Как правило, кто-то из них просто стрелял в воздух. Если ты не поднимешься по выстрелу, спустятся и изобьют как следует. Поэтому подниматься надо сразу, не заставлять их покидать пост. Часовых наказывали, если они покидали свои посты на холмах. Тогда они отыгрывались на нас. Иногда местные женщины тайком совали нам яблоко, апельсин или кусок лепешки. Но если чечен приходил и обнаруживал при нас еду, бил не задумываясь. Главарь, Али Хамза, появился только один раз. Поговорил с чеченом, окинул все хозяйским взором и укатил на своем джипе. У него был американский военный джип в желтых, рыжих и коричневых пятнах. Добытое задень мы сдавали белобородому крохотному старичку, который приезжал с охраной на верблюдах. Такой был маленький и смешной этот старичок, как гном. Балагурил, песни какие-то напевал. Тщательно сортировал сырье, упаковывал в пластиковые мешочки, пробовал на зуб. Охранники у старичка были здоровенные громилы, под два метра, с тупыми стертыми лицами в оспинах. Он напоминал колдуна с парой помощников-джиннов. Потом я узнал, что таких плантаций в округе больше двадцати. Нашему Али Хамзе принадлежало шесть. Богатый был человек.
Ко всему в конце концов можно привыкнуть, даже к этому. Первые несколько дней были непрекращающимся кошмаром. Мы страшно обгорели, до кровавых волдырей. Часто падали в обморок. Кандалы сбивали щиколотки едва не до кости. Потом как-то притерпелись. Уходили с рассветом, возвращались почти затемно. Говорить ни о чем не хотелось. Почти не разговаривали друг с другом. Машку, к счастью, перевели из зиндана в сарайчик, где держали коз. Она бы умерла в зиндане, даже они это понимали. В сарайчике воняло, но было не так жарко. Не хочу подробно описывать все это. Да, собственно, нечего описывать. Работали, возвращались в свою яму и падали замертво. Не было сил для мыслей, не было сил надеяться на спасение. Работа выжимала из нас все. Каждый день на плантации кого-нибудь избивали, и Таню тоже. Слава Богу, Хусейн не пытался ее больше насиловать. Тела приобрели странную бесчувственность. Когда тебя бьют, просто валишься, как куль, на землю и закрываешь руками голову. Если совсем не сопротивляешься, не кричишь, тогда быстро прекращают. Чечен сначала дрался с азартом, потом ему надоело. Мы были такие бессловесные животные, что достаточно было просто прикрикнуть. Человек, оказывается, может вести себя как механизм. Простая заводная кукла. Вообще вся начинка вылетает из головы очень быстро. Очень нестойкая она у нас, начинка. Ее выбивают легко, как пыль из одеяла. Даже стараться особенно не надо.
На исходе первой недели Хусейн повел меня к себе. Он жил в пристройке к мечети. Потертый ковер, низкий столик, разбросанные по полу подушки. Несколько «Калашниковых», прислоненных к стенке, железный ящик с боеприпасами. Швырнул меня в угол, сам уселся на подушки, забил драпом толстый косяк. Закурил, улыбаясь. Жирно лоснился выбритый череп, блестели в пасти золотые зубы.
— Ну как, русский, нравится тэбэ у нас?
— Очень, — тихо ответил я.
— Харашо, вах! Работа ест, кушат дают — чиво еще надо? Заработаэшь отпуск — Москва поэдэшь. Хочэш Москва ехат?
Я промолчал.
— Балшой город Москва… Нэ нравится он минэ, шумный. Там минэ ваш фээсбэ ищет. — Он рассмеялся, довольный. — Катэлнический набэрэжный слышал? Я би ваш сраный Крэмиль тоже взорвал на хэр, если би надо било. Падажды ишо, всэй вашей России пиздэс придет… Вот скажи, русский: пачэму такой балшой страна Россия такой малэн-кий страна Ичкерия пабэдит нэ может, а? Элцин солдаты прислал, танки прислал, самолеты прислал, а все до жопа. Скажи, пачэму?
— Не знаю.
— Патаму что ви слабые. Ви трусливие собаки. Дэсят русских на адын чечен мало будэт. Ми вас всэх давно купили. Чечен вся Москва давно купил — ринки, рестораны, гастиницы — всо! Вам долар пакажи — на карачки палзти будэтэ. Чечен вас на американский долар всэх пакупаэт. Скажи, это харашо?
— Плохо…
— Ви балшой народ — слабый, ми маленкий — сильный, пачэму? Хочеш, я тэбэ сейчас яйца атрэжу и тваэму прэзидэнту пашлю? Бомба бросит он на миня? Армия пашлет тэбя асвабаждат? Скажи!
— Не пошлет, — признал я очевидный факт.
— Правилна! А чечен за чечена всэгда жизнь положит. У вас сила никакой нэт. А у нас ест! Аллах наша сила. Ви нэ веритэ ни ва что, толка в долари веритэ. Сваево Бога забыли, церков ходитэ, нэт там Бог никакой. Много золота, а Бог нэт. Мусульман в Аллаха верит, Аллах ему помогаэт. Минэ моя жизнь нэ жалко, я война хадыл на Кавказе, война хадыл здэс. Пуля сердце попадал, сматры!
Он задрал рубаху и показал мне глубокий рваный шрам над левым соском.
— Я мэсяц бэс сознаний пралэжал, нэ пил, нэ кушал. Всэ сказали: памрет. Русский горы бомбил, атака хадыл, а я в землянка валялся. А потом Зелимхан, камандыр наш, пришел и гаварыт: собаки брат твой в бою убили, нэльзя тэбэ умират. Я в уши его голос нэ слишал, я в сэрцэ слишал.
Аллах моему сэрцу уши дал. Я потом русских много убил за брата. А ты смотришь на минэ и боишься. Страх у тэбэ в глазах, как у барана. Разве ти челавэк? Ти скотина. Я тэбя за деньги продам, как скотину на базаре.
Мы помолчали. Я мог бы, наверное, что-то ему возразить, но мысли не шли в голову. Вообще никаких мыслей не было. Действительно баран.
— Компьютер умеешь чинит? — прервал молчание Хусейн. — Паламался, сука.
— Могу попробовать, — ответил я.
Он вынул из-под стола ноутбук, ящик с какими-то деталями.
— Пачинишь — будэш Москва званит, викуп просит. Нэ пачинишь — тэбэ же хуже.
Вряд ли у меня мог бы появиться другой шанс. Компьютер работал нормально. Проблема была со спутниковым модемом, но к вечеру он тоже был готов. Отличный интернет-комплект, военный, Dell штатовской сборки. Для бандитов лучше не бывает. Едешь на верблюде и отсылаешь электронную почту. Или болтаешь по сотовому в пустыне. Очень, очень неплохо… Пока я возился с техникой, чечен скучал. Выходил, заходил, слонялся по комнате, проверял свой автомат. Но я ловил на себе его уважительные взгляды. Когда все было готово, он как будто даже не поверил:
— Работает?
— Работает.
— Маладэц, русский. Я когда маладой бил, колхоз работал, у нас адын такой мастер бил, Абугов, старик. Телевизор чинил, трактор чинил, сапог порвался — сапог чинил. Залатые руки. Когда война начался, он в аул остался, война нэ ходил. Русские пришли, его одного арэстовали. Сказали: ты боевик, тюр-ма будэш сидеть. Павэзли Ростов, посадили тюрма на два года. А он никогда автомат в руках нэ дэржал. Следоватэл ему так и сказал: ти чечен, значит, бандит. Всэ чечены — бандиты. Абугов тюрма туберкулез заболел и умэр… Такой мастер бил, вах!.. Бери трубка, звони Москва, что сидишь!
Так вышло, что к компьютеру согласились подпускать только меня одного. Не знаю, как они управлялись раньше, не важно. Может, был специалист из заложников, потом убили или продали. На плантации я пахал по-прежнему, скидок никто не делал. За машиной сидел ночами, на пару с Хусейном. Сначала он просто косился на меня злобно, затем начал требовать объяснений тому, что я делаю. Я рассылал мэйлы куда только мог. Звонил. Просил помощи. Писал по-английски, чтобы этот подонок меня не понял:
Уважаемые дамы и господа!
Мы, трое граждан России (в том числе маленький ребенок), и гражданин Франции, находимся в заложниках у банды боевиков Али Хамзы в районе оазиса Эль-Фахз, приблизительно в пятидесяти километрах от города Загхуран, в пустыне. Нас держат в земляной яме, морят голодом, унижают и избивают. Одного из заложников, гражданина ФРГ Гюнтерй Нагеля, бандиты зверски убили у нас на глазах. Мы трудимся по двенадцать — четырнадцать часов в день, как рабы, на плантации опийного мака. Мы закованы в кандалы. За граждан России боевики требуют выкуп в размере 200 тысяч долларов наличными, за гражданина Франции — 300 тысяч. Нам дан месяц, в течение которого должен быть получен выкуп. В противном случае нас скорее всего убьют или продадут в бессрочное рабство одному из местных племен. Пожалуйста, найдите возможность помочь нам или поставьте в известность о нашем положении тех людей, которые могли бы помочь!
Примерно так я писал в посольства, консульства, ФБР, ФСБ и так далее. Отправил письмо даже Кириллу, который отсюда казался совершенно нереальной персоной. Написал в Америку мистеру Джордану. Написал даже в ООН. Надо сказать, они все не молчали. Приходили ответы. Иногда очень содержательные. Смысл всех ответов сводился примерно к следующему: поскольку в стране совершен государственный переворот и ведется гражданская война, нам (идет название организации) не представляется пока возможным установить контакт с теми официальными лицами и структурами, которые могли бы повлиять на ваше освобождение. Тем не менее мы заверяем вас, что нами (снова название организации) делается все от нас зависящее, чтобы предпринять все необходимые меры. Как только ситуация в стране стабилизируется…
На самом деле мы были совершенно никому не нужны. Жан-Эдерн потом объяснил, что правительства большинства стран отказываются вступать в прямые переговоры с террористами, если заложники были захвачены на территории другого государства. Это обязаны делать местные власти. Тем более что нас всего пятеро. Если бы человек пятьдесят, они могли бы почесаться. Помощи ждать было неоткуда. ФБР прислало инструкцию о том, как вести себя, если вы оказались в заложниках. ФСБ сообщила, что Вахид Ахсаров, он же Хусейн Джебраль, разыскивается как особо опасный преступник, виновный в совершении террористических актов на Котельнической набережной и в переходе метро на Пушкинской площади. Спасибо, господа, что вы сообщили органам, где он теперь скрывается, негодяй…
В последнюю ночь мне приснился странный сон. Я в Москве, зима. Хрустящий, свежий морозец, прозрачный чистый воздух, свежевыпавший снег ослепительно бел. Какие-то старые дома в центре, закоулки. Я иду, бегу по снегу, проваливаюсь по колено, счастливый как безумец. Что-то странное случилось с городом, еще не могу отчетливо понять, что именно. Праздничная, веселая нота в воздухе. Словно попал в такое будущее, где все действительно очень хорошо, здорово. Как надо, как хотелось бы. На балконе стоит старик в полосатой пижаме. Дышит воздухом и не боится холода. Я спрашиваю у него:
— Почему в городе остались только продуктовые магазины и магазины косметики?
— Потому, — отвечает он, — что людям теперь нужно только кушать и быть красивыми. А больше ничего не надо.
— А почему так мало людей на улице? Особенно стариков?
— Они стали ангелами. Сейчас вообще многие идут в ангелы. Очень экономно. Есть не надо, одежда тоже не требуется. Только нужно покупать духи. Продаются специальные духи для ангелов.
— А компьютеры остались? — продолжаю спрашивать я.
— Вообще-то нет. Они теперь никому не нужны. Мы даже не знаем, как появляются товары в магазинах. Просто все само собой возникает. Только некоторые компьютеры остались, красивые. Makintosh, например. Где прозрачная клавиатура.
— А курение? Люди сейчас курят или нет?
— Нет.
— Им что, запретили?
— Нет, конечно. Просто всем одновременно расхотелось. Люди проснулись и почувствовали, что многих вещей им больше не хочется. Всего лишнего не хочется. Но запрещать никто ничего не запрещает.
— А злые люди? — любопытствую я. — Злые люди еще есть?
— Злых нет, — охотно отвечает старик. — Пришли ангелы и забрали всех злых людей.
— Как же они отличили добрых от злых? — Я удивлен. Старик смотрит на меня, пожимает плечами:
— Разве вы сами не знаете, кто добрый, а кто злой? Разве вы сами этого не чувствуете?..
Вот такой смешной детский сон. Я еще подумал: он обязательно должен что-то означать. Что-то важное. А среди дня к полю подъехали Али Хамза с чеченом. Без слов, молча взяли меня с собой, повезли в оазис. У мечети стоял разбитый микроавтобус «мазда». Рядом с ним, усевшись на корточки, курил мужчина средних лет в камуфляже и круглых очках в серебристой оправе. Холеное, гладко выбритое лицо покрыто тонким, аккуратно-оливковым загаром. Черные волосы ежиком, высокий лоб, умные, с прищуром, глаза. Камуфляж ему абсолютно не шел. Выглядел незнакомец мирно. Вертел в свободной руке пачку «Данхилл»,
— Иды, твой новий хозяин. — Чечен подтолкнул меня к микроавтобусу.
— Что вы сказали? Что значит «новый хозяин»?
— Продали ми тэбя, — невозмутимо ответил он, блестя золотыми коронками. — Пакупатэл нашелся, хароший деньги за тэбя дал.
— А жена, дочка?! Я никуда без них не пойду! Лучше убейте сразу, я никуда не пойду!
— Иды, русский! — Чечен толкнул меня в грудь. Я пошатнулся, слабый, с трудом удержался на ногах. — Скажи Аллаху спасиба, я тэбэ нэ пристрэлил с тваими виродками вмэсте. Иды!
Но они не стали дожидаться, пока я пойду сам. Двое верзил схватили меня, поволокли, затолкали в машину. Незнакомец в камуфляже равнодушно наблюдал за всей сценой. Я понятия не имел, кто он такой, куда меня повезут и что будет дальше. Самое ужасное, что Таня и Машка даже не знали, куда и зачем забрали меня с макового поля. Я был уверен, что никогда их больше не увижу.
Из интервью телекомпании Си-эн-эн:
…нас держали там как рабов. Да, именно как рабов. Они вряд ли рассчитывали на выкуп. В стране есть подпольный рынок невольников. Это на территориях, контролируемых племенами. Там совершенно другая страна, другие обычаи. Полное средневековье. Берберы очень хорошо вооружены, у них есть автоматическое оружие, легкая бронетехника, минометы, даже «стингеры». Правительство могло только мириться с их существованием, не больте. Основной бизнес на этих территориях — выращивание опия. Берберы не занимаются опием, они только покупают его у крестьян за гроши и перепродают дальше. Или захватывают рабов, чтобы обрабатывать плантации. В основном, конечно, мак выращивают крестьяне. Это их единственный источник дохода. Если у крестьян отнять мак, они умрут от голода. Транснациональным наркодельцам выгодна такая ситуация. Они закупают сырье или неочищенный героин по очень низкой цене. Для производства героина требуется простой сарай, элементарное оборудование, несколько подсобных рабочих и уксусный ангидрид, который без труда ввозится контрабандой. Некоторые «лаборатории» производят в год более 100 килограммов морфина, из которого потом вырабатывается героин. Сеть «муравьев», как их здесь называют, переправляет готовый продукт в Европу. За 10 килограммов опия, из которого получается килограмм морфина, крестьянин получает около 600 долларов. Примерно половину он отдает хозяину — главарю банды, которая контролирует данный район. Оптовики в Турции и Египте продают килограмм героина за 12 тысяч долларов, а розничные торговцы в Голландии или Германии — за 50 тысяч. Это цифры из Геополитического обзора наркотиков, я наткнулся на них случайно, в одной из газет. Своими глазами я видел только первое звено этой цепочки. Я убежден: производство опия можно уничтожить только одним путем. Необходимы серьезные инвестиции в сельское хозяйство, внедрение альтернативных сельскохозяйственных культур. Кроме стран Запада, эти инвестиции сделать не в состоянии никто. Если Запад хочет решить проблему наркомании, ему необходимо установить прочный мир с арабскими странами. Чем дольше будет продолжаться конфронтация, тем больше опийного мака будет производиться в этих государствах — на плантациях, где трудятся рабы.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
…Машина тронулась, и через несколько минут уже не было видно ни людей, ни оазиса. Только пустыня. Она начала преображаться. Появились барханы. Вначале некрупные, покатые, затем все более величественные, похожие на застывшие розоватые волны. Словно море на фотографии. Внезапно отвердевшее, остановившееся в штормовом беге, бурное море. Суровый, древний, безжизненный и романтичный пейзаж. Отрицание цивилизации. Мир, сохранивший что-то библейское, нетронутое, недоступное утомительному круговращению обыденной жизни, ее привычной тесноте и сутолоке. Нерушимый покой, вечность как остановленное навсегда мгновение. Барханы: розоватые, терракотовые, нежно-лимонные — неподвижно текут один за другим, устремляясь к горизонту. Какие характеры должна порождать земля, покрытая на сотни километров этими песчаными волнами? Безводная, бесплодная, безжалостная, равнодушно-прекрасная? За человеческую жизнь здесь не дашь и ломаного гроша. Одиночество ощущается глубже, чем в каменном мешке подземной тюрьмы. Свобода не абстрактное понятие, но осознание безбрежности пространства, впитанное с молоком матери. Нет товарищей вернее, чем одногорбый быстрый зверь и острый нож. Вода важна как собственная кровь. Дружба нужнее любви. Бог — суровый владыка, поднимающий бури из рыжей сыпучей пыли. Единственный, как царящее здесь раскаленное солнце. Такой же жестокий, как ты сам. Как пустыня. Как враг, всегда готовый отнять у тебя твою воду, твою женщину и твоего верблюда. Неотделимый от Материи: солнца, барханов, горизонта и неба. Бог живой, сам сотворивший свой собственный храм из песка.
Я искренне пытался понять этих людей, недоступных моему пониманию. Что ими движет? Почему они такие? Нельзя же все списывать только на дикость, на фанатизм. На мракобесие. На сумасшедших пророков вроде муллы Омара, вырвавшего свой раненый глаз. На забитость нищих и неграмотных крестьян. На происки Абу Абдаллы, ЦРУ, мировых разведок. На наркотики. На Коран и шариат. Должно существовать что-то другое, фундамент какой-то, на котором все это держится. Я несколько раз открывал Библию. И сразу закрывал. Потому что читать Библию невозможно. Слишком много крови. Там убивают десятками, сотнями, тысячами. В основном убивают тех, кто не верит в Истинного Бога. Неверных. Ведут против неверных бесконечный джихад. Не щадят женщин и детей. Однажды в журнале «COLORS» я видел фотографии людей, убитых в Камбодже мотыгой. Ударом по голове, крупный план. Очень страшно: черепная коробка расколота, как яйцо. Мотыга мало чем отличается от меча, а в Библии убивают мечами. Они ведь тоже пришли из пустыни, библейские герои. Их тоже вскормили пески. Чем отличается их Бог от Бога Абу Абдаллы, муллы Омара, Хусейна, наконец? Моисей штурмует Землю обетованную, Магомет — Медину, талибы — Кабул, Абу Абдалла — Нью-Йорк… Боюсь, что нам их никогда, никогда не понять по-настоящему. Они слишком другие. В наши дни библейских пророков следовало бы судить в Гааге.
— Вы действительно русский? Как вас зовут? Иван?
Мой новый хозяин улыбался мне в зеркало заднего вида и говорил по-английски с типичным американским рыканьем.
— Иван, — согласился я. На кой черт им мое настоящее имя?
— Хотите курить? — протянул «Данхилл». Я покорно принял сигарету, зажигалку.
— Спасибо.
— Мое имя Туфик. Но вы можете называть меня Томас.
— Как скажете.
— У вас неплохой английский, — заметил, продолжая улыбаться, Томас. — Я думал, русские умеют говорить только по-русски.
— И по улицам Москвы ходят медведи… Он рассмеялся:
— У нас в Бруклине жило много русских. Но они говорили так, что их не понимали капе. А нью-йоркские капе понимают почти любой язык. Даже эскимосский.
— Куда мы едем? — Я не ждал ответа, хотя новый хозяин выглядел довольно странно. Особенно после чечена.
— Don't worry! — прорычал он. — Вы в полной безопасности. Забудьте обо всем, что с вами было.
— О жене и дочке тоже?
— Им ничто не грозит. Если вы будете правильно себя вести.
— Что значит «правильно себя вести»? Что я должен делать? — Сразу вспомнился Борис Борисыч с его гэбэшной мудростью.
— Узнаете позже. Хотите воды? — Он протянул мне бутылку минеральной.
— Благодарю. — Взял воду, отхлебнул. — И все-таки… Хотите получить за меня выкуп? Но это нереально, вы же сами прекрасно понимаете.
— Выкуп? — Он снова расхохотался, хренов весельчак. — Сто тысяч для нас не деньги.
— А что тогда?
— Не надо лишних вопросов, — отрезал Томас. Около двух часов или больше ехали молча. Я глядел в окно, трясся на заднем сиденье как мешок. Еж, Танюшка… бедные мои девочки… Представляю, как они вернутся с поля и узнают, что меня нет. Кто их защитит? Жан-Эдерн? Будем надеяться… Что может сделать с ними этот скот Хусейн? Не хочется об этом думать… Будь оно все проклято, решил вдруг я. Что бы мне ни предложили, если взамен жену и дочку освободят, соглашусь на все. Скажут — взорву Белый дом или Крэмиль. Пусть! Все равно мне отсюда не выбраться живым. Но они должны, обязаны жить. Обязаны! Буду «правильно себя вести». И точка.
Дороги никакой не было. Мы просто петляли среди одинаковых песчаных дюн, расчерченных параллельными дорожками. Словно в японском саду. Иногда от машины шарахалась какая-нибудь мелкая тварь вроде суслика. Убегала, задрав хвост. Пару раз я видел длинных змей. Безразличные ко всему, они боком струились по крутому склону. Еще мелькало вдалеке нечто вроде антилопы, я не успел разглядеть. Машину закрывали тучи пыли. Наконец за очередным барханом мы вырулили к пятачку утрамбованной земли. Полуразвалившаяся хибара, рядом — потрепанный армейский грузовик. Вот тут меня и будут держать, мелькнула мысль. Томас нажал на тормоз:
— Выходите.
Сам выпрыгнул следом. Пошел к хибаре, махнул мне рукой: давай, мол, за мной. Среди четырех стен, кое-как прикрытых остатками потолка, стоял низенький столик, рядом — пара соломенных тюфячков и корзина, накрытая чистой тряпкой. Томас жестом пригласил садиться. Полез в корзину, вынул пару свежих, мягких лепешек, минеральную воду, фрукты, сыр — с виду козий. Забрался рукой под свой тюфяк, достал записку, внимательно прочитал. Поджег зажигалкой, бросил на пол, улыбнулся:
— Ешьте, не стесняйтесь. Нам еще долго ехать.
Еду мы умяли быстро, оба были голодны. Я закурил предложенный «Данхилл».
— Куда вы меня везете? — повторил свой вопрос. Томас с хрустом надкусил сочное зеленое яблоко:
— На базу «Наджам уль-джихад», «Звезда священной войны». Это самая крупная наша база в стране.
— Но зачем?
— Вы сами должны все увидеть, своими глазами. Увидеть и понять, что мы — сила.
— Я и так верю.
— Не нужно никому верить на слово, — улыбнулся Томас. — Вы же трезвомыслящий человек, программист. Такие, как вы, верят только фактам. Я тоже не люблю пустой болтовни. До одиннадцатого сентября я не верил, что мы по-настоящему способны перевернуть мир. Теперь это факт. Америка со всей ее мощью не смогла остановить наших воинов. А их было всего несколько человек. Представляете, что будет, если вступит в бой вся армия ислама?
— Представляю… — сумрачно сказал я. — А кем вы были в Штатах, если не секрет?
— Преподавал арабский язык в университете. Писал для нескольких журналов, занимался переводами. Защитил диссертацию о ранней суфийской поэзии. Еще вел в Бруклинской мечети детскую религиозную школу.
— И теперь вы здесь? Почему?!
— Потому что умные люди всегда выбирают сторону сильных. — Он внимательно, с любопытством, на меня посмотрел, ожидая реакции. Не дождался. — Америка — колосс на глиняных ногах. Они говорят, что арабы угрожают миру. Какая чушь! Вы слыхали о доктрине Монро?
— Нет. Не интересуюсь политикой.
— Напрасно. Доктрина Монро вначале гласила: «Западное полушарие — для США». Потом им показалось мало, и доктрина теперь звучит так: «Весь мир — для США». Не согласны?
— Мне на самом деле наплевать.
— Очень жаль. — Быстрым движением Томас вернул на переносицу указательным пальцем сползшие очки. Такой типичный, бессознательный преподавательский жест. — Мне тоже когда-то это казалось неважным. Гораздо интереснее было изучать наследие великого Аль-Газали, чем копаться в грязном белье продажных политиканов. Как прекрасно умер имам Газали! Он проснулся рано утром, как обычно, вознес молитвы, а затем спросил, какой сегодня день. Его младший брат Ахмад ответил: «Понедельник». Тогда имам попросил принести ему саван, поцеловал его, лег и со словами «О Аллах, с радостью подчиняюсь тебе» испустил последнее дыхание. Разве это не вдохновляет, скажите?
Я пожал плечами:
— Но при чем тут Америка?
— При том, что тысячи и десятки тысяч мусульман не могут позволить себе такой роскошной смерти. Они умирают от голода и болезней. Живут в ужасающей бедности. Бегут на Запад из родного дома, чтобы заработать на кусок хлеба. Не могут получить достойного образования, найти нормальную работу. И все это потому, что так выгодно анк-лу Сэму. Ему нужно одно — мировое господство, а для этого требуется «враг». Когда покончили с Советским Союзом, выбрали «врагом» арабов. Думаете, просто так? Взять, например, Афганистан. Огнем и мечом они уничтожили талибов. При этом погибли тысячи невинных людей, но их никто не считал. А что теперь? Правительство возглавляет гражданин Соединенных Штатов Карзай, и в самом правительстве немало людей с американскими паспортами. Янки получили в свое распоряжение территорию, на которой расположена половина мировых запасов редких и редкоземельных металлов, есть богатейшие месторождения драгоценных камней. Американский протекторат в самом сердце Средней Азии — это же их давняя мечта! Американская армия подошла вплотную к границам бывшего Советского Союза! Вы не находите, что это слишком цинично — использовать гибель многих тысяч собственных граждан как козырь в геополитической игре, а? Но думаете, что у Америки есть реальная сила? Аллах свидетель, это самое ужасное заблуждение нашего времени! Вы представляете себе, что будет, если вдруг обвалится доллар? Вся мировая долларовая система держится на одном только авторитете Соединенных Штатов. У нее давно нет никакого экономического фундамента. Наличные доллары, которые наводнили планету, уже не подкреплены золотым запасом. Если в Америке начнется вдруг экономический кризис, это будет страшнее ядерной войны. Они держат всю планету в заложниках, и при этом пытаются быть ее полицейским! Неслыханная наглость! Они и вас, русских, поставили на колени. Ваш президент делает то, что ему приказывают Всемирный валютный фонд и Мировой банк. Вы должны ненавидеть Америку, а вместо этого вы покупаете американские машины, носите американские джинсы, слушаете их музыку, смотрите их фильмы…
Говорил он гладко, накатанно, с нужными интонациями и паузами. Хороший, подумалось, агитатор. Неужели я такая важная персона, что выделили специального человека для промывки моих несчастных мозгов? На кой дьявол я им понадобился?..
— Вместо этого вы предлагаете жить по шариату?
— А чем так уж плох шариат? — тотчас оживился Томас. — Он построен на вере в Бога. Однажды, когда мулла Омар был еще имамом Бруклинской мечети, я задал ему откровенный вопрос: неужели Аллаху действительно угодно, чтобы женщина не могла учиться и носила чадру? Знаете, что мне ответил имам? Если женщина верует в Аллаха, мир ему и благословение, она делает это только ради него. Таким образом она служит Неизъяснимому и находит в этом великое наслаждение. А если женщина, сохрани Аллах, не верует, чадра учит ее смирению. После грехопадения Адама люди не могут по-настоящему служить Всеблагому. Их души покрылись коркой. Поэтому Аллах дал им заповеди, шариат. Недаром в переводе это слово обозначает «путь», путь к Аллаху. Один суфийский учитель сказал по этому поводу: «Заповедь подобна ореху: снаружи — грубая скорлупа, изнутри — сладкое зерно. А грех подобен персику: снаружи сладкая мякоть, изнутри — твердая кость». Понимаете, о чем это сказано?
— Ваш суфийский учитель, наверное, не взрывал небоскребы…
— Этого суфийского учителя сбросили с городской стены в Багдаде. Потом четвертовали, голову насадили на кол и выставили на рыночной площади.
— Американцы?
— В четырнадцатом веке еще не было американцев, хвала Аллаху. — Томас помолчал и запальчиво продолжил: — Мы должны защитить мир от Америки! Они утверждают, что борются с террористами, — посмотрите, что они творят на самом деле! Тринадцатого февраля 1991 года янки бомбили Багдад, и ракета попала в бомбоубежище «Амарийя». Тысяча двести человек сгорели заживо! Кто за это ответил? Кого сияли с должности, арестовали, судили? Ни-ко-го! Таких примеров десятки. Разве кто-нибудь поверил Саддаму, когда он утверждал, что вместо военных объектов анкл Сэм уничтожил завод по производству медикаментов? Продажные тележурналисты сразу сообщили, что на заводе производилось химическое оружие. Никто не смеет спорить с ан-клом Сэмом, он всегда прав, как Господь Бог! А если мы с вами вспомним историю — что мы увидим? Американцы первые и единственные, кто применил ядерное оружие. Хиросима и Нагасаки — бомбы упали на мирных людей, десятки тысяч погибших! Разве это не зверство? Американцы единственные, кто со времен Первой мировой применил химическое оружие. Вьетнам, «эйджент орандж» — вспомните! Последствия сказываются на людях и природе по сей день. А теперь ответьте — похоже это на нацистов или нет? Где Нюрнбергский процесс против американцев? Аллах свидетель, эта страна должна ответить за свои преступления!
— Но ведь сейчас война ведется по-другому, — осторожно заметил я, против воли ввязываясь в спор. — Совершенно другими средствами. Никто не убивает мирных жителей…
— Чушь! — воскликнул Томас. — Не существует никаких хирургически точных ударов. Американский генерал Ричард Майерс официально признал, например, что в медресе селения Хазар-Квадам морские пехотинцы расстреляли двадцать четвертого января не талибов, а мирных жителей. Думаете, его отдали под суд, этого убийцу? Ничего подобного. Просто американский солдат боится встретиться нос к носу с исламским воином. Это же не солдаты, это позор! Они видят противника только на мониторе компьютера. Зато у них — отличная зарплата, страховки, счета в банке, дома, машины… Они трясутся за свою шкуру, за свое имущество. А муджахиду нечего терять, его жизнь принадлежит Аллаху. Неужели после одиннадцатого сентября все еще не понятно, что Америка — слабая, ничтожная страна? У наших муджахидов нет спутников, нет боевых самолетов и ядерных ракет. Они сделали то, что сделали, чуть не голыми руками! Двадцать лет американцы ловят Хаджи Абу Абдаллу и не могут поймать! А Хаджи взрывает их посольства в Кении и Танзании, казармы их солдат в Саудовской Аравии, пускает под воду эскадренный миноносец «Коул», стирает с лица земли Центр международной торговли… Кто они после этого? Слабаки, losers.
— Но почему же эти лузерс владеют миром? Они, а не вы?
— Потому что они обманщики и воры! Уже четверть века американцы воруют у арабов по сто тридцать пять долларов с каждого барреля нефти! Они контролируют рынок сырой нефти и играют на ценовой политике. Каждый день в мусульманских странах добывается тридцать миллионов баррелей, и каждый день анкл Сэм кладет себе в карман четыре миллиарда долларов! За двадцать пять лет они украли у нас тридцать семь миллиардов. Сейчас каждый мусульманин имеет право потребовать у Соединенных Штатов принадлежащие ему по праву 30 тысяч. И это все при том, что миллионы мусульман голодают в Ираке, в Иране, в Афганистане, в Северной Африке. Голод заставляет их выращивать опийный мак, а потом нас обвиняют в том, что мы отравляем Запад наркотиками. Какой цинизм!.. Знаете, из-за чего на самом деле анкл Сэм хочет подмять под себя исламское полушарие? К 2015 году четыре пятых нефти, добываемой в районе Персидского залива, будет оставаться на Востоке. Главными потребителями станут Китай и Индия. Думаете, Америка согласится получать нефть в последнюю очередь? По тем ценам, которые будут выгодны мусульманам?.. Вы вообще заметили, что американские солдаты появляются везде, где есть нефть? Что такое агрессия НАТО на Балканах, если не попытка установить контроль над болгаро-македонско-албанским нефтяным транспортным коридором? То же самое на Ближнем Востоке — Соединенным Штатам выгодно, чтобы там никогда не было мира. И никого не смущает присутствие неверных, кафиров, на священной земле ислама, оккупация мечети Аль-Акса… Как может правоверный мусульманин относиться к тому, что в местах, освященных жизнью пророка, мир ему, находятся американские солдаты, которые не верят ни во что, кроме доллара? И никого не смущает, что в самом сердце исламского мира существует агрессивное государство Израиль, обладающее ядерным оружием в то время, как мусульманам ядерное оружие иметь запрещено. Янки считают, что мусульманам вообще нежелательно иметь оружие. Они должны защищать себя, наверное, луками и стрелами…
— Представляю, что будет, если дать вам что-нибудь покруче автомата! — невесело хмыкнул я. — Выливаешь в водопровод маленькую колбочку с бациллами сибирской язвы или холеры… Или взять зариновую атаку в Токийском метро…
— Бред! — Томас расхохотался. — Полный бред. Например, бактериологическое оружие. Янки бомбят Саддама, потому что он якобы его производит на своих заводах. Так вот знайте: себестоимость килограмма токсина боту-лизма-А — всего четыреста долларов! Для того чтобы его произвести, нужна элементарная лаборатория и пара-тройка студентов захудалого университета! В любой крупной библиотеке можно найти книги с подробнейшими описаниями технологии, я уже не говорю про Интернет. Так что если кто-нибудь захочет отравить янки ботулизмом, не обязательно лететь в Багдад. Всего пятисот граммов бацилл salmonella typhi достаточно, чтобы умер человек, выпивший полчашки воды из резервуара емкостью в пять миллионов литров! Но если это до сих пор не произошло, значит, тому есть причины. Никто еще не заболел в Америке, а бомбят Ирак — страну на другом полушарии. Хотя все прекрасно знают, что достаточно прислать нужному человеку в Нью-Йорк письмо с вирусом, и все будет сделано… Та же самая история — с химическим оружием. Зарин, иприт или VX можно произвести в любой лаборатории при наличии не бог весть каких знаний. Сто пятьдесят граммов зарина обходятся примерно в десять — пятнадцать долларов.
— Невозможно! — вскрикнул я.
— Вы просто не понимаете… — Томас снисходительно покачал головой. — Бактерии, газы — все это нужно не для нападения, но для защиты. У наших врагов есть любое оружие, самое современное. Самолеты, ракеты, спутники-шпионы… Они тратят на это миллиарды долларов. А мы? Что у нас есть? Как может арабский мир постоять за себя? Вот именно… Мы не имеем права построить современный военный завод. Тотчас набегут эксперты ООН, наблюдатели — и потребуют немедленно закрыть. И нам придется подчиниться. Потому что за спинами этих якобы миротворцев стоит анкл Сэм с ядерной дубиной. А всякого, кто попытается возмутиться, сразу называют террористом-фанатиком. Скажите: это справедливо?
— Не знаю…
— Но это еще не самое страшное. Гораздо страшнее их идеология. Ракета уничтожает тело, но не душу. Души убивают невидимо, исподтишка. Они создали общество потребления, превратив человека в бездумное животное. Вся его жизнь состоит в том, чтобы зарабатывать и тратить деньги. Зарабатывать, чтобы тратить, тратить, чтобы доказывать себе, что в жизни есть хоть какой-нибудь смысл! Телевизор и компьютер заменили Бога, молитву, духовные ценности. У западного человека просто нет времени, чтобы думать обо всех этих вещах. Для Бога в его жизни нет места. Религию они преподносят как хобби, вроде собирания бабочек или почтовых марок. Лишь бы только человек не заглядывал внутрь себя, лишь бы только он не задавал вопросов: «А почему, собственно?..» Ничего отвратительнее и придумать нельзя.
О, Томас знал свое дело, даром хлеб не ел! Навалился на меня как слон со своими аргументами и фактами, всякую охоту возражать отбил. И я был слабый, к тому же, после маковой плантации и зиндана, раздавленный всем случившимся, соображал плохо. Но если не бьют прикладом в пах, решил: так просто не сдамся. Язык еще не отсох.
— А вы — что предлагаете вы? Гонять всех, как стадо, под дулами автоматов в мечеть по пять раз на дню? Запретить кино, телевидение и все книги, кроме Корана? Слушать только «правильную» музыку? Отрубать вору руку? Простите, вы, как я понимаю, большую часть жизни прожили в цивилизованной стране и хоть немного представляете себе, что такое демократия. По крайней мере какой она должна быть. Вы пытаетесь меня сагитировать, но это все демагогия. Я не могу поверить, что вы не лжете.
— Вы правы. — Томас вздохнул и отхлебнул воды — промочить горло. — Я прожил в «цивилизованной» стране почти сорок лет. И окончательно убедился, что это — не цивилизация. Вы говорите о демократии, молодой человек? Тогда представьте себе, что в хваленых Соединенных Штатах пластический хирург, который не имеет лицензии на практику и просто калечит людей, — его нельзя посадить за решетку! Да-да, именно так! Одна моя студентка легла под нож знаете где? В массажном кабинете супермаркета! Этот мерзавец изуродовал ее на всю жизнь и отделался всего-навсего штрафом. И это — в Америке, где адвокатов еще больше, чем законов! Думаете, в шариатском государстве такое возможно? Я уже не говорю об интрижке Клинтона и Моники. Минет в Овальном офисе, засохшая сперма на платье — неужели человек, который так опозорил себя, достоин быть президентом сверхдержавы? Отвратительно… Свободные выборы, небоскребы, компьютеры — просто жалкие лоскутки, которыми эти люди пытаются прикрыть свое бессилие и страх. Они боятся жить, боятся завтрашнего дня, безработицы, СПИДа, арабов, русских, конца света — всего боятся! Как дети в темном лесу. Забитые, беспомощные, трусливые, несчастные маленькие человечки. Хотят власти, чтобы перестать бояться. Власти обязательно над всем миром, потому что их донимают амбиции. В драке самый опасный — тот, кто слабее других. Он может вытащить нож. А мы живем по законам, которые установил всемогущий Аллах, мир ему и благословение. Чего нам бояться? Может, эти законы вам не по душе, но они ведут к духовным целям. Редкий человек пойдет к Богу добровольно, большинству нужна палка. Но существование без Бога все равно несравнимо хуже, чем жестокость шариата. Стоит только умереть, и все сразу встанет на свои места, ибо сказал Всемогущий по поводу грешников в аду: «И всякий раз, когда их кожа обгорит, Мы заменим ее другою кожей, чтобы дать вкусить им наказание сполна». Многие великие люди Запада нашли в себе силы отказаться от прежних заблуждений и принять ислам. Французский философ Рене Генон или Кассиус Клей, более известный под именем Мохаммед Али… Ваш русский мистик Георгий Гурджиев изучал суфизм на Ближнем Востоке и в Персии, а русская женщина Валерия Порохофф создала такой перевод священного Корана, который одобрили все наши улемы. Я лично встречался с миссис Порохофф и могу подтвердить: она по праву носит дарованный ей титул иман…
…Грузовик, в который мы пересели, оказался старым и раздолбанным. С трудом выбирался из песчаной трясины, задыхался, карабкаясь в горку. Я размышлял над словами Томаса. В чем-то он был, наверное, прав. О вероятной долларовой катастрофе пишут все экономические журналы, и не первый год. Эта вещь очень реальна. Она может произойти со дня на день. И американцы действительно хотят править миром, факт. После развала Союза у них не осталось конкурентов. Они навязывают свои правила игры. И я не думаю, что это хорошо. В любой момент может подняться в воздух эскадрилья и нанести удар туда, куда укажет анкл Сэм. Легко. Сколько раз по ти-ви сообщалось, что ракеты по ошибке поражали бомбоубежища, больницы, падали в жилые кварталы… За это никто не понес ответственности, никого не разжаловали, не судили. Почему? Почему на Россию, которая воюет с чеченскими боевиками, давит весь мир, а президент Соединенных Штатов никогда ни в чем не виновен? Хотя после 11 сентября они имели полное право сбросить на Афганистан и Абу Абдаллу, который там прячется, ядерную бомбу…
И все-таки в его рассуждениях скрывался подвох. Неуловимый, но отчетливый. Всю эту иезуитскую логику можно было разрушить одним щелчком. Одним убийственно точным аргументом. Но каким? Я не знал. Для того чтобы спорить с Томасом, нужно было знать Истину. Действительно знать ее. Как все обстоит на самом деле. И выложить ему эту Истину, прихлопнуть ею, как кровожадного комара. Но как это сделать? Как докопаться до сути? Я вдруг почувствовал, что от знания мною окончательной Истины бытия сейчас зависит очень многое. И в первую очередь моя собственная жизнь. Жизни моих близких. Ведь с ними бесполезно, бессмысленно воевать. У них есть Аллах и шариат, это сильнее ракет и бомб. Вопрос лишь в том, действительно ли Бог таков, каким они его считают. И таковы ли мы, какими нас изображает Томас. Где, где зарыты эти чертовы ответы? Не знаю, не знаю, не знаю!!
— Что сейчас творится в стране? — спросил я, чтобы хоть как-нибудь сменить тему.
— Юсуф Курбан предал нас, — ответил, дымя сигаретой, Томас. — Мы помогли ему стать президентом, а он нас предал как последняя грязная собака.
Расскажите подробнее, — попросил я.
— Когда отряды шейха Халида захватили столицу и Юсуф был объявлен президентом страны, он заявил, что станет посредником между муджахидами и янки, окружившими посольство. Американцы хотели вывезти святого муллу Омара и судить его. Пока они там разбирались, что к чему, генерал Абделькадер Дустум взял город в кольцо. Наших сил было еще недостаточно. И янки были на его стороне. Шейх Халид положил в том бою всех своих людей и сам принял смерть как герой. Юсуф испугался, понял, что ему конец. И сдался американцам. Проник на территорию посольства и остался там. Он сделал все, чтобы муджахиды не взяли посольство штурмом, тянул время… Потом генерал Дустум вошел в столицу и объявил президентом самого себя. А Юсуфа янки всучили ему как премьер-министра. Все, все сговорились между собой…
— Что же случилось с муллой Омаром?
— Аллах даровал ему мученический венец. Сейчас он в Нью-Йорке, в тюремной камере. Его судят кафиры. И приговорят скорее всего к пожизненному заключению. Но мы отомстим. Абделькадер Дустум будет повешен, а предатель Юсуф Курбан — четвертован.
Это было произнесено с такой интонацией, что я поверил: так и случится. И еще возникло предчувствие: мне суждено все это увидеть. Своими глазами.
— Аллах уже обрушил свои кары на Юсуфа, — продолжал говорить Томас, выкручивая руль. — Его жену нашли позавчера в ее квартире мертвой. Кто-то с благословения Аллаха перерезал ей глотку. А дочь, говорят, исчезла. Скотленд-Ярд разыскивает ее вторую неделю. Так что и ему не избежать расплаты.
Интересно, мелькнула мысль, а что, если этот человек узнает, в каких отношениях с семейством Курбан состою я? Хотя я и не состою с ними в каких-либо отношениях…
До самого вечера ехали молча: похоже, первая фаза моей идеологической обработки подошла к концу. Вечереет здесь быстро, но в пустыне — совсем по-другому. Солнце соскользнуло к горизонту незаметно. Огромный кроваво-красный шар словно рана в живом теле. Косые лучи легли среди барханов, и они заискрились тусклым червонным золотом. Казалось, что пустыню накрыли огромным куском тонко вытканной парчи, так богато она смотрелась на закате. С другой, противоположной закату стороны неба набегали лиловые тени. Заползали, змеясъ, в ложбины, прятались в основании барханов. Топили, растворяли в себе золото. Казалось, мы опускаемся в глубокую темную воду. Что субстанция, из которой сделано небо, остывая, стекает в горячий песок. Стало ощутимо прохладно, свежо. Наконец солнце, коснувшись линии горизонта, взорвалось на полмира алым всплеском затухающих протуберанцев. Закат был колоссальным, как будто я присутствовал при рождении или смерти звезды, а еще точнее — при сотворении мира. Грандиозное зрелище: великанское светило погружается, раскаленное, в топкую лиловую пучину. В царство тьмы. Тает с неслышным шипением, и из его лопнувших артерий хлещут в небо пылающие сгустки. Оплывает, растворяется багряница, и из-за барханов в полный рост величественно встает ночь. Все это вершится у тебя на глазах. Мир, Вселенная оживает, приходит в движение. Становишься свидетелем великих событий, благоговеешь перед мощью космических сил. Перед их очевидным, явленным присутствием. Просто не можешь отрицать Бога, стоя в этой пустыне, наблюдая этот закат. Бог скрывается где-то рядом. На расстоянии протянутой руки велит окончиться дню и наступить ночи. Прячется за сценой, как режиссер. Тебя от него отделяет всего лишь линия горизонта. И ни во что не нужно верить. Достаточно просто смотреть.
Очень скоро сделалось совершенно темно. Луна еще не взошла, а звезды, лучившиеся мощно на крутом небосклоне, не освещали дороги. Томас, включив фары, гнал машину среди барханов, повинуясь, видимо, своей интуиции. Да и дороги почти все время не было. Лишь под конец мы выкарабкались на нечто твердое, утрамбованное. Погнали быстрее, увереннее, легче. Спустя четверть часа я увидел огни палаточного городка. Томас притормозил. Из-за бархана бесшумно вынырнули несколько человек с автоматами. Он выпрыгнул из машины к ним, бросил несколько слов, и нас пропустили. Подъехав поближе, я увидел и саму базу: дюжина простых армейских палаток, и одна покрупнее, шатром — в центре. Миновали еще два поста: люди-тени в черном с ног до головы, беззвучные, подкрадываются как кошки. Может, они и не в черное были одеты, в темноте не разглядеть. Наконец добрались и до лагеря. Там еще не спали: люди копошились около палаток, жгли невысокие костерки, приглушенно болтали. Звучала вдалеке музыка. Появился, видимо, командир: что-то коротко объяснил Томасу, велел идти за ним. Жилище для нас было приготовлено заранее. Заползли под брезент, зажгли фонарик. Наскоро попив воды, я забрался в спальный мешок и отключился. Слишком устал за день.
Разбудил меня, очень рано, крик муэдзина. Протяжный, зычный, на высокой, надтреснутой ноте. Томас растолкал меня. Сам он уже был на ногах — подтянутый, выбритый, свежий. Улыбался. Что-то в нем оставалось непередаваемо американское, западное. Очочки блестели, пах зубной пастой. Сейчас проглотит кофе с сандвичем — и на службу, в университет.
Сонный, я выбрался из палатки наружу. Вслед за Томасом потопал к центральной палатке, к белому шатру. Рядом с ним, на утоптанной площадке, нестройными шеренгами стояли голые до пояса воины Аллаха. Профессиональных военных я среди них определил немного. В основном — бородатые неуклюжие мужики. Заросшие густым волосом от пупка до плеч. Тоже сонные, стоят, переминаются с ноги на ногу. Держат ладони перед лицом, бормочут слова молитвы. Крестьяне, от сохи, с поля. Многие из них неграмотные, наверное. Дремучие, с нерасчесанными бородами, рожи худые, морщинистые, дубленные солнцем. Еще — молодежь. Лет, видимо, от шестнадцати, а то, может, и четырнадцатилетние среди них есть. Тоненькие, щуплые новобранцы. Ребра видны. Что-то такое кудлатится на верхней губе, на подбородке. Застиранные камуфляжные штаны болтаются на бедрах. Не то молятся, не то дремлют еще, видят во сне маму. Странная у них, однако, армия, подумал я. Как у большевиков в семнадцатом году.
Мулла — рослый, плечистый и чернобородый атлет — отдал резкую команду. Все дружно повалились на колени. Опять ряды задранных к небу задниц. Команда — поднялись. Снова команда — на колени. Вместо зарядки. Мулла единственный, кто производил впечатление. Опытный, бывалый вояка, прошел, должно быть, Афганистан как минимум. Разбудив всех, начал говорить. После серии коротких, рубленых фраз всякий раз следовало: «Аллаху акбар!» — «Аллаху акбар!» — нестройным хором отвечали будущие защитники веры. Призыв раздавался чаще и чаще, разделенный парой-тройкой простых предложений. Толпа возбуждалась, ревела в унисон все громче. Словно понемногу разъярялось стадо буйволов. Тела подтянулись, взбодрились, наполнились энергией, горячей дурной кровью. «Аллаху акбар! Аллаху акбар!!» Взлетают к небу крепко сжатые кулаки, ударяют в землю истоптанные сапоги и боты: «Аллаху акбар!!!» Не только кричат, но и притопывают дружно. Пустыня в радиусе нескольких десятков метров ощутимо дрожит. Томас улыбается, косит на меня глазом: каково? Когда все достаточно завелись, проповедь началась по новой. Теперь каждое слово вызывало бурный отклик: каменели мышцы, из пастей вырывался угрожающий рык. Вот они уже готовы, подумал я, эти зомби, теперь они готовы на все…
Закончив речь, мулла дал новую команду. Все развернулись и затрусили рысцой. Пробежка.
— Здесь не только учат воинскому искусству, — удовлетворенно сказал Томас, тронув меня за локоть. — Муджахиды учатся жить в строгом соответствии с основами веры. Пять раз в день — молитва, утром и вечером — проповедь. И обязательно изучение Корана. Плюс боевая подготовка, конечно. Пойдемте завтракать. Всего я вам, конечно, не покажу, но основное вы обязательно должны увидеть.
Тренировочные площадки располагались не в самом лагере, но в окрестностях. Ближайшая из них — метрах в двухстах, за высоким барханом. Еще издали я услышал резкие выкрики и приглушенный, тупой стук ударов. На утрамбованном пятачке группу — человек двадцать — обучали рукопашному бою. Разбившись на пары, муджахиды отрабатывали простейшие приемы: подсечка, бросок, защита от ножа. Периодически чьи-нибудь ботинки взлетали в воздух, и тело тяжело хлопалось о землю. Среди муджахидов вертелся худощавый, юркий как ящерка, китаец неопределенного возраста в кроссовках, шароварах и белой тишотке без рукавов. Он обучал примером: бесцеремонно разнимал пары и легко, без напряжения, швырял каждого персонально. Никаких усилий ему для этого не требовалось. Тела сами отрывались от почвы и, описав замысловатый пируэт, беззвучно приземлялись. Маленький и костистый, запросто управлялся с грузными мужиками выше его на голову или полторы. Те вставали, потирая ушибленные места, охали, уважительно кланялись, выслушивали пояснения.
На нас покосились. Томас махнул рукой китайцу, что-то ему сказал. Тот кивнул и велел своим продолжать.
— Это наша гордость, Ким Вонг, — сказал Томас. — Бывший инструктор китайской армии. Сам он не китаец — уйгур. Руководил нашей ячейкой в Синьцзяне. Вы, может быть, не знаете, но в Китае живут тридцать пять миллионов мусульман. В основном уйгуры, казахи, киргизы, узбеки, татары и хуэй. В 1999 году китайцы разгромили ячейку Вон-га, арестовали двадцать человек, но ему удалось бежать в Афганистан. Вместе с Тахар Яном они создали там два специальных лагеря для наших китайских братьев. Нам стоило большого труда переманить Вонга сюда. Как специалисту ему просто нет равных.
На площадке начался новый этап тренировки. Муджахиды сидели на земле, подтянув под себя ноги. Смотрели и слушали. В центр вывели высокого грузного мужчину, смуглого и совершенно голого. Ким Вонг показывал на его теле уязвимые точки, что-то обстоятельно комментировал, обводил точки красным фломастером. Внезапно незаметным движением ткнул мужчину куда-то, и тот рухнул без звука. Словно почву выдернули у него из-под ног. Упал и замер, не шевелясь. Муджахиды одобрительно загудели. Китаец присел над упавшим на корточки, поколдовал, и тот пришел в чувство. С трудом, шатаясь, поднялся. На лице у него было написано тупое, животное ожидание смерти. Вонг жестом вызвал одного из мужиков — сутулого и длиннобородого. Указал ему на точку, велел бить. Тот размахнулся и хлопнул кулаком наотмашь. Голый сильно покачнулся, поморщился, но не упал. Китаец состроил брезгливую гримасу, показал мужику, как должна двигаться рука, какую форму принимает кулак. Тот послушно кивал, затем опять ударил. Звук был гулкий, тупой, со шлепком. Жертва оставалась стоять, широко расставив ноги. Вонг улыбнулся, подозвал мужика поближе и ткнул — коротко, быстро, без размаха. Голый захрипел, глаза его закатились, запрокинулась голова. Тело обмякло и поползло, потекло вниз. Подергавшись немного, он затих. Изо рта вытекла тонкая струйка крови и тотчас высохла на солнце, взялась бурой коркой. Китаец сделал короткий хладнокровный жест. Сразу вскочили четверо, поволокли труп в сторону, за край бархана. Я не мог поверить, что у меня на глазах так просто убили человека, «куклу». Я читал у Суворова, в знаменитой книге «Аквариум», что приговоренных к смерти преступников иногда отправляли в подобные спецлагеря, где на них тренировались парни из спецподразделений. Теперь я видел это своими глазами.
Вывели другого. Это был европеец, двухметровый мускулистый блондин, качок. Здоровенный бугай, почти Шварценеггер, гора мышц. Тоже голый, но в джинсовых шортах. Загорелый, голубоглазый. Затравленно и злобно озирался по сторонам. Китаец ходил около него кругами, демонстрируя муджахидам, как диковинное животное или муляж. Ни единого слова я, естественно, не понимал.
— Его что, тоже убьют? — громким шепотом спросил я Томаса, который с любопытством наблюдал за происходящим. Как в цирке.
— Вряд ли, — помотал он головой. — Такие замечательные манекены встречаются не каждый день. С ними надо обращаться бережно, чтобы дольше прослужили.
— Это заложник, как я? Пленный?
— Нет, бывший вышибала в борделе. Скрывался здесь от французской полиции. Отличный кикбоксер, надо сказать. Его к обычным спаррингам пока не допускают. Да смотрите сами.
Бывший вышибала принял боевую стойку, выставив вперед внушительные кулаки с мозолистыми сбитыми костяшками. Китаец, расслабленно переминавшийся в двух шагах, выглядел миниатюрной обезьянкой, которую можно было раздавить, расплющить одним кулачищем. Вышибала сделал выпад: правая рука коротко выстрелила вперед, тотчас отдернувшись, а следом понеслась левая, ударная, видимо, описав в воздухе крюк. Вонг даже не пытался защищаться, просто отступил на полшага и вильнул туловищем. Оба удара, каждый из которых мог бы нокаутировать или убить такого, как я, бесплодно просвистели в воздухе. Муджахиды ахнули. Громила продолжал атаковать: выпад правой, дразнящий, несильный, еще один, шаг вперед, еще шаг, снова выпад, и снова сокрушительный удар — ногой. Китаец вертелся змеем, уворачивался, приседал. Атака продолжалась: несколько длинных крюков правой, чтобы хоть как-то зацепить противника, бросок вперед, а затем двухметровая туша с поразительной легкостью взвилась в воздухе, крутанувшись, как в кино. Высоко задранная нога летела точно в голову Вонга — чуть наискось, сверху вниз. В этот момент пара тонких ручонок переплелась вокруг его щиколотки, и, вильнув в сторону, китаец оторвал громилу от земли. Это напоминало невероятный, отлаженный цирковой номер: Вонг в красивом полуприседе удерживает ступню кикбоксера, а все его огромное тело описывает в воздухе правильный круг, радиусом которого нога и служит. Весь прием занял одну-две неуловимые секунды, но мне показалось, что я наблюдаю замедленную съемку. В самый последний момент, когда тело бывшего вышибалы уже касалось земли, китаец отпустил его и прыгнул следом. Еще секунда — и он уже сидел на плечах громилы, душа его каким-то особым захватом. Муджахиды зашумели восторженно, зацокали языками, переглядываясь. Для них это было, наверное, символично: косоглазый Давид побеждает Голиафа. Вонг отпустил противника, встал, коротко поклонился зрителям.
— Древнее боевое искусство уйгуров — кульсинат, — пояснил Томас, на лице которого читалось детское восхищение. — Долгое время принадлежало одной только семье Чай-Фу-Шан. При Мао кульсинат стали преподавать офицерам спецподразделений. Но у Кима это родовая традиция. Его отец был известным мастером. Однажды убил голыми руками взбесившегося верблюда. А такого верблюда, дружище, и пуля берет не сразу.
Тренировка продолжалась. Теперь бывшему вышибале дали палку. Толстый, с рукоять лопаты, кол свистел над самой макушкой китайца, грозя снести голову. Вонг сперва просто уворачивался, изгибаясь, затем аккуратно и точно отводил жесточайшие удары ладонями. Вышибала дрался с вызовом, изо всех сил. Понимал, что все равно терять нечего. Прыгал, потный, размахивал впустую дубиной. Как будто дрался с тенью. Запыхался, тяжело дышал. Китаец, по-прежнему улыбчивый и свежий, играл с ним как кошка с мышью. Не сомневаюсь, он мог при желании убить громилу одним пальцем, как его предшественника. Наконец кикбоксер перешел в окончательное наступление и с утробным воплем обрушил сверху на Вонга страшный, чудовищной просто силы удар. До предела напряг валуны-мышцы, собрал всю энергию в комок. Так кроманьонец, еще сохранивший первозданную звериную мощь, раскраивал череп саблезубому тигру. Китаец вскинул навстречу свистящей дубине скрещенные худые запястья… Треск был таким, что казалось: ураган сокрушил дерево. В руках у вышибалы оказался щепастый, раскрошенный обломок. Он глядел на него, дико выпучив глаза. Не мог поверить. Вонг улыбался, потирая ладони. Усадив кикбоксера отдыхать, он показывал приемы муджахидам, вызывая их по очереди, объяснял, заставлял работать в парах.
— Рукопашный бой, конечно, не самое главное. — Томас закурил сам и протянул сигарету мне. — На самом деле Вонг замечательно проводит специальные акции. Эти люди прибыли из Иордании, Боснии, Малайзии, Туниса… Они пройдут здесь тренировочный курс и вернутся на родину, чтобы продолжать борьбу.
— А остальные? — полюбопытствовал я.
— Большинство из них совсем скоро встанут в строй. К сожалению, времени у нас очень мало.
— Генерал Дустум?
— И он тоже. Правительственные войска дезертировали, разбежались. Но многие встали на сторону генерала. И янки будут снабжать их оружием. Так что нам предстоит серьезное испытание.
— Неужели вы всерьез собираетесь противостоять регулярным войскам? — заметил я скептически. — Ваши люди, наверное, и стрелять толком не умеют…
— Не беспокойтесь за наших людей. — Томас швырнул окурок в песок и раздавил его тяжелым армейским ботинком. Начищенным и блестящим. — Хвала Аллаху, у нас есть нечто посильнее автоматов и танков.
— Неужели бомба? — осторожно, даже не рассчитывая на ответ, предположил я.
— Это для американского президента нет ничего сильнее бомбы. Если он хоть во что-нибудь верит, так это в нее, — отрезал Томас.
Еще некоторое время мы наблюдали за тренировкой муджахидов. Им дали человек десять манекенов — местных, видимо, на которых неумело отрабатывались удары. Те безучастно валились на землю от каждого прикосновения кулака. Покрытые синяками и ссадинами, вывалянные в пыли, перепачканные кровью… Одного из них уже оттащили в сторону — к трупам, другие еще кое-как держались. Судя по всему, их силы были на исходе. От вида крови, от беззащитности жертв муджахиды зверели, били упавших ногами в лицо, топтали. Вдоволь натешившись, они по приказу китайца вынули ножи и перерезали горло тем манекенам, кто еще жил. «Аллаху акбар! — взревели хором и взметнули над собой их отрезанные головы, забрызгивая кровью одежду. — Аллаху акбар!! Аллаху акбар!!!»
— Пойдемте отсюда, — попросил я Томаса. — Пожалуйста, пойдемте. Меня сейчас вырвет.
— Скоро вы увидите и другую сторону медали, — ответил он спокойно и зашагал по направлению к лагерю упругой, легкой походкой человека, очень по-американски уверенного в себе.
В тот же день, ближе к вечеру, я увидел ее, другую сторону. Весь лагерь погрузился в несколько грузовиков, мы тоже. Машины тронулись, урча натужно моторами и поднимая тучи пыли. Спустя полчаса оказались в уютной каменистой долине, надежно спрятанной среди обрывистых высоких барханов. Долина напоминала ровное футбольное поле, только чуть поуже и подлиннее, метров на сто. Она заканчивалась огромным и плоским куском скальной породы, стеной, покрытой густой копотью. Пахло гарью, бензином, обгоревшим металлом. Какое-то мрачное настроение царило в этой долине, что-то нехорошее в ней было, пугающее. Мне стало не по себе, я поежился, хотя было еще очень жарко. Градом лил пот, холодный. Томас был спокоен и строг, как священник.
Муджахиды высыпали из грузовиков, построились у скалы рядами. Подкатил старенький, раздолбанный «форд», из которого вылез мулла в сопровождении стройного, глазастого и вихрастого юноши. Я заметил: все были вооружены, за плечами болтались «Калашниковы». Ожидался, видимо, какой-то особенный ритуал. Мулла и юнец прошли сквозь толпу к стене, перед ними почтительно расступались. Странно торжественное царило настроение. Взяв в правую руку автомат, мулла начал говорить. Взвешенно, уверенно, подчеркивая каждое слово. Гулкое эхо разносило и умножало его хриплые гортанные фразы. Юноша жался к камню. Он мне даже нравился: тонкие черты, огромные миндалевидные глаза чуть навыкате. Очень светлую, белую почти кожу лица обрамляют живописные иссиня-черные крупные локоны. Ему бы в кино сниматься… На фоне грубых, темно-коричневых, кое-как, наскоро, вытесанных природой бородатых крестьянских физиономий он смотрелся принцем из восточной сказки. Хрупкий, изящный, грациозный. Зачем его сюда привели?
Молитва шла своим чередом: раскрытые ладони перед лицом, земные поклоны, потом поклоны еще и еще. Блестящие новенькие автоматы придавали всему этому воинственный и грозный, недобрый оттенок. Затем мулла подозвал юношу, с трудом отлепившегося от стены. Тот вышел к толпе, утер ладонью мокрый лоб, отбросил кудри с лица, крутнув головой, и заговорил. Высоким, ломким, чуть надтреснутым голосом подростка. По-моему, он был совсем еще ребенок, лет, может, шестнадцати-семнадцати. Говорил робко, заикаясь, давился словами. Муджахиды загробно молчали.
— Что он говорит? — спросил я у Томаса.
— Он говорит, что Аллах велик и всякая живая тварь трепещет перед ним. О том, как прекрасно быть мусульманским воином-шахидом и отдать свою жизнь во имя веры. Как прекрасен рай, где наслаждаются в лучах божественной славы души праведников и шахидов Аллаха. И как хочется ему самому принять поскорее венец шуади и перенестись в духовные сферы, в сады вечного блаженства.
По-моему, парень не очень-то верил в то, что говорил. Чувствовался страх в его напыщенной речи. По интонациям можно было ощутить этот страх. Когда он закончил, мулла достал Коран и протянул его юноше, крепко держа в обеих руках. Тот опустился на колени, смиренно нагнул голову, поцеловал книгу. «Бисмилла ар-Рахмон ар-Рахим!» — выкрикнул мулла, и муджахиды ревом подхватили: «Бисмилла ар-Рахмон ар-Рахим!»
— Во имя Аллаха милостивого, милосердного! — шепнул мне Томас.
Десятки автоматов взлетели ввысь, загремела беспорядочная канонада. Затем мулла сделал жест рукой, веля пальбе прекратиться. Снял с плеча свой автомат, протянул юноше. Он снова встал на колени, припал к оружию долгим поцелуем. Мулла бросил в толпу несколько торжественных фраз. Приняв автомат, парень резко передернул затвор, поднял оружие над головой и что-то закричал, а затем дал очередь. И снова толпа подхватила выкрик, снова грохнули залпы.
— Ахмед дал клятву на священном Коране и вручил свою жизнь Аллаху, — послышался шепот Томаса. — Теперь сам Неизъяснимый будет направлять его сердце и руку. Для мусульманина нет большей чести. Семья Ахмеда вечно будет гордиться своим сыном. Его имя будут давать всем мальчикам рода.
— Что его ждет?
— Смотрите.
Мулла повязал на голову юноше зеленую повязку, испещренную надписями. Затем двое принесли какой-то зеленый, военный с виду ящик. Достали оттуда какие-то перевязи — соединенные между собою квадратные желтоватые пластины примерно двадцать на двадцать сантиметров. Стали обматывать Ахмеда этими перевязями. Я начал смутно догадываться о сути происходящего, о его жуткой сути. После того как парня спеленали накрепко, подогнали старенький «форд». Под оглушительный вой муджахидов, под частые выстрелы в воздух он уселся в машину. Тотчас, не знаю, откуда он вдруг возник, появился сварочный аппарат. Наверное, он работал от генератора, спрятанного в одном из грузовиков. Один из бородатых принялся тщательно заваривать двери «форда». Толпа бесновалась, как на футбольном матче.
— Мы готовим здесь отряд избранных воинов ислама, — гордо пояснил Томас. — Их называют «федаины» или «шуади» — мученики. Они настолько рвутся принести себя в жертву Аллаху, что некоторым из них дозволяется сделать это уже сейчас. Чтобы укрепить боевой дух всех остальных. Федаины — бич Аллаха для Америки. Им безразлична их жизнь. Никто не в силах противостоять этим юношам, ибо сказано в священном Коране: «И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, живые! Они у Господа Своего получают удел, радуясь тому, что даровал им Аллах из Своей милости». И еще сказано, что души праведных забирает Азраил так же мягко и плавно, как вода вытекает из кувшина. Шахиды и федаины не чувствуют ни боли, ни агонии и даже не знают того, что они уже умерли. Их встречают ангелы Мункир и Нанкир, спрашивая: «Кто твой Бог? Кто твой пророк?» Шахид отвечает на эти простые для него вопросы, и душа его, минуя мир ожидания Барзах, попадает сразу в рай.
— У японцев тоже были камикадзе, но они все равно проиграли войну, — сказал я, все думая, какой он все-таки дурак, этот пацан, малолетка.
— Японцы добивались лишь своей собственной власти. А мы добиваемся власти Аллаха над миром, — сурово ответил Томас и замолчал.
Машину отогнали в самое начало узкой и длинной долины. Муджахиды разошлись в стороны, подальше от скалы. Все разом умолкли. Установилась нерушимая, гробовая тишина. Такая тишина, что я вдруг отчетливо услышал, как тикают на запястье Томаса часы. Громкий, неприятно лязгающий звук. Захотелось, чтобы часы перестали идти. Их металлическое щелканье казалось оскорбительным. В молчании мулла поднял автомат и выстрелил. Поддержанный и усиленный эхом, выстрел громыхнул как бомба. Машина сорвалась с места, набирая по максимуму скорость. Все не отрываясь следили за нею. Она была единственным движущимся объектом среди абсолютной неподвижности всего остального мира. Мне очень хотелось увидеть в последний раз красивое лицо Ахмеда, его глаза. Может, в них действительно можно было прочесть разгадку тайны этих странных и страшных людей? Но стекла «форда» были грязны, мчался он быстро. Затем грянул взрыв. На полном ходу машина врезалась в скалу. Километров пятьдесят в час была, наверное, скорость. Огненный столб метнулся вверх по камню, брызнули во все стороны черные пылающие обломки. Спустя мгновение все накрыл жирный и вонючий черный дым. Мне под ноги шлепнулось что-то обгорелое, дымящееся. Присмотревшись, я увидел оторванную кисть левой руки без двух или трех пальцев. Были отчетливо видны не тронутые пламенем волоски на тыльной стороне ладони.
…Вернулся в лагерь подавленный, испуганный, несчастный. В ужасном состоянии. Шоу доконало меня. Для этих людей, если их можно назвать людьми, смерть была обычным, повседневным, нормальным явлением. Убить или погибнуть — никакой разницы. С ними действительно невозможно воевать, это армия самоубийц, психопатов, фанатиков, зомби. Я решил, что они просто зомби. Другого объяснения у меня не было. Каждый день им промывают мозги, чтобы потом обмотать взрывчаткой и отправить на смерть. Пушечное мясо. Сбивчиво, торопливо и раздраженно я высказывал это все Томасу, куря одну за другой его сигареты. Я не боялся говорить ему о том, что чувствую на самом деле. Мне было все равно. Никакого восторга я не испытывал, наоборот — отвращение. И ненависть. Всей душой, всеми силами моей души я ненавидел этих сумасшедших. Кретинов с перекошенными мозгами. Недочеловеков, уродов. Казалось, Томас был в состоянии понять мои чувства:
— Муджахиды разрушают ваши представления о том, что такое нормальный человек. В европейском, западном понимании. Они топчут ногами этот образ, который вы так любите, на который так надеетесь. А что такое нормальный человек, по-вашему? Как вы его себе представляете?
— Нормальный человек… — Я замялся. — Это тот, кто в первую очередь уважает свою жизнь и жизни других людей. Кто допускает, что другой человек тоже имеет право на свое мнение, на свои взгляды. Кто способен самостоятельно оценивать происходящее и делать выводы. Трезвомыслящий, осознанный человек.
— Очень хорошо, — усмехнулся Томас. — Теперь представьте себе, что этот ваш трезвомыслящий человек попадает на войну. В грязный окоп. Кругом рвутся снаряды, свистят пули. В любой момент он может погибнуть или получить смертельную рану. Остаться без руки или без ноги — калекой на всю жизнь. А враг силен и жесток. Каждый день — бои. Вокруг горы изуродованных, разлагающихся трупов. Что остается тогда от всего этого трезвомыслия, от всей «нормальности»? Вы же культурный, образованный человек, читали, наверное, Ремарка, Хемингуэя…
— Но здесь не война… Точнее, не совсем та война… И эти люди, они же просто безграмотные крестьяне. Им внушают безумные идеи и заставляют идти за них умирать. Они никогда не открывали ваш Коран… и не откроют, наверное.
— Вы ошибаетесь. Погибший Ахмед, да примет Аллах его душу, — молодой человек из обеспеченной марокканской семьи. С отличием окончил колледж. Он был совсем не глуп, как вам может показаться. И самое главное, отец благословил его на участие в джихаде. Два брата Ахмеда воюют сейчас в Палестине. Они все сами, добровольно пришли к нам. Здесь вообще только добровольцы. Мы никого не принуждаем силой.
Спорить с ним я не мог. Университетский преподаватель, Томас обладал несокрушимо гибкой логикой. Как и совсем недавно, на привале в пустыне, он легко находил все новые и новые убедительные аргументы. Словно фокусник, вынимающий кроликов и голубей из шляпы.
— Причины вашей неприязни к муджахидам лежат исключительно внутри вас самого. Глядя на муджахидов, вы чувствуете свою собственную слабость. Говорите себе: «Я бы так не смог». И это вас злит. Вы, как и все люди Запада, очень страдаете из-за собственного малодушия и мягкотелости. Возьмите голливудские блокбастеры с Шварценеггером, Сталлоне, Сигалом, Брюсом Уиллисом… Всех этих крепких парней со стальными мускулами, положительных героев с оружием в руках, которые спасают мир. Так называемых защитников справедливости. Они позволяют жирным слизнякам, которые жрут свою пиццу, таращась на телеэкран, чувствовать себя настоящими мужчинами. Один из психологических наркотиков, которыми вас пичкает западная цивилизация. Но когда Арни или Слай уничтожают на экране десятки и сотни людей, это всех устраивает. Все в восторге: ах, торжествует добро! Никто же не говорит о том, что в духе западной демократии всех преступников нужно было бы сперва судить, а уж потом наказывать…
— Не надо смешивать кино и жизнь!
— Никто и не смешивает. Я говорю о двойной морали, о двойном стандарте. Жирным слизнякам внушают, что добро должно побеждать любой ценой, чтобы они потом выползли из своих нор и проголосовали за того президента, который будет сбрасывать бомбы на проклятых арабов. Чтобы торжествовало добро. Однако сам слизняк не в состоянии воевать. Если бы американцы вели себя так же, как их киногерои, они стали бы по-настоящему великой нацией. Но когда исламский муджахид ведет себя как настоящий мужчина, как воин — вы шарахаетесь. Вы начинаете что-то лепетать о морали, о демократии, о фанатизме.
— У нас с вами, видимо, разные представления насчет добра…
— Насчет добра не может быть разных представлений. Есть только одно.
— Какое же? Ваше?
— Нет. У русских был один великий писатель, Достоевский. В Америке его почему-то очень любят. В молодости я прочитал несколько его книг. У него есть прекрасная мысль: без Бога не бывает этических ценностей. Без Бога нет ни морали, ни добра. Муджахиды веруют в Аллаха, живут по законам Аллаха, отдают жизнь за Аллаха, мир ему и благословение. У американцев нет ни настоящего Бога, ни веры, ни готовности к самопожертвованию. Теперь скажите: на чьей стороне добро?
И снова мне пришлось смолчать. Великого писателя Dostojevski, «Преступление и наказание», я открывал только один раз, в школе. Больше десяти страниц одолеть не смог: невыносимо скучно. Кроме того, я не слишком доверяю книгам. Попал бы Dostojevski сюда, оказался бы на моем месте…
— Великий пророк Иса, в которого вы тоже не верите, сказал: «Если тебя ударят по левой щеке, подставь правую». Jesus был самым добрым из всех когда-либо живших на этой земле. Кстати, мусульмане считают Ису, сына Мириам, великим пророком Аллаха, ибо сказал Мохаммад, мир ему: «Тот, кто поверил до конца дней своих, что нет божества, кроме Аллаха, Одного-Единственного Создателя, и что Мохаммад — Его раб и Посланник, и также Иса — раб Аллаха и Его Посланник, что Слово Аллаха было передано Мириам, и дух был создан Аллахом, тому Аллах обещал вхождение в Рай». Пророк Иса, мир ему, пришел как спаситель, чтобы указать людям истинный путь, по которому прежде шел пророк Моисей. Он проповедовал покорность и поклонение единому Богу, который ни на что и ни на кого не похож, ни в чем и ни в ком не нуждается, ни в образе, ни в месте, ибо все это — качества созданных, и Аллах чист от этого. Иса говорил, что все, что существует, кроме Создателя, является созданным, в том числе и пророки Бога. А созданное недостойно поклонения, потому надо признавать всех пророков, но нельзя никого из них обожествлять. Иса, мир ему, был одним из величайших пророков единобожия, религии, ниспосланной Творцом всем своим пророкам. Эта религия на арабском языке называется ислам, в переводе — «покорность единому Богу», а ее провозвестники, пророки, являются по вере мусульманами, то есть покорившимися единому Богу. Иса принес своему народу новый закон от Всевышнего — Евангелие, которое мы называем Инджиль. По воле Аллаха он оживлял мертвых, исцелял больных, творил чудеса, являя доказательства того, что он — посланник Аллаха. И что с ним сделали люди? Именно поэтому Аллах призвал Мохаммада и вложил в его руку меч. Это не меч убийства, но меч Истины. Он отсекает загнившую, больную плоть, чтобы не погубить все остальное тело. Так поступает хирург, удаляющий вам аппендикс. Разве это не жест милосердия? — Томас помолчал немного. — Кстати, вы знаете о том, что одиннадцатого сентября было предсказано в священном Коране?
— Нет. — Я удивленно помотал головой, в которой не могла никак уложиться свалившаяся информация.
— Одиннадцатый джуз священного Корана включает в себя девятую суру «Ат-Тауба», которая, кстати, называется «Покаяние», и сура эта содержит в себе две тысячи одно слово. Сто десятый аят гласит: «Постройка их, что возвели они, не перестанет быть сомнением в их сердце, пока оно не разобьется». Сто десять — число этажей в башнях-близнецах. Видите закономерность: одиннадцать — девять — две тысячи один — сто десять. Сура «Ат-Тауба» — единственная из всех ста четырнадцати сур Корана, которая начинается без упоминания имен Всевышнего ар-Рахим и ар-Рахмон — Милосердный и Милостивый. Это означает, что если люди, возведшие нечестивое здание, не покаются, то на них прольется гнев Аллаха, мир ему и благословение. Так что святой имам просто исполнил волю Всемогущего, не более того. Перед лицом Неизъяснимого никакого преступления здесь нет, ибо исполняющий его волю — истинный праведник…
Наша богословская беседа длилась долго, до самого вечера. Без результата. По-прежнему я не мог пробиться сквозь людоедскую логику Томаса. И по-прежнему чувствовал в ней невидимое слабое звено. Подвох. Dostojevski, видимо, нашел бы что ответить. Мне не удавалось. Для меня все рассуждения о добре и о морали кончаются тогда, когда человек поднимает автомат. После этого философия недействительна. Так я всегда полагал. Но теперь находился в ситуации, когда философские построения обретали живую, окровавленную плоть. Когда понятия Бога и добра напрямую связаны с убийцей, прицелившимся в свою жертву. С войной, которая ведется якобы во имя Бога. И где-то здесь незримо присутствует Истина. Неизвестно только, на чьей стороне.
Меня еще ожидал киносеанс. Когда стемнело, из центральной белой палатки-шатра вынесли огромный, с плоским экраном телевизор «Шиваки». Около полусотни муджахидов уселись около него по-турецки и приготовились смотреть. Перед этим, разумеется, были молитва и проповедь. Мулла объяснял, видимо, содержание фильма, все внимательно слушали. Потом началось собственно кино. Сперва появилась довольно грубая заставка: эмблема с перекрещенными саблями и арабской каллиграфией на фоне скованного цепями земного шара. Голос за кадром что-то вещал, вдохновенно и мрачно. Следом за тем возникла новая эмблема: раскрытый Коран и автомат Калашникова. И уж потом начался основной сюжет. Нью-Йорк в час пик, ускоренная черно-белая съемка: миллионы людей и машин несутся в бешеном ритме. Мультипликационная суета человечков-муравьев на фоне устрашающих громад небоскребов. Снималось все с каким-то специальным фильтром, слишком уж много черного. Перебивка: великолепный восточный город.
Потрясающие, фантастические цвета. Бирюза узорчатых куполов, стройные золотистые минареты, древние арки, колоннады и фонтаны. Улыбчивые, спокойные прохожие неторопливо шествуют по своим делам. Благообразные седобородые старцы предаются беседе у входа в мечеть. Играют сытые, румяные дети. Симпатичный нагруженный ослик трусит за каким-то Насреддином. Перебивка: уличные наркоманы в Нью-Йорке, снова черно-белый сюжет. Обдол-банный негр валяется, разбросавшись, у мусорного бака. Истощенная девица трясущимися руками делает себе укол. Крупно: многократно продырявленные вены, страдальческая гримаса на грязном лице. Группа подростков под сильным кайфом: сидят, передавая косяк по кругу. Перебивка: муэдзин сзывает правоверных на молитву. Ряды задниц, задранных к небу. Бородатый тип в белоснежном тюрбане ведет урок в школе. В его руках — открытый Коран. Снова Нью-Йорк: проститутки. Разноцветные, едва одетые девушки заманивают, фальшиво улыбаясь, клиентов. Рядом дежурят сутенеры. На длинном авто подъезжает клиент, снимает грудастую блондинку, расплачивается с сутенером. Крупно: девушка садится в машину, клиент скалит зубы, дымя толстой сигарой. Перебивка: исламские женщины. Паранджа. Ведут детей в школу, делают покупки на живописном восточном базаре. Крупно: груда сочных персиков, к которым тянется детская ручонка. Нью-Йорк, ювелирный бутик «Картье». Ухоженные красотки примеряют увесистые бриллианты. Услужливые продавцы с усиками лебезят перед дорогими покупательницами. Старуху в мехах и бриллиантах сопровождает стройный моложавый господин. Сухая, морщинистая и рябая старческая лапка с крупными перстнями и маникюром. Перебивка: глухая деревня в пустыне. Иссохшая, растрескавшаяся земля, полуразрушенные домишки. Опухший от голода рахитичный ребенок, стоя на четвереньках, что-то пожирает из глиняной миски. Старик в тряпье, словно только что из Освенцима, опирается на клюку. Крупный план: запавшие страдальческие глаза, беззубый рот.
Американские солдаты в полной боевой выкладке на учениях. Рукопашный бой, стрельба по мишеням. Перекошенные, злобные физиономии. Идут танки, эскадрилья самолетов бомбит горы. Открывается люк в земле, из шахты появляется ядерная ракета. Перебивка: знаменитые кадры 11 сентября 2001 года. Самолет врезается в башню Центра международной торговли, пробивая ее насквозь. Взрыв, пожар, паника. Разрушаются здания, перепуганные люди бегут по улицам. Крики, плач. Подробная, с повторами, нарезка кинохроники. Следом за тем — марш муджахидов. Плечом к плечу, с автоматами, куда-то движутся стройной колонной. Звучит торжественная музыка, голос за кадром восторженно вещает что-то…
Могу сказать: сделано было на совесть. Профессионально. С тщательно подобранной музыкой, с отлично состыкованными переходами. С тонкой психологической игрой черно-белого и цветного. С гипнотизирующим голосом диктора. В лучших традициях. Подозреваю, что сюжеты о проститутках и ювелирном магазине взяты из какого-то голливудского фильма. Но не важно. Било по нервам, наотмашь. Хотелось тотчас встать в строй, сражаться на священной войне. И далее сложить голову в битве с Империей Зла.
— У нас есть собственная киностудия, оборудованная по последнему слову техники, — похвалился Томас. — Снимаем и документальное, и учебное, и игровое кино. Хаджи вложил в этот проект пять миллионов долларов.
Следом за тем на экране появился и сам Хаджи Абу Абдалла. Снимали где-то в горах — афганских, наверное. Сидел, одетый в белое и поджав ноги, на ковре, постланном на голой земле. Слева и справа — громилы. В масках и с автоматами. За поясом у Абу Абдаллы был заметен антикварного вида длинный кинжал, на коленях лежал неизменный «Калашников». Террорист Номер Один говорил — размеренно, ровно, хорошо поставленным голосом, артикулируя. Мягкий, чуть хрипловатый приятный баритон. Не запинался, не делал слишком долгих пауз, подбирая слова. Не покашливал, не хмыкал. Без напора, уверенно, спокойно и даже на слух, без перевода, убедительно что-то объяснял. Иногда правой, свободной рукой делал в воздухе округлый жест, как бы подчеркивая мысль. Изящная, немного женственная, длинная кисть, тонкие ровные пальцы. Идеально опиленные овальные ногти. Держался он перед камерой очень естественно. Ни скованности, ни позы — игры на публику. Словно обращался не к стеклянному глазу, но к давно знакомому, привычному собеседнику.
Я наблюдал за ним очень внимательно. Незнание языка было только на руку. Содержание проповеди, значение слов и конструкция фраз не отвлекали. Жесты и мимика иногда гораздо важнее речи. На вид Абу Абдалле можно было дать больше пятидесяти, почти шестьдесят, хотя я знал, что ему сейчас всего сорок пять. Выглядел он стариком — крепким, поджарым, энергичным, но все-таки много старше своих лет. Сухопар, тонок в кости. Ни грамма жира — складки белой, неопределенной формы хламиды свободно свисают с широких, но худых плеч. Спину старается держать прямо, но все равно заметно сутулится. Трудно что-то сказать насчет роста, но, показалось мне, выше среднего. Поза расслабленная, ненапряженная. Жестикулирует мало и, судя по ритму и темпу речи, только в необходимых случаях. Иногда кисть на несколько секунд зависает в воздухе, потом плавно опускается на колено. Никаких лишних движений, никакой суеты. Держится очень спокойно. Одежда: белая хламида, подпоясанная таким же белым широким кушаком, белая чалма. Отлично выглажено все, без складок. Материал смотрится скромно, но, по-моему, довольно дорогой. Немного театральным показался мне его наряд. Вроде выходного костюма пророка, смокинга. Украшений — колец, перстней — я не заметил. Но крупные, тяжелые часы на левом запястье усыпаны бриллиантами. «Ролекс» скорее всего. Ненавязчивая роскошь миллиардера.
Фотография в журнале почти не исказила его лицо. Вытянутое, оливкового оттенка, неуловимо лошадиное. В движении — грубоватое, вызывающе неевропейское. Большой нависший крючковатый нос заметно портит портрет. Тщательно расчесанная, длинная, почти полностью седая борода начинается едва ли не от самых глаз и свободно струится до середины груди. Борода, ногти — неужели у него там, в Гиндукуше, есть свой салон красоты? Очень живое тем не менее, выразительное лицо. Не маска, застывшая и отечная, как у большинства наших политиков. Глубокие темные морщины у глаз, у переносицы. Видно, что человек много пережил, прошел через многое. И глаза — я все не мог оторвать взгляда от его невероятных глаз. Успокоенных мудростью или умудренных покоем. Крупные, чуть навыкате, миндалевидные, с мутной желтоватой радужкой, слегка воспаленными припухшими веками и угольно-черным, засасывающим зрачком. Что в них такого, в этих глазах, — не могу сказать. Могу сказать, что глаза были неодинаковые. Правый едва заметно выше левого, круглый, горящий, с безумной искрой. Левый — продолговатый, полуприкрытый тяжелым веком, сумрачно-прохладный, как бы подернутый поволокой. Приглядевшись, я обнаружил, что глаза у Абу Абдаллы совершенно разные, словно принадлежали двум лицам, не одному. Фотография скрадывала этот момент, он был отчетливо заметен лишь на видео, в движении. Кем были эти двое, уживавшиеся в одном теле, — Воин и Мудрец? В каких они были отношениях друг с другом?..
— Никогда не забуду свою первую встречу с Хаджи, — с благоговением произнес Томас. — Вы не представляете, что он за человек, какая исходит от него духовная мощь! Словно ты стоишь рядом со включенным генератором. Сразу чувствуешь себя таким маленьким, слабым, как ребенок. Выдержать его взгляд невозможно, он пронизывает тебя насквозь. Хаджи сразу видит всю твою изнанку, от него ничего нельзя утаить. Он читает мысли. Ты еще пытаешься сформулировать вопрос, а он уже дает тебе ответ. Он знает твое прошлое и может предсказывать будущее. Я тогда как раз собирался съездить в Штаты, уладить дела, продать кой-какую недвижимость. Слова не успел сказать, а Хаджи говорит мне словами священного Корана: «Воистину, боятся Аллаха знающие из Его рабов». Я потом долго думал, что может означать эта фраза. А когда уже купил билет на самолет, вдруг случайно узнал, что ФБР выдало ордер на мой арест. Если бы не Хаджи, сидеть мне в камере лет десять. В исламе это называется «фираса» — видение скрытого. Если Благословенный даровал человеку качество фираса, значит, он отметил его среди всех. Такой человек должен иметь абсолютно чистое сердце, иначе чтение мыслей других просто сведет его с ума. Или отвратит от истинного пути, будучи великим искушением. Великие улемы считают, что если некто имеет фираса, это означает, что у него есть также и иджаз — как бы неоспоримое свидетельство Аллаха, что такой человек есть праведник. Тот, кто обрел иджаз, — истинный вождь мусульман. Право это даровано ему свыше, и отобрать его не в силах никто, кроме самого Непостижимого.
— А что означают все эти вещи… Ну, что Абу Абдалла — это Махди и с его приходом наступит конец света? — полюбопытствовал я.
— О, это очень интересно! — оживился Томас. — Существуют двадцать семь признаков еумуль-кыяма — того, что вы называете концом света. Большинство из них уже сбылись. Например, сказано, что послушность жене и непослушание родителям будут в порядке вещей. Муж станет робко исполнять неисламские просьбы своей жены.
Матерей не будут слушаться, с отцами станут обращаться как с чужими людьми. Власть будет принадлежать людям с низкой моралью и слабым характером, а тиранов начнут восхвалять и оказывать им всяческое уважение. Алкогольные напитки будут употреблять открыто, распространятся бессмысленная музыка и новоизобретенные музыкальные инструменты, а танцующие и поющие женщины появятся в бесчисленном количестве. Ростовщичество будет рассматриваться как бизнес, а взятки станут воспринимать как подарок. Кроме того, женщины начнут заниматься бизнесом наравне с мужчинами. Скромность и стыдливость исчезнут, а прелюбодеяние и разврат станут очень распространены, незаконнорожденные дети сделаются частым явлением. Увеличится число наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий, резко ухудшится экология. Особо интересным мне кажется пункт тринадцатый (обратите внимание!), который гласит: «Люди будут соревноваться друг с другом в построении высоких зданий». Согласитесь, все это означает, что еумуль-кыям уже стоит у самых наших дверей. И виноват во всем западный мир. Кризис семьи и моральных ценностей, безнравственность политиков и бизнесменов, тупая и развратная поп-культура, экологическая катастрофа — все сходится один к одному! Ведь недаром Хаджи разрушил Центр международной торговли — это же настоящая Вавилонская башня, символ того, что люди зашли в своих грехах так далеко, что навлекли гнев Всемилостивого на сотворенный им мир, которому следовало бы процветать на радость Создателю!
— Что же должно случиться? Исламский Апокалипсис?
— Не думаю, что стоит над этим иронизировать, — очень серьезно ответил Томас. — Предсказания Корана и хадисов продолжают сбываться. Сказано, что перед самым еумуль-кыямом в мире возникнет группа людей, свято верующих в Аллаха и готовых отдать за него жизнь. Возглавит эту группу Имам Махди. Войско мусульман начнет сражаться с кафирами не на жизнь, а на смерть, но будет разгромлено почти полностью из-за предательства и трусости некоторых воинов. А затем появится Даджаль — тот, кого на Западе называют Антихристом. Это будет голубоглазый блондин. Сказано, что Даджаль станет передвигаться по свету сквозь облака, сея повсюду разрушение и смерть. Даджаль примется грабить человечество, и особенно мусульман, а затем провозгласит себя властителем Земли, подобным самому Аллаху. Примерно то, чем сейчас занимается американский президент, верно? Сторонники Даджаля будут наслаждаться комфортом и роскошью, а его противники — жестоко страдать. Он объявит тотальную войну мусульманам, которая начнется в Иордании. Я полагаю, Израиль начнет очередную агрессию, которую поддержат Соединенные Штаты. Тогда имам Махди снова соберет верных муджахидов и вступит с Даджалем в последний бой. В одну из ночей, когда силы мусульман будут на исходе, во время намаза Фаджр спустится на землю пророк Иса, опираясь на плечи двух ангелов. С ним явятся тысяча двести праведников — восемьсот мужчин и четыреста женщин. Начнется окончательная битва, а произойдет она в Палестине. Пророк Иса настигнет Даджаля и убьет его, а затем войдет в Бэйтуль-Му-каддас, Иерусалим, и уничтожит все атрибуты так называемого «христианства» — в первую очередь кресты. После победы Иса отправится в хадж и посетит святую Медину, где будет беседовать с Мохаммадом, мир ему, как с живым. Через некоторое время восстанут на мусульман народы яджудж и маджудж, но Иса одолеет и их, став единственным правителем мусульман — халифом. Он проживет сорок лет, женится и родит детей, а похоронен будет в Медине, рядом с пророком… О дальнейшем говорить не стану, это дело будущего. Своими глазами увидеть еумулькыям нам не удастся — не доживем. Но, инша Аллах, если будет воля Всеблагого, мы сможем лицезреть Ису. Вы мне не верите, да?
— Я верю в то, что вижу. А то, что я вижу, достаточно мрачно. Боюсь, что ваш еумуль… как бишь его… произойдет не так торжественно. Обыкновенная ядерная война, и никаких яджуджей-маджуджей… Гораздо проще и страшнее. И там уже будет не важно, мусульманин ты или нет. Все лягут в одну могилу.
— Хаджи никогда не ошибается, — твердо возразил Томас. — То, что он говорит, полностью соответствует действительности. Просто вы воспринимаете это со своей точки зрения, буквально. Неужели вам никогда не казалось, что человечество зашло в своем развитии в такой тупик, что конец света просто необходим? Ведь нет никаких перспектив! Люди губят и себя и планету. С каждым годом все быстрее и быстрее. Духовные ценности истребляются под корень. Помните евангельскую притчу о сеятеле? У учителя Ибн Мад-жара сказано, что Аллах сеет зерна, но благодатную почву готовят сами люди. Таково сотрудничество между нами и Создателем. Вот и подумайте: одно зерно упало на иссохшую землю и не смогло прорасти, другое заглушили сорняки, третье склевали птицы. Ибн Маджар говорит: три четверти людей недостойны жизни, дарованной им Аллахом, мир Ему и благословение. Это все равно что дать питекантропу компьютер — он не будет знать, что с ним делать. И Хаджи Абу Абдалла объясняет нам: убийство кафира, закосневшего в неведении, не есть грех, поскольку кафир вообще не живет. Он только притворяется, создает видимость. А на самом деле это тело без души, как у свиньи. Свинья ведь тоже не хочет умирать, она визжит, когда ее режут…
Я предпочел промолчать. И еще раз с абсолютно трезвой, безжалостной точностью признался, что этих людей следует уничтожать как бешеных собак. Всех. Террорист Номер Один на экране продолжал свои объяснения. Мне захотелось все-таки удостовериться, что он думает именно так, как пересказал только что Томас.
— А о чем он сейчас говорит? — спросил я.
— Объясняет суть истинного покаяния.
— Вот как? И в чем же его суть?
— Покаяние в исламе называется «астагфируллах». Сказал пророк, мир ему: «Клянусь Аллахом, я прошу прощения у Аллаха и обращаюсь к Нему в день больше семидесяти раз». Но ни один человек не знает путей, предначертанных ему Аллахом, ибо воля его сокрыта от людей. Поэтому никто не в силах сказать, правильно он поступает в данный момент или нет. Даже если соблюдает шариат. К примеру, может быть, есть воля Аллаха, что вы оказались здесь, а возможно, в вашей Книге жизни записано совсем другое и вы оказались здесь по ошибке. Или, что еще хуже, поддались увещеваниям шайтана. Сказано в священном Коране: «И кому будет принесена его Книга в правую руку, тот будет рассчитан расчетом легким и вернется к своей семье в радости. А кому будет принесена его Книга из-за спины, тот будет звать гибель и гореть в огне». Кто знает, откуда вы получите свою Книгу… Нам выпало жить в темный век неверия, сумма наших грехов растет независимо от нас. И единственное, на что может надеяться правоверный мусульманин, это на тот день и час, когда не останется на земле кафиров, будет окончательно повержен шайтан, и единственным владыкой смертных станет сам Аллах, мир ему и благословение. Суть истинного покаяния, учит Хаджи, состоит в том, чтобы приблизить этот день и час. Все остальное не так важно.
Внезапно в моем мозгу случилась некая сложная реакция. Та его часть, что ответственна за богословие, доныне спавшая, ожила и задала сокрушительный, мне казалось, вопрос:
— Если Аллах всемогущ и всесилен, почему же он допускает, что люди отклоняются от написанного в Книге жизни? Значит, Он не контролирует этот мир? Не может уследить за тем, чтобы люди исполняли предначертанную им судьбу? В таком случае ваш Аллах далеко не всесилен…
— Аллах даровал человеку свободу воли, — невозмутимо ответил Томас, улыбнувшись. — Земная жизнь — только начало долгого пути вашей души. Она будет странствовать до тех пор, покуда не уподобится тому совершенному образу, который определил для нее Неизъяснимый. Находясь в телесном облике, душа должна научиться преодолевать соблазны, научиться послушанию и хауфу — страху Божию, как сказано: «И лишь Меня страшитесь». Нами управляют три главных порока: рия, эгоизм, нифак, лживость, и зависть — хасад. Говорит о нас Неизъяснимый: «Ведь жизнь, полную греховных удовольствий, они до этого вели, упорствуя в грехе великом…» Это насчет смертного часа. А греховным удовольствием следует считать любое действие, которое не сопровождается постоянной мыслью об Аллахе, мир ему и благословение. Чтобы душа исправилась, Благословенный посылает ей испытания. Суфийский учитель Нима-тулла однажды заметил, что ад — это то, что происходит с нами на земле, здесь и сейчас, никакого другого ада нет. Здесь мы искупаем свою вину, А настоящая жизнь — только там, на небесах… — Он тщательно протер очки, насадил их на нос и продолжил: — Во времена пророка, мир ему, люди жили проще, их вера была искренней и незамутненной. Сейчас западная цивилизация превратила мир в запутанный лабиринт, в котором человек бесцельно блуждает, не видя выхода. Его сердце утратило чуткость, мысли сконцентрировались на сиюминутном. Именно об этом и говорит Хаджи: в аду испытаний, которые посылает нам Всевышний, очень трудно разглядеть истинный путь. Муджахиды сражаются за то, чтобы очистить мир от накипи. Чтобы вернуть человечество в то изначальное состояние, когда воля Аллаха и голос пророка были ясны как день.
— А может, пусть лучше каждый начнет с себя? — предположил я, с трудом пытаясь сдержать рвущуюся наружу ярость. — Молится, изучает Коран, соблюдает заповеди… Пытается собственным примером убедить других?..
— Когда дом горит, бесполезно молиться, надо тушить пожар! Если вам, вашей семье, вашей стране угрожает враг, Аллах велит сражаться, а не бежать в пещеру. В Писании четко сказано: есть воля Аллаха на то, чтобы умма, исламский народ, процветала и жила в довольстве. Но есть также воля его, чтобы мусульмане сами защищали себя. Аллах благословляет наше оружие, наполняет наши сердца мужеством и желает, чтобы мы исполнили его волю и умма процветал. Когда завершится джихад, муджахиды вернутся к молитве и мирному труду. Ведь «ислам» означает «мир»… Всемогущий желает, чтобы мы жили в мире.
И снова я оказался в логическом тупике. Противоречивая воля их кровожадного Аллаха была выше моего понимания. Инквизиторские парадоксы сковывали по рукам и ногам. Как это было в Средние века: «Убивайте всех, Бог своих узнает». Вот именно: убивайте всех. Убивайте. Убивайте!
Вокруг смерти, человекоубийства концентрировалась вся их религия. По крайней мере в изложении Томаса — Туфика, университетского преподавателя. Бывшего гражданина ненавидимых им Соединенных Штатов. И Хаджи Абу Абдаллы, Террориста Номер Один.
— Не пытайтесь понять все сразу, — словно прочитав мои мысли, мягко сказал Томас. — Я пришел к этим выводам после многих лет духовных поисков. Ездил в Египет, в Индию, в Турцию, в Йемен, искал богословов, суфийских мастеров, изучал древние тексты. Но оказалось, святой человек жил совсем рядом — мулла Омар из мечети в Бруклине. Он сказал мне одну очень простую вещь: «Для того чтобы жить во имя Аллаха, нужно сначала умереть во имя Аллаха». Ту же самую мысль я когда-то прочел у великого суфия Абу Сулеймана Дарани: «Не покинет сердце страх, пока оно не опустошится». Тогда я не понял, о чем идет речь… Отказаться от самого себя, от всех собственных мыслей, умозаключений. Принять Коран, сунну как буквальную волю Всеблагого. Шейх Омар сказал: «Аллаху не нужно то, чем напичкана твоя голова. После смерти этот мусор все равно будет сожжен. Аллаху нужен ты сам. Вручи себя ему и делай то, что велит он. И больше тебе не о чем заботиться…» В исламе это называется «ибада» — совершенная форма смирения и покорности, один из высших духовных уровней. Однако хватит на сегодня бесед. Советую вам отдохнуть. Совсем скоро будет вертолет.
…Летели ночью, сквозь кромешную мглу. Куда — даже предположить не могу. Сколько? Часа три или больше. Насколько я понимаю, забирались в самую глубь пустыни. Вертолет был военный, пятнистый, старенький. Мы с Томасом и пилот — больше никого. Примерно на полдороге с земли в нашу сторону взлетела ярко-зеленая сигнальная ракета.
— Они нас видят, — объяснил Томас. — Зеленая ракета — знак того, что небо свободно. Если бы запустили красную, пришлось бы садиться.
— Кто это — они? — спросил я, не рассчитывая на ответ.
— Наши друзья.
Больше ни единого слова произнесено не было.
Приземлились где-то в горах. Невысокий массив: растрескавшиеся скальные громады, полузанесенные песком, каменистые плато, валуны. Сердце пустыни. Сколько летели — ни огонька внизу. Сплошная тьма. Но когда ступил на землю — слов не нашел. В самом центре плато, щедро подсвеченный мощными прожекторами, стоял дворец. Нет, не мираж, конечно, какие, к черту, ночью миражи? Может, ночные миражи тоже бывают, не знаю, однако дворец был совершенно настоящим. Белоснежный, невесомо-легкий, с ажурными башенками, балкончиками, стрельчатыми окнами и изысканным орнаментом по фасаду. Стоял, окруженный лужайкой, на которой цвели розы! Да-да, розы — десятки благоухающих кустов, дальше виднелась рощица высоких и гибких финиковых пальм, а то место, где я стоял, — это была бетонированная, отличная вертолетная площадка. Среди дикой, раскаленной и безводной пустыни, где на сотни километров вокруг живой души не найдешь, дворец даже меня, человека ясно какого, заставлял думать о джиннах и их сокровищах. Или, на худой конец, о Голливуде — ведь где-то здесь, в этих краях, снимал Джордж Лукас свои «Звездные войны».
— Что это? — даже испуганно как-то спросил я Томаса.
— Не верите своим глазам? — усмехнулся он. — Стараюсь верить.
— Резиденция знаменитого шейха Заки уль-Африди.
— Чем же он так знаменит? Что-то взорвал?
— Не угадали, — засмеялся Томас, весело похлопав меня по плечу. — Уль-Африди контролирует всю опийную индустрию Северной Африки. Я бы не назвал его примерным мусульманином, но шейх с удовольствием помогает нам. Очень эксцентричный старик, надо сказать, любит играть в Гаруна аль-Рашида. В одежде простого торговца ездит по деревням скупать опий-сырец. А вокруг здесь, на горах, у него круглосуточно дежурит охрана со «стингерами» и ракетами «СКАД». По крайней мере ходят такие слухи.
Я вспомнил развеселого дедушку, которому мы сдавали урожай на маковой плантации, будь она проклята, — неужели он?
Пока Томас говорил, нас взяли в плотное кольцо молчаливые вооруженные люди, повели. Изнутри дворец выглядел не менее роскошно, чем снаружи: мрамор, колонны, ковры, бронзовые люстры, картины в тяжелых рамах. Томас чувствовал себя здесь уверенно, спокойно, как дома. И конвой нас не торопил, давал осмотреться. Несколько живописных полотен показались мне очень знакомыми — может, я их на открытках видел или в календарях, трудно сказать. Заметив мой любопытствующий взгляд, Томас охотно пояснил, тыча пальцем в картины:
— Гоген, два наброска Модильяни, Моне, вот там, дальше — Шагал и Ван Гог. Разумеется, подлинники. Еще пара — на втором этаже, Пикассо и Миро. Но основная коллекция — в личных апартаментах шейха. У него в Лондоне есть собственное агентство, которое занимается живописью. А здесь — одно из лучших частных собраний в мире. Кстати. — Он остановился возле неброского четырехугольника серого картона размером с альбомный лист, на котором небрежными рыжими штрихами было обозначено удивительно красивое и свежее женское лицо. — Этот эскиз Ренуара подарил в свое время шейху сам Абу Абдалла. Цена на «Сотбиз» — полтора миллиона долларов. Видите, мы тоже умеем ценить искусство…
Думал уже, буду жить во дворце, шах-падишахом… Так оно, в общем, и вышло, но с поправками. Вошли в лифт. По мере того как опускались, становилось ясно, что под землей пространства не меньше, чем на поверхности. Наконец остановились, вышли. Унылый длинный коридор, слабо подсвеченный тусклым электричеством. Скромненько, по минимуму, как в студенческом общежитии: вытертый линолеум, крашеные стены… Ни ренуаров, ни ван гогов — серая казенщина. Разве что двери обращали на себя внимание: стальные, без ручек, очень плотно подогнанные к стене. На каждой двери была блестящая панель с квадратными кнопками и щелью, как в банкомате, только щель поуже. Один из охранников, порывшись в карманах, вынул и протянул Томасу длинную пластиковую чип-карту. Тот вставил ее в щель, что-то мягко щелкнуло, дверь открылась.
— Прошу! Надеюсь, это станет вашим новым домом. Мой новый дом выглядел непрезентабельно. Комната примерно три на три метра. Кровать с панцирной сеткой, стол, стул, шифоньер, дряхлый телевизор «Шарп», Мебель старая, потертая — привокзальная гостиница. Выцветший рябой коврик. В тесном закутке — некое подобие кухни. Электрическая двухконфорочная плитка вмонтирована в мойку, тронутую легкой ржавчиной. Рядом — шкафчик и приземистый пузатый холодильник. Из кухонной ниши открывается дверь в крошечный чулан: унитаз, раковина, грязная душевая кабинка.
— Располагайтесь. — Томас сделал широкий жест, как будто имел в виду номер люкс «Хилтона». — Тут есть все, что вам необходимо. Гигиенические принадлежности вот где. В холодильнике найдете еду, в шкафу — чистые вещи, белье. Советую помыться, поесть и лечь спать. Утром вас ожидает важный разговор. Да, вот еще что… — Он подвел меня к двери, рядом с которой находилось нечто вроде переговорного устройства. — Дверь закрывается и открывается с помощью чип-карты. Пытаться ее взломать бессмысленно. Если что-нибудь понадобится, нажмете эту кнопку. Здесь все говорят по-английски. А если все пройдет нормально, получите свою чип-карту без проблем. Спокойной ночи!
Выяснять подробности не хотелось: слишком устал. Пошел в душ. Вода негорячая, течет еле-еле. Мыло — вонючее, из самых дешевых. Было у нас в начале перестройки такое отвратительное индийское мыло «Махарани». Вот этот запах его мерзкий… Шампунь положить забыли, но кое-как удалось отскрести въевшуюся двухнедельную грязь. Побрился туповатым «жиллеттом», расцарапал лицо. В шкафу нашел несколько пар джинсов и рубашек секонд-хенд, украденных, наверное, из гуманитарной помощи. Хорошо хоть чистое все, стираное. Переоделся, рухнул на скрипучую койку, но не спал до утра ни секунды. Не мог заснуть. Думал о своих, о малышке… Как они? Что с ними сейчас? Чем я могу им помочь? Проклинал свою неудачливость, глупость, проклинал Бога и весь созданный им идиотский мир. Потом лежал вообще без мыслей, много часов, с опустошенной тяжелой головой.
Наконец дверь щелкнула, отворившись. На пороге стоял бородач в камуфляже, с автоматом. Жестом велел: пошли. Снова коридор, лифт. Поднялись, кажется, на два этажа, вышли. Здесь было все гораздо солиднее: и светильники, и двери, и ковровые дорожки. Административный, показалось, отдел. Комната, куда меня провели: мягкие кожаные кресла, журнальный столик из стекла с никелированными гнутыми ножками, кофейный на столике прибор, конфеты в вазочке, кондиционер тихонько жужжит. Человек, ожидавший меня, отпустил охранника и указал мне рукой на свободное кресло: присаживайтесь. Выглядел нормальным европейцем: белокожий, с правильными чертами, гладкощекий, высоколобый, лысоватый. Коротко и аккуратно подстриженный. Темные очки, хрустящая белоснежная рубашка, дорогой галстук темно-вишневого цвета. Преуспевающий юрист или как минимум банковский клерк не из последних.
— Зовите меня Марк, — доброжелательно протянул руку. Я пожал. Крепкая кисть, горячая сухая кожа. — Вы… — назвал мое имя.
— Да.
— Прибыли в страну по приглашению Мохаммеда Курбана… — кратко перечислил наши несчастья.
— Именно так, к сожалению.
— Топ-менеджер компании «Интерком», специалист в области системного программирования и защиты компьютерных сетей?
— Откуда вы знаете?
Говорил он на хорошем, без акцента, английском, спокойно и вежливо.
— Последнее ваше задание было весьма специфическим, не так ли?
Я промолчал.
— Вы проявили себя как выдающийся профессионал, — уважительно сказал Марк. — Трудно поверить, что работали в одиночку. Такое под силу очень немногим.
— Откуда вы все это знаете? — повторил я свой вопрос. Он улыбнулся:
— Мы о вас знаем практически все. Вот, — он выложил на стол украденные документы, получить которые я уже и не надеялся. — Не так-то просто оказалось вас разыскать. Когда поступил сигнал, что вы у Али Хамзы, мы приняли срочные меры. Кстати, Туфик не слишком утомил вас разговорами?
— Слишком.
— Специфика профессии. Он занимается public relations и подбором персонала. Очень неплохой специалист, но любит пофилософствовать. И притом считает себя большим знатоком психологии. Вам понравилось в лагере?
— Нет. Отвратительно.
— Так я и думал. Но что поделаешь, простые солдаты должны учиться воевать. Они пока что наша главная сила. Надеюсь, так будет не всегда. Хвала Аллаху, у нас есть эмир, который прекрасно разбирается в подобных вещах.
Несмотря на хвалы Аллаху Марк напоминал кого угодно, только не убежденного мусульманина.
— Эмир смотрит в завтрашний день, в будущее. А будущее состоит в том, что лет через двадцать автоматы и ракеты уже никому не понадобятся. Люди научатся воевать, не отходя от компьютеров. Будут созданы такие вирусы, которые смогут уничтожить… ну, скажем, крупную фондовую биржу. Или блокировать телефонные сети. Появится возможность вывести из строя спутник… Колоссально, вы согласны?
— Слишком мрачно.
— Но это правда. Простая комбинация клавиш — и вы взрываете атомную электростанцию! Для этого требуется всего лишь персональный компьютер и выход в Интернет… Но не будем забегать вперед. Пока что я собираюсь предложить вам работу.
— Хотите, чтобы я взорвал электростанцию?
— Нет. — Он отхлебнул кофе и предложил мне: — Угощайтесь, чего же вы?.. Суть дела in short run такова. Янки умеют не только сбрасывать бомбы. Они тоже смотрят в завтрашний день. Мишенью избрана финансовая система мусульманского мира. Участились компьютерные диверсии против наших банков. Точно так же, как вы взломали систему защиты «Финансьель интернасьональ», кто-то атаковал банк «Деллах аль-Барака». Это один из крупнейших исламских банков. За одно утро мы потеряли триста пятнадцать миллионов долларов! После одиннадцатого сентября ни один наш банк не может спать спокойно. «Дар маал ислами», «Аль-Таква», «Банк исламского развития», «Исламский банк солидарности» — все они находятся на осадном положении. Пентагон ведет компьютерную войну. Поэтому эмир ставит перед нами задачу: бороться с врагом его же оружием. Для этого нам требуются специалисты высокого класса. Вы — один из них.
— Прежде всего, — со всей возможной твердостью, на которую был способен, заявил я, — мои жена и дочь должны быть немедленно освобождены. Без этого условия, хоть расстреляйте, я ни на что не соглашусь.
— Не торопитесь, — мягко осадил меня Марк. — Вы просто не позволили мне закончить. Если вы даете сейчас свое согласие и подписываете бумаги, мы немедленно выкупаем ваших близких у Али Хамзы. Они будут переправлены в надежное и безопасное место. Если надо, им окажут медицинскую помощь. В том случае, если вы хорошо себя зарекомендуете, мы доставим их на территорию ближайшего консульства России.
— То есть будете держать их у себя в заложниках? — перебил я.
— В общем-то да. Иначе как мы сможем вас контролировать? Но вы не дослушали до конца. Не хочу, чтобы вы считали себя рабом. Ваш труд будет хорошо оплачен. В одном из банков Швейцарии на ваше имя будет открыт счет. Мы сразу же кладем на этот счет пять тысяч долларов. Потом ежемесячно вы будете получать известную сумму.
— И сколько мне придется здесь пробыть?
— Пока трудно сказать. Но я бы на вашем месте думал сейчас не о себе, а о жене и девочке. Страшно представить, что с ними может сделать этот садист Хасан…
— Почему я вам должен верить? — Уже было понятно, что из западни не выбраться. — Какие гарантии?
Марк холодно усмехнулся:
— По-моему, у вас просто нет другого выхода…
Он выложил на стол несколько ксерокопированных листков, исписанных по-арабски.
— Если согласны, распишитесь вот здесь.
— Но я ни слова не понимаю!
— Это необязательно.
Вздохнув, я взял ручку, поставил росчерк на двух страницах.
— Отлично! — Марк был удовлетворен. — Вы поступили разумно. Даю вам слово, завтра или послезавтра вы уже сможете говорить со своей семьей по телефону. Теперь к делу…
Он кратко посвятил меня во внутренний распорядок этого подземного логова. Мое жилье и рабочее место относятся к отделу А4-11. Я получаю чип-карту, с помощью которой могу войти к себе в комнату и на рабочее место. Лифтом пользоваться не могу: карта не позволяет. Все доступное пространство — длинный коридор, заканчивающийся кривым аппендиксом. В аппендиксе — вход в рабочие помещения. Бежать бессмысленно. Даже если удастся выбраться на поверхность, вокруг в радиусе двухсот миль — безжизненная пустыня. Обедать буду на работе, завтракать и ужинать — у себя в комнате. Специальная служба жизнеобеспечения заполняет холодильник всем необходимым. По внутренней связи могу обратиться к ним, если возникнут проблемы. В подземелье существует врач, который в состоянии оказать первую медицинскую помощь. Мой непосредственный руководитель отныне — шеф отдела. Все.
После этой краткой лекции начался первый рабочий день. А4-11 — зал примерно двадцать на двадцать метров, перегороженный простыми пластиковыми стенками. Каждый отсек — одно рабочее место. Закрывается и открывается с помощью чип-карты. Отсеки разделены проходом, который оканчивается небольшим вестибюльчиком. Там — импровизированная столовая. Два стола, пластиковые дачные стулья, две микроволновки, электрочайник, холодильник. Все обшарпанное, неновое, страшненькое. Офис захудалой компьютерной фирмы. Таким был наш «Интерком» очень давно, еще при Горбачеве. Компьютерный центр Террориста Номер Один мог бы выглядеть и посолиднее. Меня встретил новый шеф — полный, одутловатый и плешивый тип с неопрятной щетинистой физиономией. Самое неприятное о нем воспоминание — вонял, как козел, едким потом. Вообще какой-то он был нечистый, плечи засыпаны перхотью, вывернутые губы вечно мокрые, слюнявые… Очень не понравился мне с первого взгляда, и я ему тоже. Представился Рашидом, но руки не подал. Осмотрел меня придирчиво с головы до ног, пошлепал губами, пробормотал что-то себе под нос.
— Русский? — спросил неприязненно по-английски, с грубым акцентом.
— Русский.
— Мусульманин?
Я отрицательно помотал головой.
Рашид с отвращением дернул губой, потопал, прихрамывая, в закуток. Достал из встроенного шкафчика ведро, тряпку, швабру. В глубине шкафчика я разглядел кран — там, наверное, набирали воду.
— Будешь сегодня пол мыть, — буркнул, кивнув на ведро. — Чтобы все блестело мне до обеда.
Матерясь вполголоса, принялся мыть пол. Сразу понял, что Рашид здесь — царь и бог. Казнит и милует. Марк, Томас — Туфик — те парят в заоблачных, наверное, высотах. Возможно, я их больше и не увижу никогда… Хотя все как-то не вязалось в голове, не складывалось. Меня выловили черт знает где, специалиста, зачем? Чтобы полы им мыть?
Не прошло и часа, как невидимые мне динамики заблажили голосом муэдзина. Ну разумеется — молитва. Из комнатушек-отсеков суетливо высыпали мои новые коллеги, потрусили в дальний конец зала. Там, в подсобке, помещалась молитвенная комната. Шестеро. Один — взрослый мужик, сильно за сороковник с виду, лысый, толстый, носатый. Двое — чуть помоложе: очкастые, маленькие, смуглые, похожие на индусов. Еще один — шоколадного цвета негр в цветастой рубахе, и последняя пара — европейцы: соломенный голубоглазый красавчик блондин и длинноволосый дистрофик. Веселая компания. Рашид бросил в мою сторону брезгливый взгляд, пошел вслед за всеми. Жизнь предстояла тяжелая.
После молитвы никто мною не интересовался почти до самого обеда. Сидел на шатком дачном стуле, думал. Непонятно, что будет дальше. Удастся ли вызволить Танюшку и Ежа… Отвратительные лезли в голову мысли. Затем нашлась работа: разогревать в микроволновой печи deep-frosted обеденные пайки, закатанные в фольгу. Справился быстро — как раз успел к тому моменту, как мои сотруднички вышли из отсеков, весело болтая. Сели жрать. Поглядывали с интересом, но никто и слова не сказал. Наверное, без разрешения Рашида они и пукнуть боятся. Появился Рашид. Швырнул мне блестящий сверток — разогреть, потом пальцем молча указал в дальний угол. Вот оно что, догадался я: неверный не может есть с мусульманами за одним столом. Что же, взял свой стул, отполз подальше. Черт с ними, со скотами. Лишь бы освободили моих, лишь бы их только освободили… А если нет? Если Марк просто соврал? Но зачем? Им ведь нужно, чтобы я действительно работал, разве нет? А жену с дочкой будут держать в заложниках… О, мать твою!.. Положил обед на колени. Развернул, обжигая пальцы, горячую фольгу. Обычный безвкусный набор, как в самолете: куриная котлета, порошковое картофельное пюре, консервированный горошек и морковь. Неважно кормят бойцов с мировым империализмом. Небось закупают эти обеды на год вперед, забивают ими холодильные камеры. И то верно: откуда еде в пустыне взяться? Ближайший супермаркет — в двухстах милях. Никаких приборов мне не выдали. Правоверные получили пластмассовые ножи и вилки, я, русская собака, должен был обходиться без них. Стерпим. После зиндана вилки-ложки необязательны. Сидел, ел руками. На меня пялились с любопытством, как на дрессированную обезьяну. Я — на них. Неагрессивные, по-моему, даже симпатичные ребята. Толстый-носатый сосредоточенно уминал свою котлету. Негр увлеченно трепался, размахивал в воздухе вилкой. Он мне даже понравился, этот негр. Веселый раз-долбай-парень, лет ему, может, двадцать пять, — что он здесь делает? Вдруг поймал себя на мысли, что этот раздолбай работает на террористов. Судя по его виду, вполне добровольно.
Обед закончился, все пошли работать. Я — тоже. Собрал объедки и остатки фольги в два разных пластиковых мешка с завязочками, протер столы, снова вымыл пол. Дежурил. Так прошло четыре дня.
…Да, прошло четыре дня. Я не прикасался к компьютеру. Подметал, мыл. Вылизывал коридор, общий сортир. Убирал за всеми после обеда. Никто со мной не заговорил ни разу. Только Рашид бурчал себе под нос, жестами отдавал команды. И не было никаких новостей. Никаких. Обращаться к Рашиду не хотел. Понимал: бессмысленно. Он явно новому сотруднику был не рад. Меня ему навязали, собаку неверную. В коллективе места мне не было. Ни молиться, ни есть со всеми за одним столом я не имел права. Хорошо хоть вообще кормили. Молились они как положено — пять раз в сутки. К исходу второго дня почувствовал, что схожу с ума. Тюрьма, подземная тюрьма! После работы — в камеру. Гулять негде. На поверхность выход воспрещен. Если хочешь, смотри телевизор. Там всегда один и тот же мусульманский канал. Агитационные фильмы, народные песни-пляски, проповеди, длящиеся по два-три часа. Иногда показывают Абу Абдаллу. Ни единого слова не понять. Хоть вешайся. Я не мог спать. Ложился, забывался легким тревожным сном на час-полтора, потом неизменно просыпался. Вставал с койки, бродил по комнате, литрами пил чай «Лондон Бридж» из пакетиков. Отвратительный рыжий чай. Если так будет и дальше, не выдержу, думал я. Просто не смогу. Или рехнусь, или постараюсь как-нибудь наложить на себя руки. В одну из ночей, когда стало особенно невыносимо, пытался перерезать себе вены тупой бритвой «Жиллетт». Ничего не вышло. Даже царапина оказалась неглубокая, с трудом из нее выступила пара капель крови. Нет, нет, так нельзя… Нельзя! Таня, девочка… Я должен держаться. Должен держаться! Ради них, только ради них. Вытерпеть все, что угодно, все вытерпеть. Но почему мне ничего не сообщают?! Почему?!! Что произошло, что там могло случиться?..
События сдвинулись с мертвой точки неожиданно. Я мыл пол в дальнем конце зала. Бессмысленно возил шваброй взад-вперед. Рашид куда-то исчез с самого утра, черти его унесли. Вдруг ближайшая ко мне дверь приоткрылась, показалась курчавая голова негра.
— Hey, russian! — одними губами шепнул он мне. — Ссать хочешь?
Я поскрипел зубами. Издевается, подумал, тварь.
— Пошли отольем, — вполголоса продолжал негр. — Сейчас зайдешь в туалет, понял? Потом я. Только тихо.
Хрен его знает, чего он хотел. Может, голубой? Ладно, я пошел, захватив швабру. Может, отбиваться придется, мало ли…
— Хэлло. — Негр появился минут через пять, опасливо озираясь. Протянул руку. — Пит меня зовут. Слушай, ра-шен, ты что-нибудь понимаешь в программировании?
Говорил с британским акцентом, довольно прилично.
— Допустим.
— У меня проблемы, — продолжал он шепотом. — Факен шит. Я уже один раз эту работу завалил, завалю второй — мне крышка. Поможешь, рашен?
— Не знаю, — пожал я плечами. — А что случилось?
— Ты после обеда еще раз отлить сходи, я тебе алгоритм покажу, о'кей?
Целую ночь просидел над его алгоритмом. Любопытная, для on-line banking, задача. Суть в том, что деньги переводятся со счета на счет совершенно особым образом. Скажем, вам нужно перевести из Азии в Европу определенную крупную сумму. Например, пять миллионов долларов. Такая операция будет сразу зарегистрирована контрольными службами. Если полиция следит за вами, отправитель и получатель вычисляются в несколько секунд. Что делает программа? Она дробит перечисляемую сумму на сотни произвольно выбранных: 1028 долларов, 8171 доллар и так далее. Каждый из мини-платежей переводится на произвольный счет в энном банке, до которого, естественно, не доходит, но отправляется с полдороги туда, куда нужно. Все равно что рассыпать мешок гороха, а потом его собрать. Программа собирает все части в целое только на счету получателя, но ни одна контролирующая система не в состоянии засечь операцию. Их компьютеры реагируют на суммы не менее пятисот тысяч. Умно, очень умно. Талантливо. Но у Пита не получалось главное: собрать все горошины в мешок. Программа не распознавала определенную часть платежей, счета которых включали в себя три одинаковые цифры. Примерно четверть денег исчезала бесследно. Раздолбай Пит, полагаю, не увидел этого в алгоритме сразу. Плохо его учили… не знаю где. И заказчик, видимо, погорел, потерял пару-тройку миллионов. Бедный Пит.
Сперва ни черта у меня не выходило! Мозги, после всего, что было, как склеились. Но затем вдруг осенило. Бросился к столу, словно поэт какой-нибудь, схватил переданный Питом огрызок карандаша, бросился писать. Муза, блин, посетила. Короче говоря, переводимая микросумма должна быть логически связана с номером искусственного счета, на который она якобы переводится. Программа собирает горошины по принципу четкой связи «сумма — номер счета». Конечно, это был набросок, эскиз. Но — красиво. Мне самому понравилось. В последнее время уже и не верилось, что на что-то способен. Особенно после зиндана.
Связь у нас осуществлялась через туалет. Но уже более грамотно, по-шпионски… (Сейчас перечитал написанное, вспомнил, посмеялся. А ведь действительно так и было! Вначале оставлял свои записи за бачком. Потом нашли лучший вариант. Упаковывать бумаги в пластиковый герметичный мешочек и прятать в самом бачке. Я, правда, потом понял, что задание — учебное, тренировочное. Такому асхолу, как Пит, эту программу самому ни за что не написать.)
Через несколько дней, когда все было готово, глубокой ночью он вдруг поскребся ко мне в дверь. Я не спал — это стало обычным явлением. Ни слова не говоря, перехватил мою руку у выключателя, не позволил зажечь свет. В полной темноте прокрался в ванную-сортир. Уволок меня за собой. Шепнул:
— Во всех комнатах стоят камеры.
Негр в абсолютной темноте — это что-то. Белки глаз и зубы фосфоресцируют, даже страшно. Вложил в ладонь плоскую металлическую фляжку. Я отхлебнул — спирт! Почти неразбавленный. Закашлялся дико, он запечатал мне рот, зашипел. Потом беззвучно глотнул сам, шепнул:
— Спасибо, друг. Если бы не ты… Факен мазер, если бы ты знал, в какой я заднице!
— Я тоже.
— Не-е, ты крутой, ты выберешься. А глупый ниггер до самой смерти будет сидеть, наверное, в этом подвале. Здесь отстойник, понял? Для тех, кого недавно взяли. Умные, они быстро уходят наверх, а дураки остаются. Э-ээ, во дворце такие номера! У этих guys есть все, что хочешь, понял! И выпивка, и девочки… — тоскливо проскулил Пит. — Зачем я родился глупым ниггером, Джизус факен Крайст, зачем?! Вот Иззи тоже скоро пойдет наверх…
— Иззи? — удивился я странному имени.
— Ну да, этот старый жирный боров из Израиля. Его Танака даже хотел сначала поставить над нами вместо Ра-шида, но потом передумал.
— Кто это — Танака?
— О, fucking cool guy! — с восхищением выдохнул Пит. — Местный гений. Ты его еще увидишь. Танаку в Сингапуре судили за хакинг, а эти япошку выкупили. Внесли залог в сто кусков или больше. Потом на самолет — и сюда. Ему там светило двадцать пять лет тюряги. Танака дает идею, все остальные доводят до ума… А глупый ниггер обосрался. В нормальной бы фирме выгнали, и все. А тут не выгоняют, сам понимаешь. Пулю в затылок — и зарыли в песок. Если бы не ты, рашен, мне вообще каюк…
Бедный Пит, я пожалел его. Спросил:
— Как ты сюда попал?
— Из Сьерра-Леоне… Слыхал про такую страну? Отец у меня врач. Зарабатывал не очень, но хватало. Очень хотел, чтобы я учился в Англии. Ну, я поехал, поступил там в университет. Жил как последняя крыса: посуду мыл, улицы мел, продавал гамбургеры. Лишь бы только диплом получить и застрять в Европе. Ну, получил в конце концов. А они не продлили мне визу! Сидит такая, знаешь, белая stinking bitch и говорит: «Африке нужны компьютерные специалисты». Зачем им черный парень, если белых хватает? Я и так и эдак — нет, и все! Что делать? А у меня был приятель, однокурсник, косовский албанец. Он сказал: есть классные ребята, которые набирают программистов. Пошел, поговорил… Дали контракт подписать, я его даже не читал. Какая факинг разница, лишь бы не назад в Сьерра-Леоне! Только, говорят, будешь работать в арабской стране, надо принять ислам. Я сначала испугался, а потом подумал — ислам так ислам. Это вообще просто. Сказал «Нет Бога, кроме Аллаха…», и ты уже мусульманин. Сели в самолет, прилетели. Потом через пустыню на машинах. Так я здесь и оказался… — Пит вздохнул, сделал еще один глоток, протянул фляжку мне. — Кто же знал, что тут такая задница?! Сначала они мне целый месяц промывали мозги: Аллах, пророк, джихад… Кино показывали каждый день про зверства американцев. Ты, говорят, будешь сражаться за великую идею, это большая честь, после смерти попадешь в рай… Особенно этот Томми налегал — motherfucker, который тут всех обрабатывает. Вот я и в раю. Пять раз в день молиться, жить под землей… Они тебе, конечно, платят, а толку? Наружу-то не выпускают. Перевожу, конечно, деньги родителям, а сам сижу в этой гребаной дыре. Мать у меня болеет, нужны большие деньги на операцию. И сестры в колледж хотят…
— Что здесь вообще такое? — спросил я.
— Понятия не имею! Нам же из отдела выходить нельзя. А сколько всего отделов, каких — не знаю. Иззи говорит, целый подземный город. Может, врет. Знаю только, что компьютерными делами занимается Танака. А решает все Марк. Ты уже говорил с ним?
— Да. А кто он?
— Большая шишка. Я слышал, итальянец. Он не идейный, его тоже наняли, чтобы на них работал. Здесь вообще идейных мало. Марк — good boy, с ним можно иметь дело. Я, знаешь… ну, тяжело, в общем, без бабы… И я Марку однажды намекнул. Прихожу к себе, а в шкафу — целых три журнала! И не bullshit, а немецкие, высший класс! Эх-хх… Приходится каждую ночь, под одеялом, с фонариком, чтобы камера не засекла…
— А если засечет?
— Лучше и не думать. Говорят, могут кастрировать.
Почти до самого утра Пит плакался мне на свою жизнь. Рашид — тупой кретин, который держится за место, а в деле не понимает ничего. Он ничего и не делает, только следит за порядком. Коллегам доверять нельзя: любой из них, если что, продаст с потрохами. Никто толком не знает, чем занимается сосед. Алкоголь категорически запрещен. Сьерра-Леоне в сравнении с этим всем — сказка…
Наконец случилось долгожданное. Рашид открыл одну из комнатушек:
— Твой компьютер. Вот дискета, на ней задание. Вечером приду проверю.
Уже хорошо. Включил машину — полный завал. Скорее всего кто-то занес вирус, и система упала намертво. Провозившись битых три часа, понял, что ничего не выйдет. Нужно все переустанавливать заново. Решил не сдаваться, мучился до самого вечера — глухо. Как после ядерной бомбардировки. К концу дня явился Рашид:
— Покажи работу.
Я честно ответил: компьютер неисправен. Попросил инсталляционные диски с программами.
— Что-о?! — взревел Рашид, и завоняло от него еще сильнее. Потом каким-то козлиным: — Ты сломал компьютер, русский! Ты — провокатор, американский шпион! Клянусь Аллахом, ты пожалеешь о том, что сделал!
Стараясь оставаться спокойным, я снова повторил, что компьютер достался мне неисправным. Что занести вирус я никак не мог, эта зараза воздушно-капельным путем не передается. Бесполезно. Рашид орал, топал ногами. Не знаю, за что он меня так возненавидел. Убежал, привел с собой автоматчика. Все повторял:
— Клянусь Аллахом, ты пожалеешь! Пожалеешь! Меня отвели в дальний конец коридора. Туда, где, по моим расчетам, находились какие-то складские помещения. Оказалось, карцер. Впихнули в бетонный шкаф, легонько наподдав прикладом между лопаток. Ни на что другое это действительно походить не могло, кроме шкафа. В узкой части плечи касались стенок. В широкой части упирался в стены обеими ладонями. Распрямиться в полный рост невозможно, я оказался выше потолка на целую голову. Зиндан гораздо комфортнее, просто пятизвездочный отель. Полная темнота. Дверь прилегает настолько плотно, что даже щелки не остается. Сырой, холодный, склизкий пол. И духота. Вообще нечем дышать. Не помню, сколько прошло времени, когда мне стало страшно до икоты сумасшедшей. Казалось, стены медленно смыкаются, как у Эдгара По. Движутся навстречу друг другу. Сел на корточки, уперся в одну стену спиной, в другую — ногами. Стал ждать. Вроде сомкнулись на несколько сантиметров. Или показалось? Давящее ощущение продолжало нарастать. Темнота сгущалась физически в плотную массу. Дышал глубоко, ртом. Кислорода отчетливо становилось меньше. И еще начали слышаться шорохи. Отчетливые, быстрые шорохи. Словно тут крысы. Окаменел, втиснулся в угол. Руку собственную, и ту невозможно было разглядеть. От ужаса я закричал. Завопил во всю глотку. Крик сам вырывался из меня, я его не контролировал. Никто не отозвался. Мертвая, гробовая тишина. Кажется, раздались шаги? Ближе, ближе… Нет, всего лишь кажется. Выступил холодный липкий пот. Тек по спине, по лицу. Рубашка — хоть выкручивай. Снова закричал, принялся бить в дверь руками и ногами. Бесполезно. Все ушли. Все давно спят… Постепенно страх перерос в какую-то глубокую, тупую тоску. Во рту появился странный металлический привкус, будто сосешь медный пятак. Перед глазами стояла навязчивая картина: три собаки бегут по бескрайнему заснеженному полю. Именно три. Паршивые такие дворняги. Одна чуть побольше остальных, лохматая, рыжая, хвост бубликом. И прихрамывает, волочет заднюю ногу. Две другие — черная и бесцветная какая-то, в лишайных пятнах. Бегут быстро, но с места почему-то не двигаются. Бег на месте. И это поле мерзкое, отвратительное, как бывает поздней осенью, с подтаявшим грязным снежком. В гнилых проплешинах. Над ним — плоское серое небо, словно каток по нему проехал. И такая безысходность, такая мука нечеловеческая во всей этой картине! Я гнал ее от себя, пытался сосредоточиться на чем-нибудь другом — напрасно. Все равно появлялись собаки и поле. Так, должно быть, с ума и сходят. Поймал себя на том, что тихонько вою. Поскуливаю по-собачьи, потом принимаюсь выть. И тело покачивается в такт — вперед-назад, вперед-назад… Господи, да что же это?.. Встал, ударился головой о потолок, немного пришел в себя. Ведь выпустят в конце концов, не могли же здесь замуровать навсегда… Хотя почему нет? Какой подлый все-таки этот Рашид, гнида!.. Что я ему сделал? Они все меня ненавидят здесь, ненавидят!.. Проклятые скоты, скоты… Сбросить бы на них атомную бомбу, устроить вторую Хиросиму… Чтобы тараканы, и те подохли… Оказалось, что я уже не стою, а лежу на полу, вытянувшись. И снова побежали перед глазами собаки, собаки. Три — по талому, водянистому снегу…
Освободили к утру. Тот же самый безразличный автоматчик. Доковылял до своей комнаты, упал на койку. Не пойду никуда, баста! Пускай делают что хотят. Пулю в затылок, и в песок. Но на этого мудака я работать не стану. Лучше сразу в могилу, чем снова в карцер…
Открылась бесшумно дверь: вот оно, подумал, начинается. Поднялся через силу, открыл. Охранники, двое. Без слов схватили за руки, поволокли. У входа в компьютерный зал стоял Рашид, руки в боки. Злобный, бордовый.
— Саботируешь, русский?! — заорал сразу, надсаживаясь. — Еду свою еще не отработал! Тебя, свинью, из зиндана выкупили, ты ноги нам целовать должен! Дайте ему тряпку, пусть весь день вылизывает коридор. И есть до завтра не получишь. Все, пошел отсюда!
— Я ничего делать не буду. — Голос у меня сел, звучало хрипло и неубедительно. — Я ни-че-го делать не буду. Зебе фик.
(Однажды Жан-Эдерн, увлекшись бесконечным треном, научил меня нескольким жестким арабским ругательствам. За точность произношения ручаться не берусь, но «зебе фик», или «зебе фи фамик», как пишется — понятия не имею, означает «хуй тебе в рот». Ну, знатоки поправят, если что.)
— Что-оо?!! — Рашид взвился, даже подпрыгнул на месте. — Что ты сказал?!
— Я не собираюсь с вами разговаривать. Только с Марком. Отведите меня к Марку.
Рашид закашлялся от бешенства, заклокотал. Не нашелся что ответить. Охранники сами догадались, как поступить. Один из них, тот, что стоял слева, дернул вверх ремень висевшего на плече автомата, и удар полированного приклада пришелся мне точно в пах. Заорав, согнулся пополам от боли. Тогда другой, взяв меня за волосы, с силой ударил коленом в лицо и швырнул на пол. Во рту стало горячо и солоно. Выплюнул твердый осколок — зуб.
(Мне тюремный, лефортовский врач этот зуб починил — по доброй воле. Поставил кусок металлокерамики, с первого раза и не заметишь отличия. Звать доктора Семен Наумович Берковский. Семен Наумович, ей-богу, огромное вам спасибо!)
— Будешь работать? — раздался сверху голос Рашида. — Будешь, я спрашиваю, работать, свинья?
С трудом оторвав голову от бетона, пробормотал:
— Нет.
И потерял сознание.
Очнулся в своей комнате, с перебинтованной головой. И она сильно кружилась, голова. Еще тошнило. Хрупкого мы сложения, компьютерные человечки. Очень уязвим наш драгоценный мозг. Простой удар коленом — и, пожалуйста, сотрясение. Другой бы шишкой отделался… Бесшумно вошел мужчина с чемоданчиком. Ни слова не говоря, сел рядом на койку, закатил мне рукав, сделал укол. Я даже не заметил, как он ушел. В сон провалился.
Еще два или три дня прошло, не помню. Пришел в чувство, голова больше не кружилась, только ныла противно. Не появлялись ни Рашид проклятый, ни автоматчики. Оставили в покое на время. Пока очухаюсь. Но затем явились. Внезапно, перед обедом. Рашид так на меня смотрел, что лучше бы этого взгляда не видеть. Плохо, плохо смотрел. Наверное, на расстрел, отстраненно подумал я. После уколов все сделалось как-то по фигу. Сели в лифт, поехали наверх. Вошли в ту самую комнату, где я беседовал с Марком. Значит, не убьют, мелькнула мысль. Еще немного помучают. Кроме Марка, в комнате было еще двое. Пит — перепуганный до смерти, бледный. Темнокожие люди тоже бледнеют, оказывается. На него было страшно глянуть. И еще один — рослый, безобразно тощий и косоглазый мужик неопределенного возраста с сальными нечесаными патлами до плеч. Бледный и остекленевший какой-то. В чудовищных разноцветных тряпках, с браслетами и побрякушками на шее. Сам Танака, кто же еще, догадался я. Пит говорил, что Танака — джанки. Ему специально доставляют суперчистый лабораторный продукт. Что поделаешь, гений.
Бросили меня в кресло, охранники встали за спиной. Рашид тотчас затараторил скороговоркой по-арабски. С подхалимским таким подсюсюкиванием, с кривенькой улыбочкой. Люди везде одни и те же, везде одинаковые. Выслушав, Марк поднял взгляд на меня. Отражение свое в его темных очках я нашел жалким.
— Мне доложили, что вы саботируете работу. Что вы намеренно сломали компьютер. Это серьезное обвинение.
— Я ничего не ломал. Просто надо мной издевался вот этот человек, — я кивнул в сторону Рашида. — Проверьте компьютер сами, если хотите.
— Мы проверим, — серьезно сказал Марк. — Его вы знаете? — пальцем указал на Пита.
— Нет, — вздрогнул я. — Просто видел несколько раз, и все.
— А вы? — спросил Пита.
— Нет, нет! — вскрикнул он в ужасе. — Я уже говорил вам. Я все вам рассказал, сэр.
Марк молча вынул несколько скомканных бумажек. Мои записи, алгоритм. Как он мог, бедный глупый ниггер, не уничтожить их?!
— Что это такое? Мы оба промолчали.
— Еще раз повторяю: что это такое? — Марк напрягся. — Кто это написал?
— Я… — пролепетал Пит. Шоколадное его лицо посерело.
— Поклянитесь на Коране, что это ваши бумаги, — сказал Марк и положил на стол толстую книгу.
Итальяшка чертов, думал я с ненавистью, макаронник! Продался этим гадам и еще корчит из себя мусульманина! Туда же, Коран… Дешевка. Так плюнуть ему в рожу захотелось!..
Дрожащий Пит протянул руку, положил ее на книгу, лишь едва касаясь переплета подушечками пальцев. Будто на раскаленную сковородку. Почти неслышно, запинаясь, выговорил: «Клянусь». И тотчас отдернул ладонь.
— Очень жаль, — удовлетворенно констатировал Марк. — Вы сами не оставили себе никаких шансов. Шариат гласит, что клятвопреступник подлежит смерти. Уведите!
Легко, как куклу, автоматчики подхватили довольно высокого и крупного Пита, потащили к выходу. За ним отправился мрачный Рашид.
— Please! Мистер Марк, please! — кричал Пит, вырываясь. — Простите меня, мистер Марк! Простите меня, сэр!
Дверь захлопнулась, крики стихли. Марк протянул мне бумаги:
— Ваше?
— Мое, — признался я.
— Сколько вам потребовалось времени, чтобы переписать алгоритм?
— Два или три дня.
— Что вы думаете об этом, Танака-сан?
— Очень хорошо, — скрипучим ненатуральным голосом ответил японец. — Очень, очень хорошо. Русские ничего не умеют делать руками, но вместо этого они научились работать головой.
— Согласен. — Марк сдержанно усмехнулся. — Поздравляю вас, приятель, вы выдержали испытание. Правда, никто не думал, что вы сами его себе устроите. Не сердитесь на бедного Рашида, он всего лишь исполнял мои приказы. Теперь мы увидели на деле, кто вы и что вы. Однако твердый у вас характер… Еще раз примите мои поздравления…
Он вынул из кармана рубашки крошечный мобильный телефон, долго нажимал кнопки. Протянул мне серебристую коробочку:
— Мы тоже сдерживаем свои обещания.
— Алло! Алло!
Откуда-то издалека, словно с другой планеты, сквозь шум и треск отчетливо раздался Танечкин родной голос:
— Это я! Как ты? Где ты? Что с тобой случилось?
— Со мной все нормально! — прокричал я. — Все нормально! Как вы? Где вы находитесь?
— Что? — Таня не расслышала.
— Где вы на-хо-ди-тесь?!
— Я не знаю… — долетело до меня сквозь гудящий эфир. — В какой-то деревне… Нас забрали в тот же день, что и тебя…
— Вы здоровы? Как Маша?
— Что-что? Не слышно!..
— Как Маша?!!
— Все хорошо, все хорошо!.. Пожалуйста, делай то, что они тебе говорят! Тогда нас отпустят домой…
— Конечно, конечно, родная! Дай Машке трубку!..
— Папа, папулечка! — Трубка счастливо всхлипнула. — Ты живой, папулечка!..
— Живой, Еж! — Я кричал во всю мощь легких. — Держись, Еж, слышишь! Главное, не раскисайте. Все будет хорошо!
— Мы тебя любим, папа!.. Мы тебя очень-очень любим!..
— И я вас люблю! Люблю вас!! Пи-и… пи-и… пи-и… Связь оборвалась.
Я поморгал — глаза были полны слез. Не хотелось при них плакать, но не мог сдержаться. Вдруг почувствовал, какой страшный, огромный груз давит на плечи. Какой я маленький, слабый… Беспомощный перед силой обстоятельств, перед этим зверьем, перед бессмысленной силой судьбы. Еще отчего-то вспомнил, как Томас цитировал древнего арабского поэта: «Судьба — ты мой слепой верблюд…» Зухайр, кажется, поэта звали. Слепой, верблюд в безводной пустыне… Так было тяжело, словно сам Бог положил мне на плечо свою руку.
— Поверьте, с вашими родными все в полном порядке. — Марк откинулся в кресле и закурил. — Они даже получили по флакону витаминов «Centrum». Лучшие американские витамины. Что ни говори, янки тоже кое в чем достигли успехов. Кстати, советую вам задуматься о том, что миллионы детей в Африке и Азии даже не подозревают, что в мире есть такая вещь, как витамины. Они просто умирают от голода.
— Из всех детей на свете меня интересует только моя дочь, — отрезал я.
— Значит, вы должны о ней позаботиться. Ваши способности мы оценили по достоинству. Будете работать вместе с Танака-сан. Да, совсем забыл. — Он небрежно бросил мне синий пластиковый четырехугольник VISA Gold. — Здесь пять тысяч, как и было обещано. Надеюсь, это только начало.
— И что мне с ней делать? — вздохнул я.
— Засунь ее себе в задницу! — хрипло, по-вороньему, захохотал Танака. Затем быстрым, судорожным движением достал из кармана коробочку и бросил в рот две маленькие сиреневые таблетки.
Странный у него был смех какой-то.
Кабинет японца помещался на этом же этаже, дальше по коридору, за углом (у них все рабочие помещения — под землей, а наверху, в самом дворце — только жилые, для избранных). Не клетушка Пита — кабина космолета скорее. Не знаю, откуда он выписал свою офисную мебель, она годилась для декораций к фантастическому фильму. К «Матрице», например. Изогнутые сложно, блестящие металлические поверхности, пластик и стекло. У этого наркомана был изощренный вкус. Почти полстены занимал матово-плоский экран, на который транслировалось изображение аквариума. Нет, вначале я подумал, что это и был настоящий аквариум: полумесяцы скалярий, стайки светящихся неоновых рыбок, алые стрелы меченосцев в пышных зарослях подводных разноцветных трав. Поражала лишь странная, необыкновенная глубина — казалось, за стеклом лежит целый океан, многокилометровая толща воды. Приглядевшись, я понял, что изображение, более достоверное, чем реальность, создано компьютером. Но даже с близкого расстояния рыбы и водоросли выглядели абсолютно настоящими.
— Нравится? — подмигнул Танака.
Со скорченного, как взрывом изуродованного, дырчатого столика он взял серебристый пульт, вызвал на экране меню, задал команду. Обитатели аквариума тотчас сменились. Вместо пестрой рыбной мелочи воду вспенивала громадная туша белой акулы. Здоровенная и мощная, как подводная лодка, грязно-серая тварь вначале сделала несколько плавных кругов, то удаляясь, то едва не касаясь стекла шершавым боком. Был различим каждый сантиметр наждачной, с мельчайшими зазубринами, кожи. Шевелящиеся красноватые жабры ритмично выталкивали воду, демонстрируя свое анатомическое строение. Внезапно акула заметила нас, уставившись злобным круглым глазом. Пригляделась, обеспокоилась, резко метнулась в сторону, закружила, а затем, разинув зубастую пасть, всей тушей обрушилась на тонкое стекло экрана. Я шарахнулся в сторону с криком. Танака захохотал. Пасть была воссоздана любовно, в мельчайших деталях. Кривые длинные зубы торчали в разные стороны двумя или даже тремя рядами. Желтые, в коричневых пятнах, с застрявшими кусочками кровавой плоти.
— Технология «PowerMotion», — сказал Танака, гордо тряхнув немытой, в колтунах, шевелюрой. — Самая последняя версия. С ней в Голливуде работают. Можно динозавра сделать, можно — извержение вулкана, что хочешь. Или вот такие картинки. Смотри.
Он снова щелкнул пультом, и перед нами возник поразительной красоты пейзаж: бескрайние дали, вызолоченные заходящим солнцем, щетинистый древний лес, зеркальная гладь извилистой речки, величественные и сумрачные на горизонте горы. Пейзаж не был статичным, он жил. Горело солнце, медленно текла река, шевелил ветер верхушки далеких деревьев. Обрамлялась картинка деревянным, давно не крашенным, растрескавшимся окном старого деревенского дома. Новая команда, и вот закат сменяется роскошным диким пляжем, как с рекламы «Баунти». Почувствуйте себя Робинзоном,
— Прекраснее всего — гора Фудзи, — мечтательно произнес японец. — Четыре времени года. Цвет дикой вишни, зеленые рисовые поля, ветер, срывающий желтую листву, и снегопад. Я особенно люблю осень, когда в густых тростниковых зарослях можно заметить соломенную шляпу рыбака и звучит музыка гагаку. Кроме Фудзи, много чего еще есть.
Следующие несколько минут я наблюдал, как двое китайцев сосредоточенно и деловито сдирают с живого человека кожу. Несчастный был подвешен вниз головой на толстом суку, а само действие происходило в каком-то парке, на фоне аккуратно подстриженных кустов, беседок и живописных камней. С трудом удалось сдержать рвоту. Тем более что функция программы позволяла увеличивать и показывать в деталях любой фрагмент изображения. Например, ноготь большого пальца правой ноги китайского мученика был длинен, грязен, крив и треснул посредине. При увеличении во весь экран разрешение практически не менялось. От звукового сопровождения я наотрез отказался.
— Один такой фильм на DVD стоит три-четыре тысячи долларов. Природа, конечно, дешевле. Сейчас на островах это самая последняя мода. Но я тебе покажу кое-что покруче. Чтоб ты понял, как живут нормальные люди. Которые с нами работают.
У его рабочего стола я увидел два необычных вертящихся кресла, к которым крепились многочисленные датчики. В верхнюю часть кресел были вмонтированы сложные шлемы или что-то вроде того, а к подлокотникам крепились специальные перчатки.
— Система «Digital Space Vision», — пояснил Танака. — На расстоянии ближайших пяти тысяч миль такого больше нет ни у кого. Правда, к этому креслу и машина нужна особая. Вот такая, как у меня, например.
В нескольких словах он описал свой компьютер, стоявший тут же. Никакого особенного дизайна, обычный серый ящик… нет, вдвое больше обычного. Фирма «Кансай». У нас в Москве продаются поганые китайские будильники «Кансай», дешевле доллара, но оказалось, это компания совсем другая. Японский «Кансай» (Танака с гордостью произносил «Кэнсэй». Перевел: так называли фехтовальщиков-самураев, особо отличившихся в человекоубийстве) работает только на военных и космос. Хай-энд. В качестве заставки на мониторе крупным планом красовался фюрер. Чаплинские усики, слипшаяся прядка падает на крутой лоб-яйцо, испуганно-злые, в обезьяньих морщинках, глаза…
— Смотришь? — ухмыльнулся Танака. И без того косые зенки сузил до невозможных щелок-прорезей. — Смотри-смотри. У меня все его речи есть на диске. Учу язык, но времени не хватает. — Он помолчал, словно вглядываясь куда-то, в невидимое. — Я ведь в прошлой жизни служил в СА… Это мне недавно открылось, всех подробностей еще не знаю. Помню только: ночь… город тихий, замер… обыватели забились под одеяла, дрожат… Улицы безлюдные, ни одной живой души. Даже псы попрятались. Площадь… Блестящие, скользкие после дождя булыжники… Черные здания с островерхими крышами, шпили… И небо тоже черное, ни звезды… — Голос его изменился, зазвучал низко и глухо, утробно, забубнил, словно японец входил в глубокий транс. — Весь мир замер, скованный страхом… И вдруг! Коваными сапогами по камням! Бух-бух-бух! Из-за угла появляются шеренги. Это — мы. Высокие крепкие парни со стальными бицепсами и бычьими шеями… Коротко подстриженные, пахнущие простым дешевым одеколоном. Наши мускулистые гибкие тела затянуты в черные мундиры без единой складочки. Сверкает лоснящаяся кожа ремней, портупей и сапог. Металлические подковы высекают быстрые золотые искры… Мы идем, плечо к плечу, рука к руке. От грома нашего марша дрожит город. Линкс-цво, линкс-цво-драй-фиа-линкс! Линкс! (Вместо нормального drei Танака смешно произносил «длай», «г» ему не давалось.) Справа и слева от меня мои друзья, мои верные товарищи. На наших рукавах — шелковые повязки со священным символом новой эпохи… Свастика, хакен-кройц… Мы несем факелы — много факелов… Пламя озаряет наши вдохновенные лица, пляшет в зрачках… Чернота ночи и мундиров, алый отблеск огня на голенищах сапог, удары сотен каблуков о немой булыжник… О-оо, как это прекрасно, как это прекрасно! — Танака зашелся стоном, сжал кулаки и потряс ими в воздухе. Сиреневые таблетки оказывали на него, видимо, могучее воздействие. — Никогда еще я не чувствовал столько силы, столько энергии! Мы — молот, пушечное ядро, которое летит в небеса, как в витрину еврейской лавки! Слаще всякой музыки звучит звон осколков… Мы разбиваем вдребезги этот ничтожный, трусливый мир, выпускаем ему кишки, как пух из перины, вспарываем ему вены, и грязная мутная жижа хлещет в сточные канавы!.. Какое торжество! Сколько веков унижения, мук, и вот — пробил час мести! Тысячи лет мы носили оковы, были слугами и рабами, нам выкалывали глаза, чтобы не дать увидеть своих палачей, но теперь — теперь мы будем мстить. Души прозрели, тела налились звериной силой, а умы озарил свет Истины… О, с каким наслаждением мы вытащим из-под вонючего, пропотевшего одеяла этого старого пархатого фигляра, еврейского бога, в дурацком колпаке и латаной ночной сорочке, которую он выдавал за белые одежды! Схватим его за бороду, спустим по лестнице, швырнем на мостовую, как последнюю падаль, и будем пинать ногами! Пусть он плачет и стонет, пусть молит о пощаде — напрасно! Жалкий клоун, мошенник, он так долго дурачил нас своими сказками о добре, а сам любовался нашим горем, упивался нашими страданиями, спрятавшись среди своих ватных облаков. С каким наслаждением мы швырнем факелы в его трухлявую нору, стены которой проел жук, и будем плясать, глядя на пожар, как счастливые дети, и будем кричать на всю Вселенную: «Зиг Хайль! Зиг ХайльП Зиг Хайль!!!»
Выхаркнув троекратно нацистский клич, Танака обессилен™ повалился на пол и затих. Возможно, эта комедия была затеяна для меня, ведь не может же японец и в трансе говорить по-английски. Кто знает. Возникло острейшее, непреодолимое желание бежать отсюда как можно скорее. В компании человека, место которому в лечебнице или в тюрьме, я сильно опасался за свой рассудок. Еще неизвестно, подумалось, кто хуже — Танака или Рашид. Тот по крайней мере был в своем уме…
Очухался японец быстро. Встал, протер глаза, ухмыльнулся:
— Испугался, русский?
— Вы были очень убедительны, — сказал я вежливо.
— Ничего, это так… Вспоминаю. Когда-нибудь расскажу тебе про свои прошлые жизни, если выпадет хорошая триграмма. В эпоху Хэйян я был самураем господина Ийэ и сделал себе сеппуку у ворот храма Нигосари. Перед смертью я написал прекрасное стихотворение:
Бабочка на цветке — Сколько ей жить осталось? Осень еще в пути…
Нравится?
Я кивнул. До начала осени оставалось чуть больше месяца. И правда еще в пути…
— Давай лучше полетаем. Хочешь квайлюд?
— Нет, спасибо. — Насчет сиреневых таблеток я сразу решил, что уж это — точно никогда.
— А я не люблю без квайлюдов, — беззаботно пожал плечами Танака. — Кайф не тот. Садись. — Он указал мне на кресло. — Сейчас подготовлю тебя к полету.
Это была потрясающей реалистичности компьютерная игра. Шлем, cyber-gloves и еще какие-то особенные приспособления создавали абсолютно достоверную картинку. Я находился в кабине военного самолета. Все было физически натуральным: лампочки, рычажки, приборы. Наш аэродром находился где-то в пустыне. Пейзаж был вполне знаком: приземистые желто-бурые дюны, редкий колючий кустарник, бледно-синее небо. На летном поле суетились какие-то люди из техобслуживания, доносились их неразборчивые крики. Собственно, обычная компьютерная игра-стрелялка, но выполненная с безумным совершенством. В соседнем самолете, справа, сидел Танака. Он инструктировал меня насчет приборов и техники полета.
— Тут все как в жизни, — звучал в наушниках его голос. — На таких системах тренируются американские летчики. Если летишь — то летишь, но если падаешь — то падаешь. Меня много раз сбивали, я привык, а тебе с первого раза будет не очень-то. Пойдешь у меня в хвосте, и не отрывайся смотри.
— А куда летим? — поинтересовался я.
— Увидишь, — многообещающе ответил Танака. — Сегодня они получат свое.
Взлететь мне удалось легко. Совсем скоро начался океан, который мы пересекли почти без проблем. С авианосца поднялись нам навстречу два перехватчика, но Танака расправился с ними самостоятельно и профессионально. По старой привычке (друзья, как мне не хватает в тюрьме компьютерных игр! Ночами снятся иногда то старый добрый Quake, то Diablo, то Ultima… душу бы заложил за обыкновенный Warkraft) захотелось послать в авианосец пару ракет, но японец приказал:
— Береги боезапас, пригодится.
Когда вдалеке показался берег, я понял, что наша цель — Америка. Локатор обнаружил эскадрилью, которая двигалась нам навстречу.
— Вот они! — радостно воскликнул Танака. — Ничего, пусть подойдут поближе.
Спустя секунду он заложил крутой вираж, скрывшись за облаком. Я рванул на себя одну из ручек, и моя машина ринулась следом. Закружилась голова, замелькало в глазах. Казалось, я действительно в небе, и начинается воздушный бой. Даже перепады давления вроде ощущались. Стало страшно. Совсем рядом грохнул взрыв, затем еще один.
— Стреляй! — крикнул в наушниках Танака. — Стреляй, чего ты ждешь!!
Я инстинктивно давнул на гашетку, но промахнулся, затем заложил «мертвую петлю», уходя от погони. Локатор показывал, что японец, как Покрышкин, громит врага. Меня охватывал азарт. После того как рядом разорвалась еще одна ракета, зашел истребителю в хвост и пустил свою, после чего тотчас лег на крыло, нырнул вниз, под облако. Наверху оглушительно громыхнуло, мой самолет затрясся, блеснул огонь, и повалил черный дым. Подбитый самолет врага пикировал на землю.
— Cool! — прохрипело в наушниках. — Теперь давай еще одного!
Машина шла прямо на меня, лоб в лоб. С огромной скоростью мы сближались. Игра велась на выдержку — у кого первым сдадут нервы. У меня или у компьютера. Я вел свой самолет четко по локатору прямо на него. Он принял мои правила. Все решали секунды, доли секунд. Когда расстояние стало совсем уж невозможно близким, я выстрелил и одновременно ушел в крутое пике, наращивая скорость. Его ракета взорвалась буквально над самой головой, кабина задрожала, меня встряхнуло, как на жестоком ухабе. Он, с поврежденным крылом, продолжал атаку, заходя сверху. Мое положение было невыгодным из-за маленькой высоты. Истребитель приближался. Враг экономил боезапас, хотел подобраться поближе. В этот же миг локатор показал другого врага, который шел на помощь первому, наперерез мне. Я оказался в западне.
— Танака! — крикнул я. — Танака, выручай!
— Держись! — только и ответил он.
Раненный мной истребитель был уже на расстоянии выстрела. Я рванул вверх, сделал «бочку», но он гнал меня не отставая. Наперерез, сбоку, несся другой самолет, сыпал короткими очередями. Еще немного, и раздавят меня как муху… Внезапно за спиной раздался страшный взрыв. Мой преследователь скрылся в клубах черно-алого дыма, рассыпаясь на куски.
— Банза-а-ай! — заорал Танака в наушниках. — Бей, бей второго, быстрее!
Буквально наугад, не целясь, я давнул гашетку. Второй истребитель, окрасившись пламенем, резко пошел вниз. Спустя несколько минут с эскадрильей было покончено.
— Ну как, русский? — послышался истерический смех японца. — Наложил в штаны?
Как минимум я был близок к этому. Стопроцентная достоверность происходящего не оставляла никаких сомнений. Было очень похоже на сон, где чудовища реальны, и ужас, и погоня.
…Нашей целью был Нью-Йорк. Я различал громады небоскребов острова Манхэттен. Приблизившись и легко подавив системы береговой охраны, мы были одни в небе над беззащитным городом.
— Вот теперь поехали! — воскликнул Танака. Бомбить Нью-Йорк я не собирался, ограничившись тем, что делал над Манхэттеном круги. Танака всаживал в город одну за другой ракеты. С ужасом и восторгом я наблюдал, как рассыпаются, взрываясь, многоэтажные коробки зданий. Это было сложное переживание: страх, восхищение, наслаждение, чувство грандиозности… У меня случилась эрекция, восставший член распирал тесные джинсы. Эвересты из стекла и бетона обрушивались с грохотом и дымом один за другим. Наконец, отбомбившись, Танака заложил крутой вираж над башнями Всемирного торгового центра, который он до сих пор не трогал. Я уже догадывался, что сейчас произойдет.
— Смотри, русский! — крикнул он. — Можешь так? Разогнавшись, Танака направил свой истребитель в одну из башен-близнецов. Дальнейшее в точности напоминало известные всему миру кадры хроники. Самолет врезается в середину башни, прорубая в ней громадную черную дыру, из которой бьет наружу клуб дыма, пронизывает здание насквозь и, вылетев, взрывается в воздухе. Последние вопли Танаки были по-японски. Я остановил игру: F8,' пауза.
Глубоко откинувшись в кресле, Танака напоминал мертвого. Руки бессильно свисали к полу, голова завалилась набок. Блаженная улыбка застыла на бледном взмокшем лице. Сеппуку у ворот храма Нигосари…
— Сколько раз я это ни проделывал, всегда испытывал одно и то же. — Японец раскатывал по тонкому стеклу журнального столика жирную дорожку кокаина. Кокаин был нежно-розоватого цвета, я такого никогда еще не видел, даже в фильмах. — Бесконечное счастье, непередаваемый кайф. Никакая химия не дает такого кайфа, а оргазм — просто смешно. Смерть — это огромный кайф, запомни, русский. — Он аккуратно вынюхал порошок, утер нос ладонью. — Сначала тебе страшно… так страшно, что кишка выпадает… Но надо сделать так, чтобы страх дошел до самого предела. До дна, до последней точки. Тогда открывается блаженство. Сперва я просто закрывал глаза, и вперед. Очень боялся. А потом научился наслаждаться каждым моментом. Мы с тобой сейчас проходили слабенький уровень, троечку. А на десятом — двенадцатом, там — wow! И все в реальном времени. Бои идут два-три часа. Пока до Нью-Йорка доберешься, уже сил никаких нет. На исходе, на полном пределе. Потом собираешь все силы, всю волю в кулак и — бабах! Не-е, за такую систему и миллион выложить не жалко… Пойдем, я тебе еще кое-что покажу.
К специальному, служебному лифту мы шли довольно долго, длинными извилистыми коридорами. Здесь, под землей, был действительно целый бетонный город с запутанными коммуникациями. У лифта нас встретил камуфляжный с автоматом — везде они были одинаковые, рослые, бородатые. Узнал Танаку, кивнул, набрал на никелированной панели код. Загорелась красная лампочка, двери лифта разъехались в стороны. Я заметил, они были бронированными, двери. Закрылись сразу, бесшумно, едва мы вошли. Вместо обычных кнопок с номерами этажей в стенку была встроена точно такая же панель с прорезью для чипа и монитором. Японец достал из-за пазухи — они висели у него на шее, под одеждой, как амулеты, — связку узких пластиковых полосок. Выбрал одну, сунул в прорезь. На мониторе загорелась зеленая надпись. Набрав несколько цифр, Танака потыкал пальцем в монитор. Раздался писк, и лифт начал плавно спускаться.
— Мы с тобой сработаемся, точно, — сказал он с необъяснимой уверенностью.
Спускались долго — минут десять. Лифт двигался медленно, но глубина была приблизительно метров семьдесят — сто. Что-то вроде ракетной шахты. Здесь охраны уже никакой не было, только электронные посты контроля. Использовав почти все чипы, Танака подвел меня к монолитной бронированной двери серого цвета, какие бывают, наверное, только в банках. Никаких панелей с цифрами я не заметил. Не было и прорези для чипа. Только прямоугольное окошко монитора, забранное толстенным стеклом. Японец приложил к окошку ладонь.
— Ничего круче человечество пока не выдумало, — сказал он. — Замер производится по тремстам двадцати двум точкам ладони. Каждый раз точки выбираются произвольно. Так что ошибка невозможна в принципе. Правда, сканирует долго, но ничего не поделаешь. Директор никогда не жалеет денег на такие вещи…
— Вы называете его Директором?
Окошко полыхало белым пламенем сканера минут пять. Танака переминался с ноги на ногу, ворчал. Что там, за дверью, я решил не спрашивать. Вообще не задавать вопросов. Скажет сам — хорошо, промолчит — еще лучше. Каждая тайна, в которую тебя посвящают, уменьшает шансы на спасение. Я уже догадывался, что экскурсия эта неслучайна. Не выпустят они человека, проникшего за бронированную дверь… Но не войти, упереться и остаться на пороге — глупо. Как в шахматах: тронул — ходи…
Дверь открылась бесшумно, обнаружив тесную и пыльную комнатушку. Я ожидал увидеть все, что угодно, но только не это. Интерьер трансформаторной будки. В стену литого бетона вмонтированы железные шкафы с лампочками. Лампочки мигают. Все. И что я должен здесь обнаружить?
— Кааба, — гордо сказал Танака, указывая на железные шкафы и лампочки. — Головной терминал. Вся наша работа завязана на этой системе. И не только наша. Знаешь, что такое «Аль-Нидар»?
— Нет, — ответил я.
— Исламский Интернет. Сеть, о которой не знают ни ФБР, ни ЦРУ, ни МОССАД — только мы. Чтобы войти в «Аль-Нидар», нужен специальный компьютер. Их выпускает фирма «Омрахман электронике» в Абу-Даби. Поштучно. Разумеется, владеет «Омрахманом» Директор. Это вообще его идея — свой Интернет. А транслируется все через наш собственный спутник.
— Что-о?? — выпучил я глаза.
— Не веришь?! — Танака сиял от удовольствия. — В девяносто девятом году китайцы запустили очередной спутник. По заказу правительства Малайзии там установлена как бы метеорологическая аппаратура. А на самом деле — системы компьютерной коммуникации. И еще наблюдательные приборы. Так что у нас вся Америка как на ладони! А замыкается все вот на этом терминале. Если бы янки про него узнали, сразу бы бросили ядерную бомбу, точно. Только без толку. Его даже бомба не возьмет. Толщина бетона — двенадцать метров! Но есть еще четыре станции слежения…
Вот теперь точно никогда не отпустят, с тоской подумал я.
— Сейчас Директор хочет все финансовые операции исламских банков замкнуть на «Аль-Нидаре», но система еще не готова, Я один все не тяну, А с тобой мы горы своротим! Но этим займемся позже. А пока вот что…
…Самое смешное: я даже приблизительно не могу сказать, где находится этот самый терминал. В какой именно точке необъятной пустыни Сахара. И действительно ли он головной.
После экскурсии Танака отвел меня в мою резиденцию. Что сказать?.. Серьезный отгрохал себе в пустыне дворец наркошейх. Когда я открыл дверь в свое новое обиталище, понял: покойный Пит именно о таком рае и мечтал. Входишь и попадаешь в огромную круглую гостиную. Да-да, круглую! Точнее, овально-вытянутую. Ноги утопают в пестром ковре: мусульманское великолепие, цветики-цветочки, птички-зверьки. Слева — антикварная тумба на изогнутых бронзовых ножках в форме птичьих лап. Тумба с инкрустациями, с ящичками — десятка два маленьких ящичков. На тумбе — приземистая и широкая, как Кубок Дэвиса, серебряная чаша, в чаше — фрукты горой. Жирные гроздья светлого и темного винограда, яблоки с кулак, гранаты, хурма… Обои шелковые (сначала не поверил, потом подошел, потрогал, убедился: стены обиты узорчатой шелковой тканью). Портьеры бархатные, тяжелые, с золотым шитьем и кистями, как в дорогом борделе. Посреди комнаты — кожаный глубочайший диван буквой П, кожа оттенка красного дерева, блестит жирно, и два кресла к нему. Получается как бы огражденное пространство, в центре которого — столик под стать тумбе: и ножки-лапы когтистые, и с инкрустациями полированное дерево. Сервирован на две персоны. Ах, как сервирован! Бутылка шампанского в блестящем ведерке со льдом. Аккуратный такой, хороший лед — кубиками. В хрустальных вазочках — икра: черная и красная. Свежий белый хлеб (вот что меня действительно поразило — нормальный белый хлеб! Они же все лепешки жрут, меня уже от одного их вида выворачивает, лепешек). Масло, еще какая-то мелкая закуска. Свечи — зажжены две длинных розовых свечи. Только-только зажжены, еще воск не успел оплыть. Два прибора, два бокала — интимный ужин на двоих. Кто второй? Может, сам Абу Абдалла вздумал со мной шампанского выпить, поздравить с началом работы?.. Наш любимый Санта-Клаус?..
Мне их роскошь, знаете, была до задницы. Потому что раз выделили такие хоромы, значит, не слезут. И икорку заставят отработать, и шампанское, и когтистые ножки тумбочек-столиков… По полной. И черт с ним, решил. Есть не хотелось, а выпить — в самый раз. Даже не выпить — надраться как свинья. Вынул шампанское, на этикетке прочел: «Максим». М-мм, губа не дура, губа не дура. Правоверные, интересно, тоже пьют втихаря или только выставляют? Бутылку открыл неудачно, облился, даже на ковер наляпал. Все руки, грудь в пене — разучился. Сначала хотел как человек — в бокал налить, потом передумал, сунул в рот сразу горлышко…
— Хэлло, — пропел за спиной женский голос.
Я языком запер шампанское в бутылке — еще бы поперхнулся от неожиданности, сдох. Это была ОНА. Да, девка, баба. К спиртному, икре и свечам. Бедный, бедный Пит! Ему так хотелось всего этого… В легком коротком халатике на голое тело. Почти прозрачном. Куколка, Барби: ножки, ручки, сисечки, белокурые локоны, смайл в тридцать два зуба. Помада, румяна, тени — полный боекомплект. Видимо, вышла из ванной — я-то еще не сориентировался, где здесь что, где ванная. Улыбнулась:
— Вы не угостите даму шампанским? Молча наполнил бокалы.
— Вас как зовут, девушка?
— Ясмин. — Взяла свой бокал, оттопырив наманикю-ренный мизинчик, опустила глазки (длинные, тяжелые, в туши, ресницы мешали ей нормально моргать). — За что будем пить? Давайте выпьем за вас, а?
— Ясмин, спасибо за тост, но оставьте меня в покое, пожалуйста, — сказал корректно, без хамства. — Возьмите, если хотите, шампанское и идите. Я не готов к сексу.
— Вы устали, вы так устали, — в ответ проворковала она. — Вам нужно отдохнуть, расслабиться. Поверьте, я знаю, как сделать мужчине хорошо. Вам достаточно будет просто лежать и наслаждаться, лэй энд сэтисфект…
— Ясмин, я люблю свою жену. Вам не о чем беспокоиться. Ваши услуги мне ни к чему. Пожалуйста, уходите.
— Вы не пожалеете. — Девица подарила мне жемчужно-щедрую улыбку. — Вы приехали из далекой холодной страны, где люди не умеют по-настоящему делать любовь. Я научу вас всему, что знаю. Поверьте, это будет как сказка, как сон…
— Убирайся, — устало повторил я по-русски, сделав большой глоток из горлышка. Шампанское крепко ударило в голову, я же сто лет в рот алкоголь не брал. — Пошла вон отсюда.
Может, мы еще перебросились парой каких-то ничтожных реплик, не помню. Ясмин была простая, обыкновенная девка-давалка, обслуживающий персонал моего «отеля» — блядь средней руки. Привыкла, наверное, что мужики набрасываются на нее без слов, да и слов она, так подозреваю, не много знала. Во всяком случае, по-английски — разве что заучила несколько гладких фраз по теме. Я честно хотел ее прогнать, честно. Не думал, что случится эта постыдная, гнусная сцена, мерзость. А она все-таки случилась. Неохота в подробностях описывать — так, ограничусь самым необходимым, чтобы вы поняли мое состояние. От шампанского я сделался какой-то тяжелый, разболтанный и злой. Со мной бывает так иногда, что лучше меня не трогать. Но Ясмин — та ничего не почувствовала, не просекла. Или неправильно поняла скорее всего. Распустила пояс на халатике, опустилась с дивана на ковер, встала на четвереньки, облизываясь, поползла ко мне. Приползла. Я оттолкнул ее, с силой — уйди, не хочу! Уйди по-хорошему! Нет же. Полезла ко мне в штаны, распустила на джинсах молнию, легко расстегнула неподатливую пуговицу… Вынула член. Он был маленький такой, бледный, скукоженный, кожа собралась на головке крупными дряблыми складками. Стыдно смотреть. «Fuck off! — повторил я ей, захмелевший, и ударил по щеке. — Fuck off!» Не подействовало — может, за садиста меня приняла? Уверенно затолкала член себе в рот, начала сосать. Знала свою работу, да. Совсем скоро и следа не осталось от скукожен-ного головастика — торчал суком, налился кровью. И вот тогда что-то со мной случилось, что-то ударило в голову. Я до того их всех ненавидел, так ненавидел этот дворец, эту комнату, диван, еду, шампанское, эту сучку, мне так хотелось уничтожить их, это, все вокруг, растоптать… так ненавидел себя, проклятого дурня никчемного… Такое возникло дикое желание плюнуть им всем в лицо — тварям, гнидам, миру этому идиотскому, Богу, если он есть… что-то жутко грязное сделать, обдать их, весь этот мерзкий поблядушник, грязью и самому в грязи вываляться…
Я что сделал. Вырвал у нее изо рта свой хуй. Вскочил, поймав на себе удивленно-испуганный, недоумевающий взгляд. Развернул жопой к себе, задрал халатик. Понял, что буду сейчас ее ебать, так ебать, чтобы подлая сука сдохла от ебли, до смерти буду ее харить. Задница у Ясмин была гладкая, белоснежная, мягкая. Картинка, не задница. Я схватил ее за ягодицы, широко их раздвинул, увидел бритую, лощеную и мокрую пизденку и совсем осатанел. Ткнул хуем прямо вперед, как тараном, как вертелом продевают цыпленка насквозь. Ясмин вскрикнула, потом заорала. Я ее крепко держал, где н сила взялась, очень крепко, а она билась, вырывалась и вопила тонким голосом. Хую было странно, непривычно тесно. Я опустил глаза и засмеялся: оказалось, ебу ее в сраку, в анальное отверстие. Как туда влез — понятия не имею. Но тем лучше. Ясмин визжала, билась и плакала: пустите, пустите… Ага, так я тебя и выпустил! Двигался изо всех сил, как мог наподдавал ей, загоняя хуй в кишку, жалел, что хуй маленький, а кишок у человека восемь метров, ебал и приговаривал по-русски:
— Нравится, сука, нравится, блядь? Нравится, сука, нравится, блядь?
— Ноу! Ноу! Ноу! — жалобно всхлипывала Ясмин, как будто понимала мои слова.
— Нравится? Нравится? Нравится?
Но это еще не все! Когда почувствовал, что сейчас кончу, вынул хуй, развернул Ясмин, на спину ее повалил, сел сверху на плечи и сунул ей хуй в рот. Опыта анального секса у меня, друзья, никогда не было, я очень традиционный человек… Хуй был весь в жидком дерьме, покрыт коричневой слизью. О-оо, если бы вы видели ее лицо! Как мне хотелось в тот момент, чтобы эти недоноски, по вине которых я здесь оказался, пялились в ужасе, в животном ужасе, выкатив глаза, на чей-нибудь здоровенный, перемазанный калом ХУЙ! Вынутый у них же из жопы и зависший надо ртом! Готовый кончить, извергнуться кипящей лавой, напалмом, неудержимым распадом урана! Расстегивай штаны, анкл Сэм! Ты не забыл еще, как это делается?! Fuck them all — кто же еще на такое способен, кроме тебя?! Огрей их по башке своими могучими яйцами, оглуши, не дай опомниться, иначе они прогрызут в твоих яйцах дыры, анкл Сэм, и мутноватое, студенистое месиво, которое из них выльется, — выпьют, выпьют к чертовой матери!
Короче говоря, я кончил Ясмин в рот и заставил ее тщательно облизать мой грязный хуй. Потом вытолкал из комнаты голую, взашей. Упал на ковер и отключился.
…Вчера, ровно через год после трагедии 11 сентября, террористы нанесли Соединенным Штатам и всему цивилизованному миру новый сокрушительный удар. Мишенью на этот раз были выбраны две крупнейшие интернет-компании «Yahoo!» и «America Online» (AOL). Утром 11 сентября все пользователи бесплатных почтовых ящиков на этих порталах получили автоматическое сообщение от администрации сервера с рекламой нового пакета для антиспамзащиты. После щелчка мышью по этому сообщению на мониторах открывался портрет Террориста Номер Один Хаджи Абу Абдаллы и надпись «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — Пророк Его!». После этого шел текст меморандума-фетвы:
«День Гнева настал!
Именем Аллаха милостивого, Аллаха милосердного, наполнившего сердце мое болью и гневом, я, Абу-Мохам-мад бен-Авад Абдалла, открывшийся миру как Ал-Мех-ди-ал-Мунтовар, Имам Судного дня, объявляю миру неверных ПОСЛЕДНИЙ ДЖИХАД. Сыны и дочери собак и обезьян будут уничтожены волею Всемогущего. Их города, гнезда разврата и порока, ненавистные взору Владыки Миров, будут стерты с лица земли, и не останется там целого камня, не расколотого Мечом Веры. Не найдет себе покоя неверный, и не найдет он себе убежища, покуда не отдаст Аллаху свою нечистую душу, место которой в адском пламени сжирающем. И сокрушено будет войско неверных, повергнуто будет их оружие в прах, ибо на стороне нашей Истина, сверкающая подобно молнии. Падут стены крепостей ваших, когда грянут муджахиды «Аллаху Акбар!», рассыплются укрепления ваши, ибо так желает Неизъяснимый. Станете вы рыдать и молить о пощаде, но ненавистны вы в глазах Аллаха, люди греха, и жизнь ваша волею Его прекратится. Опомнитесь!
Пролейте слезы покаяния и примите Веру Пророков, покуда не встали еще дымы на горизонте, застилая солнце, и не исторгли ваши груди вопль отчаяния, и не разорвались сердца ваши от ужаса, когда обрушит на вас гнев свой Аллах! Да будет так, что всякий, склонивший колени пред Владыкой Миров, будет помилован, и волос не упадет с головы его. Но плачут небо и земля о судьбах тех, кто останется в заблуждении и грехе. Лучше умереть им, не дожидаясь Судного дня!
Именем Аллаха Всемогущего и Пророка Его Мохаммада, Хаджи Абу Абдалла, ал-Мехди».
Само по себе это претенциозное сообщение можно было расценить всего лишь как злую шутку, однако уже через полчаса пользователи обнаруживали, что система «зависает». Все попытки перезагрузить компьютер оказывались тщетны. Вирус, скрытый в рекламе продвинутой защиты от спама, уничтожил большую часть информации на жестком диске. В мгновение ока несколько миллионов пользователей потеряли все.
«Это катастрофа! — заявил на срочной пресс-конференции представитель корпорации «Yahoo!» Джон Дейтон. — Едва оправившись после прошлогодней атаки хакеров на нашу почтовую систему, мы вновь понесли колоссальные убытки. Я могу только встать на колени и просить прощения у наших клиентов…»
Самое ужасное состоит в том, что пользователями бесплатных почтовых ящиков на серверах «Yahoo!» и AOL являются не только владельцы домашних персональных компьютеров, но также многочисленные сотрудники министерств и ведомств, крупнейших компаний. Если пораженная машина была подключена к локальной сети, вирус, пусть и не в такой степени, поражал целую сеть. В одних только Соединенных Штатах об ущербе уже объявили министерство иностранных дел, ФБР, пресс-служба президента, компании «Дженерал фудс», «Уинстон-Сейлем-тобакос», «Силикон графике», некоторые другие. Агентства новостей продолжают передавать тревожные сообщения со всей планеты. Генеральный директор компании «Фуджи-филм» (Киото, Япония) Икео Симору оценивает нанесенный «Фуджи-филм» ущерб в размере до двадцати миллионов долларов. Немецкий концерн «Байер» вынужден на неопределенный срок приостановить работу своего предприятия во Франкфурте-на-Майне по причине выхода из строя электронного оборудования, контролирующего выпуск инсулина. Центральный аэропорт Ванкувера (Канада) сообщает о серьезных неполадках в диспетчерской системе, из-за чего временно невозможно обеспечение авиаперевозок. Те же неприятности — у швейцарской авиакомпании «Суис Эйр», которая уже целый год находится на грани банкротства после теракта в Нью-Йорке, приведшего к резкому снижению пассажиропотока. Центробанк России отменил на ближайшую неделю валютные торги, ссылаясь на проблемы с компьютерной техникой.
…Одиннадцатое сентября II стало трагедией для многих тысяч людей, чьи домашние компьютеры превратились фактически в груду бесполезных деталей. Биолог Франк-Йоахим Гнаде из Гамбургского университета скончался прямо у рабочего стола от обширного инфаркта: вирус стер все материалы к его докторской диссертации. Двадцатичетырехлетняя жительница Нью-Йорка Джуди Морган выбросилась с шестнадцатого этажа, предварительно выбросив из окна свой компьютер…
«…Мы твердо убеждены, что речь идет о целенаправленной атаке исламских террористов, — заявил на срочной пресс-конференции эксперт ФБР Вильям Джошу-эл. — Нельзя, конечно, исключать и версию, согласно которой всемирную катастрофу устроили экстремисты-хакеры, сочувствующие Абу Абдалле. Так или иначе, мир встал перед лицом совершенно новой угрозы, направленной не против отдельного государства, но против планеты в целом…»
«…Если Террорист Номер Один действительно виновен во всем случившемся, ему удалось снова обвести нас всех вокруг пальца. Фанатики-одиночки, захватывающие самолеты, биологическое, химическое, наконец, ядерное оружие — мы ждали всего, чего угодно, только не этого», — с горечью констатирует высокопоставленный сотрудник израильской разведки МОССАД.
…Представители крупнейших антивирусных лабораторий «Нетуорк-антивирус-интернешнл» и «Коммэнд-антивирус-интернешнл» считают, что мы имеем дело с первым в мире резидентным файловым вирусом, внедряющимся на самый высокий уровень безопасности Windows — область системных драйверов. Эта особенность делает вирус труднодоступным для лечения в памяти большинством из известных антивирусных программ. При активизации злосчастного файла с рекламой антиспамуслуг запускается процедура заражения памяти Windows, которая выделяет необходимый вирусу блок памяти и перехватывает внутренние функции этой операционной системы. Вирусный перехватчик обрабатывает только открытие файлов, затем проверяет их имена и внутренний формат и вызывает процедуру заражения. Убийственный результат возникает при попытке перезагрузить компьютер: пользователь обнаруживает, что 90 процентов файлов на диске С отсутствует, и восстановить их невозможно, если вообще удается загрузить ПК. Созданный по принципу «троянского коня» (в частности, хорошо известного Win95.Babylonia) — наиболее опасной разновидности современных вирусов, после внедрения в систему данный вирус загружает с неизвестного хакерского сайта файл со списком дополнительных модулей и их местонахождением, после чего загружаются и сами модули. Самым опасным приходится считать то, что загрузка модулей, если она не удалась сразу, происходит автоматически при любом выходе в Интернет. Именно этим объясняются убытки большинства крупных компаний, поскольку их компьютеры будут отключены от сети на неопределенное время. Ирония ситуации состоит в том, что антивирусную программу, когда она будет создана, невозможно передать по Интернету на зараженный компьютер, поскольку после загрузки разрушительных модулей остается единственный выход — полная переустановка системы. Никто не может сказать, успеет ли он получить антивирусную программу до того, как загрузится последний модуль…
«Идея, в сущности, отнюдь не уникальна, — считает высокопоставленный менеджер «Майкрософт» Вине Кис-син. — Крупнейшие порталы, вроде Yahoo! или AOL, не могут выработать достаточно надежной системы защиты просто из-за огромного количества активных клиентов, пользующихся электронной почтой. Компьютерные пираты атакуют эти серверы постоянно, здесь нет ничего нового. Новизна состоит в том, что зараженный файл удалось внедрить в генератор рассылки сообщений, и убийственную рекламу рассылали не сами террористы, но электронные службы серверов. Именно поэтому вирус попал в каждый почтовый ящик. Как они осуществили это практически, пока сказать трудно».
«…Мог ли Хаджи Абу Абдалла заполучить в свое распоряжение специалистов столь высокого уровня? — задает вопрос «Вашингтон-пост». — Никто не знает ответа. Тем не менее имеются факты, свидетельствующие о том, что в Лондоне, Берлине и Риме существовали и, возможно, существуют по сей день полулегальные вербовочные бюро, предлагающие программистам некую высокооплачиваемую работу в странах «третьего мира», о сути которой ничего не известно. Итальянские спецслужбы сообщили, что некий Маркус Манцони, бывший руководитель компьютерной службы «Банко ди Рома», в 1998 году вылетел в Турцию по туристической визе и исчез. В июне нынешнего года пропал в Хаммарате русский программист, прибывший на отдых со своей семьей. Теряются также следы двух скандально известных хакеров, по сей день разыскиваемых Интерполом, — Танака Усуи (Япония) и Виктора Вайтхеда (Австралия). Не исключено, что все эти люди работают на террористов, хотя достоверных сведений пока нет. Интерпол срочно составляет базу данных по фактам пропажи людей, чья работа связана с компьютерной техникой».
…Мулла Омар, суд над которым продолжается в Южном округе Нью-Йорка, также поспешил сделать заявление. По его словам, в Коране сказано, что Аллах будет карать неверных их же оружием, поэтому нет ничего удивительного в том, что «орудием возмездия» избран компьютер. Тем не менее хитрый старый лис, пользующийся услугами сразу трех адвокатов, не подтвердил и не опровергнул причастности Всемирного исламского фронта к совершенному теракту.
…Организация Объединенных Наций получила сегодня открытое письмо классика мировой фантастики Рэя Брэдбери. Сэр Брэдбери продолжает считать, что технический прогресс ведет планету к катастрофе и призывает всех людей доброй воли начать всемирную кампанию против «роботизации Земли и превращения человека в мыслящий придаток машины».
…События на севере Африки приобретают совершенно новый оборот. Как стало известно из достоверных источников, Хаджи Абу Абдалла, до сих пор скрывавшийся на территории Афганистана, тайно перебрался в страну, охваченную гражданской войной. Катарская телекомпания «Аль-Джазира» продемонстрировала секретную видеопленку, свидетельствующую о том, что Абу Абдалла находится сейчас на одной из баз исламских экстремистов. Сообщается также, что Террорист Номер Один намерен лично возглавить войска мятежников. «Пример талибов может быть очень заразительным, — констатирует военный эксперт НАТО Винсент Макгрегори. — Горстка мятежников, во главе которых стоит харизматический лидер, установила в Афганистане в свое время новый порядок, не встретив серьезного сопротивления. Точно такой же сценарий может быть разыгран снова. Если это произойдет, странам Средиземноморского бассейна угрожает серьезная опасность».
«…Фетва Абу Абдаллы, распространенная по Интернету, не является пустой угрозой, — считает французский министр внутренних дел. — В исламских кругах Франции наблюдается сильное оживление. Нам удалось предотвратить сразу несколько терактов, которые планировалось совершить в Париже и Марселе. Изъято более 50 килограммов взрывчатки, оружие и листовки, призывающие начать немедленный джихад. По подозрению в участии в террористических группировках задержано более шестидесяти человек…»
…«Психическая зараза», источником которой является исламский экстремизм, все глубже проникает в души западных людей. В городе Тампа (Флорида, США) был «в миниатюре» проигран сценарий событий 11 сентября 2001 года. Легкомоторный самолет «Cessna-172», за штурвалом которого находился 15-летний подросток Чарлз Бишоп, врезался в 40-этажное здание Бэнк оф Эмерика на уровне 28—29-го этажей. К счастью, никто, кроме пилота-камикадзе, не пострадал. По сведениям полиции, вероятность случайной аварии полностью исключена. Подросток был хорошо знаком с летным делом. Он вылетел в Тампу из международного аэропорта Сент-Питерсберг-Клиеруотер, где занимался в летном клубе. Около полудня Бишоп поднялся в воздух без разрешения диспетчера и уже через несколько минут нарушил воздушное пространство над базой ВВС США Макдил, являющейся также штаб-квартирой командования американской армии. На перехват «Cessna-172» были по тревоге подняты два истребителя «F-15» и вертолет береговой охраны. Бишоп не подчинился требованиям немедленно приземлиться и довел свой замысел до конца. На сегодняшний день удалось установить, что подросток-террорист учился в девятом классе математической школы. Учителя считали его вежливым, улыбчивым, но достаточно замкнутым мальчиком. В кармане Чарлза Бишопа была обнаружена записка, в которой он восхищался «подвигом» террористов-камикадзе 11 сентября и заявлял, что предпринимает свои действия в здравом уме и без всякого постороннего влияния. Никаких доказательств связи Бишопа с исламскими террористическими организациями выявить не удалось, однако на жестком диске его компьютера полицейские обнаружили более ста фотоизображений Террориста Номер Один Абу Абдаллы, а среди компакт-дисков — компьютерную игру под многообещающим названием «Блади септембер», имитирующую кровавые события в Нью-Йорке. Какая именно компания создала «Кровавый сентябрь», пока не установлено. По сообщению журнала «Пи-си-уикли», в Интернете существует уже около двух десятков компьютерных игр, так или иначе проигрывающих сюжеты нападения на Америку и Израиль, в том числе и с применением ядерного оружия. Эксперты журнала полагают, что эта продукция выпускается подпольными фирмами в странах Юго-Восточной Азии по заказу исламских экстремистов.
«Соединенные Штаты должны самым серьезным образом повлиять на сложившуюся обстановку», — считают в Вашингтоне. Опираясь на поддержку военных, американский президент требует от мирового сообщества содействия для осуществления военной акции против исламских мятежников в Северной Африке. Генеральный секретарь ООН уже объявил о созыве чрезвычайной сессии, однако, как полагают эксперты, Организация Объединенных Наций не поддержит инициативу Соединенных Штатов.
…В преддверии выборов федеральный канцлер Германии делает ставку на миролюбие. Заявления о том, что вопросы международной политики должны решаться исключительно мирным путем, уверенно поднимают предвыборный рейтинг канцлера. Той же точки зрения придерживаются и «зеленые», в коалиции с которыми социал-демократы идут на выборы. Как считают представители оппозиционной фракции «UNION», отказ поддержать Соединенные Штаты грозит Германии изоляцией и ставит под сомнение ее имидж как признанного лидера Европейского сообщества.
…Скандально известный французский писатель Тьер-ри Мейссан (Thierry Meyssan), чья книга «Чудовищный обман» («L'Effroyable Imposture») с альтернативной версией событий 11 сентября 2001 года возглавила список бестселлеров Amazon France, объявил о предстоящем выходе в свет новой «литературной бомбы». По данным «Либерасьон», речь в ней пойдет о тесной связи западного финансового мира с так называемыми «исламскими банками». Специфическая банковская система мусульманских стран, основанная на принципах шариата, является финансовым фундаментом так называемой «новой арабской экономики». По самым приблизительным оценкам рейтингового агентства «Кэпитэл-интеллид-женс», на сегодняшний день совокупная величина активов исламских банков, имеющих филиалы в сорока странах мира, превысила 160 миллиардов USD. Будучи абсолютно непрозрачной для внешнего контроля, эта система аккумулирует нефтедоллары и отмывает грязные деньги, вырученные от продажи наркотиков, чтобы затем размещать их на кредитно-финансовых рынках всего мира. Основываясь исключительно на открытых источниках информации, Тьерри Мейссан приводит сенсационные данные. Так, например, «исламские» отделения, предназначенные для обслуживания клиентов-мусульман, открыли такие влиятельные банки, как «Чейз-Ман-хэттен», «Голдмен энд Сакс», «Ай-эн-джи», «Номура се-кьюритиз», «Джей-Пи-Морган», «Дойче банк» и другие. Известнейший американский «Ситибэнк», который наиболее активно сотрудничает с исламскими финансовыми структурами, вложил около миллиарда долларов в специализированные кредитные фонды. К услугам «исламских» банков прибегают и многие транснациональные гиганты, в частности, «Дженерал моторе», «Ай-би-эм», «Алкатель», «Дэу»… Задав этот вопрос в своей первой книге, Тьерри Мейссан повторяет его вновь: не является ли трагедия 11 сентября хорошо спланированной провокацией, которая призвана повлиять на расстановку сил в кредитно-финансовой сфере? Представитель Пентагона Глен Флад в ответ на это заявил, что сочинения Мейс-сана «оскорбляют американский народ, а их публикация, вполне возможно, инспирирована Всемирным исламским фронтом».
Ссылаясь на Виктора Пелевина, «Экспресс-газета» сообщает о неоконченном и отвергнутом затем самим автором романе «нового русского классика»: по замыслу Пелевина, 11 сентября — не что иное, как банальный бандитский «наезд» на Америку, завершившийся, однако, не привычным расстрелом бронированного джипа, но падением башен Центра международной торговли. По сюжету романа, янки отказываются выплачивать арабам взятые у них в долг нефтяные миллиарды — арабы высылают в ответ готовых на все «братков»… Сам мэтр не подтвердил, но и не опроверг информацию «Экспресс-газеты».
…В связи с резким обострением ситуации в Чечне Москва приняла к разработке план новой военной операции на Кавказе. «Мы видим, — сказал в телевизионном обращении к народу президент России, — что переговоры с экстремистами, попытки решить наболевшие вопросы посредством диалога не имеют реального успеха. Поддерживаемые и финансируемые из-за рубежа, боевики не собираются складывать оружие. События в Северной Африке и недавняя компьютерная атака подталкивают их к новым действиям, направленным на дестабилизацию обстановки в стране. Поэтому мы считаем необходимым проводить в отношении террористов самую жесткую политику».
…«Резиденция лидера палестинской автономии Ясира Арафата в Рамалле должна быть разрушена!» — таков окончательный вердикт израильских военных. В здании уже отключены телефонная связь, вода и электричество. Кроме Арафата, в бункере находятся около двухсот палестинцев, многие из которых подозреваются в причастности к террористическим актам. В ответ на это боевики «Хамас» подвергли массированному обстрелу израильские поселения в районе сектора Газа. Убито и ранено около ста человек.
…Знаменитый компьютерный диверсант, известный под именем «Thus001» и прославившийся созданием вируса WM97. Thus, поразившего в свое время корпоративные сети Англии и Соединенных Штатов, обнародовал в Интернете свое мнение по поводу случившегося. Он считает, что никто из его «коллег» не мог совершить ничего подобного. «Я понимаю, что этот тип законченный придурок, — сказал Thus001. — Но для подобного дела нужна серьезная команда и много времени. С такими силами гораздо проще взломать какой-нибудь банк».
…Эксперты Европейского сообщества убеждены, что исламские террористы имеют один или несколько мощных компьютерных центров, разрабатывающих для них серьезное программное обеспечение, «В последнее время существенно усложнился контроль над движением финансовых средств банков арабских стран, — констатировал пожелавший остаться неназванным сотрудник Бюджетной комиссии ЕС. — Некоторые из этих банков, имеющие филиалы в Швейцарии, Англии и Франции, осуществляют абсолютно непрозрачные операции, разобраться в которых мы пока не в состоянии. Мы столкнулись с новым поколением электронных защитных систем, позволяющих манипулировать крупными денежными суммами, имеющими, возможно, сомнительный источник. Если ситуация не изменится к лучшему, нам придется поставить вопрос об отзыве лицензий и запрете для так называемых «исламских банков» осуществлять операции на европейском финансовом рынке».
…Внезапная отставка с поста председателя партии ФДП бывшего кандидата на пост федерального канцлера Германии Юргена Меллермана стала сенсацией в политических кругах страны. Известный своими антиизраильскими взглядами, Меллерман обвинил президента Израиля в содействии провалу его избирательной кампании, чем вызвал вокруг себя и своей партии яростные дебаты в средствах массовой информации. Следом за тем разразился скандал, связанный с непрозрачностью некоторых источников финансирования его избирательной кампании. До сих пор не установлено точно, откуда получил Меллерман круглую сумму в размере 400 тысяч евро и на какие средства он приобрел совсем недавно роскошную виллу на Канарских островах. Некоторые источники предполагают наличие некоего крупного арабского жертвователя, однако сам бывший председатель ФДП отказывается как-либо комментировать эту информацию. «Я не могу больше выносить травлю, развязанную против меня, и хочу больше времени уделять своей семье», — заявил Меллерман корреспонденту телевизионного канала НТВ.
…Россия готова поддержать американскую военную акцию на севере Африки, если Соединенные Штаты, в свою очередь, одобрят политику Москвы на Кавказе. Примерно так следует понимать весьма туманное высказывание российского лидера, сделанное им на заседании Совета Безопасности. Уклоняясь, как всегда, от конкретных формулировок, президент констатировал, что международный терроризм представляет серьезную опасность не только для обеих сверхдержав, но и для всего мира в целом.
…Войска мятежников, фактическое руководство которыми принял на себя Хаджи Абу Абдалла, перешли в наступление. Вооруженные автоматами, минометами, легкой бронетанковой техникой и «стингерами», боевики активно продвигаются в направлении столицы. Нынешний глава государства генерал Абделькадер Дустум считает, что его армия располагает достаточными силами и средствами для того, чтобы противостоять «новым талибам». Он также заявил, что в случае необходимости рассчитывает на поддержку мирового сообщества. Американский авианосец «Джордж Вашингтон» по-прежнему находится у берегов страны. Со дня на день может начаться операция «Буря в пустыне II».
…Что представляет собой Террорист Номер Один, что еще готовит он миру? На этот вопрос пытается дать ответ известный российский астролог Павел Глоба. «Анализ гороскопа мы традиционно начинаем с положения Солнца, — говорит Глоба. — У Абу Абдаллы Солнце находится в знаке Рака, что показывает натуру скрытную, но творческую и не лишенную глубоких эмоциональных переживаний. Как известно, он даже написал книгу философских стихов в духе суфизма. Главное свойство этого человека — интуиция, проницательность и понимание людей, граничащие с ясновидением. Он способен улавливать мысли на расстоянии и, возможно, обладает телепатией, однако порой чувства выходят из-под контроля рассудка, приводя к диким, непредсказуемым действиям и поступкам, шокирующим окружающих». Тем не менее, считает российский астролог, в корне теперешнего поведения Абу Абдаллы и всех его «подвигов» лежит глубокая психическая травма, полученная в подростковом возрасте. Когда он еще не достиг совершеннолетия, его горячо любимый отец погиб в автокатастрофе, которая произошла на территории США. Этим, возможно, объясняется жгучая ненависть к Америке.
«Абу Абдалла, как и многие Раки, — говорит Павел Глоба, — личность внутренне слабая, зацикленная на своих переживаниях. Воспитанный в жестких религиозных рамках, в атмосфере строгости и послушания, он до сих пор не удовлетворил потребность злого мальчишки ломать и крушить. Туманность Копула, которая находится в его гороскопе в соединении с планетой Юпитер, свидетельствует о шизоидности натуры, подверженности видениям и галлюцинациям, мании величия. К сожалению, благоприятное Солнце в гармонических аспектах с Нептуном дает ему возможность периодически реализовывать свои идеи на практике». Особое влияние Глоба придает влиянию звезды Антарес, известной как «звезда Сатаны». При этом Террорист Номер Один дьявольски умен: планета знаний Меркурий находится в Близнецах, что означает быструю реакцию и изворотливость, способность на лету схватывать знания, хитрость и выдающееся красноречие. А соединение «военной» планеты Марс с Ураном, ключевые слова для которого «небо», «самолеты», «взрывы», «компьютеры», говорит само за себя, тем более что Уран находится в градусе войны и военных действий. Тридцатый градус Близнецов свидетельствует о способности Абу Абдаллы к совершенной, как произведение искусства, лжи и умении искусно «прятаться в тень», а взаимосвязь Марса и знака Льва показывает выдающиеся лидерские качества, хотя, судя по гороскопу, Абу Абдалла не только режиссер, но и актер — он патологически склонен к театрализации. «Что касается глубокой религиозности, я имею основания в ней усомниться, — замечает Павел Глоба. — Человек, у которого Юпитер находится в Деве, слишком трезвомыслящий и расчетливый, чтобы быть по-настоящему религиозным. Он скорее уж бизнесмен, чем фанатик, а Черная Луна в Рыбах свидетельствует о том, что Абу Абдалле все равно, кому служить, — Богу или дьяволу. Четвертый градус Рыб, в котором находится Луна, — один из самых страшных, разрушительных градусов зодиака». Что же говорят звезды о дальнейшей судьбе Террориста Номер Один? «В центре его гороскопа расположен тау-квадрат на Хироне, свидетельствующий о неизбежности каких-либо событий, связанных с циклом Хирона, который составляет 52–54 года. Скорее всего в этом возрасте он будет убит, умрет тайной смертью. Причиной может стать, например, отравление ядом…» В этом отношении стоит заметить, что Террорист Номер Один, как Григорий Распутин, обладает редкостной устойчивостью к отраве.
В конце девяностых годов попытку отравить Абу Абдаллу предпринял некий Сиддик Ахмед, действовавший по заданию американских спецслужб. Ему заплатили 267 тысяч долларов, однако операция провалилась. Печень новоиспеченного «пророка» выдержала лошадиную дозу яда, от которой обыкновенный человек умирает в течение нескольких минут.
2
— До сих пор не могу поверить, что мы это сделали. — Выпустив густую струю дыма, Марк, довольный, бросил на стол стопку распечатанных новостей. — Потрясающе! Пусть этот надутый пузырь Билл Гейтс кусает себе локти от зависти, что такие люди работают не на него, но на эмира.
Я сидел молча, кусал губы. Да, мы это действительно сделали. Танака, я, еще несколько человек, которых я не знаю. Работали почти полтора месяца, день и ночь. Идея принадлежала японцу, алгоритм разрабатывали мы с ним на пару, до ума доводили все вместе. Вирус был великолепен. Чудо. Шедевр разрушения. Танака — гений, несомненно. Почти Леонардо, но полностью сумасшедший, маньяк. Получает от этого удовольствие. Считает себя единственным, кто способен отомстить Америке за Хиросиму и возродить самурайскую славу Японии. Если талант дается человеку от Бога, зачем Бог одарил талантом этого психопата?
— Я хочу видеть их рожи, — все повторял он, хрустя костяшками пальцев. — Как они корчатся возле своих компьютеров, эти муравьишки, как они шевелят своими усиками и лапками… Жирные, тупые, зажравшиеся насекомые. Трусливые рабы своих желудков…
Идея с «Макдоналдсом» принадлежала тоже ему. В своем роде верх остроумия.
Что я чувствовал? Был рад, что все наконец закончилось и можно отдохнуть. Стыд, раскаяние? Нет, стыда не было. Не знаю почему. Безразличие, усталость. Невыносимо хотелось спать. Больше ничего. Танака проглотил очередную сиреневую таблетку, закатив глаза от счастья.
— Надеюсь, теперь вы сдержите свое обещание, — сказал я Марку.
— Безусловно. Совсем скоро ваши родные окажутся в Москве. Вечером вы снова будете с ними говорить. Это уже в который раз? Шестой?
— Пятый, — ответил я. Марк улыбнулся:
— Вы сделали для нас даже больше, чем могли. Как мы можем вознаградить вас?
— Вы прекрасно знаете.
— Боюсь, это невозможно.
— Разве вы не говорили, что отпустите меня, когда работа будет закончена? Или я неправильно понял?
— Все не так просто. — Он протянул мне одну из распечаток. — Читайте.
ФСБ России обратилось в Интерпол с просьбой содействовать в розыске К*** — российского программиста, пропавшего в Хаммарате во время недавних беспорядков. X*** подозревается в участии в разработке смертоносного компьютерного вируса, поразившего 11 сентября 2002 года серверы «Yahoo!» и AOL. Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщает, что россиянина видели на одной из военных баз боевиков в сопровождении разыскиваемого ФБР по обвинению в содействии терроризму гражданина США Туфика Марзука, который занимает сейчас один из руководящих постов в структурах Всемирного исламского фронта. Как утверждает все тот же источник, российский программист доставлен в один из секретных компьютерных центров и, возможно, вошел в состав рабочей группы, занимающейся «электронным терроризмом».
Lenta.ru
Я не сразу поверил в то, что прочел. Просто не поверил печатным буквам, словам, составленным из них. Но затем все понял. Раньше, чем меня отпустят, в ФСБ, в ФБР, не важно куда, попадет вся необходимая информация. Припрут к стенке и заставят выложить все. А потом — четверть века тюрьмы. Их же в пустыне не найдут, естественно… Скоты! Сволочи!!!
— Я вас ненавижу, — сказал я, глядя Марку в глаза. — Как же я вас всех ненавижу!
— Успокойтесь. — Он был невозмутим. — Жалко терять такого ценного сотрудника. Поставьте себя на наше место.
— Ненавижу, — с трудом сдерживаясь, повторил я.
— Пятьсот тысяч долларов вас устроят?
— Что?!
— Шестьсот… нет, семьсот тысяч. Ровно через год — пластическая операция, новый паспорт, и вы свободны. Что скажете насчет этого?
— Соглашайся, русский! — нагло встрял Танака с глупым смешком. — Вместе мы их всех уделаем к гребаной матери!
— Нет, — тихо, собрав все силы, ответил я. — Больше ничего вы от меня не добьетесь. Я вам больше не верю.
— Madonna рогса, чего же вам надо? — Марк всплеснул руками. — Если хотите, оставим вашу семью здесь, и игра будет продолжаться по тем же правилам… Хотите?
— Нет.
— Так чего же вы хотите в таком случае? Ну… миллион. Миллион долларов!
— Кру-у-уто! — взвыл Танака. — Очень круто! Внезапно у меня созрела совершенно безумная идея. Не знаю, откуда она взялась, почему почудилось, что надо сделать именно так. Но была стопроцентная уверенность: так надо. И никак иначе. Открыл рот и сказал:
— Хочу говорить лично с эмиром.
На минуту оба они, Марк и Танака, остолбенели. Паралич их хватил, подонков. Наслаждаясь зрелищем, я молчал. Марк первым пришел в себя:
— Но… зачем?
— Затем, что я работаю на него, а не на вас. Вы оба — никто. Я хочу говорить с Хаджи Абу Абдаллой. Это мое единственное условие.
— Парень, ты рехнулся, — тихо пробормотал японец. — У тебя съехала крыша.
— Это невозможно, — по-прежнему в полушоке, сказал Марк. — Кто вы вообще такой, чтобы…
— Я человек, выполнивший волю Аллаха. — Трудно поверить, но я произнес эти самые слова. — Аллах направил меня сюда, и Аллах помог нам создать вирус. Я заработал себе право говорить с посланцем Аллаха на Земле, со святым Махди.
На кой черт мне понадобился этот «посланец»?.. Он один принимает окончательные решения. Прийти и рассказать ему все как есть. Да! Поклониться в ноги, если нужно. Поцеловать туфлю, как папе римскому. Или как у Пушкина, в «Капитанской дочке»… в школе учили… только сам Пугачев казнит и милует… Бред. Однако это вообще единственный шанс выбраться отсюда. Просто — из дворца вон. Может, по пути удастся бежать или выйдет сдаться в плен генералу Дусту-му… Да, единственный шанс.
— Святой имам не разговаривает с неверными, — проронил Марк, продолжая лихорадочно обдумывать мои слова. На лице было написано.
Мой ответ был четок до предела:
— Тогда я приму ислам.
Летели ночью, как и в прошлый раз. Вместе с Томасом — Туфиком. Мурыжили меня недолго. Всего два дня. Потом подняли с койки глубоко за полночь, велели собираться. Томас ждал меня в вертолете. Кроме него — двое камуфляжных. Сонный, я еще не вполне сознавал, что происходит. Пришел в себя только в воздухе.
— Тебе повезло, русский. — Томас крепко хлопнул меня по плечу. — Ты даже сам не понимаешь, как тебе повезло.
Я промолчал.
— Хаджи слышал о вас. Он был очень рад, когда вы провернули эту затею с вирусом. Только поэтому дал согласие говорить с вами. Но учтите: не вздумайте ничего просить. Хаджи сам видит и знает, что нужно человеку. Не вздумайте с ним спорить, сохрани Аллах. Делайте все, что вам будет сказано. И имейте в виду: решение святого имама не в силах отменить никто на Земле. Если прикажет, будете работать на нас до гроба. А если решит, что достойны смерти, вас убьют немедленно.
— Не надо только пугать, — буркнул я. Перспектива встречи и беседы с человеком, за голову которого обещан миллиард долларов вознаграждения, не вызывала во мне почти никаких чувств. Я по-прежнему не воспринимал его всерьез. Террорист — да, преступник… Еще один сумасброд, угрожающий миру. Не папа римский, разве что Пугачев. Почти не волновался. Последние недели так измотали, что на волнение уже не хватало сил. Даже любопытство было каким-то вялым, ленивым. Страх? Нет, я не боялся. Самое худшее, что может произойти, — убьют. Всего-навсего. Но убивать меня собирались не раз. Один чечен чего стоит. Я хотел, в конце концов, только одного: чтобы жена и дочь попали в Москву, Чтобы этот самый святой имам лично распорядился освободить их. Вряд ли такой человек станет играть со мной в какие-нибудь игры, как Марк. Марку я не верил ни на грош. Абу Абдалле… на него я только надеялся. Хотел надеяться…
— К делу. — Голос Томаса отвлек меня от невеселых рассуждений. — Сейчас вы должны принять истинную веру. Нога неверного не может ступить на землю, освященную присутствием ал-Мехди. Вы готовы?
— Готов, — равнодушно ответил я.
Принять ислам в вертолете, летящем сквозь черную ночь над пустыней, — это было даже романтично. А если учесть, куда именно летит этот вертолет, и подавно.
— Христианин? — поинтересовался Томас.
— Нет. Атеист.
Как-то у нашей семьи отношения с Богом не сложились. Особенно если учесть деда — капитана НКВД.
— Это хорошо. Сейчас… — Он вынул ручку, блокнот, что-то написал на листке. Оторвал, подал мне.
— Вы должны сосредоточиться на мысли о том, что Аллах — единственный истинный Бог этого мира и всех иных бесчисленных миров, а Мохаммад — истинный пророк Аллаха. Потом прочтете вот эту фразу вслух, громко — и вы мусульманин.
— Так просто?
— Всеблагому не нужны ритуалы. Ему нужно чистое сердце человека.
— А обрезание? — Меня неприятно поразила мысль, что обрезание могут затеять прямо здесь.
— Достаточно просто произнести шахаду. Сосредоточьтесь, пожалуйста…
Вертолет гудел и трясся. Охранники дремали, зажав автоматы между коленей. За окном слоилась непроглядная тьма, словно мы неслись сквозь космос. Ни огонька, чернильно-густая пустота. Нужно было думать о чем-то возвышенном, о Боге. Но я думал о пустоте. О том, как одиноки мы сейчас в этом пустом ночном небе. Какое утлое, ничтожное убежище наша винтокрылая лодчонка, которую гонят сквозь воздух невидимые волны наших и чужих воль. Запертые в хрупком брюхе железной стрекозы, бесконечно чужие друг другу, с неизвестными нам самим мотивами, скрытыми на дне сердец, — до чего мы несчастны и одиноки! Пытаемся пересечь бездну, с ужасом выглядывая в окошко, надеемся хоть звезду увидеть, но там только мрак царит. Мягкие мясные куклы, вооруженные автоматами, скрывающиеся за металлическим панцирем… от кого? От врага, от смерти… от бездны… Пытаемся заполнить пустоту своими теплыми телами, выдавить, вытеснить ее из мира, проложить мостик сквозь бездонную пропасть… Чего же мы так боимся, на самом деле? Почему страх гонит нас сквозь ночь, заставляя крепче сжимать зубы — и руки на стволах оружия? Такие крохотные, беззащитные человеческие личинки… Терзающие себя и друг друга, чтобы заглушить темный ужас, преследующий нас по пятам, стоящий в суровом молчании за каждой дверью, за каждым окном. Кто он? Что он? Имеет ли размер и форму, наделен ли волей и чувствами? Или бесформен, абстрактен, размыт, и суть его — сама лишь засасывающая пустота, и ничего больше? Неужели это и есть Страх Божий — трепет живой, одушевленной плоти перед невидимой, смутной угрозой, перед колоссальным Ничто, проступающим из темных углов, сочащимся сквозь неплотно подогнанные доски, из которых наспех сколочен пестрый балаганчик человеческого мира… Холодок сквозняка, который ощущаешь сразу, стоит только на мгновение замереть в неподвижности… Жалобный скрип фанерной перегородки, на которую опирается снаружи тяжелым, каменным плечом Некто… И надрывная, на коленях, с плачем — молитва: только бы выдержала перегородка! Только бы она выдержала!
…Поднеся близко к глазам листок, исписанный торопливыми каракулями, я громко, внятно, удивляясь необычному звучанию собственного голоса, прочитал:
— «Ашхаду алля иляхаилляЛлах ва ашхаду анна Мухамма-дан расулюЛлах».
Ничего не произошло, небо не упало на землю. Охранники проснулись, вздрогнули, зыркнули на меня удивленно, пробормотали ту же формулу и опять уснули.
— Поздравляю, — сказал Томас. — Теперь вы мусульманин, наш брат. Ваше имя будет Искендер. Я научу вас молитвам. Пять раз в сутки мы возносим хвалы Аллаху, мир ему и благословение. Утренний намаз фаджр символизирует рождение человека. Дневной намаз зухр напоминает нам, что время идет и срок жизни сокращается с каждым мигом. Предвечерний намаз аср заставляет думать о том, что смерть может настигнуть нас в любую секунду, а намаз магриб, выполняемый сразу после захода солнца, символизирует саму смерть. Что же касается последнего намаза — иша, он свидетельствует о том, что все преходяще в этом мире тления, который мы называем дунье, и единственная цель, достойная человека, — вернуться на свою настоящую родину, в мир Ахират. Молитва — это разговор с Аллахом. Вы должны отнестись к этому очень, очень серьезно…
Приземлились на той же самой базе, «Наджам уль-джи-хад». Еще с воздуха я увидел многочисленные яркие костры, суетящихся людей. Мертвая тишина, которая при мне царила здесь ночами, сменилась толкотней и шумом праздника. Народу было гораздо больше: бродили по лагерю, громко и возбужденно болтали, пели песни. У центральной, белой палатки-шатра, ярко освещенной изнутри, я заметил роскошный длинный, сверкающий черным лаком лимузин. Неужели он прибыл из Афганистана на «кадиллаке» или «линкольне»? Или просто старая миллионерская привычка?..
Едва ступив на землю, мы были взяты в плотное кольцо охраной. Явно не те бывшие крестьяне, из которых здесь пытаются наскоро слепить солдат веры. Рослые плечистые подтянутые мужчины в черной униформе и начищенных ботах. Вооруженные чешскими «скорпио».
— Личная гвардия Хаджи, — шепнул мне Томас. — Их еще называют «арабские афганцы». Люди, прошедшие с имамом афганский джихад. Самые преданные его друзья.
«Афганцы» молча окружили нас и повели. В лагере никто не спал. Сидя у костров, муджахиды что-то бурно обсуждали, спорили. Наэлектризованная до предела атмосфера. Багровые отсветы пламени падали на бородатые морщинистые лица, вспыхивали в глазах яркими искрами. Не понимая их речи, я автоматически вычленял лишь несколько слов, звучавших постоянно: Хаджи, имам, Мехди… У одного из костров царило заметное оживление. Сгрудившись на почтительном расстоянии, человек, может быть, двадцать бородачей, замерев, прислушивались к разговору. Возле огня сидели шестеро или семеро счастливцев, среди которых был человек, которого я узнал сразу. Со спины. Высокий, сутулый, худой. В белой чалме. Что-то негромко объяснял собеседникам, делая правой рукой хорошо знакомые мне плавные жесты. Как бы ласково поглаживая невидимую кошку. Мы остановились. На лице Томаса — Туфика цвело благоговение. Один из «афганцев», неслышно ступая, пробрался к костру, наклонился над ухом Абу Абдаллы, что-то шепнул ему. Тот кивнул. Вернувшись, «афганец» крепко взял меня за локоть, повел к костру. Муджахиды почтительно расступились, расползлись в стороны, освободив место рядом со своим предводителем.
Приблизившись, я сел. Он был от меня на расстоянии протянутой руки, Террорист Номер Один. Тот, кого ненавидит весь цивилизованный мир. Самый знаменитый преступник за последние полвека. Хаджи Абу Абдалла. Эмир. Директор. Сокрытый имам. Ал-Мехди-ал-Мунтовар, объявляющий конец света. Человек, которого я совершенно не мог вообразить, представить во плоти и крови. И вот, сидит рядом со мной, поджав ноги, на соломенной толстой подстилке. Одетый в пятнистую простую униформу, поверх которой наброшено нечто вроде халата песочного цвета. Ладони покоятся на коленях. Сияют кроваво, отражая огонь, бриллианты часов. Стекает, струится на грудь холеная седая борода. В глаза ему я посмотреть, честно говоря, побоялся. Заметил только, что в жизни он совсем не такой старый, как на видео. И улыбается.
На меня с настороженным, опасным вниманием смотрели около полусотни горящих внимательных глаз. Таращились, пялились. Могли, наверное, в любой момент растерзать в клочки. В радиусе двадцати ближайших метров воцарилась гробовая тишина. Мертвая. Все ждали.
— Ассалам-алейкум, — ровным, спокойным голосом произнес Террорист Номер Один. Я знал уже, как надо правильно ответить.
— Уалейкум-ассалам уарахметулла-уабаракату… — пробормотал, запинаясь. Губы, язык не слушались, стали чужими и ватными. Мгновенно пересохло во рту, в носоглотке. Басмачам понравился мой вежливый ответ — закивали, даже пара улыбок, кажется, были.
Абу Абдалла внимательно, пристально посмотрел на меня. От этого взгляда что-то екнуло, дрогнуло внутри. Проскакали по коже быстрые мурашки. Как будто он действительно читал мысли. Абу Абдалла протянул в сторону руку, что-то сказал коротко. В протянутую ладонь тотчас услужливо и аккуратно вложили открытую банку говяжьей тушенки. Корова там была нарисована, на банке. Только сейчас я заметил, что люди у костра заняты едой. Он протянул мне тушенку, улыбнулся. Я взял ее, как гранату. Руки были ледяные, мокрые и скользкие. Пальцы дрожали. Один из боевиков подал нож. Восточное гостеприимство… С трудом унимая дрожь, я кое-как выковырял из банки мясо, протолкнул в рот, принялся жевать.
— Шукран, — произнес, еле ворочая онемевшими челюстями. Томас научил — означает «спасибо».
— Аффон.
И, как ни в чем не бывало, Абу Абдалла продолжил прерванный разговор. Сразу же забыл о моем существовании. Забыли и муджахиды, внимая своему кумиру. Лишь иногда я ловил на себе удивленно-неприязненные взгляды. Не прирезали бы в темном углу… Понемногу пришел в себя, согрелся. Съел тушенку. Спустя, может быть, час он наконец закончил речь. Словно повинуясь мысленному приказу вожака, муджахиды тотчас попятились от костра прочь, кланяясь. Мы остались одни. Снова подступил страх. Абу Абдалла смотрел на меня не мигая. От его взгляда в животе я чувствовал нестерпимый зуд. Он улыбнулся:
— Чего ты хочешь, русский? — спросил по-английски с округлым и мягким восточным акцентом.
— Справедливости, — полушепотом ответил я.
— Мы все каждый день молим Аллаха о справедливости. Но наши молитвы еще не исполнились. — Он погладил бороду. — Молись и ты, Искендер.
— Я верю, что только вы можете мне помочь… — Слова не лезли из глотки, застревали, царапались.
— Истинный мусульманин уповает только на Аллаха, мир ему и благословение, — спокойно ответил Абу Абдалла.
— Но ведь… ведь Аллах послал вас… Он улыбнулся снова:
— Всеблагой послал в мир каждого из нас, Искендер. И меня, и тебя. А истинный пророк Аллаха — Мохаммад, да воссияет его слава на небе и на земле.
Я не нашелся что возразить.
— Ты принял истинную веру, — произнес Абу Абдалла после долгой паузы. — Значит, теперь твои жизнь и смерть принадлежат только ему одному, Неизъяснимому. Разве не так?
— Так…
— Заслужи милость Аллаха, и она будет дарована тебе.
— Но… как это сделать?
— Долг каждого мусульманина — сражаться во имя веры. Завтра утром мы выступаем. Тебе дадут автомат. И пусть Благословенный решает, достоин ли ты того, что считаешь справедливостью.
Он замолчал, давая понять, что аудиенция окончена. Двое метнулись ко мне, подхватили за руки и поволокли прочь от костра, в темноту.
Утро следующего дня началось, разумеется, с молитвы. Новообращенный мусульманин Искендер, я всю ночь напролет учил текст инструкции, который составил для меня Томас. Затем повторял его как попугай, таращась на свои ладони, раскрытые перед лицом, и упираясь лбом в землю. Церемония, то бишь намаз, оказалась чертовски сложной. В моем случае она называлась ракаат — намаз для новичков. Сначала требовалось встать прямо, лицом в сторону Мекки, расстояние между стопами — четыре пальца, и произнести вслух: «Намереваюсь ради Аллаха совершить фард сегодняшнего намаза». Затем поднимаются обе руки, пальцы раздвинуты, до уровня ушей. Большие пальцы касаются мочек. Потом произносится формула такбир ифтитах (цитировать нет смысла). Концентрируем взгляд на месте сажда — точки, которой касаются головой при земном поклоне. Правая рука кладется ладонью на левую руку, мизинец и большой палец охватывают запястье. Сложенные таким образом руки опускаем ниже пупка и читаем формулу кыйям. Делаем поясной поклон, произнося при этом «Аллаху акбар». Поясной поклон, руку, выполняется так. Взгляд сосредоточен на кончиках пальцев ног. Голова и спина — на одном уровне, параллельно полу. Ноги прямые. Пальцы рук обхватывают колени. Следом за тем — преклонение коленей, сажда. Опуститься на колени, опереться на обе руки, лбом и носом коснуться земли. Пальцы рук и ног направлены в сторону Каабы. Локти держим на весу, чтобы обязательно были открыты подмышки (скрупулезный Томас привел мне на сей счет мнение некоего аль-Бухари относительно того, как молился сам Мохаммад: «Отдалял руки от боков, широко расставляя их, так что была видна белизна его подмышек»), живот не касается бедер, пятки сомкнуты. Произносим «Аллаху акбар», садимся на пятки. Затем следует формула суб-ханаллах и еще один земной поклон. Это все первая фаза. Во второй фазе после второго сажда читается «Нет Бога, кроме Аллаха…», при этом на словах «ля илляха» указательный палец правой руки поднимается, а на «илля ллаху» — опускается. Потом заключительная фаза. Сидим на пятках, вес тела перенесен на левую ногу, правая чуть отодвинута в сторону, пальцы ее загнуты в сторону Мекки. Нужно сделать двойной салям. Поворачиваем голову вправо, взгляд — на плечо, произносим «Ассаляму алейкум уа рахматуллах». То же самое — в левую сторону…
Не знаю, как удалось мне зазубрить всю эту гимнастику, сопровождаемую длинными арабскими текстами. Но, так или иначе, наутро мой исхудалый оттопыренный зад занял свое место в длинных рядах муджахидских задов, выставленных напоказ свирепому Аллаху. Молились долго, с рвением, то распрямляясь, то снова падая ниц. С ужасом и отвращением я думал, что теперь эту комедию предстоит разыгрывать пять раз в день. Закончив, отправились завтракать. В продовольственной палатке, как и все, получил кусок черствой лепешки, упаковку сухих, твердокаменных фиников и флягу с водой. У остальных фляги уже были. Сухопарый длинноносый старик с козлиной реденькой бородкой наполнял их громадной кружкой из пластиковой бочки, вставляя в горлышко воронку. Моя фляга, исцарапанная, с вмятинами на боку и облупившейся краской, казалось, прошла Сталинград. Вода была теплая, затхлая, мерзкая. Козлобородый оглядел меня брезгливо, скривил губы, презрительно хмыкнул.
В соседней, хозяйственной, палатке мне выдали обмундирование. Стираные-перестираные, линялые, в заплатах штаны и куртку песочного цвета. Размера на полтора больше. Куртка мешком висела на тощих плечах, манжеты доставали до ногтей, а брюки просто не желали держаться. Вояка, мать твою… Бравый солдат Швейк. Еще были ботинки, ношенные и страшные, со сбитыми каблуками. Переобувшись, понял, что ногам каюк. Мало того что ботинки оказались тесны. Кожа, из которой они были сделаны, затвердела до состояния железного листа. Их, наверное, нужно было варить в кипятке сначала. Хромая и поддерживая руками штаны, поковылял прочь. За спиной грохнуло дружное ржание. Усевшись на песок, кое-как разорвал тишотку, скрутил кусок ткани и сделал себе что-то вроде пояса, затянув на животе тугим узлом. Закатал рукава куртки, застегнулся. Кто-то бесцеремонно схватил меня за плечо, заставил рывком встать. Передо мной стоял приземистый, рыжебородый и мрачный дядька, с ног до головы увешанный оружием. Выглядел он лет на сорок или больше — дочерна загорелый, с обветренным и грубым, как мои боты, морщинистым лицом уроженца пустыни. Что-то сказал мне раздраженно, я ни черта не понял. Пожал плечами. Дядька жестом указал следовать за ним.
На площадке у лагеря заканчивалось построение. Войско наше доблестное насчитывало тысячи полторы человек. Наверное, по дороге ожидалось подкрепление. Муджахиды выстраивались в колонны, смеялись, хлопали друг друга по плечу. Меня поставили в строй. Рыжий снял с плеча «АКМ», подал мне. Я взял оружие — старенький, с вытертым прикладом автомат, совершенно такой же, какой мы разбирали-собирали в школе на уроках военной подготовки. Вместе с автоматом я получил дополнительный рожок патронов, завернутый в грязную тряпку. Все, готовый воин ислама. Кое-как затолкав магазин в бездонный карман штанов и повесив «АКМ» на плечо, принялся озираться по сторонам. Чуть поодаль стояли шесть небольших бронетранспортеров «вай-иер» и грузовики. На броне и в кузовах достойны были ехать лишь избранные: «арабские афганцы», еще какие-то суровые типы, около двух сотен. Простая пехота шагала пешком. За грузовиками увидел здоровенный тягач с платформой. На платформу грузили бесконечно длинный лимузин имама. Сам Абу Абдалла уже разместился на одном из бронетранспортеров. Вчерашний камуфляж сменился ослепительно белым шелковым халатом до пят, у них это называется «габия». За поясом — виденный мной по ти-ви кинжал, на плече — автомат. Поднявшись в полный рост (только теперь я увидел, что Абу Абдалла — двухметровый гигант), простер руку и начал говорить. Ильич на броневике… После каждой длинной фразы следовала пауза, и муджахиды, потрясая оружием, неистово горланили «Аллаху акбар!». Рядом вертелся Томас — Туфик с цифровой видеокамерой. Снимал исторические события — первые дни Последнего джихада. Он здесь вроде фронтового корреспондента, решил я и не ошибся.
Закончив речь, Абу Абдалла сел на броню, и его «вай-пер» первым тронулся с места. Потянулась техника, затем мы. Рыжий оказался кем-то вроде старшины, командовал нашей сотней. Инвалидной командой, если точнее. Меня определили в самое захудалое подразделение, состоявшее сплошь из бывших местных землепашцев. Корявые длиннорукие кособокие мужики, выкопченные солнцем, как селедки, в выцветшей военной форме они смотрелись так же смешно, как и я. Кривоногие все какие-то, низкорослые, худые, штаны пузырятся на коленях. Пыльные, немытые, воняет от них как от старых псов — и потом, и зубной гнилью пополам с чесноком, и кислятиной, словно протухшим сыром. Хорошая компания. Единственным человеком, выглядевшим более-менее достойно, был сам командир. Рахмон его звали. Прикрикивал на свое стадо, заставлял шагать в ногу, мог и под ребра бесцеремонно пнуть. Мне он, не знаю отчего, понравился. Такой батька-старшина, который возится с салагами…
Ноги стер уже метров через пятьсот. Дикая, невыносимая боль. Водянки полопались, что-то мерзко хлюпало в ботинках. Еле тащился, едва-едва, через силу ковылял, сцепив зубы. Темп мы выдерживали приличный, мужики слева и справа от меня шагали как ни в чем не бывало, привычные. Вдобавок утренняя зябкая прохлада сменилась тяжелой безветренной жарой. Кожа моя, отвыкшая от солнца во дворце, синюшно-белая, как у забитого цыпленка, тотчас покраснела и горела жутким зудом. Лицо превратилось в пылающую болезненную маску, словно кипятком обваренное. Растрескались пересохшие губы. Любое движение лицевых мускулов отзывалось болью. Моргнуть было больно! Смачивал ладонь водой из фляги, кое-как освежал воспаленную кожу, но солнце мгновенно высушивало влагу. Казалось, оно прожигало меня насквозь. Начала кружиться голова, перед глазами вспыхивали быстрые серебряные искорки, пейзаж смазывался и плыл. Несколько раз я оступался, чуть не падал. Идущие сзади наталкивались на меня, безжалостно наподдавали твердыми как камень коленями. Поход сквозь сауну… Я обливался потом. Лило от самых корней волос до пяток. Запасы влаги в теле иссякали с каждой минутой. Смертельно хотелось пить. Никогда еще в жизни я не испытывал такой чудовищной жажды, кроме того страшного первого дня в зиндане. Но в яме со мной рядом были мои родные люди, Танюша, Еж… Где они, что с ними? Нет, нет, об этом лучше не думать. Любая посторонняя мысль сбивала с шага, заставляла спотыкаться. Пару раз Рахмон отпускал мне увесистые оплеухи. Чтобы не упасть, не свалиться в обморок, принялся считать шаги — от одного до десяти. Постепенно установился и ритм дыхания: три шага — вдох, три шага — выдох. Изо всех сил пытаясь концентрироваться на дыхании и ходьбе, брел, окутанный, словно в парной, горячим туманом. Воздух плавился, над барханами стояло зыбкое дрожащее марево. Выкатившись на середину неба, беспощадное солнце обрушивало на нас раскаленную прозрачную лаву. Сквозь прохудившиеся подошвы стопы жег накалившийся песок. Автомат казался тяжелым, как кусок рельса, ремешок его растирал плечо. Господи, думал я, Господи, дай мне сил не упасть и не окочуриться здесь, по дороге… Дай мне сил, Господи!..
Не знаю как, не знаю, каким чудом удалось доковылять до привала. В последние минуты казалось: иду не я, но заводной бесчувственный механизм, кукла. Когда колонна остановилась и прозвучала команда, просто упал вперед лицом, рухнул. Отключился, провалился в обморок, в беспамятство. Тотчас — жестокий пинок под ребра, потом — еще один. Проклятый Рахмон!.. Оказалось, пора молиться. Муджахиды выстроились рядами, раскрыли ладони перед собой. Снова речь Абу Абдаллы с бронетранспортера. У него просто страсть к речам. Я ждал как чуда того момента, когда можно будет опуститься на колени и задрать к небу жопу. Стоять было невыносимо. Прижавшись к раскаленному песку, снова отключился… снова пинок. Молились примерно полчаса. Думал, не переживу молитвы. Наверное, честь для мусульманина умереть в такой момент, не знаю. Аллах лишил меня этого удовольствия…
Природной тени, разумеется, нигде не было. По крайней мере для нас. Избранные отдыхали в тени бронетранспортеров и грузовиков. Абу Абдалла забрался в свой лимузин. Там ведь у него кондиционер, у гада, с тоской подумал я. Наша рота перекусывала на солнышке. Крестьянам этим было не привыкать, они вообще никак не реагировали на жару. Не обращали на нее внимания. С аппетитом уминали лепешки, грызли окаменелые финики, запивая водой, болтали. Открутив пробку фляги, я обнаружил, что воды осталось ровно на один маленький глоток. С тоской дососав воду, положил в рот безвкусный сухой финик, напоминавший морской голыш. Есть не хотелось. Вряд ли дотяну до вечера, отчетливо всплыло в мозгу. Вряд ли…
Рахмон опустился передо мной на корточки. Взял флягу, поболтал, бросил. Что-то неприязненно сказал. Ткнул пальцем в ботинок, жестом потребовал разуться. Подчинился. Стопы были перемазаны кровью и жижей из разодранных водянок. Сплошь покрытые ранами, в пятак каждая. Поцокав языком, Рахмон крепко ухватил меня за щиколотки и вдруг сунул обе стопы глубоко в раскаленный песок. Я взвыл от боли как дикий зверь. Словно обмакнул ноги в кипящий суп. Сопротивляться не было сил. Садист, не отпуская щиколоток, вынул мои стопы из песка, осмотрел внимательно. Раны присохли, затянулись. Природная медицина, если можно так выразиться. Что-то коротко бросив мне, встал и ушел. Вернулся минут через пять. С новой парой башмаков, поприличнее. И с двумя лоскутами грубой ткани. Обмотал мне портянками ноги, потребовал обуться. Так было действительно гораздо лучше. Просто никакого сравнения. Отлил мне воды из своей фляги. По его речи и мимике я понял, что воду надо расходовать бережно. Пить крошечными глотками. И не глотать сразу, но долго держать во рту. Еще принес мне тюрбан. Длинное полотенце из домотканого полотна. Показал, как надо повязывать. Жаль, не было зеркала: в тюрбане, красный, небритый и потный, я смотрелся, наверное, потрясающе.
— Спасибо, — сказал Рахмону зачем-то по-русски.
Тот кивнул, отошел в сторону.
Следующий переход одолел уже легче. Считал шаги, дышал, концентрировался. Ботинки пришлись точно впору, мягкие портянки защищали ногу. К концу дня был смертельно усталый, но живой. Однако после вечерней молитвы день не закончился. До глубокой ночи Рахмон учил меня собирать и разбирать «АКМ». Со школьных времен я, конечно, ничего не помнил. Собирать, разбирать, смазывать. До полного автоматизма. Не знаю, отчего он со мной нянчился. Может, приказ получил. Учитель он оказался неплохой, но вспыльчивый. За каждую ошибку я получал или злобный окрик, или тычок под ребра. Кулаки у «старшины» были будьте-нате: мозолистые, крепкие. Насилу откупившись от Советской армии, оказаться «молодым» в армии муджахидов. Даже смешно. Надеюсь, хоть дедовщины здесь нет. И нет в пустыне сортиров, которые нужно драить зубной щеткой.
Утром, после обязательной молитвы, тронулись в путь и к обеду достигли крохотного селения. Горстка полуразвалившихся глинобитных домиков с плоскими крышами, две-три чахлые пальмы. Народ, человек пятьдесят, высыпал нас встречать. Смотреть на них было страшно. Старики, женщины и дети. Отощавшие до такого состояния, что на ум приходил Аушвиц. Скелеты, обтянутые коричневой кожей. С втянутыми'щеками, с глазами, запавшими глубоко внутрь черепа. В лохмотьях, с трудом прикрывающих омерзительную наготу. Хрупкие черепа с трудом держатся на тощих, как палочки, морщинистых шеях. Беззубые шамкающие рты. Исковерканные шишковатые пальцы. Ужасные женщины без возраста, у которых вместо грудей — складки иссохшей кожи. Невыносимое зрелище — дети. С животами, раздутыми рахитом. Кривоногие карлики-пузыри с лицами древних старцев… Все они, эти жуткие люди, измученные многолетним жестоким голодом, падали, счастливые, ниц перед «вайпером» Абу Абдаллы. Встречали его как Бога. Как пророка Мохаммада, явившегося к ним со страниц Корана. В белоснежном одеянии, с бриллиантовыми часами, Террорист Номер Один выглядел здесь существом с другой планеты. Или сказочным джинном, такой у него был вид. Пока он обеими рукам благословлял несчастных со своего бронетранспортера, сбоку подогнали грузовик. «Арабские афганцы» принялись выгружать на землю мешки с мукой, ящики с тушенкой и сушеными финиками. Голодные вздрогнули, как животные. Только присутствие имама удерживало их от того, чтобы не наброситься на еду, не разорвать мешки и ящики в мелкие куски. Что-то каннибальское было в глазах, первобытно-звериное. Абу Абдалла величественно и медленно спустился с бронетранспортера, принялся лично раздавать финики и тушенку. Люди принимали банки и пластиковые упаковки с благоговением, с невыразимым немым восторгом. Томас — Туфик снимал, суетился. Бегал вокруг, искал выгодный ракурс. Какие выйдут замечательные, черт побери, кадры! Мне стало противно до рвоты. Вслед за едой пошли ящики медикаментов. Один из стариков, с ног до головы изъеденный какой-то кожной болезнью, схватил одну из коробок, опрометью кинулся прочь. Хохотал, пробегая мимо меня, разевая рот с торчащими обломками желтых сгнивших зубов. Но, не рассчитав, видимо, силы, упал, выронил коробку. Упаковки аспирина «Байер» рассыпались у моих ног. Я присел на корточки, помогая старику собрать таблетки. Любопытства ради взглянул на срок годности — 12.07.2000 стояло на кон-валюте. Просроченные давным-давно! Что же он так, этот Мехди…
Сопровождаемые криками «Аллаху акбар!», отправились дальше. Примерно через час головной бронетранспортер вдруг остановился. Остановилась и колонна, но команды начать привал не было. Абу Абдалла слез со своего «вайпера», в окружении молчаливых «афганцев» пошел в сторону. Кто-то услужливо постелил на песок коврик. Сел. Томас установил перед ним свою камеру на треноге. Сразу после этого двое муджахидов торжественно, как курсанты у знамени, встали слева и справа возле своего предводителя, натянули на лица черные маски. Я уже понял, что это спектакль — маски. Сценические костюмы. Остальные отошли в сторону, образовав круг. Абу Абдалла начал говорить в камеру. Очередная речь, новая проповедь. Мусульманскому Наполеону пришла в голову свежая идея, которую необходимо запечатлеть для благодарного человечества. Для той части человечества, которая останется в живых, если сбудутся недвусмысленные пророчества этого типа…
Речь длилась долго, более двух часов. Абу Абдалла что-то обстоятельно пояснял невидимым слушателям, развивал какие-то мысли. Говорил артистично и убедительно. Жаль, я не понимал ни слова, да и стоял далеко, ничего не было слышно. Мы жарились на солнце, в строю. Никто не посмел покинуть колонну и сесть. На лицах муджахидов читалось бесконечное уважение к их идолу. Наверное, они и до вечера готовы были так стоять, без движения…
Вечером меня нашел Томас, потащил в палатку. Нужно было срочно передать бесценные кадры по Интернету для катарской телекомпании «Аль-Джазира». Спутниковая связь почему-то сбоила. Я возился с ней долго, но настроил в конце концов. Коротко расспросив меня о новых впечатлениях, он принялся пересказывать содержание речи:
— Хаджи говорил сегодня о милосердии. Почти все суры священного Корана, ал-Коран ал-Керим, начинаются словами «Бисмилла ар-Рахмон ар-Рахим». Мы называем Аллаха «ар-Рахману» — «всемилостивый» и «ар-Рахииму» — «милосердный». Это означает, что подлинное милосердие доступно только ему одному, Всеблагому, который заповедал всем правоверным совершать закят, то есть подавать милостыню и помогать нуждающимся — творить садака. Сказано в хадисе, что садака уничтожает грехи, как вода гасит огонь, отгоняет болезни и закрывает путь к семидесяти видам зла. Аллах, мир ему и благословение, возместит ущерб дающему садака и поможет одержать победу над врагами. Заповедь о закяте — четвертая из пяти величайших заповедей Аллаха, мир ему и благословение. Люди не могут быть по-настоящему добры, если не веруют. Но даже искренне верующий человек не способен проявить подлинное милосердие, поскольку все души в нынешнее время слишком загрязнены эгоизмом. Однако Коран требует от мусульманина творить закят с чистым сердцем. Как же в таком случае соблюсти заповедь? Ответ простой. Акт высшего милосердия, которое только доступно мусульманину, — убивать врагов Аллаха. Здесь не может быть никакого эгоизма, поскольку такое убийство совершается исключительно ради веры. А любое действие, лишенное эгоизма, есть великая заслуга перед Всеблагим. Милосердие же здесь двояко. С одной стороны, мертвый враг ислама не сможет больше причинить вреда мусульманам, чем исполняется заповедь о помощи нуждающимся. С другой стороны, душа кафира, насильственно освобожденная от тела, искупает таким образом часть своих грехов. Хаджи учит, что мусульманин, принявший участие в джихаде, является более милосердным, чем тот, кто подает нищему кусок хлеба.
Железная логика…
— И часто он произносит такие речи? — поинтересовался я. — Всякий раз, когда есть вдохновение?
— Это не вдохновение, это прозрение — кашф, — авторитетно пояснил Томас. — Только великие святые получают от Всеблагого кашф так часто, как Хаджи. Аллах ниспосылает имаму нур, то есть свет, и в сиянии этого света имам видит Истину так же отчетливо, как вы видите меня. Даже еще яснее, ибо нет ничего сокрытого перед лицом Непостижимого.
— Что же это за Истина, разъясните? Я ведь теперь мусульманин, имею право знать…
— Какой же вы мусульманин? — саркастически усмехнулся Томас. — Вы человек, заблудившийся в пустыне, которого согласился взять с собой большой караван. Но Хаджи сказал, что вы скоро покинете нас. Очень скоро.
— Когда же?
— Когда этого пожелает Аллах, разумеется. — И он, взяв за локоть, повел меня к выходу.
…Поход продолжался уже неделю. Медленно двигались через пустыню, молились, слушали проповеди. Ночами жгли костры из сухого верблюжьего дерьма. Оказывается, отличное топливо! Легкое, быстро разгорается, дает много тепла. В одном из грузовиков везли мешками верблюжье дерьмо — мелкие катышки, напоминавшие нашу жужелку — шлак. Еще Рахмон научил меня печь лепешки в раскаленном песке. Очень просто: мука, вода, соль, суешь в песок — и спустя четверть часа лепешка готова. Нам сдались без боя полтора десятка селений, где Абу Абдаллу встречали как самого Бога. Попали в одно селение, где добывали соль. Страшно. Люди вкалывают на солнце, кожа белая, иссушенная, красные глаза. Шахта в принципе неглубокая, но работать там можно только на четвереньках. Допотопными инструментами откалывают тридцатикилограммовые прямоугольные плиты, обтесывают кое-как и отдают приходящему за ними каравану. И селение, и работники — частная собственность караванщика. Он платит гроши, а чаще — мукой или крупой. Обыкновенное рабство. А соль караван везет черт знает куда — через всю Сахару, в Тимбукту. Абу Абдалла сделал очередной красивый жест: выкупил деревню у караванщика. Зачем — непонятно. И'сам, по-моему, не знал, зачем подарил рабам свободу. Главное — подарил.
Казалось, зловещий генерал Дустум растаял, растворился в воздухе. Никто не послал в нашу сторону ни единой пули. На лицах муджахидов читалась святая уверенность в том, что они победоносно прошагают хоть до самого Нью-Йорка, и море расступится перед их имамом, как было с пророком Мусой, Моисеем. Я обвыкся, смирился с жарой, загорел дочерна, отпустил шикарную бороду. Начал понимать отдельные арабские слова. Тревога не отпускала. Триумфальный рейд выглядел прямой дорогой в хорошо расставленную ловушку, в западню. Много раз я пытался разузнать у Томаса — Туфика, как обстоят дела, но он отвечал мне цитатами из Корана. Скорее всего дела были не очень. Рассуждая логически, я пришел к выводу, что Дустуму невыгодна война в песках. Он ждет нас на подступах к столице. Ждет, пока мы окончательно уверимся в своей непобедимости. Расслабимся, утратим боевой дух. Каждый день из-за барханов подтягивалось подкрепление — от крошечных, в дюжину бойцов, отрядов до многолюдных берберских бригад. Тысячи три нас уже было, не меньше. Интересно, сколько тысяч у Абделькадера Дустума?..
Чем ближе подходили к столице, к краю пустыни, тем осторожнее становились наши командиры. Теперь, прежде чем начать дневной переход, вперед высылались отряды разведчиков. Смешно, но даже это Томас — Туфик объяснял с помощью Корана: «Пророк послал к Басба разведку, чтобы разузнать, что делает караван Абу Суфьяна». Однажды вечером Рахмон срочно собрал наше убогое подразделение — видимо, получил приказ. Выглядел обеспокоенным, встревоженным, много суетился. Отобрал пятнадцать человек, и меня вместе с ними. Усадил у костра, раздал тушенку, лепешки и финики, заставил плотно поесть и напиться крепкого горького кофе. Проверил у всех оружие, обмундирование. Было ему очень не по себе, Рахмону. Что-то чувствовал. И совсем не радовался, что я попал в группу. Вряд ли взял бы он меня по своей воле. Муджахиды с самого начала терпели мое присутствие, но держались всегда в стороне. Никто даже не поздоровался ни разу. Чужой есть чужой. Потенциальный предатель. И вот теперь предстояло идти в ночь. Всем вместе. Рахмон что-то подробно объяснял, давал инструкции, в которых я не понимал ни бельмеса. Чтобы не выглядеть последним идиотом, демонстративно громко щелкнул затвором, проверил боезапас, подтянул шнурки на ботинках, улыбнулся через силу: готов. Рахмон глянул на меня, грустно покачал головой. Затем принялись молиться. Во мне проснулось что-то мальчишеское: надо же, идем на разведку, с автоматами, как на войне… Я тогда еще не совсем понимал, что мы на войне. На настоящей войне. Все выглядело костюмированной драмой, спектаклем. Особенно живописно смотрелись вооруженные берберы на своих сухопарых злых верблюдах. «Лоуренс Аравийский», был такой фильм…
После полуночи из ниоткуда выкатилась, как серебряная монета, громадная луна. Барханы засеребрились, словно на них выступил искрящийся иней. Шагая по едва заметной тропе и стуча зубами от холода, я любовался нереальным зимним пейзажем. Казалось, еще немного — и звезды полетят на землю крупными пушистыми хлопьями, завьюжит и пойдет кружить по пустыне бесноватая февральская метель. Залитая холодным лунным серебром, невысокая горная гряда, к которой мы направлялись, казалась могучим айсбергом, возвышавшимся среди оледенелого моря. Горстка бородатых замерзших людей, мы были вроде одиноких полярников, бредущих сквозь царство холода и мрака в неведомую даль. Тишина стояла такая, что не хотелось верить звукам собственного дыхания, торопливым ударам сердца. Заколдованный край, заколдованный мир… День и ночь несовместимы между собой, их невозможно поставить рядом, объединить в сутки. Расстояние между небом и землей ощущаешь длиной своего позвоночника. Лица идущих рядом настолько чужие, что даже перестаешь их бояться. Все нереально, все перевернуто с ног на голову. Какая-то изнанка мироздания, обратная сторона… Ведь верили же люди когда-то, что Земля полая и мы живем внутри. А кто тогда — снаружи? Я чувствовал даже не страх — какое-то странное недоумение. Как если бы очутился в мастерской Господа Бога и застал его за работой. Обдумывающего, как исправить очередную несуразицу. Ошибку в алгоритме. Мне вдруг показалось, что я увидел нечто запретное. Незримого механика, который является ночами и тайком ремонтирует механизм, возится с неподатливыми болтами и гайками. Словно вор, пробирается он через окошко при свете луны. Виновато оглядываясь по сторонам, позвякивает инструментами… И более всего на свете хочет, чтобы машина работала — пусть кое-как, пусть со скрипом, но только не остановилась бы. Только бы не встал, не замер конвейер…
Рахмон вскинул руку. Остановились, замерли. Тропа шла между двумя приземистыми, но крутыми, с отвесными и плоскими, как дверцы шкафа, стенами кусками скальной породы. Блестящий камень отливал скорбным ледяным блеском, черный и студеный. За этой парой, Сциллой и Харибдой, начиналось нечто вроде неглубокого ущелья, ложбины. Тень, падавшая от правой скалы, наполняла ее густой и неподвижной угрюмой темнотой. Рахмон обернулся, посмотрел на нас, заглянул каждому в глаза. В лунном свете, преображавшем предметы, мы выглядели странно, непохожие на себя дневных. Какая-то бледная печаль сошла на грубые, неумелой топорной резьбы, бородатые лица, придавая им утонченную изысканность венецианской маски. Отрешенные, покрытые потусторонним глянцем, со странной глубиной, открывшейся во взглядах, муджахиды напряженно всматривались в ночь, которая беззвучно плескалась в каменной чаше. Пейзаж был спокоен и нем, как фотография. Даже ветер стих, перестал шуметь сухими ветвями редкого колючего кустарника, который можно было принять за сидящие на корточках фигуры врагов. Потоптавшись в нерешительности еще несколько минут, осторожно двинулись дальше. Тропа уверенно вела все глубже в ущелье, изгибаясь, сдавленная до боли отвесными стенами. Что там, впереди, куда мы идем, — я не знал. Чувствовал только каким-то открывшимся внезапно звериным нюхом — опасность. Не стоит туда ходить, бормотал настойчивый некто, укрывшийся за грудной клеткой, не стоит, не стоит… Думаю, муджахиды ощущали то же самое, и Рахмон — первый. По тому, как мягко он ступал, переливаясь беззвучно с ноги на ногу, как вертел головой в разные стороны, как вскидывал руку при малейшем шорохе, я чувствовал: командиру не по себе. Позиция была абсолютно невыгодной для боя. В узкой каменной щели мы беззащитны как куры, стоит лишь противнику блокировать выход. Автоматчики на скалистом гребне могли расстреливать нас не целясь. Но автоматчиков пока не было. Задрав высоко голову, я увидел, как сонное небо перечертила быстрая хвостатая комета. «Загадай желание», — говорила когда-то мама. «Выбраться бы отсюда живым! — вдруг плеснула отчаянная мысль. — Только бы живым вернуться!»
К счастью великому, опасный участок скоро кончился. Скалы немного попятились, давая волю тропе, а затем и вовсе разбежались в стороны, обнаружив крохотную, в десяток кубиков-домов, деревню. Наверное, это и есть наша цель, решил я. Обследовать, проверить селение, чтобы затем, ясным днем, имам мог безбоязненно явиться сюда и вершить благодеяния. Домишки выглядели убого и мирно, облепленные клочьями неподвижного черного воздуха, как ватой. Укутанные в нее, как елочные игрушки, спали еще глубже, наверное, чем их голодные, с урчащими вздутыми животами, обитатели. Полумертвые вообще от голода, как и все люди, населяющие эти поганые места. Если бы не шалая собака, которая ни с того ни с сего принялась хрипло и отрывисто лаять, деревня напоминала заброшенное кладбище египетских каких-то времен с печальными, разграбленными гробницами. Услыхав отрывистое гавканье, Рахмон застыл на мгновение столбом, затем резким жестом велел нам всем немедленно лечь на землю. Послушно повалились, ткнулись носами в щебенистый грунт. Нас ли почуяла собака? Или кого-то другого? Мне было нехорошо. Тяжелой, бессловесной тушей навалился удушливый страх. Ладони, холодные и липкие, вцепились в оружие. Никогда еще автомат не казался мне роднее и ближе всего на свете, спасательным кругом настоящим. Жилка, которая билась на виске, отзывалась внутри черепа колокольным звоном. Равнодушная луна скрупулезно обнажила все детали пейзажа, от мелких остроугольных камешков до круторогих скал. Скрываясь от ее беспощадного света, мы вжимались в упругую, неподатливую мглу, словно продавливали в ней формы своих тел. Пес то успокаивался, то вновь принимался за свое. Эхо подхватывало, усиливало, умножало звонкий лай. Казалось, поблизости бродит целая свора длинноногих, облезлых, злобных и неугомонных бездомных собак. Приказа вставать не было. Скрывшись за высоким, в рост человека, треугольным камнем, Рахмон наблюдал за деревней. Как по мне, никаких признаков жизни в деревне не появилось. Пес разве что… ну подумаешь, пес. Трудно сказать, сколько длилось невыносимое ожидание. Любой посторонний звук воспринимался как сигнал тревоги, мы боялись пошевелиться, двинуть рукой или ногой. Мышцы затекли и мучительно ныли, пробирал до костей холод, сводило суставы жгутами судороги. Только облачка сизого пара поднимались в воздух и быстро таяли.
Наконец Рахмон вынырнул из-за камня длиннорукой тенью, подал знак. Осторожно, как по минному полю, начали спускаться. Метров через сто разбились на три группы, по пять человек. Моя, с Рахмоном во главе, двигалась прямо вперед, две другие заходили слева и справа. Если я правильно понял язык жестов (уже часа два никто из нас не проронил и слова), решено было встретиться на противоположной стороне долины, у смутно серевшей сквозь темень полуразрушенной мечети. Дождавшись, пока звуки шагов ушедших в ночь муджахидов перестали быть слышны, Рахмон снял автомат с плеча, взял его наперевес и негромко вздохнул. Вздох вышел слишком печальный какой-то. Обреченный.
Деревня действительно будто вымерла. Даже пес беспокойный, и тот заткнулся. Мрачные, насупленные, неприветливые, стояли дома-гробницы с узкими окошками, за которыми клубилась сплошная чернота. Каждый из домов мы брали в кольцо, осматривали со всех сторон, обнюхивали. Никаких признаков жизни. Если внутри кто-то и есть, эти люди не опаснее мертвецов. По крайней мере хотелось верить. От дома к дому, от дома к дому… Пока все спокойно, утешал я себя, пока что все абсолютно спокойно… Внезапно Рахмон вздрогнул, замер как вкопанный. По одной лишь его спине можно было понять: что-то не так, опасность! Жестом поманил нас к себе. Я подошел тоже и сразу увидел: на земле, вытянув длинные тощие лапы, лежала косматая дворняга с перерезанным горлом. Оскаленная пасть, полная свежей крови, серебристо-белые в лунном свете клыки, мертвый длинный язык вывалился набок и покрыт пылью. Я дико огляделся по сторонам, перехватило дыхание. Клянусь, если бы было куда убежать, пулей рванул бы с места! До того страшно стало. Они были где-то совсем рядом. Знали о нас, видели, наблюдали. И мы, если так, у них на мушке. В любую минуту…
Постояв еще немного, Рахмон решительно переступил через собаку и зашагал дальше. Мы потянулись следом, гуськом, дыша друг другу в затылок, держа оружие наперевес. До мечети оставалось не так уж далеко, какая-нибудь сотня метров. Обследовали еще несколько мертвых домов — тихо, спокойно, безлюдно. Напрасно вслушивались в оглушительную тишину: враг не подавал признаков жизни, не обнаруживал себя. Умиротворенный пейзаж, призрачный, печальный и загадочный, излучал ровные волны покоя. Луна зависла над самой головой, огромная и ясная, как безмолвный небесный колокол; теплые лучистые звезды мерцали в пространстве, словно там, в параллельной вселенной, раскинулся громадный ночной город с широкими, залитыми электрическим огнем авеню, ресторанами, небоскребами и миллионами бессонных бодрых прохожих, покинувших свои дома в поисках новых удовольствий. Здесь, среди древнего, от праотцев еще, великолепия, очень легко, казалось, можно было не думать о мертвой собаке, забыть о ней. Словно погружаясь в глубокие воды, мое сознание стремилось завернуться в мягкий кокон спасительного полусна — так ребенок прячется под одеяло, спасаясь от навязчивого кошмара.
Мы достигли мечети первыми. Ни одна, ни другая группы еще не появились, еще были в пути, Бесформенная постройка из саманного кирпича, казалось, пережила прямое попадание артиллерийского снаряда. Превратилась в живописную руину, наводившую на мысли о фараонах незапамятной древности. Прилепившись к скале, с остатками грубого резного орнамента, составленного из переплетения арабских букв, хрупкая, как спичечный домик, мечеть смотрелась отличным завершением пейзажа, его лучшей, важнейшей частью, строгим и мудрым напоминанием о жестокой бренности живого и неживого тоже. Спрятавшись в руинах, мы наконец ощутили себя в безопасности, оживились, расслабились. Кто-то чихнул с наслаждением, зажав нос и рот ладонью, кто-то шепотом прочитал ду'а, кто-то взялся перематывать портянку. Я сел на холодный обломок стены, вытянул ноги… От перенапряжения нервов, которое начинало теперь мучительно рассасываться, потянуло в сон. Веки отяжелели, навалились на глаза. Соснуть бы сейчас, забившись в темный угол, до рассвета. До тех пор, покуда не выйдет солнце, расставляя предметы по местам, пока не вспенится воздух привычным уже крутым банным жаром… Шорох, приглушенный топот — две другие пятерки, озираясь по сторонам, втекли под спасительную тень саманной стены. Муджахиды сдержанно кхекхекали, вполголоса переговариваясь между собой, хлопали друг друга по плечам, посмеивались полушепотом. Испытывали, видимо, то же самое, что и я: боялись до колик, старались не обнаружить друг перед другом свой страх, сохранить лицо, выглядеть героями. Прекрасно знали, что предстоит еще обратный путь через мертвую деревню, где собака с перерезанным горлом медленно коченеет, покрытая лунными брызгами. Где прячутся во мгле неизвестные. Где летучей мышью носится, невидимая, смерть, выбирая себе добычу. Краем глаза я наблюдал вымученные улыбки, раздвигавшие волосатые щеки, лихорадочный, нездоровый блеск в глазах. Руки, которые упорно не желали лежать спокойно на коленях, принимаясь то копошиться в бороде, то поглаживать приклад автомата, то в десятый раз перевязывать превосходно, туго затянутые шнурки растоптанных ботинок. Чужие мне, мне же самому заклятые враги, эти люди вдруг сбросили с себя маски монстров, и я очень остро почувствовал, что сейчас, здесь нет никого роднее и ближе. Они были моей единственной надеждой, моей вооруженной охраной, моей козырной картой в поединке с неведомой и грозной силой судьбы. Только с ними, плечом к плечу, я мог вернуться в лагерь живым и невредимым. Под ветхими сводами древней мечети, в чужих горах, у края вымершей деревни, у порога смертельно опасной неизвестности, мир разломился, как плитка шоколада, на две неравных части: «мы» — и «они». «Наши» — «ненаши». Они наводняли собой мглу, роились в ней, как опасные насекомые со стальными жалами, скрывались за каждым камнем, готовя к бою оружие. Мы сидели тесным кружком, с автоматами на коленях — чуть больше дюжины млекопитающих существ с мягкими уязвимыми телами, стремясь продлить передышку, паузу… Никогда раньше я не ощущал такого странного, кровного родства. Родства превыше языка и нации, религии и вражды. Основанного на простых вещах: жизни и смерти. Перед лицом пугающего нечто, перед лицом безликой силы, притаившейся в нескольких шагах, мы неудержимо, невольно сливались в одно целое, в общую плоть. Я понял наконец, что такое настоящая безопасность… Это когда рядом с тобой, и слева, и справа, — такие же, как ты, испуганные вооруженные люди. Комок, ядро. Кулак, сжатый от страха до хруста в костях, до ногтей, впившихся глубоко в кожу. Когда перестаешь быть единицей, одиночкой, переплетая свои нервы, свои суетливые мысли с мыслями и нервами других…
Рахмон встал. Одернул куртку. Пригладил рыжую бороду, покрепче ухватил автомат обеими руками. Стало ясно: пора. Рахмон пошел первым. Долго стоял у стены, словно прирос к ней, затем с мукой отлепился, сделал несколько шагов вперед, водя стволом «АКМа» в разные стороны. Тихо. Сделал нам знак. Группы ушли по очереди, одна за другой, с разрывом в несколько минут, по тем же маршрутам. Двигались все быстро, споро. Скорее, скорее, скорее — прочь отсюда! Наша команда отправилась последней. Довольно быстро дошли до мертвой собаки, остановились все невольно. Постояли, взяв оружие на изготовку. Погрозили стволами застывшим домам с провалами черных окон. Отправились дальше, стараясь не сорваться на отчаянный бег. Наконец деревня осталась позади. Все мы, пятнадцать, собрались у того самого камня, где командир отдал приказ разделиться натрое. И вот — вернулись. Живые, здоровые. Сорокалетние мужики радовались как дети. Сверкали глазами, скалились, пританцовывали, ржали, прикрыв ладонями рты. Я тоже смеялся, чувствовал себя совершенно счастливым. «Аллаху акбар!» — тихо и хрипло сказал Рахмон, и мы откликнулись, громче, наверное, чем следовало бы: «Аллаху акбар!»
…В какой именно момент ударил пулемет, сказать не могу. Помню, двигались цепочкой сквозь ущелье, в самом узком его месте, как вдруг над головами оглушительно загремело.
Пули шибанули о скалу, высекая искры и острые осколки, брызнувшие в разные стороны. Чудовищное эхо, многократно усилив гром, обрушило на нас похожую на камнепад свирепую лавину звуков, от которой лопались барабанные перепонки. Закричав страшно, я сразу упал ничком, обхватив голову руками. Били из нескольких точек, сверху. Пули отвратительно тонко свистели слева, справа, везде, рассекая воздух на мелкие обрывки. Я чувствовал дикую, ни с чем не сравнимую панику. Зажал уши ладонями, стиснул веки, пытаясь врасти в землю, исчезнуть, превратиться в ничто — лишь бы только не слышать этого проклятого грохота! Рядом, в двух шагах, кто-то тонко, по-девичьи как-то, взвизгнул и рухнул со мною бок о бок, больно ударив коленом. В нос шибануло горячим запахом, пороховой гарью пополам с кровью. Смертельно раненный муджахид корчился и хрипел, ерзал, завывая от боли, как-то странно, по-звериному ухал, суча ногами. Я не мог, боялся глаза открыть, чтобы не видеть его агонии. Где-то совсем близко застучали наши автоматы, заревел, надсаживаясь, Рахмон. Полыхнуло ослепительным заревом, ущелье вздрогнуло — взорвалась граната, потом еще одна. Раненый уже не стонал, только дрожал мелко, лишь изредка глубоко, навзрыд охал. Пытаясь бежать от невыносимых звуков, спрятаться от них в какой-нибудь потаенной точке мозга, я не мог различить во всеобщей канонаде, где стреляют чужие, где — свои. Казалось, все хотят убить одного меня, стреляют, ведут по мне прицельный огонь. Страх выплеснулся, как сбежавшее молоко, затопил сознание. Мышцы одеревенели, руки и ноги перестали слушаться, словно в параличе. Тело вообще отказалось служить. Оно как бы обрело собственный рассудок и желало лишь одного — лежать, лежать, прятаться. В голове разлилось свинцовое отупение — я не мог совершенно сознавать, что происходит, как быть, что делать. Мыслить не мог абсолютно. Не животный даже страх смерти, нет — просто оглушенность, отключка, как шнур выдернули из розетки. Все, что происходило снаружи — бой, перестрелка, взрывы, вздохи раненого, — отдалялось с неудержимой быстротой, затягивалось сплошным туманом, перемещаясь куда-то в параллельный мир, к которому я был непричастен.
Внезапно я ощутил движение. Некая сила пошевелила лежавшего рядом человека, он громко застонал, а потом вдруг умолк на оборванной ноте, замер. Кто-то присел рядом на корточки, пробормотал сипло несколько слов, называя имя мертвого — Рауф, затем сильные руки легли мне на плечи и перевернули мое тело. Открыв глаза, я увидел перекошенное лицо Рахмона. Спутавшаяся жесткая борода касалась моей щеки, кололась и щекотала. Зависнув сверху, он встряхнул меня, как мешок, выплюнул несколько злых слов, которые я понял без перевода. Мне даже не было стыдно, что я струсил, притворился убитым, — чувств вообще никаких не было. Откуда-то издалека, расплывчато, видел его лицо, налитые кровью глаза, слышал голос, но все это никак не складывалось в сознании, не стыковалось с понятиями и эмоциями, оставаясь лишь голыми фактами безразличного наблюдения. Вдруг Рахмон как-то нехорошо вздрогнул, дернул плечом, глаза его округлились, выкатившись из орбит, рот приоткрылся, и тонкая нитка блестящей слюны, скатившись по бороде, капнула мне на лоб. Не знаю почему, как так вышло, но именно эта капля, горячая и едкая, обожгла кожу и мгновенно привела меня в чувство. Словно включился внутри рубильник. Образы, звуки, мысли — все тотчас выстроилось в совершенном порядке, в прочной сцепке безупречного алгоритма. По-прежнему не владея собой, не в состоянии себя контролировать, я обрел при этом способность действовать быстро, четко и решительно, мгновенно сознавать и делать выводы. На лице Рахмона было написано болезненное, беспокойное удивление, которое затем сложилось в маску мучительной боли. Я приподнялся, обхватил его руками. Тотчас наполнились ладони горячим, липким. «Командир ранен», — сквозанула отчетливая мысль.
Бой катился дальше сплошной штормовой стеной. Наших осталось едва ли половина — дно ущелья было выложено трупами. Застывшие в уродливых позах, озаренные луной, мертвые смотрелись как бесполезные вещи, разбросанные в спешке по комнате. Лужицы крови напоминали разбрызганную ртуть. Живые, забившись в едва заметные щели, безнадежно палили по невидимым противникам, звеня гильзами о камень. Оставлять Рахмона на самом виду было нельзя. Крепко обхватив его под мышками, я потащил тело в сторону, к ближайшему крупному валуну. Тотчас нас заметили: пули звонко ударили о камень, зарылись в песок. Втянув голову в плечи, пыхтя и матерясь, я тащил Рахмона, отяжелевшего сразу на полтонны, деревянно-неподатливого, мокрого от крови. Упирался в землю-наждак подошвами и коленями, сдирал кожу лоскутами — казалось, до кости, однако полз. Полметра… еще полметра — вот тебе и метр… Прицельная очередь прошлась совсем рядом, у самых ног брызнули веселые фонтанчики песка. Я замер, подумал со злобной радостью: промахнулись, суки, мудаки! Кто же вас учил стрелять?.. Выждал чуть-чуть — пусть решат, что попали, — и рывком одолел еще целый метр. Рахмон застонал глухо, забормотал, заерзал. «Лежи!» — приказал я по-русски и снова пополз, пока не ощутил сильный толчок в правое плечо. Не успев задуматься, не отреагировав, одним броском продвинулся еще сантиметров на семьдесят — восемьдесят и почувствовал, как взмокла горячим куртка и онемела рука. Боли не было — по крайней мере я ее не чувствовал. Сигналы боли не доходили до сознания, терялись по дороге. Новая очередь — проклятый автоматчик решил все-таки нас добить. Меня не задело, но командиру досталась пара пуль. В ногу его, кажется, ранило. Зубы сцепил, не проронил ни слова, держался. Наконец-то муджахиды догадались, что происходит. Один, перекатываясь по земле, бросился к нам. Приложил автомат к плечу, дал короткую прицельную очередь, потом еще одну. «Аллаху акбар!» — что есть силы крикнул, задыхаясь, Рахмон и обмяк, потерял сознание. Через несколько мгновений нас прикрывали уже трое. Тот гад, что лупил по нам с гребня скалы, заткнулся. Без сознания, командир сделался еще тяжелее, совсем неподъемный стал. Спасительный валун был близко, в паре шагов. «Ну давай, мать твою! — рычал я, одолевая сантиметр за сантиметром, опираясь на бесчувственное плечо и волоча единственной действующей рукой тяжелого, как вагон, Рахмона. — Ну, мать твою, давай!..»
Чудо, что мы доползли, добрались. Привалив тело к каменной стене, я лег сам и почувствовал, что сил осталось совсем немного. На самом донышке. Кружилась голова, смертельно хотелось пить. Пули весело щелкали по внешней стороне валуна, дробно колотили. Из раненого моего плеча вовсю хлестала кровь. Прижав к этому месту ладонь, я с ужасом нащупал мокрую дыру — сначала в одежде, а потом и в теле. Один из тех, кто прикрывал нас, заполз за валун, отбросил дымящийся автомат, метнулся к Рахмону. Тот был еще жив, кажется, но оставалось ему немного. Две пули пробили грудную клетку, куртка — хоть выкручивай. Ощупав тело, муджахид испуганно глянул на меня. Совсем молодой безбородый парень, мальчишка. Я его запомнил еще в лагере: пел красивым высоким тенором что-то заунывное, меланхолическое, совсем невоенное. Сейчас уже не вспомнить, как его звали… А нет, вспомнил — Касим! Такой нескладный, как кузнечик, узкоплечий скуластый юнец с зелеными глазами. Сейчас он весь был перепачканный, чернолицый, дрожал. Такой страх, такой ужас читался на лице! Приблизился ко мне, заговорил, едва не сбиваясь на плач. Ни черта я не понял, указал ему пальцем на свою рану — перевяжи, мол, что ли. Если умеешь. Он кивнул, сорвал с головы тюрбан, размотал, пока не обнажилась чистая белая ткань. Разорвал на полосы, осторожно снял с меня куртку, принялся бинтовать. Умело так, хорошо это у него получалось, только руки холодные очень тряслись. Может, учился на доктора в свое время или санитаром работал. И все время в глаза заглядывал робко. Словно помощи, поддержки просил. Приговаривал: «Садири, садири…» Означает «друг». «Не бойся, пацан, — шептал я ему по-русски. — Ты, главное, не бойся. Мы же на войне, понял? Русские знаешь какую войну выиграли! Тебе и не снилось. А потом Афган. Сколько наших там полегло… Вот такие, как ты, в них и стреляли… Так что терпи, не ссы. У нас с тобой, пацан, теперь общий Афганистан, ясно? Один на всех…»
…Перекрывая грохот автоматных очередей, где-то наверху ухнули взрывы, и в поддержку им дружно затараторил пулемет. Бой в ущелье мгновенно стих. Ни одна пуля не стукнула больше о мой валун. Искромсанный воздух сгустился, сглаживая рубцы и шрамы. Пришла подмога. Все кончилось. Луна бледнела и таяла в розовеющем небе, напоминавшем плохо отмытый от крови пол. Ночь кончилась. Я внимательно посмотрел в зеленые глаза Касима, в его счастливые зеленые глаза, а потом все взялось мороком каким-то, Касим исчез, а вместе с ним и последние проблески мысли.
Улица, лето, день. Почему-то довольно пустынно, нет ни людей, ни автомашин. Я бреду, гуляю без особого смысла и цели. Внезапно останавливаюсь у канализационного люка, гляжу, удивленный, на железную крышку. Ничем не примечательная, совершенно обычная, тронута ржавчиной и покрыта нехитрым казенным орнаментом. В центре стоит номер, какие-то буквы и цифры, не разобрать. Эти вещи не имеют значения, но на ум приходит странная фраза: «Люк в преисподнюю». Меня вдруг начинает беспокоить, все ли в порядке с этой фразой? Не скрыт ли в ней некий незаметный подвох? Мне кажется, что фраза построена не совсем так, как положено. Что в ней есть определенная ошибка, в этих трех простых словах, однако какая же ошибка? Обкатываю фразу так и эдак, проверяю ее грамматически, нет ли несовпадения рода, числа, падежа, но грамматически она безупречна. Что же тогда? Несовпадение смысла, смысл, противоречащий сам себе? Люк в преисподнюю определенно тревожит меня, раздражает. Он не поддается разгадке, хотя на вид совершенно прост. Почему люк? Почему преисподнял? Может ли в преисподнюю вести именно люк, а не что-то другое, эскалатор, например? Но «эскалатор» не выглядит смешным или болезненно отчужденным словом, не топорщится, не торчит на дороге противотанковым ежом. Можно подобрать тысячи других комбинаций, и все они будут звучать более или менее сносно, но эта фраза словно нарочно выбивается из общего ряда, из лингвистического порядка. Она вроде трамплина, оттолкнувшись от которого можно прыгнуть в новый смысл, не имеющий ни малейшего отношения к люку в преисподнюю, так мне кажется. Однако как совершить такой прыжок, и зачем, и куда прыгать? Мною овладевает неприятное, горячечное возбуждение, своего рода умственный зуд, как будто в извилинах мозга, словно в лабиринте, заблудилось насекомое, заползшее в голову через ухо. Кажется, что стою у порога какого-то важного открытия, ответа на исключительной важности вопрос, не связанный, по сути, с проклятой фразой, которая служит лишь ключиком к замку. Я вращаю этот ключ так и сяк, но замок не поддается. В конце концов, удается найти силы для того, чтобы перестать думать о люке, и снова: улица, лето, день. Только теперь что-то не так с улицей. Она ведет в никуда, в чистое поле. Точнее, ощущение такое, что улицы никогда и не бывало вовсе, что улица — просто намеренное сгущение моих мыслей, перелившееся в пространственную форму. Поле огромно, ему нет конца. Поросло короткой выгоревшей травой, жесткой щетиной. Я один; тихо, покойно. Вместо неба — размытое бесцветное марево. Неожиданно земля под ногами приходит в движение. Она вибрирует, дрожит. Из-за горизонта катится отдаленный могучий гром. Приглядевшись, я вижу тучи пыли, а затем достаточно отчетливо различаю колоссальный конский табун. Гулким галопом скачут, несутся прямо на меня сотни и тысячи безумных коней. Паника! Мечусь в траве, пытаясь уйти с дороги этого смертоносного потока, но табун слишком огромен. От него не улизнуть. Онемев от ужаса, падаю ничком. Все ближе, ближе кони… Отчетливо слышны удары их копыт, от которых дрожит земля, и каждый из этих ударов способен легко раскроить мне череп. В клочья его разнести. Вот кони совсем рядом… и я ничего не понимаю. Они скачут прямо сквозь меня, я для них не существую. Встав и раскинув руки, не чувствую абсолютно ничего. Лишь мелькают потные, взмыленные конские спины, гремят копыта, яростно блестят круглые черные глаза, хлопают на ветру, как полотнища флагов, длинные гривы…
Прихожу в себя и понимаю, что это ветер треплет брезент моей палатки. Постепенно проявляясь, как изображение на фото, сквозь зыбкую ткань сна проступают очертания предметов, ощущений, мыслей. Я лежу на походном жестком топчане с перебинтованным накрепко плечом. Плечо болит. Тянущая, противная боль отдается в руку и под лопатку. Голова — неподъемное чугунное ядро. Пахнет чем-то медицинским, может, спиртом. Снаружи — веселые голоса, смех. Напрягшись, пытаюсь сосредоточиться, и серое пятно рядом с топчаном превращается в человеческую фигуру. Физически чувствую, как мой мозг пытается соединить ее черты с остальной информацией. Установить связь между разрозненными признаками, из которых состоит образ. Спустя некоторое время всплывает имя: Томас, он же Туфик. Следом за именем, тяжело, как жестяное ведро колодца, из мутной глубины поднимается новый глоток сознания. Затем еще и еще.
— Хвала Всемогущему, вы живы, — сказал Томас, заботливо поправляя кусок брезента, которым я был накрыт до самого подбородка. Мне показалось, от него вдруг повеяло живым человеческим теплом. Сочувствием даже.
— Вы о'кей?
— Да… почти…
Он широко улыбнулся, снова взялся поправлять брезент, подтыкая его с разных сторон.
— Честное слово, рад за вас. Вылезти из такой передряги, отделавшись парой царапин… Аллах на вашей стороне.
— А… что со мной было? — спросил слабым голосом, едва перемещая непослушный язык.
— Вы ничего не помните?
— Нет… то есть почти… Был бой, меня ранило… — Шестеренки памяти сделали еще один важный оборот, скрипнув, как колодезный ворот. — А Рахмон — он жив?
— Аллах забрал Рахмона в сады вечного покоя, — ответил Томас. — Где храбрые шахиды пируют, наслаждаясь плодами своих заслуг.
Я вздохнул.
— А что вообще произошло? Почему в нас стреляли? Кто?
— Местный отряд самообороны. Кафиры и враги Аллаха, мир ему и благословение, довели страну до того, что ни один феллах не может спать спокойно. Повсюду банды, мародеры, грабители… Обкладывают феллахов данью, грабят, убивают, насилуют. Во многих селениях мужчины, способные носить оружие, каждую ночь выходят на дежурство, чтобы защитить своих близких. К сожалению, они приняли вас за бандитов. Эта трагическая ошибка стоила жизни восьми муджахидам. Вы могли стать девятым…
— А что стало с ними? С теми…
— Они тоже покинули этот мир, — с неискренним огорчением ответил Томас и теперь уже полностью застегнул лицо на все свинцовые форменные пуговицы. — Трое дряхлых стариков и десятилетний мальчик. Имам опечален случившимся. Он распорядился похоронить убитых рядом с муд-жахидами. Имам сказал, что эти люди также заслужили милость Всеблагого и будут причтены к мученикам-шуади. Несмотря на то что по неведению подняли руку против воинов Аллаха, мир ему и благословение.
— Меня тяжело ранило?
— Нет, рана неопасная. Но был риск заражения крови. Трое суток вы пролежали без сознания. Только Неизъяснимый знал, вернетесь вы к нам или нет. По приказу святого имама врач не отходил от вас ни на минуту.
— Чем же я заслужил?..
— Вы показали себя героем. Настоящим храбрецом. Рискуя жизнью, спасали своего командира. Пролили кровь в бою. Сказано в хадисе: «С первой каплей крови Аллах прощает своего раба. Он видит свое место в раю, освобождается от мучений могилы и Большого Страха, одевается в одежды веры и освобождает семьдесят своих родственников». Мы, признаться, от вас не ожидали. Так что перед лицом Аллаха и его уммы вы достойны уважения. Возможно, теперь имам согласится удовлетворить вашу просьбу…
Следом за тем в палатку проник неяркий вечерний свет, и в открывшемся проеме показалась сутулая худая фигура в тюрбане. Томас робко попятился и рыбой выскользнул наружу, оставив меня наедине с Абу Абдаллой. Для разговоров я был еще слишком слаб, просить чего-то не желал в принципе.
— Месе эль-хаир. — Террорист Номер Один присел на складной матерчатый стул у края моего топчана.
— Good evening, — отозвался я.
Он был в обычном походном наряде: камуфляж, песочная накидка, неизменный кинжал за поясом, автомат. Не улыбался. Смотрел строго, серьезно, сосредоточенно. Мне опять стало не по себе от его пристального, проникающего сквозь кожу взгляда. Тихим, едва слышным отрешенным голосом произнес, стараясь преодолеть акцент:
— В последнем стихотворении Аль-Газали сказано:
Помолитесь Господу, который освободил меня И подготовил для меня место в высших из небес. До сегодняшнего дня я был мертв, хотя жил средь вас, Теперь я живу в истине, сбросив погребальные одежды.
Теперь я хочу задать тебе вопрос, Искендер. Представь себе, что ты проснулся однажды утром и вдруг понял, что Бог есть. Ты знаешь это так же отчетливо, как свое имя и свое тело. Ответь мне: что ты будешь делать?
— Не знаю, — пробормотал я. Думать о таких вещах совершенно не хотелось. И сил не было.
— Не торопись, Искендер. — Абу Абдалла мягко дотронулся до моего локтя. — От того, как ты ответишь на мой вопрос, зависит твое будущее. Подумай хорошенько.
И ни слова более не говоря, встал и покинул палатку.
…Бред, бред, бред! Ну какой же бред, черт возьми! Чего он от меня хочет, этот ненормальный? Чего добивается? В какую игру собирается со мной играть? Несмотря на слабость, я был в бешенстве. Что это за КВН? Что за дурацкий, в конце концов, вопрос! И как я должен на него ответить? Я в курсе, конечно, что в древней Японии дзенские мастера задавали своим ученикам логически неразрешимые задачи-коаны, чтобы те ломали над ними головы до полного просветления. У Тани моей был даже сборничек таких коанов. Она его читала на ночь, ей от этого спалось крепче. Но здесь, в этой обстановке, в этой ситуации?! Как именно зависит от моего ответа мое будущее?.. Ведь я ни черта не понимаю в исламе, в темной этой жестокой религии, только зазубрил как попка несколько молитв… Хорошо было бы, наверное, ответить цитатой из Корана или стихами какого-нибудь Га-зали, но откуда же мне все это знать? Ненормальный, свихнувшийся тип, придурок! Он что, хочет наставить меня на путь истинный? Он, виновный в гибели многих тысяч людей, кровавая собака, которой нужно поскорее перерезать глотку!.. Что бы я сделал, если?.. А что бы я, интересно, сделал?
Стояла глубокая ночь. Я не спал, думал. Вопрос, звучавший издевательски-бессмысленно, все больше казался пропастью, в которой можно исчезнуть без следа. Хорошо, давайте проиграем ситуацию, говорил я себе. Я просыпаюсь утром. Звенит будильник. Открываю глаза и вдруг обнаруживаю, что… Как это должно произойти? Над городом порхают ангелы? Звучат трубы Страшного суда? Чушь… Скорее всего в мире ничего не происходит, ничего не меняется. Все остается как было, на своих местах. Дома, машины, люди… Значит, что-то должно случиться во мне самом, в душе? Как понимать эти слова: «Ты знаешь это так же отчетливо, как свое имя и свое тело»? Мое имя… что такое имя? Комбинация звуков, связанная определенным образом с объектом, с человеком… Но раньше меня звали иначе, теперь зовут Искендер — значит, не имя важно, но осознание своей связи с ним… Осознание себя, самоосознание. То есть точно так же, как я осознаю свое собственное существование, я должен был бы осознать существование Бога. А как я осознаю себя? Мыслю — стало быть, существую… Однако мысли не есть я сам, мысли — моя производная, я генерирую, созидаю мысли. Вроде бы так. А что за мыслями? Нет, слишком сложно, слишком сложно… Возьмем другой элемент — тело. Как учили в школе, оно есть объективная реальность, данная нам в ощущениях и восприятиях. Но разве можно точно так же знать Бога? В этом случае он должен быть чем-то сугубо материальным, осязаемым, ощутимым. Или, может быть, не он сам, но его проявления? Нет, невозможно, тупик…
Хорошо, опустим эту предпосылку вообще. Начнем с того, что я просыпаюсь одним прекрасным утром и понимаю, что Бог есть. И что тогда? Этот вопрос возвышался передо мной неприступной Джомолунгмой. Ну что тогда? Ведь все равно встану, умоюсь, позавтракаю, пойду на работу. Все будет как всегда. Ой ли?.. Ну что, разве существование Бога должно помешать мне работать за компьютером или съесть гамбургер? Нет, наверное… Допустим, я действительно знаю, что Бог есть. Значит, нужно, видимо, быть добрее, стараться не грешить, не допускать злых мыслей… Ерунда, детский лепет. А что же? Жизнь должна как-то измениться решительно, стать совершенно другой — но какой? Что уйдет, что придет? Какое новое понимание?.. Нет, я совершенно, совершенно не мог себе этого представить. Не мог! Это был неодолимый парадокс, дьявольская загадка. Даже если взять теоретически… Бог есть, значит, я чувствую себя в безопасности… Я знаю, что жизнь моя каким-то образом предопределена, направлена свыше, и бояться, в сущности, нечего… Под ногами существует некий твердый фундамент, опора… Я не чувствую себя одиноким, покинутым, безвольным и несчастным. Смерти тоже скорее всего нет, а есть потусторонний мир или новое рождение… Но, по сути дела, речь идет только об одном-единственном ощущении, о чувстве защищенности, как в рекламе прокладок. Об отсутствии страха неизвестности. Но ведь это всего лишь чувство, нечто внутреннее, результат определенного сочетания в мозгу химических веществ. Штука, несомненно, важная… но при чем здесь Бог? И потом: с чего я взял, что буду чувствовать себя покойно и уверенно, как будто получил полис самой надежной в мире страховой компании? Бог, которому поклоняются эти люди, — совсем не тот добрый старик с бородой. И не Иисус распятый, предлагавший подставить щеку. Да и Иисус, если разобраться, не был записным добрячком. Грозил карами небесными… Если идти по логике, то, раз существует Бог, существуют также рай и ад, вечные муки для грешников… Жесткий, раз и навсегда расписанный ход вещей, стандарт, регламент, стиль поведения: молитвы, ритуалы, шариат… Нет, что-то здесь не то, не то, и все! Что-то другое желает слышать Хаджи Абу Абдалла. И самое противное: я остро чувствовал, что его нельзя обмануть. Сразу вычислит, распознает обман. Только искренность, ничего больше. А если говорить об искренности, я находился в полном, абсолютном тупике.
Теперь я хочу задать тебе вопрос, Искендер. Представь себе, что ты проснулся однажды утром и вдруг понял, что Бог есть. Ты знаешь это так же отчетливо, как свое имя и свое тело. Ответь мне: что ты будешь делать?
Что-я-буду-делать? Что? Не знаю, не знаю… Понятия не имею!
На меня нахлынуло то же самое чувство, как с идиотским люком в преисподнюю. Вопрос не рассчитан на логичный, взвешенный, разумный ответ. Вообще на ответ не рассчитан. Просто ключ вращается в замке. Замок находится в моем сознании, в моем сердце. Нужно как-то по-особенному повернуть этот ключик, и откроется дверь в нечто совершенно иное. В иной способ восприятия вещей. Точнее… Он хочет, чтобы я пережил. Иного варианта и быть не может! Никакой, даже самый изощренный мозг не родит правильный ответ. Ничего «правильного» здесь вовсе не существует. Любое слово, цитата — ложь, подлог, истертый медяк вместо золотой монеты. Хорошо, хорошо, оставим мысли о том, зачем ему это нужно. Как понять, что Бог есть? Как узнать на практике? До чего комичная на самом деле ситуация: требуется как можно скорее постичь окончательную Истину бытия. В темпе. Желательно до завтра. Чтобы изложить ее Террористу Номер Один и положить конец этому проклятому балагану. Чтобы увидеть жену и дочь. Вернуться в свой дом, в свой город, в свою страну. Я тихо засмеялся, как умалишенный, а затем провалился в сон.
Мне привиделась бесконечная высокая стена, простиравшаяся от горизонта до горизонта. Гладкая, отвесная, сложенная из искусно подогнанных одна к другой каменных плит. Как бы символ всех стен, существующих на свете: Берлинской, Китайской, Кремлевской, Стены Плача… Там, на другой половине мира, все совсем по-другому. Не так, как здесь, а так, как должно быть. Как задумано — не важно кем. Однако перебраться через стену я не могу, и цель всей моей жизни — идти вдоль нее и искать лазейку или ворота. Но камень гладок и тверд везде одинаково, стена неизменна в своей неприступности. Иду, иду, иду — может, уже несколько тысячелетий подряд. Так показалось мне во сне. И вдруг понимаю, что двигаюсь по кругу. Стена не собирается делить мир надвое — она просто окружает меня со всех сторон наподобие саркофага или тюремной камеры. Странствие по периметру кажется мне бесконечно долгим жизненным путем. Путем с большой буквы. Камеру или саркофаг, как ни назови, возвел я сам, своими руками. Она — мое убежище, моя крепость. Плита за плитой, я выкладывал стену своей гробницы, любовно подгоняя стыки, тщательно заделывая щели. Радуясь совершенству своего творения, в котором я хоть чуть-чуть, но уподобился ему, сотворившему меня. И сам же прекрасно знаю, что дверь не предусмотрена планом. Ее нет и не было никогда, двери. Камень надежен, прочен. Стена стоит намертво. Она может погибнуть только вместе со мной, потому что она — это я. Как кости скелета защищают живое, лишенное кожи сердце, заключенное в них, так мой замок защищает меня. От кого?.. От него!..
От его безумной воли, от его непостижимых замыслов, от его вездесущей власти. Пусть называется это как угодно — судьба, рок, случайность, карма, не важно. Ведь я знаю на самом деле, что он — есть. Знаю! Только боюсь себе в этом признаться. Атеист, материалист, компьютерщик, технарь — так называются камни, из которых сложена моя стена. Но, сам того не сознавая, именно затем и сложил я ее, чтобы оградить себя от этого. От того самого. И я ведь знаю на самом деле, что ни к черту эта стена не годится, что для него она просто не существует, ее нет. Вот в чем, оказывается, его изуверское милосердие: он позволил мне возвести стену, это смешное и жалкое убежище, которое только изнутри выглядит надежным, чтобы я не умер сразу от ужаса, увидев его лик. Раньше я упорно отказывался понимать, что означает страх Божий; мне казалось, это выдумки церковников, обычная человеческая ложь, призыв к покорности. Теперь я видел нечто совершенно иное, и ответ на вопрос Абу Абдаллы прорастал сквозь мои клетки, пронизывая тело невыносимой острой болью.
Если бы я проснулся однажды утром и вдруг понял, что Бог есть, я не смог бы жить дальше ни одной секунды, потому что человеческая душа не в состоянии вынести подобное адское переживание. Это проклятое утро стало бы последним в моей жизни.
Но следом за тем мой сон (вообще-то я не знаю, спал или бодрствовал) взорвали, как молнии, запавшие накрепко в память предсмертные строки Аль-Газали: «До сегодняшнего дня я был мертв, хотя жил средь вас, теперь я живу в истине, сбросив погребальные одежды». Мне почудилось, что речь идет именно об этом: смерть, которая означает начало новой жизни. Умереть, чтобы начать жить по-настоящему… До чего странный, загадочный тип этот Абу Абдалла! Ведь если допустить, что он не разыгрывает, не дурачит…
— Good morning! — приветствовал меня Томас — Туфик, входя в палатку.
— Morning, — еще не вполне придя в себя, как с другого берега, ответил я.
— По-арабски на пожелание доброго утра надо отвечать «сабах ан-нур». Запоминайте, пригодится.
— Шукран, — грамотно поблагодарил я за непрошеный совет.
— Алла-афу, — покровительственно усмехнулся Томас. — Как спалось? Вы уже можете идти со всеми на молитву?
— Да, — очень уверенно и твердо ответил я.
Муджахиды смотрели на меня совсем по-другому. Здоровались уважительно. Подходили, похлопывали по плечу, делали суровые и мужественные лица, называли, как Ка-сим, «садири». Я был чуть ли не героем. Даже приятно, но не более. Сон есть сон, но за пределами сна идет жестокая война, джихад. Мой личный, персональный Афганистан. Чужая пустыня и чужие горы, где я с оружием в руках оказался не по своей воле. И где единственная цель — не победить, но выжить. Просто выжить и вернуться домой, а потом забыть, забыть все, если удастся…
За завтраком Томас коротко описал мне положение дел. Как я и предполагал, генерал Дустум занял позиции на подступах к столице. Возвел линии оборонительных укреплений, перегруппировал силы. Американцы — на его стороне. В случае чего обещана всесторонняя военная поддержка. Авианосец «Джордж Вашингтон» приведен в состояние повышенной боевой готовности. ООН не дает санкции на проведение военной операции, но плевать хотели янки на ООН. Белый дом недвусмысленно заявил, что если муджахиды попытаются овладеть столицей, по ним (по нам!) будут нанесены ракетные удары. Ультиматум янки: немедленно сложить оружие и выдать американским властям Хаджи Абу Абдаллу. Армия Абделькадера Дустума примерно на треть меньше нашей, но вооружены они лучше, так что бои предстоят серьезные. Генерал, ради своего же престижа, желает разобраться с нами сам. Хорошие новости: к нам присоединился шейх Халиль ибн-Исхак с тысячей берберов. Шейх Халиль — давний друг Абу Абдаллы еще с тех пор, когда имам, изгнанный из своей страны, много лет скрывался в Судане. Опытный старый вояка, один из вождей Всемирного исламского фронта. Хаджи возлагает на него большие надежды. Кроме того, среди берберов — две сотни бывалых муджахидов, тайно пробравшихся из близлежащих арабских стран. Абу Абдалла поручил Халилю составить стратегический план наступления и провести реорганизацию войск. Так что сейчас все пашут по двенадцать — четырнадцать часов в сутки. Когда начнется операция, еще неясно. Очевидно, со дня на день. Всеми пятью ежедневными молитвами теперь руководит лично имам. Большие события начнутся совсем скоро.
И они начались, события. Но сначала нужно описать утренний намаз. Собственно, даже не сам намаз, в нем ничего особенного не было. Смысл в том, что проводил его лично Абу Абдалла. До сих пор мне ни разу не доводилось видеть, как он молится. Проповеди, «озарения» перед видеокамерой — но не сама молитва. В центре лагеря был сооружен невысокий деревянный помост. Собственно, это был разборной помост. Его собирали, складывали в грузовик и везли, а затем быстро сколачивали на каждой стоянке. Позади, как обычно, — белоснежный шатер имама и его президентский лимузин. В качестве декорации. Абу Абдалла тоже был в белом, на голове — длинный платок-куфия. Платок его старил, особенно в сочетании с длинной, почти полностью седой бородой. Придавал какую-то библейскую торжественность облику, ископаемый архаизм. Рыжие пески и барханы кругом, кривые одиночные скалы, словно последние, расшатанные и сточенные зубы в пасти дряхлого старца, прозрачно-голубое, без облачка, небо — и фигура в жреческом наряде среди толпы бородатых воинов, которые опускаются на колени. Непривычная, гортанная речь, ее своеобразный ритм и мелодия. Словно мы прошли сквозь дыру во времени и оказались в неправдоподобно далеком прошлом. Которое изучают теперь по невнятным «священным» книгам и остаткам сожженных тысячелетия назад городов. Я уже сумел отучить себя давать оценки происходящему, сравнивать его с кинофильмом или дурным сном, концентрируясь лишь на мысли о том, как поскорее выбраться из этого бесконечного кошмара. Но странная, магическая атмосфера затягивала, просачивалась незаметно сквозь барьеры. Жрец-воин-царь в белых одеждах, воздевающий руки к небу, вооруженная толпа, приникшая к земле, — все это вдруг показалось мне несравнимо более настоящим, подлинным, чем далекая сумасшедшая Москва, вместившая в себя четыре миллиона суетящихся круглые сутки вертлявых человечков. Суровые барханы, священная война, грубые и простые лица… Всплыли вдруг, полыхнули ярко в памяти пьяные слова тестя: «Без вождя народа нет». Мир внезапно пробудился от спячки, и вместе с обрывками его тревожных сновидений исчезла так называемая цивилизация с ее небоскребами и компьютерами, демократией и кока-колой. Ценности вдруг сделались ясными и однозначными. Жизненный путь — прямым и ровным. Небо — небом, земля — землей, Бог — Богом. Совершенно ясно, как жить и как умирать. Во имя чего…
Однако это было всего лишь быстротекущим наваждением. Мой внутренний наблюдатель, беспощадно трезвый и убийственно равнодушный к вооруженной романтике, одолел минутную слабость. Я вернулся к отстраненному наблюдению. Молитва преобразила Абу Абдаллу. Лицо сделалось суровым и в то же время необычайно, по-детски, ясным. Очень трудно представить себе подобное сочетание. Как будто человек в последнюю минуту своей жизни дает кому-то полный отчет о ней и знает точно, что приговор будет оправдательным, а судья — справедливым. Мощь, электрическая сила исходила от его лица. Невидимая, но ощутимая. Пронизывающая, слепящая. Черты разгладились и отвердели, как у мертвого, но в то же время оживились, утратили обычную неподвижность маски. Можно было сравнить его лицо с телеэкраном, по которому проносилась вереница пестрых и волнующих образов, хотя ни один мускул не шевелился. Еще лицо Абу Абдаллы напоминало книгу, точнее — ее отражение… Я вспомнил: Томас рассказывал, что Коран изучают умом, постигают сердцем, записывают в книгу, но он не есть что-то вещественное, как бумага или переплет. Коран — проявление самого Аллаха, точнее, он — это Коран. Можно сказать, что сквозь лицо Абу Абдаллы проступали как бы строчки, вереницы письменных знаков, которые были, однако, не буквами алфавита, не иероглифами, но чем-то совершенно другим. Даже фигура Террориста Номер Один преобразилась, стала бестелесно-воздушной. Словно белый бесформенный балахон был пуст изнутри, легок — вот-вот, и взлетит. Или вообще нет ни тела, ни одежды — только материализовавшийся сгусток энергии. Так показалось. Преображение откровенно напугало меня. Я чувствовал бы себя спокойнее, если бы он, как шаман, принялся камлать, заламывать руки в трансе. Но ничего подобного не случилось. Движения точны, собранны и строги. Возможно, я не совсем еще оправился после ранения, был слишком восприимчив психически… Мулла Омар в Хаммарате — обыкновенный старый комик, истеричный и визгливый. Банальный Геббельс. Абу Абдалла — не знаю, как сказать… Может, великий актер, может, душевнобольной, а может… Могу поклясться, в нем не было ни капли лжи в тот момент, ни капли фальши! А насчет всего остального…
После намаза не отправились, как обычно, есть. Рядом с Абу Абдаллой на возвышении, с которого он руководил молитвой, появился шейх Халиль. Я мог разглядеть его в подробностях, «легендарного комдива». Халиль ибн-Исхак: сухопарый, хромой, длиннорукий. Перебитый, свернутый набок нос, борода торчком, несколько глубоких уродливых шрамов на лице и шее. Из-за шрамов лицо кажется склеенным из кусков, как маска. Брови сожжены дотла. Белые полосы вместо бровей. Старый, потрепанный коршун, опасная хищная птица. Абу Абдалла кивнул ему, как бы давая разрешение, и тот заговорил. Хриплым, таким надтреснутым голосом, словно ему суровой ниткой сшили разорванные связки. С трудом, но громко, выскрипывая, выкаркивая слова. Муджахиды внимательно слушали. Видно было: уважают Хали-ля, но командиром признают одного лишь своего имама. Шейх — правая рука, орудие. Не больше.
— Завтра четверг — выступаем! — радостно и тревожно шепнул мне Томас.
— Четверг? — переспросил я, удивленный.
— Да. Пророк Мохаммад, мир ему, все свои походы начинал в четверг, как сказано у Кааба бин Малика: «Пророк вышел на джихад Ярмук в четверг, и он любил выходить в дорогу в четверг».
Я уже достаточно равнодушно отметил, что у Томаса— Туфика на каждый случай припасена цитата. Он вообще не умеет обходиться без цитат. Эрудированная сволочь.
Между тем, окончив вступительную часть и выслушав дружные «Аллаху акбар!» (я тоже кричал со всеми), шейх Халиль торжественно достал из нагрудного кармана камуфляжной куртки сложенный вчетверо листок бумаги. Абу Абдалла поднял руку, требуя абсолютного внимания. Муджахиды окаменели, шейх закаркал. Ни одного слова я, как обычно, не понял. Но по лицам всех было ясно: документ чрезвычайной важности. Когда чтение закончилось, произошло следующее. Один из «арабских афганцев» вышел на помост с толстой стопкой бумаги в руках. Положил стопку у ног Абу Абдаллы. «Афганец» вынул свою бумагу и принялся выкликать муджахидов по именам. Названные подходили, смущенные, кланялись до земли, брали листок и получали благословение от имама. Абу Абдалла легонько касался ладонью их макушек и что-то бормотал себе под нос. Церемония длилась довольно долго, больше часа. Получившие бумагу выглядели предельно счастливыми. Возвращались в строй и впивались в нее глазами. Я вопросительно глянул на Томаса.
— Те, кто умеет читать, подробно объяснят содержание фетвы своим неграмотным братьям. — Кажется, он был немного смущен за «неграмотных братьев», за абсолютное большинство муджахидов.
— А мне можно узнать, о чем речь?
— Конечно. — Томас извлек из бумажника такую же листовку. Крокодиловый, пахучий, новенький бумажник. С золотым тиснением «Tiffany». Поскрипывает. — Вот, слушайте.
Я приготовился внимать очередному шедевру пророческой мысли.
ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!
Слово к мусульманам ал-Мехди-ал-Мунтовара, ами-ра правоверных Хаджи Абу Абдаллы о сокровенной сущности священного Джихада согласно Слову Аллаха, мир Ему и благословение, Учению Пророка, мир Ему, нетленным сурам ал-Кор'ан ал-Керим и хадисам просвещенных улемов, да воссияет их мудрость на небе и на земле.
Знайте, братья, что Всеблагой, мир Ему и благословение, и Его Пророк, мир Ему, определили мусульманам четыре вида священного Джихада. Джихад Ан-Нафс суть борьба души ради постижения веры, Джихад Аш-Шай-тан есть борьба против страстей, Джихад Аль-Куфар ва Аль-Мунафикин — борьба против неверующих и лицемерных и Джихад Ас-Схаб Аз-Зулм Аль-Бидаа ва Аль-Мункарат — борьба против угнетения, невежества и греха. Знайте также, что Джихад повелел Всемогущий осуществлять сердцем, языком, богатством и рукой. Также известны нам Джихад Фарз-Кифае и Джихад Фарз-Айн. Время Фарз-Кифае наступает тогда, когда войско мусульман сражается на земле кафиров, а Фарз-Айн — когда враг ступил на землю мусульман. Поскольку земля эта, братья, от века принадлежала вам, мы называем наш Джихад Фарз-Айн и призываем Аллаха тому в свидетели. Нет для правоверного ничего, превосходящего заслугу Джихада, ибо сказал Пророк, мир Ему: «Тот, кто воюет для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, тот на пути Аллаха».
Горе нам, муджахиды, ибо поднимаем мы меч против рожденных мусульманкой! Но велики их прегрешения пред Ликом Аллаха, мир Ему и благословение, как сказано в хадисе: «Кто поднял на нас оружие, тот не из нас». Сотворив ширк, стали они врагами Всемогущего, и есть воля Всеблагого на то, чтобы понесли они наказание, ибо отвратились от Аллаха, встав на сторону кафиров, и утратили веру, что называет священный Кор'ан «великим ширком», и таковы слова Неизъяснимого о сотворившем великий ширк: «Убежище для него огонь, и нет для неправедных помощников». Нет праведника среди них, как сказал Пророк, мир Ему: «Тот, кто воюет под знаменем невежества, то он не из моей уммы». Совершили они ширк намерением, словом и действием, и о таких речет Аллах в священном Кор'ане: «Они не владеют даже весом пылинки ни на небесах, ни на земле, нет у них там участия, нет для Него среди них помощника». По воле Всеблагого мы называем их муртады — вероотступники, и в книгах великих улемов Тавуса, ал-Хьасана, ал-Мажуши и Абу-Юсуфа сказано, что муртада надлежит убить. Кафиры и муртады слыхали наш призыв-дава неоднократно, но не покорились и не встали на путь истинной веры, и, Аллах свидетель, совершили мы все предписанное, прежде чем взять в руки меч. Учил Пророк, мир Ему: «Если встретишься с врагами, призывай их к трем вещам — какую из них примут, то соглашайся и не воюй с ними: призывай их к исламу, если примут, соглашайся и не трогай их; если не примут, потребуй у них дань-джизья — если дадут, то прими от них и не трогай их. Если откажутся, то проси помощи у Аллаха и воюй с ними».
Убивать следует всякого, кто сражается с мусульманами или помогает врагу, будь то воин, слуга его или раб. Но знайте, что нельзя убивать женщин и детей неповинных, а стариков дозволено, ибо сказал Пророк, мир Ему: «Убивайте стариков неверных и оставляйте в живых детей». Слепых, умственно отсталых и тяжелобольных дозволено убивать в любом случае, но монахов и отшельников нельзя. Запрещено Аллахом увечить и уродовать трупы.
Знайте, братья, что отступать с поля битвы дозволено вам лишь в трех случаях: перемена позиции, присоединение к большему или сильнейшему отряду, а также тогда, когда войско врага вдвое больше войска мусульман. О нарушивших же это правило гласит аят: «А кто обратит к ним в тот день спину, если не для поворота к битве или для присоединения к отряду, тот привлечет на себя гнев Аллаха». И сказано также в хадисе, что если муджахиды думают, что сражение не приведет их всех к гибели, то лучше им сражаться, не отступать и не убегать. Помните, братья, слова аята: «А если будет среди вас сотня терпеливых, то они победят двести, а если будет среди вас тысяча, то они победят две тысячи с дозволения Аллаха». Тех же, кто покинул без разрешения поле боя, ждет гнев Всевышнего и казнь. Остерегайтесь, чтобы не объявился среди вас ал-мухаззал — тот, кто трусит, жалуется и ноет, а также ал-муржив — тот, кто сеет панику. Они будут изгнаны с позором и не получат своей доли в трофее.
Еще знайте, кого следует называть шахидом, ибо это великая честь для муджахида. Сказано, что шахид есть тот, кто погиб в бою с кафирами и врагами мусульман. Тело его не омывается, и над ним не служат похоронный намаз, ибо душа шахида очищается Самим Аллахом, как сказал Пророк, мир Ему: «Похороните их вместе с их кровью и не омывайте их». Кровавая одежда шахида есть его саван, который на небесах превратится в белоснежный сияющий шелк. «Шахид» означает «свидетель», и вот в чем его свидетельство: Аллах и Пророк свидетельствуют, что шахид будет в раю; он есть живой у Аллаха; ангелы милости будут свидетельствовать, когда возьмут его душу; он из тех, кто будет свидетельствовать над уммой; его смерть есть свидетельство его веры; его кровь — свидетельство подвига; его душа будет свидетелем рая до наступления Судного дня. Но упаси Аллах муджахида убить себя, если он ранен и ему грозит плен, ибо он должен сражаться до тех пор, пока его не убьют.
Знайте также, братья, учение о пленных. Женщины и дети всегда становятся рабами мусульман, но не совершеннолетние мужчины, и ребенка не дозволено отнимать от матери. Те из мужчин-пленных, что поклоняются языческим богам, должны либо принять ислам, либо их следует убить. Мужчины из людей Писания, христиане или иудеи, могут быть по усмотрению Имама убиты, либо взяты в рабство, либо отпущены за выкуп, либо без выкупа, либо обменяны на пленных мусульман. Но нельзя убивать пленного, пока нет на то воли Имама. Если враг сдается в плен до того, как его войско понесло большие потери, такого следует убить согласно словам Пророка, мир Ему: «Ни одному пророку не годилось иметь пленных, пока он не произвел избиения на земле». Если враг сдается, когда его войско понесло большие потери, такого можно убить или оставить в живых на усмотрение мусульман. Также, по словам шейха Абдуллы Азама, «нельзя калечить пленных, нельзя отрезать им уши и выкалывать глаза, потому что Пророк запретил издевательство, нельзя отрубать им головы и отрубать им ноги». С пленными следует обращаться хорошо, ибо сказал Всевышний Аллах: «Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника».
Знайте также, братья, учение о воинском трофее, которым является имущество, пленные и земли врага. Надо взять с трофея расходы, пошедшие на его хранение и транспортировку, выделить трофей-салаб тем, кто его заслужил, возвратить владельцам-мусульманам их имущество, если оно обнаружено в трофее. То, что осталось, велено разделить на пять частей и написать на пяти листах бумаги: на одном — «для общего дела», на четырех других — «для тех, кто добыл трофей». Следует положить эти бумаги в ящик, чтобы их никто не видел, и вытаскивать их по очереди, что называет шариат «выделением пятой части из трофея». Ее делим мы снова на пять частей: для нужд Джихада, для родственников Пророка, для сирот, для бедняков и для путников, а основной трофей делится между теми, кто его добыл, по справедливости. Знайте также, что салаб есть имущество, взятое с тела мертвого врага, но достается оно лишь тому муджахиду, кто убил врага, способного защищаться, на поле боя, рискуя своей жизнью, и тому есть хотя бы один свидетель. Знайте еще, что тем, кто будет особо храбр, Имам выделит нафл — вознаграждение. И еще знайте, что фай — совокупное имущество врага, такое, как городские строения или транспорт, на части не делится, но служит для блага всех мусульман и уничтожать его нельзя. Но упаси вас Аллах, братья, прикоснуться к трофею до его распределения, ибо это есть кража из «байт ал мал», подлежащая шариатскому суду, и трижды упаси вас Аллах взять чужое после распределения, что карается отрубанием руки.
Возлюбленные братья! Восстанем же скорее на битву, и пусть вдохновляют нас слова Пророка, мир Ему: «О Аллах, поистине мы призываем Тебя помочь нам уничтожить их, и прибегаем к Тебе от их зла. О Аллах, Ты источник силы моей и Ты мой защитник. О Аллах, благодаря Тебе я передвигаюсь, благодаря Тебе я нападаю и благодаря Тебе я сражаюсь. Довольно с нас Аллаха, Он прекрасный покровитель. О Аллах, ниспославший писания и скорый в расчете, нанеси поражение этим людям. О Аллах, разбей их и потряси их!»
Звучало впечатляюще. Я покивал головой.
— Учение о священном джихаде разработано очень подробно, — не без гордости сказал Томас. — Как вы могли заметить, оно довольно справедливо. Единственное, в чем существует заминка, — вопрос об участи стариков. Ибо сказал Абу-Дауд: «Пророк, мир Ему, когда посылал войско, говорил: "Отправляйтесь во имя Аллаха и не убивайте престарелых людей"». Но Хаджи считает, что убивать стариков кафиров и муртадов милосердно, ибо лучше им расстаться с жизнью сейчас и пасть от руки воинов Аллаха, чем стать живыми свидетелями еумуль-кыяма…
Я развернулся и молча зашагал прочь.
В четверг, около полудня, в самую жестокую жару, вышли к позициям врага. Позиции выглядели идеальными.
Плоская пыльная равнина отлично простреливается. На самом краю — цепочка холмов, перерытых окопами. Видны бетонные укрепления, брустверы. Театральный штрих — несколько пролетов римского акведука. Человек невоенный, далее я сразу понял, что на холмах — основные огневые точки. Пока будем пересекать равнину, нас положат как котят. Хотя бы вертолетов парочку, мелькнула мысль. Но в атаку не пошли, разбили лагерь.
Несколько дней прошло за рытьем окопов. Аллах свидетель, лучше воевать, чем рыть окопы! Я хорошо помню, что это за проклятая земля, — ведь мы копали могилу несчастному Гюнтеру… Спекшаяся, каменно-твердая. К счастью, выдали не лопаты, но кетмени — что-то вроде большой мотыги. Предусмотрительный, я раздобыл старую тишотку, порвал ее и обмотал тканью руки. Помогало слабо. Уже к вечеру ладони были покрыты кровавыми язвами. На работу выгнали всех. Даже Томаса — Туфика. Наверное, на сей счет тоже есть указание Корана. Несчастный теоретик в очках. Физических сил в нем оказалось еще меньше, чем во мне, московской штучке. Каждые несколько минут Томас хватался за спину, охал, стонал, кривился. Подолгу не мог разогнуться. Обливался потом. Трудиться нам довелось бок о бок, и я отыгрался, взял свое. Пусть и не так, как бывшие крестьяне (те махали кетменями привычно и легко), но я все же не останавливался, рубил чертову землю, вкалывал. Решил во что бы то ни стало доказать Томасу, что он дерьмо. Тот, глядя на меня, тоже мотыжил как мог, но терял свою всегдашнюю непоколебимую уверенность с каждой минутой. Похудел, наверное, килограммов на пять и таким потярой облился, что куда там сауна. Удивительно, но невдалеке от нас, метрах в двухстах, работал самолично Абу Абдалла. В камуфляже, с обычным, не позолоченным кетменем. В окружении простых муджахидов и своих «арабских афганцев». Позер, зло подумал я, какой позер! Сейчас потусуется часок и вернется в свой кондиционированный лимузин. Но нет. Копал со всеми до самого вечера, не волынил.
Обедал тоже вместе со всеми: вяленое мясо кусками, финики, лепешка, крепкий зеленый чай. Отдыхал не больше других. Суворов, блин, Кутузов хренов, уважительно ругался я. Укрепляет свой авторитет в массах. Имам Мехди с кетменем… Святой не святой, но поступает мудро. Правда, на второй день уже не вышел. И Томас тоже. Но этот — по другой причине. Пластом лежал в своей палатке, головы поднять не мог. Я ему приносил пожрать. Пусть все видят, что русский работает, а знаток Корана валяется полуживой. Пусть видят.
Вошел к нему в палатку. Закутавшись в верблюжью кошму, Томас лежал, отвернувшись к стене. Услыхал шаги, вскинулся:
— Кто здесь?
— Это я.
— Ах вы… Рад вас видеть.
Повернул ко мне лицо, сел с трудом, со стоном. Замученный, посерел, знобило его. Улыбнулся через силу:
— Еда? Спасибо… Вы должны меня ненавидеть, а вот — приносите поесть… Решили совершенствовать добродетели?
— Лично мне вас не за что ненавидеть.
— Вот как?..
Развернул сверток, который я ему дал, посмотрел, покачал головой, свернул, отложил в сторону. Что-то с ним было не так, с Томасом. Странно он выглядел, странным был тон голоса, интонации:
— Глядя на вас, хочется верить, что в мире остались еще порядочные люди.
Молчу.
— Что с вашими руками? — осторожно дотронулся до кровавых тряпок, которыми я обмотал ладони.
— Пустяки. Отвык от физического труда.
— Сядьте, — вдруг попросил он меня. — Побудьте со мной, пожалуйста, немного.
Я сел послушно. Молчу, и он тоже — ни звука. Старается не смотреть на меня, опускает глаза, косится в сторону.
Вязкая тишина в ожидании чего-то, каких-то слов, может, разговора — о чем? Наконец тихо, устало произносит:
— My God, как я вас понимаю… Если бы вы только знали, как я вас понимаю!
— О чем вы? — Я сбит с толку и недобро удивлен.
— Нет-нет, ничего… Спасибо, что зашли, — торопится, запинаясь, ответить он. — Очень любезно с вашей стороны… Благородный жест… Спасибо, идите, идите… И берегите руки — слышите, берегите руки!
Натягивает на голову кошму, снова отворачивается к стене. Пожимая плечами, выхожу.
За линией окопов развернули минометную батарею. Слава Богу, сказал я себе, у нас есть что-то наподобие артиллерии. Вообще, я заметил, вооружено наше войско паршивенько. Четыре бронетранспортера «вайпер», минометы, «Калашниковы», гранаты. У некоторых есть под ствольные гранатометы. Очень негусто. Еще «стингеры» в грузовике — на случай атаки с воздуха. Но «стингеров» мало, десятка полтора. Нас разделили натрое. Лучшие, под командованием Халиля ибн-Исхака, заняли позиции по левому флангу, под прикрытием остатков акведука. Ушли туда ночью, которая вдруг выдалась безлунной и беззвездной. В принципе у акведука можно было замаскироваться. На правый фланг выдвинулись берберы со своими верблюдами. Не знаю, что за толк от конницы в современной войне, но перемещаются бедуины быстро и стреляют на скаку очень метко. Тоже преимущество. Все остальные остались в центре. Мы, пехота, и наши «вайперы». Пушечное мясо. Нам предстояло атаковать первыми. Принять на себя основной удар.
О чем я думал в эту ночь, последнюю ночь перед боем? Ни о чем. Долго сидели у костра, глядя в огонь, молчали. Наблюдали, как взлетают во тьму быстрые искры. Я и остатки моего взвода, с кем ходили в разведку. Глядел на них… Какое-то очень грустное было чувство. Все мы в одной лодке. И они, загипнотизированные своим ненормальным вожаком, и я, чужак, взявший в руки оружие, чтобы вернуться домой. С рассветом мы пойдем в атаку и, может быть, все погибнем. Нам выроют могилы кетменями… Один из муджахидов, одноглазый печальный Вахид, объяснивший мне когда-то жестами, что у него двенадцать детей, которым нечего есть, не спеша достал из складок одежды глиняную трубку, холщовый кисет. Принялся набивать. Никто не реагировал. Все сидели погруженные в себя, заторможенные, молчаливые. Вахид раскурил трубку — запахло крепчайшей шмалью, которую здесь называют «ганжа». Передал трубку по кругу. С морщинистыми лицами, подсвеченными огнем до оттенка красного дерева, неподвижные, муджахиды напоминали остатки индейского племени. Последних из могикан, выполняющих древний языческий ритуал. Здесь никогда не будет цивилизации, здесь она невозможна, подумал я и затянулся едким пахучим дымом. Сразу и резко ударило в голову, пламя размылось и поплыло перед глазами. Но затем отпустило. Сделалось спокойно и легко на душе. Блаженная пустота, безмыслие. Мир таков, каков он есть. Я — это я, мы — это мы. Завтрашний день сам позаботится о себе. Придется умереть — значит, придется. Буду стрелять, убивать — не важно. Ничто не важно, ничто не имеет значения…
А потом Касим запел. Тот самый Касим, нескладный кузнечик, узкоплечий скуластый юнец с зелеными глазами, который перевязывал мне рану в бою. Странная, на одной высокой ноте, почти без согласных звуков, бесконечно длинная тоскливая песня. Только такая и может, наверное, звучать в пустыне, выразить ее суть. Мне представился одинокий караван, который движется сквозь пески. День, неделю, год… вечность. Шагают изнуренные верблюды-кэмелы с обвисшими горбами, плетутся вслед за ними усталые путники. Песок, песок, барханы. День сменяет ночь, ночь сменяет день, но ничто не меняется в мире. Каждая пылинка покоится на своем месте, и так будет всегда. Никому не ведомо, куда идет караван, никто не знает, где встретится оазис с чистой ключевой водой. Идут. Не могут остановиться. Земля кругла, пустыня безгранична… Думаю, что настроение песни я уловил верно: когда Касим закончил, в его глазах стояли слезы. Фигуры муджахидов стали совсем уже неподвижны, похожи на камень. О чем они думали, люди-изваяния? Касим плакал. Близился рассвет. Я уснул.
…«Вайпер» медленно продвигался в сторону вражеских позиций. В одиночестве пересекал долину. На нем развевалось зеленое шелковое знамя с алыми строчками арабской вязи. Знамя последнего джихада. В задней части бронетранспортера были установлены два огромных динамика. Высунувшись до пояса из люка, весь в белом и в платке-куфие, Хаджи Абу Абдалла громко и нараспев читал в микрофон молитву. Динамики грохотали, как тяжелые орудия. Достигнув приблизительно середины долины, «вайпер» остановился. Противник молчал — мертво, тяжело. Ни единого звука не доносилось из-за брустверов, как будто генерал Дустум давно отдал приказ отвести войска. Но никто такого приказа не отдавал, точно. Неторопливо перемещая длинное свое сутулое тело, Абу Абдалла выбрался из бронетранспортера. Спрыгнул на землю, продолжая держать в руке микрофон. Идеальная мишень — белая фигура на фоне рыжей пустыни! Даже снайпером не нужно быть. Каждую секунду я ожидал выстрела, но выстрела не было. Ничем, кроме чуда, объяснить это не могу. Не стреляли они!!
Террорист Номер Один вел себя так, словно вышел на прогулку. Ни единое движение не выдавало страха или замешательства. Поднял вверх левую руку — сверкнули на солнце бриллиантовые часы. Как будто призывал весь мир слушать. Муджахиды завороженно пожирали имама глазами, Томас — Туфик снимал на видео. Да, такие кадры… Выдержав невозможно длинную паузу, Абу Абдалла заговорил. Точно таким же ровным и уверенным тоном, каким читал свои проповеди. Раскатистое эхо металось между небом и землей.
— Братья-мусульмане… — скороговоркой переводил мне Томас, хотя я не просил его об этом. — Вы собираетесь поднять руку на мусульман… На своего имама… Отступили от веры и приняли сторону кафиров… — Он переводил урывками, не отрываясь от камеры. — Убейте лучше меня, но признайте, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммад — посланник Аллаха… Сложите оружие и позвольте нам обнять вас как братьев… Кафиры обманули вас… Вы не враги нам… Совершите великий ширк, вступив с нами в битву… Будете топтать ногами священный Коран и девяносто девять имен Всемогущего… Ислам есть мир — зачем же вы желаете войны?.. Я, безоружный, стою перед вами и призываю вас к миру… На нашей стороне Аллах — разве вы станете противиться воле Аллаха?..
Не знаю, это была или немыслимая храбрость, или вершина безумия. Но он стоял и говорил. Долго, как он любит. Членораздельно, медленно. Наконец закончил. Переложил микрофон в левую руку, поднял правую и произнес:
— Клянусь милосердным Аллахом, мир ему и благословение, пророком Мохаммадом, мир ему, священным Кораном, возвышенными улемами, славными в глазах Господа шуади, кровью шахидов и своей собственной жизнью, что, если вы не откликнетесь на мой призыв, ровно в полдень мы выступим против вас и поступим с вами так, как надлежит поступать с врагами ислама.
Затем он вскарабкался на свой «вайпер», и тот двинулся задним ходом.
— Мехди, Мехди! — шептал, захлебываясь восторгом, побледневший Томас. — Печать Аллаха на нем.
Когда бронетранспортер достиг наших позиций, муджахиды взревели «Аллаху акбар!» такими дикими голосами, что одним только ревом можно было бы, наверное, обратить врага в бегство. До полудня оставалось часа, может быть, полтора. Мы замерли, ждали. Противник молчал. С той стороны долины не доносилось ни звука. Ни перемещений, ни движений. И это гробовое спокойствие, нерушимая тишина — куда страшнее боя. Сидишь в окопе, скорчившись в неудобной позе. Потные руки сжимают автомат. Время тянется, каждая секунда занимает гораздо больше времени, чем обычно. Ждешь, ждешь. Внутри, клокоча, нарастают тревога и страх. Несмотря на жару, тело зябнет. Пытаешься лихорадочно думать о чем угодно, только бы ускорить течение времени… или, наоборот, отсрочить неминуемую смерть. В голове вертится идиотское пошлое выраженьице «оттянуть свой конец». Пытаешься прогнать его, застрявшее, но не получается. «Оттяни свой конец, оттяни свой конец!» — пискляво дразнится мерзкий внутренний голосок, гаденько подхихикивая. Пялишься на холмы, на бетонные укрепления и брустверы… все так спокойно, спокойно… Вот если бы действительно там никого не было, если бы мы сейчас по команде встали, пошли… и все было бы нормально. А вдруг они отступили? Ведь не знаешь наверняка, не знаешь… Вдруг замечаешь, до чего же неудобно сидеть в окопе, как затекли члены. Нужно переменить позу, но в тесной земляной яме особенно не повертишься. Сучишь руками и ногами, как перевернутый на спину жук, не можешь остановиться. Липкие, мокрые ладони — постоянно вытираешь их о куртку. Нужно срочно найти себе дело, занятие, чем-то себя отвлечь… Вот и Касим тоже — возится с автоматом. Сначала вынул из дырки в торце приклада пенал со щетками для ствола, открыл, тщательно перебрал все щетки. Сунул пенал на место, снял зачем-то магазин, осматривает его со всех сторон. Бедный мальчик. Пальцы дрожат. Старые мужики держатся поспокойнее. По крайней мере виду не подают. Ерошат бороды, бормочут шепотом молитвы. Время идет. Еле-еле. Словно некие вселенские часы вдруг начали отставать. Течет густым киселем. А что, если они там, за брустверами, уже решили сдаться? Сразу так живо себе это представляешь… Идет срочный военный совет. Жирный (почему жирный?) американский советник требует немедленно вступить в бой. Грозится. Запуганные местные чины поддакивают. Вдруг входит генерал Дустум. Высокий, красивый, в отутюженной форме. Говорит властно: мои солдаты не будут стрелять в братьев-мусульман. Советник кричит, топает ногами. Тогда генерал Дустум поднимает тяжелую мускулистую руку и молча указывает ему на дверь. Американский советник выметается, пятясь, побитой собакой. Из хозяйственной палатки несут белоснежную крахмальную простыню, привязывают ее к древку… И вдруг я вижу лошадь. Долину медленно пересекает отощавшая гнедая лошадь. Не верю своим глазам, но это действительно так! Длинная спутавшаяся грива, куцый хвост. Лопоухая, смешная, ребра торчат. Хромает на заднюю ногу и идет. Откуда она взялась, Господи?! Сбежала? Здесь же не держат лошадей, здесь верблюды… Глядит печальным карим глазом, прядает ушами, отгоняя мух, топает. Худая, некормленая. Наклоняет голову низко к земле — траву, что ли, ищет? Да нет же здесь никакой травы. Беги, дура, беги! Я хочу, чтобы лошадь немедленно убрали отсюда. Отвели в безопасное место. Кто ее хозяин, куда он смотрит? Ну, хозяин, мать твою, появись! Ты что, не понимаешь: ее сейчас убыот! Самой первой! Я так ясно вижу: взрывается граната или мина, лошадь с протяжным ржанием падает на бок, дергает ногами, из распоротого брюха хлещет кровь, вываливаются кишки… Но она не умирает сразу. Храпит, елозит по земле пыльными копытами и смотрит, смотрит… Так жаль ее! Жизнь и смерть лошади занимают меня сейчас куда больше, чем мои собственные жизнь и смерть. Муджахиды, похоже, тоже обеспокоились, залопотали между собой. Крестьяне, у них в генах — любить скотину. Проклятое животное застыло в самом центре долины, внимательно смотрит на нас. Чего тебе нужно, глупая? Вали отсюда! Касим растерянно улыбается, переводя взгляд с лошади на меня. Мол, что за чудеса? Пожимаю плечами. Касим недоумевает по-прежнему, толкает в плечо одноглазого Вахида. Тот бормочет что-то нечленораздельное и отворачивается. Мол, ничего не поделаешь. На лице у Касима проступает странное выражение, как у деревенского дурачка. Хлопает округлившимися зелеными глазами. Кажется, у него что-то с головой, нервы, наверное, сдают. Говорит, обращаясь непонятно к кому, — громко, в полный голос, сбивчиво. Встает. Вахид дергает его за руку: сядь! Спрячься! И вдруг, точно как кузнечик, Касим прыгает из окопа. Моя рука хватает пустоту, Вахид гортанно вскрикивает. Непонимающий ропот проносится над окопами. Куда же ты, куда, идиот?! Пригибаясь, длинноногий и неуклюжий, Касим бежит к лошади. Беспорядочно машет руками. Я, забыв обо всем на свете, матерюсь вслух по-русски. Крою его последними словами, придурка. Вот он добежал, остановился. Обнял лошадь за шею, гладит ее по гриве, по ушам, что-то говорит. Берет за узду, тянет за собой. Послушная скотина идет. В этот момент, невероятно громкий, звучит один-единственный выстрел. Громче, наверное, взрыва бомбы. У меня перехватывает сердце. Касим замирает на половине шага. Лошадь медленно опускается сперва на передние, потом на задние ноги. Невыносимо медленно ложится на бок. И больше не шевелится. Касим, глупо разведя руки в стороны, стоит над нею. Вахид встает во весь рост, что-то орет парню. Тот словно оглох, не реагирует. Проходит несколько секунд, и все покрывает чудовищный рев наших минометов. Раскаленное солнце зависло точно над моей макушкой. Полдень.
Мина, когда летит, — воет. На отвратительно высокой ноте. Взвыла минометная батарея — я упал на дно окопа, зажав уши ладонями. Муджахиды сделали точно так же. Вой был настолько силен, что перекрывал даже взрывы. Минут десять совершенно выпали из моей жизни. Ничего не соображал, желая только, чтобы все это поскорее кончилось. Просто внутренности выворачивал этот звук, вытье дьявольских глоток. Артподготовка. Когда минометы утихли и из динамиков громыхнуло «Аллаху акбар!», я был почти счастлив. Словно разрешается рвотой мучительное похмелье.
Мы бросились вперед беспорядочной гурьбой, с криком, даже не рассыпавшись в нормальную цепь. Впереди шла четверка «вайперов» с крупнокалиберными на крыше. Я, надрываясь, вопил во все горло, срывая голос. Страха не было.
Вместо него — какой-то безумный азарт, воодушевление, бешенство. «А-аллаху-у акба-а-аррр! П» Подняв автомат, бессмысленно жал на спуск, извергая в сторону врага длинные очереди. Не целясь, просто — туда. В них. Рядом со мною, и слева, и справа, бежали и стреляли неотличимые от меня муджахиды. Горячие гильзы сыпались градом, ударяли в руки, в плечи, но боли я не чувствовал. Вообще ничего не чувствовал. «А-аллаху-у акба-а-аррр!!!» Долина содрогалась от крика. Бежали — быстрее, быстрее! Но когда до ближайшего бруствера оставалось всего каких-нибудь триста метров, они ударили сплошным ровным огнем. Густо. Между летящими пулями кулак, наверное, с трудом можно было просунуть. Первый ряд выкосило мгновенно: человек с тридцать — сорок одновременно легли на землю. Вопли и стоны раненых на несколько секунд перекрыли пальбу. Один из «вайперов» грохнул (звук напоминал резкий хлопок в ладоши) и запылал, задымил. Уцелевшие появились на броне, пытаясь спрыгнуть, но ни один не выжил. Задергались, как куклы-марионетки, посыпались вниз. Мы продолжали бег по инерции, просто не могли еще остановиться. Под ногами уже были трупы — некоторые я перепрыгивал, о другие спотыкался. Пару раз ботинок чвякал во влажном и липком, скользил. Передние падали и падали, громоздя тела одно на другое. С каждой секундой я был ближе и ближе к тому, чтобы оказаться под прямым огнем. Соседей, слева и справа, оставалось все меньше. Из плотной толпы мы постепенно превращались в тактически грамотную цепь. Вахид, тяжело дыша, бежал рядом, захлебываясь истошным криком. Я обернулся к нему и вдруг закричал дико сам. Черная борода была густо полита кровью. Половины лица у Вахида не было — вместо нее алела и пузырилась сплошная рана. Ноги еще несли мертвое тело. Когда я обернулся в следующий раз, его уже не было рядом.
«Вайперы» остановились, мы рухнули на землю, прикрытые бруствером из трупов. Атаковать бессмысленно: верная смерть. Сплошной град свинца над нашими головами. Свернувшись улиткой под колесом бронетранспортера, я перевел дух. Руки-ноги целы, ран нет. Магазин давно пуст. Протянув руку к лежавшему рядом телу, потащил к себе его автомат. Подполз поближе, снял с пояса мертвого сумку с рожками для «Калашникова». Было душно, воняло бензином и паленым мясом. Перезарядил оружие, огляделся. Раненых, кажется, больше, чем убитых. Перевязывать их, помогать никто не собирался. Спустя короткое время стрелять по нас перестали — видимо, берегли патроны. Снова установилась тишина. Над головой ползли рваные клочья дыма, медленно затягивая небо. Два из четырех «вайперов» подбили. Атака захлебнулась.
Снова завыли минометы — уже ближе. Видимо, пока шел бой, минометчики успели переместить свои орудия. Разумно сделали: теперь, я видел, мины ложились точно в окопы. Некоторые из них попали в бетонные укрепления, зияли дыры. Чувствовал спокойную, сосредоточенную ненависть: так вам и надо, сволочи! Мысли о собственной смерти как-то не приходили в голову. Радовался, что мины бьют в цель, разрывают на куски солдат врага. Умолкли орудия — «Аллаху акбар!» — и снова мы бросились вперед. Теперь уже не одни — с правого фланга мчали на своих верблюдах берберы. Оказывается, не так уж глупо: конница в бою. Скакали россыпью, очень быстро, вооруженные «Калашниковыми» и ручными гранатометами. Превосходные стрелки, сразу оттянули на себя основной огонь, и нам удалось преодолеть еще метров сто. Приблизившись, всадники на ходу спрыгивали со своих верблюдов и продолжали прицельный огонь лежа. Мне показалось, жертв среди них гораздо меньше. Динамики опять громыхнули «Аллаху акбар!», и на одном из «вайперов» я заметил Абу Абдаллу. По-прежнему в белом, он стрелял из автомата, прижавшись щекой к прикладу. Увидев имама, муджахиды совершенно потеряли голову. Теперь в первых рядах даже не пригибались — бежали, размахивая оружием, и грудью встречали пули. Бронетранспортер Абу Абдаллы вырвался вперед. Рядом вспенивались огнем мины, но ни одна из них не задела машину, словно заговоренным был этот «вайпер». Отложив автомат, Террорист Номер Один схватил микрофон и принялся громко, нараспев, выкрикивать слова молитвы. Муджахиды ложились десятками, но на смену убитым вставали все новые и новые. Казалось, остановить их невозможно. Я чувствовал, что исход боя решен, что еще немного — и противник дрогнет, побежит. Мы были как цунами, как одна сплошная волна безумной, неукротимой энергии. Смерть совершенно не волновала. Казалось, нет на этом поле вовсе никакой смерти, мертвые и живые атакуют вместе. Где же шейх Халиль, думал я, умоляя его появиться немедленно, где же он со своими «арабскими афганцами»? Но со стороны римского акведука не было заметно никакого движения. Мы были уже у самых передних окопов. Я видел вблизи распластанные тела врагов, изувеченные осколками мин. Передние окопы опустели, противник подался назад, он парализован нашей отвагой, он бежит!.. Еще надавить, еще наддать немного — и победа! Победа!!
…И тут они как вдарят из минометов по нам! Хитрые сукины дети, все рассчитали и били чуть не прямой наводкой. В самую гущу людей врезались мины, вспарывали толпу. Отрывало руки, ноги, головы… Нескольких человек на моих глазах просто разнесло на куски. Это был ад. Бросая оружие и вопя, муджахиды кинулись назад. Бегство, паника. Лица, изувеченные кромешным ужасом. Передние убегали, сминая задних, растаптывая их, если те не успевали сами пуститься в бег. Ни призывы имама, надрывавшегося сквозь динамики, ни вопли командиров — ничто не помогало. Как скот, как стадо, обложенное волками, мы отступали. До своих, спасительных окопов оставалось не так уж далеко, но наперерез неслись несколько советских БТРов, а за ними — ряды пехоты. Ловушка! Муджахиды заметались, шарахнулись прочь, под пулеметы, которые ожили снова. Не знаю как, чьими молитвами я был еще цел и невредим, даже не ранен. Азарта боя, упрямой радостной злости как не бывало. Топкий животный ужас. Вокруг неумолимо сжимался кулак смерти. Бойцы генерала Дустума брали нас в кольцо, отсекая с каждой новой атакой сотню убитых и раненых. Не бой — избиение.
Наконец-то ожил акведук! Что же они тянули, гады?! «Вайперы» и бойцы шейха Халиля ударили стальным клином, кольцо окружения тотчас распалось. Бой ожил с новой силой…
— …Я не могу ответить на ваш вопрос однозначно. Хаджи Абу Абдалла — слишком противоречивая личность, чтобы о нем можно было высказаться в двух словах. Тем более что близко мы знакомы не были. Я наблюдал, делал какие-то свои выводы… Нет, это очень сложно для меня.
— Чем вы можете объяснить такое странное к себе отношение со стороны этого террориста? Вы заслужили в его глазах уважение тем, что помогли устроить компьютерную диверсию?
— Нет. В нашем единственном серьезном разговоре, который состоялся после того, как столица была взята, Абу Абдалла сказал: «Я хочу, чтобы ты был моим свидетелем в мире кафиров». Эту фразу я помню дословно. Прокомментировать ее мне трудно. То есть, видимо, он хотел, чтобы западный мир получил определенную информацию из первых рук. Из рук того, кто был там и пережил все это.
— Он хотел, чтобы вы написали о нем книгу?
— Нет. Но это хорошая идея. Впрочем, если я напишу книгу, эта книга будет не о нем.
— О ком же?
— Трудно сказать… Скорее всего о человеке и Боге. О том, как человек идет к Богу, абсолютно вопреки собственной воле. Потому что просто другого выхода у него нет.
— Вы действительно стали верующим мусульманином?
— Я такого не говорил.
— Но при чем здесь Бог? Публика жаждет узнать подробности о Террористе Номер Один…
— Мне наплевать, чего там жаждет публика. Основная мысль… Да, Бог и человек. Если принять за исходную предпосылку, что Бог действительно есть. Тогда сразу встает вопрос: какой он? Чего он от нас хочет? Как он добивается поставленных целей? На самом деле религия не дает никаких точных ответов. Вообще, если говорить о религии, я последовательный атеист. Это можно испытать только на своей собственной шкуре. Так что, если возьмусь писать, выйдет скорее философский роман. Наверное, не совсем такой, какого ждут.
— Как вы относитесь к исламу?
— Равнодушно. Тем более я никогда не пытался в него серьезно вникнуть, у меня нет такой потребности… Ислам ничем не отличается от христианства или буддизма… с моей точки зрения. Везде есть внешняя и внутренняя стороны. Внешне ислам может показаться агрессивным, но агрессия, я так думаю, связана больше с человеком, а не с его вероисповеданием. Вспомните историю христианства… Нет, я вне религии, абсолютно. Меня интересует только Бог. То, как я его воспринимаю. Лично я.
— Тогда чем вы можете объяснить призывы к джихаду? Ведь они основываются на Коране, на учении пророка Магомета?
— Мохаммад был простым человеком, который даже не умел читать и писать. Он родился и вырос среди грубых и невежественных людей, бедуинов. Среди воинов и пастухов. В то время насилие было нормой. В их мире, на их земле. Это совершенно другая вселенная, поймите. Бедуины не понимали языка философии. Они бы не поняли Христа с его сложными притчами. Не поняли бы его учения о любви. Богом бедуинов был их меч. Поэтому Мохам-маду пришлось объясняться с ними в доступной им форме. Но это не означает, что он проповедовал насилие. Мо-хаммад говорил то же самое, что и Христос, и Будда. Только другими словами. Ведь все зависит от того, как именно понимать… Крестовые походы, инквизиция — разве к этому призывает Евангелие?
— Давайте вернемся к Абу Абдалле. Что вы скажете о его попытках объявить себя пророком Махди?
— Имамом Мехди. Мусульмане считают, что после Мохаммада больше не будет пророков. Что же касается Мехди… Я бы предложил вам подумать вот о чем. Вспомните Библию, библейских пророков. Скажем, Моисея… Как он себя вел? Вспомните эту историю, когда Моисей спустился с горы Синай, получив свои заповеди, и обнаружил, что народ поклоняется золотому тельцу. Что он сделал? Он приказал левитам устроить страшную резню, бойню. Несколько тысяч, кажется, человек погибло. Сегодня Моисея следовало бы судить в Гааге, да? За геноцид. Есть еще одна библейская история, не могу восстановить подробностей… Смысл в том, что один из иудейских пророков соревновался с жрецами язычников. Чей Бог сильнее. Пророк победил, и языческие жрецы были убиты на месте. Человек двести, кажется… надо уточнить. Дело не в этом. Если мы, допустим, хотим быть примерными христианами, нам придется принять эти события как абсолютную, непогрешимую правду. И оправдать убийства? Ведь невозможно же рассматривать их как метафору… Кроме того, будучи и христианами, и иудеями, и мусульманами, мы вынуждены согласиться с тем, что Моисей и другие — пророки Бога, имевшие с ним прямую, непосредственную связь. Так?
— Да, по сути, именно так.
— Библия правдива, потому что ничего не приукрашивает. Это главное подтверждение ее подлинности. Но библейские пророки ведут себя, вы не находите, очень странно? Однако если они от Бога — что тогда?
— И что же?
— Представьте себе, что в современном мире появляется обыкновенный библейский пророк. Именно такой, какими их описывали. Фанатик, абсолютно уверенный в своей миссии. Абсолютно нетерпимый к врагам своей религии, которых он считает язычниками. Готовый, если надо, искоренять их огнем и мечом. Превосходный лидер, харизматическая личность. Храбрый, умный… необычайно умный. Коварный и хитрый. Жестокий. Воинственный. Любитель театральных жестов и поз. Одухотворенный. С очень мощной энергетикой. И он начинает вести себя точно так же, как его библейские предшественники. Ни на йоту не отступая от канона. Проигрывая тот же самый сценарий: око за око, зуб за зуб, кто не с нами, тот против нас… Прими нашу веру или умри… Вам это никого не напоминает?
— То есть вы хотите сказать…
— Нет! Ничего подобного я сказать не хочу.
…Триумфа не получилось. Вообще не получилось ни черта. Ведь у всех у нас по большому счету была одна мысль: въедем в город на белом коне. После того как полтора десятка деревень и оазисов сдались без боя, принимали нас как избавителей, о чем думать еще? Никто не верил, это на лицах было написано, что генерал Дустум всерьез решит обороняться. Я сам свято верил: боя не будет. Они же все одна кодла — помирятся, найдут общий язык. Не нашли. После того как шейх Халиль фактически спас нас от поголовного истребления, отползли побитыми собаками на свои позиции. Отступили… бежали. Ни хрена, оказывается, не умели воевать — стадо баранов, бестолковый сброд, скопище придурков! В живой силе превосходили их раза в полтора, а то и в два, но что толку? Позади, в долине, в кровавом зареве заката, оставили сотни мертвых тел. Положили своих грудой, как наши в сорок первом. Бездарные козлы — наши командиры! Гребаные фанатики! А этот маршал Жуков блядский, Халиль! Что ему стоило ударить пораньше, когда мы были уже совсем близко, когда враг дрогнул?! Урод проклятый…
Так я ругался, плетясь в лагерь. Униженный, жалкий. Ведь в бою, когда ты бежишь, кричишь, стреляешь, когда вокруг гибнут люди, совсем не думаешь, за что воюем и против кого. Эти мысли приходят потом, в окопах. Но когда победа — одна на всех, и смерть — одна на всех, и погиб глупый Касим, и Вахида тоже убили… Они наши были, живые, теплые, а теперь лежат падаль падалью… Как я ненавидел всяких штатских сук, разглагольствующих о добре и зле, сидя в уютных кабинетах, в тепле и безопасности! Автомат в зубы — и вперед, на хрен, под пули! Вот тогда поговорим.
Всю ночь собирали трупы. Нам позволили это сделать, не стреляли — наверное, традиция такая есть, что ли. Как описать? Долина, залитая холодным лунным серебром. И тела, тела, тела… Вот один, совсем молодой — свернулся калачиком, как под одеялом. Такая уютная, домашняя поза — будто спит. А на самом деле давно окоченел. Его распрямить невозможно из этого калачика! Так и положили в грузовик… Вот другой — как бежал, так и упал. Хорошая, достойная смерть. Пуля — навылет сквозь череп. Он, верно, даже не почувствовал ничего. В какой-то момент на бегу отказали ноги, и человек провалился в пустоту. Руки еще сжимают автомат в последнем выстреле, мышцы налиты энергией, напряжены… Вы видели когда-нибудь, что происходит с человеком, которого убило миной? Например, живот вспорот — аккуратно, как скальпелем. Осколок. Его поднимаешь, а внутренности волочатся по земле. А у некоторых брюшину просто вырвало полностью, с содержимым, в громадной дыре — ничего, лишь какие-то сгустки… Мы как делали с такими: обвязывали им животы тряпками накрепко, чтобы то, что есть, не выпадало, и грузили в машину. Воняло паленой и разлагающейся плотью, сладковатый такой с горчинкой запашок… Самое худшее — оторванные части тел: руки, ноги, головы. Где чье — хер поймешь. Все «бесхозное» просто складывали в мешки: голова к голове, рука к руке, нога к ноге… Спасительное отупение пришло не сразу, но пришло в конце концов. Автоматически, не думая, выполнял свою работу. Мы выполняли нашу работу. Молча, без единого звука. В присутствии мертвых вообще лучше молчать.
Закончили к утру. Погрузились все в те же машины, рядом с трупами. Сидели прямо на мертвых, мест не было свободных. Тронулись, поехали медленно. Без вопросов пошла по кругу трубка е ганжой. Потом другая. Лица у всех черные, страшные. У меня, наверное, тоже. Ганжа ни черта не помогла — я ее даже не почувствовал. Мучительно мерзкое состояние: дикая усталость, хочется спать, но уснуть не можешь. Хотелось выпить водки — много. Может, целую бутылку выпил бы не отрываясь. Но они же не пьют, черти!..
Вернулись, долго выгружали трупы. Укладывали их на землю ровными рядами. Я насчитал около восьмисот. Мы ведь не одну ходку сделали — пять или шесть, не помню. Восемь сотен убитых — треть от всего войска. Треть! Берберов мало, «арабских афганцев» — трое или четверо. В основном — мужичье необстрелянное, пехота. «Аллаху акбар!» — и под пули. Гнусно.
В лагере никто не спал. Жгли костры, сидели молча, мрачные, растерянные. Испуганные. Был бы лес рядом, я так чувствовал, многие бы шуганули в лес. Они ведь, большинство, не воевать пришли, не коченеть под луной с распоротым брюхом. Им же обещали красивый джихад — чтобы не землю ковырять кетменем, а красиво тусоваться с автоматом… Потусовались. Страх и недоумение читались на лицах, сквозили в глазах. Такое вот крестьянское «себе на уме»: мол, с вами хорошо, но теперь лучше уж без вас… Никто, я так думаю, в новую атаку идти не собирался. Как-то не тянуло больше в атаку. А потом позвали на утренний намаз.
Деревянный помост, на котором белым столбом возвышается Хаджи Абу Абдалла. У помоста — уложенные в ряды мертвецы. Оторванные части тел распределили как пришлось. Аллах разберется. Вокруг мертвецов — мы, поникшие. И шейх Халиль ибн-Исхак во главе нас. Угрюмый, насупленный, злой, смотрит в землю — нахохлившаяся птица. Отмолились, ждем — чего? Что скажет вождь, имам. Чем объяснит поражение. Внезапно увидел Томаса — Туфика с видеокамерой. Чистенький, свежий, гладко выбритый. Сволочь, вдруг стукнуло в голове, ведь он не был с нами в бою! Отсиживался в лагере, пока мы там… Ах ты, гнида! Насилу сдержался, чтобы не подойти и не дать в морду. Взял себя в руки: нет. Пусть его Аллах решает, что делать с такой дрянью. По какому закону судить таких, как он… А мне, черт возьми, необходимо знать, что скажет сейчас Абу Абдалла. Мой командир…
Протолкался поближе, неслышно подошел сзади к Томасу, положил ему руку на плечо. Бывший профессор испуганно обернулся, вздрогнул. Наверное, очень нехорошее было у меня лицо. Побледнел, пожевал губами, промолчал.
Абу Абдалла произнес короткую резкую фразу, назвав имя шейха Халиля. Тот нехотя, переваливаясь с ноги на ногу, хромая, взобрался на помост, встал рядом. Фигура в белом — фигура в черном. Символично. Когда Абу Абдалла заговорил, Томас принялся синхронно переводить, не дождавшись моей просьбы. Хотя просьбой бы это не звучало, точно.
— Как ты мог так поступить, друг? Ведь я знаю тебя очень давно. Плечом к плечу мы прошли с тобой афганский джихад. Я рисковал жизнью ради тебя, а ты — ради меня. Ты был мне как брат. Отчего же ты ослушался приказа своего амира, имама правоверных? Ведь сказал пророк, мир ему: «Тот, кто не подчинился амиру, то поистине он не подчинился Мне». Почему ты не вступил в бой тогда, когда всевышний Аллах, мир ему и благословение, поколебал ряды врага? Ведь ты всегда был лучшим из воинов. Я назначил тебя командовать лучшими, ибо учил пророк, мир ему: «Тот, кто назначил человека над какой-либо группой, находя в этой группе того, кем Аллах более доволен, чем тем, кого назначили, поистине он совершил предательство по отношению к Аллаху, Его Пророку и к мусульманам». Ответь мне, Халиль, почему ты не вступил в бой раньше?
— Ты не приказывал мне, Хаджи, — сквозь зубы хрипло произнес шейх Халиль.
— Я приказал тебе выполнить твой долг перед Всевышним и его уммой, — по-актерски торжественно сказал (изрек, промолвил) Абу Абдалла, сверкнув глазами. — Ты не выполнил свой долг по словам пророка, мир ему: «Каждый из вас пастух и каждый ответствен за то, что охраняет». По твоей вине мы потеряли тысячу муджахидов и не исполнили волю Неизъяснимого, который желает, чтобы кафиры и муртады были посрамлены и повержены. Мы пережили позор и унижение, а враги Аллаха торжествуют. Ответь мне, брат: кто виновен в этом?
— Ты мой амир, Хаджи, и ты не отдал мне приказа, — все так же мрачно и хрипло, потупясь, ответил Халиль. — Ты запретил мне под страхом смерти выступать без приказа. Аллах свидетель, я повинен лишь в том, что вступил в бой по своей воле. Я пытался связаться с тобой, но твоя рация не отвечала…
— Изрек Всемогущий, мир ему и благословение: «Если ты боишься от людей измены, то отбрось договор с ними согласно со справедливостью. Поистине, Аллах не любит изменников». Как же можешь ты, виновный в гибели мусульман и нашем поражении, говорить сейчас о правилах войны? Я не отдал тебе приказа, ибо был погружен в битву, а глаза мои ослепил нур всемогущего Аллаха. Если бы ты не получил от меня приказа, но вступил в бой, и победил, и отдал бы душу свою Всевышнему, ты мог бы упрекнуть меня на Страшном суде, и я повинился бы перед тобой. Но поистине души павших не принимают твоих доводов. Согласно со справедливостью, нет более силы в нашем договоре, что военачальник выступает по приказу.
Неестественный, напыщенный стиль, фразы и обороты, которые не используют люди в нормальной речи, производили впечатление странное и тревожное. Абу Абдалла уверенно разыгрывал спектакль, шоу. И даже как будто подчеркивал это всем своим видом, интонациями, жестами, паузами. Полководец Ганнибал в третьесортной исторической драме. Даже в переводе Томаса — Туфика эти цветистые, с многословными цитатами, монологи тянули разве что на «самодеятельность релейного завода», как говорил один мой приятель.
— Ты говоришь, что совершил ошибку по неведению, Халиль. Но вспомни слова пророка, мир ему: «Перо приподнято с троих: с ребенка, пока он не достиг совершеннолетия, со спящего, пока он не проснулся, со слабоумного, пока он не пришел в себя». Всевышний не принимает твоих нынешних оправданий. Найди оправдания новые, и, может быть, тогда мы поймем тебя.
Втянув крупную костистую голову в плечи, крепко упершись ногами в землю, стоял шейх Халиль и молчал. Словно древний, тысячелетний пень врос в почву окаменелыми корнями. Его собирались сделать козлом отпущения, принести в жертву. Старый вояка, я думаю, он не разбирался в Коране, не знал нужных фраз. Может быть, вообще не умел читать. Оправдываться было бесполезно. Полный мрачного достоинства, не проронил ни слова. Преданный своим имамом, не хотел участвовать в спектакле. Но его мнением все равно никто не интересовался.
— Мы сражаемся во имя Аллаха, мир ему и благословение, чтобы установить справедливость на земле, утвердить истину, искоренить ложь, угнетение и порочность, — продолжал Абу Абдалла с трагическим укором в голосе. — Но что скажут муджахиды, глядя на такого командира, как ты? Их вера поколеблется, их храбрость ослабнет, их умы будет разъедать сомнение. Ты молчишь, но душа твоя горит в огне стыда, ибо голоса мертвых взывают к тебе. Покайся перед лицом уммы, и будет так, как. сказано в аяте: «Ныне облегчил вам Аллах, Он знает, что у вас есть слабость».
Халиль ибн-Исхак не двинул даже мускулом, не издал ни звука. Примолкшие, потрясенные, стояли муджахиды. Переминались с ноги на ногу, цокали языками, косились друг на друга. Похабно-театральная речь, цитаты, низкий грудной голос — все гипнотизировало их, сбивало с толку. Белая фигура правого и черная — виноватого. Ряды мертвых тел, горечь и шок поражения… Покорное стадо подчиняется умелому поводырю. Как овцы тупые, хуже овец! Быдло, быдло поганое! Такой дешевый обман, такая лапша на уши — и они верят, принимают все, тупоголовые скоты… Хотелось броситься вперед, выкрикнуть: «Что вы делаете! Что же вы молчите! Этот человек спас нас от поголовной бойни! Спас вашего проклятого имама! Он ни в чем не виноват!» Разумеется, я этого не сделал. Даже не потому, что не знал языка. Струсил. Глотал слюну от злости, от бессильного бешенства. Сжимал кулаки. Как в школе, когда на комсомольском собрании клеймили хором Рустика Рахметуллаева, худого, кривоногого и прыщавого затравленного зверька, который открыто, при всех вдруг посмел заявить, что в гибели его брата под Джелалабадом виновна, видите ли, Коммунистическая партия, а не душманы. И она, партия, виновна в том, что таджика Селима Рахметуллаева, восемнадцати лет от роду, послали убивать братьев-таджиков, которых угораздило родиться по ту сторону Государственной границы.
— В последний раз призываю тебя покаяться, брат! — провозгласил Абу Абдалла, воздев руку. — Истинно взываю к тебе: покайся! Ибо гласит аят: «Просите же у Него прощения, ведь Прощающий Он и Всемилосердный». Прошу тебя об этом как друг, как равный пред Господом. Еще не поздно.
Хорошо, достойно держался шейх Халиль. Не оправдывался, даже позы не сменил. Комедия его не касалась. Крепкий дядька, искореженный походами бравый солдат. Старый гриф такой, когтистый. Стоял, спокойный. Все уже знал наперед. Мне бы эту твердость, мне бы такое спокойствие! Не боялся пули, не боялся смерти — и предательства не испугался. Но никто этого не видел, кроме меня. Фигура в черном — фигура в белом. Преступник — судья. Абсурд, который преподносится как нечто само собой разумеющееся. Чем наглее обман, тем легче выдать его за правду. Вот, оказывается, как было в тридцать седьмом году…
— Во имя Аллаха милостивого, Аллаха милосердного, я отнимаю руки свои от тебя, Халиль ибн-Исхак! — Абу Абдалла отступил на шаг и демонстративно убрал руки за спину. — Пусть скажут мусульмане, какой участи ты достоин.
Последняя моя надежда была — «арабские афганцы». Те, что пришли с Халилем, в черной форме. Вот, казалось, сейчас они кинутся на помост, окружат своего командира живой стеной, ощетинятся стволами автоматов… Ну должны же они так поступить, обязаны!.. Нет, нет! Ворчат полушепотом, бросают косые взгляды, сгребают бороды в пятерню. Стадо… и эти — стадо!..
— Ответьте, мусульмане! — жестко, властно, уже без притворного подсюсюкивания потребовал Террорист Номер Один.
Тяжелая, мутная тишина зависла над толпой. Клубилась удушливым дымом, как крепкая ганжа. Затягивала рассудок пеленой сумрака. Сжирала остатки воли, здравого смысла. Я чувствовал физически, как давит на плечи невидимый груз, заставляя сутулиться, сгибая до земли. Словно мы куклы-марионетки были, и наши ниточки крепко зажал в кулаке этот человек, имам. Который знает паскудную человеческую душу лучше, чем сами человеки. Человечки.
— Смерть! — наконец судорожно и тонко выкрикнул какой-то провокатор.
Толпа вздрогнула, будто по ней прокатился электрический разряд, заволновалась.
— Смерть! — отозвались неуверенным басом на другом краю.
И дальше уже легче пошло-поехало:
— Смерть! Смерть! Смерть!
Хором, дружным хором, мы желали казни тому, кто нас спас. И я сам, я тоже кричал! И Томас — Туфик — все.
Удовлетворенный, Абу Абдалла взмахнул ладонью, потребовав тишины. Все звуки мигом исчезли, точно отключился рубильник. Абсолютная власть вождя была восстановлена.
— С первой каплей крови Аллах прощает своего раба, — провозгласил Абу Абдалла. — Всемогущий свидетель, я не осуждаю тебя, Халиль, и умма не осуждает тебя. Искупив вину, ты войдешь в рай, и пророк, мир ему, возложит на твою голову венец шахида. Да будет так!
Один из муджахидов, стоявший до этого за помостом, приблизился к Абу Абдалле и подал ему с глубоким поклоном длинный и тонкий предмет, замотанный в белую тряпку. Торжественно и медленно, давая толпе разглядеть каждое движение, Террорист Номер Один размотал материю. Муджахиды ахнули… В его руке был изогнутый сверкающий клинок с тонкой гравировкой по отточенному лезвию и золотой рукоятью, усыпанной драгоценными камнями. Клинок полыхал на солнце, как будто сам был способен излучать свет, сияние. Разноцветные камни переливались ярким огнем радуги, золото и сталь горели слепящим пламенем. Я не мог поверить своим глазам. Просто не мог поверить! Спектакль не думал заканчиваться, он близился к безумному финалу.
— Меч п-пророка, — шепнул мне, обернувшись, Томас. Он был очень, очень бледен, цивилизованный американский Томас. До сине-зеленых провалов под глазами, на щеках, в углубившихся морщинах около рта. — Фамильная реликвия семьи Абдалла, подарок короля Фейсала.
Так это в действительности или нет, меня не интересовало. Я жадно наблюдал, все еще не в состоянии поверить, что такое возможно. Шейх Халиль снял куртку, нижнюю рубаху, обнажившись до пояса. На груди его я разглядел еще несколько шрамов. Помолился коротко. Опустился на колени, склонив косматую голову, черную гриву, убрал за спину руки. Абу Абдалла поднял меч над головой.
— Ашхаду алля иляхаилляЛлах ва ашхаду анна Мухам-мадан расулюЛлах! — И опустил со свистом.
По толпе пронесся сдавленный вопль. Отрубленная голова громко стукнула о доски помоста и покатилась к ногам имама. Окровавленное лезвие полыхало еще ярче. Тело Халиля ибн-Исхака, даже не дернувшись, беззвучно повалилось на бок. Тогда Абу Абдалла, отдав меч муджахиду, которого трясло от ужаса, поднял голову шейха обеими руками, приблизил к лицу. Кровь хлынула на белоснежный наряд имама, стекала по предплечьям, заливалась в широкие рукава. Бриллианты часов сияли сквозь алые потоки.
— Прости, брат! — громко произнес Абу Абдалла и крепко поцеловал голову в не успевшие еще посинеть, растрескавшиеся губы. — Покойся с миром!
Не в силах больше выносить зрелище, все рухнули на колени, ткнулись лицами в землю. Наверное, даже для их закаленных нервов это было слишком. Перебор. Террорист Номер Один аккуратно завернул голову в ткань, которой был обмотан меч, и положил рядом с телом. Сказал:
— Похороните его как шахида. — И вдруг, выхватив у муджахида клинок стремительным движением, так что тот отшатнулся, рубанул воздух и взвыл в полную мощь легких:
— Аллаху акбар!!!
— Аллаху акбар!!! — звериным ревом отозвалась толпа, всколыхнувшись яростной силой. Взлетели в воздух стволы автоматов. — Аллаху акбар!!!
И грохнула оглушительная канонада.
— О Боже мой, — одними губами, со страхом произнес Томас, — теперь они пойдут в бой и разорвут врага на куски голыми руками…
Вот по этой напряженной, испуганной интонации я вдруг уловил, точно понял: что-то не так с ним. Не тот, за кого себя выдает, возможно… Или мне все-таки показалось?
Снова — дни ожидания. Длинные, длинные дни. Ничего не происходило. Единственное, что хоть как-то скрашивало скуку, — молитвы. Муджахиды слонялись по лагерю сонными привидениями. Абу Абдалла не показывался. С Томасом общаться не хотелось, лекциями уже сыт был по горло. Навалилась душная тоска. Танюша, дочка — конечно, думал о них постоянно. Ни на секунду не забывал. Тысячу раз задавал вопрос Томасу: как они? что с ними? И тысячу раз получал один и тот же расплывчатый ответ: с ними все в порядке, можете не беспокоиться. Насколько я понял из давних, еще у Марка, разговоров со своими, их держат на какой-то военной базе в песках. Где — понятия не имею. Даже не знаю, в этой ли стране.
Больше всего на свете я мечтал вернуться домой. Избавиться от этого кошмара, прекратить его раз и навсегда. И в то же время… В то же время абсолютно не представлял себе, что будет, когда я вернусь в Москву. Снова напялить костюм офисного служаки и усесться за компьютер? Как-то совершенно в голове не укладывалось. Москва, вообще тот мир, из которого я так неожиданно выпал, представлялись все более нереальными, словно в тумане или во сне. И еще более нереальной представлялась жизнь, которую я там вел. «Нормальная», цивилизованная. Относительно безопасная. Когда я думал об этом, все выглядело чужим, отчужденным… скучным. Пресным. Пошлым. Как будто был много лет сушеной рыбой, таранкой, селедкой, закатанной в жестяную банку, и внезапно чудом ожил, вильнул хвостом, нырнул в морскую воду… Со мной что-то случилось, я не мог еще понять, что именно. Я по-прежнему оставался европейцем, человеком Запада и атеистом, не чувствовал ничего, что связывало бы меня с этой войной, с исламской религией, со всем, что окружало, и все же… Мне казалось, что я стремительно повзрослел. Части души, части личности, до сих пор болтавшиеся отдельно, сами по себе и каждая за себя, соединились, схлопнулись, как хорошо пригнанные детали автомобильного двигателя. Срослись. Во мне возникло нечто цельное, устойчивое, некий твердый стержень, которого так не хватало раньше. Я… как бы это сказать?.. Я мог доверять себе, полагаться на себя. Ощущал… ну, такую глубокую уверенность, что ли. Человек совершенно невоенный, питавший всегда отвращение к насилию, я чувствовал себя комфортно с оружием в руках. Нет, у меня не было желания убивать, конечно. И не было цели, идеи, за которую можно убить. Но… это можно уподобить шарику рулетки, который долго вертится, описывает длинные круги и затем ложится наконец в лунку. Не имеет значения, что за лунка: красная, черная, зеро. Мой бег прекратился. Я стоял в некоей точке, откуда мир воспринимался по-другому. Эта точка была моим местом в мире. Моей собственной человеческой позицией, И я испытывал гордость, что так получилось, что у меня эта позиция есть. Я стал мужчиной. Сильным, злым вооруженным самцом. Меня окружали такие же сильные и злые вооруженные зверюги. Не понимая их языка, я чувствовал с ними бессознательную близость. Во мне забил ключ мощной, хищной энергии. Нет, это не подростковая романтика войны сопливая, совершенно другое. Трудно описать. Словно ты вернулся… банально звучит, к корням, к истокам… Сбросил многослойные маски, перестал притворяться. Перестал быть плюгавым маленьким человечком, колесиком и винтиком всеобщего механизма. Рабом компьютера, телевизора и супермаркетов. Всеобщей бессмысленной суеты. Оплаченного до последней паркетины уюта. Многоруких и многоногих коллективов. Отказался служить системе, которая сама же пожирает тебя, переваривает и извергает. Здесь, в пустыне, пережив настоящее, не сравнимое ни с чем одиночество, я проникся его очарованием. Предоставленный фактически сам себе, лишенный собеседников и уж тем более единомышленников, я испытывал странный покой. Как будто ничего страшного нет в мире, ничего со мной плохого не случится. Словно лежишь на бескрайнем зеленом лугу и глядишь в такое же бескрайнее синее небо. Странно…
Но, как всегда, это только одна сторона медали. Прежнее «я» не умерло, никуда не делось. Присутствовало, жило. Периоды покоя перемежались воспаленной, безумной тревогой. Хотелось бежать куда глаза глядят, затеряться в песках и умереть. Иногда приходило чувство тупой обреченности. Несколько раз я был близок к тому, чтобы вставить ствол автомата себе в рот и выстрелить. Особенно безлунными ночами. Спасали мысли о близких, о своих. Таня, Еж… Не могу их бросить! Очень, очень мне было тяжело. И — ноль информации, полная безвестность. Что происходит? Почему не атакуем? Почему молчит противник?..
Наконец Аллах сотворил чудо. Однажды, бродя по лагерю поздним вечером, услышал музыку. Пошел на звук как завороженный и обнаружил муджахида, что пыхтел ганжой и наслаждался заунывным пением, которое транслировал миниатюрный японский приемник. Муджахид был в полной отключке, невменяемый. И я сделал то, за что здесь запросто отрубают руку, — подошел тихонько, отключил приемник, положил в карман и бесшумно исчез. В любом случае мог бы потом сказать, что Ахмед или Хасан обсадился, как речной трамвайчик, и подарил мне игрушку, — попробуй докажи обратное! А насчет руки — действительно правда. Еще когда шли через пустыню, один паренек украл у спящего приятеля электронные часы. Дешевые, гонконговские, за доллар. Приятель поднял крик, часы нашли. К Абу Аб-далле виновного тащить не стали. Явился шейх Халиль, кратко выслушал обе стороны, вынес приговор. Виновного скрутили, положили руку на камень и отсекли кисть топором. Очень громко парень кричал…
Счастливый, втихомолку выбрался из лагеря, нашел укромное место — ложбинку в основании высокого холма, поросшего клочковатой травой. Техника оказалась слабая и старая. Никаких коротких волн. Единственное, что удалось найти среди однообразных восточных завываний, — египетскую радиостанцию, которая транслировала новости на английском языке. Несколько ночей подряд провел без сна, пытаясь сквозь треск помех расслышать бормотание сонного диктора. Рискуя, я отчетливо это понимал, своей шкурой. И жестоко промерзая до костей.
…Организация Объединенных Наций по-прежнему не дает санкции на проведение военной операции в Северной Африке.
…Мощные антивоенные демонстрации прокатились по всему миру. Более 75 тысяч человек вышли на улицы Вашингтона с требованием не допустить агрессии Соединенных Штатов в Северной Африке. Это крупнейшая подобная демонстрация в Америке со времен вьетнамской войны. В Риме число демонстрантов достигло около 50 тысяч человек, в Берлине — 10 тысяч.
…Британские демонстранты сожгли американский флаг возле здания посольства США в Лондоне.
…Боевики «Хамас» угрожают применить против Израиля ядерное оружие в том случае, если американцы начнут военную операцию против исламских повстанцев. Участившиеся в последние месяцы террористические акции, которые устраивают в этой стране террористы-камикадзе, позволяют считать намерения «Хамас» достаточно серьезными.
…Федеральный канцлер Германии официально заявил, что бундесвер не будет участвовать в вооруженных конфликтах, которые не несут прямой угрозы национальной безопасности страны.
…Руководство НАТО еще не приняло окончательного решения в связи с участием войск альянса в военной операции, к которой призывает Белый дом.
…Президент Израиля вылетел в Вашингтон для срочных переговоров. В коротком интервью в аэропорту Бен-Гурион он заявил, что американское военное вмешательство может спровоцировать новый виток конфликта на Ближнем Востоке.
…Туристы в панике покидают курорты арабского Средиземноморья. Убытки туристических компаний исчисляются миллионами долларов.
…Франция, Германия, Бельгия, Великобритания и Россия оплакивают погибших. По неуточнениым данным, убито и пропало без вести более трехсот человек, не успевших вовремя эвакуироваться. Имеются сведения, что некоторые из иностранных граждан проданы в бессрочное рабство берберским племенам и бандформированиям, контролирующим внутренние районы страны.
…В Египте ожидается массовый приток беженцев. Правительство обратилось к международным организациям с просьбой о выделении специального финансирования.
…Тридцать пять американских деятелей культуры, среди которых голливудские звезды Том Круз, Леонардо ди Каприо и Барбра Стрейзанд, направили в Белый дом открытое письмо с требованием не допустить применения силы в Северной Африке.
…Президент Соединенных Штатов в очередной раз заявил, что международная общественность обязана положить конец исламскому терроризму, однако воздержался от каких-либо дальнейших комментариев.
…Всемирная исламская конференция, завершившаяся в Абу-Даби, с перевесом в двадцать четыре голоса отказалась признать Хаджи Абу Абдаллу имамом Махди. Представители шиитского крыла и ряда влиятельных суфийских орденов открыто заявили, что считают Абу Абдаллу провокатором и самозванцем, а саму постановку вопроса — не соответствующей религиозной догматике. «Два мусульманина могут иметь разные точки зрения на одну и ту же проблему. Однако необходимо, чтобы обе стороны в равной степени уважали шариат», — считает Факир ал-Айман, нынешний глава ордена «Ниматулла-хи», в интервью лондонской «Тайме». Тем не менее ряд влиятельных мусульманских ученых-суннитов опровергли это решение и призывают к созыву новой, альтернативной конференции.
…В новых центральноазиатских государствах, обретших независимость после распада СССР, активизируется «махдистское» движение. Муфтий Узбекистана подчеркнул, что американская вооруженная акция против войск Абу Абдаллы может привести к восстанию местных фундаменталистов.
…Армия Абделькадера Дустума испытывает острую нехватку живой силы и техники. На территориях, контролируемых генералом Дустумом, активно действуют агитаторы, подстрекающие население к акциям гражданского неповиновения «узурпатору и врагу ислама». В некоторых населенных пунктах вспыхивают локальные мятежи.
…Катарская телекомпания «Аль-Джазира» посвятила специальную двухчасовую передачу джихаду, который ведет Хаджи Абу Абдалла в Северной Африке. Потрясающие своей жестокостью кадры казни шейха Ха-лиля ибн-Исхака были показаны в тот же вечер всеми ведущими западными телеканалами. Среди прочего также Абу Абдалла выразил свою солидарность с чеченскими повстанцами, противостоящими Российской армии, и заявил, что если Кремль немедленно не прекратит войну в Чечне, он будет считать президента Путина таким же непримиримым врагом ислама, как и Джорджа Буша-младшего.
…Генерал Дустум, объявивший себя главой государства без проведения демократических выборов, официально обратился к Вашингтону с просьбой о вооруженной поддержке. По словам министра иностранных дел Соединенных Штатов, «мы никогда не отказывали в помощи, если были уверены в том, что наши действия послужат укреплению демократии, мира и стабильности».
…Эксперты полагают, что угроза применения ядерного оружия против Израиля по-прежнему не лишена оснований.
Чему суждено было случиться, то случилось. Долину, со стороны противника, пересекал открытый военный джип с белым флагом. Они сдавались. Муджахиды, не веря своим глазам, выглядывали из окопов, проверяли на всякий Случай оружие. Оружие не потребовалось. Когда джип приблизился, я разглядел в нем… Юсуфа Курбана! Одетый в белую габию, с арафатовской куфией на голове, в темных очках — арабский принц из нефтяной сказки. Рядом с ним — дородный усатый мужчина в полевой форме, по бокам — автоматчики.
— Дустум! — прокатилось над окопами. — Сам Абделькадер Дустум!..
Метров за пятьдесят до наших позиций джип остановился. Впереди процессии шел солдат с белым флагом, нацепленным на длинное тонкое древко. Следом — вальяжной, но неубедительной какой-то, семенящей походкой — Юсуф Курбан. А за Юсуфом, в сопровождении двоих, — генерал. Держал руки за спиной. Приглядевшись, я понял, что на запястьях Абделькадера Дустума — наручники. «Арабские афганцы» тотчас окружили их — как обычно, кольцом. Юсуф принялся что-то объяснять, «афганцы» с подозрением осматривали его с ног до головы, кивали. Автоматы были наготове. Юсуф протянул им белый конверт. «Афганцы» пожали плечами и повели всю компанию к шатру Абу Абдаллы.
Мы все, не сговариваясь, тоже потянулись туда. Глазели удивленно друг на друга, с болезненным любопытством косились на джип. У шатра нас встретила, плечом к плечу, хмурая охрана. «Всем вернуться на места!» — приказ. Муджахиды отошли в сторонку, но не расходились. Стояли группками, шепотом трепались. Томаса — Туфика в шатер не пустили. Слонялся со своей камерой, досадливо кривился, сплевывал.
— Что происходит? — спросил я, тронув Томаса за локоть.
— Милостью Аллаха, все свершилось. — Он тотчас встал в обычную боевую стойку. — Муртадам не хватило смелости сопротивляться армии имама. Нашлись добрые мусульмане, которые арестовали генерала Дустума, ибо сказал Всемогущий, мир Ему и благословение: «Не бросайте свои руки к погибели».
— Это Юсуф Курбан — «добрый мусульманин»? Томас замялся:
— Сказано: «Аллах знает несправедливых». Идите лучше займитесь своим делом…
Через некоторое время из шатра вышел — выбежал — и сам Юсуф. Растерянный, бледный, без очков. Слева и справа немедленно встали «арабские афганцы». Как бы почетным эскортом, но лица у них были для эскорта неподходящие, суровые и сумрачные. Очень напоминало конвой. Пробежав пару шагов, вертя головой в разные стороны и отдуваясь, Юсуф внезапно увидел меня. Мы столкнулись взглядами, и в глазах «доброго мусульманина» корчился страх.
— Это вы? — воскликнул он удивленно по-русски. — Что вы здесь делаете?
Я промолчал и отвернулся. Юсуф, наверное, хотел поговорить со мной, но конвойные, недобро, с подозрением глянув в мою сторону, дали ему понять, что надо идти. Не останавливаясь.
— Пидарасы, — чуть слышно прорычал Юсуф, бросив мне на прощание тоскливый и непонимающий взгляд. Славянского наречия, кроме меня, здесь все равно никто не понимал.
Когда его увели в соседнюю палатку, возле которой сразу встали караулом «афганцы», из шатра вышла пара: Абу Абдалла и Абделькадер Дустум. Томас кинулся снимать, но Террорист Номер Один жестом остановил: не надо. Выглядели они как два старых друга, прошедших и Крым и Рим. Красиво смотрелись: мудрец и воин. Генерал держался с подчеркнутым достоинством, кивал в ответ на реплики Абу Абдаллы, вставлял негромко короткие фразы. Наручников на нем уже не было, и Дустум задумчиво массировал покрасневшие запястья. Коротко опишу его: невысокого роста, полноват, но крепок и широк в плечах. Мощная грудная клетка, военная выправка, стать. Полная противоположность кривому и изрезанному шрамами шейху Халилю. Спокойное, холеное, уверенное и умное лицо с тяжелой нижней челюстью. Подчеркнуто собран, суров, замкнут. Пышные, ухоженные усы с нитями благородной седины. Высокий гладкий лоб с выразительными морщинами у переносицы. Если коротко — похож на породистого мускулистого бульдога. Отчего-то вспомнилась модная в свое время дурацкая песенка Пугачевой: «Н-настоящий полковник!»
Всем видом своим Абу Абдалла давал понять, что Абделькадер Дустум не пленник, которого привезли заговорщики в качестве залога верности, а почетный гость. Муджахиды, озадаченные еще больше, примолкли и держались в сторонке. Даже Томас — Туфик, кажется, мало что понимал. Продефилировав перед зрителями несколько минут, как бы давая понять расстановку сил, имам и генерал снова скрылись в шатре. «Арабские афганцы» бесцеремонно разогнали любопытных. До позднего вечера, а затем весь следующий день я жадно ждал объяснений, которые так любит делать Абу Абдалла. Но разъяснений не последовало. В полном недоумении мы вступили в столицу.
…Не было ощущения победы. Ощущения выигранной войны, осмысленно пролитой крови не было. Все решили обыкновенная человеческая низость, предательство. Закулисные игры, истинного смысла которых не узнаешь никогда. Я чувствовал себя глупо, гадко. Да, столица сдалась нам без боя. И без хлеба-соли. Город словно вымер. Держа в памяти еще свои прежние впечатления, варварское это скопище машин и животных, торговцев и бездельников, я был поражен пустотой улиц и замогильной тишиной. Куда все подевались? Лавки, магазины — закрыты. Автомобили припаркованы где придется. Прохожих нет. Словно водородную бомбу взорвали. Единственное, что напоминало о прежней жизни, — грязь. Пластиковые мешки с отбросами, гниющие фрукты, разломанные ящики какие-то, обрывки газет, битое стекло, вонь — этого было предостаточно. Кое-где на перекрестках я замечал покинутые бронемашины, видел даже один танк. На башне сидели два здоровенных баклана и дрались из-за ошметков чего-то непотребного. Труп, что ли, жрали? Вообще птиц было много — море все-таки. В основном чайки, копавшиеся в мусорных завалах. Проходя мимо здания американского посольства (железный герб Соединенных Штатов так и не убрали с ворот), я заметил: все окна до единого выбиты. Видны следы пожара. Посольство, надо полагать, разорили полностью. Во дворе валялось несколько разбитых в мелкие осколки компьютерных мониторов, кружили клочья обгоревших бумаг. Бурые пятна на кирпичной стене могли быть кровью, но поручиться не могу.
Нас разместили в самом шикарном из возможных отелей — шестнадцатиэтажном «Африка-меридьен» на центральной улице города, Авеню Хабиб Бургиба. В первый свой приезд на этой улице я не бывал и поразился: натуральная, широкая европейская авеню вроде Кутузовского проспекта. Современные здания, никакой туристически-музейной экзотики. Милая, привычная сердцу и глазу московская реклама на биг-бордах: Mazda, Pampers, Siemens, Snickers. Я на мгновение ощутил себя почти дома, в нормальном, человеческом мире. Муджахиды с брезгливым уважением косились на пестрые физиономии безбожной жизни, нагло выпиравшие отовсюду. На то, что досталось им случайно, не по праву, и чем они никогда не смогут воспользоваться, дикие животные пустыни. Роскошные бутики: Joop! Givenshy, Hugo Boss, Tiffany… Почти все — с откровенными следами грабежей. Высаженные витрины, внутри погром… Офисные многоэтажки глядят хмуро слепыми окнами. Я вдруг почувствовал: как ужасно, когда цивилизация отступает! А она может отступить. И полуграмотные, полуголодные дикари с автоматами, с мозгами, наглухо запечатанными парой дешевых софизмов, придут и растопчут все, что создавалось поколениями. То, к чему веками двигались человеческие орды, медленно превращаясь из первобытных племен в народы и нации, создавая Мону Лизу и самолет, электрическую лампочку и Евангелие, компьютеры, женские прокладки, аспирин и космические корабли. Все это — элементарно! — может быть растоптано, выжжено дотла и залито кровью. Мое второе «я», европейский человек, захлебывалось презрением и гневом. Я их снова яростно ненавидел — торжествующих нищих, ублюдочных фанатиков, которые хотят превратить всю планету в сплошную пустыню, чтобы раскатывать по ней на верблюдах и славословить своего Аллаха! Установить снова законы людоедского варварства, кровожадной однозначности, из которой мы едва-едва, похоронив Гитлера и Сталина, понемногу выкарабкиваемся. Спотыкаясь, падая, набивая синяки и шишки, но с каждым днем — все дальше от газовых камер и концлагерей, от «for whites only» и поголовного поклонения вождю, фюреру, единому Богу… Ведь они могут — и от этого понимания темнело в глазах, — они действительно могут это сделать, если их не остановить! Мы же знаем, это же сценарий 17-го года! Пока сверхдержавы жуют сопли, рассусоливая о международном престиже, а нефтяные саввы Морозовы из Эмиратов дают деньги на джихад, мир необратимо меняется. Завтра мы проснемся и обнаружим, что уже поздно… Где вы, чертовы янки?! Где ваши самолеты, ракеты, бомбы?!!
…Отель — да, это было что-то! Пять звезд для меня не новость, я, в общем, имею представление, что такое пять звезд, но в арабском исполнении… Нет, о вкусе речь не идет, конечно. Сон пьяного цыгана о Версале. Великанские хрустальные люстры на витых узорчатых цепях. По сводчатым потолкам роспись: нимфы, пастухи, пастушки… Как бы античные колонны — тонны мрамора, гроздья лепнины, жирно облепленной позолотой. Громадные зеркала в два человеческих роста, шикарные рамы… Здоровенные канделябры под стать колоннам, пестрые мохнатые ковры размером с маленькую городскую площадь… Войдя в вестибюль, муджахиды просто ошалели, другого слова не подберешь. Таким, наверное, им рисовался лишь мусульманский рай. Сбившись испуганным стадом, робко глазели на церковное великолепие — им и в голову небось не приходило сравнение с дорогим борделем. Не знаю, как там вела себя матросня в Зимнем дворце, но эти выглядели пришибленно. Некоторые, посмелее, бродили по залу, осторожно трогали зеркала, колонны и канделябры, садились в кресла и тотчас вскакивали, словно напоровшись на шило. Во все тыкали пальцами, цокали языками, живо обсуждали. Окружили мраморную голую Венеру, стоявшую в углу, — совещались, что с ней делать. В конце концов накрыли тряпками. Слуги, рабы, попавшие в дом хозяина. Мне было и смешно, и жалко их, и противно. Нашли где-то маркер и на всех зеркалах принялись писать зачем-то «Аллаху акбар». Зачем? Простые мужики, дремучие земледельцы — ну чего их понесло на эту войну? Что они могут дать человечеству?
Комедия продолжалась в номере. Мне и еще пятерым выделили трехкомнатный люкс в таком же бордельном стиле, да еще с белым роялем! Честное слово, это был цирк! Рояль, совершенно точно, они видели впервые. Чего с ним делать — понятия не имели. Кто мог подумать, что они такие пещерные! Столпились около инструмента, открыли крышку, подергали струны. Понажимали на клавиши. Потом дружно уставились на меня, не в силах понять, что это такое. Я, гордый белый человек, подошел смущенно и двумя пальцами изобразил «Собачий вальс». Не умею ничего другого. Какой начался восторг! Целый час, охренев совершенно, я играл им эту проклятую мелодию. А они требовали еще и еще. Их, конечно, не музыка вдохновляла, ясно. Просто поняли предназначение такой здоровой белой штуки. И радовались как дети, смеялись. Потом пошли в ванную… Боже! Там, в номере, была солидная ванная комната: джакузи в углу, душевая кабинка, умывальник, компакт, биде. «Виллерой энд Бош», с позолоченными деталями. Как мог, жестами, попытался объяснить назначение всего этого. Н-да… Когда я открыл кран и хлынула вода, муджахиды замерли в благоговении. Подходили и совали пальцы в струю: настоящая или нет. Я продемонстрировал, что вода бывает еще и горячей. Они пережили шок. После взял мыло, демонстративно вымыл руки, высушил их под электрической сушилкой. Моему примеру не последовал никто. Я выступал в роли фокусника, демонстрирующего неправдоподобные трюки. И осуждение мелькало в глазах: попривыкал, мол, русский воду тратить. Послонявшись по номеру, разложили харчи на рояле и принялись ужинать. Я присоединился — что делать? Поели, помолились и у валились спать. Не на кровати, нет — там были две огромные кровати под балдахинами, с кучей мелких подушек, и еще просторный кожаный диван, места хватило бы всем. Куда там! Легли рядком, на полу, подложив вещмешки под голову. Даже обуви не сняли! Через некоторое время в комнате стояла крепкая вонь свинарника. Уснуть я не мог. Плюнул на все, пошел в ванную комнату, залез в джакузи… Твою бога-душу-мать! Я не мылся несколько месяцев. Шампуня не видел простого черт знает сколько! В унитаз, блин, сто лет не ссал! Теперь лежал, ароматная мыльная пена до носа, и блаженствовал. Нет, я не осуждал этих людей, я их даже был в состоянии понять. В пустыне нет ни воды, ни белых роялей, ни джакузи — ни хрена там нет, кроме песка и безумной нищеты. Но есть в мире вещи, которые я не променяю ни на что. Да, они есть. По ту сторону пустыни. В очень, очень несовершенном мире. Нежась в струях горячей ласкающей воды, я перерождался стремительно, возвращаясь к своему прежнему облику. Москвича, хорошо оплачиваемого программиста, владельца уютной квартиры в новом доме, автомобиля «шевроле»… И вдруг заплакал. От жалости к себе, от той подлой несправедливости судьбы, которая заставила меня оказаться здесь, в этой проклятой заднице. Все пути к отступлению отрезаны, захлебываясь слезами, думал я. По возвращении домой меня ждет, разумеется, тюрьма. Долгие годы за решеткой. В компании уголовников и подонков. Тюрьма меня сломает, я потеряю квалификацию… если вообще выйду оттуда живым и здоровым. А что потом? Но оставаться здесь, с ними — тоже невозможно. Немыслимо. В пустыне, под огнем, рискуя жизнью, я не очень-то задумывался о будущем. Только одна цель была — вырваться. Куда угодно, где нет стрельбы, не бьют минометы. Где никому не выворачивает кишки взрывами. Теперь эти события — как быстро! — оказались неправдоподобно далекими. И тотчас вылезла другая сторона медали, другая правда. Будущего нет, бежать некуда. Я застрял между двух огней, двух миров, двух тупиков. Бежать некуда. Остается одно — умереть…
Да, умереть — эта мысль четко, без всяких комментариев и компромиссов, установилась в мозгу. Я больше не могу. Не могу, и все! Нет сил сопротивляться, бороться. Да и чем, с кем бороться, собственно? Кто враг? Нет никакой, никакой надежды… Пошло оно все к дьяволу! Не могу, не могу!.. Выпрыгнул из джакузи, открыл окно, впустил ночные запахи. Пахло морем: йодом и водорослями, какими-то фруктами и цветами… Посмотрел вниз: никого на улице. Тьма. Фонари не горят, окна черны. Ни людей, ни автомобилей. Восьмой этаж — приличная высота. Вполне приличная. Скользя подошвами, взобрался на подоконник, распрямился… и мне стало смешно. Голый, в мыльной пене, с разбитой башкой, окровавленный, лежит на тротуаре европейский мужчина. Его. незагорелая, бледная жопа отражает скользкий лунный свет. На ней еще не просохли пузырьки ароматного средства для ванн «Блю мун»… Какое издевательское название! Собираются вокруг муджахиды, тычут пальцами, ржут… Милая картинка. Закопают на пустыре как собаку и скажут: он всегда был предателем. Нет, черт побери, нет! Если уж взялся умирать, то умереть надо так, как не удалось прожить. Достойно. А не выбрасываться из окна голышом, приняв ванну…
Слез с подоконника, дрожа, принялся наскоро вытираться огромным, как простыня, мохнатым полотенцем. Дверь осторожно приоткрылась. Глупо улыбаясь, в ванную протиснулся чернобородый муджахид в исподней рубахе. Стараясь не смотреть на меня, все еще голого, встал ко мне спиной, открыл кран в умывальнике и принялся шумно уринировать, покрякивая от удовольствия. Затем напился воды — пил долго, как верблюд, — и бесшумно, бочком, вышел. Несчастные, они так и не поняли назначения унитаза. Моих лингвистических способностей не хватило…
На следующий день нас загрузили работой. Отель было велено привести в соответствие исламским канонам. Несчастную Венеру в вестибюле сорвали с постамента и утащили куда-то. Убрали со стен все картины, даже самые невинные, кроме фламандских натюрмортов: Аллах запрещает изображать живых людей. А обнаженных — сами понимаете. Потом убрали и натюрморты: кто-то предположил, что сочные куски жирного мяса могут быть свининой. Мне и еще дюжине муджахидов выпало самое гадкое занятие — закрасить фрески на потолке. Как это выполнить технически, никто понятия не имел. В конце концов нашли несколько металлических лестниц, скрутили их проволокой, и вот на такое хлипкое, цирковое почти сооружение лазили каждый по очереди с банкой краски и кистью. Один, на высоте метров десять — двенадцать, трясется от страха и мажет, остальные — держат лестницу и подбадривают его криками. Жаль, Томаса— Туфика рядом не было с видеокамерой! Такое зрелище стоило бы заснять. Побывав на верхотуре три раза, я решил, что с меня хватит, и под каким-то предлогом умотал в номер. Плюхнулся на диван. Закрыл глаза. Попытался хотя бы на несколько секунд отрешиться от происходящего, которое уверенно скатывалось к дурному фарсу. Меня разбудил громкий стук в дверь. Томас с двумя «афганцами».
— Вас желает видеть Хаджи Абу Абдалла, — отчеканил он.
Я не ожидал, испугался. Я не был готов. Даже хотел в первую минуту прикинуться больным, попросить перенести встречу. Но быстро сообразил: отказ невозможен. Надо идти. На специальном, особом лифте поднялись в пентхаус на шестнадцатый этаж. Прошли несколько кордонов охраны. Мне все хотелось выспросить у Томаса — Туфика, зачем я так срочно понадобился Террористу Номер Один, но слова застревали в горле. И знал: будет не простой разговор. Не игра в загадки: «…а что, если?». И не предложение запустить в сеть новый вирус. Что-то действительно важное, касающееся меня самого. Такое, что нельзя будет отмолчаться, соврать, отделаться простеньким софизмом…
Абу Абдалла принял меня в небольшой светлой комнате, напоминавшей кабинет. Резные шкафы темного дерева в готическом стиле с окошками толстого граненого стекла. Книги, книги — десятки книг за стеклом, со старинными корешками: золотая арабская вязь по истершейся коже. Я слышал: он коллекционирует книги, у него отличная библиотека, которую повсюду возит с собой. В отдельном шкафу — неисламские томики на английском и французском. С удивлением прочитал на переплетах имена Платона, Сартра, Ницше, Канта, Маркса… Книги неновые, потрепанные, с закладками из лоскутков бумаги. Читаные. Сам Абу Абдалла как-то очень по-домашнему, по-свойски одетый, сидел в глубоком кожаном кресле у приземистого овального столика и разговаривал по спутниковому телефону с длинной гибкой антенной. Перед ним, открытый, стоял ноутбук, и одной рукой, проворно, Террорист Номер Один щелкал по клавишам.
— Nikkey, Dow Jones, Nasdaq, EuroStoxx, DAX, Nemax, — звучали слова, перемежаемые процентами и цифрами.
Биржевые сводки, догадался я. Пару раз, настойчиво, повторил названия нескольких крупнейших мировых концернов — производителей электроники. Видимо, их акции следовало немедленно скупать. Или продавать, кто знает…
Закончив разговор, Абу Абдалла жестом указал мне на второе, свободное кресло. Холодея — да, именно так, холодея от страха, я сел. Постучали в дверь. Вошел «афганец», неся в руке узорчатый подносик с серебряным миниатюрным чайником и парой таких же крошечных стаканчиков, из которых здесь обычно пьют зеленый чай. Умело, не хуже опытного официанта, разлив напиток, удалился бесшумно. Террорист Номер Один пригубил чаю, поднял на меня глаза:
— Рад видеть тебя живым и здоровым, Искендер. Голос спокойный, ровный, глуховатый. Все никак не может одолеть акцент.
— Благодарю… — От волнения я охрип. Даже не ожидал такого сюрприза — связки сдали.
— Ты выглядишь очень усталым. Ты постарел на несколько лет.
— Вы очень любезны… — Я отхлебнул ароматного, круто заваренного чая с мятой, промочил горло. Поперхнулся, закашлялся.
— Мне кажется, за эти несколько месяцев ты сумел по-настоящему почувствовать, что такое жизнь, как быстро она течет… Оценить.
— Я бы не назвал это жизнью. — Руки, хотя тепло было, замерзли, я грел их о горячее стекло стаканчика.
Абу Абдалла добродушно усмехнулся в бороду:
— А чем же?
— Больше похоже на пытку.
Он внимательно посмотрел на меня — снова ощущение живого прикосновения, мороз по коже.
— Настоящая жизнь — всегда на пределе отчаяния. В этом ее прелесть. Ты еще не созрел, чтобы наслаждаться своим отчаянием. Это приходит позже, с опытом.
Его взгляд топил меня, как масло. Я не мог собраться с мыслями. Один глаз — спокойный и мудрый, другой — ненормальный, безумный, чокнутый. Сил сопротивляться, говорить что-то умное не было. Вообще не было сил, как выжали меня.
— Поймите, я больше не могу просто!.. — вскрикнул-всхлипнул.
— Конечно, конечно, — как-то по-отечески, даже утешая, ответил он. — Любой человек на твоем месте сказал бы то же самое. И все-таки ты жив.
— Пока…
Резким и плавным одновременно жестом Абу Абдалла поставил стаканчик на стол. Нечто отвердело в его глазах, схватилось льдом.
— Что дает тебе силу жить, Искендер?
— Не знаю… Я должен спасти своих близких. Где они? — Голос мой постыдно, постыдно дрожал. Чем он так пугает меня, этот человек?
— Твоя семья уже дома. Мы передали женщину и девочку российскому консулу в Каире, — сказал он равнодушно и погладил бороду. Сверкнули бриллианты часов. Вдруг ясно вспомнилось, как по ним хлестала кровь несчастного шейха Халиля. Бриллианты в крови.
— Это правда? Почему я должен вам верить? — Чай выплеснулся из стаканчика и обжег мне руку. Несколько капель упало на стол.
— Потому что без веры жизнь невозможна. Им сказали, что ты умер.
Великолепное равнодушие! Так задумчиво, вскользь сказано, словно человек автоматически произнес: «На улице дождь». И перевернул страницу книги.
— Как? Почему?! — почти заорал я.
Он никак не отреагировал. Молчал. Потом медленно, неторопливо встал, подошел к книжному шкафу, принялся разглядывать корешки. Черт знает сколько времени прошло, прежде чем он произнес — все так же отрешенно:
— Разве это не правда? Ты умер для своего прошлого. Ты это знаешь. Когда человек умирает, это происходит не сразу. Твоя душа прошла только полдороги. Осталась еще половина.
И я взорвался. Здравый рассудок отключился совершенно, мне было все равно. Он доконал меня, этот старик! Дву-мя-тремя фразами — доконал. Слова вырывались из глотки сами, шершавые, угловатые и тяжелые, как гайки:
— Но я не хочу умирать! Поймите… я буду с вами откровенен… Я не стал мусульманином, я чужой здесь человек… Не верю ни в какого Бога… во все это… Не могу разделить с вами… с этими людьми… вашу войну, ваши взгляды… Для меня это дико, это… возврат в пещеры, к питекантропам… И очень жестоко. Я — другой, не ваш, поймите, пожалуйста, — другой!
Я нарывался, наверное. Хотел нарваться. Рванул на груди рубаху. Нате, режьте меня, бейте — вот вам моя правда! Надо было лишь только прокричать эту правду, а не простонать, виновато и жалобно. Как побитая собака. Тявкает и прижимает уши, ожидая удара. Абу Абдалла, все так же молча, взял с полки книгу, перелистал, поставил на место. Дал мне время утихомириться. Дал понять, что не поддержит игру.
— Я знаю, знаю. Не бойся. Ты идешь своим путем. Это хорошо, что у тебя есть путь, Искендер. Я внимательно наблюдал за тобой. Аллах желает, чтобы ты изменился. И ты изменишься.
— Изменюсь — как?
Он отошел к окну, встав ко мне спиной. Четвертая стена пентхауса, наклонная, была сплошь забрана стеклом. Отсюда, с шестнадцатого этажа самого высокого в городе здания, уже не было видно крыш — только небо. Почему-то пасмурное сегодня, затянутое полупрозрачной дымкой. Несколько бакланов выписывали в воздухе хищные пируэты, скользя на сильных упругих крыльях в невидимых крутых потоках.
— Не имеет значения. Потому что раньше тебя практически не было. Тень, точно такая же, как тени большинства людей. В них нет никакой сущности. Они приходят и уходят, не оставляя следа. Аллах видит только тех, кто существует. А их очень мало.
— Остальных что — позволено убивать? — вырвалось само.
— Как можно убить тень, Искендер? — грустно сказал Абу Абдалла. — У нее же нет сердца.
Вдруг опять захотелось плакать. Снова пришло это мерзкое чувство: полная беззащитность, словно живешь без кожи. Прежнее мужество истаяло, испарилось. Я снова был тем, кто я есть, — маленьким, крошечным сгустком живой кровоточащей плоти. Мокрой улиткой, потерявшей свой хрупкий, смешной домик.
— Но эта тень дышит… чувствует боль, страх… страдает, любит!..
— Актеры в кино тоже изображают страдание и любовь, — вздохнул он и повернулся ко мне лицом. Усталость, многолетний тяжкий груз, глубокие темные морщины, провалы подглазий — все показалось мне искренним. Как и взгляд, умудренный покоем. Или успокоенный мудростью. — Но когда в зале зажигается свет, мы понимаем, что это — мираж. Игра света на целлулоидной пленке.
Мне стало его жаль. И его и себя — всех. Нас, без разделения на тех и других. Собрать бы всех, пожалеть, успокоить, утешить. Сказать что-то такое, отчего сразу станет светло и оживет, засияет надежда.
— Зачем вы позвали меня?
— Я хочу, чтобы ты был моим свидетелем в мире кафиров. Неожиданный поворот сбил меня с толку, с лирической ноты.
— Но… почему? Почему я?
— Потому что ты оказался здесь и видел все. Ты выживешь, вернешься к своим и расскажешь правду.
— По-моему, там о вас и так все знают…
— Я хочу, чтобы ты рассказал не обо мне, Искендер, — по-прежнему устало, даже с горечью какой-то сказал Абу Абдалла.
— О ком же?
— О себе.
Долго молчали, я и он. Я собирался с мыслями. Пытался сконцентрироваться. Понять, чего же, собственно, ему от меня нужно. Абу Абдалла листал книги, шептал себе под нос. Очень дряхлым он мне в тот момент показался, тысячелетним стариком. Вечным жидом, который слоняется по миру в поисках чего-то… Истины, может, какой-то. Не в силах умереть, ищет себе занятие. Разглагольствует, воюет. Смущает умы. Или все — игра, сплошная игра? Уловки, рассчитанные на примитивных человечков? Имам Мехди, Наполеон, просто удачливый самозванец — я не мог разгадать.
Решительный, деловой, озабоченный, Абу Абдалла вернулся в кресло. Как ветром сдуло высокую печаль. Сейчас возьмется за телефон и станет обсуждать биржевые новости…
— Будем говорить о главном. Времени осталось мало. Ты можешь задать мне любые вопросы и получишь на них ответ. Любые, Искендер. Подумай.
Неужели он действительно морочит мне голову? Дергает за ниточки — за одну, за другую… Раз — и куколка чуть не плачет. Два — мозги набекрень от очередного парадокса. Три — бьет себя пяткой в грудь, лезет на амбразуру… А сейчас разыграем интервью. Сделаем из этого червяка суперстар. Чтобы «Форбс» и «Уолл-стрит джорнал» о нем написали: «Русский хакер рассказывает правду о Террористе Номер Один!» Паблик рилейшнс, прелесть, что за штука… Но раз так — будем играть, твердо решил я. Вопрос номер один (очкастый корреспондент Си-эн-эн в костюмчике и галстучке, с наглой рожей, тянет руку из первого ряда):
— Зачем вы все это делаете?
Хаджи Абу Абдалла (улыбается в камеру):
— Разве ты еще не понял, кто я?
— Нет… если честно. — Я запнулся.
— А кем ты меня сам считаешь? Террористом Номер Один?.. — все с той же иронической улыбкой. У меня не было ловкого, красивого ответа. Никакого. Он снова поставил меня в тупик.
— Не знаю… Вы — странный человек.
— В чем же моя странность, Искендер-бей? — Он так смешно сделал брови домиком, что я не удержался, гыгык-нул. Старый актер, старый шут, старый плут…
— Мне… трудно сказать. Я понять вас не могу. Веселые искры в глазах вдруг чиркают по коже, как бритвенные лезвия:
— А себя ты можешь понять?
— Нет. Не всегда, — бормочу, стараясь не глядеть на него.
— Кто ты сам? Где твое настоящее лицо? — холодно, жестко, с вызовом, зло. Что он за дьявол, в конце концов?!
— Не знаю… не знаю…
Долгая, тяжелая пауза. Шутки кончились, меня опять знобит, колотит. Поменялись роли в интервью. Допрашивают — меня.
— Помнишь, я задал однажды тебе вопрос? Ты нашел ответ?
— Нет.
— Ты говоришь неправду, — нехорошим голосом, с угрозой. Не простит лжи.
— Но я действительно… — И понимаю, что соврать не выйдет. Мне стало очень страшно.
— Чего же ты боялся?
— Не знаю… Какой-то слепой бездумной силы… судьбы или рока… Силы, которая может легко уничтожить меня. И вообще все на свете. Очень опасной и жестокой.
Абу Абдалла улыбнулся, приподняв уголки рта. Словно собирался подсказать мне правильный ответ:
— Ты назвал эту силу Богом, верно?
— Да… в общем-то, — сознался я, даже со стыдом, потупившись.
— Но ты же не веруешь, Искендер! — чуть громче обычного воскликнул он. С таким выражением, словно пулю всаживал в «яблочко».
— Я… да, то есть нет… не знаю… — Мысли путались, логические цепочки распадались на бесполезные звенья. Голова гудела.
— А почему эта сила так опасна? — с ласковой подковыркой, с ухмылкой, глубоко упрятанной в седые пышные усы.
— Она… трудно сказать… — Сбиваясь, запинаясь, я пытался подыскать нужные слова. — Потому что она не считается со мной. На меня ей наплевать. У нее свои планы, свои представления… Она творит что хочет. Ее невозможно понять, с нею нельзя договориться… Что-то очень чужое. Да, вот это самое главное — она чужая, сила. Из другого мира. Точно как вы сказали: Аллах нас не видит… Как мы не видим букашек, на которых наступаем подошвой. Даже иногда не знаем, что они могут ползать у нас под ногами. Другой мир, который нельзя сравнить с нашим…
— Ты говоришь красиво, — задумчиво, вполне удовлетворенный моим ответом, сказал Абу Абдалла и пригладил ладонью бороду. — Скажи, а почему эта сила должна считаться с тобой?
— Как — почему? Ну… я не знаю… потому что я способен чувствовать, потому что я — человек, наверное…
Он помолчал. Выдержал, как всегда, паузу — чуть дольше, чем принято в нормальном разговоре. За окном визгливо и резко орали бакланы, усевшись на карниз. Дрались изза какого-то куска. Небо все плотнее затягивало плотным туманным покровом. Еще немного — и посыплет мутной осенней моросью.
— Насекомые, которых ты убиваешь, тоже могут что-нибудь о себе мнить, — отрешенно прозвучали слова Террориста Номер Один в мягкой тишине уютного кабинета. Где книги так спокойно стоят за старинным тусклым стеклом.
— Но я не насекомое! — почти кричу я, словно чувствуя уже занесенную над собой рифленую подошву. С налипшими комками грязи, Ј клочками травы…
Скептическое, в ответ мне:
— Да?
— Да!
Снова — пауза. Сидит, полуприкрыв глаза, неподвижно, на коленях покоятся скрещенные бледные ладони. Спокойный, как Будда. Как камень. Глухо, из темной глубины внутреннего его, непостижимого для меня пространства, доносятся слова:
— Почему? Потому что тебе так хочется? Кто поделил мир на людей и насекомых, Искендер?
Знаю нужный ему ответ, но пожимаю плечами:
— Понятия не имею.
— Это сделал всемогущий Аллах. Он сотворил и муравья, который ползет по дороге, и твой башмак, и тебя, и дорогу… Но Неизъяснимый не положил разницы между ними. В глазах Аллаха все едино, и все — на своих местах.
Сейчас посыплются цитаты из Корана. Лучше искренне:
— Знаете, я не философ. Я трезвый человек, я не умею рассуждать обо всем этом. Если честно, я думаю, что философия, религия — просто человеческие домыслы. Я не готов спорить.
Не открывая по-прежнему глаз, не меняя позы:
— Ты споришь только с самим собой, Искендер. Я вижу истину так же ясно, как тебя сейчас… нет, еще яснее.
— И в чем же она, истина? — задаю вопрос даже не для себя, наверное. Для будущего интервью Си-эн-эн и «Форбс».
— В том, что Аллах непостижим. У него — девяносто девять имен, и каждое из них — бесконечность. Перед ликом Неизъяснимого нет ни добра, ни зла. Добро и зло — всего лишь оковы, которые он из милости наложил на людей, чтобы они, блуждая во тьме, не истребили сами себя. Аллах — полнота, которая вмещает все. Мы называем его ал-Мубди — Начинающий и ал-Му'ид — Возвращающий, ар-Рафи — Возвышающий и ал-Хафид — Унижающий, ал-Мухйи — Оживляющий и ал-Мумит — Убивающий, ал-'Афу — Прощающий и ад-Дарр — Вредящий, ал-Мани — Защищающий и ал-Мун-таким — Мстящий, аз-Захир — Видимый и ал-Батин — Скрытый, ал-Аввал — Первый и ал-Ахир — Последний… Истина выше дурного и хорошего, выше жизни и смерти. Пророк Иса учил абсолютному добру, но это лишь половина знания. Прекрасная, но половина. Поэтому Аллах послал Мохамма-да. Сердце, полное любви, — и меч в руке. Добро и зло, любовь и смерть. Страх и свобода. Истина всегда имеет две стороны, Искендер… Человек выбирает то, что ближе его душе, но не достигает полноты. Ты понимаешь меня?
Внезапно во мне созревает ответ, аргумент. Я думаю о Тане, о моей дочке, о себе… О нас, которых держит в заложниках вот он… и другие… с ядерными бомбами, с курсом доллара… Эта философия иезуитская, я долго искал в ней слабое звено, и вот оно, кажется, обозначилось. Открылось, проступило…
— Вы говорите о двух сторонах… Да, есть другая сторона. Я думаю о людях, которые пришли утром одиннадцатого сентября в Центр международной торговли. Об обычных маленьких людях. Не святых. Со всеми их слабостями, пороками… Они жили как умели, как им это удавалось… Бывали и добрыми и злыми. Занимались тем, что им казалось важным. Стремились к тому, что считали ценным. Муравьи — пусть будут муравьи. Пожиратели, потребители… Тени. Но если Аллах дал им жизнь, значит, у него были свои основания! Выходит, ему нужно, чтобы в мире были и такие — запутавшиеся, слабые, одинокие… Наверное, чтобы они могли что-то понять в своей жизни, им эта жизнь дана. Неужели вы думаете, что они не страдают? Не переживают трагедий? Не боятся смерти? Кто дал вам право убивать их?!
Выслушивает, кивает, словно соглашаясь. Затем открывает глаза, и в упор, как сразу из двух стволов, бьет мне в лицо невидимая картечь, заставляя отшатнуться:
— Неужели эти две колоссальные башни могли бы упасть, если бы не было на то воли Всемогущего?
— Но это софистика! — У меня перехватывает дыхание. Спазмы гнева, невыхаркнутые злые слова раздирают горло.
— Нет, не софистика. Когда ты просыпаешься утром и всем сердцем, всем разумом и телом вдруг понимаешь, знаешь, что Бог есть, ты начинаешь видеть мир по-другому.
Он налил себе в стаканчик остывшего чая, пригубил. Все такой же спокойный. Умудренный покоем или успокоенный мудростью. Седая холеная борода, темные зрачки прикрыты тяжелыми черепашьими веками. Темное лицо. Усталый. Ну кто он, кто же он?! О чем он думает? Как бы я дорого дал, чтобы прочитать сейчас его настоящие мысли… Меня ведь все равно не покидало ощущение спектакля. Продуманного до мелочей. Для будущего свидетеля в мире кафиров. Но отчего этот короткий разговор так вымотал меня? Почему я совершенно лишился сил, почему я постоянно ощущаю себя с ним на грани истерики? Какую власть он имеет надо мной? Почему я чувствую себя лягушкой, распятой на лабораторном столе, со вскрытым брюхом? Откуда это мерзкое, гадкое чувство, что он видит меня насквозь, читает, как открытую книгу, знает все мои тайны, знает обо мне нечто такое, чего я сам даже не знаю?.. Телепат? Экстрасенс? Изощренный, опытный психолог? Ведь он так говорит, так себя ведет, что правду от лжи отделить невозможно. Я критериев не чувствую, где правда, где ложь! Неуловимый, скользкий, вьется ужом — не ухватишься… Как ловко орудует словами, интонациями, паузами! Умный, не давит авторитетом, ни разу не процитировал Коран. Тонко дергая за ниточки, хочет, чтобы я сам сделал свои выводы. Выводы, нужные ему…
— Я попал в Афганистан, когда был еще совсем мальчишкой. Развратным щенком из богатой семьи. Мне хотелось развлечься на войне, поскольку все остальные развлечения уже наскучили. Но в первой же перестрелке я испытал такой ужас, что испугался за свой рассудок. Мне до сих пор стыдно за то, как я себя тогда вел. Но дороги назад уже не было. Мы наступали под Кандагаром. Кафиры одолевали нас. Тяжелые, ежедневные бои. Много раненых, еще больше — убитых. В одном из боев меня тяжело контузило. Я очнулся в горном ущелье… ночью… совершенно один. Не представляя, где нахожусь, где наш лагерь… Ущелье было завалено трупами. И я пошел… пошел вперед. Я сдался своей смерти. Я сказал: Аллах мой Бог, и пускай случится что предначертано. Страха больше не было, только покой… Бескрайний покой. Я переступал через мертвых и не чувствовал ничего, кроме нерушимой безмятежности. Как ребенок, который играет с бабочкой на зеленом лугу… К утру я вышел к своим. Муджахиды не узнали меня: моя голова поседела. Они пытались со мной заговорить, но я не разбирал их слов. Три дня я не ел и не пил, просто сидел, прислонившись к камню. Меня сочли сумасшедшим, меджнуном. А я все не мог расстаться с блаженством… Я оказался за пределами. Там, где лишь Бог и Его воля. Больше ничего… Это можно только пережить. Ты падаешь в колодец ужаса… летишь, летишь… и если у тебя хватит сил и мужества достичь самого дна, ты изменишься навеки. Я давно мертв, Искендер. Я погиб в том бою, под Кандагаром, в ущелье. Тот, кто сидит перед тобой, — совершенно другой человек… Я хочу научить людей не бояться смерти… ни своей, ни чужой. Я не чувствую вины и не скорблю о павших. Моя душа принадлежит. Аллаху, Ему одному. Когда я закрываю глаза, я вижу только свет, и ничего больше. Свет… Иди, Искендер…
…Позволю себе отвлечься, и вы, читатель, можете на время перевести дух. Книга идет к концу, осталось всего несколько сцен и эпилог. Интересно, все думаю я, понравится она вам или нет? Вообще в ней куча, конечно, недостатков. Для меня, например, непрофессионала, огромная проблема — изобразить диалог. Потому что фразы еще нужно как-то комментировать. А говорит то-то и то-то, потом Б произносит свою реплику… А в это самое время они ничего не делают, просто сидят и разговаривают. Вот, например, я закончил сцену моего объяснения с Абу Абдаллой. Заставил его и чай пить, и рыться в книгах, и подходить к окну, а на самом деле ничего этого не было. Просто сидел и говорил, даже чай остался нетронутым. Неподвижно притом сидел. Так что описывать совершенно нечего. Но вам же будет, наверное, скучно читать голую стенограмму, нет? Не знаю. Или взять портрет. У меня муджахиды выходят все на одно лицо: бородатые, коренастые, морщинистые, загорелые. Хороший писатель так, конечно, не делает. А мне как поступить? Они для меня действительно были почти все одинаковые, кроме некоторых разве. Потом, очень беспокоят батальные сцены. Понимаете, в чем штука: когда идет бой, когда ты втянут во все это, тут не до наблюдений. После, вспоминая, думаешь: что же было-то? Ну, все стреляли — я стрелял, все бежали — я бежал… Больше ничего. Все сбивается в какую-то липкую массу в голове, вроде непроваренных пельменей. Еще исламские вещи — нет ли перебора? Хотя, на мой взгляд, нет. Разве вам известно, что мусульмане ожидают второго пришествия Христа? Вряд ли. А если будут читать мусульмане, пусть тоже простят меня за ошибки: я по-прежнему не разбираюсь в этой религии. Ну что я еще обязан сказать вам, читатель… Не все в книге — правда. Жан-Эдерн, например, изъяснялся не так подробно, и многие его мысли я развил уже самовольно. Нацистскую речь Танаки пришлось выдумать: я ее, честно говоря, совершенно забыл, помню только общие черты какие-то. Томас — Туфик, тот дал мне специальную книгу по-английски, состоявшую из конспектов речей Абу Абдаллы, и оттуда я содрал безбожно очень многое. А по тексту получается, что Томас без конца все переводит… Нет, не было этого. И переводил он паршиво, если на то пошло. Но в общих чертах я худо-бедно события описал. Вообще писать очень трудно физически. Ладно…
Только что беседовал с адвокатом. Меня — горжусь! — защищает не кто-нибудь, а сам Генрих Падва. Очень интеллигентный и знающий человек, хотя его услуги обходятся мне недешево. Он считает, что меня могут выпустить под залог до суда. Хорошо, если так. Впрочем, Лефортовская тюрьма не слишком отягощает. Что такое камера для особо опасного государственного преступника в Лефортове? Опрятная, чистая комната примерно четыре на пять метров. Стены выкрашены в грязно-зеленый, болотный цвет. Деревянные нары в два яруса. Маленькое окошко, из которого виден лишь внутренний двор тюрьмы и противоположный корпус. Ну, отхожее место, разумеется, — параша. Прохладно, строгий и спокойный интерьер. Дверной глазок-задвижка меня совершенно не смущает. Дежурный постоянно наблюдает за мной, но не видит ничего интересного. В основном я пишу. Адвокат выбил мне право иметь маленький складной столик и печатную машинку. После компьютера стучать по клавишам огромной старинной «Ят-рани» очень непривычно. Особенно раздражает звук. Здесь, в камере, хорошее эхо, когда сажусь работать, она вся наполняется грохотом, как литейный цех. Печатную машинку выдали местную, тюремную, с грубо намалеванным номером. Готовые листы я отдаю Тане — она приходит с передачами. А Таня отдает ментам копировать — обязали. Ведь показания пишу… Уже привыкла к моему тюремному статусу и ничему не удивляется. Некоторое время она давала интервью чуть не каждый день, очень устала. Теперь журналисты успокоились. Таня приносит мне свежую прессу и простые продукты: хлеб с колбасой, творог, яблоки. Я очень непривередлив. Кормят здесь, конечно, паршиво: каша-размазня, мутный суп, справедливо именуемый баландой, жидкий чай. Но мой желудок переваривает все без остатка. У меня нет ни болей, ни изжоги — при том, что я много курю, примерно две пачки в день. С общением здесь, конечно, непросто, но люди попадаются интересные. В соседней камере сидит, например, чеченец, участвовавший в известных событиях на Дубровке. Мы общаемся на прогулках — заключенные гуляют по часу каждый день. Чеченца зовут Мовлади, но он представился как Миша. Энергичный, подтянутый, хладнокровный парень, огненно-рыжий и голубоглазый. Меня, человека, беседовавшего с Абу Абдаллой, боготворит.
Что бы я ни рассказывал, слушает затаив дыхание. Собственно, так рождаются у меня большие куски книги, целые главы. Вначале описываю все Мише, проговариваю вслух, затем иду в камеру и истязаю свою «Ятрань». Проговаривать очень полезно, многие важные подробности всплывают в памяти. Кроме того, е Лефортовской тюрьме сидит Эдуард Лимонов. Я, признаться, не читал его книг, слыхал только, что у этого человека дурная репутация. Но общаться с Лимоновым интересно, особенно если у него хорошее настроение. Он тоже выспрашивает подробности, очень тонко и профессионально — настоящий писатель. Уговаривает меня бросить курить и заниматься физическими упражнениями. Лимонов на прогулке отжимается от земли, делает приседания — я на такое не способен. Несколько раз говорил мне, что очень хотел бы оказаться на моем месте. Думаю, было бы замечательно, если бы на моем месте оказался кто угодно, только не я. Вообще тюремный быт однообразен. Все подчинено пунктуальной регулярности событий: подъем и отбой, еда и прогулки. Поневоле погружаешься в себя, становишься отчужденным и замкнутым. Чтобы как-то разнообразить свою жизнь, я иногда молюсь. Но не пять раз в день, конечно. Миша — тот молится как положено, дисциплинированный. Ну что еще вам рассказать? Пару слов о том, что осталось в стороне от основной линии событий, на полях. Юсуфа Курбана казнили. Подробности мне неизвестны, но так ему, по сути, и надо. Убийство Ариадны Ильиничны, разумеется, до сих пор не раскрыто. Их дочку Скотленд-Ярд нашел — девчонку, изнасилованную и избитую, бросили у обочины хайвея. Через московскую фирму Юсуфа ФСБ вышла на компьютерную сеть «Аль-Нидар», но, по-моему, с мертвой точки дело не сдвинулось. Новых сообщений в прессе нет. Генерала Дустума Абу Абдалла отпустил с миром. Насколько я знаю, генерал сейчас находится в Пакистане. Томас — Туфик погиб при невыясненных обстоятельствах совсем недавно. Вертолет, в котором он летел, был сбит (или упал?) в окрестностях Могадишо. Об этом радостно сообщили американские спецслужбы. Насчет Танаки и Марка информации у меня нет. Скорее всего работают по-прежнему. Хаджи Абу Абдалла жив-здоров, где скрывается — неизвестно. Жан-Эдерн… о нем речь впереди.
…Со странным чувством, словно дубиной по башке получил, я возвращался с аудиенции. Оглушенный какой-то был. И еще больше не знал, совсем уже не знал теперь, что делать. Жизнь уперлась в глухую стену. Отчего-то я ждал многого от этой встречи, чуда какого-то ждал. Вспышки, озарения, внезапного выхода из тупика. Вспышки не получилось, озарение не пришло. Нуда, мы поговорили, на мне поставили несколько простеньких психологических экспериментов… что дальше? Можно, конечно, было пылать от счастья, что с тобой беседовал «сам» Террорист Номер Один… Я не пылал. Мне он вообще в этот момент сделался глубоко безразличен. Как и все на свете. Все осточертело, все! Хотелось лечь и умереть. Никаких сил не было для жизни. Как сомнамбула, спустился в свой номер. Еще у дверей ощутил резкий запах костра, жареного мяса. Когда вошел, первое, что увидел, — распотрошенный рояль. Вырванные, торчащие тугими спиралями струны. Осыпавшиеся клавиши в беспорядке разбросаны по ковру. Очень похоже на человека, убитого миной, серьезно. С вывороченными внутренностями. И то благородный инструмент внушал больше жалости. Ни в чем не повинный, громоздкий, неуклюжий, отчаянно-пижонски белый. Похожий на доброе животное, на беспомощного раненого зверя. Хотелось добить — «удар милосердия».
С балкона доносились голоса, веселый смех. Стараясь оставаться незамеченным, подкрался, встал за штору, посмотрел. Так и есть. Изрубили в куски рояль и жарят на огне свое вонючее мясо. Гогочут. Рядом лежат автоматы. Оставаться здесь я больше не мог. Точка. Стараясь ступать как можно тише, выбрался в коридор, спустился в вестибюль — и вон из отеля! Как ни странно, никто меня, кажется, не видел. В вестибюле несколько муджахидов, развалившись, храпели на диванах. Потолок закрасили почти весь — не знаю, как им это удалось, там приличная площадь. Покосившись на них, вышел на улицу. Густая, темная ночь. Ни фонаря, ни машины. Широкая, просторная авеню послушно легла под ноги. Черные силуэты высотных зданий хранили гробовое молчание, с натугой проступая сквозь мрак. Куда идти? Идти некуда. С этим чувством, опираясь на него, как на палку, поковылял вперед. Брел по мостовой, уставясь себе под ноги. Отчаявшийся, тихий, С пустой головой, где случайные мысли перекатывались, как медяки в котомке нищего. Думать не мог, хотеть не мог. Мысли, желания, надежды остались в недосягаемом прошлом. Прошлого вообще не было, оно исчезло. Затворив осторожно стеклянную дверь отеля, тяжелую, с бронзовой ручкой — мордой льва, я оставил все, что может оставить в своей жизни человек. От и до, все! Может, разговор с Абу Абдаллой подтолкнул меня сделать такой шаг, не знаю. Я был свободен. Да-да, теперь уже полностью свободен. Ничего не осталось. Это и называется смертью, подумалось мне, пока я шагал по бесконечно длинной авеню, уводившей меня черт знает куда. Никуда. Смерть — это когда расстаешься со всем и остаешься совершенно один в пустоте. Как птица высоко в небе. Зачем люди, глупые, мечтают о крыльях? Там, где парят крылатые твари, нет спасения, нет счастья. Свобода не миф, свобода существует на самом деле. Но свобода — дерьмо. Лучше тюрьма, каменный мешок, кандалы и галера, чем эта ночь,, эта авеню, тьма, вымерший город… Без прошлого — и без будущего. Только «здесь», только «сейчас»… Чувство, что проваливаешься в бездонную шахту, в колодец ужаса… Никому не нужен… свободен… ничей… Это аборт — вот точное слово: аборт, выскабливание. Каленым железом прошлись по душе, хирургическим скальпелем рассекли ее и вынули. Со злой иронией, с насмешкой я вспомнил, как собирался прыгать из окна ванной. Не-ет, это было еще не то, еще не конец! Даже не репетиция — обыкновенная истерика. Стакан водки, если есть под рукой, — и как не бывало. А вот сейчас, ребята, все. Вот теперь… Боже, Боже…
Плача внутри себя, но с сухими глазами, я обнаружил, что забрел довольно далеко. В какие-то лабиринты запутанных улиц, вонючих и узких, где копошился народ, шла втихомолку жизнь. Проходил мимо подозрительных кофеен — там горели вместо электричества свечи и керосиновые лампы. Размытые тени блуждали по стенам этих кофеен, шатаясь. Стараясь держаться темноты, люди волокли на себе громоздкие тюки, корзины. При виде меня сворачивали в сторону, прятались в переулки. Периодически шибало в нос крепкой ганжой и еще чем-то — может, опиум курили. Я шел, безразличный, готовый ко всему. Насрать мне было на эти тюки, на кофейни и запахи. Наверное, я бессознательно собирался умереть, даже искал смерти. Пару раз за мной увязывались как бы случайные прохожие. Шастали за спиной, дышали в затылок, но затем отставали. Терялись в сумрачных провалах разграбленных лавчонок, в сырых вонючих подворотнях, за грудами ящиков, среди мусорных куч. Приглушенные стенами, изредка доносились разговоры, пьяный смех, охи и вздохи женщин, которых там, за стенами, видимо, трахали. Несколько раз в переулках слышал звуки борьбы, мужские грубые возгласы, быстрый топот, стоны и хрип. Вот тебе и Шармуда, думал я зло: ни одной европейской морды, только свои. А потом рассказывают, гады, что белый человек превратил арабскую страну в притон…
Я блуждал, повинуясь неясному инстинкту, заставлявшему меня оставаться здесь, в самой, наверное, опасной части города, в квартале красных фонарей, воров и наркоманов, искать места еще гаже и темнее прежних. Свернув один раз за угол, я увидел окровавленного человека в лохмотьях, который привалился к стене, закрыв голову руками. Сквозь пальцы на булыжник стекала бурая жижа. Рядом стояла побитая лишаем тощая собака и увлеченно, с аппетитом вылизывала кровь. Человек, кажется, уже не дышал. Не знаю зачем, остановился, наклонился к нему. На левом запястье у убитого были простенькие электронные часы — взял их себе, поскольку у меня часов давно уже не было. Наскоро охлопав карманы, обнаружил нож — отличный нож, с узким кривым лезвием и узорчатой рукоятью в местном стиле. Явно не из тех, что продают туристам. Увесистый, хищный, еще теплый, буквально прикипающий сразу к ладони. Красивый и живой. Повертев нож в руках, сунул его за голенище ботинка, оглянулся по сторонам, двинулся дальше. Скоро захотелось есть. Пожалев о том, что не порылся в карманах мертвеца как следует (может, завалялась пара динаров), порыскал немного и остановился у запертой овощной лавки. Замок был старый и ржавый, но крепкий, не по зубам мне. Подошел к окну, всмотрелся. Лавка была пуста, но в углу стоял большой деревянный ящик, в который кучей были свалены полусгнившие фрукты. Они меня устраивали вполне. Сняв куртку и обмотав ею руку, резким движением выбил-выдавил стекло. Звук показался мне громоподобным — застыл, инстинктивно присев на корточки, окаменел. Но подобные звуки, я так думаю, никого здесь не могли удивить. Лишь в доме напротив, так показалось, шевельнулась в черном окне занавеска, не более того. Осторожно выбрав острые куски стекла, забрался внутрь. Фрукты были действительно паршивые и гнилые, но я с удовольствием умял несколько бананов, немного насытился. Сунул еще пару в карманы брюк, тщательно обшарил лавку: ни черта. Предусмотрительный хозяин все вынес давно. Что ж, нет так нет. Выбираться обратно прежним путем почему: то не захотелось. Пройдя несколько подсобных помещений, что-то с грохотом опрокинул в темноте. Какие-то жестянки покатились по полу.
Нагнувшись, присмотревшись, обнаружил, что это пиво. Пиво! Несколько ящиков! Я уже забыл давно вкус алкоголя и глядел на жестянку местной мочи «Сельтия» как на амброзию пополам с нектаром. Вынул из ящика четыре банки, уселся на пол торжественно, поставил банки перед собой. Взял одну, руки тряслись от нетерпения, в спешке вырвал с корнем жестяное ушко. Черт побери, а! Но вместо того чтобы взять другую банку, их же было полно, мне приспичило во что бы то ни стало открыть именно эту. Вынув нож, принялся расковыривать неподатливую жесть. Пиво с шипением вырвалось из банки, обдав меня клочьями брызг, лезвие соскочило и больно воткнулось в палец. Выматерившись громко, начал зализывать рану. Вкус крови придавал дрянному пиву оттенок необычный и волнующий. В несколько глотков влив в себя банку, вдруг решил, что остальное следует выпить на свежем воздухе. В лавке было слишком темно и воняло гнилью, а уже приятно кружилась голова, спазмы тоски обещали совсем скоро ослабнуть… А цель появилась — серьезно напиться, вдрызг, и затхлая кладовка совсем не подходила для этой важной, замечательной цели. Спотыкаясь в потемках, нащупал дверь, ведущую во двор. Странно, она была не заперта, даже чуть приоткрыта. Это показалось мне подозрительным. Настоящий вор, наверное, тотчас вернулся бы и вылез через окно. Но я не был вором, господа.
Прижав левой рукой к груди четыре жестянки «Сельтии», а в правой забыв зачем-то нож, храбро пнул дверь ногой и сделал шаг. В этот момент мне в грудь уткнулось нечто твердое. Следом обрисовался человеческий силуэт: приземистый толстяк держал ружье и собирался, видимо, выстрелить. Он тяжело сопел — наверное, от испуга — и густо вонял чесноком. Должно быть, хозяин лавчонки явился защищать свою собственность. С оружием в руках. Пары порченых бананов и нескольких банок отвратительного пива было ему жаль! Несколько сбитый с толку неожиданностью, я ослабил хватку, и жестянки с грохотом попадали на булыжник внутреннего дворика. Звук был внезапный и громкий. Лавочник, а лавочники все трусы, дернулся как-то неуклюже, хорошо хоть не выстрелил, но мог. Я инстинктивно сделал быстрое движение — повернулся к нему боком, одновременно толкнув плечом ствол. На него стоило гаркнуть как следует, и он бы убежал, однако я своих действий не контролировал, махнул ножом в воздухе — припугнуть его хотел, что ли. Нож легко черкнул по мягкому — видимо, задел лицо. Лавочник издал громкий, неприличный для такого толстого и неоскопленного мужчины поросячий визг. Может, кастрат он был, не знаю. Завизжал во всю силу легких. Именно звук и вывел меня из себя. На очень высокой ноте, дребезжащий, истерический до предела, режущий мозг. И столько в нем было, в этом звуке, мерзкого животного страха, базарной какой-то скандалезности, чего-то донельзя гнусного, что заложено в слове «лавочник» (жирный, жадный, подлый)… Я хотел ему сказать: перестань, заткнись.
Не сказал, но подумал: «Немедленно прекрати орать, гнида, этот звук меня с ума сведет, немедленно прекрати!» Но он, словно баба поганая, продолжал — не сбавляя ни громкости, ни тона. Лучше бы он застрелил меня тогда. Для нас обоих это было бы лучше. Для него — точно. Потому что я вот что сделал. Я изо всей силы ткнул его ножом. Звук вышел очень странный — хряск. Лезвие воткнулось не полностью, примерно на четверть, я его уколол просто. Очень неподатливое, заметил вскользь, тело у человека. Лавочник на секунду прекратил свой крик, умолк, оторопел. Тогда я, пока пауза длилась, размахнулся и широким движением засадил в него нож по самую рукоятку. Это место, куда я попал, оказалось мягким — живот, что ли, не разберешь в темноте. Но я обрадовался, что все удалось хорошо. Лавочник сразу обмяк, его начало тянуть к земле, я подумал: слава Богу, больше не станет кричать. Однако это было ошибкой, так думать. Он заорал еще громче, еще пронзительнее и визгливее.
Рана, верно, оказалась не очень опасной. Я понял: его надо скорее убить, иначе не успокоится. Выдернув нож, бросился на него, повалил на спину, уселся сверху и стал бить и колоть ножом куда попало. Чаще всего натыкался на твердые кости и ранил лавочника совсем легко, иногда лезвие скользило в крови и соскакивало, так что рвало на нем одежду, а тела почти не трогало, только кожу царапало немного. Лавочник уже не кричал, а только сильно дергался подо мной, хотел меня сбросить. Пришлось крепко упираться обеими ногами в землю, чтобы усидеть на его жирной туше, которая оказалась такой беспокойной и неподатливой. В лицо ему я смотреть не хотел, так что черт не помню — заметил только клочную бороду. Да и темно было. Меня раздражало, что так долго машу ножом, а результата никакого.
Другой бы человек, наверное, давно умер. Я решил его задушить. Отбросил нож, схватил обеими руками за горло и крепко сжал пальцы. Но шея у лавочника была короткая, толстая, мускулистая и, главное, скользкая от крови. Сколько ни жал, ни давил, он все равно легко высвобождался. Устав, намучившись, опустил руки и решил немного отдохнуть. Но он вдруг ожил. Легко сбросив меня, расслабленного, навалился сверху и запустил свои короткопалые ладони мне под подбородок. Тут-то я понял, что его взяла, он меня убьет. И хотел этого даже — умереть, но не так же, не под лавочником, которого я резал-резал, да и не зарезал совсем! Заколотив бешено руками по земле, уже почти теряя сознание, я нащупал свой ножик, стиснул покрепче пальцы на рукояти и запустил лезвие лавочнику прямо в пах. Ох он взвыл! Не то что раньше, а как сразу тысяча свиней на бойне.
Не теряя времени даром, я высвободился, схватил его левой рукой за бороденку, а правой рассек горло от уха до уха. У меня получилось! Нужно было сразу горлом заняться, мелькнула мысль, а я только силы зря тратил. Кровь, ясное дело, хлестанула фонтаном прямо мне в лицо и на грудь, но ощущение это мне понравилось. Какая она удивительно горячая, еще подумал я, как приятно. Лавочник сразу подох. Я встал, отирая об одежду мокрые руки. Мне было хорошо. Стоял над ним, умиротворенный, довольный. Как будто искупительную жертву принес. Как будто все мои несчастья мигом исчезли, их кровь смыла. Я ощущал сексуальное возбуждение, член встал торчком. Хотелось немедленно отыскать первую попавшуюся проститутку, запугать ее ножом и изнасиловать, как ту глупую девчонку, Ясмин.
У меня хватило бы сейчас сил на многих женщин, волной поднималась звериная мощь. Нож, кажется, тоже благодарил меня за неожиданную работу, трепетал и вибрировал в руке. Мы оба были счастливы, я и нож. Одинокие и холодные, нашли друг друга в человеческой пустыне. Зачем я убил? Понятия не имею. Мне было, по правде, все равно — убить или умереть. Попадись противник более сильный, более умелый — что же, испустил бы дух, ни о чем не жалея. Так я себя чувствовал. Может, и умер бы с наслаждением, со вставшим членом. Но получилось, что быть зарезанным и валяться в кровище выпало ему. Лотерея… Сейчас, когда пишу и вспоминаю, это убийство для меня как сон. Я его реальности не чувствую совсем. Но тогда отчетливо знал, что мое преображение свершилось. Вернее, мне так казалось… Потому что в следующий момент на город упали первые бомбы.
Сначала я даже не понял, что случилось. Услыхал сильный грохот и еще подумал, что, должно быть, начинается гроза — ведь дождь давно собирался. Но вместо молнии увидел зарево пожара. Затем громыхнуло еще, еще, и до меня наконец дошло. Они начали войну! Наплевали на всех, на весь мир и начали! Вообще это были ракеты, а не бомбы. Самих самолетов видно не было — и небо темное, в плотных облаках, и летели они, разумеется, на приличной высоте. Только быстрые фосфоресцирующие полосы рассекали воздух, а затем гремел взрыв. Квартал ожил, завопил, заорал, наполнился людьми, бегущими во все стороны сразу. Куда деваться, никто не знал. Все носились по улицам, кричали, закрывали головы руками, метались в панике, сбивая друг друга с ног. На меня, окровавленного, с дикой рожей, внимания никто не обращал. Женщины, мужчины, старики, дети — поди знай, что их так много здесь живет! — выволакивали из домов свой жалкий скарб, какие-то тюки и корзины, тащили их на себе, не переставая вопить. Некоторое время я стоял на месте, остолбенев, не зная, что мне делать. Взрывы отрезвили меня. Быстро привели в чувство. Нужно немедленно спасаться, требовал инстинкт, и все другие внутренние голоса сразу заткнулись. Бомбили пока что центр. С периодичностью в минуты две-три земля сотрясалась; грозя сбросить с себя и перепуганных насмерть людишек, и их жалкие хибары. Куда они метили, какая у них была мишень? После каждого взрыва в воздух взметалось клочьями пламя и какие-то ошметки летели, затем все с шумом рушилось и валил, подсвеченный пламенем, густой дым. Это все происходило почти рядом, едва ли не на соседней улице — во всяком случае, все стекла в этом квартале со звоном вылетели вон.
Я побежал. Несся, сам не зная куда, но только бы подальше от центра и поскорее. Так иногда бывает: бежишь и не чуешь под собой ног. Наверное, они знают, что муджахиды расквартированы в отеле и нескольких соседних зданиях, вот и метят туда… Такой прыткий и легкий я оказался, что опередил всех местных, сматывавших удочки. И легкий, и прыткий, и почти не запыхался, когда обнаружил себя на каком-то диком совершенно пустыре, поросшем жестким, как проволока, клочковатым кустарником. Кроме меня, на пустыре присутствовал только президент республики — огромный бигборд, установленный на здоровенных, слон не вырвет, железных сваях. Бывший глава несчастного государства ухмылялся в усы, но глаза смотрели серьезно и строго. Куда бежать, что дальше? Пустырь был большим и темным, где-то на окраине его громоздились груды металлолома, а дальше поблескивало море. Я решил остаться здесь. Сел на землю под президентом, уткнул лицо в колени. И в этот момент земля подбросила меня, отшвырнула прочь, покатила взрывной волной, обдирая о кусты. Президента и его сваи выдернуло с корнем играючи, я едва-едва не попал под удар увесистой и длинной, в два моих роста, железяки. Взрыв был совсем близко, и такой силы, как никогда раньше. Первая мысль пришла: ядерная бомба. Но гриб не появился. Вместо него квартал красных фонарей и местных жуликов залило кровавое зарево. Даже не одну, видимо, — две ракеты они туда запустили, сволочи. Плач, стоны, нечеловеческий крик… Не знаю, сколько там народу уцелело, думаю, не много. Собственно, на этом все и кончилось. Четверть часа длилась бомбардировка, не больше.
Последнее, что запомнилось на пустыре: мсье президент треснул вдоль, и слева на меня таращились его блудливые глаза, в которых теперь ясно читался панический ужас, а справа валялась улыбка — милая, домашняя, лукаво упрятанная в гусарские пышные усы… Быстрыми шагами я возвращался в центр, к своим — куда было еще деваться, скажите? Роскошной авеню с офисными многоэтажками больше не существовало. Вместо домов лишь кое-где чернели корявые остовы. Большинство из них превратилось в сплошную груду бесформенных дымящихся обломков. Искореженная мостовая засыпана кусками бетона с торчащими железными прутьями. Размером с большой шкаф были эти куски, некоторые еще больше. Сталинград сорок третьего года, Хиросима! Медленно оседала на плечи пыль, крошка, перемешанная с едким дымом. Иногда попадались трупы — целые и искалеченные, не муджахиды в основном. Одного старика придавило куском бетонной плиты, она на ноги ему упала. Старик стонал и плакал, царапал руками землю. Увидев меня, громко закричал. Я прошел мимо, не обернувшись даже. Мне не нужен был этот старик.
Отель — его просто не было. Уже не существовало в природе. Громадных размеров воронка, внутри — строительный мусор. Все, конец. Подойдя к краю воронки, она была чуть поменьше Колизея, я его видел в Риме, заглянул туда. Только куски бетона. Мелкие, и больше ничего. От человека в таком аду не могло остаться даже рваной подметки. Я сел на землю и начал прощаться с Абу Абдаллой, со всеми, кто здесь погиб. Прощайте, друзья, сказал я очень искренне, глотая слезы. Надеюсь, вы отошли в другой мир быстро, без мучений. Дай Бог, чтобы было именно так. Жаль, меня не оказалось рядом с вами. Кто знает, может, ваша борьба была справедливой… Я благодарен вам, друзья. Вы научили меня не бояться смерти, научили простому и бесхитростному мужеству рядовых. Хотя бы только ради вашей памяти я никогда не стану прежним. Я никогда не вернусь в Москву. Я затеряюсь здесь, в этой прекрасной и дикой стране, в пустыне, и обещаю вам умереть так, как не удалось прожить. Я буду молиться за вас, друзья, на незнакомом мне языке, и, надеюсь, Аллах услышит мои молитвы…
Внезапно прямо за спиной заурчал автомобиль. Я резко обернулся. Из зеленого армейского джипа мне навстречу, раскрыв объятия, выпрыгнул Томас — Туфик. Перепачканный сажей, всклокоченный, бледный, без обычных своих профессорских очков. Метнулся ко мне, обхватил руками, похлопал по спине:
— Are you OK?
— К сожалению, — пробормотал я, высвобождаясь.
— Поехали, поехали быстро! — ухватил за руку, поволок к машине. — Какое счастье, что имама обо всем предупредили. Всего за полчаса до бомбардировки! Но он жив, и это самое главное! Я оказался здесь совершенно случайно, и вот — увидел вас, — тараторил он, а джип уже летел на полной скорости вон из растоптанного города. — Почему вы в крови? Вы ранены?
— Это не моя кровь, — буркнул я.
— Хорошо, хорошо. — Томас, к счастью, не стал выспрашивать, чья же. — Эти нелюди… Вы видели, что они натворили? Большинство ракет попало в жилые кварталы.
Тысячи погибших! Бешеные собаки, подонки! Весь мир против них, а им наплевать!.. Но они за все ответят, Аллах свидетель, за все, за все ответят! Мир содрогнется, когда мы начнем мстить.
Паскуда ты трусливая, уныло подумал я и переспросил:
— Хаджи жив?
— Да, да, конечно! — счастливо воскликнул он. — Даже не ранен. Сейчас мы едем к нему. Хаджи недалеко, в оазисе Эль-Нафл. Он будет рад, что вы спаслись. — И, помолчав, добавил с тоской: — Нас осталось очень немного…
Мертвая, пустая дорога. Гладкая лента скоростного шоссе от горизонта до горизонта. Прозрачная лунная ночь. Скорость — около ста. Летим. Я — в ловушке. На такой скорости выпрыгнуть из машины — верная смерть. Может, к лучшему, а? Нет, нет. Сколько раз смерть наносила удар совсем рядом, обжигая плечо, — рядом, но мимо… Видимо, и в этом есть свой смысл. Что там, за горизонтом, куда мы мчимся, выжимая из машины последние силы? Не знаю, не важно. Я чувствовал, что уже не вполне принадлежу себе. Что есть силы, отчетливо и уверенно направляющие мою жизнь в им одним известном направлении. Попытки сопротивляться, действовать и думать выжгло из меня каленым железом. Так — значит, так. Влево — хорошо, вправо — замечательно. Не важно, доживу ли до рассвета. Все — не важно. Все — не имеет значения. Щепка не тонет, потому что легкая. Я — щепка сил. Никто, ничто, круглый ноль. Нет больше груза, который тянет ко дну. Совершены все грехи: убийство, изнасилование, предательство, воровство, трусость, подлость… Меня не связывают ни мораль, ни чувство вины, ни чувства вообще. Я глух и нем как стена. Мертв. Тело, труп. Разве можно умереть дважды?
Неожиданно резко сворачиваем с хайвэя на незаметный проселок, который теряется среди песчаных дюн. Томас сбрасывает скорость, отдувается, достает из-под сиденья початую бутылку джина «Beefeater». Вот так новости, отмечаю безразлично. Отхлебывает, протягивает мне — хотите? Молча принимаю, пью. Джин обжигает горло, крутым кипятком проваливается в желудок. Отдаю обратно — пьет Томас. Жадно, долгими судорожными глотками, кадык скачет вверх-вниз. Машина останавливается. Сумрачные дюны, ясная луна, золотые звезды.
— Мы в безопасности, — бросает он. Продолжаю молчать. Закуривает, глядя вдаль: — Какая красота… Если бы я мог выбирать свою смерть, выбрал бы эту пустыню, это небо, эти звезды. Удивительно…
— Что удивительно? — бормочу, отпуская губами горлышко бутылки.
— Мы с вами провели столько времени вместе… Через такое прошли… — Умолкает.
— И что же?
— Я знаю о вас почти все, а вы обо мне — ничего. Вас это не удивляет?
— Нет.
— Почему?
Молчу. Меня уже вообще ничто не удивляет. Тем более такие мелочи.
— Хотите, я расскажу вам одну историю? Пожимаю плечами. Томас пьет, отчаянно вливает в себя джин.
— Мне нужно выговориться, поймите… Еще тогда, в палатке, когда вы принесли мне поесть — не знаю, зачем вы это сделали, — я хотел поговорить… Но потом испугался. Подумал, что вы совершили этот поступок из мести, чтобы посмеяться надо мной, унизить… Я так долго исполнял свою роль, так долго плясал на сцене, что уже почти не различаю, где маска, где лицо. Вам знакомо это чувство?
Киваю, соглашаюсь.
— Маски, маски, маски… — Во всю силу легких втягивает в себя сигаретный дым, надолго задерживает, выпускает тонкой струйкой. — Может, нет его вообще, лица? Где оно? Как его узнать? Вы умеете отличать лицо от маски?
Равнодушно отвечаю:
— Нет.
— И я тоже! — Долгий, с бульканьем глоток, легкий звон стекла о зубы. — Ад — на земле, это правда… Вы можете меня не слушать, просто не перебивайте, прошу. Это очень важно для меня…
— О'кей.
Он долго молчал, выкурил целую сигарету, начал новую. Руки дрожали, веки дрожали, губы прыгали. Тяжело дышал, вздыхал, кривился. Минут десять, может, прошло.
— Well, once upon a time… В одной стране на севере Африки жил человек, которого звали Муса Марзук. Как пишут в дешевых романах, он происходил из знатного, но обедневшего рода, к которому, говорят, принадлежал в свое время танжерский эмир Якуб аль-Мансур. Муса был директором французского колледжа, знал, кроме родного, три европейских языка: французский, разумеется, английский и немецкий. Когда в его страну вошли танки генерала Роммеля, мистер Марзук не по собственной воле оказался переводчиком. Затем попал в плен к американцам, а через некоторое время, опустим подробности, и сам оказался в Америке. Нищим, голодным, бездомным иммигрантом. Он брался за любую черную работу, чтобы выжить. Грузил уголь в порту, отлавливал бродячих животных, чистил канализационные стоки, мел улицы…
Так прошло ровно десять лет. Муса жил в ночлежках, собирал подгнившие овощи на рынках, возле лавок, месяцами не видел мяса… В конце концов ему удалось собрать небольшую сумму и открыть маленькую торговую фирму: чай, финики, лимоны… Дело двигалось, Муса купил себе скромный коттедж, подержанный «форд». А потом встретил Джу-ли. Она была продавщицей в супермаркете. Белокожая, голубоглазая, с золотыми волосами… Стопроцентная американка доброй ирландской крови. Следуя дешевому роману, они полюбили друг друга с первого взгляда и поженились. Да, почти так все и было… Джули оставила свой супермаркет и стала вместе с Мусой торговать чаем и финиками. Потом у них родился мальчик, которого мать назвала Томми, а отец — довольно редким сейчас арабским именем Туфик. Через три года она умерла от перитонита. Тогда был очень суетливый день, десять тысяч дел сразу, и Джули решила сначала съездить в банк, а уж потом в больницу, хотя живот болел все сильнее и сильнее… Ее предки были ирландские крестьяне, она умела терпеть боль. Мальчик почти не помнил матери, но у него всегда стояли перед глазами белоснежная тонкая кожа, небесно-голубые глаза, золотые волосы… Простите, что говорю такие пошлости, но придумывать утонченные метафоры у меня нет настроения. Иногда мальчик думал, что его мать — ангел или Белоснежка…
Они остались совсем одни — Муса и его сын, Томас — Туфик. Отец решил, что в память о своей погибшей любви во что бы то ни стало передаст сыну все, что знает и умеет сам. Учил мальчика языкам и молитвам, читал ему «Тысячу и одну ночь», арабских поэтов, Коран… Он не хотел, чтобы Томас стал лавочником, нет! Только не это! Был колледж, оконченный с отличием, который стоил Мусе едва ли не всех его сбережений, потом — престижный университет. К сожалению, одаренного студента не смогли оставить на кафедре даже после того, как он с блеском защитил диплом, переведя с арабского очень редкий и сложный текст, поэму «Муаллакат» древнего аравийского поэта Зухай-ра. Кафедра арабской лингвистики была слишком мала… Томас разослал несколько сотен резюме, и в конце концов получил место в одном провинциальном университете, далеко на Юге. Представьте себе пыльный ковбойский городишко, где еще совсем недавно ничего больше не было, кроме салуна, борделя, банка и офиса шерифа…
Где люди ложатся спать с заходом солнца, а все мужчины поголовно носят стетсоны. Провинциальные протестантские семейства, воскресные походы в церковь, затем в бар, пуританские нравы… И ни одного цветного, кроме меня! Нет, вру: на бензоколонке работала еще пара мексиканцев. Захудалый университет, построенный на деньги местного миллионера в прошлом веке. Три четверти студентов — дети фермеров. Чудовищная тоска. Впрочем, я быстро освоился. Кафедрой восточных языков руководил до меня англичанин, доктор Вильям Т. Клируотер. Бедняга не дожил до полных восьмидесяти около месяца. Клируотер почти сорок лет был британским агентом в Центральной Азии, превосходно владел фарси и десятком племенных диалектов, составил великолепную коллекцию персидских книг и рукописей, которую подарил университету. Я имел хорошее время тогда. Кафедрой никто не интересовался, она была чем-то вроде бесполезного экзотического растения: видите, леди и джентльмены, у нас и такое есть! Я читал, писал, переводил. Составил несколько антологий ранней суфийской поэзии, написал книгу об Аль-Газали и его влиянии на европейскую философию, стал профессором. Должен сказать, коллеги меня уважали. Я был сдержанный, скромный, вежливый молодой профессор, образцовый конформист. Никогда не интересовался политикой, держал рот на замке, когда речь заходила об Израиле и палестинцах, поддерживал Горби, которого тогда любила вся Америка… Отец к тому времени умер, оставив мне небольшое наследство, и университет платил неплохо. Отпуск я проводил то в Мадриде, то в Аллахабаде, то в Каире. Сидел в библиотеках, рылся в старинных манускриптах… Мое имя понемногу становилось известным — особенно после того, как я заново перевел и прокомментировал «Тахафут-уль-Фа-ласифа», величайший труд Газали. Мне уже предлагали работу и в Лондоне, и в Париже, но я упорно сидел в своем уютном захолустье и составлял каталог библиотеки Клируотера, который до сих пор никто не удосужился сделать…
А потом появилась ОНА. Как это произошло? На лекции сидели, как обычно, четыре оболтуса, которым зачем-то понадобилось слушать мои излияния о структурных особенностях касыды. Один безбожно спал, другой жевал чипсы, третий смотрел на меня немигающим бессмысленным взглядом… что делал четвертый, уже не помню. И вдруг вошла она, Сэлли. Саломея. Одетая во что-то немыслимое, в какие-то чудовищные хиппи-тряпки. Амулеты, подвески, кожаные ремешки… рваные джинсы клеш, грязная тишотка с надписью… до сих пор помню эту дурацкую надпись: «If you want to fuck to Funny, fuck yourself and keep your топеу». Южный, ковбойский городок, стетсоны, церковь по воскресеньям и драки в барах — у нас никто не одевался так, как она. Это был вызов, шок, скандал! «Ай эм Сэлли Морган», — запросто сказала она и села напротив меня. «Мисс Морган?» — переспросил я. Ничего не имел в виду, просто я всегда так делаю, чтобы не ошибиться. Она скривилась, состроила брезгливую гримаску: «Да-да, тот самый Морган, можете не сомневаться, профессор. У которого целых сто миллиардов свиней самой редкой мраморной породы и который баллотируется в губернаторы штата. Довольны?» Ну конечно, мистер Джо Морган! Кто же не знает дядюшку Джо! Того самого, который заявил однажды, что расизм в Соединенных Штатах принимал, к сожалению, иногда болезненные формы, но теперь негры, если хотят, могут тоже голосовать за него, Джо Моргана, потому что лично он, мистер Морган, не имеет ничего против негров, педерастов и евреев, которые «тоже люди». Но я отвлекся…
Сэлли вошла и села, а я окаменел. У нее были роскошные золотые волосы, небесно-голубые глаза, белоснежная кожа… Если бы несчастная Джули Марзук взглянула на эту девочку с небес, она увидела бы в ней свое отражение. Не помню, как я закончил в тот день лекцию. Пришел домой, сел работать… Перед глазами стояла она: волосы, глаза, белая, такая белая кожа… Белоснежка или ангел. Я гнал ее из головы, заставлял себя читать вслух целыми страницами бесконечно нудный «Тахафут…» до самого утра… Мне было тридцать восемь лет. Тридцать восемь лет, проведенных за книгами. Ложась в постель, я размышлял, что означают слова пророка «…и будут проходить слой за слоем», просыпаясь, я набрасывал план следующей главы своей новой книги или бросался к стопке готовых переводов, чтобы еще раз уточнить сомнительную цитату из Александра Афродисийского. Теперь все это рушилось к чертям. Любовь… Я знал наизусть «Рубайят» великого Хайяма, мог цитировать километрами Рудаки, Руми, Саади, «Лейлу и Меджнун»… я знал о любви все, что сказали великие поэты Востока, начиная от Зухайра и Ибн Шарафа из Берхи, но…
Это было со мной в первый раз. Я увидел Сэлли и понял: то же самое чувствовал мой отец, когда поздно вечером вошел в супермаркет и увидел, как золотоволосая девушка в форменном халатике расставляет на полке банки с собачьими консервами. Он дождался ее у заднего входа, а потом сказал: «Эта работа не для вас — собачьи консервы. У меня есть свой бизнес. Мне нужна секретарша, которая хорошо говорит по-английски. Я буду платить вам в два раза больше, чем вы получаете здесь». Но я снова отвлекся…
Она приходила на лекции еще и еще. Вначале просто сидела и смотрела мимо меня, в окно. Потом принесла толстую тетрадь и принялась записывать. О, как я готовился к лекциям! За эти два месяца я прочитал такой курс арабской любовной лирики, которого вы не найдете ни в одном университете Соединенных Штатов! Я шел к ней как на праздник, как Меджнун к Лейле, и все стихи были только для нее, для нее одной. Близилась Пасха. Все четверо моих оболтусов смылись на каникулы, и настал день, когда в аудитории мы остались вдвоем. Боже мой… я вошел и обмер, потому что она сидела одна в пустом зале. Я испугался, не мог произнести и слова. Она улыбнулась и спросила: «Что же мы будем делать, профессор?» Еле-еле ворочая языком, я ответил: «Не знаю». Тогда она сказала: «Почитайте мне стихи. Только, пожалуйста, в оригинале. Я хочу слышать, как это звучит на самом деле». My God, что это был за день! Я чувствовал, что даже не читаю… Джами, Руми, Абд-аль-Ма-лик и сам божественный Хайям пели мои голосом, и эта песня звенела так, словно за окном была не баскетбольная площадка, по которой носились ошалевшие потные сынки дремучих фермеров, истошно выкрикивая через каждое слово «факен мазер», а гранатовые сады Басры и Хоросана, где полная луна среди цветущих ветвей и слышны сонные оклики стражей на крепостных башнях… Так все это началось. Мы ходили в кафе, шлялись по улицам, уезжали в пустыню, чтобы смотреть, как заходит солнце… Что вам сказать о ней? Обыкновенная американская девчонка. Прочла несколько скандальных книг, прекрасно танцевала, обожала Мадонну, Фредди Меркьюри и гангста-рэп. Болела за «Хьюстон», изредка покуривала марихуану. Была готова драться за права голубых и лесбиянок во всем мире. Говорила, что ненавидит отца, свиней, политику, необходимость быть его дочерью и носить его фамилию… Что хочет выучить фарси и отправиться помогать голодающим детям куда-нибудь в Афганистан…
Что она во мне нашла, девчонка, вокруг которой всегда толпились «дети из лучших семей»? Ну, со мной было интересно. Экзотический смуглый тип, профессор, знаток поэзии, единственный специалист по арабскому Востоку на тысячи миль вокруг… Подруги ей должны были завидовать, а я… Я был просто влюблен без памяти. Несмотря на то что она с трудом представляла себе, кто такой Аристотель, которого пытался опровергнуть Аль-Газали, искренне считала, что Ирак граничит с Израилем, была свято убеждена, что Саддам Хусейн — религиозный фанатик, а Шекспир был — совершенно точно, так в журнале написано! — любовником Марии Стюарт. Я прощал ей и чудовищный фермерский акцент, и способность, получив телефонный звонок, запросто убежать со свидания, и неспособность понять, как американец может отказаться от виски с содовой, будь он хоть триады мусульманин… Я прощал все, потому что волосы… глаза… кожа… Вы не поверите, но связь наша была абсолютно невинна! Представьте себе. Мы даже не целовались. Я просто боялся до нее дотронуться… Я соткал ее из стихов, она могла растаять от неосторожного прикосновения…
Конечно, нас замечали, на нас обращали внимание. При виде меня в университетских коридорах тотчас смолкали все разговоры, а потом еще долго звучал за спиной невнятный шепоток. Коллеги, с которыми я дружил, невзначай намекали, что… Пуританские нравы ковбойского штата, роман профессора со студенткой, связь цветного с дочерью такого человека… Я не обращал внимания. Потом начали приходить письма с угрозами. Как в кино: буквы, слова вырезаны из газет, криво наклеены на лист почтовой бумаги. Сэлли была грустная, но делала вид, что ничего не происходит. Мы по-прежнему ездили смотреть на закаты, по-прежнему я читал ей Саади и «Муаллакат»…
Письма сменились звонками. Грубый мужской голос через обмотанную платком телефонную трубку надсадно хрипел, что если я, тупая черномазая тварь и проклятый очкастый умник, немедленно не оставлю в покое чистую белую девочку, я буду иметь большие проблемы. А точнее: «Мы обрежем тебя по второму разу, сволочь!» Я очень вежливо отвечал, что наш разговор записывается, и пленка будет немедленно передана полиции. На том конце провода весело смеялись. Я решил, что так просто не сдамся. Отключил телефон, письма выбрасывал не вскрывая. Я был упорный тип, как Муса Марзук, который три года подряд каждый вечер встречал Джули у выхода из супермаркета с букетом роз и каждый вечер говорил ей одни и те же слова: «Эта работа не для вас — собачьи консервы. У меня есть свой бизнес. Мне нужна секретарша, которая хорошо говорит по-английски. Я буду платить вам в два раза больше, чем вы получаете здесь». А затем меня избили. Было еще не очень поздно, не темно. Подогнал машину к дому, и меня встретили трое. Я их узнал — парни из баскетбольной команды. Каждый из них выше меня на голову и вдвое шире в плечах. Били не сильно — только чтобы испугать. Я и сам не думал, что может начаться отслоение сетчатки. Всего-то пара пинков в голову… Теперь врачи говорят, что достаточно мне прихлопнуть муху у себя на лбу, и ослепну навсегда. Сэлли потащила меня в полицию. Я не хотел, она заставила. И не куда-нибудь — к самому окружному шерифу! Кричала, что убьет отца, что подсыплет ему яду… Клялась, что не бросит меня никогда, что будет любить вечно, потому что все кругом — дерьмо и засранцы, а такого, как я, даже в Алабаме поискать… Мы завтра же уезжаем из проклятой Америки в Афганистан, или в Йемен, или в пустыню Сахара…
Шериф встретил вежливо, улыбался, записал мои показания, обещал дать делу ход как можно скорее. Затем попросил Сэлли выйти на минутку и мягко, беззлобно сказал: «Сэр… мистер Марзук. Если вы будете правильно себя вести, никакие неприятности вам больше не грозят. Слово офицера». Я спросил, что он имеет в виду. Шериф засмеялся и подмигнул. После этого я неделю провел в клинике, лечил глаза. Сэлли приходила часто, приносила книги, читала стихи… Медсестры перешептывались и смотрели на меня как на душевнобольного. А потом она исчезла. Просто не пришла больше в клинику, и все. Когда я вышел, искал ее повсюду. Пытался наводить справки, подкупить неподкупную старую деву мисс Джарвик, которая ведет личные дела студентов. Сходил с ума от тоски, даже пытался повеситься… Единственное, что удалось выяснить: Саломея Морган срочно перевелась в другой университет, далеко на севере. Я методично обзванивал университеты всех северных штатов — безрезультатно. Скорее всего отец отправил Сэлли в Европу. Через своих друзей я пытался вычислить ее и там… Прошел месяц, и меня срочно вызвали к ректору. Кроме него там были окружной шериф и еще несколько человек, незнакомых. «Вы опозорили наш университет, мистер Марзук! — закричал ректор, едва я переступил порог. — Ваш гнусный поступок бросает тень на безупречную репутацию нашего учебного заведения!» — «В чем дело?» — спросил я, собираясь броситься в бой. Мне было уже все равно, я потерял самое ценное, что у меня было, и ничего не боялся. Тогда шериф улыбнулся — широко и беззлобно, как он умеет, и протянул мне бумагу: «Что скажете насчет этого?» Я сразу узнал ее почерк, ее детские округлые каракули, помарки и грамматические ошибки. Думаете, это было любовное послание? «Я не могу без тебя жить, дорогой, однако вынуждена покориться воле злого отца… Ухожу из жизни, надеясь, что мы воссоединимся на небесах…»
Как же!! Смешными детскими каракулями там было подробно описано, как 11 августа 1996 года около 20.00 Томас Марзук повез мисс Саломею Морган в пустыню — якобы полюбоваться на закат. По дороге он заставил мисс Морган выпить много виски (very mach wisky), а затем начал силой побуждать ее вступить с ним в сексуальный контакт. Когда мисс Морган попыталась оказать сопротивление, Томас Марзук избил ее и изнасиловал, заставив также проделать омерзительный blow job. Сотворив это гнусное злодейство, Томас Марзук принялся угрожать чистой белой девочке ножом и сказал, что зарежет ее, если она хоть кому-нибудь проболтается о случившемся. Все. Подпись. Я… даже не могу вам описать свое состояние. Лучше бы эти ублюдки ударили меня еще несколько раз и я потерял зрение навсегда, чтобы не видеть этих милых каракулей, подделать которые невозможно… Very mach wisky… Полюбовавшись моей реакцией, шериф сказал: «Парень, если ты не хочешь больших неприятностей, советую тебе уматывать поскорее из этого города, из этого штата, а еще лучше — из этой страны». И снова улыбнулся. Вот так я лишился всего. Она предала меня — единственное дорогое существо на земле. Моя карьера рухнула навсегда. Непрочитанная библиотека старого шпиона Клируотера, недописанная книга о связях каббалистов Испании с суфийскими мистиками Магриба, уютный дом, тихий кабинет — все, все!
Но затем об этой истории пронюхали журналисты. Был страшный скандал. Меня исключили из всех научных обществ по обе стороны океана, лишили профессорского звания, запретили преподавать в высших учебных заведениях. И все это — без вердикта суда, без каких-либо доказательств, кроме нелепых детских каракулей и десятка статей в «желтой» прессе. Оправдываться, затевать процесс? Что я мог поделать против человека, у которого целых сто миллиардов свиней самой редкой мраморной породы и который все-таки пролез в губернаторы штата? Я, полукровка, сын иммигранта, который (это тоже узнали) сотрудничал с нацистами, человек, занимающийся арабской литературой в то время, как Саддам напал на Кувейт, а совсем недавно, 25 июня 1996 года, проклятые боевики Абу Абдаллы взорвали четыре тонны тринитротолуола на военно-воздушной базе Аль-Хобар в Саудовской Аравии — девятнадцать американских солдат погибли, пятьсот — ранены!!! Знаете… на самом деле я ведь был совершенно нормальным американцем. Не пил алкоголь, не ел свинину, но во всем остальном… Я верил, что наша страна, несмотря на все ошибки, — самая лучшая в мире. Гордился великой американской конституцией. Взахлеб читал статьи о том, как за слово «nigger» кого-то упекли за решетку. Был доволен тем, что мэр Нью-Йорка — итальянец и гей, потому что это и есть настоящая демократия. Теперь все это рассыпалось в прах. Колосс стоял на глиняных ногах. Свиновладелец с белой кожей, в стетсоне, тупое и злобное богатое животное, в этой стране значил гораздо больше, чем сотни поэтов и философов, которые не взрывали американских казарм, а призывали к любви и справедливости. Которые написали свои книги и стихи задолго до того, как Колумба угораздило открыть этот чертов континент.
Тупая черномазая тварь и проклятый очкастый умник сразу получил свое, как только посягнул на святое — на частную собственность богатого белого человека, на девочку с золотыми волосами, на Белоснежку… Если бы вы знали, как я возненавидел Америку! Слава Богу, у меня не было в тот момент ни автомата, ни бомбы… Я трясся в автобусе и задыхался от злости. Я ехал в Нью-Йорк, потому что слышал: там, в Нью-Йорке, есть Бруклин, в Бруклине — мечеть, а в ней — святой человек мулла Омар. Куда мне оставалось ехать — человеку, который теперь годился лишь на то, чтобы мыть машины? Мулла Омар спокойно выслушал меня, долго молчал, а потом сказал всего лишь три слова: «Оставайся с нами». Дальнейшее не так интересно…
Я взглянул на Томаса. Он плакал и не скрывал слез, уронив полуседую башку на баранку. Крупно вздрагивал всем телом.
— И что теперь? — спросил я. — Неужели вы действительно на их стороне?
— Нет! — внезапно очень резко сказал он и распрямился. Утер лицо ладонями, вздохнул, сжал кулаки. — С меня хватит. В этой игре не может быть победителей… Я больше не могу… Я американец, Господи, был и остался американским профессором, книжным червем… Ночами напролет я размышляю о еврейском мистике по имени Абулафия, который много лет провел в арабских странах, где его звали Абу ар-Рафи. Эту главу я так и не успел закончить… У меня нет ни-че-го общего с этими людьми, ничего! Если бы вы знали, как я хочу домой! А что там? Тюрьма… Мне некуда идти. Ваш русский писатель Dostoyevski сказал однажды: «Знаете ли вы, что означает, когда человеку больше некуда идти?» Вы и я — братья-близнецы. Мы оба попали в ловушку, оба запутались… — Он печально посмотрел на меня, затем — на часы. Напряглись, отвердели черты, залегли тяжелые, глубокие морщины. Живой и жесткий блеск в глазах. — Послушай, Ис-кен-дер… Ты хороший парень, ты мне нравишься. У тебя есть сердце… и голова на плечах. Отсюда до границы — примерно шестьдесят миль. На той стороне — мои друзья. Они сделают так, что ты вернешься в Москву. Времени мало. Говори «yes», и я жму на газ. Мой ответ был не раздумывая:
— No.
— Что-о! — Томас взвился, далее подпрыгнул в своем кресле. Он был очень потный от волнения, тряхнул головой, и несколько горячих капель упали мне на лицо. — Что ты сказал?
— No, — отчетливо повторил я.
— Ты идиот? Ты рехнулся, fucken shit? Думаешь, ты им нужен? Они бросят тебя в пустыне как собаку! Ты поверил этому безумцу, который выдает себя за ал-Мехди? Что он тебе наговорил? Fucken shit… Парень, опомнись! Думаешь, я зря вытащил тебя из этой мясорубки, зря спасал твою паршивую жизнь? Да я специально колесил по всему городу и искал тебя, потому что видел, как ты ушел из отеля перед самой бомбардировкой. Мне тебя просто жалко. Ну почему ты молчишь, почему, Jesus fucking Christ, ты молчишь?
— Вы сказали однажды, — тихо произнес я, наблюдая, как медленно тает величественная ночь над пустыней. Ночь, которая для меня могла не растаять больше никогда, — что вы — на стороне сильных. Я же всегда предпочитал быть на стороне слабых. Прощайте.
Открыл дверцу, вылез из машины, захлопнул дверцу.
— Ты это серьезно, парень? — донеслось до меня. — Ты не шутишь? В последний раз предлагаю… Это твой единственный шанс!..
Я повернулся к нему спиной и зашагал в ту сторону, где, как мне казалось, должен был находиться оазис Эль-Нафл. Пусть даже за сто, двести, тысячу или десять тысяч миль отсюда. Знал: не смогу их предать. Сейчас, здесь — не смогу. Может, в другой раз, при случае — но не сейчас. Просто нельзя мне сесть в машину к этому человеку и прокатиться с ветерком до границы, прихлебывая джин. До конца жизни себе не прощу… Гул мотора стих очень быстро.
…Закрывая лицо руками — песок нещадно сек кожу, рассекал ее, протыкал, как длинными иголками, до крови, забивал глаза, — пригибаясь, скорченный, скрюченный, переломанный пополам и еще, и еще раз, я все-таки поднял взгляд. Прямо на меня, расстояние было метров, может, пятьсот или даже меньше, шел очень быстро, наступал смерч, торнадо. Гигантская живая колонна, состоящая из песчаного мелкого крошева, закрученного с дикой силой вокруг невидимой оси. Она поднималась до самого неба, к облакам и птицам, к самолетам, в самую стратосферу, толстая и мощная и прямая как сосна, расширяясь кверху жадной огромной воронкой, которая всасывала в себя горячий воздух, выпивала его и все никак не насыщалась, даже не притупляла своего голода. Состоящий как бы из ничего, из атмосферного потока и крохотных крупинок, — песок здесь сыпучий и мелкий, как пудра, — смерч выглядел, однако, твердым телеграфным столбом, окаменелым бревном доисторическим, и еще тверже, наверное, и монолитнее бетона и камня, но при этом был подвижный и вибрирующий, неплотный. Приближался неумолимо, с большой скоростью, пожирая пространство, сминая и сглаживая барханы, даже и те, что были намного выше моего роста, просто и легко, играя. Они гибли в его бездонной ненасытной утробе, поднимаясь вначале тонкими разрозненными струйками, которые затем сливались в один сплошной поток песка, текущий снизу вверх, и исчезали навсегда, превращаясь в стремительную энергию вращения. Я слышал чудовищный, нечеловеческий и неземной вообще вой и рев, которым сопровождалось это движение, и сразу оглох, утратил способность воспринимать другие звуки, помимо него, да и не было никаких в природе других звуков, их тоже поглотил, всосал смерч. Тело мое резонировало, звенело и дрожало каждой клеткой, и каждая клетка прыгала и билась, корчилась на своем месте, сшибаясь с другими, испытывая, вероятно, то же самое, что и я: темный, древний ужас. В этой стихии — смерче, торнадо — была сокрушительная космическая мощь, дьявольская концентрация разрушительной хищной силы. Такая безумная, беспредельная, с которой человеческая душа, мозг, восприятие справиться не в состоянии. Смерч казался одушевленным, наделенным способностью мыслить, он, очевидно, был существом — самодвижущимся, обладающим сознанием и волей. Воплощенные Сила и Воля — как они есть, голые, без цели пересекающие пространство, срывая предметы со своих мест, превращая их в песок, в прах. Упав, сбившись в комок зародышем, стиснув голову руками — боялся, что она лопнет у меня от воя, вот такое было жуткое чувство, — я не мог вынести этого кошмарного зрелища: Бог шел ко мне сквозь пустыню. Это я вдруг точно понял — Бог. Та скрытая угроза, что всегда таилась рядом, где-то поблизости, тенью скользила на грани яви и сна, бросая в холодный пот. Невидимая, осторожно и даже ласково касалась плеча легоньким ледяным дуновением, ерошила вставшие дыбом волосы на затылке. Теперь она выпрямилась во весь свой великанский рост, представ такой, какой была изначально, всегда. Нет-нет, я все еще не мог поверить, что это впрямь возможно! Тонны песка, целые песчаные города исчезали в чреве смерча каждое мгновение, быстрее, чем идут часы, — это снизу, а сверху разверстая пасть воронки, закусив край, втягивала мелкие облака, разбросанные, как скомканные салфетки, в светло-голубом мутном мареве. Весь мир, небо и земля, пришли в движение, схваченные намертво этим магнитом, или как вязальщица распускает шарф, выдернув нужную нить, безропотно подвластные жестокой воле и слепой ярости. Ничего больше не было вокруг, кроме песка, который вначале медленно, а затем все с большей силой, ускоряясь в исступленном танце, принимался кружить в воздухе, набирая обороты, — миллиарды мельчайших частиц разгонялись до скорости пули и прошибали меня насквозь, чтобы лететь и лететь себе дальше, чтобы влиться в жерло смерча и стать живой твердью. Я увидел, почувствовал, ощутил со смертоносной отчаянной ясностью, что весь мир со всеми его небоскребами, вождями и войнами, со всеми подробностями, — весь он, мир, сплошь состоит из одного лишь песка, наскоро спрессованного в причудливые застывшие формы. Замки, которые строят дети на морском берегу, заигравшиеся, забывшиеся дети, — замки возвращались к своему первоначальному состоянию, становились сыпучей пылью и взвесью, напитывая собой тело грандиозного червя, смерча, Бога этого мира и, возможно, если такие есть, других миров. Состоящий из наэлектризованной пустоты, из энергии без формы и качества, он создавал себе тело — а может, возвращал себе тело, временно отданное для детской игры, для забавы на прибрежном песке, на теплом и безмятежном пляже. Все, конец: Истина открывалась мне, простая и жуткая. Жестокий сюрприз: нет ничего твердого и устойчивого, нет ничего существующего на самом деле, и самого дела тоже, видимо, нет. Лишь песок, песок, скрепленный на время, как слюной, нашими желаниями и порывами, метаниями от Добра ко Злу, и наоборот. И Добро и Зло — все пошло, обрушилось в чертову топку, все вобрал в себя смерч и продолжает вбирать, еще и еще. Пока ни пространства, ни времени не останется вовсе, а только Сила и Воля в абсолютном своем торжестве и единении среди мрака, если не исчезнут также свет и тьма.
Ко мне, облаченный в одежды из летящего песка, шел Бог. Ошибки быть не могло: всем телом и всем сердцем, чувством и мыслью, каждым волоском на теле я твердо знал, что это он. Имеющий плоть — не имеющий плоти. Рождающий — пожирающий рожденное. Творящий высшую из возможных справедливость. Величественный и свирепый Бог пустыни, Бог живой, неотличимый, неотделимый от дьявола, но всегда превыше их обоих, этих двух своих сторон. Неведомый и Постижимый, Сокрытый и Явленный… Я мог бы, наверное, сойти с ума, если бы обладал в тот момент хоть каким-нибудь умом. Оглохший от гула и воя, раздавленный в слизь невыносимой грандиозностью видения, я не принадлежал больше самому себе. Все во мне, что было мною, рассыпалось в прах и уносилось прочь, не в состоянии противиться притяжению смерча. Я был тоже из песка, песчаной горстью, состоял из того же самого, что и все вокруг, и мне надлежало сейчас исчезнуть навсегда, не умереть даже, а именно исчезнуть, распасться на атомы и слиться с Единым… Последним усилием, остатками воли цепляясь за обломки существования, которых с каждой секундой становилось все меньше, обезумев совсем от ужаса, перекрикивая смерч, я орал в лицо ему свои последние слова…
…Господа, господа, ребята, опомнитесь! Вы ходите в храм и молитесь там доброму Джизусу, Кришне, Аллаху, хер с ним, не важно — вы думаете, что есть грех и воздаяние, хороший поступок и плохой, и вас кто-то там наверху любит, и мир устроен так-то и так-то, может, даже и справедливо, и правильно, — ребята, милые мои… ВЫ ИДИОТЫ! Вы считаете, что есть за что воевать, кого любить… что существуют любовь и ненависть, плохие и хорошие люди, времена, страны, правительства… ВЫ ИДИОТЫ! Ваши папы и далай-ламы, ваши святые и преступники, ваши президенты и их народы — Господи, какая туфта, какая туфта… Если б вы только знали! Если б вы только знали, из чего все состоит, в чем суть всего, состоящая в том, что нет никакой сути! Ни верха, ни низа, ни ночи, ни дня, ни светлого, ни темного, ни сладкого, ни горького — слышите, ничего этого нет, не было и не будет НИКОГДА! Сила и Воля, Воля и Сила, непознаваемые, непостижимые, бессмысленные в абсолютном смысле этого слова, приобретающие качества и отпускающие качества, а сущность — голое, неприкрытое ничто, поток частиц, вихрь, отчаянная пляска песка. Внутри вас, господа, и снаружи вас ничего нет, и еще, и еще раз — нет, нет! Даже смерть, и та кем-то выдумана, кто-то наврал вам про смерть, а ее нету и близко, есть кое-что пострашнее, но лучше бы его не видеть и не знать никогда. Ребята, слушайте: воюйте, бомбите свой вонючий Ирак или кого вы там хотите, зарабатывайте бабки, лгите, кайтесь, смотрите телевизор сутками, трахайтесь с мужчинами и женщинами без разбора, колитесь героином, убивайте арабов или евреев, кончайте жизнь самоубийством — только не заглядывайте в эту адскую дыру, только не дайте своим глазам увидеть все как есть, уберегите себя от этого, и себя, и своих детей! Слушайте, все, что вы называете грехом, преступлением, все, что рождает в вас презрение и ненависть, гитлеры-сталины-террористы-пида-расы-масоны-свиновладельцы — такая лабуда, такая чушь перед лицом Того, что Есть!.. Слушайте, нет грехов никаких, нет никакой ебаной морали, вас обманули, ни рая нет, ни ада, и все дозволено, если хочешь, и отвечать ни перед кем не придется, потому что Бога никакого нет, а То, что Есть — не Бог, это никакими словами не передашь, это выше всех богов, всех ваших аллахов и джизусов, оно прокатывает по вам бульдозером, не оставляя даже мокрого места, и когда это происходит, когда это с вами произойдет…
…вы проклянете тот день, в который родились на свет.
Так я орал и безумствовал, я выкрикивал эти слова, обращаясь в пустоту, которая разверзалась передо мной, пока я обрушивался со скоростью молнии в бездонный и темный колодец ужаса — глубже, глубже и глубже. А смерч приближался, был уже совсем-совсем рядом, и когда я вошел в него…
КАКОЕ БЛАЖЕНСТВО, КАКОЕ БЛАЖЕНСТВО!
Я стал Этим. Силой и Волей. Каждая крупинка песка была мною, я мог ее почувствовать — нет, я чувствовал ее, и в ней, в каждой без исключения, заключался целый бескрайний мир, Вселенная со всеми звездами и планетами и галактиками, с мириадами богов и демонов… Упоение, восторг, щемящая радость — и любовь, любовь!.. В сердце преисподней, на дне всех существующих бездн, на самом пределе жути — такое пламя, такая страсть, такое ликование! Я был слепящим светом самой совершенной, исчерпывающей Любви, и каждый луч этого чудесного света мог достигать по моему желанию любой точки пространства и времени, исцелять мгновенно все тяжкие страдания, воскрешать мертвых, утолять голод и жажду живых. Не было такой раны, такой язвы, которой бы не коснулся я светом, и на месте ран тотчас вспыхивало сияние. Вся боль, все несчастья, все отчаяние, что существовало среди людей, были исцелены раз и навсегда, все кривые пути исправлены, изгнана тьма… Не было больше пустоты — все-совершенная наполненность, счастье, счастье разливалось, струилось кругом. Буйная зелень пробивалась сквозь иссохшую пустыню, дивные цветы источали тончайшие ароматы, реки текли медом и молоком, а звезды улыбались… И такое тепло, такая сердечность была во всем, живом и неживом, в прошлом и будущем, такая Мудрость Замысла открылась вдруг, такое ясное солнце взошло над землей…
Когда я открыл глаза, стояла абсолютная тишина. Мир не изменился ни на йоту. Каждая песчинка лежала на своем месте, и текли застывшими волнами розоватые, лимонные и желтые барханы, устремляясь по-прежнему к горизонту. Но я не узнал пейзажа. Меня удивили кривые деревья и чахлый кустарник, которых не было в том месте, где застал меня смерч. Должно быть, он отнес меня очень далеко. Я встал. Чувствовал себя свежим и бодрым, исчезли и голод, и жажда. Мне хотелось идти, и я уже точно знал, что приду. Отряхнувшись, я зашагал к ближайшему бархану, вскарабкался на него… Окруженный финиковыми пальмами, на ветру полоскался…
…белый флаг с красным крестом и красным полумесяцем.
Эпилог
Море: зеленое, спокойное, Средиземное — гладь, гладь. Еле-еле лениво плещется, разморенное жарой, у самого иллюминатора. Штиль. В зеленом киселе — быстрые силуэты мелких рыбешек, наблюдаю их суетливую подводную возню. Сбиваются в стайки, хороводятся, рассыпаются внезапно, чего-то испугавшись, снова тянутся друг к другу. Вечный круговорот. Наглые бакланы уже, видимо, нажрались досыта: качаются на волнах, жирные, не хуже индюков. Иногда разевают клювы (уже хотел написать было: пасти, у них и правда клюв как пасть, здоровенный), громко орут. Это я так думаю, что орут: звуконепроницаемый иллюминатор избавляет от необходимости внимать их хриплым воплям. Каюта: беленькая, чистая — на судне и должно быть все чисто, надраено и вымыто — двухместная на одного меня. Напоминает купе поезда — скажем, «Северное сияние», где мы когда-то столкнулись с Зёкой: откидные койки у стены, столик, коврик, лампа на потолке в казенном плафоне. Только пейзаж за окном не меняется, не бежит, сливаясь в разноцветные долгие линии, когда неизвестно еще, кто от кого убегает, ты от мира или мир от тебя. Авианосец «Джордж Вашингтон» мирно покоится на месте — не то дрейфует, не то просто увяз тяжелой тушей, вытеснив слишком много, по закону Архимеда, средиземноморской теплой воды. Наручники сняли еще вчера, но запястья все равно ноют, и следы на них яркие, красные. Этот придурок, их, видимо, местный особист, хоть и видел, что сопротивления я никакого не оказываю, а все равно хряцнул браслетами от души, раза в полтора сильнее, чем надо. Двое других стоят сейчас за дверью — морды серьезные, подбородки твердые, бдят. По одному ко мне в каюту вообще никто не заходит, только парой. И — оружие на изготовку. Но кормят хорошо, и завтрак, и ленч — как полагается. Как раз ленч я только что и умял: яичница с беконом, тосты, кофе и сладкий, пахучий маффин, щедро нафаршированный изюмом. Горячее все, свежее, ароматное. Принесли несколько пачек «Кэмела» — курите на здоровье, сэр. Молодцы янки: американский «Кэмел» просто сказка. Сижу, пускаю кольцами дым, глазею в иллюминатор. Гуманизм на высшем уровне. Переодели в чистое, выдали новенький, запечатанный комплект: два полотенца, мыло, шампунь «Уош энд гоу», станок «Уилкинсон суорд», пену для — и гель после бритья. Бритый, мытый, пахну, курю и жду, когда придут забирать поднос с остатками жратвы. Все, что от меня требовалось, я за ночь подробно написал на хорошем, надо полагать, английском языке. Тридцать один лист. За завтраком отдал мордатым особистам. До завтра, наверное, начальство будет изучать, так что допросов пока не предвидится. Калорийное питание, бакланы, сон. А допрашивать явился тип забавный, совсем такой, как показывают в их фильмах: седой, голубоглазый, крепкомордый, обходительный и все время улыбается. С ним еще негр-ассистент — двухметровый качок. Седой задавал вопросы, негр заполнял анкеты. Управились часа за полтора, но это скорее всего так, разминка. Когда прочтут — тогда возьмутся всерьез.
Тук-тук осторожно в дверь. Вежливые сукины дети, всегда стучатся. Наверное, на электрический стул тоже сажают очень вежливо и включают рубильничек с красивой голливудской улыбкой. Keep smile, sir. У нас страна победившего оптимизма. Меланхоликов просим отойти на пять шагов и закрыть глаза. Скажите «cheese», приговоренный! Сказали? Ну, поехали, с Божьей помощью… In God we trust!
Кричу лениво:
— Come in!
Резко — запах дорогого одеколона. Удивляюсь прежде, чем подумать. Военно-морской флот Соединенных Штатов Америки пахнет попроще: экономика должна быть экономной. Поворачиваю голову — синий китель, погоны, золотой галун. Почему нет — для такого, как я, и генерала не жалко.
— Здравствуйте, — произносит китель.
— Что-о?!!
Жан — дефис — Эдерн — пробел — Вальмон. Точка.
— Это… вы?
Улыбается, протягивает руку:
— Как видите.
Еще не соображая ничего, жму его ладонь. Пальцы ухватывают кусок пустоты, бессознательно привычный объем плоти заполнен не до конца. До меня доходит: не хватает мизинца. Вторая рука Жан-Эдерна выплывает из-за спины, держа за горлышко пузатую бутылку темного стекла.
— Рад видеть вас живым и невредимым, — растроганно произносит он и вдруг стискивает меня обеими своими руками до хруста в костях, прижимается небритой и подозрительно влажной щекой. Отпускает не сразу. — Коньяку?
Киваю, сажусь, все еще не в состоянии соединить в сознании золотое шитье мундира, погоны и такое знакомое лицо. Постаревшее лет на… Он проворно разливает коньяк в пластмассовые стаканчики: — За вас, мон ами.
— И за вас.
Молчим, смотрим друг на друга. Только теперь я понимаю, чего так недоставало раньше Жан-Эдерну, что меня так беспокоило в этом курортно-загорелом старике, одетом в джинсовые шорты и пижонски старомодную рубаху баттон-даун. Отсутствие формы. Не выдерживаю:
— Что означает этот маскарад?
— Так я выгляжу на самом деле, — кривится в невеселой улыбке и снова льет коньяк. Помногу. — Выпьем еще?
— Только после того, как вы…
— Перестаньте, прошу вас. — Жан-Эдерн накрывает мою ладонь своей, беспалой. Покрасневшие его глаза умной старой собаки понемногу затягивает влага. — Могли бы сами догадаться…
— О чем?
— Я работаю на правительство. Уже много лет.
— Янки?
— Французы. Давайте выпьем.
Вливаем в себя содержимое пластиковых стаканов. Только теперь замечаю, что на бутылке стоит: «Martell».
— Значит, французы?
— Oui.
— И вы можете рассказать мне всю правду?
Долго молчит, морщит лоб, затем выуживает из кармана такую знакомую мне пеньковую трубку. Щелкаю зажигалкой:
— Впрочем, я не настаиваю…
— Нет уж… Вы имеете право знать. — Знакомый, знакомый ароматный дым слоится, плывет в воздухе. — Я виноват в том, что случилось… и с вами тоже. И сейчас… не удивляйтесь, пришел просить у вас прощения.
— Виноваты?
Снимает форменную, с золотой кокардой фуражку, кладет на стол. Лысина взмокла. Сопит, тяжело дышит, грызет черенок трубки.
— Мне стоило большого труда добиться нашей встречи. Времени мало. Пообещайте, что выслушаете все, и покончим с этим…
С готовностью:
— Обещаю.
— Я убил Мохаммеда Курбана.
Некоторое время пытаюсь совладать со своим ртом, с голосом.
— Вы?! Это сделали вы? — Да.
— По своей собственной воле? Холодная улыбка сквозь дым, злая:
— Вам знакомо это слово — АНБ? Агентство национальной безопасности, Форт-Мид, Мэриленд… Со мной говорил лично генерал Майкл Хайден. Я был единственным агентом, который мог эффективно осуществить операцию…
— Курбан… Ваш самый близкий друг, даже родственник?.. Ведь вы рассказывали…
— Он был опасен. В последние годы Мохаммед стал теневым банкиром Всемирного исламского фронта. Инвестиции в отели, Шармуда — он отмывал громадные суммы. Почти все наркодоллары исламской Африки шли через его руки…
— А этот шейх, любитель живописи? — еще не веря до конца сказанному, перебил я. — А дворец в пустыне?..
— Мелкий клерк, подставное лицо. Мохаммед мог легко стать президентом страны. И у него был козырь, о котором не знал никто.
— Козырь?
— Нефть. Эти два француза, которых он якобы приглашал изучать древнеримскую ирригацию, — они искали для него нефть в пустыне. Искали — и нашли. Мохаммед уже почти купил сотни безводных и бесплодных гектаров никому не нужной земли, чтобы обеспечить Абу Абдалле самый надежный в мире источник доходов. Мы не могли этого допустить…
— «Мы»?
Жан-Эдерн плеснул себе коньяку. Уже был довольно пьян, руки дрожали, губы дрожали:
— Я офицер, мон ами. Офицеры исполняют свой долг. Всю жизнь я тщетно утешал себя этой максимой. Мы провели операцию безупречно. О ней знаем только я, генерал Хайден и вы. Остальные давно уже в аду… К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Юсуф оказался слишком… — Жан-Эдерн пожевал губами, подбирая слово, — слишком прытким. Но я офицер, а офицеры исполняют свой долг. Я никогда не чувствовал за собой никакой вины… даже тогда, в Камбодже, когда пристрелил несчастного монаха, который поставил на ноги Пьера Бодлера. Монах мог выдать нас партизанам. Но теперь… так глупо… в зиндане я взглянул в глаза этой малышке, Marie, вашей дочери, и со мной что-то случилось… Боже, как глупо… чистые, невинные глаза… глаза убийцы. Так смотрит палач, который выносит приговор… палач с нимбом над головой. Мне страшно… я боюсь ада. Вы мне не верите, да? — Он всхлипнул, беспомощно шмыгнул носом.
— Неужели Мохаммед не догадывался, кто вы на самом деле?
— Да… конечно… Но до последней минуты верил мне… верил мне. Боже мой, почему все так глупо, глупо!.. Порядочный человек, офицер, на моем месте должен был застрелиться, а я… Получил повышение в чине и пенсию… роскошную пенсию от имени Республики. Если бы вы знали, сколько раз меня пытались убить! Но я не боялся смерти, никогда не боялся смерти. Только теперь, когда все уже позади… Нет, не самой смерти, а того, что после нее… Если бы я мог попросить прощения у всех, у всех!..
Он неуклюже сполз со стула и встал передо мной на колени.
— Простите меня, если можете… Хоть вы… простите.
— Не надо, перестаньте! — Я ухватил под мышки его тяжелое, грузное тело, с трудом, задыхаясь, усадил на кровать. — Расскажите лучше, как вы здесь оказались.
— Как я?.. О, ничего интересного. Когда женщину и малышку увезли, они принялись за меня. Такой пустяк — двести тысяч долларов выкупа… У кого я мог попросить деньги? У АНБ? У французской контрразведки?.. В инструкции сказано, что в таких случаях агент выкручивается как может, но не имеет права раскрывать себя. Они решили каждые два дня отрубать мне по пальцу, чтобы ускорить дело. Я бежал… это длинная история. Но когда ночью выбрался из зиндана, первым делом разыскал чечена и задушил его. Единственное доброе дело в моей жизни… Скажите… скажите честно… только один вопрос… не смейтесь, пожалуйста…
— Какой?
— Как вы считаете — Бог есть?
Он смотрел на меня так, Жан-Эдерн, офицер и рыцарь, человек, дважды спасший нас от неизбежной гибели и разбудивший перед тем бешеных псов джихада… так на меня смотрел, словно от моего ответа зависела сейчас его жизнь. Без всяких преувеличений книжных.
— Вряд ли, — тихо сказал я и отвернулся. — Но если бы он был, он простил бы вас. Обязательно простил.
— Спасибо, мой мальчик… — Жан-Эдерн протянул руку, на которой было только четыре пальца, и легко коснулся моей щеки. — Знаете… я вот отчего-то вспомнил историю библейского Иова, о котором спорили Бог и Сатана. Просто… спорили, понимаете! Ставили опыт. Сломали человеку жизнь… и смотрели, что будет. Иов не сдался, но потом… Если бы ему сказали всю правду, смог бы он принять от Бога награду? Или послал бы ему проклятия и умер назло всем, покрытый язвами и струпьями?.. Какая прекрасная смерть для человека… для офицера. Прощайте… и забудьте обо мне.
Он встал, оправил форменный китель, привычным жестом насадил на голову фуражку и вышел, даже не обернувшись в дверях. Я посмотрел в иллюминатор и вдруг увидел, как летят, смазываясь, за стеклом запорошенные колючим снегом хмурые ели, услышал, как причитает и бессильно стонет буря, грозя кулаком поезду, который летит сквозь мрак и ужас к незримому еще, но уже ясно проступающему сквозь зловещую пустоту северному сиянию.
Июль — декабрь, 2002