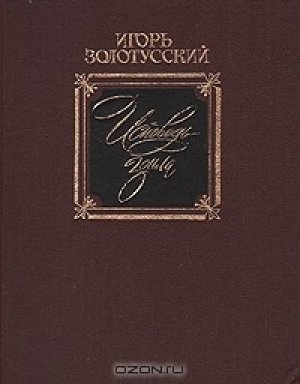
ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ
Исповедь Зоила
Статьи, исследования, памфлеты
Критические мечтания
В этой книге собраны статьи разных лет. Она в некотором роде портрет автора, который все эти годы «раздваивался»: писал и о современной литературе и о классике. Не думаю, впрочем, что это повлекло за собой перепад в оценках: с одной стороны — максималистских, с другой — снисходительных. И из современной прозы я выбирал то, что наследует классике, остается верным ей. Более того, на мой взгляд, литература и спаслась благодаря этой верности, как спаслась и вся наша духовная жизнь.
Речь в эти годы шла именно о спасении, ибо никогда еще мы не подвергались такой тотальной опасности безверия и безочарования.
Я назвал свою книгу «Исповедь Зоила». Зоил был злой критик, он критиковал Г омера. Я надеюсь, однако, что читатель найдет в ней не только строгие разборы, но и те «искры любви», которые, по выражению Гоголя, смягчают и просветляют самые беспощадные обличения.
Игорь Золотусский
ОТЧЕТ О ПУТИ ОЧНАЯ СТАВКА С ПАМЯТЬЮ
Несколько раз принимался я писать о К. Воробьеве и всякий раз оставлял: слишком высокую ноту приходится брать, хочется подхватить его крик, удержать на высоте, но не хватает сил, недостает напряжения. Страшно сорвать голос. В этом смысле проза К. Воробьева особая. Те же законы прозы, те же сюжет, композиция, характер, но интонация не та, интонация какая-то другая — с первых строк резко взыскующая, истово реющая в полете совести. В нравственном поле воробьевской прозы все перенапряжено, все жжет и горит и требует в ответ жжения и горения.
К. Воробьев старше меня на тринадцать лет. Но между нами пролегла эпоха. Его герои в 1928 году за бороной бегают, а меня еще нет. Они уже голодают, набивают пузо горохом в коммуне, а я не родился. Они оступаются, совершают свои первые проступки, плачут и прозревают от потерянной веры, а я младенец. Они сироты, а у меня отец и мать.
И лишь в конце тридцатых наши судьбы сближаются: сиротею и я, война бросает меня в детдом, а их на фронт.
С той поры сердце у нас болит по одному, отзывается на одно — в тылу мы, пацаны, слышим фронт, видим фронт, страдаем за фронт.
Проходит время, и жажда правды о прошлом сводит нас во второй раз. На этот раз слово дано им, на весах жизни и смерти взвесившим, что стоит правда и ложь. Они выходят на очную ставку с памятью, и вместе с ними выходим и мы, которым эта память нужна как хлеб, как воздух.
На этом взаимном сближении детства и позднего взросления и закрепляется наша связь. Отныне мы навсегда повязаны одним, преданы одному, хотя и с той и с другой стороны нас ждут потери.
К. Воробьев — одно из приобретений этого братства, причем приобретение последних лет. Странно: его повести выходили и печатались, но имя его и книги не были в ходу. Может быть, потому, что слишком горькая правда была заключена в них. Повесть «Убиты под Москвой» была напечатана в «Новом мире» в 1963 году. С тех пор имя К. Воробьева запомнилось, но отошло куда-то на край сознания, как имя редкое, одинокое. В повести «Почем в Ракитном радости» герой, вернувшийся после долгого отсутствия в родную деревню, встретив там своего дядю, говорит ему. «Я хороший писатель... Я хороший писатель... Я не плохой писатель, дядя Мирон!»
Есть в этом самооправдании что-то личное.
Кузьма Останков (так зовут героя) хочет убедить себя, а не дядю Мирона, что еще не все потеряно, что его час настанет. Делая свое дело и делая его в безвестности, он надеется, что его проза дойдет до читателя.
К. Воробьев в отношении своей судьбы оказался пророком. Не прошло и пяти лет со времени его смерти, как имя К. Воробьева сделалось в литературе символом чести. Его рассказы и повести, как бы возвращаясь к нам, говорят: он был хорошим писатель. Он был очень хороший писатель. Он был прекрасный писатель.
Константин Воробьев не услышит этих слов. Но пусть услышит их читатель. Мы открываем сейчас К. Воробьева, как после войны открывали Брест, как открывали из-под руин то, что было погребено под ними. Уже и иных могил не стало видно, одна утрамбованная земля блестела на месте их, но мертвые встали во весь рост и заговорили во всеуслышание.
Рост героев К. Воробьева — это высокий рост, гордый рост. Это рост, по которому набирали до войны в кремлевские курсанты. Это рост героев повести «Убиты под Москвой», рост Кузьмы Останкова, рост Кондратьева из рассказа «Чертов палец».
Гордость — и их душевный постулат. Трудно быть гордым, слишком дорого обходится им гордость. За гордость не гладят по головке, не награждают. От гордых стараются избавиться. Да и они сами, не терпя лжи, готовы свершить суд над собой.
Так свершает его капитан Рюмин в повести «Убиты под Москвой». Рота кремлевских курсантов, которой он командовал, полегла не по его вине. Но он принимает вину за ее гибель на себя. Это он не сказал роте, что она попала в окружение, это он повел ее на верную смерть. Впрочем, еще раньше до этого на верную смерть его и его роту послали другие. Но Рюмин не хочет валить вину на этих других. На того майора спецвойск, который «со щупающей душу усмешкой» послал их в бой. Рюмин принял весь позор и всю боль на себя.
«Все, — старчески сказал он», когда они остались вдвоем с Алексеем Ястребовым, глядя на оставшихся в живых курсантов роты. «За это нас нельзя простить. Никогда!»
Романтический максимализм Рюмина, как и его последний поступок — самоубийство, — естественное завершение его жизни, прожитой в преданности идее, усомниться в которой выше его сил.
Несколько таких гордых личностей являются в повестях и рассказах К. Воробьева. Это Момич в «Тетке Егорихе», дядя Мирон в повести «Почем в Ракитном радости», лейтенант Воронов из «Седого тополя», Синель из «Синели». Жизнь обломала о них свои зубы, лязгнула по каменной твердости их характеров и отступилась. Устояла в своей гордости тетка Егориха, нежная, ласковая тетка Егориха, которую на церковной паперти застрелил фанатик Голуб. Похоронили тетку Егориху возле одинокого дерева, на краю кладбища. Дерево то было «колючее, шатристое, с черным комом давнего сорочиного гнезда на макушке. В рассветной мути дерево казалось маленькой церковкой с куполком без креста».
Это дерево и могила под ним напоминают другое дерево и другую могилу — могилу капитана Рюмина под одиноким кленом на опушке подмосковного леса.
Немецкие танки раздавили роту, которая храбро дралась, но ничего не могла поделать против них со своими бутылками с горючей смесью и самозарядными винтовками. Она задержала эти танки, но полегла.
И мертвое тело Рюмина, которое не успели зарыть в могилу, тоже раздавил танк.
«Танки показались в северной стороне поля, и стрелял лишь тот, что шел на скирды, а второй молчали двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитана уносил уже только один — курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински — чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина — головой на север или на юг, — Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином, и все это не сбросил, а сложил в углу могилы. Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботком орудия. Он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, и из крайнего, куда спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, сырой желтый дымок. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров, — Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц и, снова болезненно-остро ощутив тут присутствие своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно крикнул:
—Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз!..»
В этой сцене преобладает молчание. Танк молча движется на человека, но и человек не спеша готовится ко встрече с танком. Молчание силы наталкивается на молчание еще большей силы, еще более страшной силы, потому что то сила духа.
Домовитость и бережливость, с какой Алексей Ястребов складывает все в углу могилы, а не швыряет, не бросает как попало, это домовитость крестьянина. Как и все герои К. Воробьева, он курский мужик. Точнее, сын курского мужика, в тридцатые годы ушедший из деревни. Прошло время, и Алексей забыл, откуда он. Он стал одним из тех, на ком сияют одинаковые кубари в петлицах и поскрипывают одинаковые ремни. Но в минуту, когда ему пришлось встать навстречу танку, он вспомнил, откуда он родом. Он вспомнил и деда Матвея, заменившего ему отца, и свою Курщину, и слова детства. К нему вернулась память.
Память — поддержка и опора героев К. Воробьева. Но она и кровоточащий источник. «Темное и нелюбимое прошлое», — говорит о своем прошлом Кузьма Останков. Но именно к этому прошлому его страстно влечет. Влечет неудержимо, упрямо и как-то зло. Как будто рассчитаться хочет он с прошлым, все до конца с ним выяснить, выскрести все из памяти до последнего поскребыша и чистым предстать перед высшим судом.
История злопамятней народа, сказал Н. Карамзин. Народ забывает свои обиды, свои потери. Могилы зарастают травой — как зарастает могила матери героя рассказа «Чертов палец» на заброшенном деревенском погосте, — нарождаются новые поколения, которые не хотят знать того, что было. Они эгоистически ставят себя в центр мира, не подозревая, что и им придется оглянуться назад. Так лучше это сделать раньше, если можно, говорит К. Воробьев. Лучше это сделать при жизни, нежели предоставить это историкам.
Когда-нибудь, когда будет составляться летопись жизни современного человека, в нее занесут несколько строк и из К. Воробьева. Без них эта летопись не обойдется.
Герой К. Воробьева по природе стоик, но право высказаться он оставляет за собой. Он готов все перетерпеть и пережить в себе, но до поры до времени. Капитан Рюмин тоже высказывается перед смертью. Момич молчит-молчит да и выкладывает все Голубу. Кузьма Останков и дядя Мирон, встретившись после долгой разлуки, ставят точки над «и» в оценке прожитой жизни.
Но еще сильнее, чем слова, говорят их чувства. Проза К. Воробьева раскалена от воспоминаний. Она похожа на оголенный электрический провод и небезопасна на ощупь. Тут каждое слово — правда — и вся правда.
Ущемления правды, неполной правды более всего страшится К. Воробьев. Его герои просто помешаны на полноте правды, на ее праве существовать. Они и своего существования не мыслят без ее торжества.
В памяти героев К. Воробьева всплывает одно и то же: деревня, война, плен, побег из плена.
И бегут у К. Воробьева из плена одним и тем же способом: выбрасываются из окна вагона на насыпь, не зная, попадут ли под колеса поезда или под автоматный огонь. И в лагере для пленных ходят в одном и том же — в бумажном мешке вместо гимнастерки, и один и тот же тополь посреди лагерного двора вспоминается им. И — вытоптанная земля вокруг этого тополя, на которой ни пушинки, потому что тополиный пух — это пища, его заталкивают в рот, им давятся, мешая со слюной, глотают, чтоб хоть что-то попало в желудок.
Детская память вытаскивает из небытия коммуну, барский дом с колоннами, с пустыми огромными залами и высокими потолками, гул голосов под этими потолками, койки коммунаров на паркетном полу. Сизый дым идет из трубы — там наверху, в столовой, варят горох. В запертом сундуке томится курица, которую тетка Егориха и ее племянник привезли с собой из дому. Она все несет и несет яйца и квохчет, но света нет, пищи нет, нет стекляшек и камушков, и яйца получаются без скорлупы, голые. Председатель Лесняк, чей орден на гимнастерке поблескивает «обезволивающим блеском», сидит, не снимая фуражки, во главе стола и ест гороховую гущу
И так же поблескивают пустые цинковые миски, стоящие рядом с ним. Страх, немота, редкие всплески смеха, разговоров, томление безделия, томление по покинутым хатам, мираж пруда, в котором отражается дом с колоннами, — будто совершенно иной, из сказки.
Сказка в пруду, в зеркале пруда, а наяву — сизый дым из трубы, удары по рейке, сзывающие на работу, и слезы мальчика, который, как та курица, хочет вырваться прочь, на волю.
Нить из двадцатых годов перебрасывается в тридцатые, потом в сороковые. И перед нами вновь встает война — боль болей Константина Воробьева.
И мы видим двор возле каких-то складов и колышущуюся толпу пленных на морозе, отталкивающую от себя вновь прибывших, слышим гул живых голосов в складе, запертом изнутри, — там, храня тепло, люди жмутся друг к другу, и штабеля трупов у стены склада, и живую лошадь, которую буквально на глазах у нас разрывают на части, чтоб тут же съесть, согреться теплым, дымящимся на холоде мясом — в него впивается зубами погибающий от потери крови лейтенант.
Нет, не такою представлялась Алексею Ястребову война. Первый бой, который снился ему, как победа под крики «Ура!», протекает совсем иначе. Взвод не кричит «Ура!», а «орет» «бессловесно и жутко», и крик этот потом переходит в вой, потому что ничего вокруг понять нельзя, потому что чувства сумасшедшие перескакивают в другое состояние, потому что хочется хотя бы в вое слиться со всеми, почувствовать себя частью всех.
Это отделение частного сознания от сознания всех и вместе с тем желание частного сознания слиться с общим сознанием в бою, как никем в нашей прозе, показано К. Воробьевым. Герой существует как бы на перепадах этого отделения и слияния, перебрасывается внутренне из одного состояния в другое, то возвышаясь и падая, то высветляясь, то уходя во тьму.
Повесть «Убиты под Москвой» — образец кристаллического ясновидения и кристаллической чистоты формы, точно соответствующей чистоте смысла. Это повесть о прозрении от слепоты и о доблести, преодолевающей в себе боль слепоты, боль мести за слепоту.
Мальчишка-лейтенант к концу ее становится мужчиной. Это он подбивает танк, и он уходит с трофейным автоматом в глубь леса, чтоб набрести на рассеявшихся в окружении своих.
Он остается жить для того, чтобы воевать. Но он остается жить и для того, чтобы помнить.
«Он почти физически ощутил, — пишет К. Воробьев об Алексее Ястребове, — как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним как дальняя и безразличная ему родня-нищенка, но рядом с нею и ближе к нему встало его детство...» После того что пережил Алексей в ночном бою, после смерти капитана Рюмина, который умер у него на руках, после всего, что произошло с его ротой, ему почти все равно — и он поднимается навстречу танку. Сцена эта написана К. Воробьевым с разрывающей душу ясностью и напряжением. Звук как будто выключен, и только в конце тяготящее и нарастающее молчание обрывается криком.
Что-то меняется в Алексее Ястребове. Что-то меняется и в Рюмине перед смертью. Мальчик-рыцарь, отстраненно державшийся по отношению к курсантам, как бы стерегший в отдалении свою честь, он неожиданно приближается к ним. Штамп капитана Рюмина — его фуражка, надетая набекрень, туго натянутые на руки перчатки, прут-стек, которым он постукивал по голенищам, строгий взгляд — исчезает. Рюмин как- то «виновато» смотрит на Алексея Ястребова.
«Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение... Он сидел теперь затаенно-тихий, как бы во что-то вслушиваясь или силясь постигнуть ускользающую от него мысль, и как только это удалось ему, черты лица его сразу обмякли и он как-то сожалеюще-любовно посмотрел в глаза Алексею».
И все же не пожалей Рюмина курсанты — из тех, что остались в живых, — может, он бы и остался жив. Он-то рассчитывал на их гнев я справедливое осуждение. Но они простили его. И Ястребов простил, и рота. И этого не мог пережить гордый капитан Рюмин. Он сам наказал себя. Тогда-то и раздался в тишине утра его «притушенный, до конца не окрепший выстрел». Он выстрелил себе в сердце.
Сам звук этого выстрела последней болью проносится над его судьбой.
«Рюмин лежал на спине, — заканчивает этот эпизод К. Воробьев. — Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели... Он часто и слабо икал, выталкивая языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Все это Алексей вобрал в один короткий обыскивающий взгляд, и, когда он позвал капитана и подхватил его под мышки, по всему телу Рюмина прошла бурная и живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли.
Это было впервые, когда Алексей не устрашился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную близость и согласность к той таинственно-неподвижной позе Рюмина, в которой он лежал, и то, что он сделал, не вызывало у Алексея ни протеста, ни жалости».
Близость и согласность, которые испытывает Алексей Ястребов по отношению к позе мертвого своего товарища, — это высшее чувство, которое способна пережить по отношению к смерти жизнь. Это то, что никакими другими словами объяснить невозможно.
Проза Константина Воробьева точна и жестка в подробностях. Но она столь же жестка и в целом. Она ничего не хочет утаить, упустить, урезать ради общего монтажа. Для нее такой монтаж — отступничество, предательство. Память памяти рознь. Иная память, как режиссер, отбирает из прошлого лишь нужное, лишь выигрышное. Лишь то из прошлого, что и в настоящем может составить капитал. Это память-конформистка. Память героев К. Воробьева лучше на костер пойдет, но не даст совершить над собой такого насилия.
Позора сломленности, позора отступничества, позора замалчивания правды не приемлют герои К. Воробьева. Вот отчего интонация его прозы часто срывается на крик, граничит с криком. Крик — это громкий голос, освободившийся голос. Это право в полную силу говорить все обо всем.
Одна из повестей К. Воробьева так и названа коротко — «Крик».
Я поставил бы ее рядом с повестью «Убиты под Москвой», а также рядом с лучшими страницами русской прозы о войне. Как поставил бы «Тетку Егориху» рядом с прозой Андрея Платонова о деревне двадцатых—тридцатых годов.
«Никто не забыт и ничто не забыто» — эти слова мы часто читаем на красных полотнищах. Их повсеместно относят к войне, к павшим на войне. Константин Воробьев склонен распространить этот святой закон на тех, кто пал и не на войне. Кто погиб, как тетка Егориха, кто умер от голода в 30-с годы, как отец героя рассказа «Чертов палец», кто, как дядя Мирон и Момич, надолго исчез из родного дома.
Все сюжеты у К. Воробьева сматываются в один клубок. Человек возвращается домой. Человек в памяти возвращается к пережитому. На очной ставке с памятью он пытает себя, пытает и казнит без свидетелей, а уж со свидетелями встречается потом.
Свидетели эти — его земляки, родная хата, могила матери, женщина, которую он когда-то любил.
Прошлого не вернешь, но можно вернуться с прошлым. Можно пронести его в сердце. Повести и рассказы К. Воробьева — это повествования о возвращении блудного сына в родные места и о возвращении блуждающей в потемках памяти, которая ищет свои истоки, хочет воссоединиться с ними, прилепиться к ним. Память наводит мосты, соединяет разорванное, латает провалы в сознании, провалы и обрывы во времени. Она и всей жизни, прожитой все-таки не зря, придает смысл.
В очных ставках с памятью, которые устраивает своим героям К. Воробьев, почти нет места женщине. Женщины являются в его прозе со смущением на лице и ненадолго. Женский смягчающий вздох покрывается мужскими рыданиями, мужским клекотом, когда мужчина, не умея плакать, все же плачет.
В прозе К. Воробьева почти нет чувственной любви. Любовь целомудренноаскетична, она стыдится себя, она как бы не к месту. Как до самых бровей повязана платком тетка Егориха, так повязана в своих чувствах у К. Воробьева и женщина. Раз или два пройдется тетка Егориха за огородами с Момичем, раз споют они песню в присутствии мальчика — и все. Женщина у К. Воробьева если и любит, то больше страдает, сострадает, чем наслаждается любовью. То же и мужчина.
Так в «Крике», так в «Чертовом пальце», в «Синели» и в повести «Почем в Ракитном радости».
Когда-то в детстве Стенюха и Кондратьев («Чертов палец») катались вместе с горы на лопате. Стенюха тогда «была уже раскулаченная», и мальчик Кондратьев жалел ее, подкладывал ей на снег, когда лезли в гору, дешевые «ланпасеты», то есть монпансье. Ту ласку Стенюха не забыла.
Когда они встретились спустя много лет в родной хате Кондратьева, она напомнила ему об этом.
«Стенюха все еще стояла на лавке, Кондратьев подошел к ней, и она, неловко спрыгнув на пол, подала ему «чертов палец».
—Не помнишь?
Он взял ее руку, покрытую сухой цыпковой шелушью, и поцеловал...
—Совсем-совсем не помнишь? — по-девчоночьи обиженно замигала ресницами Стенюха, удерживая на весу, как зашибленную, руку, которую поцеловал Кондратьев».
Оба они уже забыли, что такое любовь. Забыли, как любят, как говорят о любви. Что-то детское и неумелое видится в их попытках объясниться, сблизиться, открыться друг другу.
Кондратьев уходит от Стенюхи и напивается. А утром, проснувшись, вспоминает, что обещал подвезти ее в райцентр.
«Он догнал ее в Кобыльем Логу, — пишет К. Воробьев, — в выгонной балке верстах в пяти от села, по пути в Суслонку. На ней было длинное голубое платье и коверкотовый мужской пиджак, а на голове блиновидный красный берет. Она шла по середине дороги валким размашистым шагом, кренясь под большим узлом, завернутым в темный полушалок, и когда оглянулась на машину, то сронила его с плеча и понесла в руке, и ступать стала мелко и спутанно, то и дело поправляя берет, сгоняя его на ухо. Кондратьев на предельной скорости обошел ее и так затормозил, что машину развернуло поперек дороги. Он молча, рывком отобрал у Стенюхи узел и кинул его на заднее сиденье.
—Дура! Глупая! — клекотно сказал он, когда она уселась, и со стиснутыми зубами, неожиданно и издали поцеловал ее в лоб. Она беспомощно охнула, ткнулась ему головой в грудь и заплакала. Кондратьев распахнул полы своего пиджака и накрыл, укутал им голову Стенюхи, туго обняв ее плоские, неподатливые плечи. Она совсем ушла к нему под мышку и плакала там уже в голос — благодарно, щедро и неуемно, и сам Кондратьев рыдал судорожно, редко и трудно... »
Так любят у К. Воробьева, так возвращаются к любви. Женщина здесь, кажется, уже не женщина (ее валкий шаг, берет, пиджак на плечах), а мужчина плачет, как женщина. Что-то перевернулось в привычных отношениях мужчины и женщины, а сами они уже не герои-любовники, как в старой литературе.
Их связывает что-то иное, высшее.
В любви нет радости, а есть сочувствие и вина. Есть жалость и желание понимания. Тут верность ценнее объятий, память о любви дороже самого чувства.
И сцена в хате (где Стенюха дарит Кондратьеву «чертов палец»), и сцена в Кобыльем Логу возвышающе прекрасны. Как будто кто-то третий присутствует при этих поздних свиданиях и благословляет их.
Осколком льда было сердце Кондратьева, когда он подъезжал к родной деревне. Но растопился лед, брызнули слезы — и воскресла душа.
На второе рождение, на воскрешение, способен не каждый. Тут мука перелома, мука стыда и вины за прежнюю замороченность. И первое желание, которое возникает при этом, — свести счеты с прошлым, поквитаться с ним как-нибудь помстительней. Но следующее за ним чувство уже смягчает это желание, уже как бы уговаривает его перегореть, обождать. С чего начинается повесть «Почем в Ракитном радости»? С нескольких мстящих строк, которые, как заведенная, выводит на белом листе рука Кузьмы Останкова: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно тихо, почти нежное:
—Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»
Эти слова могут быть отнесены к кому угодно — и к Косьянкину из повести «Почем в Ракитном радости», и к Кочетку из «Чертова пальца», и к тому безымянному предателю, которого встретили у костра двое фронтовиков в рассказе «Уха без соли».
Повесть, которую собирается писать Кузьма Останков (считай, сам Константин Воробьев), начинается с гнева и жажды мщения. А чем заканчивается она?
«Мы поехали тихонько и плавно. В зеркале мне были видны раскрасневшиеся лукавые рожицы и блестевшие глаза девочек; я слышал их перебитый смехо-шепот, и мне хотелось остановиться и спросить у них: отчего мы, русские, несмотря ни на что, сохранили открытое лицо, живой ум и чистый смех?»
Вопрос этот как бы повисает в воздухе. На него нет ответа. Но на него отвечает чистая и немстящая проза К. Воробьева. Лица ее героев редко освещаются улыбкой. Стон, крик, вой или плач — вот как выражают они свои чувства. Но, верша суд беспощадный над своим прошлым и над собою, они не желают новой крови. Это им не дано от природы.
Даже в рассказе «Уха без соли», видя, как мается вдали от костра их бывший солагерник-предатель, отсидевший за это потом шестнадцать лет, герои не могут разжечь в себе ненависти к нему и остыло думают: он свое получил, бог с ним.
Им легче простить, чем казнить.
Дядя Мирон, встретив своего племянника, которого он не видел с той минуты, когда развела их судьба как врагов, ни словом не напоминает Кузьме об его проступке. «Племяш, сгреб его мать! — плачуще сказал дядя Мирон всем, кто был на мельнице. — Я сразу признал, как только увидел. Он, думаю! Так точно и вышло... Племяш!..» И немного погодя после этой сцены, когда сам Кузьма станет просить у дяди Мирона прощения, тот скажет ему: «Дурак ты! Ну что ты означал тогда в моей беде? Ты ж был... ховрашок, вот кто!.. Кто ж из нас с тобой был виноват?!»
На этой ноте прощения и прощания, которая у К. Воробьева есть нота финальная, можно было бы поставить точку. Сам К. Воробьев, правда, пытался перейти к другим темам, писать что-то общепохожее, эпическое, спокойное (таково начало неоконченной повести «...И всему роду твоему»), но получалось у него только тогда, когда выходил он на крик, на давнюю свою боль, на страдания, которые, будь они только страданиями его героев или его самого (а он прошел весь их путь от начала до конца), не стали бы фактом литературы.
Но то были страдания народа.
1981 г.
ВОЛЯ К ВОЗМЕЗДИЮ
Читая «Плотину», нельзя отделаться от мысли, что автора романа уже нет. Что роман недописан. Он недописан, но автор, по-моему, сказал в нем то, что хотел сказать, успел, несмотря на то что по сюжету могло следовать и продолжение.
Думая о В. Семине, я думаю о поколении людей, которое не сломилось не только под игом войны, но выстояло и позже. Свою судьбу ни он, ни такие, как он, не выбирали. Она пала на их жизнь, как падает с неба звезда, — без спроса и в неурочный час.
В пятнадцать лет героя В. Семина угнали в Германию. Заставили работать в арбайтслагере. Детство переломилось, юность ушла на то, чтобы хоть как-то выпрямиться. Или — излечиться от пережитого.
Жизнь без идеи, без оправдания жизни — не жизнь. Чем долее мы живем, тем более стараемся понять, зачем живем. Была ли та жизнь, которую прожил герой В. Семина (и он сам) жизнью? Или это была одна мука, страдание? Но из страданий вырастает литература.
В. Семин дает нам урок того, что без жизни нет и книг. Нет литературы, если не заплачено за нее горькой ценой, — ценой муки, будь это мука физическая или душевная. Впрочем, одной от другой не оторвать.
Прочитав «Плотину», я перечитал и роман В. Семина «Нагрудный знак «OST». Эти романы и надо читать один за другим, вместе. Без «Нагрудного знака» не понять «Плотины», не понять, почему Виталий Семин вернулся к тому же.
Когда он закончил «Нагрудный знак «OST», ему казалось, что он рассчитался с прошлым. Что даже — еще более резко — свел с ним счеты. Но до полного расчета было еще далеко.
Страдания спрессованы в «Нагрудном знаке», как реликтовые растения в каменном угле. В их глубине накапливается «огонь мести». Он возникает от перегрева давящих масс, пламени еще не видно, но вся толща раскалена и готова выбросить из себя языки мысли.
Этот прорыв и выброс и происходит в «Плотине».
В одном месте романа герой признается, что хотел бы подняться до соответствия пережитым страданиям. Возвышение должно произойти в духе, в понимании того, что с ним произошло. Если ранее (в «Нагрудном знаке») он говорил, что «с хлебом легче расстаться, чем с мыслью», то теперь он, кажется, готов расстаться с самой свободой, лишь бы заполучить власть над судьбой. «Дыхание судьбы слишком тяжело, чтоб ощущать его непрерывно», — пишет В. Семин.
Власть над судьбой — это власть над пережитым и над полученным правом мстить. Право это дано герою «Плотины» не только трехлетним пребыванием за колючей проволокой, но и тою свободой, которую он обретает после победы.
По времени «Плотина» — роман освобождения, точнее, иллюзии освобождения, так как приход американских войск не приносит желанной свободы. Открываются ворота лагеря, но не открывается душа. Первое противоречие возникает между освободителями и освобожденными. Приходит сытая армия, она не может понять истощения и бессилия тех, кого освободила. Американцы смотрят на «доходяг» лагеря как на что-то, что мешает им свободно праздновать победу. Они хотят праздновать и веселиться, а освобожденные хотят мстить.
Огонь мести пожирает их души, он грозит пожрать и волю к жизни, и способность сопротивляться новым ударам судьбы. Еще не через одно «чистилище» придется пройти герою романа, прежде чем он вернется домой.
За время пребывания в арбайтслагере он составил себе свой идеал послевоенного бытия. Он думал, что оно, как новое летосчисление, начнется с чистого листа. И что чистота отныне возобладает в мире. Ожидание этого всеобщего счастья, напряжение ожидания поселило в нем страх. Страх, что все это не состоится.
Уже в первые дни после освобождения он понял, что зло не ушло вместе с войной. «В ослепительной вспышке страстей, — пишет В. Семин, — которую вызвали первые дни свободы, жажда возмездия и природная жестокость на минуту совместились... Ночью в нашем бараке со звоном разлетелось окно. Что-то грохнуло об пол. Кто-то зажег фонарик, и тут же раздался крик:
—У кого есть сигареты? Сейчас начнем обыск.
На полу валялся топор, его кидали в темноту, и только чудом он никого не задел. Это был подарок блатных.
...Утром узнали, что той же ночью в женский барак нагрянули американские солдаты. Привел их голландец, работавший на горячих вальцах «Вальцверка». Солдаты и голландец были пьяны».
Блатные всплывают на гребне свободы со своею свободой. Пользуясь беззаконием переходной минуты, они творят что хотят. Минута эта — испытание и для героя В. Семина.
В романе есть сцена, когда Сергей целится из винтовки в немецкую семью, гуляющую по мосту. Из окна барака эти немцы хорошо видны ему. Глава семьи, безусловно, фашист: у него гитлеровские усики и повадки фашиста. Рядом с ним — немка в светлом пальто и мальчик в белых гетрах. «В те дни все могло случиться. Память на то, как мальчики в белых гетрах бросали в нас камнями, а женщины в светлых пальто не останавливали их, была слишком свежа... Три года натягивалась пружина. Была потребность не только сбросить унижение, а дать знать об этом городку, который окнами своих домов все эти годы сверху смотрел на нас».
За этой игрой мщения следят как те, на кого направлено дуло винтовки, так и те, для кого она — зрелище, представление. Немка в светлом пальто и мальчик начинают кричать. Она кричат от ужаса. А немец на мосту не боится направленной на него винтовки. И эта самоуверенность и наглость немца подхлестывают целящегося.
Но он не спускает крючка. «Не крики спасли меня от выстрела, — говорит герой В. Семина, — я затеял игру блатных...» «Спасли меня» — на этом стоит задержаться. Здесь акцент семинской мысли. Некто Блатыга из лагеря подзуживает Сергея, подсвистывает и смеется над его нерешительностью. Ему хочется, чтоб тот нажал спусковой крючок, чтоб убил. Чтоб этот выстрел еще более «освободил» его и как бы приблизил к нему, Блатыге. Потому что, убив без суда и следствия, можно и впредь убивать так.
Трижды повторяется в «Плотине» сцена с попыткой мщения. И трижды отступает восемнадцатилетний человек, которому судьба уготовила прожить в этот срок три жизни. А может, и более.
Первая сцена — на мосту. Вторая — когда Сергей и его друзья встречают точно такую же семью в трамвае. И немец, увидев возле себя бывших обитателей арбайтслагеря, отворачивается от них, как от низшей расы. Сергею хочется пустить ему пулю в живот. Благо у него в руке зажат револьвер. И он уже идет на немца, уже угрожающе шевелит рукой в кармане, но в последний момент все же не находит в себе сил выстрелить.
И в третий раз это повторится в доме врача, где, по сведениям солагерников Сергея, прячется видный фашист доктор Леер. Рейд к дому врача в ночи, вопреки запрету выходить из зоны, для Сергея и его друзей еще и геройство. «Захватить Геринга, Геббельса, Гиммлера было мечтой тех дней. Зло в каждом из них было так сконцентрировано, что захвативший их разом решал множество проблем. Доктор Леер тоже был из каких-то гитлеровских начальников. Но надо было напрячь память, чтобы вспомнить, из каких.
—Кажется, министр труда, — сказал Ванюша.
До мечты это не дотягивало. Но все равно было так прекрасно, что этого просто не могло быть».
Тут есть и ирония по отношению к мечте. Все-таки это мечта детская, наивная. Но Сергей лишь недавно вышел из детства. Хотя было ли оно у него?.. Рваные детские воспоминания, в которых вспыхивали изредка какие-то образы, гасли в темноте арбайтслагеря. Может, поэтому воспоминаниям о довоенной жизни отдано в романе так мало места.
И все же когда Сергей крадется ночью к кранкенхаузу, вблизи которого находится дом врача, он относится к этому приключению еще как мальчишка — мальчишка, не доигравший своих детских игр.
И именно ему приходится первым столкнуться с тем немцем, которого арбайтслагерники подозревают в том, что он — доктор Леер. Это явно не Леер, но опять- таки определенно фашист. Но и на этот раз возмездию не дано свершиться. Как и в первых двух случаях, немец нутром чувствует, что русский не будет стрелять. И, как человек, вероятно не раз поступавший в таких эпизодах без колебаний, этот немец не боится Сергея. Не боится потому, что тот, Сергей, боится своей мести.
Сергей боится убить невиновного и боится развязать жестокость в себе. Второе даже важней первого.
«Опасения шли тенью за опьянением свободой», — пишет Виталий Семин. Когда бывших пленников арбайтслагеря переводили в бараки бывшей эсэсовской охраны на горе, они думали: а не готовят ли их к «новой, куда более суровой ночи»? Они знали: «...все может быть. Нет ничего, о чем с уверенностью можно было бы сказать: этого не будет просто потому, что не может быть».
С такими чувствами подходит герой «Плотины» к своему выздоровлению. «Мы же в лучшем случае были выздоравливающими», — говорит он.
Выздороветь надо было и от страха. Страх стал уже караульным этих людей. Он издали предупреждал об опасности. В том числе — об опасности благодушия. Поверить в доброе чувство со стороны ближнего было почти невозможно. Поверить в собственную способность к милосердию и прощению — тоже.
Но как же это согласовать с мечтой о всеобщем счастье? Страх и мечта сосуществовали в душах. Сергей то и дело заговаривает о страхе одиночества, о страхе стыда, о других страхах. Их много, и он не без страха расстается с ними.
Может быть, самая драматическая сцена романа — сцена свидания Сергея с отцом. Отец приезжает к сыну в лагерь, чтобы забрать его оттуда. Но это не так просто. Не так просто человеку, провоевавшему две войны (речь об отце), забрать с собою свое дитя (а Сергей все еще дитя), которое попало в лагерь не по своей воле. И годы тяжкого труда на шахтах, в цехах, где и взрослому, если он здоров, не вынести более смены, не идут Сергею в зачет.
Отец удивляется этой несправедливости и негодует — сын с печалью смотрит на его волнения. Ибо он такой поворот дела почти предвидел, он знал о жизни уже больше отца, хотя младше отца на тридцать с лишним лет. Лагерь его вымуштровал, лагерь привил ему эту осторожность, эту неспешность в надежде быть счастливым. Мечта о счастье омрачалась еще и неверием.
Этого неверия, этого тяжкого знания нет у отца. Он по-довоенному благодушен, почти прекраснодушен. Так, по крайней мере, кажется Сергею. И поэтому встреча с отцом для него — и праздник, и боль. Боль идет от иронии, от понимания сыном того, что не понимает, не хочет понять и наверное никогда не поймет отец. Этот разлад, это противоречие создают напряжение, которое держит под током всю первую часть «Плотины». «До офицерской столовой было всего шагов пятьдесят, — рассказывает Сергей, — но это были особые, запретные для меня шаги по неохраняемому пространству. Я знал, что для отца слова «можно», «нельзя», «надо» издавна святы, он и меня учил тому, что это главные слова... Но сейчас он чего-то никак не мог понять. Он с самого начала не мог этого понять. Я это видел по тому, как он принимал поздравления, по тому, как рассказывал начальнику штаба, что пришлось мне пережить в Германии: «Мы отступали, а наши дети...» По тому что он приехал сюда без погон».
А позже, когда отца и сына арестуют (за то, что они пересекут запретные для Сергея пятьдесят метров) и когда с отца снимут ремень и единственную медаль и отец оскорбленно-расстерянно отдаст их охраннику-сержанту, сын будет испытывать стыд за — ни для кого не страшную — ярость отца. «И вообще мне немного смешным и нелепым казался седой глуховатый человек с дрожащим от ярости голосом, дрожащими руками, который никак не мог уразуметь что-то совсем простое, который обязательно хотел узнать, за что на него этот необъяснимый позор».
Для отца это трагедия, посрамление чести, вопиющая ошибка; для сына — то, что вполне могло случиться. Он относится к этому факту без паники. Он опять-таки старше отца в этом переживании. «Отца выпустили часа через три, — продолжает В. Семин. — Тут же, в подвале, ему вернули ремень и медаль. Сержант подождал, пока он перепояшется, приведет себя в порядок, почтительно пропустил вперед... И хотя сержант ничем не показал, я почувствовал, что он стал иронически относиться к отцу, словно этот нелепый арест запачкал и меня, и отца».
Когда отец произносил: «а наши дети», он и не подозревал, как вырос его сын. Не подозревал о том, что ему пришлось увидеть в арбайтслагере. И что он понял там о себе и о человеке вообще.
«Сколько сил я потом затратил, чтобы вернуть себе власть над собственной судьбой!» — восклицает герой Виталия Семина. Эта фраза — как бы предвестие того страшного плача-крика, которым еще несколько дней и ночей будет мучиться он по возвращении на родину. «Они все сейчас кричат, — скажет о нем его двоюродная сестра Аня. — Они все взбесились у себя на фронте и в плену, а в общем, нормальные ребята».
«Нормой стало ненормальное — вот о чем я кричал», — объяснит ее слова Сергей.
Вот почему желание разом покончить со всем ненормальным — покончить навсегда — стало жгучим желанием тех, кто вместе с Сергеем выжил в арбайтслагере. Кажется, не покончи они со всем этим — не начаться и новой жизни. Откуда быть чистоте, если не очистить мир от грязи, если не смыть ее, не уничтожить? «Как жить, сознавая, что за жизнь стольких людей невозможно отомстить?»
Оттого и дрожит ствол винтовки в руках героя В. Семина, оттого он и подступает к краю мщения — и отшатывается от него. Как наказать зло, как победить его? Военная победа — тут еще полпобеды. Победа духа была бы тою победой, которой этот вопрос был бы решен.
Как пишет В. Семин, городок, возле которого стоял арбайтслагерь, стоял наверху и смотрел на лагерь сверху. То был взгляд не только городка, но и взгляд всех, кто сторожил, заставлял работать и убивал заключенных. Это был взгляд и отдельных людей, и нацистской идеи, которая была сильней, чем отдельные люди, страшней, чем отдельные люди. Хотя Сергей видел высокомерие этой идеи в глазах конкретных людей. Так смотрел на пленных комендант лагеря, так смотрели мастера, так смотрели женщины и дети в городке. Для них люди, заключенные в лагере, были не люди, а животные. И они высовывались из своих окон, когда колонну заключенных прогоняли по улице, чтоб посмотреть на тех, как смотрят обычно на скот, гонимый на бойню. Поэтому убить одного фашиста для героя В. Семина — еще не отмщение. Убить идею гораздо важней. Ее не расстреляешь ни из пистолета, ни из автомата. Тем более — из мосинской винтовки.
Победить идею можно только идеей. Только превосходством иной идеи, которая не из книжки, а через страдания и опыт является человеку. Хотя и он тоже должен положить на это усилие воли. Власть над судьбой (и над собой) даешь себе сам, рассуждает В. Семин.
Когда Сергей и его товарищи по несчастью проезжали через Германию 1942 года — их гнали на запад — шел дождь. И все: булыжник на улицах, трубы фабрик, крыши, мостовые, стены домов — лоснилось, как хорошо начищенный сапог. «Начищенный сапог по-особому смотрится, — замечает В. Семин, — если вас могут им ударить. Германия тогда наносила удар».
Совсем в другом виде предстает Германия глазам героя, когда он в 1945 году пересекает ее в обратном направлении. «От сгоревших домов... еще попахивало дымом. Запахи, в общем, уже испарились. Но моей обожженной памяти немного было нужно».
Удар, который нанес германский сапог, вернулся. И «с какой же силой он вернулся»!
Есть в этих словах какое-то торжество. Торжество возмездия. Но — неполное торжество и — неполное возмездие. В этом смысле, в смысле реального мщения, материального мщения, герою В. Семина «немного... нужно». Он думает о высшем мщении, об окончательном мщении.
Германия получила свое, Германии с Германией и разбираться, хотя и сейчас, спустя полвека после прихода Гитлера к власти, не обнять умом противоречия, которое мучит героя «Плотины», — противоречия между культурой труда немцев, культурою вообще и «культурой» убийства. У подножия горы, на которой стоял Бухенвальд (в переводе на русский язык всего лишь «буковый лес»), ютится Веймар — тихий город, рассадник наук и искусств. Сошли ли эти науки и искусства в толщу земную, в толщу народа, или они покрыли тонким слоем лишь поверхность? И оттого их так легко слизнул нацистский язык?
«Надо объяснить, как ум очищается от доброты, — писал В. Семин в романе «Нагрудный знак «OST». — В детстве все было просто. Ум — добр, злоба — глупа. Обидеть может дурак, защитит умный. Слабость проницательна. Очень быстро в уличном потоке выделяешь интеллигентные лица. Сама внешность немецких городов была интеллигентна. Интеллигентной внешностью обладали многие фабричные вещи. И все вместе жестокой петлей душило нас. Это был противоестественный ум — ум без доброты. И я ненавидел гладкий асфальт, ровный булыжник и чувствовал, что где-то в глубине под всем этим лежит огромная, страшная глупость».
Природу этой «глупости» и пытается понять герой «Плотины». Оттого большая часть романа отдана размышлениям. Картинам, воспоминаниям тут же устраивается мыслительная проверка. Если в «Нагрудном знаке» преобладали картины, то тут верх берет осознающая их работа ума.
Ум героя «Плотины» не отвлеченный, не теоретический. Это ум душевный, русский. Он ставит вопросы и редко дает ответы. Отвечают на вопросы ума чувства — чувство, оформляясь в мысль, не перестает быть чувством.
Внешность городка, который сверху смотрел на арбайтслагерь, была тоже интеллигентна. На улицах нет мусора, в трамваях никто не толкается. Все ждут своей очереди, переходят улицу только на зеленый свет. Но когда Сергей и его товарищ убежали из лагеря, интеллигентные жители городка выдали их. Сработала дисциплина. В понятие опрятности и интеллигентности входило и это — выдать. Вернуть несчастных подростков туда, где им определил место порядок. Сделали это не эсэсовцы и полицаи, а мирные немцы.
Этого Сергей не может забыть, как не может забыть он и конфету, положенную кем-то на камень, мимо которого должна была пройти их колонна. Была ли то случайность или милосердие?
Мстить, не решив этого вопроса, Сергей не может. Он, может быть, слишком рефлектирует у В. Семина, но таков уж В. Семин. Упоение мщением для него не апофеоз. Ибо, получив на время преимущество в силе (Сергей вооружен, немцы — нет), его герой переживает и искус силы, искус насилия. Сила быстро входит во вкус. Придя в руки, она уже не хочет уходить из рук. Она как бы липнет к рукам, липнет к душе. Чистоты, построенной на ответном насилии, быть не может.
Так, не боясь обвинения в слабости, решает Сергей. Он уезжает из Германии, не совершив возмездия (единственный убитый им эсэсовец убит им как бы против воли), и вместе с тем отмщенным. Наказание и возмездие палачам в том, что они не смогли сделать героя В. Семина подобным себе. В том, что бикфордов шнур жестокости, запаленный ими, не протянулся дальше, а выдохся и погас. Что «огонь мести» не побежал по нему к другим.
Жесткие интонации, с которых начинает герой «Плотины» свою исповедь, смягчаются в эпизодах с отцом. Вся линия отец — сын есть линия размораживания души Сергея, оттаивания ее. Уже в пути стал смягчаться герой В. Семина, хотя этот путь лежал через репарационные управления и фильтрационные комиссии. Где унижения повторялись. Где подбрасывались сухие дровишки в топку неверия и недоверия.
Но на каком-то из перегонов, где отец и сын оказались на площадке вагона- цистерны, продуваемой со всех сторон холодным ветром, Сергей почувствовал, что что- то тает в нем. Что-то необратимо растопляется. «Я стал замерзать. Отец надел шинель, на которой мы с ним уже несколько раз спали, сел поглубже на кондукторское сиденье, расставив ноги так, чтоб и я мог сесть вплотную к нему, и запахнул на мне полы шинели. Ветер и колеса били в цистерну, цистерна гудела, а отцу становилось все тяжелее меня держать, но он держал и даже уговаривал: «Ты подремли, подремли — дорога быстрее пройдет». И я бессовестно задремал, навалившись ему на грудь и руки. И сквозь дрему мне мерещилось, что я дома, потому что шинель пахла домашним отцовским запахом. Запахом, который он пронес с собой сквозь всю войну».
Это, пожалуй, первое воспоминание о доме, которое является герою В. Семина. Оно является во сне, в полудреме. Сын приникает к груди отца, вновь признавая его за старшего, за того, кто способен защитить его. В поле отцовской шинели, дающей тепло и навевающей сон,— защита, охрана. «Я бессовестно задремал», — говорит Сергей. Но это не совесть в нем отключилась, а напряжение лет войны, напряжение страха, незащищенности. Расслабилась его подозрительность. Мир вокруг, кажется, по-прежнему холоден, пуст (пустая площадка вагона, пустая земля по сторонам поезда), но в этом мире уже есть кому прикрыть Сергея.
В. Семин в этой сцене возвращает герою его детство.
Дыхание чистоты врывается на страницы «Плотины». Чистые мысли об отказе от мщения. Чистые мысли о женщине. Три года арбайтслагеря, как ни старались, не могли перемолоть мечту. Сергея раздевали на глазах женщин (как и женщин раздевали на глазах у него), его унижали в присутствии женщин. Но и через несколько лет после войны, уже работая на Куйбышевской ГЭС (во второй части «Плотины»), он продолжает думать о женщине как о мадонне. От него отскакивают и грязные слова о ней, и грязные помыслы.
Не здесь ли возмездие, которого он жаждал?
Роман В. Семина недописан. Он обрывается в самом начале второй части, где герою предстоит реализовать свой идеал. Но, на наш взгляд, он его уже реализовал. Он устоял. И он «выздоровел».
Сейчас, в дни расцвета мифологичности (я имею в виду расцвет в литературе), роман Виталия Семина кажется слишком уж просто написанным. Игра вымысла не спешит на помощь сюжету, сюжет, как одноколейка, бежит все в одну и одну сторону. Ему некуда сворачивать, незачем петлять. Но его прямота — прямота и простота правды.
Пока наши рыцари «новой прозы» ищут новых форм, чтоб оформить свое несостоявшееся содержание, мы в романе В. Семина имеем состоявшееся содержание и состоявшуюся форму.
Плечо, которое сломал Сергею немец мастер железной трубой, срослось, но срослось не так. Рука действует, но ее время от времени ломит. Душа тоже срастается, но надлом остается.
Не знаю, передается ли боль от поколения к поколению Хотелось бы, чтоб передавалась. Не верю, что с поколением Виталия Семина канут в Лету страдания, которым каждый из нас, говоря словами героя «Плотины», желал бы соответствовать. Если не канут, не канем и мы. Не канут и страницы семинской прозы. Пусть останется она такая, какая есть, — неискусно-искренняя, не надо всем воспарившая, не все познавшая. Познают другие. Но она тянется вверх, она догадывается о высоте, с которой, быть может, более видно, чем с ее высоты, и на ту — великую — высоту не взойти, не ступив на ее уступы.
«Нас толкали в бездну», — говорит герой В. Семина. Но не столкнули. Это произошло с целым народом и с одним человеком. Сергей, впрочем, не упивается этим итогом. Он не хотел бы жить одной памятью, но и не мыслит оставшейся жизни без ее предупреждающих окликов.
Ибо «равнодушие памяти было бы ужасно».
1981 г.
ЛОМКА ГОЛОСА
О своем внутреннем состоянии в последние годы В. Распутин пишет: «Я боялся, что... растеряю все, что с таким трудом собирал... — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова».
Речь, кажется, идет об одном рассказе и о сидении над одним рассказом, но это исповедь, в которой нетрудно прочесть самоотчет автора. В. Распутин молчал слишком долго, чтоб мы могли сказать, что он молчал просто так. И его новые рассказы подтверждают это.
Кажется, «нужный голос» был давно обретен, обретен и проверен — на себе и на читателе. И все же святое недовольство взяло верх. В рассказе «Наташа», где герой летает во сне, он просит девушку, которая толкнула его на этот полет и поднялась в небо вместе с ним, остаться в небе. Но Наташа говорит: «Пора». — «Я хочу еще, — просит он вновь.
—Я дальше хочу».
Это хотение самого В. Распутина. Ему мало набранной высоты, он жаждет ощутить вольность полета в свободном пространстве — там, где писатель получает полные права на полную правду о человеке. Он делает усилия для этого взлета, но голос ломается, голос не поспевает за рывком души, голос откликается на ее зов то ясно, то смутно.
Распутин привык писать ясно и чисто, и отставание слова — отставание, которое он не стыдится нам представить, — мучит его. Про одного из его героев говорится: им владело «смутное и добротворное чувство». Таким же чувством и мыслью — смутными от непроясненности в языке — полны и его рассказы.
Что-то новое и неопределенное переживает пятнадцатилетний Саня («Век живи — век люби») среди ночи в тайге. Весь предшествующий день он как бы готовится к этому переживанию, сам не зная, как определить это ожидание, какими словами назвать его. В ночь у костра, которою завершается этот осиянный день, Саня вдруг сознает бессмертие своей души. Он понимает, что она родилась раньше его, что она жила в его воспоминаниях, которые и не были еще его воспоминаниями, но все же принадлежали ему. То была память тех, кто пришел в этот мир до Сани. В мальчике впервые возникает чувство отдельности, самостоятельности своего существования именно в духовной сфере, на той высоте, где человек способен почувствовать себя как за пределами «круга», так и в «общем ряду». «И как знать, — пишет В. Распутин, — если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом — не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?»
Назвать словом — это задача писателя, и тут слышна самоирония автора, который еще не нашел слов, способных дать имя его новому мирочувствованию. Он ищет их, он бережно притрагивается к новым словам, которых прежде не было в его обиходе, как будто удивляясь своей близости к ним, своей причастности к их смыслу. В. Распутин относится к этим словам не как зрелый муж, а как ученик, впервые берущийся за то, за что еще не брался.
В его словаре преобладают понятия, которые ему самому предъявляют высший счет. «Предел», «зов», «тайная жизнь», пограничье между небом и землей, «общее чувствилище», «всеобщая тяга» ввысь, «праздник неба».
Он чувствует «сладостную тягу» к солнцу, «дальнюю вознесенность к небу» Байкала, на «незримой дороге» ему слышны голоса умерших друзей. И вместе с тем он пишет про небо: «небо, натекающее плотью».
Новый мир Валентина Распутина не бесплотен, он кость от кости и жила от жилы этого мира, и все же он по-особому светоносен. И это слово — новое слово и прочное слово в новом языке В. Распутина.
«Ни неба я не видел, ни воды, — читаем мы, — и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса... И странно: они словно бы проходили сквозь меня, я, словно бы издали замечая их, приготовлялся и замирал, когда они приближались. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь, до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот».
Автор и сам ропщет на себя. Ропот как бы преддверие согласия. В ропоте человек очищается, ропот уносит с собой и то, на что ропщет душа. Ропот — родной брат «тревоги». Они вместе влекут нас к тому равноденствию, где человек равен себе и одновременно природе. Байкал — собеседник героев В. Распутина, как и ягода голубика, как ночь, посылающая Сане капли дождя, как тайга, как «родовито» стоящие сосны. Зло, исходя из человека (из такого, как дядя Володя в рассказе «Век живи — век люби») и нанеся обиду тайге, вернется обратно — тайга вытолкнет его.
Вот почему важно для В. Распутина слово «ответ». В ответе, добром ответе — будь то небо, земля, Байкал, попутчик по вагону — он видит основу согласия.
«Предчувствие счастливого ответного смущения» накатывает на героя в рассказе «Наташа». Он встречает девушку, которую помнит его душа, но которую он сам забыл. Оказывается, они встречались во сне — Наташа приснилась ему, но, хотя им в жизни не пришлось встречаться, и он и она помнят об этом внутреннем чувстве и понимают друг друга без слов.
Это двойное знание человека о себе — наружное и глубоко затаившееся на дне души — все время желает в рассказах В. Распутина стать одним знанием, как бы единым живым существом. И все же герои его часто «:выходят вперед», как он пишет, отделяются от себя. Человек стоит на берегу Байкала и вдруг обнаруживает, что он уже в другом месте, что перед ним тот же пейзаж, да не тот, и что сам он, не перенесясь в пространстве, сменил точку обзора. Это блуждает и скитается его второе «я», которое он ранее не осознавал в себе.
Что-то вошло в Саню, пишет В. Распутин, и что-то вышло. Вошло вместе со вздохами тайги, с какой-то тайной печалью Байкала, который «зовет свою потерю» и ждет ответа. «Тьма вздохнула, чего-то добившись», — она добилась понимания у человека. Человек и тьма связаны, их беззвучный диалог переходит на интимный шепот и вздохи печали.
Ответ ночи, ответ «даровой благодати» дня на вопросы Сани для Валентина Распутина ответ ответов. Без объяснения, без изложения той и другой стороной своих резонов нет и не может быть согласия. Тайга «понимает» душу Сани, а Саня «понимает» душу тайги. Им есть о чем перемолвиться.
Что такое душа? — спрашивает В. Распутин. Есть ли она достояние «общего ряда» и ее место в «общем ряду», или все же она феномен, который, обитая в нас, преображает и сам «общий ряд»? Чтоб познать этот феномен, нужно напряжение высшего порядка. Нужен полет духа и полет слова. Если перед «раздвинутостью» одного дня немеет голос, то что говорить о безграничном просторе, который способна облететь в какие-то мгновения душа?
То и дело в рассказах В. Распутина повторяются слова «освобожденность», «обновление». Тяга к освобожденности — и прежде всего в слове — неумолима. Кажется, достигни автор этой свободы, и разрешатся все вопросы. Оттого каждый глоток новизны отдается в сердце «торжественным колокольным ударом».
Даже в рассказе «Не могу-у» — беспощадном реквиеме «бичам» — есть этот светоносный языковой слой. Герольд — русский мужик с иностранным именем — напоминает В. Распутину «мужичков», стоявших насмерть на поле Куликовом. Его лицо, как и лица тех мужичков, «затевалось для простодушия и сердечного ответа». Хотя в своем отчаянии и неверии этот Герольд дошел до «предела». И жена спилась, твердит он, и сын сопьется. «Не сопьется», — жарко возражает ему сосед по купе. «Сопьется», — настаивает Герольд.
«Герольд» на немецком языке «вестник», «глашатай». Так неужели же Герольд пророк нашего будущего? «Врешь!» — отвечает ему сосед по купе. «Ты это что, герой, плетешь?! Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — Он выкинул руку в сторону ребятишек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, стояли тут же. — Им надо нашу линию выправлять. Понял ты, бичина? И никогда больше так про своего сына не говори. Понял? Кто-то должен или не должен после тебя, после всех нас грязь вычистить?!»
В. Распутин никогда бы не смог искать согласия только в атмосфере чистого духа. Только там, где дух, играя с собой, устраивает свои дела. И недаром он ищет в спившемся попутчике человека, недаром, напрягая зрение, хочет прочесть в его безнадежно смотрящих на мир глазах «ответное чувство». Крик Герольда «Не могу-у», похожий на плач по самому себе, по обрывающейся в темной дали цепи рода, — это все-таки крик неомертвевшей ткани, не распадшегося насовсем сознания.
Он кричит «не могу-у», потому что не может сжиться со своим падением, потому что хотя бы на этот вопль у него еще остались силы. И он еще способен разглядеть в горячащемся рядом поборнике справедливости — человека в трико (которого В. Распутин так и называет: «трико») — демагога и пустобреха. Он припечатывает это «трико» одним убийственным словом — «порожняк».
«— Порож-няк! — звучно, со сластью кинул ему мужик», — пишет В. Распутин и добавляет: «откуда и красоты такие взялись в этом голосе».
Раз у человека нашлось живое слово, значит, он еще не погиб. Значит, в нем жива душа. Значит, и его страшное лицо, которое автор видит в конце рассказа приплюснутым к вагонному стеклу, немо кричащим свое «не могу-у», еще способно на ответ.
В. Распутин остается В. Распутиным. И когда он пишет о заброшенной дороге вдоль Байкала, о городской «саранче», которая, слетев с поезда, устремляется в леса, проносясь мимо пустых и черных, как «гробы», домов, где никто не живет, мы вспоминаем «Последний срок» и «Прощание с Матерой». Но некая подъемная сила и «тяга» возносят нас в его новых рассказах резко вверх.
У каждого, говорит В. Распутин, есть «особое задание души», и без исполнения этого ее «задания» и день и век не окажутся полны. Ни день не завершится, не закончится, а как бы не доживет свое и потеряется, ни век не состоится как некое творение времени. Согласно этому особому заданию человек составляет представление о своем месте среди людей. О том, кто он и что он. И каков его «предел».
Но свобода самопознания означает и эгоизм самопознания, эгоизм обособления и отделения. Герои В. Распутина уходят от мира и от себя, чтоб «на стороне» познать себя прежних, но прошлое тянется за ними трепещущей нитью. В абсолютной свободе заключена опасность. И «земная» природа таланта Валентина Распутина не может смириться с этим. Ее тянет к теплу дома, к земле.
Деспотизм и тиранство чистого духовного парения изображены в рассказе «Что передать вороне?». Герои его рвется к столу, к своим бумагам, к безраздельности сосредоточения, которого он не может найти среди людей. Он оставляет дочку, которая просит его остаться, покидает город и перебирается на катере на ту сторону Байкала, где стоит его домик. Там — храм и келья, там верстак его духовной работы, там и нужное ему возвышение — берег над Байкалом, с которого можно совершать «облет» озера и собственной минувшей жизни.
Но тяжкий день наедине с собой превращается в больной день. Болит голова, не пишется, листы бумаги на столе вызывают отвращение. И сладость самонаблюдения, которой отдается писатель, не услаждает сердца. Она карается самой жизнью — там, в городе, который он покинул, заболевает его дочь.
Ропот голосов умерших друзей раздается именно в этом рассказе. Он является как сон, как видение, но для В. Распутина нет двух действительностей, для него и сон и явь
—то, чем истинно, полно и единомгновенно живет человек.
Стараясь постичь эту тайную жизнь, Валентин Распутин невольно обращается к своим предшественникам. К тем, кто словом умел обратить тайное в явное и «назвать» чувства и мысли, скрывающиеся во тьме. Это прежде всего Достоевский и Андрей Платонов. «День поднимался пасмурный, серый, — пишет В. Распутин, — тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах (коробах для ягод. — И. З.) итоги своей жизни». Последняя фраза — чистый А. Платонов. И дело здесь не в совпадении интонации и отдельных слов. Дело в духе этого письма, так явственно склоняющегося к платоновской речи.
А вот снова Платонов: «Это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют нами, чтоб приглушить в нас боль нашего бытия».
Когда-то Достоевский писал, что природа всех нас пустила для пробы на свет. «Всякая жизнь, — говорит В. Распутин, — это воспоминание вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир?» От Достоевского идет и осознание Саней своего «двойника» и т. д.
На пути к «полному и точному звучанию» без учителей не обойтись. Я-то как раз вижу в этом движении В. Распутина добрый знак. Он без подсказки пошел туда, куда должен был пойти. Куда вели его страницы прежних повестей. Ничто новое не возникает из ничего. И новый В, Распутин не отменяет «старого» В. Распутина. Это один писатель и один человек. И я благодарен ему за то, что он, подавая пример, несмотря на то что им сделано, хочет большего и не смущается поставленным каждому из нас «пределом».
Иногда его язык, как он сам говорит, спотыкается, уходит в темноту, боясь освещенности, взыскующей полной ясности, иногда множество слов является там, где не хватает энергии краткой речи, но эта внутренняя тревога стиля В. Распутина меня устраивает, потому что меняется стиль, меняется язык, значит, меняемся и мы. Что было бы с нами, если б мы победно остановились на достигнутом? Если б сплошной апофеоз овевал наши головы?
«Тревога, соединившая нас», — пишет Валентин Распутин. Его тревога, передаваясь читателю, соединяет читателя и писателя.
1983 г.
В СВЕТЕ ПОЖАРА
Валентин Распутин написал повесть-диалог, где, кроме главного действующего лица, ведущего этот диалог с собой, есть и еще вполне видимый третий — сам автор, который то переносит этот диалог на себя, то отдает его герою. Автор и герой так часто меняются местами, что в конце повести они сливаются в одно лицо, и нам трудно различить, где Иван Петрович, шофер из Сосновки, а где Распутин.
Ослабляет ли это силу впечатления? Нет Повесть чиста по исполнению и по единству дыхания и написана как бы разом, за одну ночь, как за одну ночь совершается все, что в ней происходит.
Это ночь пожара, стихийного бедствия, которое, однако, в эту ночь произошло не стихийно — стихии помог человек. То ли кто-то специально поджег склады, то ли кто-то сделал так, чтоб они сами загорелись, но без умысла и человеческих рук тут не обошлось — пожар этот должен был случиться — и на сем настаивает Распутин.
И не зря в первые минуты пожара оказывается, что пожарки в поселке нет, водовозки нет, а единственный тракторист, который является на место происшествия с трактором, пьян. Стихия господствует уже при тушении пожара, она гуляет уже по углям, по головешкам, по обгорелым останкам складских богатств, пожирая их вместе с огнем.
Огонь хищно вздымается к небу, рушит постройки, выбрасывает на улицу барахло и продукты и заодно выхватывает из темноты лица и души, проникая в них дальше, чем может проникнуть свет дня. Пожар — это срывание одежд, срывание масок, обнажение и оголение смысла, который в будние дни, затаившись, жил — жил и не подпускал к себе никого.
Поэтому как ни азартно написан у Распутина пожар, он лишь предлог, лишь повод, чтоб произнести речь о пожаре, чтоб разбудить Сосновку огнем, надоумить ее и, может быть, спасти от гибели.
Почему Распутин выбрал Сосновку? Потому что это поселок не городской и не деревенский, потому что он одновременно и городской и деревенский, а точнее, «бивуачный». Это место, где сошлись деревня и город, люди деревни, привыкшие к твердости привычек и основательности уклада жизни, и «особый сорт людей» — те, которых выбрасывает город, гонит по свету «сектантское отвержение и безразличие ко всякому делу». Распутин называет этот сорт людей «архаровцами». «Такой, — пишет Распутин об архаровце, — ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст». Это герои одиночества, принявшие «одиночество, как присягу» и отбывающие жизнь, «как наказание».
Лицо Сосновки уже смазано, социальные слои перемешались, перетекли один в другой, но все равно на полюсах ее жизни стоят два типа человека — один такой, как Иван Петрович или Афоня, другой — Сашка Девятый или Соня, то есть архаровцы.
И если первые разобщены и сплочены лишь в воспоминаниях, в памяти о своей «дозатопной деревне», то архаровцам вспоминать нечего. Зато они знают цену настоящему, они люди минуты, минутного насыщения, потребления и отдачи — это «перекати-поле», и им дом родной только минута, мгновенье, когда у них кураж от водки или зудеж по перемене мест.
Если Иван Петрович вспоминает о родине, о родной Егоровке (сейчас лежащей на дне реки), где «каждый камень еще до... рождения предчувствовал и ждал его», где везде и во всем за ним был «тихий родовой догляд», то архаровец этого догляда не помнит. Для него поэтому и пожар в радость, пожар — потеха и представление, где он может вдруг сыграть свою роль и сорвать «гонорар». И если Иван Петрович бежит на пожар с топором, то есть хоть с каким-то инструментом, который поможет ему тушить огонь, то архаровцы спешат туда с голыми руками и раскрыв карманы И очень скоро эти карманы наполнятся дармовой водкой, и запах горелых вещей и продуктов смешается с водочным перегаром.
Пожар выбрасывает наружу бочки с маслом, мешки с сахаром и мукой, колбасы и японские тряпки, и оказывается, что на складах все есть — даже красная рыба, которую в Сосновке никогда не видели, даже мотоцикл «Урал», который давно клянчили у ОРСа рабочие. Народ, пользуясь неразберихой, сует в карманы все, что ни попадет, прячет в голенища коробочки с драгоценностями, причем делают это не только архаровцы, но и бабы, и старухи, и Савелий однорукий — земляк Ивана Петровича по Егоровке.
Стихия дурного в народе как бы откликается на стихию огня и на стихию разгула архаровцев, которые тоже ведь не с неба упали, тоже отчасти народ. Распутин пишет об этом беспощадно и с горечью. Он не противопоставляет, как это обычно делается, «плохих» и «хороших», чтоб через некоторое время дать перевес «хорошим», а видит, что в Сосновке «хороших» можно перечесть по пальцам, а «плохих» хоть пруд пруди. Да и «хорошие» и «плохие» — все это для него условно, он не желает разделять и властвовать, когда речь идет о народе, потому что «хорошие» для него не элита, а «плохие» не иноземцы.
Но именно для того, чтоб открыть им глаза на них самих, должен разделить он жителей Сосновки на архаровцев и тех, кто не архаровцы, хотя, может быть, сочувствуют архаровцам или боятся их, запуганы их сомкнутой силой. В том-то и дело, что архаровцы не просто толпа, а «организованная в одно сила», которая вербует в свои ряды и низость, и слабость, и равнодушие.
Они сила там, где все разбрелись, где каждый сам по себе, где «шкура» дороже души, а душа то ли заснула, то ли отмерла. Архаровцы на бездушии паразитируют, там справляют свои поминки по человеку, где умер человек, хотя по видимости он и жив. Для них и могилы не святы — они готовы оправляться на них.
Могилы это не место, где лежат покойники, это память, и прежде всего память сердца. Как и всюду на земле, где обитает человек, это место согрето и «нагрето им». Про Егоровку Распутин пишет: это нагретое за три столетия место. Одно дело, когда земля согрета, другое — когда от нее несет холодом, как от остывшей печи. Брошенный дом — холодная печь; нелюбимая, брошенная земля — тот же пустой дом.
В Сосновке даже палисадников у домов нет — незачем их ставить, все равно временное жилье. На бивуаке не живут, на бивуаке пережидают. Бивуак — отдых в пути, становище на дороге. Его ставят на день, на два, а не навечно. Вот почему Афоня — тоже мужик из Егоровки — хотел бы поставить памятник своей исчезнувшей под водой деревне — памятник прямо на воде. Чтоб хоть какой-то знак был о былом ее существовании.
Но с Афоней у Ивана Петровича особый спор. Для Афони жизнь — это прежде всего честная работа на своем месте. Что делается за пределами этой работы — чужая печаль. Для Ивана Петровича все не так.
Один как перст стоит он против шайки архаровцев, один он в Сосновке, как называет его Сашка Девятый, «законник». Ему мало самому хорошо работать, он жаждет, чтоб и общая жизнь была по совести. Все его попытки помешать шайке Девятого вершить власть над Сосновкой кончаются тем, что шайка мстит ему — мстит обыкновенно, по-уголовному. То проколют шины у его автомобиля, то насыплют в карбюратор песок, то изрубят тормозные шланги к прицепу, то выбьют стойку из-под балки, которая чуть не убьет Ивана Петровича.
Что делать — сдаваться или уезжать? Оставлять свою родину на потраву архаровцам или все-таки встать им поперек горла, не пустить эту заразу дальше да и самому не опуститься, сдавшись?
Эти вопросы решает герой Распутина. «И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?»
Склады горят, а Иван Петрович думает. Он не только рассуждает, а таскает беспрестанно то мешки с мукой, то мешки с сахаром, он теряет силы, чтоб спасти что-то из общего добра, но мысль его забегает дальше пожара, она смотрит в те дни, что подготовили этот пожар, и туда, куда не хотелось бы заглядывать, а надо.
К месту или не к месту всплывают в его голове цифры погибших в войну и после войны. Да что там после войны — в последние четыре года. «Недавно директор школы... учительствовавший еще в Егоровке, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну и сколько его сгинуло не своей смертью в последние четыре года. Не своей смертью — это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал: вот те и мирное время!»
Удивишься, ахнешь. Кто учел эти цифры, кто их запланировал? И есть ли у нас «план на души», спрашивает Распутин. Спрашивает, не стесняясь подставить себя на место Ивана Петровича.
Иван Петрович, «жизнь свою отдавший плану», думает, что «план» обезлесил тайгу. Всюду зияют пустоты, тайга — как лысая голова. Зачем был нужен такой «план»? Зачем нужно выдавать на-гора сто планов, когда лучше хорошо выполнять один — но стоящий, настоящий? Зачем эти рекорды и превышения, когда после них остаются одни пустоши, как на вырубленных лесосеках?
Или «достаток». Гнались за этим достатком, как за жар-птицей. Пришел он, и веселей не стало. Достатком не наешься, достатком сыт не будешь. Не хлебом единым жив человек.
«Человек, — пишет Распутин, — окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое, происходящее из себя, а не из одного лишь хвать-похвать, что-то причинное и контролирующее, заставляющее достаток стыдиться вопреки себе полной своей коробушки».
Что же это причинное и особое? Никакого секрета тут нет. Это особое и причинное — верность правде, верность правде не наполовину, не на три четверти, а целиком и полностью. «Правда — это река, — размышляет герой Распутина, — ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами».
При такой правде неспокойно жить. При такой правде нужны кремневость характера, сила, вера и убеждения. Без идеи, без убеждений, которые оправданы жизнью и поступками, такой правды не приобрести. Ее ниоткуда не получишь, не импортируешь. Она должна произрасти в душе, она так же принадлежит месту твоего рождения, как твой дом и твои родители.
У правды, короче говоря, есть родина.
А то получается, рассуждает Иван Петрович, что у нас «хороший человек» уже тот, «кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает». Уже молчание стало доблестью, которая ценится как самое высокое геройство. А о сопротивлении плохому нет и речи. «Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр».
Это падение высоты правды и правды поведения в условиях столкновения добра и зла точно ухвачено Распутиным. Так, на пожаре все смотрят, как дядя Миша Хампо один не дает архаровцам разграбить складские вещи. Этот поединок наблюдают жители Сосновки, как будто это не борьба не на жизнь, а на смерть (и кончается она смертью дяди Миши и его противника), а бой на кулачках в праздник.
Сосновка отстранена от этой смертельной схватки. Сосновка сама по себе, она в положении «хаты с краю» — положении, которое может дать архаровцам истребить ее поодиночке.
Понимая это, Иван Петрович чувствует «беспорядок в себе». Разве не идет он на полуправду — хочет бросить к чертовой матери эту Сосновку — гори она синим огнем! — и перебраться в Хабаровский край к сыну, где если не молочные реки текут в кисельных берегах, то по крайней мере не слышно пьяного крику и гику? Идет. И подумывает об этом всерьез и даже готовится к этому отъезду, да только пожар ставит на одну ночь препону его мыслям, как бы останавливая их перед капитуляцией.
Отчаялся герой Распутина победить архаровцев, вытрясти из охолодевших душ сосновцев холод, повернуть Сосновку если не вспять, то к твердым основаниям разумной жизни. «В младых летах, — пишет Распутин, — Ивану Петровичу казалось, что это недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, мир расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах».
В Иване Петровиче еще не умер крестьянин, и все хозяйство при его доме, хозяйство при его грузовике, на котором он ездит уже много лет, обихожено, прибрано, налажено. Так же крепко стоит и его дом, и семья, где правит Алена — «матерь всех мирских женщин». Жена Ивана Петровича — это не столько живая женщина, сколько портрет матери всех матерей, жен из жен, это идеал и высокий образец женщины у Распутина. В ней, как «во всеединой троице, сошлось все, что может быть женщина».
На такую женщину можно опереться, она подставит плечо, когда, кажется, женщине уже и нечего делать, ибо слаба ее сила, не безгранична. Алена может поднять ящик с песком и забросать песком пламя, тогда как этот ящик в обычное время не поднимет и здоровый мужик. Кроме того, она уравновешенна, ровна, спокойна, ее взгляд и увещевания внушают мир. Русский мужик, который, как замечает Распутин, не привык ладить с женой, с такой, как Алена, всегда поладит.
Семья, жена, дом, работа — вот постулаты, на которых стоит мир Ивана Петровича и на которых, как желал бы автор «Пожара», должна стоять жизнь Сосновки. И в дому случайность, временность, постояльничество — смерть, а не жизнь.
В каждом человеке, рассуждает он, есть высшие понятия о совести, о чести, об отношении к близким, о труде. Их как будто и нет в ином из нас, но голос их надо услышать — поможет услышать этот голос или кто-то, кто рядом, или событие, когда жизнь вдруг окажется на «краю».
В «Пожаре» и взята ситуация «края», она, собственно, создана автором — создана для того, чтоб бросить жизнь Сосновки под отсвет огня, осветить ее излучины, вызвать ее жителей на размышление о самих себе.
Умысел и стихия как бы соперничают в ней. Это, с одной стороны, повесть пожара, который написан так, как будто стоишь в двух шагах от огня, с другой — повесть расчета, потому что мысль автора и расчет этой мысли правят сюжетом.
И все-таки это язык прозы. Распутин и в языке не теряет чистоты звука. В «Пожаре» много точных отсветов то душевного состояния человека, то, не побоимся сказать, душевных состояний природы, которая имеет к человеку свой исторический счет.
Повесть начинается с ночи, которую надеется тихо прожить Иван Петрович. Возвращаясь после смены домой, он думает, что, хотя отдых для него что-то запретное и чужое (его опора в жизни — кроме Алены — работа), и все-таки пусть эта ночь даст «одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь... А там новый свет — и выздоровление». Слова эти примечательны. Они пролог к ночи пожара, и они исход этой ночи, которая, осветившись огнем беды, не ушла во тьму, а перешла в рассвет — тяжелый, но все же законный рассвет, на зарю которого уходит в конце повести герой Распутина.
Иван Петрович честно говорит, что не был до сих пор собой, изменял себе и тому лучшему и высшему, что поселила в нем от рождения природа. Он — и он в том числе! — повинен в факте пожара, он повинен в смерти дяди Миши Хампо и в том, что произошло за все годы, пока он в ней живет, с Сосновкой. Не кто-то со стороны придет и поможет, вытащит эту жизнь и перетряхнет, а если кто и сделает это, так только он, или Афоня, или, может быть, однорукий Савелий, Алена — все, кто видел и слышал, что произошло на пожаре.
Нет, не затонула Егоровка в душе Ивана Петровича. Как не затонула она в душе Афони и в душе Алены. Скрылись под водой дома и пашни, кладбище и луг, но не исчезли из памяти начала, на которых строилась та жизнь и, надо сказать, устойчиво стояла. Держалась, как на вековых бревнах, а не на плаву, не кое-как, не между прочим, как держится — или не держится? — Сосновка.
Есть над чем подумать тем, кто прочитает про этот пожар. И подумать каждому о своем поселке, городе или деревне, пусть и непохожи они на Сосновку. Распутин рассчитывает на это. Он как бы берет окончание своей повести «Прощание с Матерой» и переселяет жителей затопленного острова на новое место и показывает: вот как они живут. Вот как продолжилась та жизнь. Нет уже здесь стариков и старух, исчезли бабки Дарьи, ушла с ними и история. Но то, что совершается наяву в Сосновке, это не исключение из правил, не произвольное «ЧП», которое решил устроить в одном поселке писатель, это беда и боль эпохи, которая в истории тоже не прочерк.
Пословица говорит: «У народа нет смерти». И еще: «Море не высохнет, народ не заблудится». Это правда. Но Распутин не хотел бы ждать, когда народная мудрость сама выведет жителей Сосновки на ясный свет. Он хочет стать их поводырем в этом выходе. Он, откладывая все другие дела (и «вечные темы»), берет в руки посох и становится впереди их. Как и должен становиться писатель.
«Так что же будем делать?» — спрашивает Иван Петрович после ночи пожара у Афони. Он теперь называет его уважительно: Афанасий. «Жить будем, — отвечает Афоня. — Тяжелое это дело, Иван Петрович, жить на свете, а все равно... все равно надо жить».
Обдумать эти слова уходит Иван Петрович по рассвету в лес. Он идет посоветоваться с землей и со своей раскрывшейся за эту ночь душой, которую, пожалуй, не закроешь обратно. Земля молчит, сопровождая его взглядом, и мы не знаем, «встречает» или «провожает» она его. Порвет ли нити, связывающие его с нею, герой Распутина или не порвет
Распутин не отвечает на этот вопрос. В своей короткой повести, где поставлено столько вопросов и где к каждому из них как будто подобран ответ, он не видит окончательного финала. В конце концов пожар затушили, приедет комиссия, приедет следствие — они разберутся и в причинах пожара, и в фактах воровства, и в факте убийства дяди Миши Хампо. У них свои вопросы и свои ответы.
А у писателя — свои. Распутин предлагает нам решить их вместе с ним.
1985 г.
ДОН КИХОТ ИЗ ВЕЙСКА
В конце романа герой видит сон: девочка стоит на льду на реке, лед начинает ломаться, крошиться, льдину относит все дальше от берега, а на льдине уносит девочку, и вот это уже не льдина, а тетрадный лист, в углу которого красная двойка и девочка — дочь героя, Светка, которая взмывает «в небо, во тьму, проколотую звездами». «Да это же тот свет!» — догадывается герой и просыпается.
Как и все сны, этот сон многоговорящий, затаенные страдания души в нем выходят наружу, приобретая форму образа многозначной картины, которую можно толковать согласно воображению. Герой Астафьева рвется на льдину, хочет спасти девочку... дочь, но лед проваливается, расстояние от льдины до берега все увеличивается, он в ужасе кричит, сознавая неизбежность случившегося, и просыпается.
«Печальный детектив» Виктора Астафьева — роман об оторвавшихся от берега, от суши, от тверди семьи, долга и совести — от тех святынь, на которых издревле держалась жизнь. «Порвались они, воистину порвались», — думает Сошнин о «связи времен», «изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловещий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем».
Не совсем обычные мысли для героя-милиционера, героя-оперативника, который ловит преступников, обезвреживает их, доставляет в милицию, а то и убивает, если они не хотят сдаваться. Может быть, сам и не убивает, но отдает приказ убивать. Потому что когда пьяный человек за баранкой въехал в толпу пассажиров на остановке, превратил в «мясо» мать с ребенком, двух старушек — он уже не человек, он «зверь», и нет ему пощады, хотя тот, кто творит суд над ним, тоже не испытывает удовольствия — тяжкая это работа, обременяющая душу обязанность.
В романе Сошнина называют и «младой герой» (ему сорок два года), и «герой- детектив», и «мыслитель из железнодорожного поселка», и «молодой художник слова», и «этот гений», и «остряк-самоучка». А порой и «мямля», «хлюпик», «псих». Психом его зовет следователь Пестерев.
Но есть у Сошнина и еще одно имя: сирота. Он действительно сирота, так как рос без отца, без матери, воспитывали его одни тетки. Тетка Лина, тетя Граня. Лина была родная тетка, сестра матери, тетя Граня — чужая женщина, но у ее будки на железнодорожных путях обосновался целый детдом — не один Сошнин, а все бездомные (и небездомные) дети поселка.
Тетю Граню зовут «родней всех угнетенных и осиротевших». Сначала ее будка и насыпь под будкой делается пристанищем детей Вейска, потом домик, купленный на оставшиеся от мужа деньги, потом детская больница, где престарелая тетя Граня служит сиделкой. В войну она таскает в госпиталь молоко, которое дает ее «патриотическая корова», поит этим молоком эвакуированных — и не только люди, но и кошки и собаки находят под ее крышей приют.
От кого, как не от нее, получает поддержку астафьевский «хлюпик» и «псих»? Кто, как не тетка Граня, не Лавря-казак, бывший фронтовик, кавалер трех орденов Славы, а ныне коновозчик, милицейский сторож дядя Паша, тесть Сошнина Маркел Тихонович — чистая душа и золотые руки — защищают его душу? От этих людей идет свет, а с другой стороны подступает тьма — убийцы, бандиты, подонки стоят там, скалят свои рожи, как черти у Гоголя, только не черти это, а нелюди в образе человеческом, потому что нельзя признать за людей тех, кто льет кровь человеческую, как воду.
Герой Астафьева называет их «недоумками», «бесами» и «диаволами». Эти бесы с черными крыльями и с синюшностью на лице, вылетают не из каких-то лепящихся по ту сторону добра и зла гнезд, они выпархивают из того же народа, они развертывают свои крылышки из личинок, которые откладываются в душах загодя и ждут своего часа, чтоб выйти на свет.
Это и те подонки, что гужуются у Сошнина под лестницей и готовы броситься трое на одного, у которых «в предчувствии крови» является на лицах улыбочка; они нервно теребят шарфики, ибо там, под шарфиками, за пазухой у них нож. Это и Венька Фомин, весь пропахший собственной мочой, сжегший себе почки водкой, с желтой, засохшей пеной у рта, и Урна, шатающаяся по улицам Вейска и по рынку, вечно пьяная, прозванная Урной за то, что ее черный большой рот всегда раскрыт и от него несет перегаром.
Астафьев не страшится этих подробностей, смело вводит их в роман — это роман не о детском садике, роман о зле и о войне со злом.
Рыцарь Печального Образа носит у Астафьева погоны, а в кобуре — пистолет. Но чаще он является перед читателем безоружным — лишь во всеоружии своего сердца, которое можно прострелить, проколоть, но которое заставить тихо и ровно биться, когда кто-то вершит над человеком насилие, — нельзя.
Таков закон того мира, который воспитал Сошнина. погибни сам, но другого не дай в обиду. И откуда это в нем, если не знал он отца (тот погиб на войне), не знал матери (умерла сразу после войны), а знал только теток и закон детдома у будки? Значит, от этого сообщества маленьких трудяг, от договора, связывающего честные души, от бескорыстия протянутой ему руки, от всего, чем жив человек, помимо хлеба, масла и сытых игр.
Дон Кихот нападал на ветряные мельницы и на мирные стада овец, Сошнин имеет дело не с призраками, не с ветряными мельницами. Перед ним настоящие чудовища и ублюдки, страшные еще тем, что, убивая людей, насилуя, грабя, они делают это с отупелостью автоматов, то ли мстящих за свою давнюю обиженность, то ли механически исполняющих предназначенную им работу.
И следуют картины, одна другой ужасней.
Пьяный петеушник, забравшись в женское общежитие, был выставлен оттуда с позором и в отместку решил убить первого попавшегося человека. Первой попалась женщина — молодая, красивая, беременная. Он бросил ее под откос и «долго, упорно разбивал ей голову камнем».
А другие, муж и жена, любители чтения, заперли свое дитя в пустой квартире и отправились на много дней в библиотеку им. Достоевского читать книжки, а дитя тем временем, исстрадавшись без помощи и пищи, сгнило — съели его черви.
А третья — мать — подкинула своего младенца в автоматическую камеру хранения на вокзале, попросту похоронила его там, чтоб не кормить, не нянчить.
Как назвать этих людей? Только «бесы» и «диаволы»? Спроси каждого из них: «Зачем они это делают?» — пишет Астафьев, те ответят: «Не знаю».
Это не знаю и опасней всего. С ним трудно разобраться, его невозможно предотвратить. И все-таки герой «Печального детектива» пробует разобраться. Он не только действует — встает поперек всем этим преступникам, — но и думает. И мысли его не всегда доходят до конца, они обрываются на полусуждении, полуслове. Астафьев вместе с Леонидом Сошниным ставит вопросы, но не всегда отвечает, он надеется на работу мысли в нас самих. Его «мыслитель», читающий Ницше и Экклезиаста, еще, может быть, блуждает в потемках, но он, по крайней мере, отваживается шагнуть в эту душевную тьму, пытается возжечь в темноте свечу.
Три типа торчат у него под лестницей и как бы специально поджидают его, чтоб придраться, пристать и — в случае, если он окажется непокорным (ответит непокорством на их оскорбления), — отправить его без размышления на тот свет. У них пустые глаза, потертые лица, все они подержанные и лежалые: один — как скисшая ягода, другой — как подвяленный судачок, третий — просто громила с обмякшими мускулами. И смотрит этот судачок на Сошнина с «рыбьим прикусом губ», возбуждаясь от «предчувствия крови».
За что они так злы на него, за что ненавидят? Ни за что. Просто он проходил мимо, а у них дурное настроение. Просто, как говорит в романе другой бандит, им «харя» его не понравилась.
«Откуда это в них? — задает себе вопрос Сошнин. — Откуда? Ведь все трое... из трудовых семей. Все трое ходили в садик и пели: «С голубого ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки... » В школе: «Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет...» В вузе или ПТУ: «Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг... » Втроем на одного в общем-то в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе... »
Вейск отстоит далеко от столицы. В Вейске есть льнокомбинат — значит, в области сеют лен. Вейск окружен лесами — здесь добывают древесину. «Гнилой угол России», — говорит Астафьев о месте действия романа. Но муки, которыми мучается лейтенант милиции Сошнин, не вейские муки, не областные и районные муки, это переживания, которые захватывают в свой круг все наши проблемы.
Речь идет о падении нравственного уровня в народе, о камне, который давит народную душу и пригибает к земле, который тяготит великую нацию, на которой, как на плечах Атланта, держится мир.
Нелегкая ноша, и не поднять ее, кажется, в одном романе, тем более в детективе. Но детектив Астафьева — «печальный» детектив. Печаль эта относится не только к облику главного героя, но и к существу идей, из тайников которых этот герой, не имея философского опыта, хотел бы выйти на свет.
О свете, о просвете, который ищет герой Астафьева, и идет речь в первом отрывке, который нам хотелось бы привести. Этот отрывок — кусок пейзажа, а в пейзаже яснее всего виден Астафьев, хотя пейзаж мутный, пейзаж размытый водою от растаявшего снега, пейзаж плачущий, скорбный. Вот он: «Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустыню...
Он шел по родному городу, из-под козырька мокрой наскепки, как приучила служба, привычно отмечал, что... стояло, шло, ехало. Ехало мало, а много стояло, шло настороженно... сверху лило, хлюпало всюду, текло, вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно, плоско, неорганизованно: лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу, из щели в щель. Всюду обнажился прикрытый было мусор: бумага, окурки, раскисшие коробки, трепыхающийся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки, их шевелило, иную птицу роняло ветром, и она тут же слепо и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчаньем мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клекнув, смолкала.
И мысли Сошнина под стать погоде, медленно, загустело едва шевелились в голове, не текли, не бежали, а вот именно шевелились, и в этом шевелении ни света дальнего, ни мечты, одна лишь тревога, одна забота — как жить дальше?»
Раньше, когда Сошнин был на службе (сейчас он по инвалидности как бы в отставке), он думал, что преступный мир и непреступный мир это разные миры, что есть чистый и нечистый народ и надо отделять один от другого, принимая это разделение как данность. Сейчас он судит иначе. Он видит, что не было бы Анны Тарыничевой, которая жалуется на Веньку Фомина, пишет письма в милицию, чтоб освободиться от насильника и пьяницы, принудившего ее к сожительству и обирающего ее, то не было бы и Веньки. Потому что стоит только Веньке попасть в руки правосудия, как та же Анна начинает защищать его, подучивает баб говорить на суде неправду, сует ему в карман табак и конфеты, обливает разлуку с Венькой горючими слезами. А тетя Граня? Ее изнасиловали четыре пьяных молодца. Кинули в грязь, втоптали в землю ее беленький с синенькой каемкой платочек, осквернили, опоганили, надругались, а она — после суда, который «ввалил» им по восьми лет строгого режима, — за них же просит, корит Сошнина, приведшего молодцов под пистолетом в милицию. «Ну, дак че теперь? — говорит она Сошнину. — Убыло меня? Ну, поревела бы.. Обидно, конешно. Да разве мне привыкать?»
И тут же вспоминает «физкультуру», которую ей устраивал ее законный муж Чича, когда она не давалась ему. Гонялся за ней с лопатой по всей кочегарке.
А Чича был не ублюдок, не подонок, а бывший красный партизан. А вообще хороший был человек. Только пил малость. Он из своей кочегарки и наверх-то не поднимался, на вольный воздух — все сидел там, разжигал огонь в котлах Дома культуры, а когда умер, то погас огонь, остановились котлы, исчез дым в небе, и кажется, похолодало не только и самом Доме, но и в небе над Вейском.
Так откуда берется эта жалость к преступнику, жалость к слабым, которые только что были страшными в своей силе, а попав в руки правосудия, делаются слабыми, плаксивыми, как Венька, как тот убийца, что зарезал не одного вейчанина только за то, что «харя» их ему «не понравилась». Он кричит, когда вяжут ему руки: «Бо-о-ольно мне, не имеешь права!»
Загадка русской души? — спрашивают герой и автор. «Ничем не объясненная штуковина, так называемый русский характер?» Черта с два. «Бесов» и «диаволов», считает Астафьев, порождает наше «давнее согласие на страдание», я «зверь в человеческом облике рождается... чаще всего покорностью нашей».
Его Дон Кихот и хорош тем (оттого и Дон Кихот!), что не покоряется, что идет на нож и на вилы — на все, что окажется в руках его врага, — не раздумывая о последствиях. Оттого он в представлении Пестерева «псих», а в глазах таких его сослуживцев, как Федя Лебеда, может, и урод. Ибо Федя Лебеда себя под пули не подставляет, он лучше кого-нибудь другого пошлет, как послал молоденького милиционера под пулю грабителя. Он жизнью дорожит, ее благами, а его жена, работающая официанткой в венском ресторане, говорит жене Сошнина Лерке: «Жить надо уметь».
Что ж, эти слова сейчас можно где хочешь услышать. Те, кто их говорит, считают себя умными, а тех, кто этих слов не слушает и совершает безрассудные поступки, глупыми. Получается, что ум жизнь бережет, а глупость ее транжирит. Или, как выражается один знакомый Сошнина, тюремный парикмахер: «Усю шпану не переброешь».
Да, детектив у Астафьева какой-то особенный, русский, он озабочен не столько поимкой преступника и его доставкой по месту назначения, его не механика раскрытия преступления и торжество добродетели интересуют, а, по меньшей мере, проблемы мирового зла. В бессонные ночи, которые отвело ему вдруг свалившееся на него свободное время, он обдумывает, как это зло исправить или хотя бы, не поганя себя, победить. Он страдает совестью, раздирает сноп душевные раны, он к тому же одинок, не устроен, не благоустроен: жена Лерка, взяв дочь, оставила его, ушла.
Легче всего сказать: «Нет правды на земле, но правды нет и выше!» И Сошнин вроде бы соглашается с этими словами из маленькой трагедии Пушкина. И все-таки он подозревает, что высшая правда есть. И каждый из нас может сделать из своей жизни уступ к этой правде, с высоты которой открывается, быть может, необозримая ширь. Это, как пишет Астафьев, «гибельный уступ», но по нему надо карабкаться, обдираясь об острые каменья, срываясь вниз, но иного пути нет: не толкай свое сердце вверх — останешься в бездне.
И, как на звук рога, на клич опасности, на крик о помощи идет, поднимая себя, астафьевский Дон Кихот — идет, понимая, что впереди его ждет смерть.
В осенний, полный непроглядной тоски день, шагает он по пустым полям к телятнику, где Венька Фомин запер тугожилинских баб, требуя от них денег на опохмелку. И без формы, без оружия бросается выручать тех баб «герой-детектив».
День этот как две капли воды похож на день, описанный в начале романа. Те же мокрые деревья, те же вороны на ветках. Только теперь это уже не вороны, а «воронье» — не птицы, а как бы души «диаволов» и «бесов», следящие с ненавистью за Сошниным. «Воронье, тяжело громоздящееся на гнущихся вершинах елей, на жердях остожий, черно рассыпавшееся на речном хламе и камешниках, провожало человека досадливым, сытым ворчанием: «И чего шляются? Чего не спится? Мешают жить... » Голые, зябкие ольховники, ивняк по обочинам плешивых полей, по холодом реющей речке, драное лоскутье редких, с осени оставшихся листьев на чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтоб экономился фураж, просевшие до колен меж кочек в болотины, каменно опустившие головы, недвижные среди остывших полей, кусты мокрого вереска на взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных людей, — все-все было полно унылой осенней одинокости, вечной земной покорности долгому непогодью и холодной, пустой поре».
«Несжатая полоса» Некрасова вспоминается, когда читаешь эти строки. Та же печаль осени, и общая печаль жизни, которая навеивается со страниц стихотворения.
Некрасов и Гоголь часто приходят на ум, когда читаешь Астафьева. И не потому, что в романе есть прямые цитаты из Гоголя, упоминания о тех толкованиях Гоголя, которые даются в институте и школе. В «Печальном детективе» есть даже Бобчинский и Добчинский — два чиновника, которые провожают на вокзале Вейска «значительное лицо» и бегут за увозящим его поездом, как некогда Бобчинский бежал за дрожками Хлестакова. Все это есть, как есть цитаты и из других авторов, из Лермонтова и Гийераги, из Маяковского и советских песен, из кино и теле-шлягеров и поделок масскультуры.
Астафьев силен тем, что, пародируя штампы, почитая высокую и высмеивая дурную литературу, всюду сохраняет свой голос, рожденный голосами великой русской классики.
Об этом говорит и свобода писания, свобода замаха, вольность языка, доходящая иногда до разнузданности — я употребляю это слово не в том смысле, которое оно приобрело сейчас, а в смысле свободы от пут, от узды — от пут «приличия» формы и приличия содержания.
Астафьев пишет про что хочет и как хочет, не стесняя себя ни темами, ни примерами, легко тасуя жанры, перепрыгивая из стихии языка газеты, который он пародирует, в стихию диалектизмов, которые его не смущают, из стихии поэзии в стихию жизни — то поднимаясь до нежных интонаций лирической прозы, то срываясь в сатиру, в злость.
Он не страшится ни ярости, ни злости — и эти ярость и злость не шокируют, не отталкивают, а, наоборот, приближают, утоляя голод на сильные чувства. В этом смысле язык и тон романа Астафьева, сам роман — прорыв стены серости, стены гладкой «культурности», которая, будучи отшлифованной и выстроенной из верных фраз, все же стена.
Что бы там ни толковали о сугубой «художественности», о таинствах стиля, о нынешних приобретениях усложненного, подчас мифологизированного реализма, в литературе без реализма не обойтись, без страсти никуда не денешься. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей», — сказал Некрасов. Тот, добавим мы, не любит и литературы. Тот только притворяется ее мастеровым, ее профессионалом, тот только формально числится в ее рядах, ибо умение водить пером по бумаге еще не доблесть, не успех.
Роман Астафьева прост как жизнь, груб как жизнь, и он возвышенно-идеален; это сатира, где слышны слезы, это бичевание и обличение, где нет гордыни. В бессонные ночи «графоман» Леонид Сошнин (а многие считают его графоманом, поскольку он «марает бумагу») вспоминает нежный роман о любви, в котором героиня-монашенка пишет письма своему возлюбленному. И столько чувств поднимает в Сошнине эта «сказочка», эта детская «ахинея» и «болтовня», которой он так беззаветно верил в детстве. Сопротивляясь своему чувству, Сошнин укорачивает себя: не верь, не поддавайся сладкому туману, «писчебумажным штучкам-дрючкам», стой на земле, оглянись вокруг.
Ну а что вокруг? Вокруг не только нелюди и убийцы, воры и бесы. Тут же и люди, которые не выдадут, спасут, вытащат из беды — та же недобрая Лерка и бабка Тутышиха, и тетя Граня, и Лавря-казак, и Паша Силакова — чугунная богатырша с сердцем ребенка, и дочь Светка, склоняясь над которой, когда она спит, Сошнин думает: это поколение, «наверное, самое трагическое за все земные сроки».
«Жизнь, она все-таки в общем-то ничего, — говорит Лавря-казак. — В ней то клюет, то не клюет...». Не очень-то утешительные слова. Но и они как-то поднимают дух. Потому что стоит увидеть тещу Сошнина Евстолью Чащину — бывшую активистку и горлопанку, из тех, кто «проорал деревню», как становится не по себе, а вот окажется с ней рядом Маркел Тихонович, ее муж, который при всей Полевке отделывает ее палкой по спине, — делается легче.
«Говоруны», «баре», «пустобрехи» то и дело мелькают в «Печальном детективе». Это и местные интеллектуалы, которые написаны беспощадно и саркастически (интеллигент Пестерев, даже мать не поехал в деревню хоронить, послал на похороны пятьдесят рублей, чтоб не портить впечатления от только что проведенного на курорте отпуска), и градоначальники, вытягивающиеся перед столичным чином, и «будущие гармонично развитые личности» — студенты местного пединститута, которые тренируют свои мышцы на стадионе, возникшем на месте засыпанного шлаком патриаршего пруда. Пруд этот засыпали, «борясь с мракобесием сановных, исторически изживших себя церковников».
Интеллектуалы заседают в издательстве, в педагогическом институте, они мешают в своих статейках Вергилия и Данте с Трегубом и Ермиловым, правят «творческих производителей», и, «обсыпая пеплом свои джинсовые костюмы», рассуждают «о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя». Они потешаются над бедной Пашей Силаковой, которая докладывает им о «заблуждениях», зачерпнув эту мудрость из учебников и пособий.
А в то время, когда эти господа предаются болтовне, Леонид Сошнин через отверстие в крыше прыгает в запертый телятник, попадая в лужу навозной жижи, в которой стоят голодные телята. Он открывает двери, освобождая испуганных женщин, впуская заодно в телятник и свет осеннего дня, и идет с голыми руками на Веньку Фомина, хватающего лежащие подле него вилы. Ржавые вилы с ржавыми огрызками зубьев. «Запорю, падла!» — орет от страха бандит, и ржавый рожок вил втыкается в плечо Сошнина, пробивает плевру; майка его, тут же напитавшись кровью, «кисельным липким сгустком» сползает к поясу.
«Правда — самое естественное состояние человека», — рассуждает Астафьев, но как же нелегко говорить эту правду, писать эту правду, потому что не благостное у нее лицо, не кремовые тона, не пряник она глазированный, а черный хлеб. Тут надо «обнажиться до кожи, до неуклюжих мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания», а подсознание — это тьма-тьмущая. Вывести человека из этой тьмы на свет — дело писателя.
Правда — это и «даже, когда ты привычно лжешь себе пли другим». «И самый страшный убийца, вор, мордоворот, неумный начальник, хитрый и коварный командир —все-все это правда, порой неудобная, отвратительная». И то, что кровь раненого милиционера и убитого им бандита — еще ранее, в главе, предшествующей сцене в телятнике, — смешиваются на полу «скорой помощи», которая везет одного в больницу, а другого в морг, — тоже правда.
Для того чтобы добраться до «гнилой утробы человечишки» и чтоб от этой гнилой утробы в небо воспарить, вера нужна, сострадание нужно, любовь нужна.
В астафьевской иронии и самоиронии (а герой и автор стоят у него недалеко друг от друга) есть и любовь и боль. Не посторонним пером все это описано, взят весь Вейск (а считай, и Россия) в разрезе, а кистью верного сына родины — не пасынка, не приемыша, а того, кто за нее, за мать, горой.
«И вопше, маракую я, Левонид, нашей державе честные трудовые люди нужны, а не говоруны и баре. Пустобрехи, вроде моей бабы... Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели».
Это говорит не какой-нибудь Костанжогло, который весь родился из ума писателя (и в ум вышел), а трудовой человек, который мало что в мирной жизни все может и все делает — и дом ставит, и корову доит, и за пчелами ухаживает, и внучку приучает к работе, и всех Чащиных держит на своем попечении, а заодно и Леонида, считая его за сына, но и на фронте, воюя, успевал и кому обутку починить, кому бритву направить, повозку подлатать, колеса обсоюзить, «втулку там, ось, оглобли ли вытешу, сварить че — суп, кашу, картошки... сруб в землянке сделать, дзот прикрыть».
На таких Маркелах Тихоновичах, как, впрочем, и на Лаврях, на Чичах, на таких, как дядя Паша, милицейский сторож, и держится вера Астафьева. Он этим людям «трибунов» не предоставляет (редко высказываются они), он их просто бережет в сердце, как бережет в памяти Сошнин свои детские мечты.
А в остальном язвительности ему не занимать, яду не одалживать. Посмотрите на эти штампы: дети в «детдоме» тети Грани «проходили трудовую закалку». «Здесь царил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане советской державы с самой большой протяженностью железных дорог... заколачивали костыли». К чему тут самая большая протяженность железных дорог? Да это штамп из газеты. И Астафьев смеется над ним. Дорог-то больше всех в мире, а порядка на них нет. Или про отношения Сошнина и Маркела Тихоновича: «И Леонид, не помнящий отца, взращенный пусть и в здоровом, но женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов». Опять штамп, клише, но с другим смыслом. Тут уж ирония безотцовщины, в глубине которой светится смущение и любовь. Речь-то идет о настоящей любви тестя и зятя, а не о показухе.
«Счастливые советские люди в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом», — так начинается абзац с описанием народного гуляния за городом — того самого гуляния, на котором изнасиловали тетю Граню. «У нас везде есть место подвигу!» — смеется сквозь слезы жена Сошнина, сидя у его изголовья в больнице, куда доставили его после схватки с Венькой Фоминым.
Кстати и некстати возникают эти штампы, эти вездесущие и всегда готовые словесные стереотипы, на которые косо смотрит Астафьев, его живая, смелая, непреднамеренная и — повторяю, настаиваю — свободная речь.
Ирония языка — это тоже взято у Гоголя. Вспомним речь Чичикова и его постоянные упоминания о величине российского государства, на пространствах которого могли бы уместиться несколько римских монархий. Вспомним его литературщину, сравнения себя с баркой, носимой волнами, и т. п. Гоголевская усмешка заглядывает на страницы «Печального детектива», освещая его солнечным смехом. Если смех играет, если он, заломивши шапку, играет при народе, на миру — значит, есть в силе, его породившей, жизнь, значит, не истощена она.
Хотя само солнце редко светит над Вейском. Пора такая избрана — поздняя осень или декабрьская оттепель, когда снег согнан с улиц и полей, все пусто, обнажено, все раскисло, плачет серыми слезами и взывает к ответным слезам. И лишь в конце романа, в сцене на кладбище, куда Сошнин зашел проведать мать и тетку Лину, снег накрывает Вейск, забеляя его язвы, его раны, его могилы и пустыри.
И тут мне приходит на память окончанье рассказа Астафьева «Ясным ли днем»: «Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет... Из тлеющих солдатских тел выпадали осколки и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли». Ту же связь умерших с землею, их какую-то обратную связь чувствует и Сошнин. Он думает о земле, что она раскололась бы, если б могла чувствовать боль тех, кто лежит в ней. Она задавила, раздавила их, но она не может ответить на вопрос: зачем люди торопят друг дружку туда, тогда как «надо бы наоборот»?
Загадка жизни и загадка смерти тревожат Астафьева Отсюда и сгущенные символы романа — воронье и телята, люди и нелюди, диаволы и бесы. И сама земля входит в этот символический ряд, как некая одушевленная сила, которую надо разбудить, потрясти, заставить переживать чужое горе Потому что если она останется каменной, каменно-бездушной, кажется, и у человека нет предела отчаяния
И еще одна загадка встает в конце романа перед Дон Кихотом из Вейска Загадка «ячейки» жизни — семьи Семья — так легко нарушившаяся у Сошнина — противостоит смерти, противостоит уничтожению. Она единственное, что может выбить из-под тоски ее кривые костыли
Символом этой тоски, этого стоящего на грани полусна, полубреда отчаяния выглядят в романе два образа — образ раздавленной на дороге крысы, которую видит, истекая кровью в машине «скорой помощи», Сошнин, и образ одинокой лошади, бредущей без хозяина, без понукания по улицам опустевшего Вейска. Эту крысу клюет в голову воронье, и на мгновенье ее голова кажется Сошнину его собственной головой с голубыми северными глазами. А лошадь? Это образ одиночества, образ безнадеги, на которую обречен он, Сошнин, останься он только с самим собой, один со своими мыслями.
Вот почему обращается он в последнюю ночь романа к рассуждениям о семье Приведя Лерку и Светку в свою одинокую комнату и устроив их на ночлег, он садится у стола и кладет перед собой чистый лист бумаги. Что будет на нем написано? Автор не знает. Не знает этого и герой.
«Экая великая загадка! — размышляет перед тем, как сесть за стол, Сошнин. — На постижение ее убуханы тысячелетия, но так же, как смерть, загадка семьи непонятна, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если они и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтоб поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именующий себя людьми».
Этот публицистический пассаж как нельзя кстати подходит к описываемому моменту. Что развело Сошнина и Лерку? Самолюбие, невозможность уступить друг другу, если хотите, гордость ума. Оба образованные, оба отчасти эмансипированные, Лерка — дочь своей матери, с ее фанаберией и трескучими фразами из Маяковского, но все же отходчивая, отзывчивая на беду, и Сошнин — писатель, творческая личность, эгоист творчества, решивший, что семья будет ему мешать писать рассказы.
Самолюбие в конце концов отступает перед сочувствием, перед теплой жалостью к родной крови, к собственному ребенку и к той же Лерке, «которая все же баба. Жена. Крест. Хомут на шее. Обруч. Гиря. Канитель земная». Конечно, лучше читать в романах про возвышенную любовь, про то, как хорошо ткнуться в колени женщины и забыть все на свете, — тут надо тащить груз, впрягаться в хомут. Хорошо страдать по далекой Дульсинее, но труднее любить того, кто у тебя под боком.
В начале «Печального детектива» (и тут мы не побоимся тавтологии) «глубокая, уже постоянная печаль» гложет героя Астафьева. Он ведь ни в исправившихся негодяев не верит, ни в то, что диаволов и бесов «подлечить» можно. Даже тот, кто у бога за свои грехи страшные готов прощения просить, у него не вызывает сочувствия. А в конце романа, глядя на свою успокоившуюся семью, на Лерку, разметавшуюся в его холостяцкой кровати, на Светку, притулившуюся на старом дедовском сундучке (сколько поколений складывали в него свои одежды!), он уже не испытывает прежней безнадежной печали. Печаль остается, но она как-то меняется, она соединяется с «покоем», с отсутствием «раздражения и тоски в сердце», она — «сладкое горе, воскрешающая, животворящая печаль».
Надолго ли? Неизвестно. Но это уже и неважно. Минута соединения засечена, остановлена, воспета Астафьевым. Он дрожит от ее непрочности, ее мгновенности, ее, может быть, обманывающей сладости.
Пусть. Исполать ему. Исполать его герою, который, в отличие от героя Сервантеса, все же обрел дом. Все же ввел семью под его крышу.
Астафьев написал роман, который жжет душу, бередит совесть, вызывает в ответ желание быть столь же свободным, как и его автор. В свободе-то и все дело. Она нужна каждому из нас. Она нужна народу и государству — такое сейчас время, когда пришла пора без страха оглядеть себя и свою опору в жизни, и в этом смысле Виктор Астафьев выполнил завет, который оставил поэтам Гораций:
Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,
Прочее все отложить и сказать в подходящее время.
1986 г.
ОТЧЕТ О ПУТИ
Журнальная проза в 1986 году
Ветер подул, и море литературы колебнулось. Оно, собственно, и раньше не спало, не дремало, но то была беспокойная жизнь его толщи, его недр, сейчас ветер срывает с волн гребешки, дует напористо, резко, и волнуется по преимуществу поверхность, видимая гряда воды, которая, подходя к берегу, ударяется о мол и обещает шторм, смятение в природе.
Так это или не так, нам еще предстоит проверить (и не в этой статье, а в жизни), а сейчас обратимся к шуму и свисту ветра, не запрещая себе время от времени заглядывать в глубину моря, которая тоже открывается в этом волнении, но в которую не любит заглядывать читатель. Читатель наш все еще сидит верхом на детективе, все еще, оседлав действие, скачет на нем в неизвестность — в ту нестрашную неизвестность, где ему обещают легкую трепку нервов, убитое время и счастливый конец. Он и историю, и политику, и любовь хотел бы облечь в детектив, придать им энергию детектива, чтоб эта энергия несла его бог знает куда — но не туда, где плохо.
Странные вещи творятся в литературе. Еще вчера кто-то и слова сказать не смел о Гумилеве, а сегодня он апологет Гумилева, а те, кто надеялся, что Гумилева никогда издавать не будут, пребывает в ожесточении уныния. Правда не успела появиться в «Огоньке» подборка стихов Гумилева с приличествующим им вступлением, как Евг. Евтушенко — кормовой прогресса — тут же притормозил. В своей статье в «Литературной газете» он высказался так: Гумилев, конечно, хороший поэт, но и у него есть плохие стихи. А что? И сам А. Блок писал не всегда удачно.
Так думает Евг. Евтушенко. А литературовед-теоретик П. Николаев, не успел журнал «Москва» объявить о том, что он публикует роман В. Набокова «Защита Лужина», уже предупредил нас: «Благодарна и естественна нынешняя озабоченность восстановления забытых имен. Но столь же естественным должно быть при этом чувство нравственной и социальной меры».
Роман еще не вышел, а чувство меры соблюдать пора
Так откликается наша теория на треволнения практики. Хочет встретить грядущий шторм во всеоружии, верит, что еще не вечер, что стрелка барометра развернется и падет на твердое «тихо».
Повторяю: посмотрим. А пока литературу трудно отличить от газеты. В газете читаю о наркоманах, и в романе о том же. В газете — о коррупции, взяточниках, убийцах, государственных ворах — и в повести, очерке, романе о том же. Читаю роман как газету, а очерк А. Стреляного «Приход и расход» как роман. Тянет на роман значительностью материала и мысли, тянет свободным взглядом на святая святых, масштабом захвата фактов. Читаю поэму А. Вознесенского «Ров» и мысленно благодарю поэта за то, что добился он установления памятника на том месте, где были расстреляны люди, но факт этот сильнее силы стихов, превозмогает стихи, как превозмогают их и факты некрофильства, обирания останков погибших, о которых сообщается в той же поэме. Стихи, как они ни искренни, не могут подняться до отрицательной высоты факта.
Есть и высота в отрицании. Это черная высота, это длинный минус, которого хватает не на один день — он как та пуля, что, убивая одного человека, убивает и его неродившихся детей, его внуков, весь род, который мог бы протянуться в вечность.
Может быть, только Алесь Адамович в своих статьях посягает на этот большой минус — он не сегодня стал их писать, и за это ему низкий поклон. Раньше других увидел и ужаснулся тому, чему мы ужаснулись, когда облако Чернобыля повисло над нами.
Впрочем, увидел это и Валентин Распутин. В «Пожаре» он предсказал чернобыльские события.
Повесть «Пожар» появилась в журнале в 1985 году, а в 1986 году была издана отдельной книжкой. Ничто не изменилось в ее содержании, появились только окончание и эпиграф. Судя по всему, и окончание и эпиграф были сняты при печатании повести в журнале.
«Горит, горит село родное» — этими словами из народной песни предваряет теперь В. Распутин свою повесть. Пожар в Сосновке, благодаря этому эпиграфу, выносится на пространства России. Сосновка это не только поселок на Ангаре, но и родина.
В журнальной редакции «Пожар» заканчивался тем, что главный герой повести Иван Петрович уходил в лес, чтобы скрыться от людей. Он покидал их, быть может, навсегда. И земля, как писал Распутин в окончании повести, не то встречала, не то провожала его. Отношение земли к случившемуся в Сосновке было неясно. В отдельном издании конец звучит иначе:
«Молчит земля.
Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?
И разве молчишь ты?»
В вопросе заключен и ответ. Земля не молчит, земля не одобряет. Молчание земли грозно, как грозно безмолвствование народа в конце драмы Пушкина «Борис Годунов».
Отчего молчит народ у Пушкина? Он может молчать от страха, от безразличия, от привычки повиноваться боярам, которые вершат суд и расправу. Но под страхом может прятаться гнев. Под страхом может скрываться стихийная сила огня, который, если его выпустить на свободу, спалит все.
Земля в «Пожаре» уже наслала кару на один поселок. Чем ответит она на злодеяния человека завтра?
Ибо не чем иным, как злодеянием, нельзя назвать то, что творится в Сосновке. Злодеяние и то, что происходит в «Плахе» Айтматова — истребление сайгаков, пожар в Могонкумской саванне, устроенный человеком. Горят камыши, выгоняя волков из их последних убежищ, уничтожаются травы, расстреливают с грузовиков животных, вырубаются под корень леса, затапливаются деревни и кладбища, растет вражда людей друг к другу, ожесточение, злость — на все эти явления разрушения литература откликается как эхо. Как пал, который идет по земле, пожирая все вокруг, может быть остановлен лишь валом другого огня, пущенного ему навстречу, так врывающиеся в повести и романы несчастья и беды врываются через них в жизнь, чтобы сбить огонь, предотвратить еще большие несчастья. Пожар в Сосновке, горящая саванна в «Плахе», разгул убийств в «Печальном детективе» В. Астафьева — это резкие ответы литературы на вызовы жизни.
И они, и молодая Лерка — жена Сошнина, супруги Пестеревы, и не знающий Сталина Володя Горячев, руководитель стройтреста в Вейске, и все те недоноски и «бесы», которые клубятся в романе Астафьева, и встающий на их дороге Сошнин — все они дети того времени, которое сын Онисимова Андрейка назовет «жестокой эпохой». Иных из них не было еще на свете, иные только начинали ходить в садик или под насыпь, где играли дети железнодорожного поселка, среди которых рос сирота Сошнин, но некоторые знаки на небе уже вставали над их судьбой, начертывали им их путь.
Виктор Астафьев не идет так далеко, как А. Бек. Он не вводит никакой исторической ретроспективы, он обрубает действие с начала и с конца, обрубает пролог и эпилог и оставляет нас на площадке настоящего, которое само по себе, уже помимо его воли, бросает свет назад и вперед,
Я уже писал о «Печальном детективе» и не хочу повторяться. Но иногда не грех и повториться, чтоб, как говорят, забить свою мысль, забить, как загоняют в землю первый кол, когда начинают строить деревню. Именно о деревне мои мысли и о народе, о том самом крестьянстве, которое издревле на Руси считалось народом, на которое уповала, перед которым винилась и языком которого питалась литература.
Спор о крестьянстве идет в нашей прозе и критике не первый год. Одна часть спорящих возлагает надежды на интеллигенцию и город, другая — на крестьянство и деревню. Так получилось, что литература поделилась на деревенскую и городскую, что возникло противоречие, которое никогда так явственно не обозначалось на Руси. О чем писал Толстой — об интеллигенции или крестьянстве? Он писал и о том, и о другом. А Достоевский? А Чехов? А, если отходить к началу девятнадцатого века, Пушкин, Гоголь? Не было в русской литературе разрыва между крестьянской и городской темой, но было чувство вины интеллигенции перед народом, угрызения совести по поводу того, что народ пребывает в рабстве.
Это чувство ставило рядом барина и мужика, заставляло интеллигента-дворянина искать сочувствия в мужике и, несмотря на разделяющую их пропасть, сближаться с мужиком, учиться у него труду, повиновению смерти, как делал это Толстой в «Казаках», в «Войне и мире» и в «Трех смертях».
Ныне крестьянин как бы ассимилировался, растворен городом, индустрией, чистого крестьянина уже нет, есть сельскохозяйственные рабочие, есть какой-то новый человек — сын деревни и города, у которого и язык, и мысли, и образ поведения иной, чем у исконного обитателя избы. И избы порушены, и круговой цикл труда сломался, и отношение к земле переменилось, и родовые связи с природой лопнули. Нынешний крестьянин — фигура трагическая, переживающая свое прощание с землей, как переживают его герои «Прощания с Матерой», хотя речь там идет не обо всей земле, а об одном острове. Отсюда — как всегда при расставании — выброс печали, любви, оплакивание корней, оплакивание ясности, простоты, «лада» былой жизни. В воспоминаниях мы терпимей относимся к прошлому, чем в настоящую минуту, когда это прошлое не сделалось прошлым. В воспоминаниях мы лелеем его, прощаем обиды и раны и видим его в ореоле нашей любви к нему.
До сих пор этот ореол главенствовал в прозе о деревне, ныне он начинает меркнуть, краски его выцветают, гаснут. И повинна в этом не злокозненная городская проза, перехватившая у деревенской жезл первенства, не город, а сама жизнь. Момент прощания сменился моментом отчаяния.
Голос отчаяния слышен и в «Печальном детективе». Это не роман, а крик исповеди автора, сольная партия, где речь Астафьева возникает без спроса посредине речей героев, где чувства солиста важнее, чем сам хор. О чем эта речь? О народе, о духовном состоянии русского человека, о бедствиях и болезнях, постигших его в последние годы, о том, что выражено одним возгласом в рассказе Астафьева «Слепой рыбак»: «Что с нами стало?»
«Что с нами стало? — восклицает Астафьев. — Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, этот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытом задолго до нас творцами подвига, зажженного для нас, чтоб мы не блуждали в потемках, не натыкались лицом на дерева в тайге и на друг дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем все это похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, всесветное во все безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили?»
Этот патетический монолог напоминает «Письмо к землякам» Федора Абрамова. Письмо это под названием «Чем живем-кормимся» было напечатано в 1979 году. Тогда многие приняли его за навет, писатели-крестьяне даже обиделись на Абрамова за то, что он выставил в невыгодном свете народ. Письмо сначала появилось в районной газете, затем его перепечатали в Москве, но тут же перекрыли другими письмами: народ отвечал писателю, что он, писатель, виня народ в бездействии, неправ.
Астафьев отнюдь не щадит людей из народа на страницах своего «Детектива». Не очень-то щадя интеллигенцию, он спрашивает и с тех, кто издавна был предметом жалости в литературе, кто всегда был жертвой, лицом страдательным, а поэтому и заранее обеленным перед историей. Астафьев выносит на суд даже само чувство жалости, якобы присущее русской душе, загадку русского характера — те черты и свойства народа, которые были воспеваемы в стихах и прозе — и не рассматривает их, делает им переоценку.
Критика обиделась на Астафьева за то, что он осмеял интеллигенцию. Но интеллигентов в «Печальном детективе» — раз-два и обчелся. Разве Федя Лебеда, подставляющий под пулю своего напарника по милицейскому наряду, а сам остающийся в тени, интеллигенция? Разве Венька Фомин, втыкающий ржавые вилы в грудь Сошнина и прорывающий ему плевру и легкое, интеллигенция? А может быть, теща Сошнина, неутомимая Евстолия Сергеевна, «прооравшая деревню» и свихнувшаяся на лозунгах, тоже интеллигенция?
А следователь Пестерев, отказывающийся ехать в деревню хоронить свою мать — вчера выскочивший из деревни и обосновавшийся в городе, — какой он интеллигент? Он отброс деревни, ставший таким же отбросом города.
Нет, не подпадают под этот разряд ни они, ни Урна, шатающаяся по рынкам и подворотням пьяная, с пропахшим табаком ртом, ни тот «молодчик», что убил беременную женщину, ни шофер, угнавший МАЗ и передавивший полгорода, ни те четверо, что изнасиловали тетю Граню, ни тот «мужик-не мужик, подросток-не подросток», который готов зарезать Сошнина из-за одного удовольствия. Все это, как пишет Астафьев, люди «из трудовых семей», взращенные нашими детскими садиками и ПТУ, а не иноземной почвой.
В романе Астафьева есть город и есть деревня, есть районный центр, есть окраина города и окраина области. Но под острие критики попадают не какие-то социальные слои и образования, а все общество в целом, и народ у Астафьева не делится на городских и деревенских, он — один народ.
Профессор в институте, где учится Паша Силакова, хоть он и профессор, тоже народ, и Чича, и тетя Граня, и Маркел Тихонович — любимые герои автора — такой же народ. Как народ и Венька Фомин, и его сожительница, сначала пишущая на него бумагу, а потом отбивающая его от милиции, и уголовники, которые распивают водку в подъезде у Сошнина, и бабка Тутышиха, и ее Адам, и ее гулящая внучка, и Лавря-казак, и Демон, которого ловит Сошнин, и Лерка, набитая цитатами из Маяковского.
Все это пестрое полотно — портрет народа в нынешнем его состоянии, портрет с перепадами темных и светлых красок, благородных лиц и масок, страшных недоношенных физиономий и ликов, если так можно выразиться, потому что лицо тети Грани — лицо святой.
Рассуждая о «бесах» и «диаволах» зла, которые вылетают из своих личинок в благоприятную погоду, Астафьев говорит, что вылетают они не откуда-нибудь, а из народа. Их не нанесло ветром, не забросило с другой стороны — они родились среди нас.
Так и «архаровцы» у Валентина Распутина, орудующие в Сосновке и убивающие дядю Хампо, — не паршивые овцы, забредшие в здоровое стадо, а плоть от плоти и кость от кости этой Сосновки.
* * *
Спор о народе, разгоревшийся в литературе, обострился в минувшем году с выходом романа Василия Белова «Все впереди». Белов написал роман-памфлет, роман- обличение. Но острие своего романа он повернул в сторону города, в сторону Москвы. Белов тоже пишет о «бесах» (терминология Белова и Астафьева совпадают), но «бесы» у него — городские люди, взращенные в бетонных коробках и прошедшие через искусы цивилизации. И хотя деревня в романе не показана, она подразумевается. Белов защищает деревню от города, ограждает ее от заразы городской культуры.
В романе выведен гигантский мегаполис — многомиллионное каменное поселение, окольцованное бетонной дорогой и являющее собой образ современной цивилизации. Дым стоит над городом, дым выхлопных газов и табака, каменная плоть проглатывает, пожирает человека, выплевывает его из своих переходов, из жерл метро, она как наркотик, как алкоголь впитывается в поры, пьянит, мутит, отбирает разум. И хотя в романе есть несколько реверансов в адрес этого города — реверансов в сторону Москвы, — Москва Белову не нравится, он раздражен против Москвы и своего раздражения не скрывает.
Белову противен звук японской радиоаппаратуры, который выносится из московских окон, ему не по душе бульдоги, которые гуляют по бульварам со своими хозяевами. Он против аббревиатур, против абортов, против флирта, разводов, развала семей — против всего, что порождает, по его мнению, и умножает день ото дня город.
Раздражение автора падает и на героев. Раз в их паспорте стоит штамп «прописан в Москве», им нет доверия. Они и в Москве плохи, и под Москвой, и в Париже, куда забрасывает судьба героев романа. Роман начинается с поездки группы туристов в Париж. И здесь — на фоне другого большого города, такого же продукта цивилизации — рисуются низкие нравы участников поездки — Любы Медведевой, Аркадия, Саманского, Бриша и отчасти нарколога Иванова, который хоть и представляет в романе точку зрения автора, тоже испорчен Москвой.
Иванов, лечащий людей от зеленого змия, сам предается пьянству. Он так «перебирает», что даже попадает в вытрезвитель. Будучи другом Медведева, он неустанно следит за его женой Любой и по прибытии в Москву спешит передать свои наблюдения мужу или его близким.
Герои романа делятся на «естественных людей» и «бесов». Естественные люди — это Медведев, Грузь, Зуев, Наташа, Иванов, бесы — Бриш, Академик, Саманский, Аркадий. Если естественным людям тесно и неуютно в городе, их душа жаждет простора и освобождения, то бесам — в самый раз. Они обделывают свои делишки, торгуют чужими женами, делают вид, что работают, а на самом деле играют в науку, им не тесно, им просторно, и они вытесняют из Москвы естественных людей. Они не только посягают на их жилую площадь и место на работе, а и на их семьи, на их детей. Так, Бриш забирает у Медведева жену, и сына, и дочь и в конце романа хочет всех их увезти за границу, для чего наведывается в Колпачный переулок, где, как известно, выдаются визы желающим покинуть нашу страну.
Бриш в конце романа — процветающий доктор наук, а Медведев, попавший в тюрьму из-за нелепой случайности (в результате которой погиб его друг Грузь), оказывается без профессии, без прописки и без дома. Он вынужден копать землю в какой- то бригаде под Москвой и снимать комнату у тети Маруси — матери Грузя.
Так же несчастливо складывается судьба и остальных естественных людей. Грузя Белов хоронит, нарколог Иванов едва собирает свою разбившуюся семью, Наташа спивается, Зуев ломает позвоночник и навек остается инвалидом.
Всем сестрам, что называется, выдано по серьгам. И что же дальше, какой следует их этого вывод? Вывод такой: естественным людям жизни нет, есть жизнь только бесам
Я бы поверил Василию Белову, если б он показал мне природу бесовства Бриша, или природу бесовства Академика, или природу бесовства Аркадия. Но Белов считает, что достаточно черное назвать черным, а белое — белым, как все само собой станет ясно. Роман Белова выполнен в двух цветах, слово Белова — всегда вбиравшее в себя много тонов — имеет в романе ту же окраску. Читаешь роман и удивляешься, где слово Белова, где радуга языка, где игра света, где напев, где поэзия? Если б кто-то закрыл от меня фамилию автора, стоящую над заголовком, я бы не поверил, что это Белов.
Белову не дается город, не дается среда, которая далека от его любимой среды, от его мужиков, баб, от деревни Как только он ступает на асфальт, голос его звучит неуверенно. Так было в его «городских» повестях, так произошло и в романс «Все впереди».
Тут тенденция преобладает над изображением, чувства — над мыслью.
Белов за трезвость, за чистый воздух, за близость к земле, и тут я на его стороне. Но я не могу принять его нелюбви к городу вообще, как и не могу признать, что деревня это «лад», а город — гнездо бесовства.
Роман начинается со сравнения Эйфелевой башни, которую герои Белова видят в Париже, с картинами Ван Гога, которые им удастся посмотреть там же в музее импрессионистов. Для Белова Ван Гог и Эйфелева башня — вещи несоединимые, они — антагонисты, и надо выбирать между башней и Ван Гогом. «С площади открывался вид на башню Эйфеля, — пишет Белов, — Иванов не испытывал никаких чувств при виде этих железных нагромождений: чудо минувшего века напоминало всего лишь высоковольтную мачту. Музей импрессионистов выжал из него последний запас дневной энергии. И все же он успел прикоснуться к мощной природной силе гениального Ван Гога. Еще издали увидел Иванов зной над полем и хлебные скирды с отдыхающей под ними крестьянской четой. Казалось, рама была всего лишь окном в жаркое поле».
Крестьянская чета и убранный ею хлеб — вот идеал Белова. Высоковольтные мачты — от лукавого. Но так ли уж похожа Эйфелева башня на высоковольтную мачту? Тот, кто был в Париже и видел ее, не даст соврать, что чувства она вызывает совершенно иные. При всей массивности и тяжести веса, она легка, стройна, даже женственна. Башня эта — не только дитя инженерного расчета, но и дитя поэтической фантазии. Она не давит на город, не прижимает его к земле, а парит над ним. Ее опоры утопают в деревьях, а у подножия лепится озеро, в котором безмятежно плавают лебеди. Башня и лебеди соседствуют, башня и город сливаются в одно образование, которое есть природная общность людей.
Город, если он создан по потребности человека — как создавались в старину города-крепости — и если живет по естественным законам, — такое же природное обиталище человека, как и деревня. Нагромождение кирпича еще не город. У города есть свой абрис, своя линия, своя художественная идея, отвечающая идее жизни.
Когда город ломают, корежат, когда кирпич ставится на кирпич только для того, чтоб за стенами из кирпича спали, ели и смотрели телевизор, это еще не город. И тут я разделяю горькие сетования Белова. Он прав, когда восстает против города-чудовища, города, где сломан ритм, где перекрыты пути для дыхания, где нет центра, связующего ядра, нет лучей, расходящихся от этого ядра и образующих как бы огромное романское окно, которое похоже на гигантский цветок и на связанную внутри узлами модель Вселенной.
Но я не знаю, что сталось бы с теми же импрессионистами (и были ли бы они), если бы не Париж. Мы б тогда не увидели ни Больших Бульваров в пуху весеннего цветения, ни туманов Мане и мерещащейся из-за тумана Нотр-Дам, ни Ренуара, ни Писсаро, ни Сислея. Да и сам Ван Г ог вряд ли был бы Ван Г огом, если б его не взлелеял Париж.
Париж их собрал, создал. Только находясь рядом друг с другом, только в тесноте Парижа смогли они познать каждый себя и отделить себя от другого. Только в таком собрании талантов могла зародиться школа, родиться направление в искусстве.
Идея города — идея единения, сплочения, обмена, идея братства, а не идея толкучки. Конечно, идею можно исказить. Конечно, ее можно по законам диалектики, как говорит герой повести Андрея Платонова «Ювенильное море» Умрищев, обратить в свою противоположность. Но виновата в данном случае не идея, а исполнители.
Читатель видит, что мне приходится спорить с высказываниями Белова, а не с картинами Белова. Но что делать, если роман состоит не из картин, а из высказываний, из заметок, так сказать, Василия Белова по текущему моменту.
Одно из этих высказываний-деклараций звучит так: мы слишком идеализировали будущее и тем самым отрекались от настоящего. Белов возражает идолопоклонникам будущего, изобретшим лозунг «все впереди». Этот лозунг повторяют многие его герои, он обыгрывается в романе как антитеза, которую воспринимает как главного своего оппонента Василий Белов. В Белове все поднимается против идеализации будущего и пренебрежения настоящим. Он против демагогии, заклинаний по этому поводу, он против самого существа такой постановки вопроса. «Все впереди», считает он, это ничто, это нигилизм по отношению к настоящему, по отношению к ныне живущим Нет никакого «все впереди», есть прошлое, живущее в нас, и есть наша жизнь. Настоящее полноценно, самодостаточно и абсолютно, утверждает Белов. Настоящее не топливо для завтрашнего дня, не залог будущего, а то, что мы должны чтить и почитать. «Все впереди — это иллюзия, — пишет Белов, — и надо отрешиться от иллюзий»
Все эти мысли высказаны в письме-завещании Грузя младшему брату — в письме, которое читает Медведев «Спрашивая тебя, — говорит брату Грузь, — я спрашиваю себя. Так вот мне кажется, что все то, что осталось нам со времени, зависит теперь только от нас, в нашей с тобой власти сделать этот остаток значительней предыдущего. Так же, как в нашей власти трусливо и бездарно закончить свой путь».
Белов настаивает, что путь еще не пройден, что облик настоящему должны придать мы сами.
В связи с этим поднимается вопрос и о прошлом Прошлое, по Белову, не только святыня, она — часть настоящего Оно часть в том звене «последовательности», которое тянется к нам из веков. Только «бесы» могут не уважать прошлого Только «бесы», говорит Белов, способны смотреть на настоящее как на «эксперимент».
Я не хочу быть подопытным животным, — говорит Медведеву Иванов. — Я не хочу, чтоб моя жизнь стала предметом опыта Может, поэтому Иванов и пытается что-то сделать в романе. Но его действия нелепы, и оттого его заявления повисают в воздухе.
Вещество романа распадается в руках, как сырой хлеб Его главы плохо лепятся одна к другой, поступки героев немотивированы, декларации Белова наезжают на живую речь. Живое в романе, пожалуй, только одно — сцены с детьми. Тут Белов «оттаивает», сквозь тучи проглядывает солнце, и теплые лучи его надают на маленьких персонажей. Читая эти страницы, вспоминаешь «солнышко» и «деток» в «Привычном деле».
Дети — особая боль Белова, и он хотел бы их уберечь и от отцов-пьяниц, и ото лжи, и от разврата. Разврат неумолимо связан с ложью, и поэтому ложь, проникшая в семейную жизнь Медведева, разрушает семью. Разрушается не только семья, разрушаются связи между людьми, разрушаются дружбы, разрушается вера. Белов ставит вопрос о вере и в религиозном плане, не боясь, что его заподозрят в сочувствии христианству. Медведев близок к этой вере, после заключения он вернулся в Москву «почти свободный». Он свободен и от карьеры, от обязательств перед наукой, и от своих привычек городского человека, в том числе от предрассудков относительно веры и бога. Его хозяйка тетя Маруся верит, что ее сын Грузь и после смерти видит все, что происходит в его доме. Медведев, думая о ее вере, признается себе: «а я еще сомневаюсь». Это «еще» — лишь малая полоска, отделяющая его от бога.
Как я уже говорил, Бриш хочет отнять у Медведева сына и дочь, лишить Медведева родительских прав. Он идет ради этого на подлость, объявляя Медведева наркоманом и социально опасным человеком. Но Медведев не препятствует этому. Он не борется с Бришем, за что вызывает нарекания Иванова.
Иванов, превратившийся из разрушителя семьи Медведева в ее защитника, пеняет Медведеву за то, что тот попал под влияние идей христианства. Он говорит Медведеву, что «христианство в его российском варианте равносильно самоубийству».
«— Брось... Что мы знаем об этом, как ты говоришь, варианте?» — отвечает ему Медведев.
«— Что я знаю?» — говорит Иванов. — «Тебя бьют по одной щеке, а ты должен подставить другую... Сколько можно быть жертвенным?»
Иванов требует действий, Медведев колеблется. Роман заканчивается сценой на мосту через Москву-реку, где стоят Медведев и Иванов и где они спорят о пути, который должен избрать Медведев. События символически перенесены на мост, ибо мост связывает берега реки. Нужен мост, нужно наведение мостов, как бы говорит Белов, но его роман, к сожалению, эти мосты не наводит.
«Бесы» и «естественные люди» не могут понять друг друга. Как могут они это сделать, если даже Иванов и Медведев доходят в своем споре о том, как жить, до схватки?
Нет единства ни в Москве, ни в мире, считает Белов. Но нет и выхода, обещающего единство. Сам роман разорван противоречиями, которые не может усмирить властной рукой автор. С одной стороны, он за то, чтобы «посадить Нестора в Госплан» и тем самым навести порядок, с другой — бьет в колокол по поводу «идеологических наркотиков», забрасываемых к нам издалека и портящих наших «доярок и трактористов». С одной стороны, он против «дьявольщины» и демагогии — главного орудия этой «дьявольщины», с другой — он видит всю беду чуть ли не в массовой культуре, которая уже погубила город и вот-вот погубит деревню. Белов видит зло в тоталитаризации мышления, в забвении прошлого и вместе с тем дает понять, что существуют тайные организации, которые «генерируют» зло, без которых зла не было бы в народе.
Белов пишет о «русской удали», которая спасла в 1812 году нас от нашествия. Спор о «русской удали» происходит между Бришем и Ивановым. Бриш эту удаль поносит, Иванов восхваляет. Именно эта удаль решила исход войны, говорит он. Но если обращаться за поддержкой к примеру 1812 года, то можно вспомнить, что тогда все решило единство народа. Тогда, как писал Гоголь, пытаясь в мирное время «собрать» Русь, вся Россия была как один человек.
* * *
Мне кажется, это хорошо понимал Федор Абрамов. Человек, вышедший из деревни и до конца жизни не порывавший с ней — там он и похоронен, — Абрамов высоко ставил город, хотя никогда не писал о городе. В 1986 году в журнале «Наш современник» напечатаны отрывки из дневников Абрамова под названием «Дом в Верколе». Дневники эти — последнее исповедание Федора Абрамова по вопросу о народе и крестьянстве.
Если Василий Белов призывает «отрешиться от иллюзий», то Федор Абрамов, как бы соглашаясь с ним, включает в число этих иллюзий и идеализацию мужика. Дневники велись в нелегкие для Абрамова дни, когда он как бы вступил в конфликт с народом, написав и напечатав «Письмо к землякам». Были противники у «Письма» и среди тех, кто, как и Абрамов, посвятил свои произведения деревне.
Да и сам Абрамов, как мы теперь видим, сомневался в пользе своей затеи. Не так- то легко было ему, писавшему о злоключениях и бедствиях народа, защищавшему всю жизнь народ, сказать, что во многих приключившихся с ним несчастьях виноват сам народ. Вот одна из записей в дневнике: «Все в сомнениях насчет письма. Не похожа ли на выпендривание моя затея?
И потом, потом — не отвод ли это грозы от начальства? Не пособничество ли объективно? Может, и пособничество. Да где же выход? Пока народ не возьмется за свои дела сам — ничего не будет. А кроме того, надо, очень надо помыть и поскрести наших людей».
И далее: «Кадение народу, беспрерывное славославие в его адрес — важнейшее зло.
Оно усыпляет народ, разлагает его.
Написать статью.
Культ, какую бы форму он ни принял, — всегда опасен для народа».
Конечно, Абрамов смутно представлял себе, как народ сам будет браться за свои дела, но одно он твердо знал — кивать на дядьку, на начальника, который во всем повинен и, если захочет, то приедет и рассудит, значит обманывать себя.
Он еще более утвердился в этом чувстве, когда увидел, как земляки отреагировали на его «Письмо». Сначала они радовались, даже попрекали Абрамова, что он мало сказал правды, что-то где-то подправили, что-то починили, провели собрания, пошумели... и все пошло по-старому. И вот еще одна запись в дневнике «Подохли еще два теленка-ха-ха... Нет, «Письмо» не прошибает веркольцев.
А как ответили механизаторы на мои призывы? Три раза проехали по подгорью на тракторе с могучей волокушей. На-ко, писатель, посмотри! Плевали мы на тебя. Делали как раньше, так и будем делать.
...У веркольцев одна психология: дайте... И никакого стыда!»
«Чем живет народ?» — спрашивает Абрамов. И отвечает: старики по привычке ворчат — недовольны бесхозяйственностью. Но валят все не на центральные власти, а на местные. «А молодежь и местные власти не ругает. Чего нервы портить?
Платят — и ладно. Мы — работяги, и все».
«Раньше все были помешаны на мебели (стерванты), теперь новое соревнование —у кого больше золота». Золото, ковры. «Полное омещанивание деревни, страны».
Записи Абрамова колеблются между восторженным отношением к народу, к людям из народа и — отчаянием из-за невозможности что-либо сделать, чтоб разбудить народ. «Ах, какие у нас добрые корни! Какой народ!» — восклицает он в одном месте, в другом его чело покрывают тучи: «Думано ли когда, что доживем до поры, когда люди будут тяготиться, проклинать хлеб?.. Дико, дико: хлеб не нужен ни людям земли, ни людям власти. Противоестественность, возведенная в закон... Ужас! Люди проклинают урожай — вот до чего мы дожили».
Достаточно Абрамову встретить хорошего работника, умелого мастера, хозяина, как он ликует, летает душой — в дневники проникает поэзия, родственная поэзии его романов. Но как только он видит запущенных в жито коней, которых людям лень выгнать из хлебов, он падает в настроении. «Влюблен в жизнь безумно, безраздельно», — читаем мы на одной странице «Все, все на свете отвратительно», — на другой.
Абрамов, как он признавался, ездил на Север «за волей». А волю он воспринимал не только как свободу природы, вида, который открывался с высокого берега над Пинегой, но и как свободу творчества личности, в чем бы она ни проявлялась, в каком бы деле ни находила себе применения. Он рассуждает о том, что деревня «чужда личностному началу», а какие переделки ни предпринимай, человек все же делает себя сам. Личность — это не только сильные руки, талант, природный ум, но и способность к «социальному мышлению». У нас, пишет он, социальное мышление в деревне, можно сказать в зародыше.
Именно на это социальное мышление, которое он хотел бы развить, пробудить, вызвать к жизни, и напирает Федор Абрамов. От него он ждет каких-то результатов, каких-то перемен не только в Верколе, но и в стране.
Вот почему его врагом становятся «пассивность» и «равнодушие» и некий социальный идеализм. Посетив места, где была первая на Пинежье коммуна, Абрамов восхищается самоотвержением мужика, который, бросив все — дом, землю и скотину, пошел в коммуну. Он даже видит в этом какую-то загадку русской души: «русские донкихоты, романтики, это крестьяне-то!» А после, узнав, чем привлекла мужиков коммуна, ругает себя: «Философствовал, философствовал, мудрствовал... гадал-гадал, а оказывается все до глупости просто: коммуна жила на всем готовом за счет государства. Горы ржаного хлеба. Тазы масла... Пока государство платило, все жили. А перестало — первыми драпанули партейцы».
Переносясь мысленно от прошлого к настоящему, Абрамов более всего беспокоится о молодежи. Он винится перед этой молодежью в том, что не может ничего о ней написать. Дневники Абрамова тем и прекрасны, тем и прекрасна его исповедь, что она обращена в две стороны: на народ и на саму личность писателя. Думая о необратимых переменах в народе, в крестьянстве, Абрамов с такой же суровостью заглядывает и в свою собственную душу. «Получилась ли моя лучшая книга?» — задает он себе вопрос, имея в виду роман «Дом». И отвечает: «Нет, конечно».
Он несет мысли своих дневников в следующий роман, который хочет посвятить истории России, интеллигенции и народу. «И сейчас надеюсь на роман о России, о путях ее развития».
Записи дневников — как бы черновые записи к этому роману. В нем Абрамов хочет предстать перед самим собой и перед родной деревней чистым от заблуждений, от ложных идеалов, от донкихотства.
Повторяю, к этому донкихотству, он относит и культ народа. Абрамов равно не приемлет и культ личности — если отнести его к определенной эпохе истории — и культ массы, культ большинства, который так же страшен, как и культ кумира.
Вопрос о кумире, об авторитете, об идеале — не праздный для литературы вопрос. Я всегда считал и сейчас готов настаивать на том, что идеалом писателя, его мечтой, примером, который он хотел бы подать людям, является не так называемый положительный герой, не совершенный во всех отношениях персонаж, а сам этот писатель, потому что народ отдает писателю лучшее, что имеет у себя, передает ему, чтоб он этот народ и научил.
Истинный писатель так или иначе герой своего произведения. Литературный герой никогда не получит сверх того, что есть в писателе, что заложено в его личности. Если Гоголь говорил, что он, избавляясь от своих пороков, передал их героям, то он тем самым и создал в своих писаньях положительный образ самого себя, не желающего иметь с этими пороками ничего общего. Проблема героя, проблема идеала — это проблема писателя, и если в писателе есть движение, есть развитие, есть «падения» и «восстания», о которых писал Достоевский, то это залог его бессменного влияния на общество, на публику, на литературу.
Дневники Федора Абрамова, вмешиваясь в хор нашей прозы, открывают душу беспокойную, склонную к самоказни, к пересмотру позиций, к развенчиванию собственных иллюзий. Трудно предсказать, к каким бы утверждениям пришел Абрамов, но то, что он шел, а не стоял, мучительно переоценивал идеи, которые еще вчера ему казались незыблемыми, непреложный факт.
Что же касается Василия Белова, то мне кажется, что он в последнее время остановился. Меня нисколько не страшит неудача Белова, художественная неудача, которую он потерпел, опубликовав «Все впереди». Год назад мы читали его прекрасный рассказ «Такая война» — дар Белова не увял. И как личность Василий Белов не стоит в стороне от того, что происходит в стране. Его голос — среди других голосов — помог остановить переброску рек.
Но как мыслитель, как историк, как социальный писатель Белов буксует. Все, что он высказал в своем романе, он высказывал раньше в статьях, пьесах, городских повестях. В этом смысле он повторяется. Он и в «Ладе» прошел мимо темной стороны в жизни деревни и уклонился от ее описания. Идея лада возобладала тогда над реализмом
И сейчас, перекладывая вину на город, на мировую цивилизацию, на машину и машинную культуру, Белов перекашивает пропорции в картине. Он как бы видит одну ее часть и не видит другой. Он просто не смотрит туда, куда ему не хочется смотреть. Вот отчего «перекашивается» его язык. Вот отчего его роман приобретает прокурорские интонации. «Юпитер, ты сердишься, — хочется сказать Белову, — потому что ты неправ».
Искусство есть примиренье с действительностью, писал Гоголь. Но искусство есть также примиренье действительности. И если в действительности идет война, если ею верховодят вражда и разлад, то кто же, кроме писателя, внесет в нее мир?
Роман Белова не мирит, не соединяет. Может быть, Белов считает, что прежде, чем объединиться, нужно размежеваться? Но это не идея литературы.
Даже терминология Достоевского («бесы») не выручает Белова. Философия «бесовства» остается за порогом романа. Рассуждения о боге, о дьяволе, о мировом зле обрываются на полуслове. И весь роман — это полуслово, недоговоренное слово, недопроявленная фотопленка. Какие-то силуэты проступают на ней, какие-то светлые пятна заявлены, но ни света, ни тьмы нет — одни разводы от недопромывшего пленку проявителя. Белов посягает на такое противопоставление как противопоставление культуры и цивилизации. Так и углубляйся в эту мысль, доходи до «краев» ее, копай, копай и копай, а не спеши выбраться на поверхность. Но ни автор, ни его герои не готовы для этого — на философский спор у них не хватает дыхания.
Так почему же роман назван романом? Где роман?
Можно, конечно, пользоваться тем, что оставили нам классики, ссылаться на них, по в познании современного мира писателю может помочь только современная мысль. От независимости этой мысли, от ее культуры, свободы, от умения давать самостоятельные заключения о том, что видят наши глаза, и зависит лицо романа.
* * *
Роман вообще не дается нашей прозе. Под каждым третьим сочинением, публикующимся в журналах, читаешь слово «роман», но роман остановился на «Тихом Доне» и «Мастере и Маргарите», — что-то романом не пахнет.
Обретя свободу говорить правду о фактах, литература еще не обрела свободы говорить правду о целом. Чингиз Айтматов в «Плахе» пытается это сделать. Он связывает гонцов за анашой с поисками абсолютной истины, жизнь волков в Моюнкумской саванне с бригадным подрядом — но роман рвется на части из-за несоединимости частей, он состоит из кусков, новелл и, если хотите, тем.
Одна тема — это тема Авдия Каллистратова и тема новой веры, другая — тема защиты природы и естественности жизни волков на фоне жизни людей, третья тема — «современные вопросы», включая бригадный подряд, вопрос о свободе инициативы (история Бостона в третьей части) и партийной бюрократии.
Каждая из этих частей и тем могла бы существовать отдельно, и они существуют отдельно, лишь внешне связанные историей волков, в которую втянуты и Авдий Каллистратов, и группа Гришана, и хунта Кандалова, и Кочкорбаев — главный противник Бостона.
Есть в «Плахе» прямые совпадения с «Пожаром» В. Распутина, есть пересечения и с романом Белова. Пожар, выгоняющий волков из камышей и заставляющий их искать убежища в горах, — тот же огонь, что пожирает склады в Сосновке в «Пожаре». Плутания Авдия Каллистратова по дорогам своей мысли похожи на плутания Медведева в романс «Все впереди». Авдий и Медведев — два близких друг другу по духу человека, которые ищут один и тот же выход из одних и тех же обстоятельств.
Они, к огорчению, похожи друг на друга и тем, что оба плохо написаны. Авдий — фигура условная, литературная. Она нужна Айтматову, чтобы высказать свои мысли по поводу новохристианской религии, по поводу «новомыслия», которое отрицает старую церковь и хочет искать Бога и церковь в миру, среди падших и пропавших. Восстав против правил ортодоксии, Авдий уходит из семинарии и поступает на работу в комсомольскую газету, где, однако, служит Богу и пытается наставить на путь истинный то команду охотников за наркотиками, то рассвирепевших алкашей, которые подбирают в саванне убитых зверски сайгаков.
Все пассажи с Авдием кажутся мне натяжкой и большим преувеличением Айтматова. Его споры с отцом Координатором, идейные препирательства с Гришаном, который подражает Великому Инквизитору из романа Достоевского «Братья Карамазовы», его любовь к Инге, его проповеди, его фантастическое пребывание в Иерусалиме во время суда над Христом и казни Христа — все это, как сказали бы в старину, от лукавого, а точнее — от ума, от необходимости задеть именно эту чувствительную струну жизни общества.
Единственное, для чего бы сделал исключение, это прекрасная молитва о Мореплавателе, которую шепчет засохшими губами Авдий Каллистратов, и сцена его убийства хунтой Кандалова. И не столько самого убийства (акт распятия опять-таки кажется мне натяжкой), сколько допросов и пыток, учиненных ему в саванне. Здесь Айтматов выходит на живую историческую боль, и на эту боль не может не откликнуться сердце читателя.
«— Так ты нас, сволочь, Богом решил устрашить, страху на нас нагнать, глаза нам Богом колоть захотел, гад ты эдакий! Нас Богом не запугаешь — не на тех нарвался, сука. А сам-то ты кто? Мы здесь задание государственное выполняем, а ты против плана, а ты против плана, сука, против области, значит, ты — сволочь, враг народа, враг народа и государства. А таким врагам, вредителям и диверсантам нет места на земле! Это еще Сталин сказал: «Кто не с нами, тот против нас». Врагов народа надо изничтожать под корень! Никаких поблажек! Если враг не сдается, его уничтожают к такой-то матери... А ты, крыса церковная, чем занимался? Саботажем! Срывал задание! Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя придушу, выродка, как врага народа, и мне только спасибо скажут, потому как ты агент империализма, гад! Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется?»
Этот вдохновенный монолог Обер-Кандалова (в романе его зовут еще и Обер — как старшего) сразу отбрасывает нас на сорок лет назад. По словам узнаем то время, по словам. По лексике, которая еще не отзвучала в наших ушах. Мат мешается в этих речах с «высокими» цитатами, блатной язык — с лозунгами, страх — с ненавистью. Педераст и уголовник Обер-Кандалов кричит Авдию Каллистратову, который валяется у его ног избитый: «я твоя власть», — и, переходя на веселый тон, затягивает песенку:
Мы натянем галифе, сбоку кобура,
Раз-два, раз-два...
Песенка эта очень напоминает времена гражданской войны и военного коммунизма, которые тоже поминаются в «Плахе». В самом начале романа Айтматов пересказывает балладу-рассказ «Шестеро и седьмой», где повествуется о событиях, происшедших в Грузии во время гражданской войны. Седьмой — чекист — должен уничтожить оставшихся шестерых из отряда Гурама Джохадзе. Он слушает, как они поют прощальную песню, перед тем как расстаться друг с другом, и убивает их. Но поскольку он только что сам пел эту песню с ними, поскольку бремя жестокости, возложенное на него, слишком тяжко для его сердца, он кончает и с собой. Таков сюжет баллады «Шестеро и седьмой».
И вот здесь, прежде чем пересказать эту историю, Айтматов цитирует тот самый заголовок статьи Горького, который потом упомянет при пытках Авдия Каллистратова Обер-Кандалов: «Если враг не сдается — его уничтожают». Айтматов оспаривает эти слова. Он пишет: «Действует основной в таких случаях закон — если враг не сдается, его уничтожают. Но жестокость порождает ответную жестокость — это тоже давний закон».
Обер-Кандалов, придавая этому афоризму еще более зловещий смысл, как бы намекает, что он читал знаменитую статью Горького в ее первом варианте. Дело в том, что в газете «Известия», где эта статья была опубликована 15 ноября 1930 года, она называлась еще резче: «Если враг не сдается — его истребляют». Статья эта, как известно, была посвящена проходившему тогда в Москве процессу Промпартии.
Оспаривая постулаты тридцатых годов, Айтматов оспаривает не мертвые истины. Для кого-то они еще живые. И я верю, что речь Обер-Кандалова могла быть произнесена в восьмидесятые годы в Моюнкумской саванне.
Дай такому человеку власть, он, как говорит Кандалов, весь земной шар обхватил бы обручем, сжал его покрепче, всех несогласных бы перевешал (и это его собственные слова), а остальных заставил бы ходить по струнке.
«Я здесь суд! — провозглашает на всю саванну Обер-Кандалов, посылая на смерть Авдия Каллистратова. — ...Да, может его волки задрали. Кто видел? Кто докажет?»
Для Авдия Каллистратова — если не видели люди, то видел Бог. Для Обера Бога не существует. Потому нет для него и Страшного суда. Он плевать хотел на вечность, если он хозяин настоящей минуты, если он обосновался в этой минуте как господин.
Для Обера нет Бога, есть только кесарь. И если кесарь умер, кесарь растворился в небытии, для Обера он жив, он живет в нем, в его верности заветам кесаря.
Поэтому тема кесаря, тема власти и противостоящего этой власти свободного человека — главная тема той части, где у Айтматова встречаются Иисус Назарянин и Понтий Пилат. Не вопрос «что есть истина» интересует в этой части Понтия Пилата, а вопрос, что есть власть и закон этой власти по отношению к закону внутренней свободы, который есть евангелие человека.
Если в соответствующих сценах в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Христос под именем Иешуа выступает как аналог автора, аналог Мастера, поэта, то в «Плахе» он представлен как реформатор, как революционер, как сын обиженных и гонимых, который отрицает власть кесаря и обличает «зло властолюбия», провозглашая мир «без власти кесарей».
При этом Айтматов обмирщает Христа, придав ему детские воспоминания о матери, о страхе, пережитом на реке, когда их лодку хотел опрокинуть крокодил, о тепле материнской груди. У Христа в «Плахе» «синие глаза», он бледнеет от страха, думая о своей смерти, и он по-мирски гордится своим превосходством над Пилатом. «Пока я стою пред тобой, как бренный человек, ты вправе спорить», — говорит он Пилату. «На то и родился я на свет, чтоб послужить людям немеркнущим примером». Все это, как и слова, обращенные к тому же Пилату: «Ты останешься в истории... Навсегда останешься», — сказанные с особым значением и сопровожденные особым взглядом, есть не что иное, как мирская гордыня, а не чувства Богочеловека.
Айтматов «опускает» Христа на землю и ставит его рядом с Понтием Пилатом, хотя и по разные стороны истины. Христос вспоминает мать; Понтий Пилат ведет мысленный диалог с женой — жена, как и в Евангелии от Матфея, посылает ему записку. Только в тексте Евангелия ничего не сказано о чувствах женщины, которые вызвал у нее молодой проповедник. В романе Айтматова она намекает мужу, что он понравился ей своей красотой.
Христос у Айтматова скорей социальный пророк и социальный оптимист, нежели сын Бога. Он сын земной матери, и его помыслы устремлены на земное устройство дел человека, хотя он видит в будущем Земли немало катаклизмов. Он видит даже в своих пророчествах атомную войну, но надеется, что люди сами сотворят второе пришествие и ему не надо будет приходить к ним, ибо они сами придут к нему, то есть к идее торжества социальной справедливости «В людях вернусь к людям», — провозглашает он свою программу, обещая Пилату крушение единовластия и идеи господства человека над человеком.
Если у Михаила Булгакова диалоги Иешуа и Пилата, проходившие в том же самом месте и при той же аранжировке, что и у Айтматова, перебрасывались в историческую атмосферу тридцатых годов с их подозрительностью и властью навета, то в центре тех же сцен, явившихся на свет в 1986 году, стоят дух и споры восьмидесятых годов Айтматов «заземляет» их на свое время.
В этом есть необходимость и есть расчет. В этом видно и упрощение тем великой книги, канвы которой волей-неволей держался Чингиз Айтматов.
И еще одну подробность замечу при этом. Если, эстетизируя Евангелие, Булгаков уходил от простоты первоисточника (вспомните две белые розы, плавающие в луже красного, как кровь, вина на балконе Дворца Ирода, и белый плащ Понтия Пилата с кровавым подбоем, а также пронзительную красоту лунной ночи, в которую убивают Иуду), то Айтматов откровенно пользуется им для афористического сопоставления с нашим временем. Он огрубляет и спрямляет черты первоисточника, выводя его из сферы поэзии в сферу современно-публицистическую, низводя на тот уровень спора, где идут пререкания Авдия Каллистратова с Гришаном или Авдия с Обер-Кандаловым.
Великое и высокое забивается в романе Булгакова красотой, в романе Айтматова —пользою.
Конечно, это эксплуатация высокой темы, конечно, то, что было естественным для Булгакова — человека той культуры, где христианская легенда свободно входила в художественное бытие, — кажется не совсем естественным для Айтматова. К тому же Авдий Каллистратов молится перед смертью двум богам. Он молится сначала волчице («Спаси меня, волчица»), а потом Учителю, как он называет Христа.
Это раздвоение, несообразности, литературные подстановки видны невооруженным глазом в «Плахе». Айтматов во что бы то ни стало хочет влить в старые мехи новое вино, но вино это отделяется от мехов, не может с ними соединиться. Волчица Акбара молится своей богине — волчице Луны, Авдий молится Акбаре — кто Бог — Бог или зверь? Это вопрос законный, потому что в романе Айтматова человек и зверь сближаются, а в иные моменты зверь кажется благородней человека, умней человека.
И тут мы переходим к теме волков. Думаю, что всякий согласится со мной, что ей отданы лучшие страницы «Плахи». Здесь нет, как в предыдущих сценах, заимствования, игры, переклички, дублирования, а есть пылающая саванна, горе матери Акбары, жуткие картины истребления сайгаков.
Кажется, слышен треск горящих камышей, слышен душераздирающий вой волчицы, оплакивающей своих волчат, слух разрывают выстрелы, гремящие с грузовиков и поражающие бедных животных. Кому-то в голову пришла мысль выполнить план по мясу, которое недодала область, с помощью этого отстрела. В саванну были брошены вертолеты и грузовики, вездеходы, и вся эта техника обрушилась на беззащитных сайгаков. «Сплошная черная река дикого ужаса» катится по степи, гонимая машинами и вертолетами, и кажется, само солнце несется, гонимое вместе с стадами сайгаков (таким оно видится мчащейся с сайгаками Акбаре), и «лик человека» является волчице в виде убийцы с автоматом и в очках-наглазниках, орущего в микрофон команды: «Стреляйте по краям! Бейте по краям!»
Сайгаки беззвучно валятся бездыханными от разрыва сердца и прошитые автоматными очередями, их кровь смешивается с пылью саванны, но побоище не прекращается. Окровавленных животных раскачивают за ноги подборщики из хунты Кандалова и бросают в кузова грузовиков.
Хунта, Гришан, главарь сборщиков анаши, являющихся одновременно и палачами и жертвами, Базарбай, который выкрадывает у волчицы волчат, чтоб пропить их с дружками, парторг Кочкорбаев, пишущий доносы на справедливого и честного Бостона, — вот «бесы» Чингиза Айтматова, которым он готов противопоставить даже волков. Те хоть убивают по потребности, для пищи, для продолжения рода. Эти готовы стереть в прах все живое — все, не похожее на них.
Роман, как я уже сказал, распадается на куски, на суверенные существования разных сюжетов, которые, формально пересекаясь, перекрещиваясь, продолжают жить самостоятельной жизнью: одни — как публицистика, как декларация Айтматова, другие — как проза, как картины, как текст, в котором поэтическое чувство сильней умысла.
Но и здесь у Айтматова есть срывы и передержки. В третьей части, где рассказывается история Бостона и где все движется к кровавой развязке, слишком много крови и смертей. Смерть Эрназара в горах нужна Айтматову, чтоб свести Бостона с его женой, чтоб родился Кенджеш; с одной стороны — дитя любви, с другой — дитя греха. Потому что Эрназар погиб отчасти по вине Бостона. Но смерть эта превращается в некоего идола смерти, в образ замерзшего в горах мертвеца, покрытого льдом, вечного спутника, обремененного виной сознания Бостона. Описания замерзшего навеки в горной расщелине Эрназара отдают театральностью.
Так же ложной кажется мне и смерть Кенджеша. Разве что это предопределено было, рассчитано автором — и поэтому не могло не случиться. Но с самого начала, как мальчик появился в романе, я понял, что он погибнет. И что волчица, мстя за отнятых у нее детей, унесет его. Но Айтматов пошел на еще более явный эффект. Он заставил Бостона — меткого стрелка и охотника — убить своего сына той пулей, которую Бостон предназначал волчице. Пуля эта чудесным образом убила сразу и Акбару и Кенджеша.
Смерть Ташчайнара, смерть волчицы, смерть Базарбая, смерть Эрназара, смерть Кенджеша — окончанье «Плахи» переполнено смертями. Но если говорить по совести, то только одна смерть и запомнилась мне — смерть Базарбая. Этот взрыв был неумолим. Бостон должен был его убить. Он должен был так поступить, потому что не мог больше терпеть издевательств Базарбая и сам факт его существования на земле и потому что он обязан был бросить вызов философии Авдия Каллистратова, который бы никогда не поступил так на его месте.
Он преступил заповедь «не убий» и тем самым, совершив суд над человеком- зверем, преступил и нравственный закон, согласно которому жизнью человека распоряжается только Бог. Если б Айтматов остановился только на этой смерти, то какие-то концы его романа-манифеста связались бы, тезис вошел бы в соприкосновение с антитезисом, но он решил разом вырезать в романе всех, и оттого нити не связались, роман не состоялся как роман.
Об этом грехе и ответственности за чужую погубленную жизнь и размышляет в восьмидесятые годы Агеев, которого никто ни в чем не винит, не обвиняет. Винит и обвиняет его только собственная совесть.
Агеев перерывает почти весь карьер и ничего не находит. Он уезжает из поселка; где он когда-то прятался от немцев в годы войны и где произошла эта трагическая история, с сомнениями. Он не знает, жива или нет эта женщина, и он не знает, наказал он себя или нет — боль сжимает его сердце, и слезы стоят в его глазах.
Странные поступки Агеева вызывают недоверие среди жителей поселка, кто-то даже доносит на него, что он подозрительно копает землю, копает в том месте, где ничего нет, и являются «ревизоры», чтоб согнать его с этого места, потребовать объяснений. Ему не верят, как не верили когда-то те, кто послал ему во время войны мешок с «мылом» — мешок взрывчатки, с каким и отправил Агеев Марусю (так звали женщину) к своим на станцию.
Нет, думает Агеев, несмотря на то, что он действовал в общих интересах, несмотря на то, что за его поступком стояла общая воля и общая польза, он не мог так рисковать чужой жизнью. Ибо человеческая жизнь стоит на первом месте «истинного кодекса непреходящих ценностей».
Идея общей пользы не способна оправдать в глазах Агеева этой потери. И, несмотря на неумолимость этой идеи, несмотря на то, что он всю жизнь жил ею, Агеев на склоне лет сомневается в этом.
Быкова уже критиковали за эти сомнения. Ему даже приписывали кокетство с боженькой. Но Быков вывел в повести попадью Барановскую, которая спасает командира Красной Армии от немцев. К ней, а не к кому-нибудь другому, приводят Агеева на постой. Она прячет его в своем доме, зовет доктора, чтоб тот вынул из ноги Агеева осколок, кормит и поит его и, наконец, отдает Агееву одежду сына, погибшего в начале войны. Она и имя своего сына отдает раненому офицеру, как бы заочно усыновляя его.
Быков вновь, как и в «Знаке беды», относит нас в двадцатые годы, когда классовая битва расставляла людей по обе стороны баррикады. И он показывает, как страшно измотали народ эти баррикады. Как переменились роли, когда грянуло такое испытание, как война. Иные из тех, что были на подозрении и считались «не нашими», стали «нашими», а кто-то из тех, кто больше всех кричал и клялся в верности отечеству, предал отечество.
Все это старые коллизии Быкова, но в «Карьере» они осложняются образом Барановской — жены человека из духовной среды, из тех классов общества, которые почитались у нас навсегда заклейменными. Быков восстанавливает доброе имя тех, кто был отторгнут от народа силой, а на деле душой и сердцем принадлежал ему.
Семенов — человек, все изведавший на войне, побывавший и среди полицаев, спасший из их рук одного из руководителей партизанского отряда, умиравший перед колючим заграждением немцев и оставшийся живым. Рассказы Семенова доносят до нас кровавое эхо войны, эхо великой путаницы, в которую попадал человек на войне и из которой ему помогала выпутаться только его собственная воля. Выслушав одиссею Семенова, Агеев говорит сыну: «Возможно, ты и не поймешь. Потому что вы поколение, далекое от того времени. Не по объему знаний о нем, нет. Знаний о войне у вас хватает. Но вот атмосфера времени — это та тонкость, которую невозможно постичь логически. Это постигается шкурой. Кровью. Жизнью. Вам же этого не дано. У вас свое. А что касается войны, то, может, вам достаточно верхов, что поставляет массовая информация. Там все стройно и логично. Просто и даже красиво. Особенно когда поставленные в ряд пушки палят по врагу».
Сын у Агеева не так уж плох, но и он не понимает, почему Агеев приехал копать этот карьер. Он видит в этом причуду своего отца, который, безусловно, отстал от времени, устал, живет прошлым. Но без прошлого — и тут мысль Василя Быкова сближается с мыслью Василия Белова — и настоящее ничто. Беспамятство, короткая память укорачивают самого человека, тот, кто смотрит на одного Бога — Бога-Завтра, как называет его Чингиз Айтматов, не верят ни в Бога, ни в дьявола.
Вот почему всякое напоминание памяти, всякое свидетельство памяти для нас бесценно. Тем более оно дорого, если изымается живым из того времени, к которому относится, если налет обработки еще не лег на него.
Таким криком и свидетельством памяти является повесть Константина Воробьева «Это мы, господи». Повесть эта извлечена из архива, где она пролежала сорок лет. В 1943 году К. Воробьев написал ее, а в 1946-м она попала в журнал «Новый мир», откуда с архивом журнала была передана в ЦГАЛИ.
Поразительно, как эту вещь мог написать двадцатитрехлетний юноша, почти мальчик, если считать, что наши старшие братья — люди его поколения — почти мальчиками заканчивали войну. А он ее еще не закончил, хотя прошел бои под Москвой, лагеря военнопленных, партизанский отряд, подполье. Он и повесть эту написал, получив передышку на месяц, прячась от немцев под крышей одного из домов в Шяуляе. Опыту юноши, мальчика, пережившего больше, чем пережили иные старики, было тесно в границах повести, и он выстроил ее как монолог, как отчет о событиях, участником которых он был. В повести нет сюжета, нег интриги, нет закатов, восходов, нет лирических отступлении. Она вся антилитературна, хотя в ее неумелом слоге видны литературные заимствования. Но цивильное слово лопается, трещит по швам под напором мощного чувства, разрывающего его. Наверх просится боль, одна боль — тоска и мучения живого тела, подвергающегося унижениям и пыткам, и тоска и боль сознания, как лазерный туч направленного в одну точку: выжить.
Неистовая воробьевская раскаленность, перенесшаяся потом в повести «Убиты под Москвой», «Крик», «Тетка «Егориха», в рассказы, которые К. Воробьев напишет позже, много позже, — не покрылась окалиной. Она жжет и по сию пору. С войны сорвана романтическая пелена. К. Воробьев в 1943 году пишет так, как проза наша не решалась говорить о войне тридцать лет спустя и, может, только в повестях того же К. Воробьева сумела глянуть на ужас войны открытыми глазами.
Уже в те времена К. Воробьев знал, что если уж писать, то надо писать правду, что раннее лукавство писателя влечет за собой и лукавство позднее, что неправда, нарастая, перерастает в ложь, в надругательство над памятью погибших.
Это повесть страданий, это показания частного человека, жизнь которого, казалось бы, не имеет решающего значения в мировой истории, но К. Воробьев не признает мировой истории, которая не учитывает эту жизнь.
Вот пейзаж К. Воробьева и картина лагеря, как бы вырванная из действительности крупными мазками: «Низко плывут над Ржевом тучи-уроды. Обалдело пялятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятня крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стая ожиревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глотают мутные сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем, ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.
Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все — костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть... Зацепился за пересохший рот тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг:
—Ххле-епп, ххле-еп... хле-е... »
Героя повести К. Воробьева убивают несколько раз и не могут убить. Его убивают голодом, холодом, унижением, страхом, но ни голод, ни холод, ни страх не берут его. Герой не теряет свой облик даже в обстоятельствах, при которых и терять лицо не позорно, не стыдно. «Это мы, господи», — стоическая поэма о смерти и о воле к жизни у человека, который хочет не просто выжить, но выжить как человек.
И то, что К. Воробьев, как и В. Быков, ставит в центр одну человеческую жизнь, одну судьбу и дрожит над ней так, как будто это судьба и участь целого народа, высоко поднимает его прозу и сорок лет спустя после ее создания.
Значит, правда не имеет свойства ржаветь и стариться. Значит, высказанная однажды, она живет долго, если не вечно.
И еще одно извлечение из памяти было сделано в прошлом году в нашей литературе — появился на страницах «Знамени» давний роман Александра Бека. Видимо, отклоненный, как и повесть К. Воробьева, по причине правды, заключенной в нем, он все же дождался своего часа.
Повесть К. Воробьева — крик, яростный вопль о правде, роман А. Бека «Новое назначение» — почти протокол, «отчет», как он сам называет его, хроника-исследование, документ, монография о жизни государственного человека. О своем герое Онисимове А. Бек пишет: «Бывший председатель комитета продолжает взволнованный рассказ, торопится поведать еще многое. Порой он говорит скомкано, сбивается и, конечно, не живописует». Эти слова — точный портрет прозы самого Александра Бека.
Государственный человек Бека предстает перед нами в момент ломки, переделки всей жизни, которая качается теперь у него под ногами, уходит из-под ног, как уходит из- под ног земля во время землетрясения. То, что произошло на XX съезде партии, — и стало для Онисимова землетрясением, от последствий которого он не может оправиться, после которого он не может встать. Бывший колосс эпохи Сталина, заведенный, как автомат, на один цикл, на один режим работы, при перемене режима рушится, не выдерживает. Как та кибернетическая машина, которая поминается в романе, он — при получении двух разных по своему характеру заданий — сотрясается от дрожи.
«Солдат партии», «железный человек», «человек-машина», он и сейчас не меняет своих привычек, одевает все тот же галстук, безукоризненно чистые и накрахмаленные воротнички, он тверд, подтянут, выбрит, он умеет прятать свои чувства и повелевать ими, но внутри его пусто, так же пусто, как в холодной от нежилого духа и пустой квартире Онисимова, заставленной, однако, резной мебелью. Но эта мебель не ждет гостей, стулья стоят в чехлах, ваза для цветов не заполнена цветами, одни портреты генералиссимуса висят на стенах в столовой, гостиной и в кабинете. Позже Онисимов повесит этот портрет даже в спальне, когда станет послом и переедет в Тишландию.
Да, его ссылают в эту северную страну. Его отстраняют от дел, от руководства промышленностью только за то, что он неосторожно высказался о темпах не устраивающих его перемен. На дворе 1957 год, а герой Бека все еще живет так, как будто не было ни 1953 года, ни 1956-го.
Онисимову кажется, что все еще качается, что маятник не установился, что его, быть может, позовут обратно, но надежды эти тщетны: «замершие часы истории» замерли только для таких, как он. Веровать в двух богов он не в состоянии, молиться двум кумирам он неспособен. Онисимов уходит фактически и физически. Его тело, переставшее сопротивляться благодаря ослабшей воле, поражает рак.
А. Бек вводит в роман и исторические фигуры Сталина, Берии, Тевосяна, Серго Орджоникидзе. Сталин в его романе вовсе не тот многозначительный подаватель реплик, величественная восковая персона, которая возникала тут и там в прозе последних лет, а человек низкого роста, с низким лбом, со щербатым лицом, незначительный на вид, но умеющий держать в руках многомиллионную страну. Это «хозяин», как зовут его в романе и, как мы помним, звали его в жизни, — деспот и капризный монарх, который своевольно играет судьбами людей, в том числе и судьбой Онисимова.
Сталин взят А. Беком в эпоху «старчества», когда все еще вокруг повиновалось ему, когда летели головы и трепетали души, но когда уже самое верное окружение начало роптать на него, когда его резкие поступки стали видны как нелепость, как анахронизм — впрочем, они всегда были такими, но слепота при взгляде на Сталина ослепляла многих.
Сталин играет судьбой Онисимова, играет с ним, как кот с мышью, то отталкивая его и щекоча острыми когтями, то лаская и приближая. Апогея эта игра достигает в 1952 году, когда Сталин навязывает Онисимову проект инженера Лесных, выдвинувшего идею бездоменного получения стали. Этого Лесных откопал в Сибири Берия, дал тому возможность в подведомственных ему лагерных лабораториях получить ничтожную долю этой стали и выставил успех Лесных против Онисимова. Онисимов, еще ранее изучавший предложение Лесных и отвергший его вместе с авторитетной комиссией, как несвоевременное, вынужден выслушивать разносы Сталина и вновь испытывать тот страх, который он уже однажды пережил в 1937 году.
Тогда Сталин арестовал его брата, Онисимов заступился за него, но Сталин приказал ему о брате больше не думать, сделав оговорку, что к нему, Онисимову, он никаких претензий не имеет. Жизнь Онисимова тогда была куплена ценой жизни брата.
И все-таки Онисимов хранил записку Сталина, где выражалось доверие вождя к нему, как «талисман». Этот «талисман», как считал Онисимов, спасает его от Берии, впрочем, так считает и А. Бек. А мы склонны усомниться в этом, так как никакая записка Сталина, никакой знак личного внимания Сталина не могли спасти человека, если Сталин хотел расправиться с ним. Он, наоборот, перед тем, как отдать очередное распоряжение об аресте, приближал к себе жертву, оказывал ей эти видимые всем знаки внимания, а потом, наверное, втайне радовался, нанося ей неожиданный удар.
Конечно, Онисимов у А. Бека «верующий», но парадоксы его веры подчас весьма причудливы. Так, в сцене со Сталиным и Серго Орджоникидзе он беспрекословно берет сторону Сталина, хотя и не знает о существе спора, который вели между собой Сталин и Орджоникидзе. Онисимов из другой комнаты слышит разговор Сталина и Орджоникидзе, пытается уйти через переднюю, чтоб не быть свидетелем спора двух вождей, но Сталин останавливает его и спрашивает, кто из них прав — он или Серго. И хотя разговор тот шел на грузинском языке и Онисимов, даже будь он рядом, все равно не смог бы понять в нем ни слова, отвечает: «Вы правы, товарищ Сталин».
Также соглашается он со Сталиным и принимает к исполнению его приказ начать строительство завода для производства стали по методу Лесных, хотя как инженер, знающий суть дела, не верит в эту затею, даже противится ей. Но ему приказал Сталин, и он говорит: слушаюсь. Подчиняясь Сталину, выполняя его волю, он не может, однако, унять внезапно вспыхнувшей дрожи рук — и отныне дрожание рук поражает его навсегда.
И еще об одном парадоксе веры. Вспоминая годы во время войны и твердость Сталина, проявленную им тогда, Онисимов опирается на эти годы как на нечто святое и незыблемое. Но он делает вид, что не понимал и не знал, что многие предприятия тяжелой промышленности, стройки, дороги, послевоенное освоение Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока делалось за счет бесплатного труда заключенных. «Ведая, как и раньше, органами внутренних дел, — пишет А. Бек, — Сталин еще со времен тридцать седьмого года поставил их как особое свое орудие над самыми высшими органами партии и государства — Берия постепенно стал охватывать и ряд народнохозяйственных задач, год от года более крупных. Ни одно большое строительство уже не обходилось без его участия. Распоряжаясь Главным управлением лагерей, сосредоточив на ударных стройплощадках неисчислимые колонны заключенных, он командовал возведением новых мощных гидростанций или, как говорилось тогда, великими стройками коммунизма. В этом — позволим здесь себе строчку авторского отступления, — пожалуй, обнаженно выступал трагический парадокс времени.
Впрочем, Онисимов, тот, каким он был тогда, докладывая Сталину проблему восточносибирской металлургии, не знавал даже и мысли о парадоксах, о противоречиях эпохи».
И, чтоб усилить впечатление о «незнании» Онисимова, Бек добавляет: «По- прежнему весело, воодушевленно Онисимов излагал задачу. Теперь и лагеря, где не столь давно сгинул его брат, сосредоточившие за колючей проволокой, будто на неком ином свете, массы заключенных, представали ему как трудовые соединения, высокодисциплинированные, легко поддающиеся переброскам, необходимые в условиях войны». Чувства Онисимова, описываемые в этих двух отрывках, относятся к разным периодам жизни героя — один отрывок повествует о временах войны, другой — о послевоенном времени, но смысл от этого не меняется: Онисимов представляется «незнающим», а Бек констатирует ею «незнание».
Но неужели то, что мог знать студент, не знал министр?
Я помню, как я, студент, приехал в 1951 году на Куйбышевскую ГЭС. И то, что я увидел, поразило меня. Над огромным котлованом, занимавшим бескрайнюю впадину между горами и обнесенным колючей проволокой, за которой темной массой шевелились люди, был растянут транспарант. На его красном полотнище геркулесовыми буквами было написано: «Вперед, к победе коммунизма!» И над транспарантом уходил в небо превышающий рост многоэтажного дома портрет Сталина в форме генералиссимуса.
Как ни строг А. Бек по отношению к Онисимову, он все же сострадает ему. Онисимов в романе Бека лицо трагическое, потому что, служа Сталину, он служил честно. Он не хватал, не хапал, не набивал свою квартиру хрусталем и платиной, не пользовался даже услугами спецбуфета (Бек пишет это слово вразрядку), он ничего лично не нажил на своей преданности. И он, наконец, что-то сделал полезное для страны.
Но в конце жизни его все-таки ожидает крах. И ближайшие сотрудники откалываются от него, и сын не верит ему и сомневается в правильности его жизни, и нет тепла даже в доме, нет тепла от жены, которую он взял когда-то в жены по идейным соображениям и которая ничего, кроме своей беспорочной службы, не отягощенной ни одним выговором, не может предъявить истории.
Сколь несчастлив этот брак, мы видим воочию. Елена Антоновна, хоть и переживает болезнь Онисимова, хоть и навещает его иногда то в санатории, то в больнице, все же остается статуей, от которой идет только холод. Такова она и с сыном Андрейкой. Ни одного дуновения ласки не исходит от этого «типа эпохи», от этой женщины, помещенной в невидимый мундир. Она вышколена, вымуштрована, и у нее лишний раз не дрогнет голос, лишняя слеза не скатится по щеке.
Может быть, эта женщина больше говорит об Онисимове, чем сам Онисимов, потому что Онисимов у Бека по преимуществу молчит — говорит за него автор. Один раз только он пробует разговориться, открыть душу академику Челышеву, и то А. Бек обрывает его исповедь. Он оповещает читателя о том, что эта исповедь имела место, но саму исповедь опускает, ибо, как он замечает, предпочитает не художество, а факты.
Что ж, факты — упрямая вещь, да и сам жанр работы Александра Бека — жанр протокола и «отчета», кажется, исчерпывается этой ставкой на историческую хронику, на документ, но все же мне в романе не хватает романа, то есть поэтической плоти, вымысла, воображения. Особенно недостает их в заключительных сценах. Здесь Онисимов встречается со своим сыном, и у них происходит разговор, который должен вынести действие повествования Бека за пределы описываемой им эпохи, в наши дни. Ибо встречаются старое и новое поколение, отец и сын, отцы и дети.
Что же говорит отец сыну и чем отвечает сын отцу? Отец говорит ему: держи голову прямо, будь, как я. Сын не хочет быть таким, как он. Он переписывает на листок стихи, которые явно не могут понравиться его отцу. В этих стихах есть такие строки:
Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.
И еще:
Но только ты верни мне ясность И трижды отнятую веру.
Этот Андрейка, как и герои Белова, Айтматова, Астафьева, взыскует веры. Он еще в 1957-м, а по времени написания романа Бека — в 1964-м, хочет, чтоб ему вернули «трижды отнятую» ясность. Нет ли в этом знамения, нет ли прорицания?
Как ни «повзрослели» мы во взгляде на эпоху Сталина, как многого ни узнали за истекшие годы о ней, мы воспринимаем роман Александра Бека с благодарностью и воспринимаем его как факт сегодняшнего дня.
«Дорого яичко ко Христову дню», «дорога ложка к обеду», — говорят пословицы. Правда, высказанная А. Беком, была бы очень дорога в 1964 году. Но она дорога и в 1986-м. Истину эту подтверждают и повесть К. Воробьева, и повесть В. Тендрякова «Чистые воды Китежа», не увидевшая свет при жизни автора и теперь опубликованная в «Дружбе народов», и повесть Андрея Платонова «Ювенильное море», пролежавшая под спудом пятьдесят лет.
* * *
Когда мы смотрим старые фильмы, многое в них нам кажется безвозвратно ушедшим. Меняются не только одежда и фон, язык, интонации разговоров, но и лица. Посмотрите даже на документальные кадры — лица наших отцов и старших братьев не такие, как у нас, это лица другого времени. Даже общие для всех людей чувства — счастья, печали или уныния — выражаются в каждое время по-разному. Может быть, это зависит от возраста и душевного состояния народа? Ведь и народ, как и человек, имеет свой возраст. Стоит подумать об этом.
В язвительном очерке-фельетоне (так бы я определил жанр повести В. Тендрякова) «Чистые воды Китежа» В. Тендряков описал эпоху упадка в маленьком провинциальном городке. Этот городок живет без веры, без надежды, без прежних «кумиров», каким был, например, для героя А. Бека Сталин, и без катаклизмов. Он уповает на то, что все само собой куда-то притечет, а если и не притечет, то тоже не беда: не мы в ответе, потомки. Городку на конечную цель своего существования наплевать, лишь бы было что сегодня есть, на чем спать, из чего воду брать. Но с водой-то как раз в городке Китеже плохо. Речка, протекающая через него, засорена отходами комбината, который спускает эти отходы в ее когда-то чистые воды. Комбинат растет, пухнет, а городок худеет, как худеет русло речки, погрузившейся наполовину в ил, в сор, в мусор.
И вот тут-то у кого-то «наверху» (Тендряков не говорит, у кого) появляется идея встряхнуть жизнь городка, начать кампанию по искоренению загрязнения речки. Жизнь городка должна быть изорвана какой-нибудь сенсацией.
Орудием этой встряски избирается печатное слово. Слово, которое может и ничего не значить и может значить слишком много. Которым, как говорится, двигаются горы и сокрушаются материки. Местная газетка печатает фельетон о комбинате, снабжая его гневными тирадами в защиту природы. Сочиняет его некий поэт под фамилией
Лепота, «полу-русский богатырь» с усохшими членами тела, погубивший свое богатырское здоровье водкой. Его специально запускают на орбиту сенсации, как человека скандального, безответственного, против которого сегодня же можно напечатать опровержение. В городке начинается волнение. Уснувший было городок просыпается. Оживают общества любителей охраны природы, воскресает у некоторых граждан совесть, возникают толки и толпы, открываются какие-то заседания, начинаются прения. Статья в газете спровоцировала общественную жизнь в Китеже. Но ненадолго. Испуганные организаторы встряски дают отбой. Запускается в дело письмо некоего Сидорова, которое сочинил ответственный секретарь газеты, и оно наводит страх не только на читателей, но даже и на тех, кто дал команду провести кампанию по возбуждению в гражданах города Китежа патриотических чувств.
Грозные интонации письма Сидорова, его твердый тон и призыв укротить расходившееся общественное мнение, как шаровая молния поражают город. Фамилия Сидоров воспринимается как псевдоним. Начинают искать за ней кого-то, кого и действительно надо бояться, кто придет и покарает расходившуюся вольницу.
Все эти комические события (потому что Сидоровым оказывается на самом деле какой-то пьяница — он и получает гонорар за статью) выглядит отнюдь не комически.
Самое тоскливое в этой истории то, что минутный энтузиазм жителей Китежа гасится страхом, впитавшимся во все поры души страхом, который выползает на свет при появлении таинственной статьи Сидорова. Эту статью воспринимают как указание сверху, как скрытый сигнал прекратить обновление, свернуть революционные преобразования. Только что одушевленный идеей борьбы за чистую воду город сникает и погружается в сон, который предшествовал развернувшимся в повести событиям. Стоит кому-то прикрикнуть, топнуть ногой, как то, что таилось внутри, никогда не умирало, всегда трепетало и прочно обитало в человеке, дает отбой. И оно оказывается сильней временного возбуждения, побуждения, высокого порыва.
Тендряков с беспощадностью изобразил эту эволюцию духа жителей Китежа. Как всегда у В. Тендрякова, его повесть — социальный снаряд, который бьет не только по отдельным целям, а по всей системе сразу, не боясь, что называется, делать широкие обобщения, ведущие к далеко идущим последствиям.
Сам сюжет повести начинен, как снаряд порохом, взрывчаткой, которая дает короткий удар, внезапную вспышку и точное попадание. Оживление в городе Китеже, прекращаемое по воле самого народа, — никто ничего не запрещал, не отменял, появилась всего лишь статья Сидорова — печальный симптом, который видит Владимир Тендряков в нашей общественной жизни. Достаточно должного знака о прекращении кампании, как кампания свертывается по мановению волшебной палочки.
Получается, что мы всегда готовы отступить, всегда охотно попятимся, подай нам только намек на это. Мы и изобрести этот намек непрочь (как изобрели в Китеже страшного Сидорова), только бы утешить совесть причиной, дающей нам право на обратный ход.
Тут-то и вспомнишь персонаж из повести Андрея Платонова «Ювенильное море», персонаж по фамилии Умрищев, который является в этой повести главным теоретиком. Его теория состоит в пустой игре диалектикой, которая сводится так или иначе к одному тезису: «Не суйся». Этот тезис Умрищев исповедует твердо, за что кроме имени теоретика имеет еще прозвище оппортунист, ибо противостоит революционной, все преобразующей практике.
Корни оппортунизма Умрищева лежат в далекой эпохе — эпохе Ивана Грозного, которую он неутомимо изучает день и ночь. История Ивана Грозного — книга, с которой он не расстается. Это «старинная железная книга», «ветхая книга», где описано правление жестокого царя. Этот том — свод преступлений Грозного, свидетельство об «историческом каменном дожде», который пролился в годы его царствования на современников.
Именно повторения чего-либо подобного и страшится Умрищев. Он, пишет А. Платонов, «с такой охотностью читал Ивана Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни — ведь все враги сейчас сознательны — и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова».
Умрищев — пародия на теоретика-преобразователя, который хотел бы иметь «оппортунистическое царство в форме Руси», сыпать цитатами из высказываний классиков политических наук и, ничего не делая, состоя в оппортунистических рядах, утверждать, что благодаря диалектике он все равно через некоторое время превратится в свою противоположность. Умрищев, однако, не просто тормозит ход большевизма и своими речами засоряет сознание несознательных масс, но и предупреждает о некоторой опасности забегания вперед, преобразования всего мира в новое качество. Его роль — оппонирующая, оппонирующая безумным идеям инженера Вермо и Босталоевой и старушки Федератовны, бывшей Кузьминишны, которая в конце концов становится его женой. Эта неутомимая старушка помогает строить социализм в «Родительских двориках», она носится по окружающим деревням и полям в таратайке и изводит сопротивление классового врага и оппортунизма. Она, как и Умрищев, говорит лозунгами, но лозунгами противоположного содержания — и в конце эти две противоположности сходятся, и в первый и в последний раз в повести Умрищев называет ее настоящим именем — Мавруша.
В «Ювенильном море» изображено безумие преобразований, которое захватывает души чистых людей, не подозревающих о гигантском вреде своей преобразовательско- разрушительной работы. Все они пылают светлыми надеждами, ожиданием великого чуда нового царства божия на земле, которое видится им на примере совхоза «Родительские дворики» в виде полностью снесенных с лица земли жилищ, силосной башни, в которой одновременно и забивают электрическим током скот и хранят его мясо, где мельницы, получающие энергию от ветра, передают ее по проводам, а в иссохшей степи плескается добытое со дна земли «девственное море», «ювенильное море», те девственные воды, которые хранятся в темноте, навеки погребенные, и откуда их достанет прожигающий луч вольтовой дуги.
Сначала волы крутят колесо и приводят в движение крылья мельницы, потом мельница будет махать крыльями и подавать энергию в дома, в башню, в хозяйственные пристройки, на поля. На полях заведется новый порядок выпаса коров, когда пастухи будут сокращены и их заменят быки. Пока быки станут выяснять отношения между собой, коровьи стада, найдя сочную траву, начнут прибавлять в весе. В проекте инженера Вермо вырастить таких коров, которые были бы величиной с бронтозавров и давали бы по цистерне молока в один удой. Это были бы «гиганты молока», миллионы миллионов голов, которые спокойно бы шли на смерть в электрифицированную силосную башню, не теряя привеса и отдавая мясо, не порченное шоком, который настигает животное перед обыкновенным убоем на бойне.
Инженер Вермо, кузнец Кемаль и зоотехник Висовский — все это войско старушки Федератовны (партийного лидера совхоза) и Босталоевой (его директора) состоит из прекрасных людей, любящих свое дело и животных, но совершенно занесшихся в жажде переделать все старое в новое. Инженер Вермо готов даже положить на преобразование те силы, которые отданы ему на плотскую любовь, он и Босталоеву — свою возлюбленную — видит не просто как женщину, а как сгусток большевизма, и, глядя в ее лучащиеся глаза, думает, что свет этих глаз тоже можно преобразовать в энергию, чтоб она зря не рассеивалась по земле.
Вермо и техник и музыкант, он человек двадцатого века, влюбленный в технику и верящий в ее беспримерные возможности, и он нежно любящий лирик, который играет все время на хроматической гармонии, сопровождая своей музыкой то похороны, то веселье. Вермо окончил музтехникум, и само это сочетание музтехникум говорит о двойственности его природы, поделенной между гигантским самомнением технической мысли и смиряющей ее мелодией музыки.
В повести Андрея Платонова часто повторяется слово «тоска». Тоска, печаль, скука, скорбь. Все эти чувства присущи как животным, так и людям. От тоски томятся быки, томится трава, которая «склонялась книзу, утомившись жить под солнцем», томится беззащитная земля и беззащитные жилища, ожидая неизвестной своей участи. Все здесь чего-то ждет и что-то теряет, что-то невозвратимо оплакивает, в то время как «ветер капитализма», как говорит Умрищев, сливается на севере с «зарей социализма» и «самотечное устройство природы» начинает течь по руслу, уготованному ей человеком.
В этом состоит смысл «сонаты о будущем мире», которую исполняет на своей гармонии Вермо. На ноты этого музыкального сочинения положена не только судьба России, где происходит действие повести, но и судьба человечества, ибо сконструированный Вермо прибор для обращения солнечного света в электричество должен будет получать энергию «в степи и во всем мире», как записано в плане развития «Родительских двориков», и способствовать «установлению большевизма» как в самих «Двориках», так и «на всем открытом пространстве земли».
Мировой, тотальный дух идей, которыми живут герои «Ювенильного моря», очевиден. С самого начала мысль инженера Вермо начинает работать на его «собственную космогонию», согласно которой Земля, как только она приведет в гармонию свои колебательно-поступательные движения и на мгновение уравновесит свое положение в «кипящей вселенной», сталкивается с «незнакомым условием» и меняет свой ход. Инерция разогнанной планеты, стукнувшись об это незнакомое условие, испытывает дрожь. Возникают возмущения и переделка «всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками». Эта астрономически-социальная утопия Вермо (потому что речь идет не только о возмущениях земной коры, но и революциях в обществе) сразу ставит героя Андрея Платонова в контекст мирового развития, перенося его из голой прикаспийской степи в пространство, где действуют законы образования небесных тел.
Герой Андрея Платонова всегда ощупывает умом вселенную, он достает ее с грешной земли, стоя ногами на земле, он упирается головой в небо, его мысли уходят за облака, он одновременно и тут и там, он бренное тело, из которого может вырваться пар отработанной жизни, и он бессмертная душа, которая знает толк в бесконечности. «Свет напрягался на востоке, — пишет Платонов, — и слабел от сопротивления бесконечности, наполненной тьмой». Он эту бесконечность чувствует кожей, он ее осязает, как можно осязать запах цветка или запах того же отработанного тела. Он видит в человеке «скуку старости и сомнения», «отходы умолкшей жизни», «грустное терпение тяжести труда» и одновременно муку «мертвого мучения долготы истории». «Кемаль плясал, — пишет он, —с тем выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра». Человек соткан из ветра, из воды, солнца, он от рождения принадлежит им, как и они ему, и если между этим обменом нарушается равновесие, гибнет и природа и человек.
Природа в прозе А. Платонова ощущает насилие над самотечным своим устройством как гибель, как срыв генетического кода, который грозит обратить ее в свою противоположность. Нарушение колебательно-поступательных движений грозит разрухой, руинами, «сломать все» и построить на месте всего силосную башню — эта идея противопоказана ей.
«Они были, наверное, безродными, — читаем мы о спящих героях «Ювенильного моря», — и превращали будущее в свою родину». А. Платонов не судит их. Он о них печалится. И его веселье — ирония его языка, его смех — превращаются, как и веселье, организованное в «Родительских двориках», в скорбь. Природа сопротивляется экспериментам, производимым над ней, она отдает свою силу людям, но при этом как-то искажается лицо земли: степь уже не похожа на степь, места обитания человека — на деревню или на город. Сначала жители совхоза располагаются в огромных тыквах, которые им служат вместо изб, затем для них возводятся какие-то странные сооружения из нарезанной лучом вольтовой дуги оплавленной земли.
Отсюда странное кровосмешение языка жизни и языка смерти в языке Платонова, иронии языка и патетики языка. Эта патетика вызвана действиями человека, «приведенного в героизм историческим бедствием», но ее снижает ирония сомнения, ирония грубого взгляда на жизнь, смешанная, в свою очередь, с «нежностью надежды». Все эти чувства — «печаль утомления», «смутное выражение нежности надежды» и «насмешку над грубой тягостью жизни» видит автор на лице спящего Кемаля. Это лицо — лицо языка Платонова, которого Сергей Залыгин в предисловии к «Ювенильному морю» назвал «странноязычный Платонов».
Язык Платонова странен, но это странность человека, который одновременно и смертен, ничтожно мал перед лицом солнца или луны и который равновелик им, ибо его воля и ум, проницающее знание и интуиция такой же фактор в небесной механике, как и земное тяготение.
«Под утро Вермо вышел наружу. Вращающаяся земля несла здешнее место солнцу, и солнце показывалось в ответ». Связаны между собою не только солнце и земля, но и место, на котором стоит человек. Он, как и этот человек, способен вызвать движение солнца: солнце, как бы ожидая их движения, скрывается где-то и, как только человек делает ему шаг навстречу, откликается на этот шаг. Солнце и человек связаны между собою как два близких существа, которые с полуслова понимают друг друга, которые не мыслят себе своего существования друг без друга. Так же связаны у Андрея Платонова собака и степь, ночь и смысл, жизни: «Собака умолкла, не получая из степи ответа», «Ночь, теряя свои смысл, заканчивалась». А вот как слышит исполняемую им самим «Аппассионату» Бетховена инженер Вермо: «Существо жизни, беспощадное и нежное, волновалось в музыке оттого, что оно еще не достигло своей цели в действительности, и Вермо, сознавая, что это тайное напряженное существо и есть большевизм, шел сейчас счастливым. Музыка исполнялась теперь не только в искусстве, но даже на этом гурте — трудом бедняков, собранных из всех безнадежных пространств земли».
Так всегда у Платонова — с одной стороны, он чувствует напряженное вещество жизни во всем; с другой, как только он касается чего-либо живого (а для него одушевлен и неодушевленный мир), возникают эти «безнадежные пространства», беспредельность мысли, безграничные переживания. Мысль, зажигаясь в человеке, сразу передается и миру, этим пространствам, их беспредельности. Жизнь в языке А. Платонова — на протяжении одной фразы — способна преобразиться, изменить свое лицо, протянуться вширь и вдаль, захватить области, куда и не помышляет достичь смертное сознание. В одно мгновение происходит это преображение, и читатель, только что видевший себя с героем где-нибудь в «Родительских двориках», уже оказывается за миллионы километров от них — там, откуда эта жизнь, может быть, представляется точкой.
Космос Андрея Платонова заключен в каждом его слове. Это слово, как брошенное в землю зерно, выбрасывает из себя колос, кустится смыслом, прорастает в неизвестность. В языке А. Платонова заключена тайна жизни, вот почему его проза бессмертна, вот почему, достигая нас спустя полвека после своего рождения, она так же свежа, как и при явлении на свет. Ничто не наносит ей порчи — ни время, ни обстоятельства, ни то, что, как говорится, литература ушла вперед. Да и куда вперед? Куда уйдешь без языка, без творчества слова, которое одно только и есть тот «электрон», который, по выражению Платонова, «никуда не денется, хотя вся диктатура иди против него». Слово не перемалывают ни лета, ни чья-то злая воля, ни всеобщий угар однозначности, который стремится истребить многомерность художественного слова, его независимость, его свободу.
В «Ювенильном море» герои читают две книги. Одна книга, которую читает Умрищев, это история Ивана Грозного. Вторая — «Вопросы ленинизма» Сталина: ее штудирует Вермо. Вермо «стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как на самом деле было глубоким, потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений и был ясен до самого горизонта, как освещенное пустое пространство, уходящее в бесконечность времени и мира».
Слово Платонова направлено не в пустое пространство, не в пустую вечность, а в обитаемые миры, где дышит жизнь и где «всякие смешные украшения» тоже жизнь и смысл жизни, потому что жизнь человека не только целесообразна, прозрачна, но и запутанна, разветвлена, несчастна, порочна, прекрасна, и ей не по себе в регламентированной ясности, под ружьем одномерности. Стиль Платонова спорит со стилем «прозрачной книги», о дне истины которой говорится с иронией, как и о глубине, открывшейся Вермо после повторного чтения. Ирония принимает здесь формы пафоса, но пафос этот еще более оттеняет скудную бедность «расчета», с каким книга смотрит на мир, причем в основе этого расчета, как пишет Платонов, лежит мысль, что максимально героический человек, ставший героем из-за исторического бедствия, будет творить сооружение социализма, «беря первичное вещество для него из своего тела».
Первичное вещество языка Андрея Платонова, взятое из человека, еще раз напоминает нам, как живуч образ, как многообъемен он, как мудр, наконец, в своем предвидении событий.
Повесть А. Платонова не только не устарела, но она открывает нам глаза на философию борьбы человека в двадцатом веке, окрашивающей этот век в кровавые тона, хотя красный цвет — это и цвет победы. Свободное слово Платонова из дали века подает нам пример, потому что целесообразность уже завладела словом, спеленала его, мешает прорваться сквозь формы приличия непослушному смыслу. У нас, говоря о литературе, смотрят на «позицию», на направление, на благородство, так сказать, исходных данных и забывают, что никакая позиция и никакое направление ничего не значат, если они не явлены в слове. Порой видишь позицию, видишь точку зрения автора, принимаешь или отставляешь ее в сторону, но жизнь этой точки зрения один день, завтра она уже не нужна, а что же уготовано ей через пятьдесят лет?
Читаю письма рано умершего Юрия Казакова, тоже появившиеся в печати в 1986 году, и думаю: господи, как жалко! Как жалко, что этот талант так трудно рос, так долго освобождался, так страстно любя жизнь, был порушен той же жизнью. Сколько пролито слез, сколько грез и мечтаний изжито, как тяжко было выскребывать из себя раба, сворачивать с дороги, сворачивать в рыбаки, охотники, скитальцы, отшельники, натуралисты, когда натура требовала борьбы, войны, когда детство и юность, попавшие под власть однозначности и целесообразности, взывали к отмщению, к бунту.
Читаю письма Юрия Казакова к Виктору Конецкому и грустные комментарии Конецкого, который все время хочет отшутиться, заклясть себя юмором от страшной драмы своего поколения (выйдя на освещенную сторону и воспрянув, оно вскоре снова было накрыто тенью, вынуждено было ломать себя и искать выхода), — и вижу, что тень эта висит над ним и по сей день, потому что юмор писем — сплошные хохмы и шутки — и юмор комментариев к ним подает сигнал бедствия, как подает тонущий корабль. Сравнение вполне морское, так как Виктор Конецкий — моряк, но ни в моря, ни в юмор не скроешься, надо давать отчет истории о пути, а где путь, когда одни только отрывки, обрывки?
Отчет о пути дает вся наша проза. Займет ли в нем хоть строчку 1986 год? Думаю, что займет. Поднявшийся ветер колебнул не только поверхность, но и затронул все море. Море, как правило, не скоро успокаивается. Оно еще долго шумит, долго укладывается и, смиряя себя, возвращается в состояние покоя иным, изведавшим страсти. Дай бог, чтоб так было с литературой.
Что-то стронулось в ней, что-то пошло. Что-то непоправимо работает еще в старом ритме, наращивая тиражи, но что-то и повернулось лицом к грозному судии — завтрашнему дню. Он не захочет знать, мог или не мог писатель высказать то, что думает. Он не станет принимать апелляций и ссылок на то, что время, инерция и страх помешали ему это сделать.
Мудрость покоя завоевывается беспокойством. К эпосу не придешь через эпос, нужны горячка и пыланье современности, нужны бури, штормы и многие печали, чтоб обрести право произнести слово, со слезами смешанное, — слово, которое, родившись сегодня, не умерло бы через день, а может быть, и проросло бы в вечность.
1986 г.
ПРОЗА — 87:
свет и тени
1
Все мы сейчас растеряны, все не в состоянии охватить умом происходящее, ибо запретная мысль сделалась незапретной, тайное желание получило права быть явным, право голоса и волеизъявления. Казалось, получим свободу — и все станет ясно. Начнется золотой век. Никто не думал, что так мучительно трудно переходить от несвободы к свободе, что для этого, может быть, нужна эпоха, а не месяцы и не годы.
Литература смущена, смущен и читатель. Одни сокрушаются о потерянной вере, о вере, якобы поколебленной литературой и ее разоблачениями, другие страшатся того, что будет дана острастка, и все снова откатится назад, и мы бросимся достраивать вавилонскую башню.
Образ вавилонской башни, кстати, доминирует во многих произведениях года. Он как бы переходит из 1986-го, из «Ювенильного моря» А. Платонова, где строят, правда, не вавилонскую, а силосную башню, но все равно — это один символ, и значение его то же: силосная башня в «Ювенильном море» — прообраз счастья для скотов. Именно в ней безболезненно умерщвляют коров и быков, чтоб они не почувствовали удара смерти, чтоб их тела, предназначающиеся на корм пролетариату, не пронизала нервная судорога, чтоб в кровь не выпал адреналин.
Такую же башню — на этот раз башню-общежитие, башню — дом для счастливых обитателей социализма — возводят в «Котловане», о ней же упоминается и в неоконченном романе Юрия Трифонова «Исчезновение».
В вавилонской башне должно произойти смешение языков, она должна дотянуться до неба, она — вызов небу, брошенный с земли, она и плоть, и сооружение, и идея соперничество, идея оспаривания Царства Божия, имеющего место быть на небесах.
«Котлован» Андрея Платонова до сих пор остается в тени, о нем мало пишут, он отодвинут в сторону той литературой «быстрого реагирования», которая родилась не сегодня, но родилась все же на минуту, на час. Но таковы уж мы, смертные люди, что дорожим этим часом, этой минутой. Мы читаем Анатолия Рыбакова и листаем Андрея Платонова, кроме того, он нелегок для понимания, у него особый язык, его мир — тайна, а здесь все на виду.
Герои Андрея Платонова роют котлован для такой башни, отбирая для этого строительства все соки человека. Взрослые и дети в повести Платонова гибнут, унавоживая почву для других, отчаявшись «спастись навеки в пространстве котлована».
В былые времена человек искал спасения в Боге, искал спасения на небесах. Здесь образ спасения переворачивается, спускаясь с небес на землю, и более того — низвергаясь в яму котлована! Какой горький парафраз!
В начале повести герой ее Вощев уходит бродить но свету, ища смысла жизни. Он хочет докопаться до хода всего сущего, до хода светил, роста былинки в поле, роста ребенка и роста этой будущей башни, на строительстве которой он и застревает. В чем смысл жизни? В чем счастье — этот вопрос героя А. Платонова получает ответ со стороны одного из землекопов, Софронова: «Счастье произойдет от материализма, а не от смысла». А истина, спрашивает Вощев, истина полагается пролетариату? И вновь слышит увещевание: «Пролетариату полагается движение, а что навстречу попадется, то все его, будь там истина — все в общий котел».
Повесть Андрея Платонова полна безысходных метафор. Герои роют котлован для дома, в котором будет проживать население всего окололежащего пространства, а сами спят в гробах, заготовленных крестьянами соседней деревни для своей смерти. Эти гробы заготовлены для взрослых, для стариков, для детей и для молодых. Между возрастами нет различия: все должны превратиться в песок, в навоз, на котором произрастет махровый цветок будущего. И последний ребенок среди строителей — девочка Настя, потерявшая свою «буржуйскую» мать, умершую от недостатка тепла в теле, спит тоже в гробу: она обречена, как и спящие рядом с нею мужчины.
В соседних деревнях происходит коллективизация, идет обобществление, изничтожение крестьянства, какие-то массы крестьян маршируют по улицам деревни, а их дома пусты, там гуляет ветер, а на кузне за всех трудится один медведь — он пришел из леса, чтоб возводить на брошенных черноземах новую красивую жизнь.
Люди запасаются гробами, не дожидаясь Страшного суда, других людей ссылают на плотах в океан, просто сажают на быстро сколоченные плоты и сплавляют по реке в море, в безграничные просторы, которые поглотят их навсегда.
В повести Андрея Платонова слышны пафос и героические песни насилия, и вместе с тем она — апофеоз крушения и тщеты насилия как орудия истории, орудия преображения жизни.
Вощев согласен снова ничего не знать, не знать истины, лишь бы девочка была жива. «Зачем нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, — говорит он, — если нет маленького верного человека». На какую землю будут смотреть из своих окон люди, поселившиеся в башне, воздвигнутой на месте котлована? Они увидят опустошенное пространство, опустошенную жизнь, они увидят вместо людей марширующих лошадей, которые строем ходят на конюшню, за кормом, на водопой, они увидят, как «кругом беспрерывно нагнетается общественная польза» и как энергия этой пользы не может согреть русских равнин.
Если «движение» — это когда людей «целыми эшелонами отправляют в социализм», то пусть лучше не будет такого движения, такого развития, которое есть развитие для развития, движение ради движения — без сострадания, без памяти, без милосердия, без любви к ребенку.
Даже несчастный безногий инвалид Жачев, этот отброс общества, находящий наслаждение в том, чтоб грабить и обирать вождей новой жизни, проникается жалостью к сироте Насте и находит утешение в существовании этой девочки. И когда она умирает от усталости, от бесприютности, оттого, что она осталась одна на этом свете, Жачев кричит: «Я теперь ни во что не верю!» Он не верит ни во что, потому что эта девочка и была его вера.
Вспомним «Ювенильное море»: там герои спят в тыквах. В огромных выеденных тыквах, которые служат им домом. У героев «Ювенильного моря» и «Котлована» нет дома — есть гробы, тыквы, сарай возле ямы котлована, ночлежка, место, где они умирают, прощаются с жизнью, но стен дома, и крыши, и семьи нет — все развеяно, все пущено по ветру.
Насилие в «Котловане» распространяется на живую природу и на человека. Все объект насилия: и трава, и лошади, и медведь, и маленький верный человек Настя. Но насилие ничего не может создать, построить — оно способно лишь разорить, разрушить, уничтожить, его итоги — это гробы, которые хранятся в одной из ниш котлована. Их упрятали туда на всякий случай строители, чтобы было в чем похоронить гибнущих на строительстве.
Куча гробов — вот урожай насилия.
Андрей Платонов писал о «Котловане»: «Погибнет ли эсесерша, подобно Насте; или вырастет в целого человека, в новое историческое общество? Это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда его писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего».
В то время, когда песни насилия почитались как гимны, когда вакханалия преобразований воспевалась как идеал, Андрей Платонов подал голос в защиту иного идеала — живородного идеала последовательности, идеала традиции, которая уходит своими корнями в историю народа. Никому не позволено ее нарушать, разрушать. Никому — без ужасных последствий — не удастся произвести акт расправы над самой историей, которая только тогда остается историей, когда между ее событиями есть связь.
2
«Котлован» (Новый мир. — 1987. — № 6) не возбудил в обществе такого волнения, как «Дети Арбата» А. Рыбакова или «Белые одежды» В. Дудинцева. На него не записывались, за ним не вставали в очередь. Опубликованная в той же книжке журнала работа В. Набокова «Гоголь» (Новый мир. — 1987. — № 4) заставила больше говорить о себе читателя, нежели повесть А. Платонова. И все же, если подводить итоги года, если говорить о самом важном событии, случившемся в этом богатом на литературные события году, то я назвал бы без колебаний «Котлован» А. Платонова.
Не знаю, с чем сравнить эту живопись — с Босхом ли, с Брейгелем. Не знаю, на кого из классиков указать: Платонов ни на кого не похож, и вместе с тем он — наследие мировой живописи и литературы.
Вопрос о насилии, вопрос, поднятый еще Достоевским, Платонов ставит на материале XX века. И это не абстрактный материал, это материал русской действительности конца двадцатых — начала тридцатых годов, то есть годов, когда социализм Сталина стал социализмом вавилонской башни
Платонов точно указал даты написания «Котлована»: декабрь 1929-го — апрель 1930 года. За это время Россия из страны, имеющей будущее, превратилась в страну, чье будущее он вынужден был взять под сомнение. Насилие против собственного народа — насилие над большинством народа, над крестьянством — стало метой этих недолгих месяцев. Именно с декабря 1929 года по апрель 1930 года была осуществлена кровавая операция по обезжизниванию деревни, был совершен переворот, который назвали «великим переломом» и который был на самом деле величайшей трагедией
Рухнули основы жизни, в котлован, как заготовки для будущего строительства, были брошены миллионы судеб. Россия содрогнулась, отдав лучших своих работников на убийство гнусу, болезням, голоду и холоду северных ссылок, тесноте тюрем и пересылок. Пошли по этапу не только мужики, но и женщины и дети, им даже не разрешалось взять с собой белья — их в одночасье выбрасывали на мороз.
В учебнике истории для 9-го класса средней школы я читаю, что все, что произошло в тот год в деревне, служило на благо социализму, укрепляло страну, выводило ее в первый класс мировых держав «Огромный экономический эффект социалистического переустройства деревни, — пишут авторы учебника, — был очевиден».
Но ни слова не сказано здесь о том, чего это переустройство деревне стоило. Сколько жизней оно унесло. Или это не имеет отношения к конечному результату — к социализму? Или не это определяет тот его облик, который мы сейчас хотим изменить?
Пока школа и официальная наука продолжают обрабатывать умы молодежи в старом духе, литература берется за работу по перевоспитанию народа, перевоспитанию его сознания, которое было заморочено этим сокрытием жертв.
Романы А. Рыбакова и В Дудинцева скитались по журналам, не находя пристанища, так же скитались и «Мужики и бабы» Б. Можаева (Дон. — № 1, 2, 3), и «Кануны» В. Белова (Новый мир. — № 8) Пока все мы обсуждали новый роман Василия Белова «Все впереди», срывающийся на памфлет, на раздражение, в его столе лежали эти самые ненапечатанные «Кануны», которые, будь они напечатаны, может быть, отвратили бы и появление «Все впереди». Я не идеалист и не верю, что литература может настолько изменить ситуацию, что мы, заснув в царстве лжи, проснемся в царстве правды. Такого не бывает, но, появись роман Б. Можаева или роман В. Белова раньше на десять— пятнадцать лет, я уверен, обстоятельства, если не при которых живем, то при которых мыслим, были бы иные.
И сам Белов, может быть, не принимал бы последствия за причину, не клеймил бы так последствия, если бы выговорился относительно причины.
Что гадать, что было бы, но во вреде давления на литературу мы убедились, прочитав и Белова, и Можаева, и Дудинцева, и Рыбакова.
Я уже не говорю о «Котловане» Андрея Платонова. «Котлован» написан как раз в то время, в какое происходит действие романа Бориса Можаева. Это именно конец 1929го — первые месяцы 1930 года, месяцы насильственной коллективизации, ссылок, арестов, «ликвидации кулачества как класса». Можаев показывает, что ликвидируют не кулака, а ликвидируют, по существу, крестьянина, сгоняют с земли его, высылают, разбивают семьи не у мироеда, а у творца.
Б. Можаев честно дает хронику событий на Рязанщине, хронику событий одного района, в котором, как в капле воды, отражается вся страна. Страна стонет от погоняльщиков, от нетрудового элемента, который гонит и изгоняет с родной земли трудовой элемент, соль крестьянства.
Не представляю, как будут читать Б. Можаева ученики 9-го класса или учителя, преподающие в этих классах историю. Это же полный переворот того, что они знают и учат! С детства привыкли мы читать о людях с обрезом, таящихся на задах деревни, о поджигателях сена, отравителях скота, борющихся с колхозами, о бывших белых офицерах, которые разжигают кулака и подталкивают его на восстание. Тут никаких белых офицеров, никаких «максимов», зарытых в солому, обрезов, убийств активистов, никакой этой позднее перекочевавшей в кино романтики классовой борьбы — Возвышаев и его команда просто-напросто грабят, насилуют, изводят под корень народ.
Поборы, которые они накладывают на деревню, тяжки, как камень, средства, которыми они пользуются при этом, отвратительны. «Нужны расстрелы», — говорит сверху Н. Бухарин в романе, а внизу аукается: стреляют, и без жалости.
Роман Б. Можаева силен не своими мыслями, а картинами. Мысли его — а автор часто переходит на язык прямого разговора с читателем — политизированы, в лучшем случае олитературены, полны ссылками на споры русской классики, споры XIX века. Б. Можаев эти споры осовременивает, вкладывает их в уста деятелей тридцатых годов, но это говорят не начальник милиции Озимов, учитель Успенский или секретарь комсомольской ячейки на селе Мария Обухова, а московские интеллигенты шестидесятых годов, которые впервые в те годы открывали для себя Достоевского, открывали «Бесов» и проблематику «цели» и «средств».
Критика этих «средств», которые, если они негодны, не могут вести к благородной цели, а также критика леворадикальных взглядов Запада на эту проблему, приветствующих насильственное насаждение всеобщего счастья на земле, была произведена уже тогда, и Борис Можаев тут не нов. Но он нов там, где обращает свой взор на крестьянский двор, где рисует его в минуту горя и разорения. Череда раскулачиваний, описанная в романе, вырастает в цепь картин, которые потрясают не менее, чем старые трагедии старой литературы.
Так кто же враги этого крестьянина, веками сидевшего на своем клочке земли и теперь согнанного с него, брошенного на волю судьбы? В послесловии, да и в тексте романа, Б. Можаев называет их. Это торопильщики истории, погонялы ее, которые спешат перелистнуть страницы, чтоб закрыть вопрос о крестьянстве, вопрос о народе. Это Троцкий, Преображенский, Каменев и Зиновьев, Наркомзем Яковлев и другие. Сталина Б. Можаев почему-то не называет.
Неужто пастух Рагулин (если он жив) или Бородины — семья, которую облюбовал Б. Можаев в романе, Матвей Амвросимов (опять-таки, если жив) или их потомки должны проклинать одного Троцкого, а о Сталине думать только как об авторе статьи «Головокружение от успехов»? Не слишком ли легкая участь для Сталина, который и был главным в этом деле?
Борис Можаев признается читателю, что писал не роман, а хронику, но тем не менее претендует на роман. Тут и романные отношения, и непременная сестра романа — любовь, и философские прения, и концепция, находящаяся в оппозиции к концепции истории, остающейся в силе до наших дней.
Б. Можаев называет героев насилия «леваками», для него «леваки» не только Возвышаев и его конкретные исторические покровители (те же Зиновьев, Каменев, Каганович), но и Бабёф, Кампанелла, наши отечественные их последователи от Бакунина до Нечаева.
Историю делают не левые и не правые, рассуждает Б. Можаев, ее делают те, кто понимает и знает, к чему взывают традиция, национальный уклад, вера народа.
Разрыв с национальной традицией, с порядками, установленными предками, с памятью, завещанной ими нам, — смерть истории. «Все, что связано с народом, с его укладом жизни, с верой, с религией, — все это чуждо для наших леваков», — говорит в романе Успенский, и это мысли автора.
Они окликают давнюю мысль В. Распутина, высказанную им еще в «Прощании с Матерой»: «правда в памяти», и более дальние мысли русской классической литературы, предупреждавшей о последствиях разрыва с традицией.
«Нельзя гнуть историю, как палку через колено», — настойчиво повторяет в «Мужиках и бабах» Борис Можаев, отдавая предпочтение постепенности развития и осуждая катаклизмы, ведущие к кровопролитиям.
Его Успенский погибает в конце романа, погибает, закрывая своим телом юношу, ребенка, и так и должно было случиться, хотя смерть эта устроена автором, уж слишком ясный здесь проглядывает след: герой — непротивленец злу насилием, сторонник того, что «свободу внутрь себя обратить надо», — обязан погибнуть в мгновения, когда разгневанные мужики, отчаявшись терпеть, бросаются на улицы, на церковную площадь и власть свирепо усмиряет их.
«Я не белый и не красный, я слишком русский» — эти слова Успенского о себе никак не подходят к моменту, они чужды, враждебны обстоятельствам, и обстоятельства (слишком прозрачно и слишком по схеме) карают идеолога романа.
Эту смерть, как любовь Успенского к Марии Обуховой, не отнесешь к достижениям нашей романистики, но, повторяю, роман Б. Можаева не роман, это хроника, и не речи Успенского перед обнаженной Марией в часы их любви — речи, взятые из газет и брошюр того времени (нашли место, где цитировать эти брошюры!), важны в романе, а его общее направление и его плоть.
Если Б. Можаев лишь ссылается на роман Достоевского «Бесы», то Никите Ивановичу Рогову в начале «Канунов» снятся мелкие «беси», пробравшиеся в его дом и затеявшие там пляску. Эту «бесовскую пляску» он вспоминает и в конце романа, думая, что уже поздно предотвратить ее, поздно — надо было раньше.
Эти «беси» клубятся и играют в романе жизнями людей, играют с вечными ценностями, плюя на них, плюя на труд мужика, на его пот и старания, сгоняя всех — включая петухов и кур — в одну артель, одну коммунию для радостного общежития. Их не устраивают те мужики, которые строят мельницу, объединяются в кооператив для пользы самих себя и пользы государства, они хотят немедленно, без отлагательств воздвигнуть в северной Шибанихе «рай».
Этот «рай», создаваемый в деревне «бесами», пародирует в своем романе Борис Можаев. С юмором, достойным его прежней прозы (вспомним «Живого»), он замечает: «И облик районного центра Тиханова принял свой окончательный вид: на домах беглых купцов и лавочников, на заведениях трактирщиков, колбасников, калашников, сыроваров и маслобойщиков, на просторных сосновых и кирпичных мужицких хоромах, окрещенных кулацкими гнездами, теперь появились вывески, писанные бывшим степановским богомазом Кузьминым, с одним и тем же заглавным словом «Рай», возвещающие миру о наступлении желанной поры всеобщего благоденствия на этой грешной земле».
Нет ни колбасников, ни сыроваров, нет маслобойщиков, и нет масла, сыра и колбасы, но зато есть «Рай» — мечта Возвышаева достигнута, усилия его не пропали даром.
В романе Бориса Можаева раздается похвала земству, в романе Ивана Акулова «Ошибись, милуя» (Москва. — № 1, 2, 3) слышатся похвалы русской крестьянской общине. В отличие от В. Белова и Б. Можаева, Иван Акулов обращается к годам более далеким, уже как бы пропавшим за пределом истории. Это предреволюционные годы, годы начала века. Забытые сейчас, они чересчур много значили. Это были годы дискуссий русской интеллигенции о выборе пути, о том, какою дорогой должна пойти в XX веке Россия.
Перед нею было несколько путей, и эти несколько путей, в частности, открывающихся перед русским крестьянством, и подвергает исследованию в своем романе И. Акулов. Для этого он берет сибирского мужика Семена Огородова и, поместив его в столичный город Санкт-Петербург, знакомит как с террористами, так и с либералами, сторонниками общины и противниками ее.
Автор предлагает своему герою на выбор три пути: террор, мирная жизнь в общине и такая же жизнь за пределами ее на наделах земли, выделяемой общиной для выходящего из нее хозяина. Есть и промежуточные формы — артель, фермы, но в русифицированном виде, с «работой на уровне слабого». Есть, наконец, и четвертый путь, он возникает в конце романа — это большевистская аграрная программа, но ее не успевает рассмотреть Семен Огородов.
Все же он остается при земле и при наделе, при честном труде на себя и на государство, а терроризм и артель отвергает: первый — по причине нечистоты исходного чувства (террорист Егор Страхов, завлекающий в свои сети Семена, становится террористом из-за личной обиды), второй — из-за нивелировки личности.
Для террористов (для Страхова, для студента Гвоздева) такие люди, как Огородов, «мусор», они готовы кинуть их под ноги истории, лишь бы осуществить свою месть.
Роман Ивана Акулова, если пользоваться словами Б. Можаева из «Мужиков и баб», полон «животворного солнца любви». В нем много тепла, много ласки. И еще здесь нет ни одного глупого человека. Меня всегда поражало, когда я читал современные романы и повести, что герои их как-то избирательно наделены умом. Если ум — пусть и относительный — дан героям положительным, близким сердцу автора, то уж отрицательным ума не дано, они — бездарности и дураки и еще задолго до окончания действия посрамляются ввиду отсутствия ума, которое автор не скрывает, даже выставляет напоказ.
Читая эти романы, я вспоминал Достоевского. У него все умны, дьявольски умны. Умен и подпольный парадоксалист, и Федор Павлович Карамазов, и Подросток, и Версилов, и Рогожин, и князь Мышкин. У него и змий мудр, и антипод змия — идеалист, и соблазнитель, и провокатор, и грешница, и святая — все стоят в этом смысле на одной доске, противоборствуют друг другу на одном уровне.
Жизнь в этом отношении не так щедра, но на то и литература, чтобы преодолевать эту бедность жизни, возводить ее отдельные случаи в закон, сгущать жизнь, беря от нее сильное, лучшее, способное выявить в своем столкновении высоту ее вопросов.
У Ивана Акулова и мужик умен, и исправник умен, и отец Феофил умен, и ссыльный интеллигент Люстров (но этому уже положено по номиналу), и простые бабы не похожи одна на другую — у каждой есть лицо, язык, сердце, голова. Может, с этим добрым расположением к людям, к героям и связаны слова, вынесенные в заглавие романа. Вот как объясняет их Акулов: «А ведь рассудить людей по справедливости никому не дано, потому и кажутся мне высшей мудростью простые слова: ошибись, милуя».
Он и сам старается миловать, не карать. От его романа веет ясностью языка, чистотой помыслов и нотой милосердия, которая покрывает грозные интонации эпохи. Читая этот роман, мы заглядываем в довоенный мир, мир, еще не сотрясенный революциями и войнами, мир, который не знает, какие потрясения ему предстоят.
«В ком душа, в том и Бог, парень», — говорит в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» старуха Дарья своему внуку. На том же стоит и Иван Акулов.
Современная проза останавливается на милосердии как на истине, которая не устарела, которая в минуты раскаяния, оглядывания назад, на самих себя и на истоки, нас породившие, первой приходит на ум, первой отзывается в сердце.
Вся проза 1987 года взывает к этому, обращает читателя к этой мысли, видя в ней альтернативу насилию. И если насилие, которое она осуждает, она связывает с именем Сталина, то это ее право, ее святая обязанность.Я пишу эту статью в январе 1988 года. На моем столе лежит первый номер «Нового мира» с «Доктором Живаго». Тридцать лет назад этот роман распинали, а его автора называли «собакой». Те, кто это делал, здравствуют и поныне, более того, они славят новое время. Бог с ними! История сама сведет с ними счеты, хотя уповать на историю опрометчиво: она не торопится. H. M. Карамзин, например, лишь два века спустя «отмстил» за жертвы Грозного.
Девятый том «Истории Государства Российского», где описаны деяния этого царя, испещренный подзаголовками «четвертая эпоха жизней», «пятая эпоха мучительств», вышел в свет в 1821 году. Его читали Рылеев и Пестель, читали молодой Пушкин, мальчик Гоголь. В их ушах гремели слова митрополита Филиппа, брошенные им в лицо Грозному в Успенском соборе в Москве: «Ты высок на троне, но есть Всевышний... Как предстанешь на суд Его? Обагренный кровью, оглашенный воплями их муки? Ибо самые камни под ногами твоими вопиют о мести!»
В своих рассуждениях о власти (и прежде всего о власти государя) Карамзин советовал ей опираться на закон, расходясь в этом с советами Макиавелли, который в книге «Государь» ставил на место закона выгоду и успех. Успех и выгода государства, каким бы путем они ни достигались, были для него оправданием жестокости и даже злодеяний. Конечно, писал Макиавелли, злодеяния нежелательны, но, если уж сильно припечет, можно пустить в ход и их. Прав все же победивший, а не побежденный.
Цинизм расчета, цинизм конечного результата преобладает в советах Макиавелли государю. У Карамзина наоборот. «Никогда выгода государственная, — пишет он, — не может оправдать злодеяния; нравственность существует не только для частных людей, но и для государей: они должны поступать так, чтобы правила их деяний могли быть общими законами». Карамзин писал это в «Истории», посвященной Александру Первому, фактическому отцеубийце. Он поучал царя, а заодно и давал урок народу, который не меньше пострадал от самоуправства Грозного, чем боярство. До последнего времени считалось, что Грозный покарал только бояр, а народ не тронул. Но вот что замечает по этому поводу Карамзин: «Самые земледельцы были жертвою сего несправедливого учреждения (создания опричнины и изгнания прежних хозяев с их земель. — И. З.), новые дворяне, которые из нищих сделались большими господами, хотели пышностью закрасить свою подлость, имели нужду в деньгах, обременяли крестьян налогами, трудами: деревни разорились».
Миф о расположении Грозного к народу — в противовес его непримиримому отношению к боярству — был создан во времена Сталина. Это было выгодно Сталину: под прикрытием этого мифа он выступал как ревнитель народного блага, отец для народа и отчим для аппарата.
Но именно народу, говорят нам сегодня Андрей Платонов и Борис Можаев, пришлось заплатить дорогою ценой за сталинские эксперименты. Именно народ понес за эти годы главные потери. Он понес их во время коллективизации, во время голода 1932 —1933 годов в деревне, во время чисток, во время войны и в послевоенные годы. Число этих потерь исчисляется десятками миллионов. Были выбиты целые роды и семьи, родители и потомство, а оставшимся в живых был дан позор выживания, созерцания этой бойни, этого истребления лучших из лучших.
Вспоминаю статью М. Горького в одном из номеров «Известий». Ноябрь 1930 года. Идет процесс Промпартии. Судят цвет русской инженерии, цвет технической интеллигенции России, на который пытаются свалить неудачи первой пятилетки. И в эти дни (а именно 5 ноября 1930 года) великий пролетарский писатель пишет: «Если враг несдается, его истребляют». Да-да, не «уничтожают», как сказано в поздних изданиях этой статьи, а «истребляют», то есть выводят поголовно, подушно, навсегда.
Историки все еще спорят насчет Сталина (смотри последние отклики этих мужей науки на пьесу М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!»), а литература уже приступила к развенчанию этой личности, к возданию ей должных заслуг в истории. Одни, как М. Шатров, спешат вывести Сталина на подмостки сцены и, смешав его с другими историческими персонажами, показать его уродство среди них; другие начинают более капитальную разработку его психологии, его биографии, вводя Сталина в роман как эпическое лицо, как некий феномен эпохи, который заслуживает не только поношения, но и оглядывания со всех сторон.
Такую попытку предпринял Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата» (Дружба народов. — № 4, 5, 6). Что там ни говори, но роман этот держит первенство по читательскому спросу, по числу тиражей, по числу откликов у нас дома и за рубежом. Роман этот только что вышел в издательстве «Советский писатель» тиражом в 300 тысяч экземпляров. Хорошо! Но почему роман Б. Можаева, о котором мы выше вели речь, получил тираж в десять раз меньше — 30 тысяч?
Смею думать, что если б в романе Рыбакова была изображена лишь судьба Саши Панкратова или его знакомых по Арбату, такого неравенства в тиражах бы не было. Спрос рождает предложение: сегодня все хотят читать о Сталине, обсуждать его феномен.
Виной тому табу, наложенное на него, и величина самой фигуры, которую никак мелкой не назовешь. И дело не в истинном масштабе личности Сталина, а в последствиях, которые имела деятельность этой личности для каждого из нас. Все мы дети Арбата, а точнее, дети эпохи Сталина — даже те, что родились после его смерти, для которых Сталин, как, например, для моей пятнадцатилетней дочери, — Рамзес Второй.
А. Рыбаков моделирует Сталина по Макиавелли, но далее отходит от Макиавелли, считая, что знаменитый флорентиец не смог предугадать коварства Сталина, его тигриную природу. Сталин у А. Рыбакова безусловно злодей, но злодей, предстающий перед нами не как «вещь в себе», а как злодей саморазоблачающийся, причем саморазоблачающийся с помощью железной логики.
С одной стороны, это правильно, потому что логика для таких натур главное, логика для них важнее сердца, важнее ума (в котором всегда есть примесь сердечности); это торжество логики в людях такого типа предсказал еще Достоевский, но все же не из одной логики состоит и палач, и хозяин палача, теоретик насилия и практик насилия. А Сталин соединяет их в одном лице.
Мне кажется, что роман А. Рыбакова при всей сенсационности его материала, при сильных выражениях автора, которые он направляет в адрес Сталина, поражен тем же недугом, что и его главный герой — политическим резонерством и риторикой логики, про которую Достоевский в «Подростке» написал: «У них все логика, а потому скучно».
Монологи Сталина в романе, вскрывающие механизмы его преступности, его отношения к людям и к самой идее социализма, не монологи живого лица, а схемы, схемы и схемы, где один тезис сходится с другим тезисом, одна посылка вытекает из другой, а все они вместе приводят к конечному результату: торжеству схемы, не больше.
Лишь раз вздрогнет читатель и почувствует холод опасности, исходящей от живого Сталина, — это произойдет тогда, когда Сталин, уязвленный симпатией Кирова к его личному зубному врачу, отошлет этого зубного врача навсегда от своей персоны. Здесь Сталин на миг выпустит свои тигриные когти.
А в остальных случаях он будет резонерствовать, как резонерствуют и его оппоненты, Киров и Орджоникидзе, как резонерствует сам А. Рыбаков, пытаясь уловить нить Ариадны, ведущую в подвалы души Сталина.
Политическим слепцом выглядит в «Детях Арбата» Киров, который противостоит в этом романе Сталину и логике Сталина. Вот что он думает о своем антиподе: «Выступить против Сталина невозможно. Его методы неприемлемы, но линия правильная». Я допускаю, что реальный Киров мог думать так, но есть ли это заслуга литературного героя Кирова, который должен побороть своего противника чем-то большим, чем логика? Киров у Рыбакова отделяет «методы» от «линии», не замечая, что методы давно стали линией, что линии иной уже нет и что успехи индустриализации, на которые он ссылается и которые связывает с массовым привлечением крестьян в колхозы, политы кровью и потому обесценены.
Вступая со Сталиным в перекрестный спор, Киров псе время полагается в своих заключениях не на чувства, не на человеческие мотивы, а на логику, черпая из того же источника, из которого черпает Сталин. При этом «хорошая» логика Кирова оказывается ничуть не выше «плохой» логики Сталина: они приходят к одному и тому же итогу, но с разных концов.
Ибо Сталин ценит результаты, и Киров ценит результаты. Отсюда его рассуждения о том, что «народу... нравится величие» Сталина, отсюда особое значение, которое он придает улыбке и смеху зубного врача на пляже: «Улыбка, которую он видел, смех, который он слышал, были наградой ему и его партии, оправдывали твердые, подчас суровые решения, которые приходилось принимать». И далее, объясняя столь неожиданную трактовку этой улыбки и смеха, А. Рыбаков добавляет: «Как марксист, он мыслил масштабно, и все же за тысячами и миллионами для него всегда существовал отдельный человек».
Размышляя о Сталине, Киров неизбежно приходит к вопросу: что делать? Убрать Сталина невозможно, он «великий исторический деятель». Он превратил Россию в крупнейшую в мире державу. И вот это-то — то, что Сталин велик и страна велика, — и должно «исправить» Сталина. Потому что руководить великой страной так, как он руководит, невозможно. «Логика исторических процессов, — продолжает свои рассуждения Киров, — неумолима. Сталину придется подчиниться этой логике».
Как мы знаем, Сталин этой логике не подчинился. Он и могущественнейшей державой продолжал управлять по-старому. И освободила нас от логики правления Сталина только его смерть.
Впрочем, если б так! Тут мы противоречим сами себе, потому что Сталин умер, но дело его живет. Эти слова могли бы повторить многие его последователи тридцать лет назад, они могли бы их повторить и сегодня.
Киров и Сталин — герои-антагонисты в «Детях Арбата». По существу, историческая идея романа сводится к этому противопоставлению «хорошего» Кирова «плохому» Сталину, одного политического деятеля, вооруженного логикой, другому политическому деятелю, обращающемуся к той же логике.
Так где же выбор? И неужели Киров, который не видит, что большинство населения страны — а им в те годы было все-таки крестьянство — не только не радуется величию Сталина, но и проклинает его, может вдохновить нас как альтернатива Сталину?
Все-таки идет 1934 год, а позади уже и процессы, и расстрелы, и обескровливание деревни, и голод 1932—1933 годов.
Роман А. Рыбакова тем не менее пробивает брешь в «сталиниане», которая, зародившись в шестидесятые годы, тут же была одарена на долгие годы куклой с трубкой в зубах, в мундире и погонах, раздающей реплики в своем кремлевском кабинете. При этом писатели смотрели на Сталина снизу вверх, а не сверху вниз, как это делает А. Рыбаков. В снижении образа Сталина, имени Сталина, идеи Сталина — его заслуга.
Конечно, проблема Сталина это не только проблема Иосифа Джугашвили, реального человека, треть столетия управлявшего Россией, но и проблема сталинизма, «философии» сталинизма, которую он нам оставил в наследство. Хотя и сталинизм необъясним без Сталина, без выяснения физиономии этого тирана, который, презрев советы Макиавелли, затмил собою тиранов всех времен и народов.
В XIX веке мишенью, которую избрала себе русская литература в обличении деспота, был Наполеон. Достоевский и Толстой развенчали его величие. Это сделали именно они, а не Пушкин, Жуковский, Лермонтов, взросшие под чарами этого гения самовластья. Но уже и Тютчев, родившийся в 1803 году, мог сказать о Наполеоне:
Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила И не приблизилась к нему.
А позже, в стихотворении «Неман», он написал, что Наполеон пошел не только против русского народа, но и против Бога.
Достоевский унизил Наполеона до уровня рядового убийцы, до убийства какой-то там старушонки, поставив на одну доску этот поступок Раскольникова с Иеной и Аустерлицем. «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну укокошил?» —спрашивает в романе «Преступление и наказание» Заметов, намекая на наполеоновскую «теорию» Раскольникова.
И хотя Сталин не Наполеон — дистанция огромного размера, — идея одна и та же, только плата другая, только «средства» грязнее, только ореола нет, вместо него — сплошной кровавый туман.
Наполеон и идея Наполеона сделались в русской литературе символом безжалостности теории по отношению к жизни, символом кровавых «средств», преследующих высокую «цель». Теперь, похоже, этим символом станет на многие десятилетия Сталин.
От этого не уйти, этого не избежишь, и приостановить этот процесс разрушения идола Сталина невозможно: никакие статьи историков, никакие протесты в печати не способны этого сделать. Кто попытается остановить этот процесс силой, тот только усугубит положение этой страшной фигуры в истории.
Французы и по сей день чтут Наполеона, могила его в церкви Дома Инвалидов в Париже — апофеоз земного могущества, могущества земной власти. Из глубины нижнего этажа церкви, открытого взору зрителя, как бы стартует вверх с плит пола огромный гроб красного мрамора. Гроб громоздок и мощен, но, несмотря на свою тяжесть, он возносится какой-то особой тягой ввысь, к куполу.
Несоответствие гроба и человека (маленький Наполеон и чудовищно большой гроб) внушает трепет. Мурашки бегут по спине, испытываешь озноб, дрожь, что-то вроде пиитического восторга, хотя этот восторг темен, нечист. Это восторг страха, восторг ужаса перед кумиром.
В прилегающем к церкви музее Великой Армии («Гранд Арме») нет фиаско Наполеона, нет его поражения, нет указания на жертвы, которыми был устлан его путь. Только одна картина в последнем зале изображает Наполеона грустящим в кресле накануне Ватерлоо. Зато плащ, шпага, треуголка, палатка Наполеона, его саквояж, его награды, его солдаты, его победы выставлены напоказ.
Не так ли происходит и со Сталиным, которого молва по-прежнему не желает отдавать его хулителям, рифмуя его имя с великими событиями в жизни России?
История, писал H. M. Карамзин, злопамятней народа. Но злопамятней его и литература. Там, где народ безмолвствует, она не молчит. Да и само безмолвствование народа, которое является рефреном «Истории государства Российского» и которое потом Пушкин взял как постоянную ремарку к трагедии «Борис Годунов», по Карамзину, «знак тайной, всегда опасной ненависти к жестоким».
Так что, высказываясь сейчас о Сталине, литература, внешне переча народу, переча его заблуждениям, а отчасти и забывчивости, отходчивости, говорит голосом его тайной и глубокой ненависти, его памяти, которую он, может быть, еще сам не сознает.
Сегодня проблема Сталина — не только проблема экзистенциальная и философская, но и проблема фактов, документов. Одно расследование по делу об убийстве Кирова могло бы сделать столько, сколько не сделают десятки романов. Роман может внушить чувство к герою, но для подкрепления чувства нужны показания архивов. Нужны цифры, нужен синодик преступлений Сталина, который снял бы с его образа печать таинственности.
Но пока архивы молчат, литература делает свое дело. Пока факты и статистика заперты на замок, она трудится. Она вносит свои усилия по десталинизации общества.
И пусть она при этом полагается на чувства — чувства верней. Путь от чувств к чувствам — короче. И эффект обращения к чувствам, а не к уму читателя, сильнее.
Поблагодарим Анатолия Рыбакова за то, что он рассказал о сибирской ссылке тридцатых годов (лучшие страницы романа), о политических ссыльных, эсерах, анархистах, большевиках, о священнике отце Василии, о женщине, которая раскулачивала крестьян, а потом усыновила их осиротевшего мальчика, поблагодарим его за то, что он вывел образ матери Саши Панкратова, что передал дух Москвы тех лет, что одним из первых (и когда это было запрещено) дерзнул изобразить Сталина как отрицательную личность.
Но, благодаря его за это, сознавая просветительскую пользу «Детей Арбата», мы понимаем, что ценность их относительна. Она ценность минуты, ценность мгновения, пока еще не подоспели со своими фактами историки, пока муза Клио не протрубила в свою трубу.
4
В статье «С точки зрения экономиста» (Наука и жизнь. — № 4) Гавриил Попов очень точно написал, что Сталин создал Административную Систему со своей подсистемой страха и что подлинным освобождением от Сталина может быть только освобождение от Системы, хотя автор статьи просит не смешивать ее с социалистической системой. Этой оговоркой он сразу снимает напряжение своей мысли, как бы уводит нас в эпоху оговорок и затемнений смысла, и здесь его поправляет другой представитель пауки — историк Ю. Афанасьев, говоря, что «разорвать былое на хорошее и плохое, чтоб хорошее записать лишь в актив социализму и себе, а все остальное Сталину, нет смысла даже и пытаться. Ничего путного из этого не выйдет». Видимо, не только Административная Система, но и социализм, с которым мы имели дело, был социализмом Сталина.
Вот почему произведения, исследующие атмосферу жизни при Сталине, не менее важны, чем романы и повести (а также пьесы), касающиеся самого Сталина или даже его близкого окружения.
В неоконченном романе Юрия Трифонова «Исчезновение» (Дружба народов. — № 1) есть эта атмосфера, есть тайные пружины, управляющие мыслями и чувствами людей в то время, и вместе с тем есть срез системы в ее так сказать, возрастном, кадровом варианте.
Ибо здесь представлены три поколения: бабушка, Давид Шварц, отец героя — Николай Григорьевич Баюков и сам герой, мальчик Горик, дитя эпохи социализма, невинное дитя. Есть, правда, и промежуточное поколение, стоящее между отцом Горика и Гориком, — это молодежь, это, скажем, Ада и Сергей.
Действие разворачивается в Доме Правительства на набережной против Кремля — Кремль и этот дом стоят друг против друга как две взаимозависимые и противоборствующие силы, хотя сила Кремля, в котором обитает Сталин, уже взяла верх над силой Дома, уже осилила его.
Я вспоминаю детство и вспоминаю этот Дом, куда я часто ходил в кинотеатр «Пионер», где за небольшую плату крутили фильмы и продавали вкусное мороженое — эскимо на палочке. Фильмы были про шпионов, про вредителей, которые действовали на каких-то шахтах, заводах; казалось, это не имеет к нам никакого отношения, а тем более не имеет отношения к этому громадному дому, из дворов которого выезжали черные «эмки» и «зисы». Здесь жило «правительство» — слово это вызывало почтение и страх, оно было окружено нимбом тайны, и, глядя на подымающиеся к небу серые стены, я думал, что там, за этими стенами, живут люди, которые выше, светлее, чище меня.
Именно этот дом Юрий Трифонов называет «вавилонской башней из абажуров».
Сейчас, читая его роман, я вижу, что это был дом заложников, дом — тюремный замок, где томились люди, обреченные «исчезновению». Делая революцию, они думали, что строят новый дом, который будет светить всем и привлекать своим светом всех. Они и вселились в него с этой надеждой. Но, стоя перед окном своей квартиры и глядя на тысячеглазый двор дома, отец Г орика, в прошлом член РВС фронта, думает, что вся его жизнь, все его пристанища были «вечный салон-вагон» и сейчас он не обрел покоя, не обрел дома, ибо и эта «пирамида уюта», в которой он проживает, «временная, тоже летит, как прах на ветру».
Он все еще ездит на черной машине, все еще не отстранен от «пакета» (особый паек), но списки «пакетчиков», которые он читает ежедневно в столовой, тают, как снег весной, обладатели «пакетов» исчезают в безвестности, и пути назад у них нет. Это знание повергает его в «смутную тоску, тоску вообще, тоску без границ»; и в такой же тоске пребывает старшее поколение дома, например Давид Шварц, в прошлом деятель партконтроля, комиссий по чистке, а еще в прошлом — руководитель акций по изъятию касс для нужд партии. Раньше это был орел, а ныне «старик-коротышка с большой головой младенца в белом пуху». Давид Шварц, работая в комиссии по чистке, «спасал многих», но «казнил тоже». Теперь его очередь. По соседству с ним и с Баюковым поселился некий Арсюшка Флоринский, в прошлом ординарец, а теперь — «действительный статский советник, сенатор, вхож к государю», который смотрит на этих братьев по классу с презрением, говорит им «ты» и намерен каждому «вбить очки в лоб».
Да и какие они братья? Баюков и Шварц — это аристократия партии, ее верхи, а Арсюшка — низы. Вернее, бывшие низы. Теперь все перевернулось, и низ стал верхом, и командует и распоряжается судьбой таких, как Баюков и Шварц, Арсюшка Флоринский и ему подобные. Собственно, для них и старались «аристократы», взламывали кассы и казнили: пришел черед арсюшек с их любовью к коньяку, французским пластинкам, к «темной старине в бронзовых рамах», к «дородной прислуге», к «подносам с закусками, нагруженными как подвода», к фарфору и хрусталю.
Шварц хоть кого-то «спасал», Флоринский его не спасет. Не спасет он и Баюкова, и друга Баюкова, за которого тот приходит к нему хлопотать. Для него они все идейные дураки (сам он «не дурак», как замечает Ю. Трифонов) и подлежат истреблению ввиду их идейной глупости и веры, тогда как Арсюшка, их преемник Арсюшка, этот «молодецки румяный» малый, ни во что не верит. Он и поднялся-то наверх для того, чтоб потешить свою плоть, чтоб потешиться над этими правоверными, чтоб посмеяться над их большевистской скромностью, которая кажется ему юродством. И почти как мысль о смерти, принимает в конце романа Баюков мысль о том, что они, аристократы, положили жизнь затем, чтоб воцарился Арсюшка и его Хозяин, чтоб раб и хозяин правили вместе, делая вид, что правят раздельно.
Роман Ю. Трифонова освящают два фантастических видения: видение женщины, преградившей во сне путь Горику, — женщины, превращающейся тут же в мужчину в пальто до пят, и видение уже не сна, яви — видение портрета Сталина над Москвой, реющего в ночном первомайском небе. «Над Кремлем, — пишет Ю. Трифонов, — остался висеть один громадный портрет на незримой нитке. Он светился в черном небе наподобие киноэкрана невероятных размеров. Его стояние в воздухе казалось сверхъестественным, было чудом».
Сталин и женщина из сна Горика похожи: у Сталина усы, и у женщины вырастают усы (правда, с бородкой), Сталин любит облачаться в шинель, а женщина одета в пальто до пят, а главное, оба внушают ужас, делаются какой-то стеной на пути мысли героев, как бы наплывают на их душу, хотят заслонить от нее мир.
И как раз после того, как ему является «женщина его ужаса», как называет ее Ю. Трифонов, сын Баюкова вспоминает тридцать седьмой год, и как раз в те минуты, когда Баюков уже внутренне приготовился к аресту, он видит «почти неподвижное», «прицепленное к невидимому и замаскированному аэростату» лицо Сталина.
Это лицо Сталина на аэростате, на незримой нитке, говорит больше, чем иные реальные явления Сталина в прозе последних лет. Это призрак и действительность, это страх людей, сконцентрированный в портрете, который, хоть и безраздельно властвует в небе, но висит на нитке.
Глядя на этот портрет, Баюков не может ничего сказать о Сталине, он не позволяет себе о нем думать, но, если он о чем-либо и хотел думать, в чем хотел бы разобраться, так это разобраться в себе самом, Сталине. Ему еще нужно его понять, он не может допустить мысли о преступности Сталина, о том, что между Сталиным и Флоринским — один шаг, потому что Арсюшка для него жлоб, смерд, ничтожество, а Сталин — идея, которой он отдал жизнь. Он, как и Киров у А. Рыбакова, еще не отделяет Сталина от идеи, ибо расстаться со Сталиным еще можно, но с идеей — никогда.
Вот почему на мыслях Баюкова (хотя, повторяю, он не обсуждает в романе фигуру Сталина) лежит какая-то неотвратимость, предопределенность. Он, как и Давид Шварц, и его краснознаменец-брат, сам отдавал когда-то приказы о расстрелах. Он считал насилие законной формой изменения истории, почему же сейчас ему не признать насилия даже над собой, если так требует революция?
Аристократы партии недоумевают, ищут выхода из тупика и не могут найти, так как ищут не там, ищут не так. Они все еще кивают на какие-то внешние причины, почти цитируя Сталина, который привык все валить на внешнего. врага, на обострение международной обстановки. «Подоплека этих страшных политических встрясок, — говорит себе Баюков, — страх перед фашизмом. Возможно, даже провокация со стороны фашизма?». Ему и в голову не может прийти, что причина этих встрясок гораздо ближе, что вид на нее открывается из его окна.
Ю. Трифонов прекрасно показывает слепоту верхов, оцепенение верхов и старшего поколения партии, которые не в силах преодолеть свой сон и выйти из этого сна. Они только способны ждать, ждать, как ждет вол обуха, и повиноваться ходу событий.
Этот исторический фатализм противоречит их жажде жизни, желанию противостоять давлению, принуждению, желанию свободы. Видно, для того, чтобы прозреть, им надо самим пройти через мясорубку Сталина. Но история знает примеры, когда и там, в тюрьме, они все еще стояли на своем, думая, что Сталин образумится, что Сталин и идея вернутся на свои места.
В финальных сценах романа Баюков вновь стоит у окна, глядя на «тысячи огней», и ждет рокового звонка в дверь. Дом засыпает, но ему не спится. Он только что ударил сына, он был вне себя, и виной тому не глупая проделка Горика за столом, а его, Баюкова, бессилие, его нервы, его страх, паралич воли, который он в себе презирает, потому что привык действовать, а не ждать, смерти.
Где-то в дальней комнате мать уговаривает плачущего Горика, обещая ему, что все забудется, но нет, ничего не забудется, все останется в его душе, и когда он, уже юноша, вспомнит об этих днях, он поймет, как все они были на волоске тогда.
Одна деталь из «Исчезновения» запоминается надолго. Речь идет об эпизоде, когда приходят арестовывать мужа Ады Воловика. Муж Ады отсутствует в квартире, но здесь оказывается возлюбленный Ады Сергей. И он ни жестом, ни словом не пробует защитить честь любимой женщины. Молча он покоряется бесцеремонности тех, кто роется не только в столе Воловика, но и в бумагах Ады. И лишь одно горячит его мозг: спастись, спасти себя! «Одну за другой он курил папиросы из коробки «Герцеговина Флор», — читаем мы. — Пришла мысль: они должны знать, что Сталин любит курить именно эти папиросы».
Сергей хватается за это совпадение, как за соломинку. Он тайно, рабски льстит Сталину и его подручным, он намекает, он отчаянно кивает на эти папиросы: ну, заметьте же, заметьте! И то, что эта просьба не высказана открыто, а через немой крик Сергея о своей благонадежности, еще страшнее.
Москва 1937 года у Ю. Трифонова безмолвна, она приговорена, ее муки беззвучны, как муки мучающихся во сне. Она парализована страхом, зачарована страхом, она, как и Ленинград в поэме Анны Ахматовой «Реквием» (Октябрь. — № 7), болтается привеском к своим тюрьмам.
Вот образ Ленинграда в «Реквиеме»:
Это было, когда улыбался Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки.
Шли уже осужденных полки И короткую песню разлуки Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь Под кровавыми сапогами И под шинами черных Марусь.
Как «Котлован» А. Платонова — самое значительное явление в прозе 1987 года, так и «Реквием» Анны Ахматовой — столь же великое событие в поэзии этого года.
Пока политики у Ю. Трифонова спорят, мать в поэме Ахматовой страдает. Она стонет и рыдает, как древняя Мать у распятия своего сына, рядом с крестом, на котором он распят, ибо и крест, и Голгофа для нее не символический крест, а видимый, ясный, и тюрьма, где заключен ее сын, называется Кресты.
Совершается как бы новое крещение Руси — крещение кровью, но оно ведет не к воскресению, а к смерти, к уничтожению связей, родства, памяти.
«Муж в могиле; сын в тюрьме» — этот мотив исповеди женщины соединяется с зовом гудков, с шумом тюремного тополя, со «звуком кадильным», прощальным, ведущим «куда-то в никуда», с мольбой и молитвой о пощаде, о спасении, со светом Полярной звезды, светящей там, где «клубится Енисей», с воплем «стрелецкой женки», провожающей стрельцов на казнь.
История аукается, отзывается в стихах Ахматовой, связывая времена, зверств под стенами Кремля в эпоху Петра с мучительствами нового времени, крики стрелецких женок с криками «:измученных ртов» женщин, стоящих в 1935 году в тюремной очереди.
Голос «Реквиема» — это голос из очереди, голос из толпы, опоясывающей стены тюрем, это голос от подножия вавилонской башни, поднимающийся до ее вершины. И пусть герои Ю. Трифонова еще не слышат этих голосов, им предстоит слиться с ними, стать каплею в этом хоре.
Поэма А. Ахматовой утверждает общую беду народа, это не беда партийной иерархии, это беда и крестьян, и интеллигентов, беда высших и низших, беда всей России, которая корчится под шинами демократических Марусь.
Когда я читал «Реквием», я все время останавливался глазами на датах, которыми обозначены отдельные стихи: 1935-й, 1939-й, 1940 год. Поэма писалась тогда, писалась, когда молчание считалось доблестью, а слова, произнесенные вслух, грозили гибелью. Но поэт не побоялся этого.
Такого рода свидетельства повышают авторитет слова, авторитет литературы. Они высоко поднимают звание писателя и его значение в обществе. От этого заражаются, этим вдохновляются. И смешно слушать сегодня тех, кто говорит, что такие разоблачения, как «Реквием», несут разочарование, повергают в уныние и тоску. Да, они заставляют содрогнуться сердце. Но они заставляют его и затрепетать от радости, что честь не была утеряна. Они говорят о подвиге сопротивления, который возвышает нас не меньше, чем само слово.
Это относится и к «Котловану» А. Платонова, и к «Собачьему сердцу» М. Булгакова, и к его письмам Сталину и правительству. К нам возвращаются документы о героическом поведении лиц, которые по традиции принято считать слабыми, принято относить к нестойкой «интеллигенции», которая, дескать, слишком любит жизнь и слишком многим готова поступиться ради нее.
Нет, нет и нет — отвечают на этот предрассудок А. Ахматова, М. Булгаков и А. Платонов. Нет — отвечают на это Варлам Шаламов, Анатолий Жигулин, Семен Липкин, Василий Гроссман, Федор Абрамов, Анатолий Приставкин и другие авторы 1987 года.
Как ветка лиственницы в рассказе Варлама Шаламова «Воскрешение», поставленная в консервную банку, оживая, доносит до нас запах леса, так и эта проза и поэзия, воскресая в хлорированной воде нашей памяти, дает свои побеги и свой рост.
Женщина, получившая эту ветку в подарок с Дальнего Севера, ставит ее в мертвую водопроводную воду и ждет. Они обе напрягаются — и лиственница, и женщина, — и ветка через три дня и три ночи начинает издавать «странный, смутный скипидарный запах», и на ее жесткой коже проступают «новые молодые живые ярко-зеленые иглы свежей хвои».
И далее уже запах переходит в цвет, а цвет и запах вместе — в голоса, и это, как пишет В. Шаламов, «голоса мертвых», ибо «лиственница — дерево Колымы, дерево лагерей».
Так наша любовь и наше внимание воскрешают сегодня страницы книг, которые, как эта жесткая ветка, казалось, уже умерли, отпахли, отдышали и не могли ожить.
А вот более близкий пример — три рассказа Федора Абрамова (Наш современник. —№ 3). И здесь, говоря словами А. Ахматовой, криком «кричит стомильонный народ». Народ, который и по сей день помнит времена Сталина и по сей день не может освободиться от морока той эпохи.
В одном из рассказов («Старухи») портрет вождя висит в избе тетки Любы между фотографией внука и божницей. На вопрос, почему этот портрет висит здесь, тетка Люба, оттрубившая свой век в колхозе и получающая пенсию двенадцать рублей, отвечает: «Ничего, от такого куля стена не проломится». «Куль» на ее языке — «культ личности»: так высмеивает тетка Люба эвфемизм, придуманный для сокрытия истинного имени Сталина.
Про Сталина тетка Люба говорит «:вожж», а про остальных руководителей — «вожжи». Героиня рассказа сокрушается, что чересчур часто приходится менять «вожжей». То на одного «вожжа» мода, то на другого. Приезжает к ней партийный секретарь и объясняет: «...того, который без волос и закормленный (Никита Хрущев. — И. З.) — нельзя, ни в коем разе, тот пущай и вперед на темной подволоке проживает, а тот, который с усами, того можно и на свет, на того... послабенье вышло».
Рассказ начинается в стихии смеха — кажется, старухи и присутствующий на их посиделках автор смеются над Сталиным. Но вот заходит разговор о серьезном, автор предлагает бабкам написать письмо «наверх» о несправедливости малой пенсии, и тут ситуация меняется. Она просто резко переходит в свою противоположность. «Не сходите с ума-то! — увещевает их Марковна. — ... вас куда, старых дур, понесло? В политику!».
«Слово это, — пишет Ф. Абрамов, — как электрический ток, встряхнуло старух». Один намек на то, что их разговоры можно приравнять к «политике», отрезвляет героинь рассказа. Они мигом смолкают, а потом, чтоб заглушить страх, начинают хвалить Советскую власть.
«Нет, нет, спасибо Советской власти! Не забыли нашу старость. Я кажинный божий день за ей молюсь и сичас помолюсь», — говорит Фиклистовна и тут же, повернувшись к божнице, творит крестное знамение «трясущимися изуродованными ревматизмом пальцами».
Великих подвижниц видит в этих старухах Ф. Абрамов — «вкалывали всю жизнь, рвали из себя жилы» — и великих мучениц. Он не уверен, «пройдет ли по Русской земле еще раз такое бескорыстное, святое племя», но он видит, что племя это до конца дней поражено страхом.
По своей матери помню. Сколько она вынесла всего, сколько лагерей и тюрем прошла! А как только заходила речь о «политике», как только я позволял себе какие-то резкие слова в адрес ее мучителей, окорачивала меня, просила: «Не надо!»
Абрамов, как всегда, жалеет своих старух. Он плачет над их участью, над участью своего народа, который для него первая и последняя любовь.
Но он и себя жалеет тоже. И он тоже, хотя он и писатель, не может сказать Сталину в лицо то, что он о нем думает. Он вынужден промолчать в ответ Иосифу Виссарионовичу, когда тот — в конце рассказа — улыбается ему с портрета и говорит: «Надо знать своих земляков, товарищ писатель».
«Ну что я мог возразить на это?» — задает Абрамов вопрос в последних строках рассказа. И в самом деле, возразить нечего. Самодовольная улыбка Сталина на портрете означает, что земляки писателя, все еще пребывают в почтении к привычкам, которые он среди них насаждал, что их мучит эта почти запредельная связь с Ним (так, с большой буквы, пишет это слово Абрамов), который мертв и вместе с тем жив, бессмертен.
Бессмертие Сталина — в этой памяти народа о нем, в этой привычке смирения и покорности, которая выталкивает из рассказа смех, побеждает смех.
В новелле «Фосфор» (Знамя. — № 4) Василий Гроссман рисует компанию молодых людей, которая, благополучно миновав сталинские чистки, вышла из них почти без потерь. Все они выжили, состоялись, вышли в знаменитости, в большие чины. Это компания «победителей», мощных умов, в клетках мозга которых много фосфора и соли. И лишь один из них белая ворона. Это «неудачливый цеховой химик» Давид Кругляк, предмет насмешек и розыгрышей молодых людей, неровня им по успехам и по достатку фосфора и соли. Его флейта, как говорит рассказчик, не звала Давида в великую даль.
Но не кто иной, как этот Давид, когда герою новеллы делается плохо и когда блестящие молодые друзья позабывают о нем, оказывается рядом. Он приезжает к герою в Донбасс из Москвы, он приходит к нему домой и звонит, а если не может прийти и позвонить — ибо отбывает срок в лагере, то присылает привет в письме и слова утешения.
Сам нуждаясь в утешении, он безвозмездно дарит его другим и, хотя эти добрые движения души Давида никак не меняют характера «победителей», и в том числе характера героя новеллы, который, вскоре после того, как его дела поправляются, не вспоминает о своем утешителе, Василий Гроссман ничего не может предложить читателю, кроме этой старой истории о верности и предательстве.
Рассказы Федора Абрамова и Василия Гроссмана написаны почти в одно и то же время — в шестидесятые годы. Они не печатались, они появились только сейчас, и пусть в одном из рассказов перед нами деревня, старухи, бабы, в другом — пианисты, ученые и писатели и большой город — народ един, народ одно тело, хотя Сталин, как пишет в своей повести «Встань и иди» Юрий Нагибин, и пытался рассечь ножом это тело.
Повесть Ю. Нагибина (Юность. — № 10) посвящена отношениям отца и сына, отношениям двух поколений — «алмазного» поколения отца и поколения сына, которое родилось в иную эпоху и несет на себе гнет «испуганной и жалкой преданности». «Сам он был алмаз, — пишет Ю. Нагибин об отце, — который можно надрезать только алмазом. А я не был алмазом, я принадлежал к несчастному и нечистому поколению, родившемуся после революции: порядочный в меру сил, стойкий в меру сил, добрый в меру сил, иными словами, на самом краю способный к выбору между гибелью и предательством. Для отца такого выбора не существовало, он знал только гибель».
Так же как в романе Ю. Трифонова Баюков знает только гибель, а Сергей выбирает не гибель, а выживание, так и герой повести Ю. Нагибина принадлежит уже к тому поколению, которое алмазу предпочитает компромисс.
Отец его не может жить с виною на душе, не может делиться между правдой и ложью, потому что родился свободным. И за это он, как и всякий идеалист, должен платить. Много лет, начиная с 1928 года, когда его впервые арестовывают, отец истаивает в лагерях и ссылках, меняя Москву на Иркутск, Иркутск на Саратов, Саратов на Кандалакшу, Кандалакшу на Рохму. Он переходит из тюрьмы в лагерь, вновь возвращается в тюрьму и окончательно находит себе пристанище в маленьком текстильном городке в средней России. И всюду за ним, как привязанный, следует сын — сын, убитый своей любовью к отцу и своим от него отступничеством.
Юрий Нагибин показывает рождение страха в своем герое, причем страха не социального, а животного, физического, который, однако, невидимыми нитями связан со страхом, распространенным в обществе. Страх этот зарождается в душе маленького человека, ребенка, он появляется в нем в предгрозовые минуты, когда тьма обволакивает город и одни купола церкви, все еще сияющие на солнце, остаются неподвластными страху,— затем в еще более ужасном обличье он является к нему ночью в спящей квартире, когда над дверью дергается колокольчик я кажется, что кто-то войдет в дверь и кончится детство, кончится все.
И если в первый раз бедное дитя взывает к «миленькому боженьке» и просит его о спасении всех троих — то есть отца, матери и сына, то во второй раз маленькая душа совершает свое первое предательство в жизни — она молит боженьку о том, что «если уж это так нужно, если иначе нельзя никак», то «пусть одну только маму... чтоб только не меня!»
Ожидая, что в дверь войдут те, кто приходит по ночам брать людей, он готов отдать им свою мать.
Голос звонка, напоминающего герою о его падении, звучит в его ушах, и он так же несмолкаем, как нестираемы в его воображении картины лагеря и колючей проволоки, разделяющей его и отца, делящей народ на судящих и судимых, свободных и несвободных, на людей и быдло.
Горькие картины встречи с отцом в лагере похожи у Ю. Нагибина на страшные сны, они почти мифичны, потому что происходят при взаимном непонимании человека и природы, при их конфронтации и вражде. Природа не ведает, что творит, она украшает и орудия отчуждения, орудия насилия, которыми выступают в повести колючая проволока и ее играющие на солнце шипы. Вначале, когда герой издали приближается к рядам этой проволоки, она и ее нити кажутся ему нежной принадлежностью пейзажа, одной из сказок зимы, но потом — по мере приближения к ним — нити очерняются, блики гаснут, и он видит сплошную клетку, в которую заштрихован русский простор.
Образ клетки — образ неволи, и с клеткой, с крысоловкой сравнивает Юрий Нагибин помещение тюрьмы, где происходит свидание отца и сына. Сравнение жестокое, ко точное: та же теснота, та же драка, та же решетка, через которую можно только просунуть руку, дотянуться пальцами до чьей-то руки. Сплетшиеся тела рвутся к решетке, чтобы разглядеть своих близких, но их отбрасывает внутрь удар приклада — удар, приходящийся в самую середину человеческого «месива».
Где-то в этом «месиве» мелькает отец, мелькает и пропадает, как пропадает он за сверкающими нитями колючей проволоки, когда сын, навестив его, покидает лагерь. Вот они идут рядом вдоль этой проволоки — один уходящий, другой остающийся, один уезжающий далеко, другой имеющий предел зоны, и солнце, опять не зная, что оно делает, серебрит нити проволоки, создавая «легкое сияние, творящееся вокруг льдистых шипов».
Нежная луна у Нагибина серебрит «гигантский плевок» катка, а унитазы в туалете «Каморок», где поселился в Рохме отец героя, похожи на два диковинных цветка, на два «бутона на общем трубчатом стволе». Страшная картина этой запущенной уборной, огромной, как зал, чьи стены на высоте, превышающей высоту человеческого роста, исписаны дерьмом («на одной из стен чья-то рука начертала... «Гитлер — пидорас») и покрыты зеленой слизью, вызывает дрожь омерзения и дрожь сострадания к обитателям этих мест.
Повесть Юрия Нагибина — испытание для сильных, она порой отталкивающебеспощадна, но ее перепады от отвращения к жалости, от идеального к ничтожному не коробят слуха: такова жизнь, такова правда, и что тут поделаешь? Нагибин в этой повести и сам не похож на себя — где беллетризм, где «опыт», где набитая рука? Следы «опыта», как старая побелка, осыпаются под рукой писателя. Юрий Нагибин вновь пишет как в первый раз, как на своей «табула раза». Он начинает еще по-старому, делясь с читателем от щедрот беллетристики, которая падка на все внешнее, на все «красивое» (таковы описания иркутского рынка, цветов и бабочек), он разгоняется, входит в ритм и внезапно сбрасывает кожу, меняет ее, обретая голос, который давно не звучал в его прозе. Это голос тайны души, тайны сердца.
Его жжет тайна «утраты личности», утраты связей, тайна предательства и конформизма. Он видит рядом сына и отца: одного — «ловкого и пробойного молодца», живущего среди «икроедов», и другого — с «обглоданным лицом», с руками, которые не руки, а «какие-то косточки, стянутые темной черно-желтой перепонкой». И все тело отца — легкое «бедное тело», которое сын берет на руки, ничего не весит, потому что в нем уже нет тела, а остался один дух.
Это тело сын лелеет в своих руках, к этому телу он прижимается в горькие минуты, согревая его и сам обогреваясь скудным теплом отца, и от него отворачивается, отталкивается, меняя преданность на сытую московскую жизнь. Он не может рассказать своим сановитым родственникам (а он женился на дочери советского вельможи), что у него есть отец, что отец этот жив, но находится между изгоев и прокаженных. В его анкетах и рассказах о себе нет отца, отец вычеркнут из его жизни, вырван, как сорная трава.
«Сережа отречется от тебя, от меня, от черта, от дьявола», — говорит отцу, успокаивая его, его бывшая жена, мать героя. Она хотела бы, чтоб тот к этому привык, чтоб он принял это как должное, как принимает он как должное то, что его заставляют прятаться в ванной, когда раздается звонок в дверь. Отец приезжает на побывку к жене и сыну, и те, принимая его, дрожат, сидя за столом, и вслушиваются в звуки в коридоре, чтоб при первых же признаках опасности отправить отца в ванную.
Все это перерастает к концу повести в «ужасную игру», в последнюю игру, которую ведет сын с отцом, когда тот — уже больной, недвижимый, старый — просит его приехать в Рохму, а сын находит предлоги, чтоб отложить отъезд. Отец умирает без сына, брошенный и одинокий, и раскаявшийся сын записывает в своем дневнике: «Он был моим сыном, и потому нет мне сейчас прощения. Сын предает отца — это закономерно, дети всегда, рано или поздно, так или иначе предают родителей. Но когда отец предает сына — нет ему прощения. Я это сделал. Я предал своего старого, больного, одинокого, умирающего сына».
Запись эта, как отмечает Юрий Нагибин, сделана 4 апреля 1952 года. В нее веришь, как в документальный факт. Да и сама повесть не что иное, как документ, свидетельство сына перед тенью отца, отчет Гамлета перед призраком, запоздавший на тридцать пять лет.
5
Владимир Дудинцев называет героя своего романа «Белые одежды» «Гамлет оцарапанный». Он дает понять, что Федор Дежкин современный Гамлет, что история, рассказанная когда-то Шекспиром, способна повториться и в наши дни.
Роман, правда, отнесен на сорок лет назад, но тем затруднительней в условиях 1948 года роль Гамлета, роль человека, который, собираясь мстить, играет с обстоятельствами, принимая порой личину тех, кому бы он хотел нанести смертельный удар.
Между героем Шекспира и героем Дудинцева есть одно прямое соответствие. И тот и другой имеют перед собой великую цель. Один должен спасти честь отца и воздать его убийцам по заслугам (идея справедливости), другой — во имя той же справедливости — должен спасти идею, а заодно и себя. Ибо, если он не спасет себя, не спасется и идея — погибнет картошка Стригалева и его опыты.
Но датский принц бросает перчатку Клавдию — человеку, который хоть и убил своего брата и благодаря этому воцарился на троне, все же сызмальства находился «наверху». Дежкин объявляет войну Рядно — выдвиженцу «низов», который пробился наверх, карабкаясь от ступеньки к ступеньке. Такие люди, оказываясь у власти, всегда страшнее тех, кому эта власть была дана от рождения. Они полили свой путь потом и слезами. Они обдирали пальцы, пока поднимались к вершине. Они предавали, отрекались, обманывали, они прошли науку лицемерия и лжесвидетельств, которая помогла им занять подобающее место.
И поэтому они крепче держатся за него. Они на все пойдут, лишь бы не отдать то, что они завоевали. Они расстанутся с властью только ценой жизни.
Некоторые критики называют Рядно героем «почвы». В эти слова они вкладывают уничижительный смысл. Да, Рядно крестьянин, да, он из мужиков. Но в то время, когда поднялся Рядно, «почва» поставляла наверх отнюдь не лучших своих сынов. Лучшие гибли в лагерях и ссылках. Из засылали за Можай и еще дальше. Прочтите записки Ивана Твардовского в «Юности» (1988. — № 3) — вот судьба лучших. Отбор шел не по линии благородства, а по линии жажды реванша. Самостоятельные личности, которые в изобилии производит народ, не уважались. Если их и выдвигали, то тут же приручали. Если они не приручались, их уничтожали. Выживали только верноподданные.
А для того чтобы стать верноподданным и сравняться на каком-то уровне с самим «Хозяином» (с которым Рядно пьет чаи), нужна была тренировка души и тела, которая под силу только живучим.
Так что перед героем В. Дудинцева стена понесокрушимее, чем перед Гамлетом. Он вступает в игру не с Рядно, не с институтом, где служит, и даже не с генералом Ассикритовым, олицетворяющим всесильные органы, а с системою, не имеющей в истории ни одного аналога. Он находит прорехи в этой системе, пороки и, играя на этих пороках, проделывает щели в стене, которая, хоть и выстроена из бетона, крошится и трескается у нас на глазах.
На этапе заката системы Федор Дежкин сознает, что, ослепленная своими успехами, она может дать себя обыграть, одурачить, обвести вокруг пальца. Потому что она доверчива к демагогии, ко лжи, к казенной преданности. Она уже не требует от человека души и тела, она согласна на послушание и признание ее господства. На этот цинизм системы герой В. Дудинцева отвечает цинизмом — и это и есть конфликт «Белых одежд».
Вообразить себе этот конфликт в условиях 1937 года почти невозможно. Тогда и система была моложе, и люди другие. Но в то время, которое описывает В. Дудинцев, отношения человека и системы уже стали выходить из-под контроля последней, хотя она, казалось, сохраняла над ним неограниченную физическую власть.
Если героям романа Ю. Трифонова «Исчезновение» и в голову не могла прийти мысль о протесте, об оспаривании «линии», которая вела к уничтожению их самих, если мысль об игре, об обмане системы, которую они создавали, была им тем более чужда, то Дежкин этих стеснений не испытывает. Он понимает не только лживость Рядно и ему подобных, но и лживость исповедуемой ими «веры». Как человек анализа, как ученый, он видит ее несостоятельность.
Это и развязывает ему руки. Он притворяется, изображая из себя верного рядновца-лысенковца, а в душе пребывая вейсманистом-морганистом, то есть еретиком.
Тактика Федора Дежкина напоминает тактику человека, засланного во вражеский лагерь с особым заданием. А для него Рядно и Ассикритов враги, а не заблудившиеся овцы. И он поступает с ними соответственно. Он считает нравственным обманывать тех, кто сам врет, кто недостоин иного обращения, и потому ложь не марает его «белых одежд».
Метафора «белых одежд» имеет в романе В. Дудинцева два значения. В белых одеждах ходят биологи — герои романа. И белые одежды — это символ чистоты, чистоты спасенного благородства. Остаются ли чисты одежды Дежкина? Е. Старикова в статье о романе (Новый мир. — № 12) пишет, что автор играет с огнем, что, воспевая «темный плащ» Гамлета, он предается апологии аморализма. Она страшится, что «вынужденная практика» Дежкина может превратиться в правило. Но, как и Гамлет, герой В. Дудинцева жертвует только собой. И в этом его коренное отличие от теоретиков «вынужденной практики».
Как ни слаба система, она все еще во всеоружии силы. Отладка наушничества действует безотказно. Гамлет-Дежкин оказывается с системой один на один. Арестовывают Лену. За ним самим установлено наблюдение. Всюду расставлены капканы. И все-таки, говорит В. Дудинцев, и эту несокрушимую крепость можно сокрушить. Как ни защищена она, ни оснащена со всех сторон глазами и ушами, бессонно следящими за каждым членом общества, человек, если он на это решился, может одолеть и ее.
Г ерой «Белых одежд» почти иезуитски использует то. что для такого человека, как Саша Панкратов («Дети Арбата»), считалось невозможным, запретным, кощунственным. Он играет словами, которые для Саши Панкратова священные слова. Дежкин, дитя сомнения, смотрит на эти слова, как на демагогический туман. Перед читателем вырисовывается картина противоборства, где на одной стороне выступает вооруженное до зубов зло, а на другой — добро, решившее кое-что позаимствовать из арсеналов зла. Позаимствовать его лексику, его демагогию, его привычку прикрываться дымовой завесой.
Как ни странно, идейный герой В. Дудинцева становится героем детектива. Он поставлен в такие обстоятельства, в которых не может иначе раскрыться, иначе победить. Он свой среди чужих и чужой среди своих. Это тип героя прозревшего, протрезвевшего, который, чтобы победить систему, должен бросить ей вызов Г амлета.
То, что В. Дудинцев привлекает к этой игре полковника Свешникова, не кажется мне убедительным. Такие полковники, безусловно, существовали, но большее, на что они были способны, это сочувствие, послабление каких-то тягот в отношении тех, кто попадал им в руки, но — не выдача секретов ведомства, война с собственным ведомством. Это натяжка, как натяжка и идеализация (и плохая беллетристика) — страницы, посвященные роману Дежкина с Леной, сцены «испытания», которому подвергает Дежкин свою возлюбленную. Тут В. Дудинцеву просто изменяет вкус.
Роман не в этом — не в романной интриге с любовной завязкой и развязкой, с какими-то парами, превращающимися в треугольники (поэт — жена Посошкова — Посошков), а в игре Дежкина с «батькой» Рядно.
Конечно, этой игрой может заразиться любой современный конформист. Он может сказать, что он поступает так же — лжет и изворачивается, чтоб спасти идею. Но в том-то и дело, что конформист всегда спасает себя. Герой В. Дудинцева, как мы уже говорили, рискует головой. Его игра — подвиг самоотречения и самосожжения.
Не хочу быть апологетом такого типа, но не могу не признать, что это новый для нашей литературы тип. Он явился на изломе эпохи, когда старые верования превратились в свою противоположность, обнаружив таящийся за ними обман. Обман и вызывал реакцию обмана, реакцию Дежкина.
Подвиг сопротивления может быть подвигом открытого боя, подвигом молчания и подвигом такой игры. Конечно, они не равноценны. Конечно, подвиг открытого боя всегда будет стоять на первом месте. Но и писатель молчит долгие годы, создавая свои произведения. Его подвиг сопротивления — в выношенных им в молчании словах.
Такой подвиг совершил В. Дудинцев. Он написал роман, который в те годы, когда он писался, не мог увидеть свет. Это было дело почти безнадежное, это был риск. Как Дежкин не мог знать, что случится 5 марта 1953 года (дата смерти Сталина), так и его автор, его создатель не мог назвать числа, когда падут оковы цензуры. И это заставляет нас снять перед ним шляпу.
* * *
Тот же пример сопротивления я вижу и в повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» (Знамя. № 3—4). Я читал эту повесть несколько лет назад. Тогда не было никаких надежд на ее публикацию. Но повесть была, был факт ее создания, факт противоборства, непокорства, который есть нормальный факт для писателя.
У нас даже слово «инакомыслящий» стало синонимом слова «враг». Меж тем всякий писатель это всегда инакомыслящий, потому что у него есть своя точка зрения на историю, на настоящее и на идеал настоящего. Он — не проводник общих идей и не приводной ремень к машине пропаганды, а творец и герой жизни одновременно.
Злодеяния Сталина легли тенью не только на отдельного человека, но и на целые народы. Об этом написана повесть А. Приставкина. Она, естественно, не только об этом, она — о судьбе детей во время войны, о детдомовцах, оставшихся без отцов, без матерей и обретших мать в Родине, в огромной стране.
Как детдомовец могу засвидетельствовать: все, что рассказано здесь, правда. Жизнь в детдоме полна светлых минут и отчаяния, детский дом — и дом родной, и лагерь, где каждый маленький человек обобществлен, не предоставлен самому себе, где сила — физическая сила — разделяет и властвует, где пороки системы отражены в страшной форме, потому что они падают тяжестью на детей.
Детский дом и спасал и калечил. Он отсеивал слабых, отбирал сильных, он сортировал детей по этому признаку, а это несправедливо. Кто слаб, не виноват, что слаб, он таким родился, но к слабостям ребенка снисходительна только мать — мачеха на это неспособна. Детдом был и матерью и мачехой, а порой он напоминал отчима, который колотит неродное дитя без жалости.
И все-таки детдом согревал, все-таки бросал детей друг к другу, они согревались собственным теплом, если не грела печка. Их мучил голод и холод (такие голод и холод, когда все сворачивается внутри и, кажется, сам желудок выворачивается наружу и когда ты превращаешься в примерзший камень на топчане), их мучила тоска по дому, по родителям, которые пропали где-то на большой войне.
Как ни гуляла по нашим спинам палка воспитателей — было и так, — как ни разделял и ни властвовал голод, как ни дубили шкуру жестокость и военный строй, связь с войной, связь со страной была несломимой, была единственным, за что держался маленький человек, брошенный в эти серые ряды.
И это прекрасно показал А. Приставкин. Его маленькие герои — уже люди, уже взрослые душой и сердцем, умные сердцем и душою, они порядочные люди, черт возьми. И они находят таких же порядочных людей среди тех, кто должен учить и воспитывать их. Эта нитка спасения не рвется, эта связь не нарушается, сердце не гаснет, и именно поэтому в конце повести брат Кузьменыш, потерявший брата, закрывает собой мальчика- чеченца, чьи родичи, может быть, сделали его одиноким. Нет преувеличения в этом решении писателя, нет сладкой воды, а есть правда доверия и веры, которая не убита в маленьком сердце.
Трагедия народа была и трагедией детей, и в этом высокий смысл повести А. Приставкина, ибо она вносит резкую коррекцию во всю нашу «детскую литературу», привыкшую пробавляться получувствами, полумыслями, полурешениями. Когда мальчик видит убитого брата, когда он везет его на тележке, а затем грузит в собачий ящик, чтоб отправить в дальний путь, мы понимаем, что чувство пути есть в этой повести, что она в высшей степени духовна, хотя в ней нет никаких разговоров на эту тему. Здесь нет упоминаний имени Бога всуе, но есть Бог.
6
С легкой руки Чингиза Айтматова, слово Бог в нашей литературе вновь стало писаться с большой буквы. Это — дань понятию, которое стоит за этим словом, дань уважения к культуре и опыту народов, которые выработали это понятие веками своего развития.
Тема Бога была одной из запретных тем не только минувшего десятилетия, но и многих десятилетий. Даже в Полном собрании сочинений Пушкина, да и не только Пушкина, но и других великих писателей XIX века это слово писалось с маленькой буквы. Мы принижали этим не Бога (его не унизишь), а писателя, низводили его на свой уровень, на уровень наших цензурных идеалов.
Сейчас этому слову возвращается его высокое значение, и Борис Можаев, и Василий Белов, и Виктор Астафьев настойчиво называют Бога — Богом и не страшатся этого.
И дело не в орфографии, дело в отношении. Дело в почтении к обычаям предков, к их святыням, их пути, наконец. Отрезав себя от прошлого, перечеркивая его, мы остаемся на слишком узком пространстве, в той самой клетке, о которой пишет Ю. Нагибин и в которую мы себя заключили. Человек не может жить без святынь, он должен чувствовать ответственность перед прошлым и будущим, а это и есть Бог.
Иначе все рушится в его настоящей жизни, в его быстротекущей жизни, которая невольна в себе без прошлого, без сыновнего чувства по отношению к нему и без отцовского, без материнского чувства по отношению к будущему. Потому что мы в полном смысле этого слова порождаем его.
Жизнь, оторванная от святынь, признающая святым только настоящее, даже не настоящее в историческом измерении времени, а в измерении мгновения, минуты (пир во время чумы), — это жизнь смертников и жизнь смерти.
Так живут на кладбище в повести С. Каледина «Смиренное кладбище» (Новый мир. — № 5), так обитает на том же кладбище в повести А. Иванченко «Рыбий глаз» (Сельская молодежь. — № 8, 9) некто Пудов, охранник этого пристанища смерти, его Харон и могильщик.
Свобода, сорвавшая печать с запретных тем, сорвала печать и с темы смерти, которая если и получала допуск на страницы романов и повестей, то в качестве «стыдной» темы. Ее выносили за скобки, как выносят кладбища за город, пряча от глаза поселения мертвых. Так огораживаем мы дальние кладбища бетонной стеной, а на прощание отводим минуты, пока гроб под магнитофонную музыку опускается в зев печи. Этот конвейер прощания, конвейер обезличенного горя дорого обошелся нам, и прежде всего нашим чувствам. Превратив смерть и похороны во что-то спешное, что не стоит времени и внимания (а тем более, благоговейной паузы), мы не только отталкивались от предков наших, с которыми наскоро расставались навсегда, но и сеяли ложь и ханжество в отношении понимания жизни.
Даже гоголевский Чичиков возил с собою в шкатулке похоронный билет — это memento mori, напоминание о смерти, как бы заставляющее его думать не только о земных радостях и удовольствиях, но и о том, что ждет его за чертой жизни. И плут Чичиков у Гоголя оборачивал свои мысли в эту сторону, и плуту Чичикову хотелось бы знать, что ждет его там, и поэтому срывались время от времени его меркантильные предприятия, поэтому он никак не мог добраться до конца пути. Чичиковская бричка, пересекавшая в первом томе «Мертвых душ» похоронную процессию, вырывалась за пределы этой смертной черты и выносилась на простор, где ее могли ждать уже не смерть, а бессмертие. Именно поэтому везущая ее тройка превращалась в Русь-тройку.
В разные годы к теме смерти обратились и Ю. Трифонов («Обман»), В. Шукшин («Осенью», «На кладбище»), B. Белов («Привычное дело»), В. Распутин («Последний срок», «Прощание с Матерой»), Александр Вампилов («Утиная охота», «Старший брат»), «Смерть, — писал В. Распутин в «Прощании с Матерой», — кажется страшной, но она же, смерть, засевает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания».
У А. Вампилова почти в каждой пьесе присутствует кладбище. Или герой живет недалеко от него, или кто-то играет в оркестре на похоронах, или о ком-то, еще живом, делается объявление, как о покойнике. Среди мелькания вопросов в театре Вампилова неотвратимо звучит и этот мотив — мотив облагораживающего влияния памяти о смерти, мыслей о смерти, об ответственности, которую вносит в нашу жизнь смерть.
«Загордел человек, — говорит старуха Дарья в «Прощании с Матерой». — Мы не лутче других, кто до нас жил». Святая истина. Гордыня настоящего не способна внести в жизнь высокую ноту, поднять ее. Она, наоборот, низвергает жизнь на дно, делает ее бескрылой, беспамятно-страшной. Так страшна участь обитателей кладбища в повести C. Каледина. Так страшен Пудов в «Рыбьем глазе», который приемную дочку кормит пельменями с начинкой, изготовленной из собачьего мяса, и обирает мертвых, продавая венки и ленты с могил.
Впрочем, ленты он не продает, развешивая их по стенам и читая написанные на них слова.
Герои Каледина и Иванченко погребены заживо, они зарыты еще глубже в землю, чем покойники, над которыми они потешаются и к которым у них нет никакой жалости.
Они безразличны и к собственной смерти, потому что по ту сторону у них ничего нет, там — пустота, и потому настоящее — единственное, что они боготворят, что ощущают как реальность.
Отношение к жизни как к счастливой случайности, которой могло и не быть и которой из-за этого надо «на всю катушку» пользоваться, превращает в случайность, в необязательную случайность и все наши поступки, наши грехи и удачи, наше милосердие и наш цинизм. И цинизм, и высокие чувства, получается, по этой философии, случайны, они могут и не могут быть, и человек не отвечает ни перед кем и ни перед чем за то, есть они или нет.
Поэтому и сгорает дом Пудова на кладбище и сгорает в этом пожаре он сам, что заблудилась его жизнь, запуталась, уперлась в саму себя, в пельмени с собачатиной, в грязные рубли, вырученные за цветы на венках, в насмешку и отрыжку сытости перед лицом смерти.
Некий Новосильцев в рассказе Вячеслава Пьецуха «Билет» (Новый мир. — № 6) просто выкапывает своего отца из могилы, ибо у отца в кармане пиджака, в котором его похоронили, лежит выигравший автомобиль лотерейный билет. Даже бич Паша Божий, и тот не может оправдать поступка Новосильцева. А тому — трын-трава. Он «скорее выроет всех своих предков до тринадцатого колена», чем признает, что он не прав. Ведь для него это всего-навсего разлагающаяся материя, а не святыня.
В сдвиге литературы к этим скорбным темам я не вижу ничего сенсационного. Таков результат молчания, замалчивания. Таков результат общественного тартюфства по отношению к смерти.
Сейчас я читаю в газетах о еще более страшных фактах. Я читаю о том, как на кладбищах организовывается социалистическое соревнование, как «передовикам»- могильщикам вручаются переходящие Красные знамена, как и в этом «ведомстве» есть план «по валу», есть планирование «от достигнутого». Не могу забыть телевизионного фильма о жуликах и ворах, где показывали их могилы-мавзолеи, воздвигнутые над прахом торговцев, мясников и заведующих складами, теснящие скромные пирамидки и кресты, поставленные над местом успокоения честных людей.
Я всегда удивляюсь, бывая даже на наших образцовых кладбищах, посмертному тщеславию, которое увековечено в памятниках и надгробиях. На мраморе и граните золотыми буквами вырезано: генерал, депутат, лауреат, Герой Социалистического Труда. Как будто звания и награды, а также должности, занимаемые умершим лицом, имеют какой-то смысл. Как будто они что-то значат перед этим фактом и тайною смерти. Не честнее и точнее ли писать так, как написано на плите, лежащей на могиле Гоголя: «Здесь покоится тело Николая Васильевича Гоголя». Заметьте такт и высокое содержание этой надписи: здесь покоится тело Гоголя, а не Гоголь. Здесь бренный прах человека, а не сам человек.
Эта страсть к памятникам, наградам, к почестям загробным по соседству с полным отсутствием интереса к жизни, к страдающим и требующим сострадания стало метой эпохи, которая все еще нависает над нами своими тенями. И кто разгонит эти тени, как не слово писателя?
Отношение к кладбищам — показатель здоровья народа, культуры народа и чистоты его. Загрязняя эти места, кощунствуя в этих местах, предавая анафеме то, что уже не с нами, мы предаем проклятию и себя, срок которых на этом свете недолог.
Или как писали на деревянных дощечках, которые прибивали к крестам на старых кладбищах: «Вы в гостях, а мы уже дома». Так мертвые обращались к нам, живым. Не стоит забывать, что мы в этом мире гости, но что наш духовный дом, наша принадлежность другому миру — вечны.
Перед лицом этой вечности меркнет суета сует и желание сделки, желание навязать жизни то, что она в своем течении отвергла, что не приняла, что разумно предотвратила.
Я вспоминаю при этом профессора Преображенского из повести М. Булгакова «Собачье сердце» (Знамя. — № 6), который пытается научить Шарикова культуре и который все время, видя безобразия, творимые тем в его квартире, добавляет: только добром, только по-хорошему. Если сила Шарикова врывается в его жизнь без согласия на свое присутствие, то изгнание или переделку этой силы профессор Преображенский видит лишь на путях гуманности, убеждения и увещевания. Однако и ему приходится возвратить Шарикова в прежнее, собачье состояние.
Эта метаморфоза немедленного преображения собаки в человека ничего не дает. Пес Шарик был покорен и податлив, он отзывался на ласку и, несмотря на свою невоспитанность (дворовая собака), не хамил, не требовал власти и послушания. Шариков — его производное — требует. Он хочет вытолкнуть Преображенского из жизни и из квартиры, воображая себя гегемоном, правящим классом. Плод насилия (насильственной хирургической операции), он привносит в жизнь насилие — разрушает, ломает, уничтожает и ничего не создает.
Заветная идея истории для М. Булгакова — это идея сохранения и наследования, идея преемственности. Чудо изобретения Преображенского — изобретения особых лучей, под влиянием которых пересаженный человеческий мозг способен сотворить из собаки человека, оборачивается поражением. Чудесные лучи изобретают урода, которому в жизни нет места.
Пусть матери рожают детей, и пусть все будет как было, говорит герой Булгакова, смиряясь перед идеей эволюционности: слово эволюция встречается в письмах Булгакова Сталину. Булгаков без обиняков говорит в этих письмах, что он за эволюцию, а не за революцию, и, может быть, поэтому его считают чужим и не печатают в СССР.
Всякое нарушение естественного процесса, операция, подобная той, которую совершает профессор Преображенский над псом Шариком, чреваты посягательством на природу жизни и природу развития. Как и А. Платонов, М. Булгаков отстаивает мысль, что нет движения ради движения, нет движения без ума, без памяти, без, скажем, уважения к старой культуре, которая является в его повести в образе оперы «Аида».
Если в «Белой гвардии» образ старой культуры наплывает из нот оперного «Фауста», лежащих на фортепьяно в доме Турбиных, если в своем «вечном доме», куда пристает душа мастера, не обретшая света, а обретшая покой, мастер в «Мастере и Маргарите» видит «венецианское окно», за которым он готовится слушать музыку Шуберта и писать гусиным пером (тот же образ недевальвируемых ценностей), то здесь, в «Собачьем сердце», посреди разгула стихии сатиры, Булгаков дает волю своим мечтаниям, соотнося их с музыкой Верди.
Блок видел в музыке революции музыку преображения, разрушения. Профессор Преображенский (знаменательная в этом контексте фамилия!) хотел бы вернуться к иному пониманию музыки — к музыке как гармонии, как гимну соединения, согласия, созидания.
Господи, сколько ассоциаций рождает проза Булгакова, вообще прекрасная проза! Она неминуемо ведет нас в недра культуры, к истории, к философии, к философии отрицания и утверждения, к идеалу и пародии на идеал.
Кажется, Герцен писал, что нельзя освободить человека внешне больше, чем он свободен внутренне. Булгаков осознает эту истину на материале эпохи переделок и ломки. Как и Блок, в конце своей жизни он отступает к Пушкинскому Дому, приветствуя «тайную свободу» как свободу свобод. Он понимает, что путь к внешней свободе, свободе общества, лежит через тайную внутреннюю свободу человека, которая дается через просвещенье, через работу ума и сердца каждой отдельной личности.
Эта точка зрения М. Булгакова стала особенно очевидной после лавины его публикаций, сошедшей на читателя в 1987 году. В «Новом мире (№ 2) были напечатаны его письма П. Попову, главы из романа «Белая гвардия», в «Октябре» — письма Сталину и правительству, в журнале «Дружба народов» (№ 8) — пьеса «Багровый остров», в альманахе «Современная драматургия» (№ 3) — пьеса «Адам и Ева». Наконец, Мариэтта Чудакова начала печатать куски из «Жизнеописания Михаила Булгакова» (Москва. — № 6, 7).
«Жизнеописание» — это свод документов по Булгакову, опись фактов, имеющих отношение к его жизни, труд летописца биографии, прикладывающего к фактам не концепцию, не страстный художественный порыв, а интонацию трезвости и верности документу. Трезвость эта прежде всего распространяется на отношение Булгакова к власти, на отношение его к эпохе. Здесь нет сглаживания и скрашивания, подмалевки, умолчаний, намеков на то, что Булгаков, дескать, и принимал и не принимал кое-что в революции. Нет, ясно заявлено — не принимал или, как он сам написал в письме Сталину: да, я не советский писатель.
В то время (1931 г.) это слово имело иной смысл, чем сегодня. Сегодня оно относится ко всякому писателю, живущему в наше время. Тогда были и другие писатели. «Советский» означало принимающий, целиком соглашающийся, приветствующий. К последним М. Булгаков не принадлежал.
В «Багровом острове» профессор Ефросимов бежит от кровавой распри идей. Хуже всего, считает он, это идея, навязывающая другой идее свое превосходство, способная ради доказательства своей правоты уничтожить полмира. Ефросимов, изобретший аппарат для спасения людей от солнечного газа, уничтожающего все живое, согласен служить человечеству и спасению человечества, а не истреблению апологетами одной идеи апологетов другой идеи. «Я боюсь идей! — восклицает он. — Всякая из них хороша сама по себе, но лишь до того момента, пока старичок профессор не вооружит ее технически. Вы — идею, а ученый в дополнение к ней — мышьяк».
Идея, вооруженная до зубов, кажется ему страшней инстинкта, страшней допотопного чувства зависти, ненависти, соперничества. Нет ничего ужаснее соперничества идей, которое может повлечь за собой мировую войну. Такая война и разгорается на глазах героев пьесы. И спасти людей или, наоборот, погубить их окончательно может аппарат профессора Ефросимова и его наука.
Пьеса Булгакова оканчивается неожиданно. В то место, где находится Ефросимов и спасшиеся жители города, приземляется самолет. Ефросимова просят в кабину. «Иди, — говорят ему, — тебя хочет видеть генеральный секретарь». Что это — ирония Булгакова или надежда Булгакова? Надежда на то, что ученые и поэты растолкуют генеральным секретарям, какими путями идти в истории?
Проза Булгакова после «Белой гвардии» проходит жестокое испытание сатирой, как и душа автора — отчаянием. Сам Булгаков так и не был вызван генеральным секретарем. И то, что он описал в «Дьяволиаде», в «:Роковых яйцах», в фельетонах, в «Театральном романе», в тех страницах «Мастера и Маргариты», которые посвящены Москве, по его мнению, отчасти результат того, что политики и поэты разошлись в своих взглядах на мир. Насилие взяло верх над милосердием. Чем мог ответить Булгаков на это торжество насилия? Только святым мщением — сатирою. Только отрицанием, только развенчиванием. Только уничтожающим смехом.
Этот смех, прокатившись по его сочинениям, унес с собою, кажется, и саму надежду. Он унес то, что высоким светом освещало трагические перипетии «Белой гвардии» — веру Булгакова в сам свет. Недаром он и мастера своего (писанного с себя) обделяет светом. Он дарует ему в финале «Мастера и Маргариты» лишь покой.
Елена Турбина отмаливала у Бога и Богоматери жизнь своего брата. Алексей Турбин, благодаря ее молитве, вставал с одра смерти. «Цепочный луч», протянувшийся от иконы к сердцу Елены Турбиной, спасал в романе семью Турбиных. Он спасал мальчика Петьку Щеглова, который жил рядом с Турбиными во флигеле и который в конце романа видел сон, где ему снилась залитая светом земля. Это была реальная, не потусторонняя земля, не земля с венецианским окном — обиталище мастера и Маргариты после смерти,—а земля жизни, Россия, хоть и истерзанная гражданской войной.
В «Мастере и Маргарите» тьма накрывает город, который покидают навеки герои Булгакова. Потому что они уже мертвы, они не воскреснут для этой жизни. Их помыслы там — где звучит музыка Шуберта и лежит на письменном столе мастера гусиное перо. Роман Булгакова — роман прощания, роман ухода, роман смерти.
Здесь умирают не только герои, здесь умирает, прервавши течение свое, само время. Часы останавливаются — если в доме Турбиных они били, торопя минуты, то тут они замирают навсегда. Сбывается предсказание Евангелия: и времени уже не будет.
Азазелло вынужден умертвить мастера и его подругу — иначе они не спасутся. Спастись можно только ценой смерти — такова ирония Булгакова. Даже любовь на этом свете находится под охраной острого шприца с наркотической жидкостью, которую вкалывают оставшемуся в Москве Ивану Поныреву. Иван Понырев тоже поэт, он наследник мастера, но живет он, к сожалению, только во снах, а сны его тревожны, ибо рядом с его постелью лежит шприц. И не Солнце сияет над головой спящего Ивана, как сияло оно над головой во сне Петьки Щеглова, а Луна — этот фонарь смерти.
Лунный свет играет в конце романа Булгакова, он разливается по спальне Ивана Понырева и по роману рекой, но это свет искусственный, свет кладбищенский, ибо Луна — мертвое тело.
Булгаков пробует преодолеть это тяготение смерти — он вводит в роман жертвенный образ прекрасного Иешуа, он рисует сцены ершалаимской жизни с ее страстями, печалями, горем, вознесением. Гроза, проносясь над его романом, освежает древний Ершалаим, делает его похожим на дрожащую за окном и омытую дождем картину живого города, но это последние усилия мастера, героические усилия искусства, которое хочет превозмочь усталость и смерть.
Роман Булгакова — драма борьбы со смертью, с усталостью и истощенностью духа, который хоть и повержен болезнью, но не сокрушен. Отсюда возвышенные куски романа, связанные с Иешуа, отсюда яркость красок в этих кусках, совершенство отделки, почти скульптурная выпуклость возвращенных из небытия фигур. Пилат и Каифа, дворец Пилата, площадка, на которой он допрашивает Иешуа, сады дворца, шумящий за этими садами город и стоящая звоном в голове Пилата ершалаимская жара — все это заклятие мастерства против смерти, против уничтожения, против распада. Булгаков хочет заклясть красотой несостоявшееся бытие, загубленную безобразную жизнь, все то, на что обрушивается в других главах его карающий смех. Та жизнь прекрасна и вечна, эта не стоит мастера и мастерства.
Вечность в романе Булгакова — это вечность искусства, вечность красоты, вечность неизменяемых красок. Она смотрит на происходящие в «Мастере и Маргарите» события, как фрески на стене храма смотрят на кипящую под ними жизнь.
Только жизнь в финале «Мастера и Маргариты» не кипит. Она угасает. Она погружается во тьму, и тьму эту прорезает лишь одинокая «лунная дорога», по которой уходят прощенные Иешуа Понтий Пилат и его собака. Им тоже не дарован свет, им дарован покой.
Природа покоя и света мучает Булгакова. Покоя нет в прошлом, покоя нет и в настоящем. В настоящем его взрывают раскаты смеха. Но и смех этот слышится уже из-за смертной черты, оттуда, куда навсегда удалились мастер и Маргарита. Дом Турбиных оставался в романс «Белая гвардия» посреди свистящих воронок русской жизни, дом мастера и Маргариты вознесен в горния, это не жилой дом, а храм искусства.
Если «Белая гвардия» роман о доме, о семье, то в «Мастере и Маргарите» нет дома и нет семьи. Есть квартиры, есть подвальчик, в котором мастер сжигает свой роман, есть палаты психиатрической клиники, но центр жизни, вокруг которого все воссоединялось в «Белой гвардии», разрушен. И еще одна черта: в прощальном романе Булгакова нет ни одного ребенка.
Если молодых Турбиных спасала вера, Бог, то опустошенные мастер и Маргарита вынуждены обратиться за помощью к дьяволу. И пусть за компанией Воланда стоит Иешуа, пусть это как бы он подает ей команды и награждает освобождением от дьявольского облика после выполненной работы, все же сердце сжимается от этой попытки использовать зло во имя добра. Тут есть какое-то смешение, и я думаю, именно оно отдаляет страницы романа, где является Иешуа, от того источника, из которого черпал, создавая этот образ Михаил Булгаков.
7
Христос у Булгакова выступает как действующее лицо, но носящее другое имя — Га-Ноцри или Иешуа. Мы догадываемся, кто он, но все же это литературный образ, это герой романа, а не сын Бога. У Булгакова даже есть намек на то, что Иешуа — врач, не зря он угадывает причину мучений Понтия Пилата — головную боль. И излечивает ее тут же.
Булгаков все же отводит нити подозрения о том, что он пишет свое Евангелие, и сама атмосфера красоты, которая окружает главы об Иешуа, говорит об этом. Она противоречит простоте великой книги.
Булгаков держит дистанцию между первоисточником и его литературной вариацией, и это есть опять-таки дистанция искусства, дистанция метаморфозы, которую претерпевает первоисточник под пером поэта.
Но в романе В. Тендрякова «Покушение на миражи» (Новый мир. — № 4, 5) Христос прямо назван Христом. Чтобы заземлить и приблизить его к читателю, автор дает портретные данные: «мал ростом», «неказист на вид», «тщедушен». В другом месте про Христа почему-то сказано: «инфантильный красавец».
Для В. Тендрякова Христос — живой человек и вместе с тем герой истории, которого действующие лица его романа намерены устранить, вычеркнуть из исторического процесса, чтоб проверить, как сложится этот процесс без Христа.
Такова идея романа, и таков смысл метафоры, заложенной в его названии — «Покушение на миражи». Мираж — это имя Христа, его единственность, необходимость, его предначертанность в истории человечества. Отсутствие этой предначертанности и хотят доказать «флибустьеры» и «террористы», как пугливо именуют себя Гребин и его ученики в романе.
Для того чтобы это показать, им обязательно нужно «убить» Христа, вывести его из событий, в которых он, согласно евангельской легенде, участвовал, и ввести в историческую ткань другое лицо, которое могло бы заменить Христа, оправдать это «убийство». В романе про этот эксперимент так и сказано: «программа убийства Христа», «акт уничтожения Христа», «пробиться в I век и совершить там убийство».
В предисловии к публикации романа, вышедшего после смерти автора, Д. Тевекелян пишет: «Поражаешься бесстрашию писателя. Может быть, впервые вослед русской классике (подчеркнуто мной. — И. З.) художественному анализу подвергается всемирная идея гуманизма». И далее: «В книге, практически завершающей его творчество, В. Тендряков решился на самый важный шаг своей жизни».
Сейчас, когда вышли в свет рассказы Владимира Тендрякова «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», «Параня», «Донна Анна» (Новый мир. — 1988. — № 3), видишь, что «самый важный шаг» он совершил не на путях теории о ниспровержении Христа, а на путях практики — практики отважного реализма, повернув тот к кровавым страницам XX века. И именно эти рассказы, а не роман «Покушение на миражи» написаны «вослед русской классике».
Никакого «анализа», тем паче художественного, в этом романе нет. Есть схема и насилие схемы над жизнью, над реальностью, в том числе и над реальностью истории. Русская классика если и оспаривала Христа и его учение, то проводила этот спор через сердце человека, а не через нутро ЭВМ, как это делает В. Тендряков. Она заставляла человека мучиться, ужасаться той бездне, которая открывалась в его душе. У В. Тендрякова никто не мучается, для героев это не вопрос жизни, а вопрос расчетов, вопрос «интересной физики». Так когда-то назвал свои работы по расщеплению ядра итальянец Ферми. Нравственная сторона этих работ (их возможные последствия) его не занимала. Так не занимает она «флибустьеров» и «террористов». Проводя опыты по устранению Христа из истории, они предаются балагурству и «трепу». «Треп» физиков подается в ореоле их остроумия, их неординарности, их превосходства над серою массой. Герои у В. Тендрякова все время острят, словечка в простоте не скажут, и иногда их остроты залетают слишком далеко. Они касаются даже Богоматери, про которую говорится: «У мамы Марии живот заметен».
Под аккомпанемент этих шуток группа Гребина «приканчивает» (это слово из романа) Христа, ставит в ЭВМ на его место апостола Павла, но ЭВМ не принимает этой подмены.
И что же? Меняет ли это что-нибудь в «флибустьерах» и «террористах»? Ничуть. Они остаются такими же, какими были. Вывод, который они получили от машины, ничуть не приблизил их к образу того, кого они пытались развенчать. Они просто «проверили» версию их шефа о заменяемости личности в истории.
Есть, правда, один итог, но он незначителен. Он ничтожно мал для романа, который вознамерился подвергнуть анализу всемирную идею гуманизма. Этот итог относится к сыну Гребина Севе. Пока отец пытался переделать само Евангелие (а роман Тендрякова назывался вначале «Евангелие от компьютера»), сын стал подонком. Мораль ясна: занимаясь высокими материями, не забывай о низких.
На уровне этой морали держится все в романе. Ради нее отец с матерью учат уму- разуму Севу, ради нее старый солдат Голенков исповедуется перед Гребиным в своих грехах. Умирая, он разуверяется в пользе насилия, которому всю жизнь служил.
Загадочное облако вокруг физиков, облако их «трепа», их иронических ошибок и диалогов «с подтекстом» должно, кажется, покрыть все, а главное, скрыть собою их безусловное благородство и значительность. Но, пардон, этого «трепа» мы наслушались еще в шестидесятые годы. В те времена физики были в почете. Тогда мы им спускали все.
Ныне «интересная физика» стоит перед судом человечности. Ныне ее материальные истины уже смахивают на «миражи», а то, что считалось миражами — душа, сострадание, доброта, — встало как гранитная твердь. Мы очень верили в те годы, что физики спасут мир. И что же? Если мир еще не умертвлен, то заслуга ли это физиков?
Поэтический флер, наброшенный литературой на людей науки, как на богов, на сверхчеловеков, растаял. Облако Чернобыля, пройдя над нами, окончательно рассеяло его.
Вспоминаю это событие не всуе, не для красного словца, а потому, что помню, как один «физик»-начальник сказал на пресс-конференции после аварии: «Наука требует жертв».
Когда герой романа «Покушение на миражи» критикует притчу Христа о «птицах небесных», которые не сеют, не жнут, придавая ей значение проповеди безделия, то так может критиковать только логика, только голый ум. Потому что притча эта окружена в Нагорной проповеди примерами того, как люди сознательно ищут «сокровищ», то есть богатства. «Душа больше жизни, а тело одежды» — говорится в притче, и это означает, что «нельзя служить двум господам» — Богу и мамоне. «Птицы небесные» это те, кто заботится о душе, а не о сытости, кто не трудится для приобретения сокровищ. Христос вкладывает в эти слова мысль о преимуществе духа над телом, свободы духовной (отсюда и образ птиц) над пищей телесной.
Что же касается труда, то не в Писании ли сказано: в поте лица добывайте хлеб свой?
Вообще, когда поэтический текст становится предметом умозрения, он сразу теряет в своей многозначности, он делается одномерен и плоско-назидателен. Для арифметики существует «или — или», для поэтического текста — тысячи значений. Согласно поэзии, как писал Достоевский, дважды два равняется пяти. «Арифметика» (это его термин), логика и ум признают лишь: 2х2=4.
В романе В. Тендрякова я вижу сильное упование на логику и слабое упование на душу. Тот же упрек я мог бы отнести и к повести Даниила Гранина «Зубр» (Новый мир. — № 2). Герой этой повести тоже ученый и тоже окружен ореолом «трепа» — слово «треп» с поощряющими его эпитетами не раз повторяется в «Зубре». Да и сам герой здесь не человек, а «зубр», «ящер», «махина», «мастодонт», имеющий не голос, а «трубный глас». Это, как отмечает. Гранин, «личность экстраординарная», «труба громовая», «глыба». Кроме этих названий, героя все время сопровождают сравнения с каким-нибудь огромным животным, необычайным явлением природы. Если он поет, то его песни «разбойные», если говорит, то не говорит, а «орет и топочет». Он даже «рычит от ярости», как взаправдашний зверь. Все прочие люди, окружающие Зубра, уподобляются «домашнему стаду».
Что же это за существо и что так возвышает его над людьми? Автору достаточно сказать, что Зубр «буйно мыслил и буйно работал», чтобы снять этот вопрос. Душа героя остается тайной за семью печатями, но Гранин считает, что проникновение в нее и не нужно, слишком уж впечатляющи эти внешние признаки величия Зубра. Когда же речь все-таки заходит о душе, о святая святых его героя, о том, верит или не верит он в Бога, Д. Гранин тут же откочевывает от опасной зоны. «Был ли у него бог? — читаем мы. — Я никогда не мог уяснить себе этого до конца. Достоевский полагал, что если бога нет, то все дозволено, а раз дозволено, то можно и духом пасть, отчаяться. Но человек есть тайна, от самого себя тайна. Не верит он ни в черта, ни в дьявола, тем не менее, его что- то останавливает. Не дозволяет. Бога нет, страха нет, а — нельзя. Тот, кто преступает, тот и с богом преступил, поклоны бил и все равно преступил. Когда вера религиозная схлынула, думали, наступит вседозволенность. Не наступила (а как же Сталин и сталинщина? — И. З.). Необязательно, значит, что неверующий в душе — запретов нет. Всегда они были, запреты, во все времена, они-то и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то плакал и смеялся на этой земле».
Абзац этот отчасти просвещает нас насчет самого автора, но нисколько не просвещает насчет Зубра. Так и остается тот непознанной «глыбой», «ящером» и «мастодонтом», чьи увеличительные имена и прозвища предоставляют ему право оставаться неузнанным. Один раз мы, правда, узнаем, что в Зубре «вздыбился аристократизм». Но и тут преувеличение, гигантомания: аристократизм должен обязательно «вздыбиться», произвести какое-то потрясение. Автор как бы лишает читателя инициативы и сопротивления — стой и смотри на «глыбу», очаровывайся ею, поклоняйся ей.
Не стану отрицать полезности повести Д. Гранина, но это полезность информационная. «Зубр» — это еще одна биография, еще один документ эпохи. Еще один лист, подшитый к «делу» о тридцатых и сороковых годах. Тимофеев-Рессовский вызывает симпатии, но симпатии, я бы сказал, заочные. Я признаю положительный факт его существования в действительности, но не факт существования в литературе.
Кроме того, меня смущают его амбиции. Его рыки, и крики, и «топот». Читаю статьи о Н. И. Вавилове: не было этого. Читаю о Петре Капице: ничего подобного. Письмо П. Капицы Сталину по поводу ареста Л. Ландау потрясает меня. Я вижу человека достоинства, который идет в клетку к кровожадному зверю (и здесь сравнение со зверем уместно) и не страшится этого. Я вижу, как он прикрывает грудью собрата по науке. Я вижу в этих героях не «ящеров», а людей, не «мастодонтов», а обыкновенных смертных.
Гранинский Зубр слишком смахивает на сверхчеловека. Я был бы рад, если б он предстал передо мной в повести просто человеком, братом по времени и по судьбам, который выходит в герои, возвышаясь не внешне, а внутренне.
Цена этого возвышения сильно возросла в обществе. Герой-победитель, герой, гордящийся своими победами над природой и людьми, сменяется сейчас героем, который умеет побеждать себя, смирять себя, винить себя. Чувство вины и покаяния, мучающие его, это мучения болезни, которую я бы назвал болезнью выздоровления, болезнью, из которой человек выходит заново родившимся, чистым.
Времена изменились. Теперь трепет вызывают не ракеты и не ядерные котлы, как и те, кто создал их, а усилия тех, кто хочет сломать эти ракеты, погасить котлы. Пафос переделки, преобразования, насильственного переустройства природы сменился пафосом спасения своих отношений с ней. ибо природа не мачеха, а мать наша. Не жалея ее, мы не жалеем себя, мы режем по живому, ибо связаны с нею, как младенцы с матерью, пуповиной.
Вот почему гордыня ума нынче не в моде, вот почему всякие гиперболизации производят впечатление анахронизма. Ныне человек строит не вавилонскую башню, а дом. Дом, в котором можно жить в настоящем, а не терпеть во имя будущего. Что такое будущее? — спрашивал Гоголь. И отвечал: зеленый виноград. Настоящее самоценно и прекрасно, оно — мгновенье, но это единственное мгновенье, которое дано каждому из нас для пребывания на земле. И пренебречь ценностью этого мгновенья мы не вправе.
Недаром образ дома — любимый образ литературы последних лет. И будь это крестьянская изба у Ф. Абрамова или городской дом у Ю. Трифонова, это все равно жилище, пристань, а не место временного обиталища человека. Это не химера, не стоокая башня, на этажах которой люди пожирают людей, а согретый материнским теплом угол, очаг, где голоса стариково и детей не противоречат друг другу. Дом — почка, дом — зерно, дом — завязь на ветви жизни — вот что сегодня для нашего сознания дом.
8
В журнале «Огонек» (1988. — № 8) я прочитал, как хоронили академика Н. Вавилова — сбросили в яму вместе с другими трупами, в безымянную яму, и зарыли землей. Лопатами сбрасывали трупы, голые трупы зэков, погибших в тюрьме. Вот факт, который не снился Данте, не снился его «Аду». Неужто литература будет об этом молчать? Неужто она — ради спокойствия наших чувств — должна пройти мимо этого?
Алесь Адамович в «Последней пасторали» (Новый мир. — № 3) пугает нас последствиями атомной войны, но это за пределами нашего разумения, а гибель Н. Вавилова — дело наших рук, дело нашего молчания, это то, что виной вонзилось в наше сердце. Атомный апокалипсис А. Адамовича не страшит (он и литературно вторичен), а 1929 и 1930 годы страшат, 1932—1933 годы — страшат, 1937-й и 1941-й — страшат. Страшит это, страшит Чернобыль (два романа о нем — В. Яворивского и Ю. Щербака — появились в 1987 году), страшат новые попытки навязать нам новое молчание и новое соглашательство.
Андрей Битов в романе «Пушкинский Дом» (Новый мир. — № 10, 11, 12) выводит героя-подонка, подонка из интеллигентов, предавшего своего отца и деда, и говорит устами Митишатьева: «Подонок, худшие черты которого отражаются в Митишатьеве (взятый напрокат «двойник» Достоевского), достойно завершает путь русской интеллигенции, которая раньше стрелялась на настоящих пистолетах, а теперь и до дуэли не может возвыситься и вынуждена довольствоваться плевками в лицо».
Дуэль на музейных пистолетах уже сама по себе есть пародия. Эта дуэль происходит в Пушкинском доме (еще один намек на неблагородство стреляющихся), а до этого Митишатьев разбивает посмертную маску Пушкина, вызывая Одоевцева на поединок — поединок потомка «князей» с «выходцем», «хамом» и «быдлом».
Вся эта игра понятий сводится в конечном счете к тому, что митишатьевы в романе А. Битова берут власть над одоевцевыми, что не интеллигенты-одоевцы руководят митишатьевыми, а наоборот, история перевернула эти отношения, и теперь не «князья» заказывают бал, а «быдло», при этом «быдло» еще глумится над «князьями», отбирая у них, кроме их женщин, из привилегии на умственный труд, рефлексию, которая тоже годится «быдлу» на закуску. То, что в Одоевцеве прикрыто высокими фразами, что облечено в формы поэзии, в его двойнике выражается грубо и низко, но при ближайшем рассмотрении (а Одоевцев смотрится в Митишатьева как в зеркало) обнаруживается, что Одоевцев тот же Митишатьев, только слегка подслащенный, слегка подкрашенный.
«Все мы отчасти Митишатьевы», — изрекает Митишатьев, намекая на то, что масса населения в России сделалась однородной, что нет уже ни верха, ни низа, а есть нечто, приведенное к одному знаменателю, где различия между «князем» и «хамом» невелики.
К такому итогу приходит Андрей Битов, рисуя эволюцию петербургского интеллигента. Это самое обидное, потому что интеллигенция — петербургская, потому Петербург (Ленинград) — последняя ее цитадель. Еще в XX веке род Одоевцева дал миру мощную фигуру — личность деда Левы, подлинного ученого и сильного человека. Но в отце Левы ученый уже выродился, а интеллигент пропал. Сам Лева — ни то ни се, раздвоенный инфант, который и во взрослые годы остается инфантом, желающим опереться на кого-либо. Он готов даже опереться на своих женщин, которые — будучи слабым полом — все же сильнее его.
Отец Левы предал своего отца, а Лева предает отца — но уже не из страха (как было с его собственным родителем), а по инерции. Торможения чести уже нет в нем. Он хочет понравиться деду, заслужить его расположение. Но дед кричит, показывая ему на дверь: «Вон!»
Так рвется звено в цепи, так род Одоевцевых прерывается, в сущности, на деде, обретая в лице Левы и его отца лишь последышей.
Дед, арестованный по навету и пробывший в местах не столь отдаленных много лет, вернулся седым, старым, но не сломившимся. Лева — хоть и не знал ничего подобного — уже заранее сломлен, унижен через предательство отца. Через предательство, которое принесло в дом Левы благополучие.
Лева наследует не честь, а страх. Он дитя страха, дитя поколения эпохи страха. И хотя самому Леве лично ничто не угрожает (он взрастает уже в хрущевские времена), ничто не может поколебать в нем этой наследственности, этой родовой теперь для Одоевцевых черты.
Инерция страха, болезнь страха — вот что исследует в своем герое Андрей Битов. Вступая в отношения с женщиной, Одоевцев уже боится потерять ее. Он боится своего желания любить ее. Он страшится воли и желания женщины, которая способна ответить на его чувство. Он легче привязывается к Фаине, чем к Альбине, потому что Альбина чересчур любит его. Он боится себя — в себе и других — в других. Всякая самостоятельность, всякая независимость для него угрожающе опасны. Он тут же делается подвластным им, управляемым ими. Вот почему в нем преобладает жалость к себе. Лева может только жалеть себя — защитить себя он не в состоянии. Эта утрата мужественности особенно занимает Андрея Битова.
Для наглядности падения Левы он сравнивает его с героем Пушкина. Он берет не «князя», а «маленького человека», чиновника, Евгения из «Медного всадника». Евгений бежит от царя-деспота, от медного истукана, от гения подавления. Лева Одоевцев бежит с площади Сената от милиционера. Стуча зубами, он признается себе: «В страхе я находился, в страхе и нахожусь. Ведь страшно то, что я страшился и чего! Вместо Бога — милиционера бояться!»
Страх перед Богом и страх перед милиционером — вот расстояние, отделяющее интеллигента времен Пушкина от интеллигента времен Битова. Все в «Пушкинском Доме» идет на понижение, докатывается до пародии на русскую историю и русскую литературу. Сопоставления с нею не выдерживают герои романа А. Битова.
Вот почему главенствующая интонация романа — интонация иронии. Бес иронии мучит героев романа, мучит он и автора. Иронически преподносится здесь любовь, спародированы дружба, героизм, дуэль. Иронически освещены женщины, треугольник Лева — Митишатьев — Фаина, иронически описана смерть. Ирония падает и на основное занятие Одоевцева — филологию, науку литературы, которая, выставляя его жизнь как ироническое несоответствие русской классике, сама является объектом высмеивания.
Герой Битова сочиняет в романе статью «Три пророка». Речь в ней идет о трех пророках, трех стихотворениях Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Пророк, по наблюдению Одоевцева, как-то мельчает по мере перехода от поэта к поэту, а уже третий, последний в этом списке (пророк Тютчева) и вовсе — возмездие за утраченное в третьем поколении пророков величие.
Тютчев в этой статье мстит Пушкину — мстит за свою «неполноценность», и мы понимаем, что это не месть Тютчева, это месть и комплексы Левы Одоевцева, который таким образом самоутверждается по отношению к своим предшественникам. И прежде всего по отношению к деду и дяде Диккенсу.
Ход сложный — свести счеты через статью, — но в романе Битова, как признается сам автор, все «немножко сложно», я бы добавил, что не немножко, а даже очень сложно. «Пушкинский Дом» перегружен литературой и ссылками на нее, сличениями тайн мастерской и тайн сердец, причем тайны писательской мастерской, с нажимом выставляемые наружу, теснят в романе тайны сердца. Игра с литературою (А. Битов проводит параллели между своим героем и почти всеми героями русской классики) образует отдельный сюжет, который, накладываясь на сюжет жизни, запутывает его. Образуется паутина сюжетов, через которую определенно проступает только одно — сознательность автора в организации всей этой игры.
Битов все время наблюдает за собой, за тем, как он строит коллизию, как поворачивает ее, как разрабатывает «версии» и «варианты» (калька с «про» и «контра» Достоевского), как и почему вводит героев и выводит их из действия.
Это постоянное подсматривание и акцентирующая на себе внимание умышленность утомляют и взывают к простоте, которой, как воздуха, не хватает в «Пушкинском Доме». Это роман преднамеренно сложный, расчетливо сложный. А. Битов, кажется, не может отдаться стихии, свободному движению рассказа. Он обязательно должен усмирять стихию, моделировать ее согласно расчетам ума, призывая читателя в свидетели своих усилий. Зачем ему это нужно? Реализм мне скучен, правдоподобие в зубах навязло, — отвечает Битов. — Я пишу так, потому что хочу, а если я запутал вас своими аллегориями, то не читайте.
Последние слова — почти буквальная цитата из романа.
Что ж, можно, конечно, и не читать. Но раз сочинение печатается, оно все же предназначено для чтения, а коли ты критик — читать приходится по обязанности.
Не скрою, что к моей личной грусти (я до сих пор люблю книгу А. Битова «Уроки Армении»), я читал «Пушкинский Дом» по обязанности. Я путался в его отступлениях, пересечениях с литературой, в обязательных отслоениях от действия, в авторских ремарках, растягивающихся на страницы, в хитросплетеньи «знаков» (в одном месте романа А. Битов пишет, что дед Левы Одоевцева «важен как знак»), в «математических кривых поведения» и тех самых аллегориях, о которых меня предупредил автор.
Я не видел в этом ни грамма поэзии, я видел один ум и причуды ума, толкотню ума наедине с умом и то, о чем с неудовольствием, заметив то же в себе, писал А. Блок: «Я слишком умею это делать». Блок имел в виду писание стихов и технику письма.
Блок сокрушался по этому поводу, автор «Пушкинского Дома», похоже, ничуть не расстроен этим своим умением. Наоборот, он любуется им, он счастлив этим искусством игры, этим талантом относить к сфере игры не только слова, образы литературы, ее приемы, но и Бога, черта, Пушкина, Тютчева (с Пушкиным он играет в рассказе «Фотография Пушкина» — «Знамя», № 1), космос, человека (см. повесть «Портрет в пейзаже» — «Новый мир», № 3), что угодно.
Ум А. Битова незауряден, талант налицо, но как давит ум на талант, как замораживает, леденит его! Что это, свойство таланта или черта эпохи?
* * *
Задавая этот вопрос, я отношу его не к одному Андрею Битову, а к целой плеяде писателей, которой он принадлежит. Это, условно говоря, поколение «семидесятников», сложившееся и определившееся в семидесятые годы, в отличие от «шестидесятников», кормилицей которых была война, послевоенное лихолетье и XX съезд. Они до сих пор называют себя детьми XX съезда, хотя это определение неточно: они прежде всего дети своих отцов.
Иные из «семидесятников» (А. Битов, В. Маканин) начинали в шестидесятые, сливались в своих первых опытах с «шестидесятниками», но потом — в глухую пору семидесятых — отслоились от них.
В чем разница между этими двумя поколениями? Она и в отношении к жизни, и в отношении к литературе. «Шестидесятники» все сплошь были поглощены социальностью, социальными страстями и социальной борьбой. Для «семидесятников» понятие «борьба» — понятие устаревшее. Они видят в нем отрыжку эпохи насилия, когда все решалось с помощью кулака, а не с помощью разума. Они не столько уповают на разум, сколько на здравый смысл, который противопоказан таким крайностям, как «левое» и «правое», «прогрессивное» и «консервативное». Если «шестидесятники», разуверясь в социальности, не могли оторваться от нее, а отрываясь, теряли силы, то «семидесятники» уже не тратились на эту муку. Они без труда изживали иллюзии «отцов», не желая платить за их заблуждения.
«Шестидесятники» тоже рвали с «отцами», но рвали тяжко, с надрывом, иногда их только и хватало на этот разрыв — «семидесятники» их страданиям предпочли анализ. С первых шагов этой генерации была дана некая трезвость, некая холодность во взгляде на жизнь и некий расчет. Вот почему вопросы психологические, вопросы тайн души и тайн ирреального имели для них большее значение, чем вопросы реальности и хлеба насущного.
К тому времени, когда они вступали в литературу, вопрос о хлебе, в том числе и о черном хлебе правды (на отвоевание которого положили силы «шестидесятники»), как им казалось, был решен. Черный хлеб отвоевали «шестидесятники», белый хлеб (хлеб самого искусства) стал пищей «семидесятников».
Вот почему А. Битова от, скажем, В. Тендрякова отделяет пропасть. Они близки друг другу, и они страшно далеки друг от друга. Как далеки друг от друга В. Маканин и Ф. Абрамов. Да что там В. Тендряков и Ф. Абрамов! Даже Ю. Казаков и В. Конецкий кажутся на фоне «семидесятников» борцами за правду.
Семидесятые годы могли создать ложное представление о том, что потенциал «шестидесятников» исчерпан. Что он иссяк. Но кто сегодня поднимает волну в обществе? Чьи книги, статьи, эссе читают и расхватывают? Книги и статьи «шестидесятников». Голос «семидесятников» затерялся в хоре разоблачений. Снова вышла наверх социальность и загремел лозунг Белинского: «Социальность, социальность или смерть!»
Роман Андрея Битова остался в тени шумных публикаций года еще и по этой причине, по причине отсутствия ауры остроты. Он отошел в эту тень вместе с другими повестями и романами «семидесятников», освободив поле боя для гладиаторов, для кулачных бойцов.
Оказалось, что это поле еще не заросло травой, еще не поле мертвых, а поле живых. Полем мертвых, полем растерянных и раздавленных изобразил его в своей повести «Один и одна» (Октябрь. — № 3) Владимир Маканин. Он в этой повести вмешался в спор «шестидесятников» и «семидесятников», придав ему ироническую окраску.
Проза В. Маканина всегда строилась на метафорической основе (я не оговорился: именно строилась, тут немало поработал умысел), и на этот раз метафора разделяет и властвует в конфликте отцов и детей. Только «отцы» здесь — «шестидесятники», а «дети» — их смена в лице автора повести и его героя Игоря.
Идею и тон этой повести дает метафора поражения или ночи после битвы, которая рождается в воображении «шестидесятницы» Нинели Николаевны в виде «кинообраза». Вот этот кинообраз:
«Ночь после битвы. Ночь лишь для пущей образности: ночь придает колорит холмам, полянам да и самому блужданию раненых по этим холмам и полянам; блуждание оставшихся и уцелевших; ищут своих. Едва намечается утро. Утро какого-нибудь 1128 года.
Зари еще нет. Опустевшее поле. Появляются два дружинника. Потом еще один. Потерявшиеся после поражения, они кое-как сошлись на холме. Разожгли костер. Но еще не успели к ним подойти другие, как они у первого же костра ссорятся... Они начинают выяснять. Ты, мол, в сражении копье потерял. А ты вообще слишком прятал за щит свое красивое лицо... А ты, мол, робел. А ты знамя выронил. И так далее. Взаимные упреки переходят в брань. В довершение они кричат, что из-за тебя, мол, и проиграли. Плюют друг на друга. И в гневе расходятся. Этот — туда. Другой — туда. А третий — и вовсе куда-нибудь. Ищут своих; зари еще нет».
Картина безотрадна, что и говорить. Это картина разброда «шестидесятников» в ночь семидесятых. Это картина их падения, разложения, отчаяния. Это конец поколения и черта под его деятельностью.
Да и то, что они сделали, «семидесятник» Игорь не считает деятельностью. Он называет их деятельность болтовней. Ну что с того, что они разоблачили культ? Ему этот «культ» и Сталин — «до лампочки». Как, впрочем, «до лампочки» и кумиры поколения «шестидесятников» — Хрущев и Твардовский. Для Игоря и его поколения они — ископаемые ящеры. Он видит в Нинели Николаевне и ее партнере Геннадии Павловиче несчастных «ветеранов», которые способны только пробавляться воспоминаниями.
Чтоб подстраховать метафору поля боя, В. Маканин вводит в повесть еще один «кинообраз», тоже настаивающий на идее поражения, полного разгрома «шестидесятников». В этом «кинообразе» действуют, как и в повести, два героя — мужчина и женщина. Они оба разведчики. Им дано задание и велено после выполнения задания, на которое должно уйти много лет, встретиться. В руках у них пароль — разломанная на две части рыбка, которая, по предъявлении обеих частей, обязана воссоединиться.
И вот проходит время. Разведчики встречаются. Но рыбка не соединяется. Линия разлома искрошилась, стерлась — пароль не срабатывает. И герои расходятся в разные стороны.
Так расходятся в повести Нинель Николаевна и Геннадий Павлович. Им для утешения не дано даже призрачного союза. Им не дано и иметь семью, иметь детей. Они одиноки.
Так представляется автору повести судьба «шестидесятников» в наше время.
Жесткие условия метафоры заставляют В. Маканина жестко служить им. Вообще жесткость — одна из черт прозы «семидесятников», которые иронию предпочитают сантиментам. Но на одной иронии далеко не уедешь. Ирония, наезжая на иронию, создает тавтологию интонации, как бы перекачивает воздух в одно легкое, не давая дышать другому.
Автор придумывает своим героям иронические прозвища, он иронизирует над их словарем, над их внешностью, он Нинели Николаевне не дарит даже женского обаяния, заставляя ее безответно кокетничать с годящимся ей в младшие братья Игорем. Да и Геннадий Павлович, заглядывающийся на женщину моложе его, терпит фиаско. Ему этого не прощают сверстники этой молодой женщины: они выбрасывают Геннадия Павловича на полном ходу из электрички. «Напирающая и практичная толпа», как жалуется Геннадий Павлович, выталкивает его из жизни.
Я уж не говорю о попытках «ветеранов» бороться, отстаивать свое достоинство. У В. Маканина это выливается в такие поступки, как произнесение речей и недарение начальству цветов — символа взятки. На большее Нинель Николаевна и Геннадий Павлович не способны.
Так — без снисхождения — обходится со своими героями автор повести. «Мы ничто и никто, — признаются они. — Мы ничего не выразители... Мы обычные люди... Мы доживаем свою жизнь». «В них погибли общественные реформаторы», — резюмирует этот скулеж Игорь.
Как врач-диагност, фиксирует В. Макании распад этого поколения. Как анатом старается он разъять его мертвую ткань на части и констатировать, что она мертвая.
Ирония В. Маканина по адресу «шестидесятников» заставляет вспомнить чувства его литературного учителя Юрия Трифонова относительно поколения «отцов». В отношении Ю. Трифонова к «старичкам», «ветеранам» тоже присутствует немало иронии, но есть и боль. Это историческая боль поколения Ю. Трифонова, которое, отрываясь от своих отцов, не могло окончательно порвать с ними. Все повести Ю. Трифонова семидесятых годов (а они и породили прозу В. Маканина) вышли из этого противоречия, из проблематики «отцов» и «детей», только это были другие отцы и другие дети. На отцах играл «отблеск костра» (отблеск революции), дети были будущими «шестидесятниками», расплачивающимися за грехи отцов, но связанные с ними смертной связью.
У В. Маканина этой связи нет. У него нет и боли. То, что для Ю. Трифонова было проклятием и высокой нотой его поколения, то для В. Маканина и его героев — «семидесятников» пустой звук. Это феномен не исторический, а по преимуществу литературный.
Читая его прозу, я не могу отделаться от мысли, что меня водят по преисподней, но водят с холодной вежливостью, с учтивостью, достойной лучшего применения. Однажды у одного врача-хирурга я увидел на кухне парад этикеток. Это были этикетки с коньячных бутылок. На каждой из них почерком врача было написано: «рак пищевода», «рак легкого», «рак печени». Врач увековечивал истории болезни тех, кто, побывав под его ножом, дарил ему эти бутылки.
Меня тогда поразил не цинизм врача (кстати, очень хорошего человека) и не цинизм профессии, которая, наверно, должна защищать себя от падающих на нее перегрузок, а эта посмертная «игра в фанты» — этот сюжет, за которым для составителя его уже не было конкретных больных и их страданий, а была «литература», повесть в картинках.
Этот дефицит тепла бросается в глаза в прозе «семидесятников». Даже самые талантливые из них относятся к жизни как естествоиспытатели, как морфологи, как Владимир Набоков относился к свои бабочкам: любуясь ими, он накалывал их острием иглы.
Сам В. Набоков сказал о себе в «Даре»: «оледенелое сердце». Читая сегодня его стихи, в особенности стихи о России, по которой он тоскует и плачет, мы видим, что это не так. И все-таки порой кажется, что он смотрит на мир сквозь протертое цейсовское стекло.
В своем очерке-эссе о Гоголе (Новый мир. — № 4) В. Набоков пишет, что Гоголь погубил свой гений, пытаясь стать проповедником. «Писатель погиб, — настаивает он, — когда его начинают занимать вопросы, как: «Что такое искусство?» «Я злюсь на тех, — добавляет В. Набоков, — кто любит, чтобы их литература была познавательной, национальной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло».
Вывод В. Набокова таков: «Потусторонний мир и есть подлинное царство Гоголя». Признавая правоту этих слов, мы должны сделать к ним сноску — Гоголь не был бы Гоголем, если б русский мир, мир России XIX века не был бы его реальным миром. Именно из этого мира вела дорога Гоголя в ирреальный мир, в иррациональное царство его прозы. Не было бы исканий пользы литературы (которую отрицает Набоков), не было бы и масштаба Гоголя, не было бы гениального взлета «Мертвых душ» и «Выбранных мест из переписки с друзьями». Гоголя-пророка нельзя оторвать от Гоголя- поэта, отрыв этот может привести к уничтожению целого, к расщеплению двуединого гения Гоголя, который не мог питаться одною пользой, но и не мог существовать без желания пользы.
Нельзя не согласиться с В. Набоковым, когда он пишет, что феномен Гоголя это «феномен языка, а не идей». И все же, если мы сбросим со счета идеи Гоголя (и его духовный путь), мы будем иметь дело не с Гоголем.
Русская литературы вся замешена на учительстве, на участии, на пророчестве. Этого у нее не отнять. Это можно отнять у нее только с нею самой, поэтому всякие попытки уйти в холодное наблюдение, в прозекторство и рентгенологию есть расхождение не с ее идеями и диктатом этих идей, а отклонение от ее существа, ее природного назначения.
Есть, есть в повести «Один и одна» сочувствие, пробивающееся сквозь кору иронии, сквозь отстраненные интонации, но оно не может согреть разделяющего автора и героев пространства. «Одинокие старички», «постаревшие донжуаны», как он называет друзей Геннадия Павловича, ему не близки. Он не видит в их жизни драмы, а видит один фарс. А если и есть драма, то это драма «белого налива», скоропортящегося сорта яблок, для которых молодость — это минута, это «сезон души».
Такими определениями изобилует повесть В. Маканина. Она вся держится на иносказаниях, на игре метафор, которые сами — без слов автора — должны объяснить читателю его точку зрения. А эта точка зрения однозначна: от поколения Нинели Николаевны и Геннадия Павловича веет «запашком неудачников».
Вот, впрочем, и слово найдено. Не «запах», а «запашок», не трагедия, а комедия.
Думая о жестокости В. Маканина, я думаю, что как естествоиспытатель он прав. Он прав в том, что поколение это стареет, силы потрачены, что их осталось не так много. Физически «напирающая толпа» действительно начинает вытеснять это поколение, но такова участь всех, кто живет на земле.
Вместе с тем, феномен «шестидесятников» еще не описан. Его не взять атакой метафоры, тут нужны исторические чувства. Тут нужно оружие идей, оружие любви и зрения любви.
О «шестидесятниках» первым заговорил Юрий Трифонов. Он заговорил о них в «Обмене», в «Долгом прощании» и в «Другой жизни». О них написали и другие «шестидесятники» и написали нелицеприятно, но те книги («Ожог» В. Аксенова и «Семь дней творения» В. Максимова) вместе с их авторами ушли на Запад.
Облик этого поколения нельзя понять, не взяв в расчет их отношений с отцами, с теми людьми революции, которых описал в «Исчезновении» в минуту их прощания с детьми Юрий Трифонов. Отсюда начинаются их проблемы, их темы, их положение в истории и их вклад. Поколение, пожавшее кровавый опыт отцов, навсегда отвратилось от идеи насилия, которая и по сей день является в глазах многих идеей действия, идеей развития. Этот путь «детьми» был отвергнут. Вот почему некоторая рефлексия и некоторое обуздание энергии свойственно их чувствам. Вместе с тем, это, может быть, последнее гражданственное поколение нашего века. Идея пользы передалась им от отцов. Идея борьбы — от них же.
В.Макании исключает из повествования отцов трагедии семей, из которых выходили «шестидесятники». Он отрывает их от исторического контекста. Получается, что они так и родились краснобаями, либеральными резонерами, мусолящими монолог «быть или не быть». И что никто из них так и не решился обнажить рапиру Гамлета.
Они обнажали. Это поколение раскололось: одни, как это было во все времена, пошли по пути открытого выражения своего несогласия с силами, желающими вернуть общество в эпоху Сталина; другие протестовали молчанием, уходом на глубину — в данном случае это оказалась глубина русской истории, русского прошлого, которое было отрезано от «шестидесятников» их отцами, отринуто и признано несостоятельным. В этом поколении были свои герои — они писали петиции, протесты, они сами выходили на площади: их сажали в тюрьмы, в психиатрички, отправляли в ссылку. Писание петиций и протестов тоже был мирный путь, путь, не грозящий кровопролитием, по на него ответили насилием. На долю этих людей выпали горькие дни отвержения.
Про них не скажешь, что они проболтали жизнь, что они склонились перед злом.
Другая часть поколения, ушедшая от схватки, хотела навести мосты между прошлым и настоящим, надвязать разорванную нить, восстановить связи, прерванные насильственно. Что из этого вышло, мы знаем. Был услышан зов традиции, стали восстанавливаться памятники, русская классика заговорила иным языком, вернулся из небытия Достоевский, и история литературы сделалась поддержкой молчащих, протестующих этим молчанием.
Конечно, кто-то, как пишет В. Маканин, «срывался в пьянство», кто-то «топтался на месте». Кто-то, приняв обличения шестидесятых годов за нерушимую веру, остался на уровне этих обличений. И стал повторяться, как повторяется у В. Маканина Геннадий Павлович. Были и в этом поколении отречения и предательства. Но были и высокие преодоления, и среди них — преодоления иллюзий самого шестидесятничества. Так были преодолены иллюзии социальности, социальных ответов на духовные вопросы. Так были сняты с пьедестала точные науки. Ломалась вера (кто-то пошел к Богу), и это сделалось знамением семидесятых годов.
Две тенденции сосуществовали в этих исканиях: тенденция разрушения, очищения от догм и тенденция «тоски по идеалу». К середине семидесятых годов тенденция обличительства стала выдыхаться (она обнаружила признаки увядания еще раньше), но это почувствовали не все — многие продолжали исповедовать отрицание как единственный путь, думая, что они разжигают топку истории. Они и сейчас все еще занимаются этим благородным делом, не замечая, что поезд ушел, что сыгран уже третий акт, в то время как они еще играют завязку.
Мы и к нашей истории двадцатых-тридцатых годов подходим еще с этой меркой — меркой «шестидесятников». Простительно тем, кто писал свои разоблачения двадцать лет назад, но непонятны те, кто почитает эти взгляды за последнее слово исторической мысли. В стихах Андрея Вознесенского, например, я слышу те же мотивы, с которыми он выступал в шестидесятые годы в Политехническом, только теперь он выступает с ними в зале имени Чайковского, уставленном бархатными синими креслами с белой каймой. Ранее перед ним располагался плебс, теперь сидит «сборная духа». Она сидит в креслах, похожих на «адидасы», и рукоплещет поэту, который, как капитан, призывает ее «играть за этап переходный».
Вот эти стихи:
Зал этот строился для Мейерхольда.
Сборная духа пошла под дуло.
Нынче игра за этап переходный.
Не проиграй ее, сборная духа.
Итак, где-то рушится вера, и где-то идет игра. Она шла двадцать лет назад, она продолжается и сегодня. Постаревшие инфанты все еще тешат себя тем, что они занимаются «тренировкой духа». И что их сборная выиграет. Впрочем, верят ли они в это? Или веруют в игру?
В повести В. Маканина есть такая фраза: у его героев было ощущение, что их «позовут». Это ощущение жило в поколении Геннадия Павловича (а к нему принадлежит и Андрей Вознесенский) много лет. И вот позвали.
С чем они вышли на сцену? В. Макании иронизирует над тем, что кое-кто из «шестидесятников» ударился в «малые дела». По его мнению, это тоже компрометирует поколение, хотя «малые дела», осмеянные еще Чеховым, подлежат реабилитации. Из «малых дел» строятся великие, и это не логика, а опыт дедов и прадедов, к которому — и слава богу — обратилось, наконец, не только поколение «шестидесятников». «Малые дела», если на то пошло, делали и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и тот же Антон Павлович Чехов. Его работа врача, его поездка на Сахалин — тому доказательство.
«Малыми делами» занимаются В. Распутин (Байкал), С. Залыгин (борьба с Минводхозом), Д. Лихачев (сохранение памятников), А. Вознесенский, когда вмешивается в строительство монумента на Поклонной горе или в историю с памятником погибшим под Симферополем. «Малые дела» сейчас, может быть, наиважнейшие дела, потому что, размахнувшись на великие, мы забыли о человеке. «Малые дела» всегда созидательны, они что-то возводят, строят, отстраивают. Кроме того, служа идее спасения, возрождения природы и общества, они толкают противоположные партии друг к другу, заставляют объединяться вокруг этой, близкой всем идеи.
В великих делах человек часто себя рассмотреть не может, он теряется на фоне их грандиозности. Мы знаем времена, когда великие дела пожирали человека, не считаясь с его личностью, с его собственной духовной дорогой. Мы как-то забыли, что, помимо общей дороги, у человека есть еще и своя дорога, которую он выбирает сам, и «малые дела» дают возможность осуществиться этому желанию.
Вполне возможно, что мы станем очевидцами того, как литература повернется к прославлению этих «малых дел». Как она сосредоточится на них в ближайшие годы. И как перенесет на них ореол героического.
9
В шестидесятые годы было принято делить литераторов на «левых» и «правых». Их идейный флаг соответствовал цвету обложки того или иного журнала. «Левые» печатались по своему ведомству (скажем, в «Новом мире»), «правые» — по-своему (допустим, в «Октябре»). На сегодняшний день и «Октябрь» и «Новый мир», по старым понятиям, «левые». «Левое» и сидевшее когда-то в болоте «Знамя». И поэтому трудней прятаться за обложку и, принимая ее цвет, снимать с себя ответственность за глубину и мудрость.
Ныне расфасовка идет по иному признаку. Когда появились на свет «Котлован» и «Собачье сердце», когда 1988 год открылся печатанием романов В. Гроссмана и Б. Пастернака, прежние понятия о «левом» и «правом» отказываются служить. Сегодня можно завоевать сердце читателя не столько тенденцией (хотя и она важна), сколько крупным взглядом, провидчеством, определяющим не только состояние момента, но облик исторического далека.
Таков, например, «Чевенгур» Андрея Платонова. Появление этого великого романа (Дружба народов. — 1988. — № 3, 4) сразу поднимает уровень нашей литературы на много порядков вверх. Пока текущая беллетристика ограничивается острой критикой постфактум. Настоящее пока вне критики, а прошлое восстанавливается по принципу реабилитации (критика двадцатых-тридцатых годов звучит как критика Сталина), что же до критики истории в полном объеме, то это, вероятно, дело будущего.
Станем, по крайней мере, отдавать себе отчет в том, что нынешняя волна очищения по большей части выполняет работу шестидесятых годов — недоделанную в те годы работу — и уже отстает от того развития, которое проделала интеллигенция в семидесятые и в начале восьмидесятых годов.
Я читаю М. Шатрова и приветствую то, что он изобличает Сталина, что ставит «вождя народов» под театральные софиты и совершает над ним суд — суд без адвокатуры, с одним обвинением. Я забавляюсь тем, как Керенский в пьесе «Дальше... дальше... дальше!» спрашивает Свердлова: а почему вы разогнали «Новый мир» Твардовского? Все это пикантно, остро, хотя и напоминает политическую агитку, политический раек. Я понимаю, что этот раек скоро отомрет, отслужив свою службу, сойдет с подмостков, но он звучит в унисон с разоблачениями газет, приоткрывающими темный мир архивов. Пусть хотя бы так, говорю я себе, пусть хотя бы в такой форме. Мне не важно, как литература хоронит Сталина, мне важно, что она это делает.
Вместе с тем, я сознаю, что эта антиагитка смертна. Что она — сама себя уничтожающая материя, да и фактов у М. Шатрова уже мало, уже факт — его верный оруженосец, — повторяясь, исчерпывает себя в его пьесах. Уже хочется полной истории, а не пересказов ее.
Ныне критика, имеющая лишь альтернативу политическую (А. Рыбаков и М. Шатров) и не имеющая альтернативы духовной, уже не удовлетворяет нас.
H. M. Карамзин сказал: «Слова принадлежат веку, а мысли векам». Я за то, чтоб восторжествовала литература мысли. Но для этого мы должны пройти через чистилище, в которое вступили. Для этого должны народиться новые свободные люди, которые такую литературу создадут. Которые не только станут заимствовать и занимать идеи и повороты тем у Достоевского (самый модный сейчас в этом смысле писатель), но и сами — как это сделали Платонов, Булгаков, Ахматова — станут на его высоту.
Пока литература и критика довольствуются этими заимствованиями (их сколько угодно у А. Битова и у В. Дудинцева), пока они проедают золотой запас классики, но я верю, что их новая жизнь впереди.
Что я еще могу сказать об ушедшем годе? Мне не хватило сил и места, чтобы поведать читателю обо всем, что я прочитал, что пришло ко мне на стол через журналы. Признаюсь, что иногда приходилось откладывать журнальную книжку и отдавать предпочтение газете, газетной статье и очерку, из которых я черпал больше, чем из толстого романа.
И все же я не мог не заметить и повести Ф. Искандера «Старый дом под кипарисом» (Знамя. — № 4), и повести В. Быкова «В тумане» (Дружба народов, — № 7), и гимна в честь «шестидесятников», не забывших, откуда они родом, — повести Г. Матевосяна «Хозяин» (Дружба народов. — № 10), и рассказов Бориса Екимова (в «Знамени» и «Новом мире»), Евгения Попова (там же) и Татьяны Толстой (Октябрь. — № 3).
Я прочитал и повесть А. Генатуллина «Тоннель» (Знамя. — № 12), и повествование Ю. Аракчеева «Пирамида» (Знамя. — № 8, 9), но не обнаружил в них того, о чем писала критика, — ни впечатляющей мысли, ни мужества в обращении с темой. А. Генатуллин, например, честно поведав о злоключениях солдата после войны, об отношениях бывших фронтовиков и пленных немцев, все смазал в конце, показав идиллию «прощения» героем своих врагов, прощения, что называется, у края гроба.
Я запомнил рассказы Вячеслава Пьецуха, рассказ Евгения Попова «Светлый путь» (Новый мир. — № 10), где ирония побраталась с лиризмом, рассказ Булата Окуджавы «Искусство кройки и шитья» (Знамя. — № 3).
Всего не перечислишь, всего не обнимешь, да и не надо обнимать. Обзор подходит к концу, и, как всегда в конце, хочется произнести что-то ободряющее, что-то веселящее —слишком нелегким по тяжести «негатива» был минувший год. Но он вывел читателя на борьбу с собой, на исповедь, на всенародное вече по обсуждению «наших ран». Когда- то Гоголь в «Театральном разъезде» иронизировал по поводу этого выражения — «наши раны». Так привыкли говорить и те, кто живет тепло и сытно. Кто тешит себя легкими прикосновениями к этим «ранам» в повестях и пьесах.
Ныне литература врывается в каждый дом, в каждую душу, чувствующую разлад с собой, переживающую борения, страх и надежду. Страх бежит, как тень от света, но все- таки эта тень еще черна, еще всесильна, еще тщится закрыть нашу жизнь.
Литература — свет души народа — не даст этого сделать.
1988 г.
ВОЙНА И СВОБОДА
О романе В. Гооссмана «Жизнь и судьба»
Минуло почти полвека после победы, но история войны еще не написана, нет и романа о войне — долгожданного сплава фактов и памяти. Есть частности, есть талантливые свидетельства и показания на суде истории, но суд истории в отношении Великой Отечественной войны (как, впрочем, и всей эпохи) не состоялся, он как бы ждет своего часа.
Сразу после 1945 года заговорили о том, что нужна современная «Война и мир». Считали, что масштаб события того заслуживает. Но не о масштабе количественном шла речь. Имелась в виду идея охвата всей войны, ее корней и последствий, ее ядра и периферии.
Светлое воспоминание, смешанное с горечью, тянется из послевоенных лет: первая ласточка, первая честная повесть о войне, хроника окопа, хроника прозы войны — «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. Горечь связана с тем, что автор был изгнан с родной земли.
Были и еще нелицеприятные исповеди, рваные куски пока лишь мерещущегося большого полотна, на первое место среди которых я бы поставил повести К. Воробьева.
Но чтобы сцепить эти куски и ввести в войну понятие «мир» равно воздать им и понять их трагическое родство — такого не было.
Хотя создавались, как говорят солдаты в романе В. Гроссмана, разные «опупеи», но их величие было чисто внешним: являлся Сталин, являлась Ставка, маршалы и генералы, но взгляд автора от этого не укрупнялся, величия в мыслях не было, не было величия и в духе.
Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» есть прежде всего феномен свободы духа, и иначе и быть не могло, потому что это роман о свободе.
Идея свободы стала идеей идей в XX веке. Никогда она еще так не овладевала массами, и никогда еще она не была так оболгана. И никогда массам, народу не приходилось так жестоко расплачиваться за эту ложь. Парадокс эпохи состоит в том, что во имя идеи свободы были совершены великие подвиги самопожертвования и великие «подвиги» злодеяния; идея свободы и идея насилия, как ни чужды они друг другу, срослись, как сиамские близнецы.
Роман В. Гроссмана начинается с картины немецкого лагеря. «Лагеря, — пишет В. Гроссман, — стали городами Новой Европы». Европа, до того разделенная, стала в этом смысле единой. На ее пространствах появились гигантские образования, похожие на клетки шахматной доски, колючая проволока, не зная границ, протянулась из-за Урала в мягкий климат южной Германии.
Из обустроенного жилища Европа превратилась в арену, на поле которой, как на поле кровавого Колизея, человек испытывал свою судьбу. Понятие судьбы стало унифицированным, всеобщим, сделалось поистине «мировой судьбой», тень которой накрыла и людей, и народы.
Рок, судьбу Василий Гроссман трактует не в мистическом и не в религиозном смысле. Старинное слово «судьба» означает «суд божий». Это понимание слова «судьба»
В.Гроссман не принимает в расчет. Судьба для него — предопределение истории, историческая неотвратимость «исторический рок», обстоятельства, в которых — не без собственного согласия — вынужден жить человек.
Противоборство жизни и судьбы бросает свой свет и на войну — главное событие в романе В. Гроссмана. Он не случайно избирает местом действия романа Сталинград. Сталинград — кризисная точка войны, начало ее «перевоплощения» и знак, символ, ибо в его название впечатано имя того, кто олицетворяет на страницах романа рок и судьбу. Сталинград, с одной стороны, душа свободы, душа освобождения, с другой — знак системы Сталина, которая всем своим существом враждебна свободе. Эта двойственность всей атмосферы романа создает его героико-трагический пафос.
Трагедия народа, по В. Гроссману, заключается в том, что, ведя войну освободительную, сознавая, что цели войны с нашей стороны праведны, он (еще не сознавая того, но исторически это так) ведет войну на два фронта: против Гитлера и против Сталина. Во главе народа-освободителя стоит тиран и преступник, который усматривает в его победе свою победу, победу своей личной власти.
Воплощением этого противоречия и является Сталинград и все, что происходит вокруг него, что концентрическими кругами расходится от этого сердца войны.
На острие этого конфликта стоит в романе дом «шесть дробь один», гордость и оплот армии, находящийся «на оси немецкого удара». Этот дом для немцев — как кость в горле, потому что «запирает» их наступление на Сталинград, мешает им продвинуться в глубь города и в глубь России.
Но он и кость в горле тех, кто привык видеть в глазах своих подчиненных покорность. Он кость в горле для Крымова, для Особого отдела, которому известно, что в этом доме завелось свободомыслие.
«Нельзя человеком руководить, как овцой, — говорит «управдом» этого дома капитан Греков. — На что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному».
«Свободу хочу, за нее и воюю», — настаивает Греков. И он подразумевает при этом не только освобождение территории от врага, но и освобождение от «всеобщей принудиловки», которою, по его мнению, была жизнь до войны. «А уж вы-то все на старые рельсы хотите вернуть?» — спрашивает Греков присланного к ним в дом комиссара Крымова, жаждущего водворить в этой республике свободы «большевистский порядок».
Дом «шесть дробь один» и в самом деле такая республика. Тут не принимают докладов, не пишут приказов, не вытягиваются перед командиром по стойке «смирно». Тут дерутся не на жизнь, а на смерть, и мерилом достоинства человека является его честь.
Близость смерти, возможность каждую минуту быть убитым освобождает людей. Свобода развязывает языки, свобода сближает. Офицеры и солдаты, старые и молодые, бывшие интеллигенты и бывшие прорабы, не знают превосходства друг над другом. И хотя люди в этом доме, как замечает В. Гроссман, были не просты, они составляют одну семью.
Дом «шесть дробь один» — центр романа, центр не только географический, но и смысловой, потому что здесь осуществлена мечта о свободном самоуправлении и свободе отдельного человека. Но и в этом вольном сообществе, беззаветно жертвующем собой, есть свои «информаторы». И сюда заслан некий лазутчик командования, или, попросту говоря, стукач, который отправляет донесения о поведении и речах защитников дома.
Такие «информаторы» есть всюду. Они есть и в частях — в окопе и на марше, они есть в домах далекого тыла, в институтах, на предприятиях и даже в немецких лагерях, куда их забрасывают, чтоб выявить тех, кто ведет среди заключенных «не ту» работу.
Государство в романе В. Гроссмана наблюдает за каждым своим гражданином, за каждым членом общества, не спускает с него неусыпного взора, и осуществляют этот присмотр как насильно нанятые сексоты, так и добровольные — идейные — доносчики вроде Крымова.
Ту же роль играют при командире танкового корпуса Новикове сразу два лица — генерал Неудобнов (выбивавший зубы на допросах тридцать седьмого года) и комиссар Гетманов. Грамотный, умный, честный командир имеет над собой этих погонял, которые помыкают им, «поправляют» его, учат, как командовать. И он ничего не может с ними поделать, так как они представители той силы, с которой не в состоянии совладать врученная ему войной власть.
Тот же сюжет закручивается и в немецком лагере для военнопленных. И здесь есть герои неповиновения, «властители дум», как майор Ершов, и есть доглядчики за их «идейностью», их чистотой, как бригадный комиссар Осипов. От Ершова идет «веселый шар», он греет людей, как русская печь (это сравнение В. Гроссмана), но он для Осипова чересчур популярен, чересчур народен. К тому же у него неясная биография. Мало того, что отца Ершова сослали в Сибирь, он не предал своего отца, поехал к нему в ссылку и был за это уволен из армии.
Пользуясь своими связями в конторе лагеря, Осипов делает все, чтоб фамилию Ершова включили в список отправляемых в Бухенвальд. Он посылает главаря лагерного подполья на верную смерть.
Останься жив капитан Греков (дом «шесть дробь один» снесла немецкая бомба), не миновать бы ему той же участи. Донос Крымова подвел бы его под расстрел.
В. Гроссман, наверное, один из первых изобразил противоречия внутри освобождающего войска как противоречия не менее сильные, чем «конфликт» с врагом. Делали это, правда, и Василь Быков (за что до сих пор не переиздаются его повести «Атака с ходу» и «Мертвым не больно»), и Константин Воробьев («Убиты под Москвой»), и Григорий Бакланов («Июль 41 года»). Но не надо забывать, что к тому времени, когда появились эти честные книги, роман В. Гроссмана уже существовал, он был написан, но ему самому пришлось пережить судьбу своих героев. Роман был арестован и лишь спустя треть века освобожден, «реабилитирован» и возвращен русской литературе.
Появись он в 1960 году — тогда, когда и был написан,— он продвинул бы наши представления об эпохе и о войне на десятилетия вперед. Потому что то, что мы знаем и понимаем сейчас, понимал в 1960 году Гроссман. Он понимал и больше. Его роман опережает даже самые смелые мысли нашего времени.
«Жизнь и судьба» не просто связывает кабинет в Кремле с землянкой, окопом, блиндажом, «трубой» под землей Сталинграда, где обитают генерал Родимцев и его штаб; он судьбу народа, судьбу свободы связывает с судьбой идеи, которая нашла своего идола в Сталине. Это идея ничтожности человека и величия государства, идея подавления личной свободы человека во имя торжества всеобщего счастья и всеобщего добра.
Василий Гроссман развенчивает эту идею всем существом своего романа, мысли которого поднимаются до величия его картин. Роман «Жизнь и судьба» — это роман дискуссий, роман напряженных диалогов и усилий ума, желающего разрешить проклятые вопросы своей эпохи. Но это и роман чувств, роман страстей человеческих, которые мешает, поднимает и низвергает война.
Дискуссии о свободе, о добре и доброте, о дружбе, о причинах тотальной покорности человечества перед лицом тотального насилия в наш век развертываются у В. Гроссмана под пулями, в стенах дома «шесть дробь один» и на пороге газовой камеры, на квартирах ученых в Казани и в камерах Лубянки. Роман Василия Гроссмана реет над страной и над войной, как большая птица.
Крылья свободы возносят этот роман над фронтом и над тыловым аэродромом, над передовой полка и над калмыцкой степью. В. Гроссман опускается и в самые «низы» войны и облетает взглядом ее «верхи», он видит и штаб Еременко, и штаб Паулюса, видит воронку, в которой одновременно прячутся от смерти и русские, и немец, видит физический страх и духовное благородство, святой порыв и предательство, видит грубость, нежность, слезы, похабщину и трепет сердца. В доме «шесть дробь один» говорят не только о свободе, но и о дамочках и их бюстах, о довоенных ценах на обувь, и сам Греков, в прошлом десятник на шахте, техник-смотритель и бабник, нацеливается на радистку Катю, хищно желая урвать от жизни хоть что-то, пока он жив. Но и это циничное чувство, впрочем, понятное в человеке, обреченном на смерть, растворяется в самоотречении, и он отсылает Катю и ее возлюбленного Сережу Шапошникова прочь из дома, спасая их и их любовь.
Передовая у В. Гроссмана пахнет запахом морга и кузницы — трупов и обгорелого металла, — девушка-еврейка встает из братской могилы, куда ее свалили вместе с расстрелянными, и идет по городу, на площади которого слышится музыка: такие же обреченные, как и она, но еще живые, танцуют и кружатся в вальсе, попирая весельем ее горе.
На войне продолжают интриговать зависть и подлость, на войне доносят, разбирают доносы, действует полевая машина подозрительности и бдительности, и здесь же расцветает любовь современных Дафниса и Хлои — завшивевшей радистки Кати и минометчика Шапошникова.
К какой бы стороне войны В. Гроссман ни обращался, будь то лагеря на русском Севере или лагеря в глубине Германии, тыл и фронт, Москва сорок третьего года и Казань, Куйбышев или левый берег Волги напротив Сталинграда, где находится штаб командующего фронтом, вечеринка накануне отъезда в корпус Гетманова или цехи Стальгрэса, тыловой аэродром, где готовят летчиков к отправке в Сталинград, или еврейское гетто, чувствующее свою смертную связь с войной, он держит нас под током своей главной мысли: свобода — стратег войны.
Кстати, то же, что и Греков, говорит в романе человек иной биографии — старый чекист Магар, попавший в лагерный лазарет и исповедующийся перед твердокаменным большевиком Абарчуком: «Мы ошиблись... Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис над базисом».
Твердокаменный Абарчук, засудивший в тридцатые годы сорок работников, оправдывавший и благословлявший террор (у нас «ни за что» не сажают), кричит в ответ на признания Магара: «Перестань!.. Тебя сломали... То, что ты сказал, ложь, бред».
Магар кончает с собой, а Абарчук остается жить. Так же остается жить в немецком лагере старый большевик Мостовской, правда, остается ненадолго, ибо и ему суждено пасть под топором палача. Но прежде него под этим топором падет его антипод Иконников-Морж, человек, которого Мостовской называет «раскисляй», «юродивый». Иконников-Морж опередит его в своем героизме — он откажется выйти на строительство лагеря уничтожения, того самого лагеря, в газовой камере которого погибнут позже врач Софья Левинтон и мальчик Давид, — и его казнят.
Иконников-Морж и его воззрения встают между воззрениями Мостовского и оберштурмбанфюрера Лисса, который в романе является теоретиком и философом нацизма. Именно с Лиссом заключенный Мостовской проводит долгие часы молчания, которые напоминают не допрос, а спор одного члена партии с другим членом партии, одного из сторонников партийного государства и государственной воли, превращающейся в XX веке в судьбу, с другим таким же поклонником этой воли — только с иной стороны.
Впрочем, Лисс в этих спорах доказывает или, по крайней мере, тщится доказать, что разницы между ним и Мостовским нет, что нет разницы между их системами, что, глядя друг на друга, «мы смотрим в зеркало», «мы форма единой сущности — партийного государства».
«Меня мучит то, что мучит вас», — убеждает он Мостовского. И далее: «Мы наносим удар по вашей армии, но мы бьем себя... Если мы победим! Мы, победители, останемся без вас, одни против чужого мира, который нас ненавидит». А если победите вы, добавляет Лисс, мы останемся в вашей победе.
Мостовской смеется в душе над ним, но когда заходит речь о сталинских злодеяниях, сердце его начинает сильно биться, и он чувствует, как «грязные сомнения» посещают его. А сомнения, как говорит В. Гроссман, — «динамит свободы».
Этой самой свободы и боится больше всего Мостовской. Она для него страшней жизни, страшней смерти, ибо она смерть веры, смерть подчинения идее, которую он почитает выше божества, выше даже своего существования.
А Лисс подбрасывает поленья в огонь: «...Кто смотрит на нас с ужасом — и на вас смотрит с ужасом», «и над нашим народным государством красное рабочее знамя». А то, что мы уничтожаем евреев, замечает Лисс, так вы уничтожили собственных крестьян — какая разница?
Нет, рассуждает в лихорадке Мостовском, «для того чтобы оттолкнуть Лисса... нужно лишь перестать презирать... Иконникова» (с его проповедью доброты), нужно осудить и возненавидеть «лагеря, Лубянку, кровавого Ежова... Но мало, — Сталина, его диктатуру!
Но нет, нет, еще больше!.. Край пропасти!»
На это Мостовской неспособен. Он лучше отведет глаза от пропасти, чем согласится бесстрашно заглянуть в нее. Факты жгут, факты стыдят, факты убийственны, и лучше не думать о фактах, иначе придется солидаризироваться с Лиссом.
«Мостовской видел... — пишет В. Гроссман, — Лисс объединял все темное, а мусорные ямы одинаково пахнут... Не в мусоре нужно искать существо различия и сходства, а в замысле строителя, в его мысли». Но какой же «мусор» миллионы человеческих жизней? Какие «обломки» и «щепа» эти миллионы, ведь это сам народ?!
Величие романа В. Гроссмана, на мой взгляд, в том, что он не страшится этих вопросов, не уклоняется от них, не отводит глаз, не виляет, не останавливается там, где его мысль доходит до запретной черты. Он смело переступает эту черту, заставляя, испив глоток свободы, переступить ее и читателя.
Сталинград в «Жизни и судьбе» — героический акт и беда народа, который, освобождая себя, освобождая страну, освобождая мир от фашизма, освобождает одновременно и Сталина. Он освобождает Сталина от его прошлого. «Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохранят спокойную немоту.
Он знал лучше всех в мире, — пишет В. Гроссман о Сталине, — победителей не судят».
Сталин у В. Гроссмана потирает руки после Сталинграда и верит, что теперь ему все спишется. Ему плевать на капитана Грекова, на дом «шесть дробь один», на летчика Викторова, павшего под Сталинградом, на тысячи и тысячи жизней, принесших победу. В его глазах загорается ликование зверя, спасшегося от смерти и готового мучить новые жертвы. И понимая это его состояние, состояние тирана, который новой кровью народа смывает со своих рук его прежнюю кровь, содрогается, видя восторг Сталина, Поскребышев.
«Пришел час его силы», — пишет со скорбью В. Гроссман. — Пришел час, когда «решалась судьба советских военнопленных... которым воля Сталина определила разделить... сибирскую ссылку немецких военнопленных». Пришел час, когда «решалась судьба Михоэлса... писателей Бергельсона, Маркиша, Фефера, Квитко, Нусинова». Пришел час, когда решалась судьба интеллигенции и крестьянства, судьба Восточной Европы, судьба «свободы русской мысли, русской литературы и науки».
Нетерпение Сталина, желающего как можно скорей получить известие о победе, наталкивается в романе на сопротивление полковника Новикова, от действий которого зависит успех наступления. Сталин торопит войска, генералы торопят Новикова, а он медлит, ожидая, когда наши орудия подавят орудия немцев. Он не хочет рисковать лишними жизнями. Восемь минут колебания, жесткого нажима «верха» на Новикова, минут гнева Сталина и мужества Новикова, который не дает себя запугать и хочет прежде подумать, чем бросить своих танкистов под огонь врага, есть прямое противостояние жизни и судьбы, рока и воли человека. В. Гроссман считает, что сила таких людей, как Гетманов, Неудобнов, Сталин (а он не делает между ними различия), ничего не значила бы без побед, которые одерживали Новиковы, потому что без победы народа не было бы ни «гения» Сталина, ни его «величия». Сила Сталина поддерживалась страданиями народа, который, кидая в жерло своих сыновей, создавал постамент Сталину, возводил эту фигуру на пьедестал. В. Гроссман вообще оспаривает определение «гений» по отношению к военным талантам. Он считает, что это определение может быть применено к дарованию ученого и поэта, открывающего новые миры, но не к способностям генералов. Тем более неприменимо оно к Сталину, чья «гениальность» была гениальностью чужих заслуг, чужого пота и крови.
Даже Гитлер в романе чувствует эту ужасную победу Сталина и испытывает страх перед ней. Этот страх представляется ему волком из детской сказки — волком, следящим из-за деревьев за гуляющим на воле козленком. И — по страшному совпадению — ту же сказку вспоминает еврейский мальчик Давид, когда его ведут в газовую камеру. Гибель этого мальчика в газовне, как и гибель толпы евреев, входящих туда вместе с ним, написана В. Гроссманом с цепенящей силой. Жилы стынут, когда читаешь про это убийство. Это апогей торжества насилия и прозы насилия, выработавшего безупречные формы для превращения человека в прах, в пепел.
Томящее чувство прожитой жизни ощущают гонимые в газовую камеру, чувство это поднимается в них, когда они слышат звуки оркестра, звуки музыки, которая встречает их на плацу лагеря. Она звучит в виду дымящих красным заревом печей, где сгорели тела их предшественников.
И как нигде, на краю гибели сознает Софья Осиповна Левинтон, прижимающаяся к Давиду немолодая женщина, «одинокое чувство одной своей жизни», и то же чувство сознает в себе мальчик Давид. Он готов в предчувствии насильственной смерти покончить с собой, но «вокруг была одна лишь музыка... об которую нельзя разбить голову».
В. Гроссман все различает в хоре гибели — и шутки приговоренных, и «крик человека, превращающегося в золу», и тайные мысли тех, кто, глядя поверх голов идущих в газовню, «разглядывает не пространство, а время», и стук сердца маленького мальчика, и любопытство палачей, наблюдающих за сжигаемыми в камере, и броуновское движение людей в предсмертной пляске на полу, когда газ уже стал поступать под своды низкого потолка.
«Огонь свободы угас... — пишет В. Гроссман. — Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть». В. Гроссман утверждает право человека на эту отдельную Вселенную, на независимый мир, который существует только тогда, когда человек сознает его.
За несколько дней до того, как в камеру войдут обреченные, в той же газовне устраивают пир их палачи. Они ставят посреди камеры стол, накрывают его скатертью и едят и пьют во здравие этого заведения. И теоретик Лисс сидит здесь рядом с палачом Эйхманом. Теория, дает понять В. Гроссман, неотделима от практики. И идеологи насилия — такие же палачи, как и непосредственные исполнители. Нет расстояния между «интеллигентом» Лиссом, пишущим философские работы, и исполнителем Кейзе, у которого пластмассовые глаза и для которого убить человека из пистолета означает «впустить в голову зерно кофе».
В. Гроссман показывает, что фашизм вел себя в лагерях по-плебейски, по-свойски, что он без надменности, без высокомерия подводил жертву к последней черте, он «шутил по-народному», он «отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишал свободы». Загадка состоит в том, что сами заключенные, сами жертвы помогали ему в этом.
Этот парадокс стал парадоксом эпохи. Всегда насильников было меньше, чем жертв, всегда жертвы, объединившись, могли сокрушить ряды насильников, но этого — за редкими исключениями — не было, народ шел покорно на смерть, надеясь на чудо спасения.
Объяснение этого гипноза В. Гроссман видит в фактах сверхнасилия, которые тоталитарные системы применяли к своим гражданам. Факты «сверхнасилия» соединялись со сверхдавлением «мировых идей», призывающих «к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели». «И с инстинктом жизни, наряду с гипнотической силой великих идей, — пишет В. Гроссман, — работала третья сила — ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийством, ставшим основой государственной повседневности».
Но почему же толпы людей сами шли на смерть? От недостатка сознания личной свободы, вообще цены свободы и единственности, бесценности человеческой жизни? От темноты или от святого чувства презрения к себе? Но тогда нужно изменить природу человека, рассуждает В. Гроссман, ибо в основе этой природы лежит свободолюбие, страсть к свободе.
Человек — не бессловесное животное, хотя в XX веке он проделал обратный путь — от человека к скотине. Покорной скотиной ощущает себя даже физик Штрум, интеллектуал, автор, может быть, гениального открытия в области расщепления атомного ядра.
Свободомыслие и трусость мешаются в нем, он то трясется от ужаса перед государством, которое кажется ему циклопическим живым существом, играющим с ним, то бросает ему дерзкий вызов, а затем, обласканный государством (Сталиным), вновь впадает в страх и безволие.
Роман В. Гроссмана захватывает почти все слои общества, все группы и сословия —от крестьян до партийных дворян, которые плывут на пароходе по Волге в первом классе и которые безмерно далеки от пассажиров третьего класса, где перебивается «черная кость».
Солдаты — танкисты, пехотинцы, такие, как старик Поляков, из дома «шесть дробь один», врачи госпиталя, писатели, эвакуированные в Куйбышев, старик калмык на лошади с «прекрасными очами», баба Христя, спасающая от голода солдата, снайперы, бухгалтер Наум Розенберг, которого заставляют рыть ямы для приговоренных евреев, подполковник Даренский, заступающийся за пленного немца, женщина, дающая гитлеровскому офицеру кусок хлеба (вместо того, чтобы убить его), фанатик Крымов и фанатик Абарчук, следователи с Лубянки, уголовники и политические в лагерях, парикмахеры и могильщики — вот социальная панорама романа В. Гроссмана.
Да, фанатикам приходится пожинать плоды своего фанатизма — они сами попадают за решетку, они становятся подопытной скотиной, над которой упражняется любимая ими идея насилия. И они, с трудом прозревая, начинают в конце романа понимать, что, уничтожая других, не жалея других, они создали гигантскую фабрику по переработке людей, которая для перевыполнения «плана по счастью» должна уничтожить и их жизнь. Что это, революция или черная сотня? — задает себе вопрос Крымов, думающий о капитане-государстве, избивающем его. Его пытают в кабинете следователя на Лубянке, а в насмешку над тем, что здесь происходит, на стене висит портрет Максима Горького. И следователь напоминает Крымову афоризм великого пролетарского писателя: «Если враг не сдается, его уничтожают».
Пути Крымова и других вписываются в пути войны. Сталинград меняет «духовное движение войны», и направление этого движения есть главное, что хочет понять В. Гроссман.
Интересно, что на этот счет в романе представлены по крайней мере три точки зрения: точка зрения академика Чепыжина, точка зрения поэта и пророка органов безопасности Каценеленбогена, точка зрения Иконникова.
Чепыжин, отказывающийся вести работы по созданию атомной бомбы и покидающий по этой причине пост директора института, видит послевоенное будущее — и более отдаленные времена — на путях совершенствования разума, скачка разума, который одушевит (и освободит) неживую материю. Человек благодаря этому — через науку и интеллект — придет к свободе.
Иначе рассуждает Каценеленбоген. Он тоже за разум, но торжествующий в условиях... лагеря. Через стирание граней между лагерем и запроволочной жизнью (причем жизнь при этом будет приобретать черты лагеря) он видит будущее свободы. Чтоб достичь всеобщего счастья, надо подавить принцип личной свободы, а для этого идеальным организмом является лагерь.
Как ни далеки друг от друга теории Чепыжина и Каценеленбогена, они обе полагаются на разум. А теория Каценеленбогена полагается еще и на страх. Или на «Госстрах», как шутит невесело Штрум. Это страх перед тотальной силой государства, перед его гневом и «социальной физикой».
Что же касается Иконникова, то Иконников исповедует доброту, которую он противопоставляет идее безличного добра. Идея добра безлична и абстрактна, она «орудие и товар», оправдывающие преступления, свидетелем которых был Иконников. Он видел эшелоны с раскулаченными, видел, как матери от голода съедали своих детей, расстрелы евреев, он решил, что если Бог допустил такое, то его нет. Он спасал евреев, он был коммунаром, он проповедовал Евангелие, сидел в психиатрической больнице, а потом в тюрьме и наконец попал в концлагерь, где ему в последний раз пришлось защитить идею добра собственной смертью.
«Добро не в природе, — пишет Иконников в предсмертной исповеди, — не в проповеди вероучителей и пророков, не в учениях великих социологов и народных вождей, не в этике философов... обыкновенные люди несут в своих сердцах любовь к живому, естественно и непроизвольно любят и жалеют жизнь... Кроме грозного, большого добра (а к нему Иконников относит христианство и социализм — И. З.), существует житейская человеческая доброта».
Пусть эта доброта бессмысленна, частна, случайна, пусть она безумна, вредна, слепа, иного выхода, как следование ей, у человека и человечества, по Иконникову, нет. «Она, эта дурья доброта, и есть человеческое в человеке... она высшее, чего достиг дух человека».
Так думает Иконников. Но так, похоже, думает и капитан Греков. Так думает полковник Новиков, задерживая наступление под Сталинградом на восемь минут. Так думает и майор Ершов, отдавая людям в лагере свой «веселый жар».
Мостовского при чтении исповеди Иконникова охватывает «мутная тоска». Он хочет отогнать от себя правду Иконникова, как и образ Иконникова, но тоска не оставляет: его, она кажется ему тяжелее физических страданий. Такая же тоска мучает и Крымова, и ее, эту тоску, видит в его глазах проницательный Греков.
Что-то подобное этой тоске посещает и Штрума, когда он отрекается от себя, от лучшего и чистого в себе, и подписывает письмо в редакцию газеты, обвиняющее невинных людей. Будучи сам поборником разума, человеком науки, он понимает, что проект Чепыжина, предлагающий человечеству усовершенствование через науку, несостоятелен. Он чувствует это на себе. Он — существо высшего разума — не может изгнать поселившийся в клетках этого существа страх. «Вы скажите мне, — спрашивает он Чепыжина (и спрашивает в глубине души себя), — превзойдет ли... будущий человек в своей доброте Христа?»
Хочешь — не хочешь, но мысли героев романа возвращаются к этому. Штрум чувствует освежение и легкость, ощущает чистоту и свободу, когда отказывается каяться на собрании, когда противопоставляет свою волю воле всесильной системы. И он теряет эти чувства, когда уступает ее окрику, ее давлению.
Судьба в этом случае, как пишет В. Гроссман, отбирает у Штрума нечто «странно милое, трогательное, хорошее».
В мгновения, когда ему кажется, что он сбросил гнет давящего на него государства, Штрум ощущает близость своей счастливой души к тому, кого он называет Богом. «Он не верил в бога, — говорит В. Гроссман, — но почему-то в эти минуты казалось — бог смотрит на него».
Это высшие минуты в жизни Штрума, как и высшие минуты очищения, которые переживает в его лице человек в противоборстве с гневом всесильной судьбы.
«Сталинградское торжество, — читаем мы в романе, — определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека и его свобода».
Слова «судьба» и «свобода» сближаются в этом рассуждении. Они сближаются и в концепции романа. «Духовное движение войны» после Сталинграда идет в сторону усиления диктатуры Сталина, укрепления личной власти Сталина и в сторону стремительного освобождения духа народа, которому еще многие годы определено существовать под живым и под мертвым Сталиным. «Тайна перевоплощения войны» после Сталинграда состояла в том, что отныне в войне первенствовали успех, тщеславие Сталина, тщеславие генералов, что начинал внедряться государственный национализм, что, кажется, укреплялась система, которая была отрицанием освободительных целей войны. И вместе с тем это было начало разрушения этой системы. Пусть свобода родилась на пятачке дома «шесть дробь один», в душах таких людей, как Новиков, Г реков, как Штрум и Шапошников, как дочь Штрума Надя, но это все равно было начало — и так понимает войну и Сталинград Василий Гроссман.
Он как бы заглядывает в наш день и, видя наши мучения освобождения, мучения выхода из состояния массовой покорности и массового гипноза, говорит: жизнь сильнее судьбы, человек больше своего страха.
1988 г.
ПАЛАЧИ И ГЕРОИ
Имя Юрия Домбровского (1909—1978) мало что говорит широкому читателю. Широкий читатель не виноват, не виноват в этом и Юрий Домбровский. Помню, когда в «Новом мире» появился его роман «Хранитель древностей» (1964), ни один столичный журнал и ни одна газета не взялись печатать рецензию на него, и лишь «Сибирские огни» по своей отдаленности решились на это. Широкий читатель привык к спискам, которые составляются для него еще со времен школы, которые спускают сверху манипуляторы общественного мнения, затем перенося их в учебники и хрестоматии. А имя автора «Факультета ненужных вещей» в эти списки никогда не входило, даже в «Краткую литературную энциклопедию», в ее дополнительный том, оно было внесено лишь за год до того, как Юрия Домбровского не стало.
Меж тем это имя может составить гордость любой литературы.
Я впервые познакомился с ним, когда прочитал роман «Обезьяна приходит за своим черепом» (1959), про который в аннотации к недавно вышедшей книге прозы Ю. Домбровского сказано, что это роман, «обличающий поджигателей войны». Но и тогда, в шестидесятые годы, когда книги Ю. Домбровского стали прорываться сквозь заслоны цензуры, было ясно, что «Обезьяна приходит за своим черепом» не имеет никакого отношения к поджигателям войны, что здесь под видом фашистского застенка и фашистского кабинета следователя изображены застенки и кабинеты, о которых можно было получить представление и без командировки в Германию, какой бы эта командировка ни была — вынужденной или творческой.
Роман «Хранитель древностей» объяснил нам это. Он объяснил, что автор располагает достаточными сведениями о тех способах и приемах, которые применялись на его Родине, чтоб выколотить из человека душу и чтоб на место этой души водворить нечто такое, что является лишь тенью страха, который испытывает душа, когда ее зовут —не на Страшный суд, нет, — на судилище, где председательствует дьявол, а не Бог.
Тема суда и следствия, осуждения и казни, судьи и обвиняемого, свидетеля и истца составляет и пафос романа «Факультет ненужных вещей», окончание которого в рукописи помечено 5 марта 1975 года — датой, отсчитывающей двадцать два года со дня смерти «отца народов», то есть с того времени, как пало господство антихриста, с которым сравнивает Ю. Домбровский Сталина.
В романе есть сцена, где Иосиф Виссарионович, будучи в хорошем расположении духа, читает старое дело, заведенное на него царской охранкой. Там перечисляются приметы подлежащего розыску «политического» Джугашвили, и среди этих примет выступают неприятные для него: оспины на лице, низкий лоб, отсутствие коренного зуба и еще одна деталь: «на левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся». «Так, все верно, — думает Сталин. — Действительно, сросшиеся. «Примета антихриста», как сказал ему кто-то еще в семинарии».
Сталин является в романе несколько раз — и всякий раз вовремя: то когда нужно бросить свет на вершину пирамиды, у подножия которой происходят расстрелы и пытки, то когда его жертва — Зыбин (тот самый «хранитель древностей», интеллигент, который был выведен в предыдущем романе Ю. Домбровского) ищет ответы на вопрос, кто же такой Сталин. И тут писатель предоставляет Зыбину очную ставку с ним.
Эта очная ставка напоминает встречу Ивана Карамазова с чертом, тем более что происходит она, как и у Достоевского, в полубреду-полусне, а Сталин так же сидит в кресле перед спящим Зыбиным, как «клетчатый» перед Иваном Карамазовым.
Поединок Зыбин—Сталин — это покуда еще поединок теоретический, потом он разрешится на деле, когда Зыбин очутится в здании алма-атинского НКВД и перед ним пройдет череда следователей, на практике осуществляющих теоретические посылки вождя.
В стенах этого заведения, где окна занавешаны шторами, а в кабинетах стоят кадки с пальмами, где высоконогие секретарши и следовательницы, похожие на американских кинозвезд, бесшумно скользят по коридорам, ослепляя белозубыми улыбками несчастных подследственных, где «активный допрос» доводит людей до обморока, до желания покончить с собой, — и пройдут часы Зыбина, и совершатся главные события романа, где палачи и жертвы встанут лицом к лицу.
Но, кроме них, в этом противостоянии примут участие Христос и Понтий Пилат, Иуда и осудивший Христа синедрион, Тацит и Сенека, история Рима и иерусалимский талмуд, Евангелие и апокрифы. Роман Ю. Домбровского вставляет историю правления антихриста в христианское летосчисление, рассматривая эру правления Сталина как антиисторию, потому что она строится на принципах, на которых не может развиваться человеческое общество. Этим путем оно может идти только к самоуничтожению, к вырождению личности, к гибели культуры.
Если в романе «Хранитель древностей» культура была в некотором роде защитой и надеждой на спасение от темной ночи террора, то в «Факультете ненужных вещей» Ю. Домбровский полагается больше на личную порядочность человека, на его способность не только выжить, но и победить дьявола — победить его силой духа, силой своей слабости, как победил фарисеев, саддукеев, Каифу и синедрион Христос, согласившийся лучше принять муки на кресте, нежели отказаться от своей веры.
Это мужество человека в Сыне Бога отмечает Ю. Домбровский как самое сильное его качество, которое чувствует, между прочим, Понтий Пилат, против своей воли посылающий Христа на казнь. Пилат подчиняется решению синедриона только из страха, что до ушей императора Тиберия дойдет слух, будто он отпустил преступника, порочившего в своих проповедях кесаря.
Пилата в романе называют «председателем воентрибунала» — он тоже должен принять то окончательное решение, которое отправит человека на казнь или отпустит на волю, с той только разницей, что председатели воентрибунала, которых нет в романе Ю. Домбровского, но которые как бы стоят за сценой, ожидая результатов следствия, никого не милуют, а всех или посылают на смерть, или законопачивают в лагеря.
У Пилата был выбор, у Пилата были сомнения, Пилат, наконец, понимал, как считает Ю. Домбровский, что Христос даже полезен Риму, потому что не бунтовщик, потому что верит не в революцию, не в переворот, а в то, что «человек должен переделать себя изнутри». А это для Рима не опасно, это не затрагивает власти кесаря, а значит, и его, Пилата, власти.
Судилище в Иерусалиме и страшные операции по массовому уничтожению людей через «особые совещания», через безымянные синедрионы, которые проводят свои заседания в отсутствие обвиняемого, вынося приговор в течение минуты, слишком разнятся, хотя и тут и там правят не закон, а насилие, зависть и страх, зависть низкого к высокому, ничтожного к великому, подлого к чистому. В глазах майора Неймана, этого «мясника с лицом младенца», бывшего когда-то порученцем у наркома просвещения Луначарского, стоит ужас, выражение ужаса, которое, кажется, остекленело навеки. Он уже не человек, он комок страха, переросшего в жестокость по отношению к тем, кто каждый раз напоминает ему об этом страхе, о его палачестве, уже превратившемся в месть, в привычку уничтожать людей как скот, как забойное быдло.
Среди обитателей здания на площади Дзержинского — так определен адрес НКВД в романе Ю. Домбровского — есть свои идеологи и свои исполнители, есть энтузиасты и циники, актеры и садисты, есть подопытные дураки и умные заложники. Этажи этого здания, по которому таскают Зыбина, набиты комнатами, их число насчитывает несколько сотен, и в каждой сидит не восковая персона, а тип, характер, мастерски обрисованный Домбровским. Майор Хрипушин — урод с кулаками, с набором тупейшего мата, пойманный ловцами душ на самом дне жизни; полковник Гуляев — чекист- астматик, чадо драмкружка, сделавший своего учителя сначала агентом НКВД, а потом заслуженным артистом республики; Тамара Долидзе — слушательница курсов ГИТИСа и одновременно выпускница юрфака, чья нежная внешность никак не согласуется с жестокостью, живущей в ее сердце; Роман Львович Штерн — этот Смердяков органов, внебрачный сын гестапо, любящий коньячок и женщин, половые удовольствия с чужими женами и венецианское стекло, носящий в руках папку с бумагами, где тюремные Гиппократы доказывают преимущества переливания трупной крови, добытой из скончавшихся при расстрелах и пытках; и многие другие, мелкие и средние, заметные и незаметные, которых Ю. Домбровский в насмешку над их профессией называет «ангелами в полной ангельской форме», «ангелами-хранителями», «ангелами- архангелами», ловко исполняющими свои роли «на театре истории».
Ах, если б это был театр! Если б это были сказочные черти Булгакова, которые больше смешат, чем страшат, которые, служа сатане, служат Богу и чьи злодеяния направлены на вызволение добра, спасения добра. Нет, «ангелы», «херувимы» и «серафимы» в романе Ю. Домбровского состоят на вооружении «социалистической целесообразности», согласно которой «тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас».
Закон целесообразности, декларированный в романе снизу доверху — от Штерна до Сталина, разрешает селекцию и умерщвление, превращение в прах целых родов и поколений ради взрыва того «моста», который история неразумно навела между прошлым и будущим, между отцами и детьми, между правом и совестью.
Сталин в романе говорит, что для того, чтобы построить мост, нужны годы работы и тысячи людей, а для того, чтобы взорвать его, достаточно часа и десятка человек. «Вот мы и добираемся до этого десятка», — резюмирует он свою мысль.
Ради этого устраивается в НКВД «конвейер», обеспечивается бесперебойное ведение допросов, трудятся день и ночь следователи и «будильники» (так называют людей, которые не дают заключенным спать), стучат машинки, множа доносы, летают по городу «ангелы», хватая новые жертвы.
Ю. Домбровский безупречно знает технологию обработки и переработки человека в условиях следствия: совершая экскурсию по этажам здания на площади Дзержинского, он проводит нас по этажам системы, которая строилась годами, теоретически и практически шлифовалась и достигла к времени описываемых событий таких вершин саморегулирования, что ей могла бы позавидовать любая машина, любое техническое чудо XX века.
Это не просто внутренняя тюрьма и камеры, коридоры с боксами, куда впихивают заключенных, чтобы они не встретились друг с другом, кабинеты и предбанники с секретаршами — это институт бесправия, академия палачества и издевательства над правосудием, истиной и человечностью.
В этом механизме идеально воплощены черты общества, на создание которого понадобились дьявольские усилия ума и расчета, хитрости и попрания закона. Это, так сказать, венец сталинской модели жизни, где страх управляет, сортирует, возносит и низвергает, работает как мясник и как психолог, как творец и как потребитель. В страхе персонифицирована идея подавления, идея «чистки» человечества с помощью петли и плети, которая, как говорится в эпиграфе к первой части романа, «начинает воображать, будто она гениальна».
Она гениальна, потому что ей подчиняются все — от интеллектуалов до неграмотных сторожей, от цвета нации до уголовников, от героев до трусов. Со всеми ними беседуют на первых порах чуть ли не за чашкой чая, чуть ли не заедая чай конфетами «Мишка», а потом, переходя на «активное следствие», доводят до беспамятства, до забвения себя, до положения скотины.
На этой мельнице по перемалыванию человека изготавливают муку разного помола — тут производят калек и сумасшедших, инвалидов ума и духа, отсюда перемолотая масса стекает в лагеря и пересылки, где ее окончательно превращают в пыль, в удобрение для выращивания новых поколений.
Как это делается, Ю. Домбровский показывает на примере археолога Корнилова, сослуживца Зыбина, становящегося осведомителем по кличке Овод. Прекрасная кличка для осведомителя — революционер, идеал молодежи, романтический персонаж романтического романа преображается в подсадную утку органов, у которых тоже есть нужда в героях, в неких овеянных ореолом жертвенности стукачах, иудах со знаком качества.
Еще в школе детей учат (и об этом вспоминает в романе Зыбин), что донос как понятие отрицательное — предрассудок старой морали и старого общества. Там, где власть принадлежит народу, это понятие меняется. Если в старое время ты доносил бы на своих не своим, то теперь ты ставишь в известность своих о своих — и в этом принципиальное отличие нового доносительства от старого. При наличии власти народа, представляющей интересы всех, и в том числе тех, на кого доносят, донос — дело «благородное», он работает даже и на самого обвиняемого.
Примерно такая казуистика фигурирует и при допросах Корнилова, даже не допросах, а снятии свидетельских показаний, которые в конце концов приводят его в ряды агентов НКВД. Корнилов, уже однажды прошедший мясорубку этого учреждения и дрогнувший, — превосходный материал для проведения опытов по выращиванию из почти что интеллигентного человека смеси «Передонова (герой-подонок из «Мелкого беса» Ф. Сологуба. — И. З.) с Павликом Морозовым». Слова эти Ю. Домбровский относит к другому действующему лицу романа, но это не важно. Они точно подходят к тому Корнилову, который спустя некоторое время выйдет из стен здания на площади имени «Рыцаря Октября Железного Феликса» с особым заданием.
Корнилова покупают на иллюзии, что можно обыграть органы, одурачить следствие, представив тому ложные показания, хотя эта ложь во благо, во спасение ближнего своего, в данном случае старика Куторги. Органы дают Корнилову втянуть их в эту игру и дают ему втянуться в нее, чтоб затем, когда он совсем заиграется, предъявить ему счет. Они-то знают, что на их чековой книжке — прошлые грехи Корнилова и его страх.
И он ловится на этом страхе, как когда-то поймался на доверии к родной власти, которая не могла, не имела права его обманывать — но обманула и поймала на червяка лжи рыбку правды. Эти слова Полония из Гамлета, которые цитирует Ю. Домбровский, сбываются и на сей раз.
Сначала Корнилова ни о чем не просят, потом просят прийти через несколько дней, потом томят отсутствием вызова, потом вызывают. И вот тут-то предлагают подписать документик, где нет ничего предосудительного, а только написано: «Считаю своим долгом довести до вашего сведения». Бумажку надо подмахнуть, и ничего нет в этом дурного, потому что подозреваемый органами Куторга ни в чем не виноват, и Корнилов засвидетельствовал это. Но только слова «считаю своим долгом довести» смущают, ибо есть в них привкус доносительства, добровольности поставляемых НКВД сведений, которые не вырваны силою, а выданы по собственной воле и хотению.
И когда Корнилов, делая еще один шаг, приносит следователям труд Куторги об Иисусе Христе, не содержащий, по его мнению, никаких порочащих автора мыслей, этот факт передачи тут же фиксируется с примечанием: «Материал органам представил».
А дальше все идет легче. Дальше вступает в дело техника шулерства, и Корнилову подбрасывают под нос крапленую карту: это бумажка, где его подзащитный утверждает, будто Корнилов при нем хулил вождя, хулил наши порядки. И, не сопоставив слов, содержащихся в этом доносе, с тем, что говорил Куторге (а Корнилов это на самом деле говорил, но в ином месте и другому человеку), Корнилов вновь раскалывается и, страшась, что старик первым предал его, предает старика.
И тогда с ним говорят уже не ласково, а строго, на него кричат, его в последний раз предупреждают, что, если он и впредь будет врать своим органам, они не простят его.
Вот и вся сказочка — сказочка про белого бычка, которого съели серые волки. Третью часть романа, которая вся посвящена истории падения Корнилова, предваряет эпиграф из Гоголя: «Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел, как мертвец». Слова эти взяты из «Страшной мести», и относятся они к колдуну, который предал свой род, убил дочь и внука и заслужил вечное проклятие в потомстве. Ибо, как пишет Ю. Домбровский, «погубивший единую душу губит весь мир, а спасший невинного спасает все человечество».
Каин, погубив Авеля, погубил весь род своего брата, всех, кто мог родиться от Авеля, и детей его детей. Преступление, утверждает Ю. Домбровский, не обрывается на преступившем — оно даст всходы в грядущих поколениях, неотмщенное, ненаказанное, оно сеет семена зла и через века.
«Вы защищаете страну? — спрашивает Зыбин следователя Долидзе. — Эх вы! Каинов вы выводите! Вот что вы делаете!» История Каина и Авеля не раз поминается в романе. Ее поминают старый лагерник Буддо и бывший зек Куторга, отбывший свое на Севере. Буддо говорит Зыбину: «Вас сюда привел не свят дух, а человек! И человек вам известный! Больше, чем известный: ваш лучший друг, и брат». Предательства, совершаемые в «Факультете ненужных вещей» (донос на Куторгу, донос на Корнилова, донос на Зыбина), получают зеркальное отражение в беседах Куторги и Корнилова о предательстве Иудой Христа, о суде над Христом и праве на прощение людей, которое заслужил Христос своей смертью.
Куторга сравнивает философа Сенеку, сумевшего «сбежать» от злодеяний свой эпохи, и Христа, который принял страдания, чтобы победить зло. Поступок Христа выше поведения Сенеки. Если Сенека теоретически пришел к выводу, что народа нет, государя нет, государства нет и остается одна опора, на которую можно рассчитывать, — человек, то Христос сам стал этим человеком, своим примером поддержавшим каждого из нас.
Ю. Домбровский дает понять, что христианская идея немыслима без Христа, без его человеческого поведения в условиях жестокости и беззакония. Только через своего Сына, через такого же человека, как и другие люди, живущие на земле, Бог смог найти путь к сердцу смертных.
Низводя этот сюжет на землю, в страшные условия 1937 года, Ю. Домбровский показывает, что у человека остается один выход: последовать примеру Христа. Старик Буддо — опытный лагерник, чей цинизм наращен годами пребывания за решеткой, советует Зыбину уступить следствию, сдаться, подписать все и, получив не самый большой срок, спасти свою жизнь. Но Зыбин не принимает ни пути Буддо, ни пути Корнилова, а выбирает путь чести. В лице Зыбина Юрий Домбровский изображает героя- интеллигента, бросающего вызов не только сонму палачей, не только всем этим хрипушиным, штернам и несть им числа, включая Иосифа Джугашвили, а всей системе страха и сыска, каковая, как ей кажется, утвердилась в истории навечно. В романе то и дело мелькают уничижительные фразы об интеллигенции: «засранная интеллигенция», «паршивая интеллигенция». И вот из среды этой интеллигенции встает человек, с которым ничего не могут поделать ни кровавый синедрион, ни иезуиты-следователи, ни вышибалы-охранники. «Я боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или этак переживу, а тут уже мне верно каюк, карачун» — эти слова Зыбина сияют как свидетельство несгибаемости людей, воспитанных на свободолюбии Шекспира и Пушкина.
В «Факультете ненужных вещей» есть не только палачи и жертвы, не только растаптывающие и растоптанные, но есть и победители. И одним из них является Зыбин.
Да, пишет Ю. Домбровский, были и среди интеллигентов люди, которых ломали, превращали в ничто, заставляли служить уголовникам, были примеры падения, унижения, потери лица и достоинства. Опытный зек Каландарашвили рассказывает об этом Зыбину. Но и тот же Каландарашвили, который помог когда-то Сталину в годы их революционной молодости: послал в ссылку теплые вещи и валенки, а также подарил 50 рублей, теперь пишет ему из лагеря письмо, где, иронизируя над адресатом, просит вернуть долг, понимая, что это послание может привести его к гибели. Та же ирония слышна в интонации объяснительных записок Зыбина, которые он посылает на имя начальника внутренней тюрьмы, подписывая их издевательски: «К сему Зыбин». Он смеется над теми, кого не могут взять ни мольбы, ни плач, ни стоны пытаемых. «Да пусть они все подыхают!» — говорит прокурор Мячин об арестованных. Но смеха, насмешки над собой такие, как он, пережить не могут. Им кажется невероятным, что кто-то в этих условиях еще может смеяться над ними, имеющими над душой и телом человека полную власть.
Эти «нумизматы», обирающие заключенных и составляющие из конфискованного имущества свои коллекции, эти простодушные любители простодушного искусства (в кинозале НКВД, где идут просмотры бодрых довоенных фильмов, висят картины «Грачи прилетели», «Девятый вал», «Аленушка») страшно не любят слова «госпитализация», потому что оно говорит о результатах их следственной практики. Когда Зыбин пробует дискутировать с ними вопрос о праве, поскольку он сам окончил юридический факультет, то они, слуги права, отвечают ему: это факультет ненужных вещей. О том же говорит потом Зыбину бывший адвокат Каландарашвили: «Право — одна из цепей, которой буржуазия оковала пролетариат». Доказательству этого тезиса посвящена в романе вся деятельность правового аппарата и таких его представителей, как Роман Львович Штерн. Этот «мастер психологического рисунка», стряпающий романы и пьески по показанием своих «покойничков», являет пример палача-литератора, палача-«интеллигепта», чьи «образованность» и «культура» служат государственной гильотине.
Вопрос о культуре и ее месте в тоталитарном обществе, занимает Ю. Домбровского особо. Его герои — художники, археологи, писатели (Зыбин, как и сам Ю. Домбровский, — автор книги о Державине) — люди культуры, для которых свобода неотделима от их знания, но им в романе противостоит иная «культура», не только уживающаяся с режимом Сталина, но и возносящая его на пьедестал как некое наивысшее творение человеческого духа. Это культура граммофона, в который заложено семь или десять пластинок, играющих одну и ту же музыку.
« — ... Я их все могу пересчитать по пальцам, — говорит Зыбин. — Вот пожалуйста: «Если враг не сдается — его уничтожают», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина», «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», «Лучший друг ученых, лучший друг писателей, лучший друг физкультурников, лучший друг пожарников — товарищ Сталин», «Самое ценное на земле — люди», «Кто не с нами, тот против нас», «Идиотская болезнь —благодушие». Все это вместе называется «новый, советский человек» и «черты нового, советского человека».
На стороне одной «культуры» стоит в романе «наш советский Чехов» — драматург Штерн, пишущий монодрамы о вредителях, духовно переродившихся под воздействием «гуманных методов советского следствия», на стороне другой — художник Калмыков, этот гений первого ранга Земли, чьи прихотливые композиции, названные «странно» и «не совсем понятно», соединяют в себе плотский лик «природы природствующей» с таинственным зовом, идущим из глубины «золотого неба астрологов», бросающим на земные предметы и события космический свет.
Красота в «Факультете ненужных вещей» противостоит уродству «целесообразности», ее антиэстетизму, ее надругательству над идеей и идеалом. «Что происходит с идеей, когда она становится действительностью?» — задает вопрос Ю. Домбровский и отвечает: «Очень много с ней неожиданного и неладного происходит тогда. Появляется она совсем не похожей на себя. Иногда такие гады вместо ангелов повыползут... »
Такова оценка этики и эстетики «социалистической целесообразности». В иерархии ценностей, установленной этой целесообразностью, Штерн играет роль «второго Чехова», а Федор Михайлович Достоевский мог бы сделаться коллегой Штерна. «Я часто думаю: какой бы из него следователь вышел! — говорит Штерн о Достоевском.
—Вот с кем бы мне поработать! Он знал, где таится преступление! В мозгу!! Мысль — преступна. Вот что он знал!»
Достоевский в этих рассуждениях оказывается на одной доске с «Ромкой-Фомкой, ласковой смертью», безжалостно актирующим целые партии «христосиков», как он презрительно называет верующих людей, зачисляя их всех по «первой категории» (эвфемизм, означающий на языке нового правосудия расстрел).
Проза Ю. Домбровского, как ни иронична, ни разоблачительна она, как ни направлена острием против конкретных социальных химер, не принадлежит к той литературе, которую Достоевский ввиду ее самодовольства назвал «абличительной». Это проза, где действительность, хоть и видимая через хорошо промытое стекло, часто не похожа на себя, часто уходит от взоров читателя в некую ирреальность, в некий фантастический мир, где, как на полотнах художника Калмыкова, играют отсветы судьбы и рока.
Судьба наводит Зыбина на встречу с Линой, и судьба в конце романа наводит чекиста Неймана на другую женщину — на молодую утопленницу, лежащую под брезентом на берегу реки. Когда отбрасывают брезент, Нейману предстает ее красота. «И тут мертвая, — читаем мы, — предстала перед Нейманом в такой ясной смертной красоте, в такой спокойной ясности преодоленной жизни и всей легчайшей шелухи ее, что он почувствовал, как холодная дрожь пробежала и шевельнула его волосы». И хотя, продолжает Ю. Домбровский, у Неймана не было «ничего такого затаенного», что могло бы в эту минуту перевернуть его жизнь, он все же содрогнулся и понял пустоту своей души, которой некому даже сказать: «Спаси!.. помяни, Господи, мя в царстве своем», — как сказал перед смертью разбойник, распятый рядом с Христом, и был спасен.
«...Предается бо гробу, камнем покрывается», — читает Яша — «божий человек» молитву по утопленнице, и мы вспоминаем, что останки красавицы, погребенной в казахской степи (о ней идет речь в начале романа), были найдены тоже под камнем, и образ этой прабабушки Клары, как называет ее Зыбин, воссоединяется с образами остальных прекрасных женщин, как бы образуя фронт сопротивления, фронт неподчинения красоты насилию.
История воссоединяется: преступления порождают преступления, а сопротивление и подвиги — стойкость перед лицом палачей. Роман Юрия Домбровского — ода героическому поведению интеллигенции, которую наследник тиранов прошлого Иосиф Джугашвили не смог стереть с лица земли. И не зря на завершающих страницах романа вновь является художник Калмыков, наносящий на холст пейзаж Алма-Аты и вписывающий в него три странно соединенные судьбой фигуры, которым суждено было сыграть здесь главную роль. Это отпущенный на свободу по случаю падения Ежова Зыбин, примирившийся с участью стукача Овод-Корнилов и разбитый, уничтоженный, изгнанный из органов Нейман.
Так на веки вечные и впечатываются они в квадратный кусок картона, как некая троица, без трагического триединства которой нельзя понять страшной эпохи. Это одна из тех эпох, когда Земля, как говорится в романе, «на своем планетном пути заходит в черные, затуманенные области Рака или Скорпиона и жить в туче этих ядовитых испарений становится совсем уж невыносимо».
Н. Бердяев писал о неренессансности русской литературы, о том, как мало в ней «радости, свободной игры творческих сил» и как сильна жажда искупления грехов и скорбь. «Мы творили от горя и страдания», — добавлял он, и это вполне относится к роману Ю. Домбровского. «Факультет ненужных вещей» — роман о «ночной эпохе истории» (слова Н. Бердяева), об осквернении идей гуманизма, идей права и свободы, вывернутых наизнанку, но в финале его нет мести, нет мстящего чувства. Ненавидя всю эту «нежить», которая терзает и мучит его народ, предрекая ей путь в пустоту, в «собачий ящик», как выражается Зыбин, Ю. Домбровский даже таким, как Нейман, оставляет шанс на потрясение, на осознание печальной участи своего существования.
Смыкающийся с началом конец романа, однако, говорит о том, что события, разыгравшиеся в «Факультете ненужных вещей», еще способны повториться, и тогда его действующим лицам придется вновь сыграть на «феатре истории», и может быть те же роли.
По отношению к Ю. Домбровскому жизнь поступила именно так. Он, как и его герой, выходил на свободу, но двери тюрьмы вновь закрывались за ним. Каким он был, когда его стерегли за тюремными стенами, и каким остался до конца своих дней, мы знаем теперь не по следовательским протоколам, которые если и сохранились, то вряд ли в ближайшие десятилетия сделаются доступны читателю, а по роману «Факультет ненужных вещей», где реет его непобедимый дух.
1988 г.
КРУШЕНИЕ АБСТРАКЦИЯ
Недавно в одном высоком собрании, куда я попал, как кур в ощип, ученые мужи и дамы обсуждали проблему социалистического реализма. Они безо всякой иронии говорили о том, что нужны симпозиумы и семинары, сборники статей и отдельные труды, где бы эта проблема подверглась новым обследованиям, так как вопрос еще не решен, неясен, он требует доработки, обработки и разработки. Я сидел, слушал их выступления, и мне вспоминались далекие сороковые годы, когда я был школьником и когда нас, учеников десятого класса, вызвали в Ульяновский горком ВКП(б), чтоб проинструктировать насчет происков критиков-космополитов.
Было время торжества абстракций, вакханалии абстракций, которые почему-то назывались идеями и безраздельно правили нами, как невидимые верховные существа. Мы действительно не видели их, мы не ощущали их ни на вкус, ни на запах, но повиновались им, как лунатик во сне повинуется колебаниям световых волн.
Мертвый свет луны светит в конце романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Он обливает своим сиянием комнату, в которой спит несчастный профессор Иван Николаевич Понырев, он играет, резвится, он почти что пирует, но на этом пиру есть нечего — усыпленный наркотиком профессор видит больные сны, а жизнь его, голодная на духовную радость, скудна и однозначна.
Под таким же светом луны засыпают в платоновском «Чевенгуре» обитатели Чевенгура. Они спят нервно, неровно, они вздыхают и говорят во сне, как бы восполняя пустоту своего дневного существования, но свет ночного подобия солнца не может согреть их. Они «жертвы луны», говоря словами Булгакова. Свет луны усыпляет и гипнотизирует, он парализует волю и ум человека.
Под таким гипнозом прошла и моя юность.
Разрушил его отец, с которым я встретился в 1945 году. Мы встретились с ним после восьми лет разлуки, случившейся не по его и не по моей вине, а по воле рока, который многих в ту пору разлучал с их отцами, и разлучал, по большей части, навсегда. Августовской ночью черная «эмка» увезла моего отца в сторону Лубянки, и с тех пор я не знал, где он, что он. Мать говорила мне, что отец в командировке, в сорок первом и она отправилась в «командировку», и я остался один как перст: те, кто арестовал мою мать, определили меня в детский дом.
Детдом меня спас от голодной смерти, но и ожесточил до такой степени, что я — пятнадцатилетний пацан — не верил ничему и никому, и тут счастливая судьба вновь свела меня с отцом, который освободился в 1944 году и вышел на поселение. Он приехал с Севера в Москву, где я уже учился в ремесленном училище, и, не имея права ни мгновенья находиться в столице нашей Родины (если б его задержали и проверили документы, он был бы вновь арестован), вырвал меня из рук трудовых резервов.
В Котласе, куда он увез меня, в тайге, где мы гуляли часами, он рассказал мне всю правду о Сталине. И тогда, я помню, я написал стихи, где были такие строчки: «На нем погоны, звезды и мундир, и кровь он любит, как вампир».
Впрочем, до полного прозрения было еще далеко. Надо было пережить новый арест отца, встречи с ним в тюрьме и в ссылке, допросы в МГБ, где с меня снимали «показания» и требовали, чтоб я отрекся от отца, признал его врагом народа (при этом мне напоминалось, что сын за отца не отвечает), свидание с матерью в лагере и в ссылке и многое-многое другое, чтоб власть гипноза кончилась, чары перестали действовать.
Что же спасло меня от неверия, от безверия, которое неминуемо должно было воспоследовать за всем этим?
Пример отца и матери. Воля к жизни. Желание победить тех, кто унизил и растоптал нашу семью. И русская литература. Она довершила мое развитие и поставила меня по ту сторону барьера, где дыхание бесконечности пересиливает дыхание страха и нет рабства, а есть свобода.
Путь ли это многих? Не знаю. У каждого своя дорога, но, оглядываясь вокруг, видя, как рассеиваются химеры, я вижу и то, что гипноз еще сохраняет силу. Идея для нас еще выше реальности, абстракция — человеческих чувств. Мы все еще повторяем формулу Маркса: бытие определяет сознание. Но опыт XX века опроверг это умозаключение. Не бытие определяло сознание, а сознание, идея, теория определяли бытие. Они распоряжались им по своему усмотрению, они кроили его, как хотели. XX век сделался эпохой насилия идеи над жизнью, абстракции над человеком, и, если говорить всерьез, дело в этом, а не только в том, что нами тридцать лет правил Сталин.
Я сомневаюсь, что есть люди, которые веруют в социалистический реализм, как верует, скажем, герой Андрея Платонова в Розу Люксембург. Он этой Розы в глаза не видел, но она для него дороже всего на свете, дороже всех женщин и всех людей, и он — будучи от природы добрым человеком — готов истребить пол-России, а заодно и себя, лишь бы восторжествовала «идея Розы», так как сама Роза покоится в могиле.
Но и он, правоверный коммунист, не может верить в идею отвлеченно, ему нужен образ, нужно живое существо, которое бы очеловечивало эту идею, которое можно было бы любить, потому что любить идею, теорию нельзя.
Всякий раз, когда речь заходит о коммунизме, Копенкин (так зовут героя А. Платонова) вынимает зашитый в шапку портрет Розы и смотрит на него, вдохновляясь и укрепляя свою веру. Но какой осязаемый образ, доказывающий телесность, вещественность «самого передового метода», могут поставить перед собой поклонники соцреализма, становясь на очередную молитву? У них нет его, и им остается любить саму идею, саму теорию.
Так поступают, на мой взгляд, авторы учебника «Русская советская литература» для 10-го класса, изданного уже в новое время, в 1987 году. Они не находят ничего лучшего, как учить школьников абстрактной любви к партии, к партийности в литературе и тому же самому социалистическому реализму, который для детского сознания во сто крат отвлеченней, потусторонней, чем Роза Люксембург для Копенкина, потому что у Розы Люксембург хоть есть портрет, есть лицо, а эти понятия ни в какие живые формы не облечешь.
На форзац учебника вынесены известные слова М. Шолохова: «...каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством». Прочитав это, школьник должен проникнуться мыслью, что высшая святыня для писателя не истина, а партия, что партия стоит даже выше народа, не говоря уж об иных привязанностях, которые может питать человек.
Сердце человека может принадлежать женщине, другу, отцу, матери, но не партии. Можно любить Родину, дом, который населен любимыми тобою людьми, но нельзя любить организацию, будь то партия, профсоюз, Совет Министров или ООН.
Кажется, тысяча лет отделяет нас от того времени, когда жили герои А. Платонова. Но мы все еще молимся идолам, отошедшим прочь, как молились язычники Перуну и другим богам, сброшенным в Днепр.
Сейчас нет культа Сталина, но есть культ партии. Партия, как и воплощаемая ею идея, всегда права. Деятели партии иногда ошибаются, партия — никогда. Поэтому литература лишь тогда может считаться литературой, когда она, как пишут в учебнике для 10-го класса, «верна ленинской партии».
Культ партии переносится и на Ленина. Любая запятая в работах Ленина становится буквой закона, отступление от нее считается отступлением от совести, истины, верности Родине. Политическое несогласие перерастает в несогласие патриотическое, чуть ли не в измену и предательство. Вся русская культура, включая таких гениев, как Гоголь и Толстой, оказывается ниже Ленина только потому, что политические взгляды Ленина являются более высокими, нежели взгляды Гоголя и Толстого.
«В. И. Ленин,— говорится в том учебнике, — одобрял Толстого». Сколько здесь высокомерия и снисходительности по отношению к автору «Войны и мира»! Если б Ленин прочитал такое, он бы, наверное, рассмеялся. Ленин «одобряет» Толстого! Как какой-нибудь начальник — своего подчиненного, как секретарь райкома — инструктора отдела культуры!
Все, что написал Ленин, превращается в «учение», в заповедь, в инструкцию для исполнения. Написал Ленин, что в одной культуре могут быть две культуры — прогрессивная и непрогрессивная, — и русскую культуру разделили, разрубили пополам. Высказал в статьях о Толстом предположение, что идеи художника и его произведения могут расходиться, и родилась теория о двух Толстых: один из них «за» революцию, другой «против» нее.
То же и с «партийностью литературы». Ленин писал это о литературе партий, о журналистских стычках на страницах газет. Это перенесли на высшую художественную деятельность человека — на поэзию, на прозу.
Вот только о социалистическом реализме Ленин ничего не написал. Не успел. Это уже творение Сталина, эпохи тридцатых годов. Именно тогда был изобретен этот теоретический фантом, который царствовал над литературой пятьдесят лет. Полвека тешился он над нашей словесностью, отделяя «чистых» от «нечистых», награждая одних и отлучая других. И только сейчас все увидели, что это Крошка Цахес, который утонул в собственном горшке.
Где сейчас книги лауреатов и депутатов, верных оруженосцев абстракции, которая оказалась «передовой» только в том смысле, что первой упала в яму истории?
В 1954 году, когда Федор Абрамов, тогда еще молодой критик, напечатал в «Новом мире» статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», где представил увенчанных Сталинскими премиями писателей как голых королей, его назвали антисоветчиком и отставили от социалистического реализма. Правильно сделали — Федор Абрамов, как показало время, и не собирался служить власти, обслуживать власть. Еще через некоторое время он вошел в прямой конфликт с нею, опубликовав очерк «Вокруг да около».
Вскоре партийный ареопаг принял постановление по этому поводу. Автор очерка, как решили наверху, покусился не на «отдельные недостатки», что можно было бы и поощрить, а на всю систему колхозного строя. Слово «система» в те годы звучало устрашающе, да и что там в те годы — когда я в 1986 году употребил его в одной статье, главный редактор журнала — смелый, порядочный человек — взмолился: «Убери!»
И я вычеркнул это слово своею рукой.
Теперь им спокойно оперируют публицисты и критики, газетчики и обозреватели телевидения.
Слово «система», правда, относят к некоей административно-командной иерархии, не имеющий якобы никакого отношения к системе социализма, но это страх назвать вещи своими именами, прокладка из полуправды, которая смягчает удар обо всю правду.
Старая ложь поколеблена, но явилась новая ложь. Пытаясь спасти гибнущие абстракции, она охотно мешает их с новыми реальностями, готовая потесниться, но не уйти. В том же ученом собрании, о котором я упоминал, встал один доктор наук и заявил, что Андрей Платонов и Михаил Булгаков подняты уже выше Всеволода Вишневского и этому надо положить конец. Он сказал, что в лучшем случае к ним можно применить «принцип дополнительности», то есть дополнить ими в литературе Вишневского и ему подобных.
Это прозвучало так, как если б кто-то сказал, что в истории русской литературы Булгарин и Греч должны быть «дополнены» Пушкиным и Гоголем.
Что ж, Булгарина и Греча из истории не вычеркнешь, что-то они там писали: Н. Греч — «Черную женщину», имевшую спрос, Ф. Булгарин — своих «Выжигиных», переводившихся на Западе. А уж по читательскому успеху Фаддей Венедиктович далеко обошел Пушкина и Г оголя, вместе взятых.
Вглядываясь в перипетии литературной жизни начала XX века, сознаешь, что история повторяется. И тогда у нас была массовая, заказная литература, которая имела массового заказчика и подписчика. На пушкинский «Современник», где печатались Пушкин, Гоголь, Жуковский, Тютчев, подписка падала и падала, а на «Библиотеку для чтения», издаваемую предприимчивым О. Сенковским (он же Барон Брамбеус) поднималась. Пушкин не набирал в тираже и тысячи, а у Сенковского было пять тысяч. Почтенная провинциальная публика (а именно она была основным подписчиком «Библиотеки») предпочитала повести Брамбеуса «Коляске» и «Носу», «Путешествию в Арзрум» и «Стихам, присланным из Германии».
Заказная литература уже тогда знала, что от нее хотят. От нее хотят, во-первых, чтоб она развлекала народ, а во-вторых, чтоб она его воспитывала. Так понимал ее цели и творец «Ивана Выжигина». Он писал: «Критики простят мне недостатки ради благой цели, удостоверясь, что дурное представлено мною на вид для того только, чтоб придать более блеска хорошему».
Таким образом, какие бы вольности ни позволяла себе эта литература, изображая кровавые страсти и альковные приключения, она всегда оставалась строго «благонамеренною», свято исполняющей предписания цензурного устава 1828 года, который тот же Булгарин назвал «самым прочным памятником любви к просвещению».
Когда читаешь «Ивана Выжигина» — этот шедевр массовой беллетристики, — не можешь отделаться от впечатления, что листаешь современный роман. Тот же герой из народа, родившийся чуть ли не на одной подстилке с кудлашкой. С помощью ума и силы он выходит в люди, побеждает своих врагов, женится на красавице, и вдобавок оказывается, что он вовсе никакой не простолюдин, а состоит в родстве с князьями Милославскими. Этот патриот и солдат, выходец из третьего сословия, которое автор противопоставляет заевшимся аристократам, встречает на своем пути плутов и хороших людей (хороших, естественно, больше, потому что, как утверждает Булгарин, «на одного дурного человека, верно, можно найти пятьдесят добрых»), отчасти грешит, отчасти соблазняется, испытывает волю и дух, но в конце концов обретает дом и семью, а главное, черты добродетели, которые не поколебать никакому злу.
Зло в романах Булгарина не изображается, изображаются «злоупотребления». Он бичует порочных князей, пьяниц-писцов, кутил-помещиков, соблазнителей женских сердец и неопытных умов (последние называются новыми философами и проповедниками неких прав человека, «посевающими... безверие и понятия о скотском равенстве»), он обличает «душные города, где люди собираются, чтоб обманывать друг друга», и ставит им в пример сельскую идиллию, где человек сам возделывает землю и пользуется трудами рук своих.
Все есть в этих романах — и социальный оптимизм (мечта социалистического реалиста), и ставка на народ, образующий сообщество добрых «поселян», и перекрещение героя с историей — его участие в войне 1812 года.
В «нравственно-сатирической» (как назвал ее Булгарин) романистике «искоренение злоупотреблений» стоит на первом месте. Две силы — сатира и нравственность — работают на эту идею. Сатира очищает, нравственность возвеличивает. Сатира нападает на частности, преследует частности (на целое, на «систему» она не посягает), нравственность несет караул при неприкасаемом целом.
У Булгарина есть футурологическое эссе, которое носит заглавие «Сцена из частной жизни, в 2028 году, от Рождества Христова». Так вот, в этом эссе среди действующих лиц значатся «придворный», «вельможа» и «помещик». Говорится здесь и о любви к престолу. Залетая фантазией в третье тысячелетие, Фаддей Булгарин ни на минуту не сомневается, что в России по-прежнему существует престол, есть двор, а стало быть, и государь.
Для заказной литературы та идеология, которой она служит, незыблема. Она склонна наделять ее вечною жизнью, как наделяли ею древние греки своих богов. Эта литература — льстит ли она государю или государству, монархии или диктатуре пролетариата — не может не обожествлять своего заказчика, ибо его бессмертие — залог ее спасения в потомстве.
Читатель поймет, что я не вижу никакого различия между Фаддеем Булгариным и Анатолием Ивановым, хотя их разделяют более ста лет. Метод, где критика и апофеоз сливаются в нерасторжимом единстве, ведя нас к обетованному раю, был изобретен не вчера. Только объект поклонения сменился, только кумиры иные и тексты гимнов — соответственно.
Кстати о гимнах.
В стихах В. А. Жуковского, написанных в 1814 году и ставших официальным русским гимном, были такие слова:
Мирных воителей,
Правды блюстителей.
Боже, храни!
Жизнь их примерную,
Нелицемерную...
Ты помяни!
Можно, конечно, иронизируя, сказать, что слова эти остались благим пожеланием, но пожелание все же было благое и всем понятное — его продиктовали поэту человечность и уважение к правде.
В тексте гимна, сочиненного С. Михалковым и Г. Эль-Регистаном, ничего похожего нет. Это казенная декламация, воспевающая абстракции, где одно понятие по произволу эпохи может быть заменено другим, и недаром народ, откликаясь на эти перестановки, назвал гимн «песней без слов».
Не стоило бы, может, о нем упоминать, по сегодня каждое лыко в строку, о чем бы мы ни заспорили, получается, что спорим о жизни, потому что жизнь и литература перемешались, как никогда прежде.
Границы между художественным и прицельным, прямым, назывным словом смыты — то, что не служит делу, кажется, уже и не служит искусству, крик освобождения, вырвавшийся из груди литературы, покрывает все голоса, все высказывания, все толки.
Хотя, если быть точным, не все. Заказная, приказная литература тоже подает свой голос. Она не только робко присоединяет его к плюрализму мнений, но и, как в минувшие времена, жаждет разделять и властвовать.
Я не скажу ничего нового, если добавлю, что эта литература и на сей день составляет львиную долю печатной продукции, что, несмотря на появление массовых изданий Булгакова и Платонова, В. Гроссмана и К. Воробьева, ее тиражи, ее неколебимая верноподданность, звания, которыми увенчаны ее творцы, — все дает ей основания заявлять, что она существует не сама по себе, а представляет интересы общества и народа.
Меж тем она представляет интересы или определенного социального слоя, или ведомства, которые диктуют ей тематику, границы конфликта и саму идею. В России никогда не было ведомственной литературы, работающий, например, на жандармское управление или на министерство иностранных дел, на армию, на военно-морской флот, на сенат или синод. Сейчас такая литература есть. Она обслуживает или госбезопасность, или внешнеполитические институты, или сросшуюся с бюрократией творческую интеллигенцию, или генералитет, или МУР, или космос, или комсомол.
Во всех этих отраслях имеются свои поэты и прозаики, авторы многотомных романов и тоненьких повестей. Один трудится на официальную историографию и подает исторические факты так, как они должны быть поданы при современной конъюнктуре, другой специализируется на героях-чекистах, третий — на пламенных революционерах, четвертый — на деятелях аппарата.
И каждая отрасль поддерживает такую литературу, материально И морально поощряет ее, делая призыв в ряды ведомственных гениев несменяемым, перманентным.
Политический роман, столь небывало разросшийся в последние десятилетия, еще более обнажил сращение литературы с политикой. Наряду с общей политизацией жизни, вызванной изничтожением личностного начала, этому способствовала и политизация иного рода, рассчитанная уже на мелкие услуги, на служение не высокой идее и высокому руководителю, а на сервис, предназначенный для групп и мафий, сменивших раздробленную центральную силу и сосредоточивших в своих руках ее рассыпавшееся могущество.
Идея принизилась, она слишком срослась с выгодой, о чем и не помышляла литература пионеров социалистического реализма. Они, как и герои «Чевенгура», почти ничего не желали для себя и все несли на алтарь идеи, в то время как в наши дни цинизм, проникший на страницы романов и эпопей, достиг такой степени, что от прежних жертвоприношений не осталось и следа.
Эту ситуацию цинизма и падения высоких понятий очень точно уловил Владимир Дудинцев в романе «Белые одежды». Его герой свободно манипулирует святыми словами, отнюдь не считая их святыми, а принимая условия игры, в которой иначе не выиграешь.
Героя В. Дудинцева на Розе Люксембург не проведешь, он уже навидался и насмотрелся, как под прикрытием верности высоким идеалам устраиваются личные дела, как ловко пользуются идеей те, кого она еще вчера употребляла. Он не верует в отвлеченные истины, а верует в дело и ради дела способен пойти на какие угодно уступки, соглашательства, лишь бы обмануть абстракцию, переиграть абстракцию.
Если в романах Андрея Платонова абстракция, терпя крушение, требовала от человека крови и крови, если в результате этого на наших глазах разыгрывалась трагедия, то в романе В. Дудинцева небезопасная для героя игра все же отдает фарсом, комедией.
Та сила, с которой играет герой «Белых одежд», смешна, потому что изжила себя, потому что покупается на фальшивую преданность, на преданность словесную, риторическую в противоположность фатальной вере, какою был одержим платоновский Копенкин. Если Копенкин был готов незамедлительно умереть за Розу Люксембург, не задумываясь о том, нужна ли мертвой Розе его жизнь или нет, то у его наследников сороковых годов такого энтузиазма нет. Пока идея кормит и поит, они держатся за нее. Но если завтра придется кормить и поить идею, да еще поить собственной кровью — увольте. Они скорее согласятся принять новое вероучение, нежели платить за старое головой.
Романы и повести, пришедшие к нам в последние три года, меняют соотношение сил в литературе, придают ей иное лицо. С их появлением булгаринский «нравственносатирический» метод, сохраняющий в целости и неуязвимости идолов прошлого, превращается в тень тени, отблеск миража.
Но он, однако, вовсе так не думает, он продолжает навязывать нам если не свое превосходство, то хотя бы равенство со всем тем, что стало точкой отсчета в наши дни.
Мы никак не можем ввести в литературоведении и критике истинные критерии, сместить их в сторону оценки литературы, поднять уровень воздания каждому по делам его.
Вот почему у нас К. Симонов стоит чуть ли ни на одной доске с В. Гроссманом, а А. Чаковский — с В. Некрасовым, К. Воробьевым, В. Быковым. Но роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» если и не отрицает, например, прозы К. Симонова, то, во всяком случае, никак не может находиться с нею в одном ряду: это не просто разные, но и прямо противоположные друг другу явления. Роман Василия Гроссмана — роман прозревшего человека, свободного человека, проза К. Симонова так и не сошла с оси балансирования между правдой и ложью. Возьмите дневники К. Симонова, опубликованные в «Знамени», — и «в стол» К. Симонов не способен писать все, и для «стола» он дипломатничает, боится признать ужас — ужасом, боится себя.
Больше всего поразили меня сцены в Кремле, когда Симонов, Фадеев и другие вместе со Сталиным и его присными обсуждают кандидатуры на присуждение Сталинских премий. Симонов всерьез относится к этим собраниям, высказывая догадку, что Сталину нужны были подобные встречи, чтоб хотя бы так общаться с «интеллигенцией». Он это пишет безо всякого осуждения себя и тех, кто восседает в кабинете Сталина, приобщенный к дележу наград. Он называет этих людей (и себя) интеллигентами, не подозревая, что слово это звучит кощунственно, ибо какие же вы интеллигенты, когда занимаетесь таким делом. Интеллигент А. Платонов, который в это время нищенствует, не желая уступать своей свободы, интеллигенты Зощенко и Ахматова, бичуемые, но остающиеся сами собой, а не вы, что в одной компании с палачами решаете, кому повесить медаль на грудь — кому нет.
Эта слепота в отношении себя — слепота несвободы. Это катаракта, которую только сильные могу содрать со своих глаз. Да и то при условии, что она вообще может покрыть глаза сильных. Крупный талант не слепнет, я не знаю примера, чтоб он сломался, стал петь не свою песню — могли быть минуты слабости, но родовая черта таланта не слабость, а сила.
Сейчас, когда я читаю рассказы Владимира Тендрякова, опубликованные посмертно, я вижу, что это так. Я слышу пронзительно резкий голос, находящий наикратчайший путь к сердцу — путь правды. Это правда безоглядная, не признающая никаких виляний, никакого любезничанья с читателем. Талант В. Тендрякова взрезает жизнь, как нож, и та разваливается, обнаруживая свое страшное нутро. Не очень подходящий образ — образ почти что хирургический, — но что делать писателю, который стоит у постели больного?
Как острие ножа вспарывают действительность и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, роман Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», роман Василия
Гроссмана «Жизнь и судьба», рассказы Виктора Астафьева, роман Бориса Можаева «Мужики и бабы», повесть Юрия Нагибина «Встань и иди». Талант Ю. Нагибина в последние годы тратился на пустяки, на беллетристику — твердая рука, набив мозоль ремесленничества, кажется, водила по гладкому. Но открылась рана сердца, и голос дрогнул, рука колебнулась, затверженные формы рухнули, и мы увидели, что талант не погиб — вместо услаждающих звуков раздался скрежет зубов, скрежет отчаяния.
В крутящихся потоках литературного водоворота трудно отделить легкий сор от тяжелой воды, тенденцию от подражания, глубокое убеждение и устоявшийся взгляд от смены масок, от суеты переодевания, когда вчерашние волки спешат облачиться в платье овец. Все смешалось под литературным солнцем, но все-таки попробуем какие-то вихрящиеся явления остановить, приблизить к глазам, рассмотреть.
В литературе, как и тридцать лет назад, во времена первой «оттепели», верх берет социально-критическое направление, которое теоретики, наверное, назвали бы критическим реализмом, но я не ведаю, как у них одно с другим сойдется, как примирят они это нашествие критического реализма с реализмом социалистическим — последний- то куда девать, как с ним быть? Выходит, что для настоящего момента услуг социалистического реализма не требуется, его, может быть, завтра позовут, но это в том случае, если права окажется Нина Андреева и все повернется обратно.
А опасность такая есть. Она не просто гипотетична и теоретична, а весьма действительна — одного мановения сверху достаточно, чтоб стрелка часов пошла в обратную сторону.
Литература социальной критики делает все, чтоб этого не произошло, она, собственно, и явилась на свет за тем, чтоб стрелка двигалась вперед, а не назад. Хотя это понятие «вперед» каждый понимает по-своему. На развилке дорог сталкиваются силы социально-критического направления, обращенные в своих исканиях в разные стороны. Чем же отличаются они от тех сил, которые разбудили нас тридцать лет назад?
Расширением диапазона критики. Тогда критика сосредоточивалась на «отдельных недостатках», на исключениях из правил. Теперь она посягает на само правило. Тогда в честных очерках зарвавшемуся секретарю райкома противопоставлялся порядочный председатель райисполкома, сейчас на этих уровнях вопрос уже не решается, альтернативы подыскиваются за пределами этого противоречия. Очеркистика тех лет не взламывала самообороны системы, не выводила читателя за обведенный мелом круг, не понуждала его поднять глаза и увидеть то, что увидел гоголевский Хома Брут.
То была критика «отклонений» и борьба с «отклонениями», понимаемая именно как борьба, служба, — нужно было очистить идею от налипших на нее полипов, выправить «линию» — очерки, повести и романы шестидесятых годов занимались как раз этим делом, а их авторы верили, что стоит отскрести «недостатки», как засияют достоинства и воскресшая идея воздаст нам сторицей.
Расширялись пространства критики, но и они были невелики, хотя на их территорию попали и война (Василь Быков), и лагеря (Солженицын), и мытарства послевоенной деревни (Абрамов, Белов). Сталин и сталинщина в те годы спаслись — едва их коснулся свет разоблачений, как на свет накинули темное покрывало.
Что касается войны, то критика войны упиралась в эпизоды, в проигранные бои, но война в целом подавалась патетически. Трагический голос, пробивавшийся в повестях К. Воробьева, В. Курочкина, В. Быкова и других, накрывался полуправдой такой прозы, как проза К. Симонова. К. Симонов, думая закончить цикл романов о Серпилине битвой за Берлин и намереваясь показать трагедию этого события (так он мне говорил в 1966 году), завершил их случайной смертью своего героя, которому уже в условиях нового исторического этапа (хрущевские свободы кончились) не следовало чересчур много знать и слишком о многом думать.
Сталинщина в литературе тех лет разошлась на послевоенные факты, а тридцатые годы — годы ее расцвета — все еще находились за высоким забором, состоящим из смертельно заостренных наверху кольев.
Самым крайним достижением этого направления в шестидесятые годы была проза А.Солженицына, который резко обозначил границы между литературой умеренной, разрешенно-критической, угодно-критической и литературой, не признающей никакой зависимости, кроме зависимости от правды. А. Солженицын подошел к тому, к чему неминуемо должна была приблизиться честная мысль — к признанию универсального и общего характера сталинского произвола, его непоправимости для судеб России и, если хотите, тотального поражения перед лицом истории.
Но ему не дали досказать. После «Одного дня Ивана Денисовича», после серии рассказов, один из которых был напечатан аж в самой «Правде», литература госзаказа не смогла более терпеть такого соседства, для нее оно означало полную смерть, и — как говорил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — «просвещение прекратило течение свое».
Для одной крестьянской прозы осталась щель — и то ей разрешалось писать лишь о том, что не задевало настоящего времени или не касалось истоков истощения деревни, не задевало сталинских поборов и раскулачивания. В лучших произведениях этой прозы нашим глазам предстал итог, горестный итог разорения деревни и уничтожения крестьянина, «раскрестьянивания русского человека», как сказал Ф. Абрамов. Но кто это сделал и как, и когда — об этом не было позволено сказать ни слова. И ни смех Б. Можаева, ни слезы В. Белова, ни песнь песней, которую пропел русской крестьянке Ф. Абрамов, — ничто не могло сломить этого запрета.
А война? Многотомные «опупеи» соседствовали с многосерийными кинороманами, где Сталин и Гитлер благополучно управляли народами: один — с одной стороны, другой — с другой стороны. История здесь творилась в бункерах и кремлевских кабинетах, а народ, выполняя ее волю, погибал на полях сражений, погибал красиво и некрасиво, но с пользой для прогресса, путь к которому вместе со Сталиным предопределяли его маршалы и генералы.
В этом была своя идея — обслужить верхние этажи власти, которые и в мирное время оставаясь наверху, продолжали управлять массами, как бы уже пожизненно приняв на себя эти обязанности, дарованные им не парламентом и не народом, а роком и судьбой.
Разумеется, и в этих эпопеях мелькали иногда некие намеки на правду, но правда тут не позволяла себе никаких вольностей — она знала свой шесток и появлялась только в строго указанных местах и в приличной форме.
Весь этот стыд надо было перетерпеть и преодолеть, надо было пройти через глухие семидесятые, ставшие для одних полным затмением и потерей веры, для других — укреплением веры и началом освобождения.
Ведь то, что мы сейчас читаем, создавалось как раз в эти семидесятые, редко — в конце шестидесятых годов. И А. Бек, и А. Рыбаков, и В. Дудинцев, и А. Приставкин, и Б. Можаев, и «Кануны» В. Белова — все это создания эпохи шестидесятых-семидесятых, а стало быть, и идеологии той эпохи, ее уровня осмысления новейшей истории.
И тут мы подходим к тому, что же такое критическое направление на настоящем этапе, как далеко оно продвинулось и каковы его активы.
Эти активы во многом завоеваны еще шестидесятыми годами, они несут на себе печать их исторической смелости и их исторической ограниченности. Будь то пьесы М. Шатрова, роман А. Рыбакова или повесть А. Жигулина «Черные камни», они стараются довершить то, что было начато «шестидесятниками». Ибо что такое «шестидесятничество»? Из чего оно выросло? Оно выросло из критики Сталина и сталинщины, но вынуждено было свернуться, искать эзопов язык, перекинуться в историю и т. д. Сейчас они хотят восполнить упущенное, добить Сталина и сталинщину, а дальше?
Если социальная критика шестидесятых годов, отвергая неверные «методы», предлагала взамен верные, то и драматургия М. Шатрова, проза А. Рыбакова, Д. Гранина и других предлагает то же самое: вместо Сталина — Ленина (или Кирова), вместо сплошной коллективизации — нэп. Но выход не в замене одного вождя другим и одного способа правления другим способом правления. Этого для литературы мало, ее идеал не может быть идеалом политическим — он долговечней не только отдельно взятого царя, но и целой исторической формации.
У литературы, повторяю, более «вечные» задачи, и, не оставляя себе свободы для провидения, для прозрения, опережающих распространенные политические прогнозы. она теряет свое назначение.
Литература не может находиться в плену социальных иллюзий и социальных альтернатив, ими может быть увлечен один писатель, но и в этом случае его создания («Что делать?» Чернышевского, «Мать» Горького) не могут стать великими произведениями литературы.
Семидесятые годы были временем изживания иллюзий, временем, когда литература, вся нацеленная на социальность, на социальную пользу и на социальные ограничения в мышлении, переходила на позиции, где личность и мир личности возвышались надо всем. Тут одновременно потрудились и «шестидесятники», и «семидесятники», интеллектуалы и интуитивисты, знатоки деревни и города, печатавшиеся «здесь» и печатавшиеся «там» — одним словом, все, для кого постулаты тридцатых годов, заморочившие их предшественников, уже не значили ничего.
На вершину этой волны литературы время выносит имя за именем. Не хочу называть всех. Назову только три романа: «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана и «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского.
В романе «Жизнь и судьба», например, острие анализа устремлено не на некоторых исторических деятелей, не на отдельные слои общества, а на все общество в целом; тут критика системы и ее институтов перерастает в критику всего исторического периода, чего еще не бывало в литературе, доступной нашему читателю. Исключение, быть может, составляет А. Солженицын, но его «Архипелаг Гулаг», его романы из цикла «Красное колесо» неизвестны широкой публике.
Если в прозе Ф. Абрамова, в повестях и рассказах В. Астафьева, в рассказах В. Тендрякова («Охота») критика «верха» сочетается с критикой крестьянства, то в романе
В.Гроссмана народ это не только крестьянство, солдаты на фронте, но и интеллигенция (в том числе новая интеллигенция, воспитанная уже новой эпохой), а в центре исследования находятся не только люди, но и история идеи, приведшая к тем результатам, с которыми приходится иметь дело автору.
Вот почему старые большевики в романе Гроссмана (Магар и другие) испытывают мучения от сомнений, пересмотрев свое отношение к миру, видят, как у любимых ими идей обнаруживаются страшные оборотные стороны, страдают и гибнут, не нашедши ответа на поставленные самим себе вопросы.
В романе В. Гроссмана прокламируется идея свободы как первенствующая идея жизни. И эту идею, как пишет В. Гроссман, не поняли ни Маркс, ни Ленин.
В. Гроссман ставит Сталина на одну плоскость с Гитлером, не видя в них различия — при этом речь идет не о сходстве натур, характеров, кровожадности, что само собой разумеется, а о родстве идей, способов воплощения этих идей, родстве цинического потребительского отношения к человеку.
Конечно, раньше В. Гроссмана это поняли А. Платонов и М. Булгаков, но они явились на свет до «вечера истории» (слова Платонова). Свобода и свободный взгляд на вещи был дан им от рождения, тогда как В. Гроссману пришлось изживать из себя несвободу, вытравливать ее, изгонять. Платонов и Булгаков (а с ними и другие писатели двадцатых годов) понимали, что дело не в перегибах, не в извращениях, порочащих светлую идею, а в самой идее. Идея насилия порочна и преступна, и Достоевский был прав, когда предупреждал, что, захвативши власть, она утопит нас в крови.
А. Платонов, изображая в «Чевенгуре» поселение коммунизма, дает картину страшной выморочности города, картину вымирания его, вымирания масс людей, охваченных безумием переустройства, перемены и перепашки всего — включая семью, дом, традицию, веру. Народ в Чевенгуре охвачен эпидемией ожидания очищенного от человеческих слабостей коммунизма, коммунизма, где не надо трудиться, где не нужны женщины, не нужны дети, где нет даже боли сожаления по убиенным. Герои романа не чувствуют боли — ни своей, ни чужой. Они могут убивать, не испытывая дрожи в сердце, отвращения к делам своим. Они как будто не убивают, а занимаются санитарией и гигиеной. А когда убивают их, у них не хватает даже слез на жалость к себе. Их тело глухо к боли, кажется, жизнь умерла в них еще до факта смерти, и если они и живут, то живут как тени в аду, а не как полнокровные существа, которым дано печалиться и плакать.
Хотя нет — они плачут. Плачет Копенкин, плачет Саша Дванов, плачет и организатор коммунизма в Чевенгуре Чепурной. Он жалеет умирающего ребенка. Того же ребенка, занесенного в Чевенгур бродячей женщиной, жалеет и Копенкин. Этот Добрыня Никитич революции, которому ничего не стоит развалить человека саблей, если тот, по его мнению, враг революции, увидев, как умирает на руках матери ее пятилетний сын, говорит: «У вас нет коммунизма, раз в вашем городе умирают дети».
Один-единственный ребенок является на горизонте романа, и тот погибает. Значит, что-то в Чевенгуре неладно, значит, зря освобождали город от людей, косили их очередями из пулеметов и едва присыпали землей.
Со смерти ребенка начинается разброд в войске Чепурного, разброд в его голове, и слеза, пролитая дитятей (вспомним Достоевского), предрекает гибель городу.
Печальной иронией отдает в «Чевенгуре» тот факт, что герои романа в своем странствии по степи натыкаются на Федора Михайловича Достоевского, который олицетворяет Советскую власть в деревне Ханские Дворики. Этот человек, называвшийся доселе Игнатием Мошонковым, решил переименовать себя в честь писателя Достоевского и «сам себя перерегистрировал в специальном протоколе», постановив заодно, что и другие граждане деревни должны взять новые имена и фамилии «с начала суток». Это точное указание времени симптоматично. Как и все герои «Чевенгура», Федор Михайлович Достоевский торопится насадить в Ханских Двориках сперва социализм, а через короткий промежуток и коммунизм. Он с утра до вечера думает над тем, как совершить прыжок в светлое будущее — путем устранения товарищеских браков, «уничтожением ночи для повышения урожаев», «организацией ежедневного трудового счастья». Копенкин его подгоняет: «...закончи к лету социализм! Вынь меч коммунизма». И Достоевский ответствует: «Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!»
Достоевский, создающий к лету социализм, — более страшного отрицания того, что писал Достоевский, не может быть. Это насмешка над идеалом и предсказаниями русской литературы, которая стерлась в памяти таких, как Копенкин (да едва ли они ее и знали), и оттеснилась «идеей Розы».
В сегодняшней ситуации происходят встречи и узнавания, которые предопределены ходом истории, происходит воссоединение, которое не могло не состояться,— роман В. Гроссмана должен был явиться на свет и пойти на сближение с прозой Булгакова и Платонова, потому что жизнь пошла по этому пути, потому что правда не может не встретиться с правдой, как, впрочем, и ложь с ложью.
На этом стыке, на пересечении течений лучше видна особенность настоящего момента, который и моментом-то не назовешь, так не близок он к завершению, так много времени понадобится для того, чтоб общество очнулось от паралича, чтоб спала с глаз пелена, и правда литературы, вынашиваемая ею в годы молчания, стала и правдой народа.
Потому что народ в массе своей, может быть, и не способен принять той правды, которую ему преподносят Платонов и Гроссман. Воспитанный на литературе полуправды, а то и откровенной лжи, он сопротивляется операции по отделению катаракты, боясь, как прозревающий слепец, взглянуть на свет.
Люди, пережившие наяву страшные трагедии, прошедшие войну и мытарства в лагерях, не всегда хотят об этом читать, они отделяют свою — муками доставшуюся им — жизнь от ее описания в романах, повестях и стихах. Они уверены, что там, на страницах этих романов и повестей, она должна быть другой. Она должна быть добрей, чище и возвышенней, и они правы в идеальном смысле, но как подняться к свету, не преодолев тьмы?
Могилы зарастают травой, народ хочет забвения, покоя, но новые могилы вырастают на наших кладбищах — могилы мальчиков из Афганистана, — и разве не та же сила толкнула их на смерть, что и выбила пол-народа при Сталине?
«Сам гений, — писал Белинский об этом сопротивлении народа горькой правде, — потому только и велик, что служит толпе, даже борясь с нею».
Читатель может этого не сознавать, он может испытывать чувства испуга, потери и, отталкиваясь от разящей правды, не принимать ее, в то время как именно ее неподкупный голос и есть его голос, есть то, что он носит в себе, что лежит в глубине его сердца и в глубине его памяти.
Но чтоб читатель это понял, должно пройти время. А пока правда пробивает себе путь помимо одобрения большинства или даже наперекор большинству, для которого дозированный Симонов ближе максималиста Гроссмана.
Вот почему так важна социальная работа литературы, ее просветительство, ее геркулесовы усилия по чистке народного сознания, по выведению его на свет божий. Социальная критика в литературе по-прежнему стоит на первом месте, но и она — под влиянием своего собственного развития и примера Платонова и Булгакова, не говоря уже
опримере классики — преображается в течение глубинно-духовное, то есть поднимается на ступень выше, откуда видны не только подробности дня, но и судьба нации.
Тяга к духовным ответам на социальные вопросы существовала и пробивала себе дорогу и в семидесятые годы. Она нарастала в прозе В. Шукшина, в пьесах А. Вампилова, в повестях Ю. Трифонова («Другая жизнь»), в новеллистике Ф. Абрамова. Все чаще современная проза стала оглядываться на опыт той литературы, которая не входит в учебники, не предписывается к изучению. Потеснились Горький и Фадеев, Вс. Иванов и Серафимович, возник из забвения Бунин, в новом облике предстал А. Блок. А за ними взгляд стал уходить в глубину прошлого — к Г оголю и Достоевскому. Вопрос об идеале сделался в семидесятые годы вопросом вопросов — лучшие силы «шестидесятников» (а все современные писатели, кого я назвал, были ими), исчерпав идейный лимит «шестидесятничества», обратились к отысканию символа веры, который соответствовал бы новым мукам народа.
«Лесной надзиратель, — пишет А. Платонов в «Чевенгуре», — хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи». Этому лесному надзирателю уподобилась в семидесятые годы наша проза и критика.
Видимо, нельзя спасти общество, не найдя этих аналогов в истории, не сличив их друг с другом, не сделав из этого выводов. Жизнь, оторванная от прошлого, кичащаяся своим настоящим, не способна к развитию, она, как и чевенгурский коммунизм, должна зайти в тупик.
В Чевенгуре ревком заседает в церкви, на амвоне, а с купола смотрит на эту троицу бог Саваоф. Иконостас заменен ревкомом, Бог — Марксом (или Розой Люксембург), колокольный звон, который раздается над опустевшим городом, звучит как погребальная музыка. Бердяев писал, что русская «мысль всегда была обращена к Апокалипсису». Она как бы предвидела катастрофичность развития русской истории, русского опыта.
Литература XX века оказалась в центре этой катастрофы. Может быть, первым ее почувствовал А. Блок. Он вынужден был поставить во главе своих двенадцати Христа, потому что не видел иного выхода. Это была мечта поэта, столь же хрупкая и нежная, столь же женственная, как и сама фигура Христа в поэме «Двенадцать».
Булгаков в «Белой гвардии» — романе реалистическом, семейном, традиционном, разорвал традиционные формы и вывел образ кровавых событий 1918—1919 годов как образ Страшного суда, как воплощенное пророчество Иоанна Богослова, предсказавшего гибель Вавилона.
Образ нечестивого Вавилона, который неминуемо должен провалиться сквозь землю, — образ Города существует у Булгакова по соседству с сияющими отсветами «рая» — потустороннего Нового Иерусалима, куда должны попасть лучшие из лучших. В частности, Николка Турбин и полковник Най-Турс. В этом «раю» голубой свет, и люди, бывшие на земле обыкновенными смертными, превращаются в прекрасных рыцарей.
Центром романа «Белая гвардия», его организующим ядром является фигура святого Владимира с крестом на Владимирской горке. Она видна и красным и белым: белые смотрят на нее из города, красные — из-за города, где на станции Дарница стоит нацеливший свои пушки на этот крест бронепоезд «Пролетарий». Возле него мерзнет часовой, он смотрит на небо и видит во глубине вселенной красные пятиконечные звезды, заполняющие весь небосвод. Возникает в памяти образ Чехова из «Дяди Вани»: «Мы увидим все небо в алмазах». Булгаков переиначивает ее: вы увидите небо в пятиконечных звездах.
Красный цвет звезд и цвет звезды на шинели часового, которая как бы откликается на игру звезд на небе, это цвет войны, цвет крови.
Образ Нового Иерусалима, как и образ «рая», в романе Булгакова залит кровью. Кровь расходится темными пятнами на белом снегу, кровь окрашивает одежды Най- Турса в «раю», у Николки, которого видит во сне Елена, «вся шея в крови».
Проходит несколько лет, и М. Булгаков создает роман «Мастер и Маргарита», где читатель вновь оказывается в большом городе. По логике истории это и есть Новый Иерусалим, который должен был быть построен после разрушения Вавилона.
И что же это за город? Это город, где люди в крагах и с пистолетами шарят по квартирам и ловят нечистую силу, которая в своей нечистоте оказывается в тысячу раз чище их, их абстрактного царства, где в каждом окне, как говорит Воланд, сидит по атеисту.
Это царство жадности, царство плохих стихов, царство доносов. Это царство буфетчиков, выдающих осетрину второй свежести, полоумных коллективов, поющих за стенами сумасшедшего дома «Славное море, священный Байкал», это царство, где мастеру, поэту нет места, нет пристанища.
Мастера травят в Новом Иерусалиме, как Христа травили в старом, как гнали на Голгофу (или Лысую Гору) прекрасного Иешуа.
Над безбожным царством в романе совершается суд — это Страшный суд, хотя осуществляется он в комических формах, в формах буффонады, гротеска. В «Мастере и Маргарите», как и в «Белой гвардии», льется кровь, но если в «Белой гвардии» это кровь настоящая, то здесь кровь театральная, бутафорская, она может обратно влиться в только что убитое тело, как голова казненного способна вновь водрузиться на его шее. Это апокалипсис смеха, это театр, карнавал мстящей фантазии Булгакова.
Не сатана распоряжается на собственном приеме, который он дает в честь Маргариты, а смех и сатира, карающая сила искусства призывает на суд убийц и клятвопреступников, призывает всемирное зло, чтоб окончательно доконать его.
В этих фантастических формах зла, выходящих на ристалище с такими же фантастическими формами добра, есть близость между Булгаковым и Платоновым, как ни далеки друг от друга эти писатели.
Ибо оба они мыслят в контексте культуры, в контексте мировой истории, отсветы которой падают на события, совершившиеся на их Родине. «Рай обетованный» не достигнут, но он заставляет человека отрекаться от самого себя, от своей природы и идти на насилие таких масштабов, что обратный путь почти невозможен.
Читая в «Чевенгуре» о ревкоме, заседающем в церкви, я вспомнил другую церковь — храм Николы Диканьского на Полтавщине. Еще до середины восьмидесятых годов в нем располагался антирелигиозный музей, в который диканьчане, естественно, не ходили, но куда привозили экскурсии, путешествующие по этой благословенной земле.
Взорам экскурсантов представали не старинные росписи и фрески, а схемы и диаграммы, иллюстрирующие развитие человечества. Нижнюю часть экспозиции занимали изображения горилл и питекантропов, верхнюю — портреты космонавтов. Так прослеживался поступательный ход истории.
Под каменным полом церкви покоились останки Кочубеев, в алтаре стояло дубовое основание, в которое была вставлена икона святого Николая, давшего имя храму, а в самом храме праздновала бал агитация и обезьяны водили хоровод с людьми XX века.
В этой церкви молилась мать Гоголя, прося святого сохранить жизнь ее сыну, в честь Николая-чудотворца Гоголь был назван Николаем, но этот факт из истории был вычеркнут, стерт этими схемами и диаграммами, этим святотатством.
Так «новое» многие годы покушалось на святыни, разоряло их, превращало в пыль. Когда смотришь в кино, как взрывают храм Христа Спасителя, то кажется, что видишь, как на твоих глазах убивают человека. И что же мы теперь имеем на месте этого храма? Бассейн. Метафора, достойная Платонова и Булгакова.
За годы долголетнего правления государственной литературы (назовем ее так), государственного заказного реализма были взорваны пласты культуры, был утрачен опыт духовного мышления, опыт духовного развития. Строились фабрики и заводы (а литература воспевала их), возводились плотины, менялось, что называется, лицо земли, но дух стоял на месте, он упирался лбом в конечную истину.
Культура отныне выращивалась, как лысенковская пшеница, — ее насаждали, навязывали, в нее производились инъекции «передовых идей». Культуру заменили всеобщей грамотностью, в то время как культура не сумма знаний, а порыв к святости.
Куда делись лесковские странники, великие юродивые — князья Мышкины, где мученики и святые, заступники народа, толстовские философы, чеховские врачи, булгаковские интеллигенты? Этих людей чести и совести заменили функции и машины, производящие материальную энергию, знающие только механический труд, механическое преобразование жизни. Сталевары у домен, академики, Герои Труда, секретари обкомов, маршалы и генералы (если речь идет о войне) — все они не «отдельные люди», как говорил Чехов, а некая плазма всеобщей стертости, где дух и не ночевал.
Я не верю в интеллигенцию, я верю в отдельных людей — писал Чехов. Этих отдельных людей почти не было в заказной литературе. Они стали появляться в шестидесятые-семидесятые годы — бабы Ф. Абрамова, чудики В. Шукшина, Кузькин Б. Можаева, Иван Африканович В. Белова, герои В. Астафьева и В. Распутина, рефлектеры Ю. Трифонова. Но они все еще оттесняются деятелями, «положительными героями», какими-то функционерами. С расцветом «политического романа» на страницы прозы хлынули дипломаты, генералы КГБ, политические обозреватели, чины МИДа, генштабисты и члены Политбюро, Сталин и Молотов, Сталин и Гитлер. Теперь — в связи с переменой декораций — их дублируют Сталин и Киров, Сталин и Орджоникидзе, а завтра появятся Бухарин и Каменев, Зиновьев и Рыков (впрочем, в пьесах М. Шатрова они уже появились).
А где же традиционный русский герой — герой-идеалист? Где искание смысла жизни? Где смерть и бессмертие? Бог и черт?
У государственной литературы (а литература, которую представляют «Дети Арбата», тоже государственная, но, так сказать, в прогрессивном смысле) нет духовной альтернативы, ее идеал конкретен, социален, он заимствован из арсенала политики, а не из сферы духа.
Возьмите «идейных людей» литературы наших дней и идейных людей того же А. Платонова. У Платонова это заложники идеи, мученики идеи, они, как странствующие рыцари, поклялись служить только одной даме, и эта дама — Революция. Они даже не знают, что это такое, не разбираются в политграмоте, а большинство из них вообще не умеет читать, но искра идеи запала в их ум, произвела там такое движение, что ни ум, ни сердце не могут спать, они должны постоянно находиться в действии, боясь упустить наступление коммунизма.
Герои Платонова, как все русские мечтатели, буквально сохнут по «раю» обетованному, но «рай» не грядет, грядет нечто такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать — раскрывается преисподняя, и они проваливаются в нее, так и не испытав страха гибели.
Для пролетариата бог — движение, говорит один из героев «Котлована», все остальное ничто. Движение абсолютизируется, ставится над человеком, над его чувствами, над теплом ласки, теплом любви. Все, что попадается на пути этого безумного движения, сметается, отбрасывается. Нужно уничтожить весь Чевенгур для того, чтобы одиннадцать большевиков ощутили наступивший в нем коммунизм, — уничтожим. Сначала «полубуржуев» (буржуи давно истреблены), а потом и их родственников выведем на площадь или в степь и расстреляем из наганов и пулемета.
Критика идеи насилия как идеи прогресса — вот что на сегодня составляет нерв нашей независимой литературы. С этого она начала в двадцатые годы, к этому вновь и пришла. И здесь ее отрицания и утверждения смыкаются с русской классикой. И та мечтала о «рае», помышляла о «рае». Не кто иной, как Павел Иванович Чичиков тоже забрасывал удочку в этот «рай», мысля его как торжество дома и семьи под полуденным небом российского юга. Как мы помним, он хотел своих мертвых крестьян переселить в Херсонскую губернию.
«Рай» обетованный — мечта Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова. В исканиях русской литературы видно желание низвести божественную идею на землю, реализовать ее в пределах смертной жизни человека. С этой мечтой рождаются и герои
Платонова. Ко вместо «рая» они обретают «ад». Идея насилия отравляет их кровь, и эта отрава вливается и в кровь детей. Те в свою очередь мучаются, чтобы исторгнуть ее из себя, и тратят на это жизнь, истощаются в этой борьбе. Идея насилия калечит человека, увечит его природу: он шкуру собственного отца готов натянуть на барабан, лишь бы этот барабан выбивал дробь революции.
Литература невольно возвращается к старым ценностям и к старой символике, обозначающей эти ценности. Евангельская символика воскресает и в рассказах В. Астафьева, и в романе Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Ю. Домбровский на свой лад, в отличие от Булгакова, разыгрывает сцены предательства и осуждения Христа, рассматривая этот сюжет с точки зрения права и правосудия. «Падающая ирония гибели», как писал А. Платонов, соединяется в этой литературе с возвышающей интонацией веры уже не в абстракции, не в догматы, не в саддукейство и фарисейство, а в то, что человек есть мера всех идей и теорий, и если хоть один пункт их отклоняется от этой истины, им уготована судьба города Чевенгура.
Чевенгурцы сделали солнце своим Богом, его материальный свет приняв за духовное откровение. Но солнце, этот «мертвец с пылающим лицом», по выражению А. Фета, не способно заменить отсутствие Бога. В этом городе не осталось не только детей, но и воробьев и собак.
Вернуть жизни жизнь, вернуть душе свет, идеалам — тепло человека — вот что желает сегодня литература, чьи свободные легкие уже не сжимаются от притока воздуха, уже начинают дышать в полную силу.
1988 г.
СМЕХ ГОГОЛЯ
СОБОР И «ВЕРТЕП»
Никто еще не отгадал загадки Гоголя. Эта загадка не выдумана, не придумана. Она существует. Гоголь, как на памятнике работы Н. Андреева, то отдаляется от нас, то приближается, точней, то отдаляет, то приближает нас к себе его взгляд, его улыбка. Они странны, неопределенны. Они направлены на зрителя и, вместе с тем, уклончивы. Гоголь как бы зовет, подзывает, а когда подходишь, отводит глаза.
То же и смех Гоголя. С одной стороны, Гоголь смеется над глупым, смешным и страшным — да, и над страшным, например, над смертью, — с другой стороны, его смех полон печали: то печаль несоответствия между «мечтой» и «существенностью».
Смех Гоголя ощущает это несоответствие как комическое противоречие жизни и одновременно как боль. Рана открыта, кровоточит: отсюда слезы.
Гоголь начал с творений мрачно-возвышенных, с подражаний немецким романтикам и Жуковскому. Эти творения, как он признавался, были все «в серьезном роде». Но затем смех как бы сбросил со слова Гоголя тяжелый покров. Явилась веселость, явилась радость, против готического собора вырос «вертеп».
Гоголь — дитя книжной культуры и дитя народного юмора, смеховой культуры народа, как сказал бы М. Бахтин. Восемнадцатый век со вспышками одического величия, со слогом Державина и школа Шиллера и Г офмана чувствуются в Г оголе. Полет книжной речи мешается в его прозе с грубой шуткой простолюдина, с лукавством украинского «дядьки», с «раем» и «адом» народного представления, где человек и черт выступают как герои одной пьесы.
Черт у Гоголя смешон, а человек бывает и страшен. У человека могут внезапно выскочить клыки, как у колдуна из «Страшной мести», а черт может быть подвергнут порке, как напроказивший мальчишка.
Черта можно пороть, на черте можно ездить верхом, черта можно дурачить — человек во сне видит такую правду о себе, о которой он не смеет и думать при свете дня.
Смех Гоголя универсален — он охватывает все проявления человеческой души, начиная от низких и кончая высокими: низкое и высокое не противостоят друг другу, а переливаются одно в другое, создавая тот отсвет алмаза, в глубине которого всегда остается тайна.
Гоголя числят в сатириках, комиках. Он считал себя поэтом. Он добивался того, чтоб сказать все о человеке, тронуть его со всех сторон, как хотел он показать со всех сторон Россию, а может быть, и весь мир. Уроки Гоголя — уроки святой максимы, святого завышения целей, которые ставят перед собой гении и неосуществление которых заставляет их роптать на себя.
Мы часто спрашиваем себя, отчего гении недовольны собою, отчего они пересматривают свои взгляды, влекутся к новым, страдают от этого, уходят в потемки, а то и совсем уходят, не найдя в себе сил разрешить мучающий их вопрос. Блуждания гения — блуждания жажды совершенства, блуждания на пути к идеалу, который они с небес хотят низвести на землю. Святые попытки гения — явить этот идеал во плоти.
Жизнь Г оголя полна этих минут неудовольствия, досады на себя, самоосуждения. Признавая искусство «первым» в своей жизни, а все прочес «вторым», он готов был и его оставить ради того, чтоб хотя бы что-нибудь изменить в своем отечестве. Он не раз говорил, что не может писать «мимо себя». Строюсь я, добавлял он, строится и сочинение, нейду Я, стоит и оно. Это черта чисто русская, черта русской литературы, которая более, чем какая-либо из литератур, связывала слово с делом, не отделяла слова от дела и рассматривала голос свой как деяние, как влияние, как участие.
«Русь! чего же ты хочешь от меня?.. Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Все это отдает пророчеством, витийством. Но русская литература — пророческая литература. В ней история «горит», книги ее пишутся огненными словами — не мастер, не ремесленник русский писатель, а вития, невольник чести, невольник совести. Одно ремесло, одна техника для русского писателя еще не творчество. В высшие цели совершенствования входят не только отделка и переделка, невидимые слезы над листом бумаги, противоборство со словом и укрощение его, но и страдание по поводу чужого страдания, забвенье искусства во имя отклика на чью-то боль.
Отклик — мечта смеха Гоголя. Он не может звучать в пустоте. Если, как говорил Гоголь, струны души дрожат, то они — в ответ — должны дрожать и у читателя. Нет смеха ради смеха, смех «озабочен» идеей — хотя он и пародия на многие из идей.
Гоголь пародирует все — идеи, исторических деятелей, литературу. Его смех начинает с отталкивания, с утверждения своей непричастности к общепринятым величинам, знамениям, авторитетам.
Гоголь смеется над идеей брака и идеей «золотого века», но тем не менее его смех жаждет и любви, и «астреи». Слушая разглагольствования Утешительного (плута и карточного вора), Глов (такой же плут) говорит: «Ну что, если б у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты боже мой, что бы это было: просто золотой век, астрея».
Плут дурачит плута, одураченный плут дурачит, в свою очередь, другого плута, и в конце пьесы (речь идет об «Игроках») получается, что ни на одного из них нет закона.
Закон как юридическая категория не властен над глупостью, над жадностью, над самолюбием.
Суд, судопроизводство и идея тяжбы выставляются в позорном виде в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Тяжба затягивается на годы, на век. Она неразрешима, ее невозможно распутать, потому что страсти, ее вызвавшие, не уничтожимы.
Смех Гоголя социален, и вместе с тем он вечен, ибо несоответствие между мечтой и существенностью — противоречие жизни, которое не принадлежит какой-то одной эпохе. С одной стороны, смех Гоголя конкретен и имеет исторический адрес, с другой — Гоголь ставит объекты своего пародирования — по образцу греческих скульптур — на пьедестал вечности.
В мире Гоголя нет смерти — добро и зло встречаются и за смертным порогом (вспомним «Страшную месть») — и нет иерархии. Как бы оспаривая идею истории, высказанную в бессмертном труде Н. М. Карамзина «История Государства Российского», где история государства, а стало быть, и личностей, причастных к делам государства, затемняет историю людей, Гоголь вводит в историю башмачкиных, поприщиных, ковалевых, чичиковых, хлестаковых, петрушек, селифанов. Русь врывается на скрижали летописей во всем своем разнородном облике, со смешными и величавыми своими сторонами, которые мешаются в одном человеке, в одном герое. Даже Бульба, как писал Белинский, бывает у Гоголя смешон, даже в трагические мгновения казни Остапа находится кто-то в толпе, кто, по выражению Г оголя, ковыряет пальцем в носу.
О, смех! Это игра Гоголя, которая покрывает скуку и тоску жизни, вызывает наверх ее дремлющие искры, раздувает их в пламя. «В игре нет лицеприятия», в игре «заигрываются», «жаркая игра» «возносится», как пишет Гоголь, она собирает людей для «подвигов». Ею насыщается «жажда деятельности», а без игры — «скука, скука смертная»!
Но если игра в карты — обман, оставляющий всех после окончанья игры голыми, с одними бумажками в руках (из-за бумажек — из-за денег — и идет игра), то смех Гоголя возвышает: он погибшему дает шанс воскреснуть.
«Страшно, — рассуждает в последние минуты перед свадьбой Подколесин, — как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего — все кончено, все сделано».
Вот что страшит его: «на всю жизнь», «на весь век» И этот надворный советник, которого сваха зовет «дворовым советником», который каждый день ходит в свою экспедицию мимо одних и тех же домов и страшно гордится, что у него черный фрак, а не цветной, как у секретарей, титулярных и остальной «мелюзги», мечтает о чем-то таком, что дало бы ему счастье навек. И у него есть свои понятия о вечности. Но он не хотел бы, чтоб эта вечность была вечная кабала.
Герои Гоголя мечтают о свободе — они не хотели бы оказаться под колесом судьбы, не хотели бы быть затоптанными в грязь, не хотели бы выпасть в тот пыльный «осадок», со дна которого уже не подняться вверх.
С одной стороны, Подколесин — байбак, лежебока, которому лень жениться, и он уже развращен этой ленью, тем, что он ничего не делает и может всю жизнь ничего не делать (на это есть слуга Степан и крепостные), с другой — он человек, который имеет право сомневаться в том, что его идеал, по крайней мере идеал семейной жизни, никогда не явится ему во плоти.
Хотя именно о плоти и плотском все время говорится в «Женитьбе». И невеста здесь сладка, как «рафинат», и женихи, подглядывая за ней в щелку, когда она переодевается, видят что-то белое, похожее на подушку, и движимость-недвижимость, которую дают за Агафьей Тихоновной, можно пощупать руками.
Мечта и жизнь соперничают на весах судьбы, меняются местами: то жизнь переодевается в мечту, то мечта сбрасывает свой яркий плащ к ногам жизни. И всякий раз эти метаморфозы вызывают улыбку Гоголя — то грустную, то язвительноразочарованную, то вновь поднимающую человека из праха.
Смех Гоголя способен разъять, разложить предмет или даже лицо, как делает он это с лицом майора Ковалева, но он не патологоанатом: и нос Ковалева возвращается на свое место, и рассыпавшийся на куски мир соединяется вновь, и распавшаяся, кажется, на части жизнь опять смотрится как целое.
Струна может замереть, замолчать, но она струна — тронь ее только, прикоснись к ней с любовью, и она отзовется, она вспомнит хранящийся в ее натянутой жиле звук.
Смех светел — сказал Гоголь в «Театральном разъезде», навсегда отведя подозрения в том, что его смех — темен.
У каждого человека есть окно матери — окно детства, пусть это даже занесенное снегом мутное окно, как у Чичикова. Но и Чичиков способен вспомнить о нем, вернуться к нему мыслями и душой и тем же «слабым криком души» возопить: «Брат, спаси!» Есть люди гибнущие, но нет людей погибших, считает Гоголь. Светлый смех его должен помочь им встать, восстать, оглянуться, вернуться.
«Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке», — провозгласил в своих статьях Гоголь. Он писал о «гордости чистотой своей», о «гордости ума», о распрях ума, которые грозят девятнадцатому веку еще большим раздроблением. Он предупреждал его о том, о чем в полный голос заговорили потом Достоевский и Толстой.
Выход за пределы круга искусства не сломил Гоголя. Уединившись в доме на Никитском бульваре, он вновь взялся за свое художество. Он выстаивал перед своей конторкой (писал он стоя) каждое утро, и погибший, казалось бы, для читателя второй том поэмы стал выстраиваться заново, обрастая колоннами, этажами, готовясь быть подведенным под крышу. Он строил не просто дом, а «прекрасный храм» на русской почве, в последний раз решив бросить вызов «действительности» — вызов от имени «мечты».
Все годы жизни Гоголя — это уроки труда. Когда я пишу, я живу, говорил он, если я перестану писать, я умру, «Мне нет дела до того, — писал он в 1847 году А. А. Иванову (тоже прикованному кандалами к своей картине), — кончу ли я свою картину или смерть меня застанет на самом труде; я должен до последней минуты своей работать... Если бы моя картина погибла или сгорела перед моими глазами, я должен быть также покоен, как если бы она существовала, потому что я не зевал, я трудился...» Переписывание по восьми раз — хрестоматийные сведения о Гоголе. Перемарыванье страниц и глав, сожжение целых частей — тоже факты известные. Этот самосуд жесток, но он самосуд человека, который способен не только восстановить написанное, но и построить все заново — да так, что ничто не будет знакомо искушенному взору, что поистине новым представится ему то, что уже, кажется, он знал наизусть, к чему привык, на что насмотрелся.
Так было с С. Т. Аксаковым, когда Гоголь читал ему обновленные главы второго тома «Мертвых душ», — старик ахнул, покаялся, что имел грех усомниться в гении Гоголя.
Гоголь любил повторять, что в храм искусства нельзя входить неопрятно одетым. И он входил под его своды с чистой душой и чистыми листами отделанных до белизны беловиков, к которым никто, и в том числе он сам, уже не мог приложить руку. А если и случалось, что в молодости он спешил, торопился выдать в свет необработанное (как было с «Арабесками» и «Тарасом Бульбой»), то потом садился и переписывал от строки до строки, пока глаз, ухо и сердце не провозглашали хором: конец. Так было и с «Бульбою», и с «Ревизором». «Ревизор», в сущности, писался шесть лет, хотя сначала был выдан «единым духом», «Портрет» и того более, второй том поэмы до рокового сожжения уже побывал в огне. Оттого и создания Г оголя — истинные создания, строения совершеннейшей архитектуры, напоминающие римскую незыблемую вечность. Вспомните сад Плюшкина — это и русский сад, сад средней полосы России, и как бы усыпленный в своем величии римский форум, с остатками его колонн, арок и вьющейся вокруг мрамора зеленью. А перечитайте «Копейкина» — эту поэму в поэме, чудо прямой речи у Гоголя, русского застольного рассказа, илиаду русского разбойника!
Что там «Копейкин» — Гоголь Державина по нескольку раз переписывал, хотя были у него в библиотеке все сочинения Державина, — набело переносил собственным почерком в свои тетради, чтоб только привыкло перо к его мерно текущей речи, к его величественным периодам, к грому и водопаду его «парящего» косноязычия. Переписывал и Пушкина, и Лермонтова, и Баратынского. И святых отцов церкви.
Учился. Тренировал руку и слух и напев подхватывал, призыв принимал, слал его дальше.
Оттого и поются его собственные строки, выпеваются из души, от души идя, к душе и приходят. И громозвучное слово порождает громозвучное эхо, проносясь через нас и над нашими головами.
Поклонимся за это Гоголю и примем уроки его с благодарностью.
1975—1985 гг.
СМЕХ ГОГОЛЯ
Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей, но озаренное силою смеха, несет уже примирение в душу Гоголь
1
20 марта 1809 года утро в Санкт-Петербурге было морозное, ясное. «По местам, — сообщали «Санкт-Петербургские Ведомости», — тонкие облака», а в полдень «при тонких облаках слабое солнечное сияние».
Термометр показывал + 1,6 по Реомюру.
В тот день император Наполеон катался с русским послом князем А. Б. Куракиным в коляске в Рамбуйе, а испанский король Фердинанд VII «пребывал в неизвестности».
Будущие комические персонажи Гоголя, упомянутые им лишь в нескольких строках его сочинений (Наполеон в «Мертвых душах», а испанский король в «Записках сумасшедшего»), не знали, что человек, который выведет их перед потомством в смешном виде, уже родился.
Он явился на свет накануне решающих для России событий. Вскоре Наполеон завоюет Австрию (Испания уже почти вся под его властью), а затем двинет свои полки на Москву. «Двунадесять язык» пройдут мимо родной Гоголю Миргородщины и так же, не тронув этих мест, уберутся обратно.
Гоголь-мальчик услышит об этом походе из уст матери и отца, а позже узнает от очевидцев и из книг. Но свет 1812 года — свет победы русского войска — навсегда озарит его душу.
Он вызовет к жизни и смех Гоголя.
Смех Гоголя такое же дитя свободы, дитя победы, как и стихи Пушкина. Оба они начинают в одну эпоху, и оба есть эхо этой эпохи.
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Гоголь услышит этот призыв Пушкина в далеком Нежине и откликнется на него сначала стихами, а потом прозой, которая, по словам того же Пушкина, заставит русских смеяться так, как они не смеялись со времен Фонвизина. История XIX столетия была бы неполна без смеха Гоголя. Но случилось так, что смех этот, который мы вправе назвать историческим (но не в том смысле, в каком употребил это слово Гоголь, говоря о Ноздреве: «Ноздрев был в некотором роде исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории»), оказался направлен на историю и на ее героев.
Признанные герои истории для Гоголя как бы и не герои — он возвеличивает малое и смеется над великим. Титулярные советники в его прозе теснят королей, а особам царской крови отводится третьестепенное место. Они сдвинуты на окраину, на периферию, как какой-нибудь алжирский дей (лицо, кстати сказать, вполне историческое) в «Записках сумасшедшего» или император Николай, о котором походя упоминает в «Ревизоре» Хлестаков. «У всякого петуха есть Испания», — говорит гоголевский сумасшедший, став испанским королем, и эта параллель петух — король отдает иронией.
Смех Гоголя ставит все с ног на голову, он из ничтожного лепит крупное, и оно — ввиду своей увеличенной мелкости — кажется еще более смешным. Достаточно автору сказать, что Поприщин, гуляя по Невскому проспекту, встретил проезжающего государя и не поклонился тому, как своему царственному собрату, — и сразу возникает ситуация, при которой величие государя просто ничто, черт знает что такое, как говорят герои Гоголя, а не величие.
«Значительное лицо» в «Шинели» выглядит вовсе не значительным, а мертвец- чиновник низкого роста, которого это лицо свело, по существу, в могилу, по мановению волшебства смеха Гоголя превращается в приведение, кулак которого становится таким, «какого и у живых не найдешь». Акакий Акакиевич заслоняет в этой повести и значительные лица, и тех, кто на фоне этих значительных лиц кажется еще более значительным.
Человек по фамилии Яичница имеет у Гоголя больше прав на существование — и на внимание со стороны автора, — чем какой-нибудь генерал, который по виду «умная голова», а на самом деле мечтает лишь о крестике на шею. Наполеоны и фердинанды у Гоголя смешны, а вот смерть Акакия Акакиевича, как и смерть двух старичков в повести «Старосветские помещики», оплакивается как национальная потеря.
Нет такого «высокого» предмета или лица, которое было бы неподвластно смеху Гоголя. Государственный совет? Ему достается на орехи в «Ревизоре». Русская почта? И она осмеяна. Военные? И их не обошла гоголевская усмешка. Вспомним «Коляску», вспомним «Игроков», где шулеры играют в гусар и где блохи, обитающие в номерах гостиницы, сравниваются с «конным войском».
«Игроки» играются редко и имеют славу второстепенной пьесы Гоголя. Трактуют ее так, что Гоголь здесь высмеял игроков, крап в картах и т. д. Но карты, как и деньги, лишь некие знаки, в которых овеществляются отношения людей. Плут Ихарев думает надуть таких же плутов, а заодно и целый свет, но плуты надувают его, впрочем, сами ничуть от этого не выигрывая, потому что на плута низшего ранга и на гения плутовства и игры найдется другой гений, другой надувала, а их всех вместе надует сама жизнь. «Такая уж надувательная земля!» — в этом возгласе обманутого Ихарева — обида не только на Утешительного и его компанию, но и на жизнь вообще.
Потому что жизнь подает человеку надежду и тут же отбирает ее. Судьба играет с человеком, обещая ему золотые горы, вечную молодость и разные удовольствия, а потом резко сокращает рацион, а в конце и вовсе лишает жизни. Возглас проигравшегося игрока у Гоголя относится к этой несправедливости судьбы.
Именно поэтому Белинский сказал о Гоголе: «Его ода — вопрос». И еще он сказал: тема Гоголя — «комедия жизни».
Чистая сатира, ставя вопросы, дает и ответы. В смехе Г оголя заключен не ответ, а надежда.
Это не значит, что герой на наших глазах должен исправиться и превратиться из «прорехи на человечестве» в образцового хозяина и семьянина. Попытки совершить этот переворот в человеке — переворот наглядный, дающий урок преображения, — не удались Гоголю. Смех Гоголя дает нам гораздо больше, нежели те положительные примеры, которые он представляет во втором томе «Мертвых душ».
Гоголь иногда с грустью называл себя человеком, привыкшим смешить людей. Так отвечал он на заблуждение в том, что он писатель исключительно комический. Причем не только комический, но и призванный смехом своим осудить, покарать. «Я не знал, — писал он, — ...что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру».
2
Н. Г. Чернышевский, опровергая мнения о том, что Гоголь в конце жизни был уже не Гоголь, что его смех померк, а великие движения души угасли, писал: «Высокое благородство сердца, страстная любовь к правде и благу всегда горела в душе его... страстною ненавистью ко всему низкому и злому до конца жизни кипел он».
Слово «благородство» мелькает на каждой странице статей Чернышевского о Гоголе. «И, каковы бы ни были некоторые поступки Гоголя и даже некоторые стороны его характера, все-таки нельзя не видеть в нем одного из благороднейших людей нашего века». «Несмотря на их неотделанность, — писал он о сохранившихся главах второго тома «Мертвых душ», — великий талант Гоголя является с прежнею своею силою, свежестью, с благородством направления, врожденным его высокой натуре».
Прочитав изданные отдельной книгой письма Гоголя, Чернышевский еще раз восхитился высотой его благородства.
И, как решительный вывод, не оставляющий никакого сомнения в отношении Чернышевского к «позднему» Гоголю, звучат слова: «Мы имеем сильную вероятность думать, что Гоголь 1850 г. заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835 г.».
Гениев судят по их делам, то есть по их сочинениям. Но сам Гоголь, говоря о Пушкине, настаивал на том, что величие Пушкина не только величие великого поэта, но и величие великого человека. Пушкин во всем был велик, писал он, и в писаниях своих, и в поступках, и в отношении к России, и в отношении к царям. Он не клонил перед ними головы, он ставил себя (а стало быть, и звание поэта) отдельно от них, всей своей жизнью подавая пример независимости и благородства. «Да и как могло быть иначе, — спрашивал Гоголь, — если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей?»
Признавая это высказывание верным по отношению к Пушкину, мы обычно с неохотой относим те же слова к Гоголю, который, несмотря на свой гений, кажется нам человеком, далеким от простоты и простодушия.
Меж тем Гоголь был человек веселый. Зная разные состояния души, часто впадая даже в меланхолию (по слухам, Пушкин прозвал его «великим меланхоликом»), он мог бывать — и часто бывал — таким же, как и все. Нельзя сказать, что великий человек, вспоминала о нем жена сына М. С. Щепкина, только глаза быстрые-быстрые.
В детстве Гоголь потешал папеньку и маменьку, а с ними и всю честную компанию, собиравшуюся у Гоголей, своими карикатурами на близживущих помещиков —карикатурами оглушительно смешными, но не злыми, добродушными. Гимназия Высших Наук имени князя Безбородко много бы потеряла, если б не знала Гоголя, и не потому только, что он учился в ее стенах и тем обессмертил сие заведение, но и тем, что Гоголь-Яновский был одним из самых жизнерадостных студентов.
Таков же Гоголь и в Петербурге, в кругу своих однокашников, пришедших к нему в гости куда-нибудь на Большую Мещанскую или в Столярный переулок. На столе самовар и баранки, но при этом скромном угощении веселья не занимать. Слуга Гоголя Яким только вздрагивает за перегородкой от взрывов громкого хохота. Поют песни, вспоминают студенчество, теплый юг, а холодному Петербургу раздают клички, от которых смутился бы самый смелый шутник.
Петербург — немец, скажет Гоголь, а Москва — русская борода. Он любит предметам неодушевленным давать человеческие имена. Оттого и двери у него «поют», а Колизей не римский цирк, а «синьор Колисей», так же, как нос М. П. Погодина не просто нос, а «фельдмаршал». Он и кусок телятины, теснящий в желудке другие яства, сравнит с городничим, входящим в церковь, а про знаменитые итальянские спагетти, славящиеся своей длиной, скажет так: «макароны длиною с дорогу от Рима до Неаполя».
Гоголь по-детски смешлив и смешон, когда у него хорошее настроение, когда он кончил работу или знает, что написанное им не потребует переделки. Один из таких эпизодов описывает П. В. Анненков в своих воспоминаниях «Гоголь в Риме летом 1841 года»: «По светлому выражению его лица... видно было, что впечатления диктовки (Гоголь диктовал Анненкову «Мертвые души». — И. З.) привели его в веселое состояние духа. Г оголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою... »
Немало таких же сцен и в воспоминаниях С. Т. Аксакова, Ф. Иордана и Ф. Чижова. Вот что пишет Ф. Чижов: «Мы с Ивановым всегда неразлучно ходили обедать в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно как мы говорили, к Фалькону... Там его любили, и лакей... нам рассказывал, как часто signor Niccolo надувал их. В великий пост до Ave Maria, то есть до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: «Нельзя отпереть». Но Гоголь не слушает и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он уже там остается и обедает... »
Неожиданность гоголевских проделок часто ставила в недоумение его знакомых. Сказавшись в одном месте Европы, он на самом деле оказывался в другом. Маменьке он писал из Москвы, что находится в Триесте. Когда его просили что-нибудь почитать, отказывался, а затем сонно начинал икать, и оказывалось, что это вовсе не неприличное поведение Гоголя в гостях, а начало чтения «Тяжбы». «Он нехотя подошел к большому овальному столу, — пишет И. И. Панаев, — перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий...
Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить никакого движения и только смотрели на него...
—Что это у меня? точно отрыжка? — сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок...
Гоголь продолжал:
—Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь...
И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... «Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое?» — говорил он, уже следя глазами свою рукопись.
Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем «Тяжба». Лица всех озарились смехом... Щепкин заморгал глазами, полными слез... »
3
Есть смех, который, выступая против зла, сам зол, сам односторонен. Он не признает мягкости, милосердия. Он карает. Гоголь в своих творениях веселится, и это веселье поднимает душу, возвышает душу.
Эту черту комизма Гоголя увидел еще Пушкин. Он и сам смеялся, слушая автора «Вечеров» и «Ревизора», просто катался от смеха, как вспоминают присутствовавшие на этом чтении, и писал о первой книге Гоголя: «Истинно веселая книга».
«Вот настоящая веселость, — писал Пушкин, — искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе...»
Могут сказать, что это отзыв Пушкина о молодом Гоголе, о Гоголе, еще не написавшем «Мертвые души» и «Выбранные места из переписки с друзьями». Но в той же статье, ставя Гоголя вслед за Фонвизиным, Пушкин, однако, отделяет его от Фонвизина и других, говоря, что Гоголь заставляет нас «смеяться сквозь слезы грусти и умиления».
Вопреки отзывам Пушкина и статьям Белинского смех Гоголя еще долго расценивался как «фарса». «Фарсой» его поспешил окрестить Булгарин. «Подобного цинизма мы никогда не видели на русской сцене», — писал он в «Северной пчеле». Гоголя подозревали в нелюбви к человеку, в скрытом желании растравить «наши раны». Одни предлагали сослать автора в Сибирь (за слишком прозрачные намеки на начальство), другие говорили, что смех Гоголя преувеличен, похвалами пушкинской «партии».
Гоголя называли творцом «побасенок» и злым гением.
С одной стороны, ему отводилась роль шута, забавляющего публику смешными историйками, с другой — смех Гоголя вызывал страх. А как известно — и это сказал Гоголь — «насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете».
Смех Г оголя был не понят. Недаром вместе с «Ревизором» — и в те же дни, когда давался «Ревизор», — на той же сцене шли комедии «Две женщины против одного мужчины», «Бабушкины попугаи» и «Покойник-муж». Зрители равно смеялись как водевилю, так и «Ревизору».
А в начале XX века В. Розанов писал, что смех Гоголя «пустынный смех», «безыдейный хохот». Этот смех, утверждал Розанов, пронесся по Руси, круша все на своем пути и предрекая грядущие разрушения. Розанов видел в Гоголе поэта мелочей, певца солнца в капле воды, «завалившейся в навоз».
Но смех Гоголя — радуга, сотворенная из брызг дождя и вбирающая в себя все цвета дня. В нем, как говорил сам Гоголь, оценивая характер русских литературных пародий, «желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием».
Это добродушие видно и в русских сказках — в тех, где осмеиваются глупый царь, ленивый барин и сам черт. В сказках и мужику достается, и его бабе, если они стали жадничать, позарились на чужое добро или возгордились достатком. Но, будучи посрамлены — и посрамлены жестоко, — они в конце концов получают шанс на прощение.
В черновых набросках к «Мертвым душам» есть такая запись: «Я, признаюсь сам, не позволю даме облокотиться на мое письменное бюро. Да если бы и облокотилась, то, признаюсь, я бы не заметил: я не гляжу в это время по сторонам; если я взгляну, то вверх, где висят передо мною стенные величавые портреты Шекспира, Пушкина, Ариоста, Филдинга, Сервантеса... »
Заметьте: Гоголь обращает глаза вверх. Он называет портреты, которые при этом видит, «величавыми». Это относится не к величине рамы или холста: речь идет о величии изображенных на портретах людей.
В этом списке нет ни Ювенала, ни Свифта. Нет гениев чистой сатиры, смех которых — смех без слез — выставление перед всем светом, как говорил Гоголь, одних «идеалов огрубения».
Поражая законченные и совершенные в художественной отделке пороки, смех Ювенала и Свифта и сам закончен, полон своей отрицательной полнотой. Он вместе с тем горд и надменен, горд высотой своего положения на Олимпе и оттого смотрит на жизнь сверху вниз.
Смех Гоголя ближе к жизни. Он раздается не с оледенелой высоты. Он струится, как свет, он даже нежен порой, как серебряный римский воздух.
Как бы ни негодовал Гоголь, как бы ни припечатывал он одной, казалось бы, навеки клеймящей чертой человека (как Плюшкина с его прорехой на халате), смех его склоняется к жалости. В нем нет мести и нет необратимого суда. Свобода смеха ограничена у Гоголя сострадательным чувством. В этом смысле смех Гоголя родствен смеху Сервантеса.
Это эпическое веселье, обнимающее всю жизнь и всего человека, а не направленное избирательно на порок. Предмет Гоголя не пороки и не застывшие в своей отрицательности низкие черты человека, а общая ничтожность или пошлость жизни, лишенной на какие-то мгновения высшего смысла. Это, скорее, заснувшая жизнь, как любил говорить Гоголь, жизнь, впавшая в забытье, жизнь, похожая на сад Плюшкина.
Все застыло в этом саду, но игра света и тени, молодая ветвь клена, тянущаяся из темноты зарослей к солнцу, говорят о непроснувшейся жизни, жизни, готовой развернуться и распуститься. И недаром Гоголь называет события, происходящие в «Мертвых душах», «дурью почище сна», потому что это заколдованное царство, хрустальный колпак над которым должен разбить смех автора.
Изобрази я «картинных извергов», писал Гоголь, мне бы простили, «но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный!». Смех Гоголя рассчитан на этот испуг. Он рассчитан на пробуждение ото сна. Смывая с человека ничтожность и пошлость, смех этот не смывает самого человека.
«Горьким словом моим посмеюся» — высечено на надгробной плите Гоголя. Горьким смехом моим порадуюсь — мог бы добавить к этим словам сам Гоголь. Ибо если человек смертен, человек конечен, человек обречен уничтожению, то смех дан ему на то, чтоб преодолеть свою смертность и, веселясь, заглянуть в бессмертие.
1984 г.
РАФАЭЛЬ ПОШЛОСТЕЙ
Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил?
Гоголь. Авторская исповедь
При жизни Гоголя называли то Теньером, то Гомером, то Поль де Коком, то Вальтер Скоттом. И как бы иронически ни склонялись эти имена рядом с его именем, каждый раз в расчет бралась — и абсолютизировалась — лишь одна сторона Гоголя: или его беспощадная наблюдательность, или склонность к эпосу. Критике они казались несовместными, чужеродными, она не могла понять, что это две стороны одного Гоголя и что он при этом новый талант, а не Гомер и уж тем более не Поль де Кок. Появившись со своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки», он тут же был записан в малороссийские «жартовники». Ему не хотели отводить места в общероссийской литературе, считая, что его проза имеет «областное» значение. Сам юмор Гоголя или его комизм относили на счет украинского его происхождения и материала, который он использовал. Но когда этот смех стал расти и приобретать не положенные ему трагические размеры, Гоголь был объявлен отступником от своего дара.
Как бы предвидя насмешки в свой адрес, он вначале скрывался под вымышленными именами. Эволюция гоголевских псевдонимов показательна. От романтического В. Алова до неромантического П. Глечика (по-украински «глечик» — горшок), от четырех «о», в которых зашифрованы «о» его имени и фамилии (Ник-о-лай Г-о-г-о-ль-Ян-о-вский), до Г. Янова — они путь Гоголя к читателю, муки самолюбия, страх быть непонятым. Кстати, в качестве П. Глечика и Г. Янова он и напечатался однажды в «Литературной газете» вместе с Пушкиным. Случилось это в четверток, 1 января 1831 года. На первой странице было помещено стихотворение Пушкина «Кавказ», а рядом — глава из малороссийской повести под названием «Учитель» и статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии».
Обе они принадлежали перу Гоголя.
Пушкин этого соседства не заметил. На запрос П. А. Плетнева, обратил ли он внимание на помещенные рядом с его «Кавказом» статьи (при этом Плетнев открывал истинное имя молодого автора), Пушкин отвечал: «О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что доселе не читал его за недосугом». Факт этого заочного знакомства двух поэтов не отмечен в истории русской литературы. Меж тем именно так — на страницах газеты Дельвига — впервые встретились Пушкин и Гоголь. Никто не мог предполагать, что означала эта встреча. Вряд ли те, кто знал, кто такие П. Глечик и Г. Янов, догадывались, что она предвещает. Но пройдет четыре года, и Белинский в «Телескопе» объявит: «...г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным».
Было ли это так на самом деле? Оставлял ли свое место Пушкин и уступал ли его Гоголю? Нет, конечно. Но рядом с одним гением всходил другой гений, точнее, иной гений, и единовластие Пушкина в литературе кончилось.
Гоголь начал как подражатель Пушкина (в стихах), но, перешедши на прозу, тут же обрел свою дорогу, хотя многие считали, что это дорога, пробитая Фонвизиным, что дар Гоголя — дар видеть и описывать какую-то одну (по большей части пошлую) сторону в человеке. Даже лиризм Гоголя воспринимался как жалость к этой, комической, стороне его персонажей.
Но уже в самом обращении Гоголя к низкой стороне жизни (во второй части «Вечеров» и особенно в «Арабесках» и в «Миргороде») заключалось некое противоречие, в которое он входил со всей предшествующей русской литературой. Уже содержался в этом какой-то принципиальный спор и в том числе с Пушкиным. Стараясь объяснить природу этого противоречия, Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» писал: «Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный, как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя... Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по весьма естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта...» Далее Гоголь иронизировал над этим «нерасчетом», говоря, что это не нерасчет, а, наоборот, выигрыш, ибо «чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина». Все это относилось к Пушкину и относилось к нему, Гоголю. Даже к Гоголю более, нежели к Пушкину, так как «какой-нибудь заседатель» был герой Гоголя, а не Пушкина, хотя Пушкин к тому времени (1835) вывел и станционного смотрителя, и гробовщика, и петербургского разночинца. Но — как бы сочувственно он их ни изобразил — его героями все же были не эти люди — его героями были Петр, Онегин, Гришка Отрепьев, Дубровский, Пугачев. Это были все, выражаясь словами Гоголя, «горцы», некие редкие (и полуромантические) личности, хотя Пушкин не терял трезвости в отношении к ним. Но, скажем, Петр Первый и Барклай де Толли занимали его ум более, нежели несчастный Евгений из «Медного всадника».
Гоголь, начав со сказки, очень быстро обратился к действительности и в своем внимании к ней опустился до самого «осадка человечества», которого до сих пор не трогал и Пушкин. Резкий поворот к реальности был сделан еще в «Учителе», затем в «Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке» — повести, окруженной фантастическими повестями «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Все здесь было безжалостно снижено — и быт героев, и их происхождение, и интересы. В «Учителе» пили и ели, ходили в кусты на двор и довольно прозаически волочились за девками. В «Шпоньке» героем стал владелец осьмнадцати душ крестьян, которому на роду, кажется, было написано владеть этими душами и не подниматься выше. Сам Шпонька, прослужив одиннадцать лет в полку (который, конечно, нигде не воевал), дослужился до чина поручика, то есть по гражданскому соответствию в табели о рангах — до чиновника 12-го класса. Его жизнь в полку протекала в полном молчании и одиночестве. В то время как другие офицеры пили выморозки, играли в банк и предавались другим шалостям, он лежал на кровати или читал гадательную книгу.
Но и в этом робком Шпоньке — робость которого была воспитана еще с детства, когда учитель в училище жестоко бил его по пальцам кленовой линейкой,— назревал взрыв. Надвигалось на него событие, которое должно было перевернуть его жизнь, вызвать из глубины его души скрытые силы и осветить этого героя Гоголя необыкновенным светом. Издалека подавал Гоголь читателю намеки на это событие, указывая на некие неординарные чувства в Шпоньке, на какую-то его задумчивость и мечтательность в те минуты, когда надо было есть галушки или вести счет нажатым крестьянами копнам. Сердце начинает сильно биться в Иване Федоровиче, когда подъезжает он к родному хутору, и вспоминаются ему детство, пруд, в котором он с ребятишками купался и ловил раков, и еще что-то неведомое, навевающееся на него из его прошлого, а может быть, и прошлого этих мест. В личной печали Шпоньке слышалась и историческая печаль, печаль человека по мечтам юности, так и не сбывшимся, но не забытым.
Это восстание мечты из недр души человека и определяло взрыв, который должен был произойти со Шпонькой и с другими героями Гоголя. Стряхивая с себя сон обыкновенного существования, они как бы возвращались в сказку — не с помощью внешних сил, как в «Вечерах», а с помощью воображения, разогретого честолюбия, восставшего из пепла чувства достоинства. Из-за чего ссорились Иван Иванович и Иван Никифорович в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче? Из-за слова «гусак»? Но оно было произнесено позже; поводом для ссоры послужило ружье. Ружье — символ военных занятий козачества, оружие, которым пользовались предки героев. Ведь когда-то и сам Миргород был не тихим городом с лужею посередине, а центром, где стоял знаменитый миргородский полк. Что-то проснулось в Иване Никифоровиче, что-то вспомнилось ему, когда сосед предложил обменять это ружье на бурую свинью. Ружье на свинью? Это уже оскорбление, это покушение на лучшие годы молодости Ивана Никифоровича, когда он еще не был тушею мяса, валяющейся день-деньской «в натуре» в затемненных комнатах, а ходил в мундире, носил козацкую шпагу и собирался служить в милиции.
И вот поднимаются со своих постелей и лежанок байбаки и лежебоки, берутся за перо и бумагу и начинают писать друг на друга жалобы и объявляют войну городку, потом уезду, а потом губернии, как бы пародируя в своих действиях героические деяния Тараса Бульбы.
Взрыв в Шпоньке тоже выглядит пародийно, все его волнения и страхи связаны с женитьбой или хотя бы с мыслями о предстоящей женитьбе. Что же тут необыкновенного? Самое естественное и вполне распространенное событие. Но для героя Гоголя оно — катаклизм. Потому что, воспитанный в робости, он должен принять решение. Он должен подняться над собой, преодолеть себя и ступить на путь, где его ожидает неизвестность. Вот отчего мучат бедного отставного поручика кошмары, вот отчего всюду мерещится ему жена: и в шляпе жена, и в кармане сидит жена, и слева жена, и справа жена (да еще с «гусиным лицом»), и, наконец, тащит его за веревку на колокольню какая-то символическая «жена», которая ни имени, ни лица уже не имеет, так как и сам Иван Федорович вовсе не Иван Федорович, а... колокол.
Еще более комическим кажется взлет майора Ковалева. Этот немолодой коллежский асессор (специально называющий себя военным чином «майор», чтобы приподнять в глазах других свое положение) не прочь бы стать генералом — но как? Нет ни связей, ни высокого происхождения, ни денег. И тогда судьба подбрасывает ему случай — в один прекрасный день не сам Ковалев, а его нос делается статским советником. Он разъезжает по Петербургу в карете и наводит страх на весь город. Если раньше сам Ковалев робел при виде какого-нибудь статского советника, то теперь другие испытывают то же чувство по отношению к его носу. Темп повести резко нарастает. Растерянный Ковалев гоняется за носом на извозчике по Петербургу, тот скрывается от него, в дело вовлекаются полиция, публика, дамы и студенты, нос растет, как и слухи о нем, его видят даже прогуливающимся по Таврическому саду вблизи особы царской крови — принца Хозрева Мирзы. Мечта Ковалева осуществилась! Безвестный вчера, он стал известен всем: если еще два дня назад он зазывал к себе хорошенькую продавщицу манишек, громко, во весь голос объявляя ей свои чин и фамилию, то теперь имя Ковалева доносится и до ушей государя, ибо в дело считают замешанным и «правительство».
Это миг «величайшего торжества» для героя и миг позора, несчастья, ибо возвышение и воплощение его мечтаний даются ему ценой утери существенной части тела. «Боже мой! боже мой! — молится он. — За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин...» В этом вопле слышны и отголоски вопля Поприщина из «Записок сумасшедшего», вопля, звучащего в финале повести, когда титулярному советнику, ставшему Фердинандом VIII, льют на голову холодную воду. В одном из вариантов повести он восклицал, обращаясь к матери: «Боже, что они делают со мною!.. Матушка моя! За что они мучают меня?.. Голова моя светлая! Ты видишь, как жестоко поступают со мною за любовь!»
Отчаявшись понравиться дочке его превосходительства в качестве столоначальника, Поприщин избирает иной путь — путь фантастический, путь скачка, позволяющий ему преодолеть не только пролеты манящей его наверх российской лестницы, но и время, которое необходимо простому смертному на то, чтоб вскарабкаться по ней обыкновенным способом.
Герой Гоголя попросту отбрасывает понятие времени и в своем дневнике начинает посмеиваться над ним, ставя цифры вверх ногами, перескакивая с весны на зиму и обратно, а потом и вовсе скрещивая их («мартобрь»). В одной из записей он пишет: «День был без числа».
Реальное время не властно над поступками героев Гоголя, над поступками их воображения. В мечте они позволяют себе не считаться ни с календарем, ни с иерархией. Вчерашний «нуль», которому департаментский швейцар не хотел даже подать шинель, превращается в испанского короля и называет русского императора «высокий собрат мой». Ничтожный переписчик бумаг, над которым потешались многие из сослуживцев, сыпавших ему на голову бумажки, называя их «снегом», начинает сдирать шинели с плеч их превосходительств, причем среди них попадаются и такие, при одном виде которых умер бы при жизни от страха Акакий Акакиевич. После смерти он превращается в грозное привидение, которое сначала имеет реальный рост мертвеца, а потом тоже начинает расти и дорастает до некой сверхтени с «преогромными усами» и кулаком, какого никто никогда и не видывал.
Так — в гротесковых формах — происходит извлечение необыкновенного из обыкновенного, так герои Гоголя становятся не теми, кем до сих пор были, как бы бросая вызов природе, назначившей им быть вечными титулярными советниками. Сам этот процесс мучителен, катастрофичен. Многие из них, переживши свое возвышение, гибнут. Иные сходят с ума. И лишь некоторые, такие, как Ковалев и поручик Пирогов, выходят из воды сухими. Их нравственное безболие по прошествии нанесенной им боли потрясает еще страшней, чем гибель Пискарева или сумасшествие Поприщина. Потому что не только нос майора Ковалева возвращается обратно на его лицо, но и сама мечта возвращается на свое место, как бы капитулировав перед «существенностью».
Разрыв «мечты» и «существенности», их единоборство, их подлинно исторический поединок — вот тема прозы Гоголя. История в обычном своем виде на этом фоне теряет свое значение. Гоголь склонен даже иронизировать над великими историческими событиями, которые как бы выцветают, когда речь заходит о счастье отдельной личности. Особенно сильно этот мотив звучит в «Старосветских помещиках». Чувства двух людей, вся жизнь которых, казалось, была ограничена двором, столовой и кладовой, и сами мысли не перелетали через забор их дома, оказываются важнее побед какого- нибудь завоевателя, который, как пишет Гоголь, собрав все силы своего государства, «воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и, наконец, все это оканчивается приобретеньем клочка земли, на котором негде посеять картофеля». Под барабанный бой и пушечную пальбу проходит такой завоеватель по земле и не оставляет никакого следа, но след остается от любви, даже если она погружена в поедание коржиков с салом и в разговоры о водках, настоянных на золототысячнике, на деревии и шалфее.
Как правило, кризисные состояния, в которые попадают гоголевские герои и которые и вызывают наверх дремавшую в них мечту, связаны с любовью. То может быть любовь к женщине, любовь к теплой шинели, которая заменит «подругу» Акакию Акакиевичу, любовь и тоска по молодости, любовь к искусству или просто супружеская любовь. О любви мечтают Пискарев в «Невском проспекте», Поприщин в «Записках сумасшедшего», она грозовым облаком надвигается и на Шпоньку (еще не ведавшего любви), она вспышкой молнии освещает жизнь старосветских помещиков. То именно удар молнии, как любил говорить Гоголь, гром среди ясного неба, возвеличивающий вдруг человека и «разоблачающий» его гений.
Гений... в Шпоньке? — скажет читатель. В Пульхерии Ивановне, в Башмачкине? Полно, вы шутите. Но гений для Гоголя не только особый творческий дар, дающийся избранным. Гений — это скрытый талант любви, способность к любви, которые живут в душе каждого человека, и извлечь их и показать свету должно искусство. «Извлечь» и «разоблачить» в словаре Гоголя означают одно и то же. В одной из своих статей он пишет, что в древних памятниках искусства разоблачается гений народа. В другой — о том, что песни разоблачают душу поющего. Разоблачение — это полное раскрытие, раскрытие без остатка.
Недаром любовь преображает героев Гоголя, вызывает их из небытия и заставляет совершать свои безумные — с точки зрения здравого смысла — поступки. Бескорыстный шаг Пискарева навстречу женщине, встреченной им на Невском проспекте, — движение любви. Мужественная кончина Пульхерии Ивановны, и на смертном одре думающей не о себе, а о другом, о том, кто остается — и остается один, без ее попечения и согревающего чувства, — высочайший акт преданности и верности любви. Озарение, снизошедшее на Поприщина в конце повести, его обращение к матушке с призывами спасти его, вернуть в счастливое незнание детства есть тот же поступок. Снижение в материале, которое предпринимает Г оголь в этих повестях, дает неожиданный эффект возвышения в духе, ибо это дух восстает в, казалось бы, неодушевленных ранее существах и объявляет о себе. И пусть его явление происходит в формах комических, пусть существенность в лице этих форм смеется над «мечтой», — отчаяние мечты, ее бессильное подражание формам жизни (сделаться генералом — разве это мечта?) делают ее еще возвышенней, еще прекраснее.
Повесть «Записки сумасшедшего» называлась сначала «Записки сумасшедшего музыканта». Предшественник Поприщина должен был быть, очевидно, музыкантом, человеком, который гибнет от непонимания его музыки. Но музыкант, не понятый толпою, — как и художник, как и поэт — романтическая личность. Гоголь сделал своего героя титулярным советником. Он заставил его очинивать перья для генерала и читать каждый день «Северную пчелу». Он дал ему честолюбие социального ничтожества, хотя Поприщин дворянин и занимает должность столоначальника. Это честолюбие и толкает его сначала на зависть, на мечтания о чинах и лентах, об эполетах и испанском короле. Но, став «испанским королем», Поприщин испытывает страдания. Возвышение в чине — пусть и мнимое — не дает ему счастья. И тут-то просыпается его истинный гений. Честолюбие побеждается любовью, изгоняется любовью. Безумный король, «придя к власти», начинает заботиться не о своих личных благах — его мысль устремляется в холодную пустоту космоса, в которой ему видится «нежный» и «непрочный» шар луны. Загнанный и замученный в сумасшедшем доме, он вопиет о понимании и слышит в ответ струну в тумане, которую мог услышать прежде лишь гоголевский музыкант.
Это ответное звучание струны есть как бы ответ «всего света» на страдание и несостоявшуюся любовь Поприщина, на боль ее искаженного воплощения.
Ступив из эпоса в быт (повести «Тарас Бульба» и «Старосветские помещики» стоят в «Миргороде» рядом), Гоголь не утратил высоты переживания, высоты сочувствия и сострадания к своим героям. Плач Афанасия Ивановича над могилой Пульхерии Ивановны столь же величествен, как и смерть Бульбы на костре; несчастья Чарткова («Портрет»), продавшего свой талант дьяволу, столь же мрачно-трагичны, как и муки колдуна в «Страшной мести». И так же возвышающе прекрасно, как чувство Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, освобождение, которое обретает автор портрета во второй части повести.
Когда разбирают «Портрет», пишут чаще всего о первой его части — той, где изображена судьба Чарткова. Но она неполна без объясняющей идею Гоголя второй половины повести, в которой он рассказывает о художнике, написавшем когда-то проклятый портрет. Его история накладывается на историю Чарткова — и она глубже, многозначнее и значительнее, потому что в ней уместилось не только падение, но и возвышение человека. По существу став виновником гибели Чарткова, художник, написавший ростовщика, платит за это зло жизнями жены, дочери и сына. Он удаляется в монастырь и там пишет иной портрет — портрет божественного младенца. В этом акте совершается его возвращение к началу своей жизни, к детству человека и человечества, которое как бы очищает его от скверны и смывает с портрета, принесшего столько бед людям, черты зловещего старика. В страсти к искусству, говорит Гоголь, много искушающей прелести увлеченья — но только в соединении с любовью к добру, к светлому в человеке может «просветить» она и творящего, и тех, для кого он творит. Иначе и сами ангелы на его картинах будут смотреть дьявольскими глазами. Вот почему гений, просыпающийся в конце повести в Поприщине, Гоголю, может быть, дороже гения музыкального, гения исключительного, редкого и недоступно великого.
Трагедия и комедия превращений героев Гоголя безусловно социальна. Почти каждый из них несет на себе печать сословной или бытовой мизерабельности, это люди или совсем бедные (как Башмачкин), или среднего достатка. Если они живут в Петербурге, то обитают, как правило, на четвертом этаже, куда надо тащиться по черной лестнице, облитой помоями, где, как соты в ульях, налеплены комнатки с низкими потолками и маленькими оконцами, выходящими во двор. И лишь во сне им может грезиться блестящий бельэтаж, с зеркальными стеклами окон, открывающими вид на проспект или на Неву, широкая (быть может, даже мраморная) лестница, швейцар в подъезде и сам подъезд, освещенный огнями. Если же их удел жить вне столицы, то это уже какая-нибудь беспробудная глушь, куда не долетают звуки почтового тракта, не доходят газеты и новости, где можно без помехи спать, пить и есть, не думая ни о чем и ни на что не надеясь. Это какие-нибудь Вытребеньки Ивана Федоровича, или именьице Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, или, в лучшем случае, Миргород, над которым царит сонный мир.
Гоголь, всегда подробно описывая быт героев, не преминет упомянуть об их состоянии или чине. Чин особенно важен. Определение чина действующего лица уже есть его характеристика. В России, где все люди, кроме крепостных, поделены на ранги, это имеет решающее значение. У Гоголя часто мелькает образ лестницы, который то и дело двоится: с одной стороны, это лестница иерархическая, по которой хотел бы подняться герой, с другой — это лестница духовного возвышения и просветления. Табель о рангах, в которую обречен быть занесенным почти каждый смертный (военный он или гражданский), и есть по существу лестница, ибо любая ступень в ней находится выше или ниже другой. Узкая лестница, ведущая на четвертый этаж (который Гоголь называет еще «чердаком»), сменяется раззолоченной лестницей в доме какого-нибудь вельможи («Невский проспект»), по лестнице бежит за незнакомкой Пискарев (бежит навстречу своей гибели), по ней поднимается к «значительному лицу» (тоже идя на смерть) дрожащий от страха Башмачкин. Все они находятся внизу иерархической российской лестницы, и все взирают на ее верх. Пискарев у Гоголя просто никто, художник; Поприщин — титулярный советник; титулярный советник и Башмачкин. Шпонька поручик, поручик и Пирогов, только Платон Кузьмич Ковалев (да и то на Кавказе) сумел выбиться в коллежские асессоры (восьмой класс). Чины героев Гоголя будут колебаться от четырнадцатого (самого низшего) до шестого класса, но выше шестого (в военные или статские генералы) ни один из них не прыгнет. То есть прыгнет, но в воображении, во сне или в сумасшествии, а не наяву. Наяву это низкое положение будет постоянно тревожить их, вызывать мысль о попранном самолюбии, об обиде, которую нанесли им обстоятельства и природа. К социальной несправедливости примешивается и несправедливость природы, которая не дала им ни сил, ни времени, чтобы подняться. Все они если не перевалили за средний возраст, то подошли к среднему возрасту. Лишь Пискарев, Чартков и поручик Пирогов молоды, Ковалев, Башмачкин, Поприщин, Иван Иванович и Иван Никифорович, герои «Старосветских помещиков» могут лишь вспоминать о своей молодости и о мечтах ее. На всех на них надвигается «ведьма- старость», увядание, угасание, холод жизни, который кажется Гоголю еще страшней, чем социальное прозябанье.
Комедией жизни назвал Белинский повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. «Смешная комедия, которая начинается глупостями, — писал он, — продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнью».
Еще и в этом ужас положения гоголевских «мечтателей». Жизнь как бы смеется над ними, отпустив им слишком короткий срок и дав лишь мгновение на то, чтобы очнуться и познать себя. И что толку от этой минуты прозрения? Жизнь прожита, второй не будет, и в этой жестоко являющейся истине ничего не изменить. Не стать Ивану Никифоровичу стройным молодцом, не стрелять из ружья его соседу, Афанасию Ивановичу не вернуться к тем годам молодости, когда служил он в кавалерии, крутил ус и увез однажды юную Пульхерию Ивановну. «Скучно на этом свете, господа!» — этот возглас Гоголя в конце «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» относится не только к скуке и тоске их жизни, но и к неумолимости закона, который заставляет людей сначала мечтать, надеяться, верить, а потом готовит им разочаровывающий конец. Даже первые строки повести, где рассказывается о бекеше Ивана Ивановича, о поеданье им дынь и производстве многочисленных детей с помощью дворовой девки Гапки, отдают каким-то изобилием жизни, какою-то полнотой ее, еще не подозревающей о выдыхании и старости. Даже и толщина Ивана Никифоровича, его грубое обжорство, шаровары, в которые можно было бы поместить весь двор с амбарами и строением, его привычка пить чай, сидя по горло в воде, как и сама миргородская лужа, разлившаяся без краев по площади городка, есть проявление мощи физического существования, которое хоть и бессмысленно, но не ущербно. И лишь вопрос Ивана Ивановича: «Чего ж еще нет у меня? Хотел бы я знать, чего нет у меня?» — вопрос, который и заставит его обратить внимание на висящее на дворе соседа ружье, — выведет эту жизнь из равновесия. И дальше начнется распад ее, начнется стремительное угасание, и растрата сил, и пресыщенность летнего малороссийского полдня, где все — даже пустые горшки на кольях изгороди — кричит об избыточности, о достатке, о своего рода здоровье, — сменится блеклостью осенних полей, где трава выглядит как мертвая, где небо не светит и не греет, а под ногами уныло чавкает непролазная грязь. Печаль по несчастной участи двух миргородских «мужей», положивших весь свой «гений» на тяжбы и склоки, иссохших от этих тяжб и взаимной ненависти, соединится с печалью по поводу участи человека, который так или иначе должен вступить в свою осень, а за нею и в зиму.
Гоголь, кажется, дает своим героям последний шанс спастись — он сводит их в церкви, где легче всего простить друг друга и забыть обиды. Но расходятся в разные стороны Иван Иванович и Иван Никифорович, прежняя вражда пожирает их — и покидает городок потерявший надежду автор, тройка «курьерских» увозит его прочь из Миргорода.
Этот отъезд не только художественный прием Гоголя, но и попытка хотя бы в движении преодолеть омертвение быта. Вот почему и герои Гоголя, потерявши покой, стремятся покинуть насиженные места, перенестись в какие-то иные страны — и в иное время — и опередить надвигающуюся старость. Вот отчего рвется Поприщин сначала в Испанию, а потом назад, в детство, к окошку матери. Вот отчего Павел Иванович Чичиков задумается в конце своего пути о возвращении — это он-то, привыкший гнать свою тройку только вперед! Вернуться захочет и майор Ковалев (вернуть себе нос, человеческое лицо), и Пискарев (в котором — в минуты его безумной влюбленности — Г оголь видит «дитя»), и Башмачкин, в интонациях которого слышится «голос ребенка», и художник Чартков. После посещения академии, где он — уже маститый маэстро — увидит картину своего сверстника, создавшего в тишине уединения шедевр, он станет перед холстом и, позабывши трафареты и штампы, постарается изобразить «отпадшего Ангела». Но рука его будет съезжать на «затверженные формы», кисть, отвыкшая от свободы, сделается как каменная, и поймет он, что ход времени для него необратим.
Только любовь может преодолеть физическое старение и повернуть стрелку часов. Только она способна попрать закон, время и табель о рангах. На ее высоте и «смех светел», не жжет, не сечется, а радуется полноте бытия. Так радуется он в «Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке», когда герой въезжает в родную усадьбу, где встречает его лай разнородных псов, так радуется он в «Коляске», которая вся есть игра с действительностью, в «Старосветских помещиках», когда Гоголь описывает поющие двери в доме Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, в сцене пирушки Гофмана и Шиллера в «Невском проспекте» — и там, где нос майора Ковалева поднимает на ноги весь Петербург. Тут стихия смеха побеждает, кажется, саму глубокую грусть Гоголя.
Гоголю не раз приходилось оправдываться за свой смех. В «Театральном разъезде» — этом большом сценическом оправдании, где все решительно слои общества нападают на его смех, — Гоголь прямо выходит к зрителю в финале представления и произносит монолог о «побасенках». Такие выходы он предпринимал и ранее. Фигура автора появляется и в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», и в «Старосветских помещиках». Автор не просто их добрый знакомый, но и земляк: места, которые он описывает, для него близки, и в описании чувствуется небезразличие любящего глаза. Г оголь выходит вместе со своими героями на Невский проспект в «Невском проспекте», он от начала до конца сопровождает Башмачкина на его страдном пути. Его присутствие здесь не аллегорическое, не условнолитературное, когда автор является как рассказчик, как некий Рудый Панько, собирающий разные истории и записывающий их. Он — действующее лицо рассказа, страдательное лицо, и горестные вопросы героев («За что они мучат меня? Чего они хотят от меня, бедного?» — Поприщин. «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — Башмачкин. «Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие?» — Ковалев) — это и его вопросы.
Безмерною тоскою сопровождаются отъезды автора в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, и в «Старосветских помещиках», грустной иронией веет от его замечаний о «лжи» Невского проспекта, столь же грустна ирония Гоголя в «Мертвых душах». «У нас у всех много иронии, — писал он в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». — Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась... »
Все это относится и к иронии и смеху Гоголя. Их карающая сила несомненна. Но она и милует и сама, быть может, взывает к милости. Слезы у Гоголя следуют не после смеха (как писал В. Розанов), а являются одновременно с ним, они направлены не в пустоту (тот же упрек В. Розанова), а на человека. В прозе Гоголя, говоря его же словами, «уменье посмеяться» соединено с «уменьем... истинно возблагоговеть».
Смех Г оголя всегда нравствен, всегда созидателен. Он, как художник-реставратор, разрушает только то, что наслоено на душе, что годами наросло на ней, как «кора», как некое искажение, которое уродует лик подлинника. Добраться до его первозданной свежести — мечта смеха Гоголя. Оттого он трепещет при мысли, что повредит подлинник, нанесет ему урон, не высветлит до конца. Как на старинных росписях, замазанных позднейшей краской, видится ему в глубине наслоений что-то «чудное», невиданное, «идеал прекрасного человека».
Гоголь не только ищет в низком высокое, но и монтирует низкое с высоким, в контрасте их соседства обнаруживая как смешные стороны высокого, так и высокие стороны низкого. Так монтирует он внутри одной вещи прошлое героя с его настоящим или внутри одного сборника — подвиг Бульбы и подвиг любви старосветских помещиков. «Арабески» построены так же. Открывает их статья «Скульптура, живопись и музыка» — гимн идеальному в искусстве и человеке, — а заканчивают «Записки сумасшедшего». Под обложкой «Миргорода» уживаются и доблестные козаки из «Тараса Бульбы» и Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Эта идея близости двух сторон жизни, идея воссоединения их главенствует и в «Мертвых душах», где за первым томом должен был последовать уравновешивающий его второй, и в новой редакции «Портрета», и в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Ибо и эта книга, с одной стороны, упрек Гоголя, а с другой — гимн Гоголя. «Соотечественники, страшно! Страшна душевная чернота» человека — вот один ее мотив; «Соберемся, как русские в 1812 году», станем весь народ как «один человек» — второй.
На этих весах колеблется проза Гоголя. Она то, кажется, склоняется в сторону смеха, то в сторону слез, но стоящий в середине образ автора выравнивает весы. Причем в «Выбранных местах...» (1847) это уже сам Гоголь, это его жизнь и его исповедь. Гоголь создает здесь образ самого себя — образ гения, остро чувствующего раскол — раскол в обществе, в человеке, в самом себе. Разрыв мечты и существенности проходит как бы по его душе, и он стремится воссоединить их хотя бы ценой собственной жизни. Тут же не литература, а выход за пределы ее, тут «душа» и «дело жизни». На этом пути самовыражения Гоголь готов даже... преодолеть Пушкина. «...Еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина, — пишет он, — еще никто не может вырваться из этого заколдованного очертанного им круга...»
«Преодоление Пушкина» связано не с недостаточностью Пушкина (который, как считает Гоголь, полнее всех охватил русского человека), а с недостаточностью средств поэзии для открытого контакта с читателем. Именно этого контакта, подразумевающего и открытое влияние, и ищет Гоголь. Ради него он идет на разрыв заколдованного круга искусства, в котором ему тесно. Гоголь делает шаг в сторону преодоления дистанции между «делом литературы» и «делом жизни», смешивая поэзию с прозой, «урок и поученье» с «живыми образами», судьбу России — со своей судьбой.
Попытка разбить «заколдованный круг» оказалась трагической.
Опыт «Выбранных мест... » заставил его вернуться назад — к «живым примерам» и «живым образам».
Выход, предпринятый им в его «несчастной книге» (он сам назвал ее так), дал ему ощущение права искусства оставаться искусством. Уже во втором томе «Мертвых душ» (1841—1851) чувствуется эта свобода Гоголя в родной ему стихии изображения, обретенная ценой пребывания за пределами «круга» поэзии. Круг уже не круг, он размыкается, он разомкнутыми своими концами уходит в бесконечность.
Так уходишь в бесконечность, пытаясь исследовать прозу Гоголя. Гоголь часто называл ее «загадкой». Он говорил про свои сочинения: в них загадка моего существования и загадка России. В самом деле, русская черта публичности, жажды публичного воплощения и откровения как нельзя сильней выразилась в Гоголе. Русский максимализм и порыв охватить всю жизнь и всего человека слышатся в его исканиях и потерях. Гоголь весь на виду, и Гоголь весь внутри, приближаясь, он уходит, удаляясь, приближает нас к себе более, чем когда-либо. В одном мерном течении его речи есть какая-то таинственность, неразгаданная истина о русском человеке. В самих недомолвках, заиканиях, многоточиях, в его диалогах заключено нечто фантастическое. Одно «пуф-пуф-пуф» генерала в «Коляске» чего стоит: нет человека (ни слова о его лице, привычках, жестах) — и с головы до ног схвачен он, я уж не говорю про речь почтмейстера, рассказывающего в «Мертвых душах» о капитане Копейкине. Опять-таки это имя: Копейкин. Смешное имя, и вместе с тем не может без него обойтись герой Гоголя. Копейка — мелкая монета, копейка может побывать в руках у всех, из копеек рубли складываются, тысячи. У копейки нет никакой надежды стать рублем, но и без копейки рубль не рубль и государство не государство. С копейки начинается Чичиков, копейки пересчитывает в своих карманах Поприщин. Башмачкин на эти копейки живет. Все они копейки, капитаны Копейкины, а один из них (сам Копейкин) поднимает смуту на всю Россию и заставляет переписываться с собой самого императора.
Или Вытребеньки. Так называется хутор Ивана Федоровича Шпоньки. Название как название, кажется, даже смешное. А «вытребеньки» — это по-украински причуды. Причуда и сам Шпонька, и мир Гоголя, населенный такими Шпоньками. Если попробовать поглубже заглянуть в повесть Гоголя и связать страх героя перед женитьбой с историей его появления на свет, то и страх этот объяснится иначе, и сама повесть раздвинет свои границы. Ведь Иван Федорович, собственно, неизвестно от кого родился: то ли от батюшки своего, то ли от соседа, который в отсутствие батюшки наезжал к его матушке. К тому же этот сосед перед смертью завещал почему-то свою деревеньку Ивану Федоровичу. Вот и гадай тут, чего боится Шпонька — будущей жены или оскорбления своей мечты в виде измены, в виде призрака и обмана брака? Может быть, ужас этого оскорбления и повергает его в кошмарные сны?
Проза Гоголя неожиданна в своих откровениях, в поэтическом прозрении существа действительности и ее парадоксов. Мы уже говорили о том, как Гоголь относится к истории. Всюду она присутствует как фон при совершающемся действии, бросая свои отсветы на него. В свою очередь происходящее на ее глазах не остается в долгу и платит ей тою же монетой. Исторический фон у Гоголя, как правило, комичен, исторические имена и лица поминаются в самых неподходящих для них случаях — когда в повести или поэме происходит нечто весьма прозаическое и неисторическое. Так, Чичиков торгуется с Собакевичем в виду героев греческого восстания, изображенных на картинах, и «маленького Багратиона», которого задавила нога какой-то — тоже исторической — греческой героини. В домике Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны висят портреты герцогини де Лавальер и Петра III, засиженные мухами. В «Мертвых душах» много раз обыгрывается имя Наполеона.
Так же иронически являются в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче 1812 год, а в «Записках сумасшедшего» — реальная борьба в Испании за престол. Как ни благоговейно относился Гоголь к 1812 году, он все же использовал его как наиболее близкое ему историческое событие для того, чтобы оттенить значение одного человека перед лицом великих потрясений.
Называя Ноздрева в шутку «историческим человеком», Гоголь вполне серьезно считал историческими (в поэтическом значении этого слова) и Шпоньку, и Поприщина, и всех своих героев. Нет истории нации без истории личности, в каких бы низах она ни обреталась, — эту историческую истину утверждали в русской литературе «Шинель» и «Нос».
Как-то желая досадить имени Гоголя, Фаддей Булгарин, его вечный завистник и недоброжелатель, назвал автора этих повестей «Рафаэлем пошлостей». Он и не догадывался, как льстил Г оголю, как, сам того не ведая, высоко поднимал его имя. Одно дело быть Рафаэлем, работая на материале идеальном, очищенном от суеты и «грязи» жизни, другое — там, где ни один светлый луч не залетает в окно, где пахнет дешевыми сальными свечами и казенною бумагой для переписыванья. «Тем выше нужно быть поэту...» — писал Гоголь.
И он достиг этой высоты.
1976 г.
МЕРТВЫЕ ДУШИ
Эх, ты, Русь моя! Моя забубенная, разгульная, расчудесная, расцелуй, люби тебя бог, святая земля... Дрожу и чую с слезами в очах, слышу широкую силу и замашку, когда гляжу на эти потерявшие конец степи.
Гоголь
Вглядываясь в материк русской прозы, скрытый от нас уже туманом столетия, мы видим мощное родоночальное образование, откуда, как реки с возвышенностей, истекают полные воды.
Это «Мертвые души» Гоголя.
Белинский, по его собственным словам, «отчитывался» «Мертвыми душами» в Зальцбрунне — то есть снимал тяжесть западных впечатлений, Достоевский знал поэму Гоголя чуть ли не наизусть, да и кто из русских людей не кончал своего университета по Гоголю? Герцен в ссылке, Чаадаев в Москве, молодая Россия в столицах и провинциях, западники и славянофилы, семинаристы и дворянские интеллигенты и даже «свет», окаменевший свет, ничего не читающий, кроме французских романов, — все прошли школу «Мертвых душ».
По этой поэме, как по поэмам и сказкам Пушкина, по героическим былинам и одам, учились любить Россию.
Он проповедует любовь Враждебным словом отрицанья, — писал о Гоголе Некрасов.
Гамлет наш! Смесь слез и смеха,
Внешний смех и тайный плач, — восклицал князь П. Вяземский.
Надо ли говорить, что без «Мертвых душ» не было бы «Войны и мира», где лучшие свойства русской натуры, которые хотел изобразить в последующих томах своей поэмы Гоголь, встали во весь рост и где явились и «муж, одаренный божескими доблестями», и «чудная русская девица... со всей дивной красотой женской души»? Надо ли говорить о том, что романы страстей и романы идей Достоевского были бы невозможны без Чичикова, без его капитальной идеи о «копейке», которой все перешибешь и которая не продаст и не выдаст, в то время как близкий приятель и друг продадут и выдадут?
Влияние Гоголя на нашу литературу было прежде всего влияние «Мертвых душ». Тут был задан масштаб, дана панорама, в которой жизнь России хоть и отразилась как бы в перевернутом зеркале — как отражаются в стекле вод стоящие по сторонам этих вод горы и леса (любимый образ отраженного мира у Гоголя), — но отразилась во всей широте русской замашки.
1
«Мертвые души» часто сравнивают с «Илиадой». Да и сам Гоголь не очень спорил с теми, кто сопоставлял его поэму с поэмой Гомера. Косвенно он давал понять, что сходство есть — не в материале, а в масштабе, в замысле и в духовном просторе, который он стремился обнять. Простор накладывался на простор. Чичиков в отличие от своих предшественников вырывался. До него, может быть, один Тарас Бульба смог это сделать. Колдун в «Страшной мести» пытался, но уперся в стену Карпатских гор. Поприщин улетал на тройке в воображении, Хлестаков — где-то за сценой и не так уж далеко — в Саратовскую губернию. Чичиков же, судя по его подорожным, сумел везде побывать — и на севере, и на юге, и на Волге, и бог знает где. Он и на границе служил, и Малороссию объездил, и в Белоруссии и Польше побывал. Он вольный казак в отличие от своих прикрепленных к департаментским стульям предшественников. Он перекати- поле, он «запорожец» в некотором роде, хотя и носит чин коллежского советника. По чину ему положено было бы сидеть на месте, расти на этом месте и произрастать, накапливать крестики и оклад, пенсию и движимое-недвижимое. Он же волею судеб брошен в житейское море и носится по его бурным волнам, как челн (мы повторяем этот образ потому, что он образ Чичикова), ломая в щепы борта и обрывая парус, прибиваясь и не прибиваясь то к одному берегу, то к другому.
Чичиков, надорвавшись на легких предприятиях (имевших, правда, в перспективе капитальную цель), ищет покоя и прочности. Он хочет осесть, перестать ездить — и для того ездит.
Сравнивая его с прежними гоголевскими героями, мы видим, как противоположен он им, как замешен совсем на иных дрожжах, как даже готов отречься от них, посмеяться над ними, над всеми их воздушными замками, немотствующими невинными красавицами, Испаниями, орденами Владимира III степени. Он «хозяин», «приобретатель», не вертопрах. Я бы назвал его реалистом в отличие от Хлестакова, Поприщина, майора Ковалева и даже поручика Пирогова.
Те были романтики. Они пускались за шлейфом женского платья, который, как тот снег, который черт напускает в глаза голове в «Ночи перед Рождеством», приводил их не туда, обещал им конфуз и посмеяние. Они начинали с неопределенных мечтаний и упований на случай, на бог знает что — Чичиков начал с копейки. С одной-единственной, неделимой, которую превратил в пятьсот тысяч. Не в том смысле, что копейку эту пустил в оборот (на самом деле была полтина, которую оставил ему отец), а копейку души своей положил в основание того Дома, который он собирается строить где-то в Херсонской губернии.
Вспомните дорожную шкатулку Чичикова — это же поэма! Это поэма о приобретательстве, накопительстве, выжимании пота во имя полумиллиона. Там все в порядке, все разложено по полочкам — и чего там только нет! И сорванная с тумбы городская афиша, и приглашение на свадьбу, и театральный билет, и какие-то записочки, счетца. И гербовая бумага лежит отдельно, и деньги в потайном ящичке, и приспособления для туалета. И романчик всунут на случай праздного препровождения времени. Та же куча Плюшкина, только не растрепанная, неорганизованная, бессмысленно наваленная, а приведенная в симметрию, где каждый предмет — к делу, где все спланировано, лишнее отметено, нужное не позабыто. Куча Плюшкина — это бессмысленное накопительство и уничтожение накопленного, шкатулка Чичикова — уже предвестие деловитости Штольца, да и сам Чичиков говорит, как бы обещая гончаровского героя: «Нужно дело делать».
Да, Чичиков реалист, да, он не Хлестаков, не Поприщин, не Собачкин, не Ковалев. Да, его надуть трудно. Сам он надувать мастак. Но мечта Чичикова в той ситуации, в которой он действует, — разве не мечта? Разве это тоже не некая ненадежность, некий воздушный замок, хотя и выстроенный, кажется, на прочном фундаменте миллиона? Почему же то и дело сгорает и прогорает гоголевский герой, почему его аферы, сначала так возносящие его вверх, всякий раз лопаются, не удаются? Риск, закон риска? Конечно. Ведь он плутует, а плут не может не рисковать. И из взлетов и падений состоит жизнь плута — таков уж закон. Но все же, по все же...
Смог ли бы отъявленный и прожженный плут так довериться Ноздреву, так ему сразу и ляпнуть насчет «мертвых»? Разве не понял бы он, что Ноздрев все разболтает? Афера Чичикова фантастична, романтична, потому что действует он в фантастической стране, и он вынужден, несмотря на логику своего «приобретательства», подчиняться законам действительности. Он вынужден увлекаться против своего желания, он не может иначе, потому что дело делать там, где он плутует, по законам дела немыслимо. Потому что тут, с одной стороны, — Собакевич, который все понимает и будет врать до конца, который молчун и себе на уме, а с другой — пребывающий в именинах сердца Манилов, который может брякнуть об деле совсем не по-деловому, или Коробочка, которая вовсе не понимает, что на свете происходит, и простодушно отправляется в город, чтобы узнать, не продешевила ли она «мертвых»?
Тут хаос, неразбериха, никакого закона — и потому незаконен при этих условиях пытающийся «законно» плутовать Чичиков, плутовать по своему внутреннему «закону» плутовства, то есть в согласии с логикой и расчетом. Логика и расчет прекрасная вещь, но они отказывают там, где только безумие и несобранность могут спасти, русское авось, как расцепляются вдруг, сами по себе, неизвестно отчего сцепившиеся по дороге тройка Чичикова и шестерня губернаторской дочки, и не могут им помочь в этом бестолковые усилия дяди Митяя и дяди Миняя.
Задумывая свое очередное «дерзкое предприятие» — аферу на таможне, — Чичиков математически вычисляет его, готовит, подготавливает. Он не надеется на случай, на какое-то постороннее вмешательство чудесных сил. Он не сидит и не ждет (как Подколесин, например), что счастье само свалится на него с неба. «Тут в один год он мог получить то, — пишет Гоголь, — чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы». Но как ни строил это предприятие Чичиков, как ни мастерил и ни подстраховывался заранее, полетело прахом ловко задуманное предприятие и исчез, как облако, уже схваченный им миллион. И из-за чего? Из-за пустяка, из-за бабы.
Началось все, как в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. «Черт сбил с толку... перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника (своего компаньона по «предприятию». — И. З.) поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему — обиделся жестоко... «Нет, врешь: я статский советник, а не попович, а вот ты — так попович!» И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да, вот, мол, что!» Последовал донос, но и «без того была у них ссора за какую- то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа...». В итоге «бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев», а Чичиков и его оскорбитель были изгнаны со службы и взяты под следствие.
Ну скажите, какой же тонкий плут себе такое позволит, какой «хозяин» так неосторожно осечется? Да он обласкает этого дурака статского советника, скажет ему: «Конечно, не ты, а я — попович, и возьми себе на здоровье эту бабенку, только мои полмиллиона при мне оставь» (впрочем, последние слова он произнесет про себя), и он его до дому доведет, если тот выпивши, и спать уложит. «Холодные приобретатели» так не горячатся. Тут страстность видна, амбиция, тут о чести вспомнилось — и взыграла кровь. Да и слабость — слабость к женскому полу — подвела. Тому, кто решается на миллионное предприятие, это не к лицу. Сжав зубы, должен он отказаться не только от бабенки, но и от отца родного. Это романтик себе может позволить, мечтатель, а не тот, кто задумал в один год перескочить двадцать лет. Реалист Чичиков срывается на романтизме, на недостаточной холодности, железности. Неся в себе все черты «подлеца», он все же подлец какой-то странный, с заскоками, с отклонениями в чисто русскую сторону (взяли, выпили — и рассорились), в какие-то хлестаковские прыжки и поприщинские безумства.
А история с губернаторской дочкой? Разве не она подвела его окончательно? Разве не на ней он срезался и выпустил из рук, может быть, уже готовое порхнуть ему в руки счастье? Не пренебреги Чичиков вниманием городских дам, обделай он свой интерес к губернаторской дочке тонко, тайно, не публично — все было бы прекрасно, и, глядишь, сосватали бы его те же дамы и под венец отвели да еще говорили бы: «Какой молодец!» А он рассиропился, он на балу свои чувства выказал — и тут же был наказан. Не ополчись на него губернский женский мир, сплетни Ноздрева и россказни Коробочки ничего бы не сделали. Те же дамы снесли бы их в мусорный ящик. Но пламя разгорелось из-за них.
Как всегда у Гоголя, в дело встряла женщина, и полетело вверх тормашками дело, лопнула логика, рухнуло предприятие, затевавшееся ловким мужским умом.
Застыл наш герой перед куклой-красавицей (Гоголь называет ее и статуей, и игрушкой из слоновой кости — все сравнения мертвые), неосмотрительно потерялся, замешкался на миг и заварил кашу. Сначала он об этой губернаторской дочке как-то отвлеченно подумывал, вроде того «славная бабешка!», но мысли те за пределы расчета и «на всякий случай» не выходили. Засек в памяти ее лицо, отложил в свою внутреннюю шкатулку и покатил дальше. Это по-хозяйски, по-чичиковски. Но «пассаж» на балу, восстановивший против него всю женскую половину города, — это уже из другой оперы. Так забыться мог разве Иван Александрович Хлестаков или какой-нибудь Пискарев, а не Чичиков.
То и дело срывается герой поэмы в эту стихию своих предшественников и собратьев, срывается с холодных высот эгоизма и беспредельного нюха на реальность. Так вываливается он однажды буквально в грязь, когда подвыпивший Селифан, сбившись с дороги, заезжает со своей тройкой в канаву.
Падения Чичикова позорны и конфузны, они напоминают падения гоголевских хвастунов и мечтателей, испанских королей и разочаровавшихся идеалистов. Но в отличие от них он вновь берется за дело.
Обтерев грязь со своего фрака и припрятав кое-какие оставшиеся деньжонки, он в который раз начинает с нуля, не отчаиваясь, не сдаваясь, а лишь «съеживаясь» и собирая свою волю в комок. Эти героические усилия Чичикова выдают в нем в некотором роде героя, хотя героизм Чичикова комичен — он преследует ничтожные цели. Да и сам приступ неприступной крепости миллиона выглядит в поэме пародией на героику, ибо штурмуется все-таки миллион.
Вся поэма есть некая гигантская пародия на исторические события в мировом масштабе и, являясь русской Илиадой, вместе с тем иронически осклабливается в сторону старца Гомера. Сама история в форме ее чрезвычайных и героических проявлений, кажется, является объектом пародии Гоголя, ибо в его «истории» все обыкновенно: и герой, и местность, и масштаб, и предмет раздора.
Историческая тема, можно сказать, въезжает вместе с Чичиковым в город NN. Не успевает он расположиться в трактире и заказать себе сосиски с капустой, как на него взглядывают с исторических полотен исторические лица, которым предстоит созерцать его русский обед. Чичиков поедает свои сосиски, мозги с горошком, пулярок и пирожки, а исторические герои, смотрящие с картин, только облизываются. История встречает его и в столовой Манилова: дети хозяина оказываются Алкидом и Фемистоклюсом, и между ними разыгрываются военные действия, состоящие в том, что Фемистоклюс кусает Алкида за ухо. Чичиков даже поднял несколько бровь, пишет Гоголь, услыхав это «отчасти греческое имя». Появление античных имен в соседстве с соплей, которую готов уронить в суп Фемистоклюс (в этом прибавлении к имени Фемистокла «юс» есть нечто бесконечно снижающее исторического Фемистокла), и бараньей костью, которую грызет Алкид, обмазывая себе щеки жиром, в мирнейшей и сахарнейшей Маниловке производит комический эффект.
Но тема истории не прерывается на этом. Даже на стене дома Коробочки, куда уже ей (истории) вовсе незачем заглядывать (Манилов все-таки бывший офицер) висит не кто иной, как Кутузов, напоминая Чичикову о славных делах своего отечества, на которые так мало похожи его, чичиковские, неблаговидные поступки.
Как тени сопровождают Чичикова в его странствиях образы всяческих всадников и полководцев, вождей революций и мировых знаменитостей. В доме Собакевича «на картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Колокотрони, Миуали, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу...».
И все время, пока между Собакевичем и Чичиковым идет деловой разговор, пока они торгуются и не сходятся в цене на «мертвых», эти портреты (тоже в некотором смысле «мертвые души») смотрят на них со стен, принимая участие в торге. «Багратион с орлиным носом, — пишет Гоголь, — глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку...» Бедная история! Ей ничего не остается делать, как принимать то, что совершается на ее глазах, — она даже съеживается, уменьшается от смущения.
Когда Чичиков попадает к Ноздреву, воинственная историческая тема сходит с картин на землю. Разыгрывается сражение между шулером хозяином и хитрецом гостем, который отказывается играть с ним в шашки. Ноздрев приступает к лицу Чичикова с кулаками, как молодой поручик, воображающий себя «Суворовым», штурмующим какой- нибудь Измаил. Но через минуту этого «Суворова» берут под арест «по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами, в пьяном виде». «Суворов» попадает в руки капитан-исправника, а Чичиков, в котором дамы города NN найдут впоследствии «что-то даже марсовское», вскакивает в бричку и несется что есть духу прочь, радуясь, что сохранил бока и весь свой род для грядущего «потомства».
Впрочем, чичиковские Бородино и Троя еще впереди. Главное сражение будет дано им в городе, где и свершится тот самый «пассаж», о котором предупреждал автор читателя, пуская своего героя в поездку по губернии. Полем сражения сделается бал — бал у губернатора, где сойдутся все враждующие армии и где Чичиков будет произведен в «Марсы», а потом низвергнут, вновь поднят и опять опущен в неведомые глубины. Тут- то запляшут и затанцуют в поэме древние греки и «рыцари», все эти Зевесы и Прометеи, жрецы Фемиды и местные Маврокордато. Но до того Гоголь как бы еще раз произведет ревизию города и ревизию истории в его лице, совершив вместе с Чичиковым обход «сановников» и «властителей», палат и частных домов, где закрепится и получит законное основание его покупка.
И тогда-то и возникнет перед нашими взорами храм Фемиды — палата, где в председательском кресле восседает некто, подобный «древнему Зевесу Гомера», а в залах и передних толкутся кувшинные рыла и их жертвы. До этого мы еще побываем в страшном «замке-инвалиде» — доме Плюшкина, от которого пахнёт на нас пародией на средние века, столь же мало щадимые Гоголем, как и эпос греков. Замок Плюшкина с его «кучей» так же смешон, как «турецкие кинжалы» на степах дома Ноздрева, выделанные «мастером Савелием Сибиряковым». Столь же смешон и жалок Зевес — председатель, объедающийся семгой, выловленной другим героем поэмы — «чудотворцем» и «отцом города» полицмейстером, выловленной не в реке, а в лавках купцов, славящих своего «благодетеля». Этот полицмейстер, между прочим, участвовал в кампании 1812 года и «лично видел Наполеона». Тощий Багратион на стене дома Собакевича не герой из сказки, он современник Собакевича. Все эти Колокотрони и Миаули — тем более. Да и Суворова он еще мог застать. Во всяком случае, Суворов — современник Плюшкина, которому за шестьдесят.
Эта близость великой войны и великих событий еще более усиливает пародийность происходящего. Там настоящие Багратионы и настоящие Кутузовы скакали на конях и размахивали саблями, здесь сабля мирно ездит в бричке вместе с Чичиковым — ездит «для внушения надлежащего страха кому следует», Позже тема 1812 года всплывет в рассказе почтмейстера о капитане Копейкине, и тут мы услышим, как зазвучит в ней тоска Гоголя по героическому и жажда его.
Но то, что Гоголь называет в поэме «пассажем», очень далеко от исторических битв и напоминает тот «пассаж», который произвел в уездном городе Иван Александрович Хлестаков. Только он вложил в это дело свой гений — у Чичикова все произошло помимо его воли. Точнее, он сознательно этого не хотел, не желал, даже противился бы этому, если б узнал, что так случится. Ибо Хлестаков — человек публичный, а Чичиков — человек тайный. Он привык обделывать свои операции в тишине, ему блеск и слава не нужны, не нужны ни слушатели, ни зрители. Но такова уж оказавшаяся сильнее его сила страха. Мертвые души, соединенные с приездом нового генерал-губернатора, потрясли город. Как будто какой-то «вихорь» пронесся по мирной глади вод. И повставали со дна их тюрюки и байбаки, вылезли из своих пор какие-то Сысои Пафнутьевичи и Макдональды Карловичи, а «в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было».
Фантастика чичиковского предприятия порождает и фантастическую реакцию. Все имевшее доныне в глазах читателя (и героев) обыкновенные размеры начинает стремительно расти — растет сюжет о «мертвых душах», растет и преображается Чичиков, растут слухи, растет страх, растут неразбериха и путаница, растет и сама фантазия. Обнаруживается, что в губернии, где губернатор вышивает по тюлю, идут настоящие сражения, крестьяне бунтуют и убивают чиновников, что купцы на ярмарках дерутся насмерть и по дорогам валяются мертвые тела. А в городской тюрьме вот уже третий год сидит некий пророк, явившийся неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, и возвестивший, что грядет Антихрист. Мигом всплывают наружу в преувеличенном виде все грехи, преступления, злоупотребление законом и властью. И про дам станет известно, что многие из них способны на «другое-третье» и нет среди них той, которая не мечтала бы, чтоб ее увез какой-нибудь Ринальдо Ринальдини, за коего они и принимают на одном из этапов своего заблуждения Чичикова.
Чичиков в воспаленном воображении дам и отцов города приобретает последовательно несколько ликов. Сначала его принимают за «приятного человека», «благонамеренного человека», за «ученого человека», за «дельного человека», за «любезнейшего и обходительнейшего человека», потом возникает словцо «миллионщик», уже несколько заставляющее Чичикова подрасти в их глазах. Затем миллионщик превращается в «херсонского помещика», а с момента заваривания «каши» рост Чичикова становится каким-то лихорадочно-страшным: вот он уже и советник генерал-губернатора, и «шпион», и делатель фальшивых ассигнаций, и «разбойник», и Наполеон, бежавший с острова Святой Елены, и, наконец, сам Антихрист. В какие-то сутки с Чичиковым случается та же история, что и с Хлестаковым, — из скромной «барки, носимой волнами», он превращается в грозу губернии.
Весь город, пишет Гоголь, был решительно взбунтован. За немою сценою и ошеломлением (их в поэме несколько, каждая следует за новым известием о Чичикове) проносится этот «вихорь» бунта, который все вокруг ставит вверх ногами. На поэму, мирно сопровождающую мирно делающего покупки дельца, надвигается темная туча, и из нее следует удар за ударом — рядом сменяющих друг друга ошеломлений и пробуждений от ошеломления Гоголь доводит свою историю до трагического конца: все завершается смертью прокурора.
Первый удар раздается на балу, когда Ноздрев произносит уже в предгрозовой ситуации (при нарастающем недоброжелательстве дам к Чичикову) роковые слова: «мертвые души». Слова эти начинают работать уже сами за себя — через строку повторяет их автор, повторяют сбитые с толку герои, и вот они уже пишутся Гоголем в разрядку — мертвые души, — как будто это не просто слова, а некие письмена, загоревшиеся на пиру Валтасара. Магия произнесенного слова, явленной в нем миру тайны начинает действовать, производя тот же переворот в умах, что и словечко «ревизор» в «Ревизоре».
Вот когда начинает укрупненно играть в поэме фон — все эти исторические полотна с Колокотрони и Бобелиной, с Кутузовым и Багратионом, с «кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями», которые висят в кабинете у Плюшкина. Да, даже у него, у этой прорехи на человечестве, есть некое историческое честолюбие и причастность к мировым событиям — через эти картины, которые соседствуют, впрочем, с изображением арбузов, кабаньей морды и висящей вниз головой утки.
2
Называя себя «историком предлагаемых событий», Гоголь как бы высмеивает и свою роль летописца, русского Гомера, который вынужден повествовать не о великих деяниях своей нации, а о делах мелких, суетных и столь ничтожных, что люди, участвующие в них, выглядят не более мухи — с мухами и мушками Гоголь не раз сравнивает как живых, так и мертвых героев поэмы. Как мухи, облепившие рафинад, ползают и перелетают с места на место губернские жители на балу; как мушки, налеплены в списке умерших крестьян Плюшкина их фамилии. Сам Плюшкин сравнивается с пауком, оплетающим паутиною все живое, что находится вблизи его.
Порой содрогаешься от внутреннего холода описаний и портретов, который пронизывает первые главы «Мертвых душ». Холодом «охлажденного сердца» Чичикова, кажется, веет и на пейзаж, и на людей. Как некий «болоид», проносится экипаж Чичикова сквозь всех этих Маниловых, Коробочек, Собакевичей, и отстраненный взгляд героя, схватывающий их безжизненные черты, есть глядящий из замораживающей дали взгляд Гоголя, уже тоже почувствовавшего угасанье и холод в сердце.
Взгляните на Манилова: голова сахару, а не человек. Все в нем сахарное: и глаза, и улыбка, и губы, и речи. Коробочка — чучело, недаром в ее огороде стоит чучело, на которое надет чепец хозяйки. Собакевич весь из дерева вырублен, хватила природа топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, и, не обскобливши, пустила в свет. Большим сверлом ковырнула в его деревянном лице — вышли глаза. «Деревянное» и лицо Плюшкина. Даже у губернаторской дочки — предмета воздыханий Чичикова — не лицо, а только что снесенное яичко — и чисто оно, и прозрачно на свет, и как будто в нем жизнь светится, но от этого света холодом отдает; мертво-круглое оно, гладкое, как будто нарисованное. И разве только «молодец» Ноздрев живой — с краскою во всю щеку, с белыми как снег зубами и цветом лица, про который говорят «кровь с молоком».
Сам же Чичиков стерт, как-то усредненно-обезличен; он «господин средней руки», и все в нем среднее: средний чин, средние лета, средний вес, средний голос. И лицо среднее — не то чтоб очень полное, но и полноватое, не тощее, но и не толстое, лицо как город, в который он въехал: город так себе, как все города. И трактир здесь как везде, и номер в гостинице, и кушанье, которое подают в трактире, и городской сад, и вид домов (серое с желтым), и сами «сановники» города как везде — во всяком губернском городе России. Никто и ничто здесь не выдается, не высовывается, не кричит о себе необыкновенной особенностью, крупною чертой: и лавки те же, и сидельцы в лавках, и самовары, и пряники, похожие на мыло, и мыло, похожее на пряники. Чичиков точно такой же, как город: в его лице ни отметинки, ущербинки, ни мушки, ни бородавки — круглое лицо, ровное лицо, и пахнет Чичиков не своим незаменимым запахом, как Петрушка, а запахом французского мыла, голландских рубашек и душистой водой — бог знает чем, только не человеком.
Но вот доезжает наш герой до дома Коробочки, въезжает в ворота измокший, грязный, как истинная барка, выброшенная на сухой берег волею Зевеса. Выспавшийся и обсохший, приятно забывшийся в толстых перинах, предложенных ему хозяйкой, он садится утром за стол, поедает ее блинцы, совершает сделку и готовится отправиться дальше. Мысленно подмигивая глядящему на него со стороны Кутузову и смеясь над простодушной «дубиноголовой» Коробочкой, он готов покинуть ее дом, о существовании которого через минуту уже забудет, ибо что можно вспомнить о Коробочке?
Но тут автор останавливает его. Наступает неожиданная пауза в поэме, которая как будто растворяет двери повествования, и в него входит сам Гоголь. Идет лишь третья глава, а он уж здесь — уже не выдерживает его смех, и «грозная вьюга лирического вдохновения» возникает на горизонте. Ничего не произошло: просто настала тишина, просто герой окаменел и отодвинулся куда-то в глубь сцены, и вместо него заговорил автор. Дрогнуло сердце комика, и он сам взял слово. Взял его для вопроса, для странного и неуместного восклицания, которое совсем не идет к ситуации, не соответствует блаженному состоянию Чичикова, довольного покупкой и тем, что он так ловко отделался от лишних расспросов хозяйки.
Это не первое явление Гоголя в поэме. Первое было как бы мимоходом и вскользь; рассуждая о косынках, которые носят на шее холостяки, Гоголь оговаривается: «Бог их знает, я никогда не носил таких косынок». Позже эта тема холостяка, бессемейного путника, не имеющего постоянного пристанища на земле, разовьется в поэме, и уже не Чичиков станет олицетворением этого путника, а сам автор.
Пауза на пороге дома Коробочки — это пауза поэтическая, придающая поэме лад поэмы, переводящая комическое описание, сопряженное с холодом наблюдательности, в иное русло — в русло комически-героического или трагического эпоса, в который и превращаются с третьей главы «Мертвые души». Вот это отступление: «Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилов ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами... Но мимо! мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя? Еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...»
Кажется, это не отрывок из «Мертвых душ», а страница из «Тараса Бульбы». И мы не ошибемся, если предположим, что писались они, может быть, в одну ночь или, по крайней мере, друг за другом, ибо именно в эти дни приступил Гоголь к переделке своей поэмы о запорожцах. Мы вновь слышим прежнего Гоголя — Гоголя «Бульбы», «Старосветских помещиков» и «Записок сумасшедшего». Как будто оглянувшись на дом Коробочки, вспомнил он вдруг другую помещицу Пульхерию Ивановну и подумал: это она стоит на крыльце, она, оставшаяся без Афанасия Ивановича и ушедшая от этого в свои котлеты и шанежки, в пух и перо. И у нее были свои светлые минуты, была юность, была любовь...
Смех Гоголя разбивается об это горькое и сострадательное «зачем?», которое он потом задаст почти каждому герою поэмы (Собакевичу, умершему прокурору, самому Чичикову) и которое отныне станет сопровождать его до самого конца. Эта пауза не отпадет сама собой, не выпадет из действия поэмы, а, надломив ее ритм, станет новым ритмом и интонацией повествования, новой чудной струей, вливающейся в охлажденные ее волны.
Отныне не половой будет поддерживать под руки Чичикова, а сам Гоголь возьмет на себя эти функции, правда, в переносном смысле — он не тело Павла Ивановича будет поддерживать, а разжигать в нем угасший дух. Останется ли его герой один на один с Собакевичем, он и о Собакевиче задумается, взглянет ли в глаза Плюшкину, как увидит мелькнувший в них на мгновение теплый луч. Заснет ли, укачиваемый бричкой, как приснится ему собственное детство, бедное на радости, и иным светом озарится лицо самого Чичикова.
Иная чудная струя, слившись со струей смеха, даст сплав, который есть сплав, присущий только Гоголю и, пожалуй, в чистом виде только «Мертвым душам», в которых более, чем где-либо, выразятся его отчаяние и его надежда. Рыцари, которых дамы города NN вышивают шерстью на подушках и носы у которых выходят «лестницею, а губы «четвероугольником», рыцарь Чичиков, празднующий труса в сцене с Ноздревым, рыцарь-будочник, настигающий на ногте «зверя», — это верх смеха Гоголя над упованиями своей юности и романтизмом ушедшей эпохи. С грустью признается он: «...и на Руси начинают выводиться богатыри» — и тут же пытается вызвать их тени из прошлого, но перед ним не прошлое, а настоящее, а Чичиков не Бульба, не Остап и даже не Андрий, которых, если читатель помнит, он любовно называет в своей повести «рыцарями».
Богатыри появятся в поэме, но в списках мертвых, а не в списках живых, в буквальном смысле мертвых, которых уже нет на свете и которые лишь по ревизским сказкам числятся пока живыми. Любопытный разговор происходит между Чичиковым и Собакевичем. Собакевич расхваливает продаваемых им крестьян. «Но позвольте, — сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, — ...зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.
—Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, — ...впрочем и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? — мухи, а не люди.
—Да все же они существуют, а это ведь мечта.
—Ну нет, не мечта!.. нет, это не мечта!..»
Чичиков, которому положено от имени существенности подтрунивать над мечтой, пропустит эти слова Собакевича мимо ушей. Но потом он вспомнит их — вспомнит, перебеливая списки купленных им мертвых крестьян и представляя каждого из них поименно. И вновь из-за плеча Чичикова выглянет Гоголь. «Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер... Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?»
Откуда это в «охлажденном» Чичикове? Откуда эти чисто русские, в сердцах сказанные восклицания, в нем, всегда прячущимся за книжные обороты, за вытверженные, из «светского» обихода фразы, за стертый язык гостиных и канцелярий? «И глаза его, — продолжает Гоголь, — невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто... «Мастер ли ты был, или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. — Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! Пьян, как сапожник, говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик... и был ты чудо, а не сапожник... Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может быть и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай, как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своей смертью! — А вы что, мои голубчики?» — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина: «...и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги?.. По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны... Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?.. Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни. И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканьях, зацепляя крючком по девяти пудов себе на спину... валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем, вместе с весенними льдами, бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню!».
Перечитайте эти страницы еще раз и сравните их со страницами новой редакции «Тараса Бульбы»: одно перо! Тот же тон, тот же напев и тот же «широкий разгул жизни». Как будто стихия XVII века ворвалась в меркантильный и дробный XIX век и, оживив мертвых, оживила и живых, которые давно уже почитались мертвыми, хотя и существовали на свете.
Чичиков говорит о купленных им мертвых душах: «несуществующие». Он не решается назвать их мертвыми, это слово режет его слух, но «несуществующие» — это безошибочно, это и иносказательно, и по словарю совершенно точно: для него, приобретателя, есть только то, что существует и не существует. Остановившийся перед ожившей мечтой, он и себя не узнает, и в себе слышит какие-то странные чувства, и сам как будто просыпается, восстает из мертвых.
Поэт не могильщик, он не может погребать или довольствоваться созерцанием смерти, он, как добрый сказочник, кропит действительность живою водой — и оживают давно умершие и еще живые, но мертвые душой — он воскрешает их для иного бытия. Так поэма о плуте превращается в поэму о восстании из мертвых, в поэму, где разыгрывается сражение духа с материей, идеала с действительностью, высокой «мечты» Гоголя с низкой «существенностью». В «Мертвых душах» оно приобретает вселенский масштаб и вселенский смысл. Сами пространства России порождают мысль о колоссальности усилий и размерах гоголевского замысла, само желание показать Русь не с одного боку, а «всю» соответствует этой идее. И ритм гоголевской прозы, почти переходящий на гекзаметр, как бы навевается бесконечностью русских просторов, которые он лишь за несколько глав до этого так высмеивал в речах Чичикова: «Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика...» И вот на этом пространстве, казалось бы, осмеянном Гоголем, начинают гулять Абакумы Фыровы, Пробки Степаны и Никиты Волокиты, которых вызвали из небытия его же глаз, его же воображение! Как будто козацкая вольница гуляет у днепровских порогов, поет и веселится в Сечи, а не русские мужики, пьющие горькую и кончающие свою жизнь в проруби или под забором. Недаром включил Гоголь в эти списки и беглых — беглыми крестьянами были, по существу, и его любимые запорожцы, из них, из беглых, и образовалось их вольное племя.
А вот еще один комический персонаж — капитан Копейкин. Повесть о капитане Копейкине рассказана в поэме не Чичиковым и не Гоголем, а почтмейстером — известным в городе «философом» и говоруном, который более, чем кто-либо из его коллег, читает книги,— но какая это ода среди комического повествования о пирушке у полицмейстера, среди ревизоровской толкотни и суетни! — недаром Гоголь называет ее «целою поэмою», поэмой в поэме, и героем ее выступает не кто иной, как участник войны 1812 года капитан Копейкин — с одной стороны, персонаж народного эпоса о разбойнике, с другой — копейка, последний человек в государстве, или «нуль», как говорит о нем автор. От чичиковской «копейки», с которой он начинает свою миллионную деятельность, до капитана Копейкина — один шаг.
Вновь этот вырванный Гоголем из серого цвета обыкновенности человек оказывается у подножия раззолоченной лестницы, вновь пытается он подняться по ней, протягивая руку за помощью (не только за пенсией, но и за пониманием), и вновь его сбрасывают оттуда и уводят из кабинета вельможи, сажают в «тележку» и с фельдъегерями отправляют домой. Но отмщение и здесь не медлит последовать. «Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но... вот тут-то и начинается, можно сказать, нить завязки романа... не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь ты мой, не кто другой... » И на этом обрывается повесть о капитане Копейкине. Бунт города отзовется в «бунте» Копейкина, который не захочет смириться со своей участью и подастся в разбойники. Он вольется в стихию разбойничества и «разгула», которая вдруг заплещется и заволнуется вокруг покоящегося во сне существования города. Стихия начнет расшатывать этот картонно-искусственный порядок, эту подрумяненную под древних греков жизнь, и зашатаются столпы, рухнут основы, и заколеблется все здание. Его подроют Чичиков и капитан Копейкин.
Разбойники они оба, да с разною душою, ибо Копейкин грабит по душе, Чичиков наживает. Он разбойник степенный и о делах государства менее всего беспокоится — его собственные дела интересуют, и обида его на жизнь другая. Копейкин скорей смыкается с племенем тех мужиков, которые описаны выше, с каким-нибудь Абакумом Фыровым, который, может, и приютился в его шайке, поскольку он не мертвый, а беглый. Копейкин, проведший кампанию 1812 года, бывший опорой ее (как опора русской жизни все эти Пробки Степаны и Максимы Телятниковы) — и как бы вычеркнутый из списков, — и есть один из самых живых героев в поэме, слишком уж переселенной мертвыми — как в прямом, так и в переносном смысле.
3
В финале поэмы к упоминаниям о бесконечных смертях (на обложке первого издания поэмы рукою Гоголя было нарисовано множество черепов) прибавится еще одна смерть — смерть прокурора. Именно смерть этого «незначущего» человека вдруг остановит бричку Чичикова и перережет ей дорогу на выезде из города. Прокурор, умерший от страха, не выдержавший напора слухов о Чичикове и сотрясения всей жизни,
—это как бы продолжение немой сцены в «Ревизоре», это паралич, перешедший в смерть, и это — как ни парадоксальна сия операция — есть оживление его в глазах читателя. Что было в этом человеке до факта его смерти? Ничего. Брови и подмаргивающий глаз. Это был какой-то манекен, кукла с заводным механизмом — без души, без дыхания. А как «хлопнулся со стула навзничь» и прибежали и увидели, что он уже одно бездыханное тело, — «тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он, по скромности своей, никогда ее не показывал... левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал: зачем он умер, или зачем жил, — об этом один бог ведает».
Вопрос на лице мертвого прокурора, при жизни не задававшего никаких вопросов, уже есть его посмертная жизнь в поэме, и она-то дает повод для нового отступления автора, для очередной и, быть может, самой значительной паузы в ней, когда, остановив движение «сюжета», Гоголь прерывает повествование и обращается прямо к читателю.
«Но это, однако ж, несообразно! Это несогласно ни с чем! Это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях, или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово дурак (выделено Гоголем — И. З.) и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему... Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил, как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону, дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями; но мимо его, в глухой темноте, текли люди. И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями (огни миллиона. — И. З.), умели — так и добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: «Где выход, где дорога?» Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки».
В поэме о плуте, о злоупотреблениях по службе, о взятках и скупке «мертвых душ» и вдруг эта великая цель? Уже во «всемирную летопись» вписывается замысел Гоголя и его герои, которых читатель, поддавшись сарказму автора, склонен был считать ничтожнейшими из ничтожнейших. Как считал он до сей минуты ничтожнейшим прокурора, смертью своею давшего повод к этому рассуждению. Нет, не хочет вычеркивать Гоголь свое время и свой век из всемирной летописи, наоборот, он смело вписывает их на ее страницы. Он в ничтожно влачащейся жизни видит великое заблуждение. Вырисовывается в перспективе этого отступления вся даль гоголевского замысла и контуры уже обещанных им читателю последующих частей поэмы, которые должны вывести ее и героев на прямой путь, ибо лишь он и есть выход, есть восхождение к храмине.
Народу в поэме отдана роль зрителя, и лишь в списках мертвых он выступает как подлинный герой и подлинная Русь, к которой обращается в конце поэмы Гоголь. Мужик-зритель, мужик-резонер, мужик — автор комических реплик, иронизирующий над Чичиковым и его партнерами, оживает, и выясняется, что вовсе он не безразличен, не покорен и историческое безмолвствование его в поэме — молчание до поры до времени.
Почесывание в затылке, которым то и дело занимается чичиковский Селифан, всегда означающее бог знает что, — таинственный жест. Селифан не торопится — это его Чичиков погоняет, велит спешить, как подгоняет он и «разбойников» кузнецов, нарочно канителящихся полдня с его рессорою. Кузнецы-разбойники — кузнецы- хитрецы, они знают свое дело, но им охота поморочить барина да содрать с него подороже, их роль — ироническая, как и у Селифана. Да и разве хочется Селифану уезжать из города, где завелась у него, быть может, любовь и было «вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью, и плетет тихие речи разночинный, отработавшийся народ... »
Неожиданный лиризм, проглядывающий в этом куске о Селифане, кажущемся фигурой комической, забубенным пьяницею, как бы высветляет другим светом этого мужика, волею судеб оказавшегося кучером Чичикова. Нет, этих людей Гоголь не собирается «вычеркивать» из истории, как ни необъятна она, как ни величественны пишущиеся в ней «письмена», — тем более мы знаем его отношение ко всем этим Колокотрони и Наполеонам, да и сам Селифан дает нам лишний повод улыбнуться в их адрес: осерчав на своего пристяжного, чубарого, он кричит ему в сердцах: «Бонапарт проклятый!» Бонапарт, запряженный в бричку Чичикова, да еще рядом с Заседателем (так зовут другого коня), — это смешно! Это насмешка и над Чичиковым — «переодетым Наполеоном», — и над императором французов, который, завоевав полмира, должен теперь в образе этого чубарого тащить «подлеца», а может быть, своего двойника — по крайней мере, очень похожего на него внешне.
Кажется, это Чичиков ищет свой миллион и свой «клочок» земли в Херсонской губернии, но это Гоголь плутает вместе с ним по дорогам России и по дорогам его души, которая и не подозревает, какой простор заключен в ней. «Какой же русский не любит быстрой езды!» — этот возглас Гоголя относится и к Чичикову. Ибо и Чичиков может чувствовать нечто «странное». И он искатель и путешественник, который не только версты глотает и ассигнации подсчитывает, но и способен на «отступления» и «паузы». Преодолевая огромные пространства России, Чичиков движется со своей бричкой как бы и в ином измерении, по дорогам непознанного в человеческой душе. Там нет верст и шлагбаумов, там все бесконечно и невидимо для равнодушных очей, и загадка бессмертия таится в этой дали. Недаром, задумываясь о душе Собакевича, спрашивает себя Чичиков: а ведь есть и у Собакевича душа. Только где она? Зарыта где-то глубоко, как у Кощея Бессмертного.
Тема смертности и смерти, тема «существенности», которая всегда смертна и конечна, пересекается здесь с темой бессмертия и неограниченности духовного простора, который становится полем действия поэмы Гоголя. Оттого в ней, как в «Страшной мести», далеко делается видно во все концы, но взор уже не упирается в стену Карпатских гор: горизонт ничем не ограничен, да и нет, собственно, горизонта, а есть ужас и восторг бесконечности, объемлющей автора и героя: «И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в глубине моей... »
Нет, не только Чичиков, как и его автор, способны в поэме на поэтические вопросы. Их задает даже Собакевич — этот «медведь» и поедатель трехаршинных осетров, от которого до поэзии, кажется, как от земли до луны. «Хоть и жизнь моя? — говорит он. — Что за жизнь? Так как-то себе... » Более ничего не может он к этому добавить (кроме того, что живет пятый десяток лет и «ни разу не был болен»), но тоска слышится в его словах, хотя и комически звучит вопрос Собакевича и сам он, кажется, смеется над ним. Но у Гоголя всюду так — по форме смешно, а по существу — грустно. И почему-то грустно становится от этого признания Михаила Семеновича, и уже «другим светом» освещается его лицо.
Само движение Чичикова в поэме представляет загадку. Куда он торопится и зачем? За новыми мертвыми душами, за капиталом, за имением в Херсонской губернии, где ждет его идеал Выжигина, все это уже давно получившего? Нет, Чичиков в поэме едет куда-то не туда, он явно несется в своей тройке назад — не к будущему, а к прошедшему, к детству своему, к началу, описанием которого и заканчивается первый том «Мертвых душ». Странный круг описывает герой Гоголя. Начав с конца, он движется к своим истокам, как бы подбирая по дороге то, что растерял с юности. Тема возврата, возвращения и обретения молодости звучит в этом финале поэмы. И как грозное напоминание о необходимости этого движения перерезает на выезде из города дорогу Чичикову траурная процессия.
Смерть в своем реальном лике встает здесь на пути героя, чтоб напомнить ему о суде, о возмездии. Смерть до этого являлась на страницах «Мертвых душ» лишь метафорически, переносно — здесь гроб прокурора проезжает перед глазами Чичикова. Идея Страшного суда, так комически обыгранная в рассказах о слухах про похитителя губернаторской дочки, с этого момента начинает звучать серьезно. Страшный суд — это ответственность за те «кривые дороги» и «болотные огни», на которые не раз льстилось человечество (и польстился гоголевский герой), это идея возмездия, которое неминуемо для тех, кто предал «лучшие движения» своей души, отказался от них, попрал их. Расплата за них уже видится Гоголю в старости и угасании — предвестии физической смерти и факте смерти духовной.
Вот почему начинает звучать в поэме параллельно с темой Страшного суда тема молодости, юности, свежести, как той поры в жизни человека, когда еще не поздно познать себя и спастись. Как бы с вершины этого — грядущего для каждого человека — суда раздается его обращение к читателю в главе о Плюшкине: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, — забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «здесь погребен человек»; но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».
Именно после Собакевича Чичиков должен был заехать к Плюшкину, потому что уже сложилось в его душе это странное состояние — состояние вопроса, уже задал он его сам себе и читателю, — и неминуемым был грозный перст предупреждения в лице Плюшкина — перст, приводящий его к встрече с подлинной смертью в конце поэмы. Весело-прозаически начиналась она: въезд в город, объезд чиновников, приятные разговоры, приятные вечера. Потом следовал комический Манилов, не вызывающий пока никакой тревоги, потом Коробочка, когда что-то шевельнулось в левой стороне груди у героя, а точнее, у автора. Потом как бы глушащий эту тревогу балаган Ноздрева — и вот Собакевич с его душой, спрятанной на дне тайника, и образ старости, предвещающей Смерть.
Комическое путешествие заканчивается трагически, и трагизм пронизывает заключительные строки «Мертвых душ» о летящей в неизвестность тройке. Она пока как бы еще без ума летит, абы куда летит, и Гоголь наслаждается самим ее полетом, вихрем движения, но вопрос «зачем?» все же не заглушается этим поднимающим пыль вихрем. И вовремя попадается ей на дороге фельдъегерь, готовый съездить Селифану по усам за то, что не посторонился, не увидел, кто скачет навстречу: Гоголь помнит, кто едет в бричке, и куда едет, и где пролегает дорога. Это не конец, а начало ее, и апофеоз «быстрой езды» не ответ на вопрос: «Где выход? Где дорога?»
Перед этим финалом Чичиков засыпает, успокоенный своим удачным бегством из города, и будто бы во сне видит собственное детство — о нем рассказывает нам автор, как бы заворачивая гнедого, Заседателя и чубарого на несколько десятилетий назад, в то время, когда Павлуша Чичиков еще не был Павлом Ивановичем, а Россия не знала нашествия Бонапарта. Этот-то рассказ о детстве Чичикова и даст потом разгон его тройке, подхватит ее как на крыльях и понесет к неведомому второму тому.
1979 г.
ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ
1
Взглядом с высоты открывается второй том «Мертвых душ» \ Это взгляд с высоты, на которой стоит дом Тентетникова, и с высоты балкона его дома. Но это не просто физическое положение смотрящего — будь то автор или его герой, — а некое духовное парение их обоих и растворение в пространстве, их окружающем. Какая-то раскрепощенность и свобода внутренние чувствуются в этом полете, в этом вольном озирании русского пейзажа и спокойствие созерцающего. Если попробовать взглянуть с той же точки на первый том, то, кажется, увидишь перед собой небольшой клочок земли, на котором тесно посажены: губернский город, деревня Манилова, деревня Собакевича, деревня Ноздрева. Чичиков как будто и ездит и передвигается в каком-то пространстве, но ощущения пространства нет, кажется, он кружит возле одного места, и некоторые виды, мелькающие по сторонам, не вызывают в нем интереса.
Во втором томе они просто хватают его за сердце. Тут что ни кусок дороги, то даль, что ни новый вид, то новое отвлечение в мыслях Чичикова, новые его мечтанья, которые лишь изредка — и на мгновения — вспархивали в его сознании в первом томе. Там он редко отвлекался и задумывался, здесь он только этим и занят. Уже не кромешная ненастная ночь сопровождает его в путешествии, не грязь и лужи русских дорог, а как-то все время ясно на небе: солнышко светит, и далеко видно вокруг, и ведро, вёдро стоит над всем вторым томом.
Обещанная в конце первого тома даль, разрывавшая его тесные границы и уносившая уже не тройку Чичикова, а саму Русь бог весть куда, тут становится явью. С первых же строк читатель (и герой) попадает в разлив этой шири, и вольно и неторопливо плывет знакомый нам экипаж по русским равнинам, поднимаясь на гребни возвышенностей, плавно спускаясь с них и вновь оказываясь на равнине, за которой опять открываются горы, леса, извивы бесконечных рек, неровная линия горизонта и что- то еще за горизонтом, что нельзя описать словом, а что может только видеть душа.
«На тысячу с лишком верст, — пишет Гоголь, — неслись, извиваясь, горные возвышения. Точно как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, возвышались они над равнинами то желтоватым отломом, в виде стен, с промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклостью, покрытой, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, темным лесом, еще уцелевшим от топора. Река, верная своим высоким берегам, давала вместе с ними углы и колена по всему пространству; но иногда уходила от них прочь, в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь, перед солнцем, скрыться в рощи берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровожденьи мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте».
Это и есть вид с холма, на котором стоит деревня Тентетникова. «Вид был очень недурен, — продолжает Гоголь, — но вид сверху вниз, с надстройки дома на равнины и отдаленья, был еще лучше... Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами сквозь мглистый воздух желтели пески. За песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни; но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз... Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель, и после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: «Силы небес, как здесь просторно!»
Кажется, весь опыт классики, римского величественного искусства впитала здесь кисть Гоголя. Кажется, это уже не проза, а монументальная фреска на стене храма, застывшая в своих гигантских пропорциях, как вечное солнце и вечная красота. И вместе с тем это пейзаж России. Он кажется недвижным, некая застылость созерцания чувствуется в нем, но бег реки, движение возвышений (они «неслись») придают ему льющийся эпический эффект. Даже с недвижной точки, с которой наблюдает эту картину художник, он видит в ней жизнь, перемещения, колебания, одушевленный простор, а не немое полотно. Этим и объясняется восклицание созерцателя, и созерцатель тот не кто иной, как Чичиков, попавший в гости к Тентетникову.
Чичикову Гоголь во втором томе отдает не только свою любовь к голландским рубашкам и хорошему мылу, но и это тревожное ощущение вдохновения посреди простора «беспредельной Руси». Даже в главе о Петре Петровиче Петухе, главе, кажется, целиком комической, написанной в стихии первого тома и «Ревизора», где перед нами предстает русский Гаргантюа, в главе, где поедаются без числа жареные телята на вертеле, какие-то свиные сычуги, набитые кашей, кулебяки со щеками осетра и грибочки, бобочки и гарниры, есть это веяние пространства России, как бы стряхивающее с героев умственный сон. В первом томе Гоголь, может быть, на сцене объедания и тяжелого сна после обеда и закончил бы эту главу, здесь она неожиданно выносится на простор весенней реки, по которой мчатся лодки с гребцами, и сам Петр Петрович Петух, глядя на вечереющее небо и на воду испытывает что-то такое, что не испытывали ни Собакевич, ни Коробочка, ни Ноздрев, ни Манилов.
Тут-то и является «беспредельная, как Русь» песня, отдающаяся по берегам и прибрежным деревням (слушая ее, пишет Гоголь, «сам Чичиков чувствовал, что он русский»), и тот разлив лирического чувства, который увлекает какой-то удалью, как некогда в «Тарасе Бульбе». Стихия «Тараса Бульбы» спорит во втором томе со стихией «Ревизора» — Гоголь переносит краски и образы величественного прошлого в настоящее, и это не фальшивая накладка героики на быт, а истинное сознание величия Руси, в каком бы виде она ни представлялась взору.
Слушая первые главы второго тома, С. Т. Аксаков сказал, что талант Гоголя не только не погиб, но стал еще выше, ибо еще могучее обнаружилась в нем способность видеть в пошлом человеке высокую сторону. Эта высокая сторона все время слышится в героях второго тома. Она просыпается и в самодуре генерале Бетрищеве, когда речь заходит о событиях 1812 года (в которых он участвовал), и в его дочери Улиньке, которая, впрочем, вся состоит из высоких чувств, и в Тентетникове, байбаком сидящем у окна в халате и курящем трубку, а затем поднимающемся и расправляющем плечи, и в Хлобуеве — разорившемся помещике, спустившем все состояние на угощенья, актрис и модные тряпки, и в Чичикове, которого, право же, не узнать, хоть он и прежний Чичиков, но какой-то «поистершийся и поизносившийся», как пишет Гоголь.
То и дело как-то «льготно» делается у него на душе (как в вечер, когда они проплывают по реке с Платоновым и Петухом), и видятся ему часто совсем не те картины, которые должны были бы видеться воображению «железного» человека. «На терпеньи, можно сказать, вырос, терпеньем воспоен, — говорит Чичиков о себе генералу Бетрищеву, — терпеньем спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье». Но и это терпение (предполагающее невозмутимое спокойствие во всех обстоятельствах), и дрессировка детства, воспитавшего его в строгих правилах расчета, ничего не могут поделать с новыми чувствами в Чичикове.
Чичиков — этот все-таки сознательный пройдоха — превращается здесь временами в Хлестакова — пройдоху по случаю, по недоразумению, по поэтической способности к вранью.
Это начало разрушения гоголевского героя, превращения его во что-то другое, что — ни он, ни автор не могут пока с точностью сказать. Выезжая из второго тома, Чичиков выезжает из него не так, как выезжал из первого. Там он потирал руки и предвидел новую поживу. Он весело смотрел вдаль. И смерть прокурора, и похоронная процессия, пересекшая ему дорогу, не могли смутить его. Он убегал, он скрывался от неприятностей, он ехал опять плутовать, но в другом городе и другой губернии. Из Тьфуславля (так называется во втором томе губернский город) он не улепетывает, не несется в радостном возбуждении освобождения. «Это была какая-то развалина прежнего Чичикова, — пишет Г оголь. — Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строеньем, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план и работники остались в недоуменьи... »
Как нетрудно догадаться, архитектор этот — Гоголь. И план возведения нового зданья на месте старого и из материалов старого отложен им на следующую часть. Идея второй части (или второго тома) и состоит в том, чтобы поколебать нерушимые, кажется, основы строения Чичикова и разрушить его — разрушить во имя иного строительства. Процесс разрушения и составляет сюжетную канву второго тома, соответствующую его идейной канве, и тут Гоголю помогает изменившийся взгляд на героя и изменение взгляда самого героя на себя и на окружающее пространство.
Сам характер разъездов Чичикова меняется. Во-первых, он никуда не спешит, не торопится, как в первом томе, и позволяет себе занимать чужие коляски и лошадей в полной уверенности, что вернется на покинутое место, вернет их хозяевам и еще, быть может, поживет у них. Он и в самом деле заживается у них, как человек уставший, как человек задумывающийся, как делец разрушающийся. Облака мечтаний находят на него и у Тентетникова, и у Бетрищева, и у Костанжогло, и при осмотре имения Хлобуева.
Он и ездит к ним, кажется, уже не по своей воле, а потому, что случайные обстоятельства толкают его на это: к Бетрищеву — мирить того с Тентетниковым; к полковнику Кошкареву — чтобы сообщить ему, как родственнику Бетрищева, о помолвке Улиньки и Тентетникова (кстати сказать, мимоходом устроенной им, Чичиковым, даже и не заметившим, что сделал доброе дело); к Костанжогло он отправляется потому, что о том его просит Платонов — брат жены Костанжогло. Потом заезд к Платоновым, потом к Леницыну (опять же с целью помирить его с Платоновыми), а до этого к Хлобуеву, на покупку имения которого Костанжогло дает ему взаймы.
Конечно, Павел Иванович не забывает при этом и о своей цели, но цель эта как-то разбавляется и разжижается во втором томе. Чичиков следует ей по инерции, прежнего азарта и упования на эту аферу у него нет. Да и все, что он видит вокруг себя, убеждает его в том, что пора заняться приобретением не фантастического, не сказочного, как пишет Гоголь, а настоящего имения, приобрести не мифические земли в мифической Херсонской губернии, а в самой что ни на есть середине России, где ни от кого не скроешься и где можно честным путем наживать миллионы.
Эту мысль внушает ему примерный хозяин Костанжогло.
Костанжогло — это ходячая мысль Гоголя, хотя в ней есть и черты живого лица или, по крайней мере, намечавшегося живого образа. Когда Гоголь читал главу о Костанжогло А. О. Смирновой в Калуге, она заметила, что тот не думает о доме и о судьбе своей жены. Гоголь радостно ответил: «А вы заметили, что он обо всем заботится, но о главном не заботится». Самое главное здесь — человечность, которой сознательно лишает Гоголь своего героя. И хотя мы имеем дело с черновиком (о котором — без воли автора — вообще не стоило бы судить), все же и в нем видны следы этого подчеркивания желчности Костанжогло, его резкости, непримиримости в противоположность благодушию Чичикова и сонности Платонова.
Желчность и черствость «хозяина» — подробность, которую Г оголь живо видел в людях такого типа. Откровенный неуют дома Костанжогло тоже говорит не в его пользу, хотя в доме преобладает простота быта, сторонником (и проповедником) которой был Гоголь.
С появлением грека Костанжогло в поэме и особенно его речей о ведении хозяйства, о путях спасения России на началах разумного устройства труда сюда врывается стихия «Выбранных мест», стихия органически гоголевская, но уже, бесспорно, враждующая со стихией, как говорил Гоголь, «осязательного пластического изображения». Но мог ли Гоголь так сразу отказаться от самого себя? Нет, конечно, как не может этого сделать и его герой. Чичиков все еще мечтает о миллионе (благо он появляется в виде миллионов Муразова и миллионов некой старухи Ханасаровой), о внезапном успехе с помощью необыкновенного приключения, и он последний раз играет ва-банк, подделывает завещание старухи и, кажется, уже получает в руки желанное богатство, но, как и в первом томе, упускает его. Поиграв в его глазах золотым миражным блеском, оно исчезает, как и тысячи, схваченные им на таможне, как и дома итальянской архитектуры, построенные им за счет взяток в Комиссии Построенья.
Мы уже говорили, что дорога составляет ось сюжета второго тома «Мертвых душ». Все так же ездит Чичиков и разъезжает, но дорога-то ведет его уже не туда.
Крушение Чичикова во втором томе состоит не в крушении его очередного замысла (или авантюры), не в просчете, который он допустил при осуществлении их, а в крушении внутреннем. Что-то ноет и сосет его, и в кружении с «мертвыми душами», в подделке завещания, в темных связях с контрабандистами и магом-юрисконсультом он нет-нет да и вспомнит про эту боль. Кажется, вертится он с прежней увертливостью, и лоск на нем тот же, и изощренность ничуть не потускнела, но распад уже начался, и воли не хватает, чтоб довести дело до конца. Вновь целую губернию ставит он в тупик по поводу того, кто он, и честные люди принимают его за «приятнейшего человека», вновь все нити интриги устремляются к нему, и он их ловко запутывает, но не может завязать в последний крепкий узел: то борьба в душе мешает, колебания, сомнения и отвлечения.
Гоголь говорил, что появление второго тома «Мертвых душ», может быть, подготовит русского читателя к чтению «Одиссеи». Он имел в виду размах поэмы Гомера, ее эпическую глубину, к которой сам устремлялся в своем сочинении. Он и Чичикова хотел дотянуть до Одиссея, сделав из него истинного героя, может быть, даже «богатыря», как называет Чичикова Муразов. Он имеет в виду данные Чичикову от природы задатки, те же терпение и волю, которые при направлении в благую сторону способны творить чудеса.
Добрый Муразов не может исправить его своими речами: через минуту после умиленного слушания этих речей и разрывания на себе фрака наваринского дыма с пламенем герой Гоголя готов вновь броситься в объятия порока и вручить свою судьбу шайке Самосвистова и мага-юрисконсульта. Но в сцене с Муразовым Чичиков искренне пытается что-то вспомнить, что-то выдрать из своей затвердевшей памяти, что-то такое, что было все-таки в нем и, наверное, есть, если присутствие его он чувствует в себе.
То именно совесть и способность отличать добро от недобра. Сцена эта как бы подготовлена другим эпизодом в одной из предшествующих глав, где задумываются вдруг Чичиков, Бетрищев и Улинька об анекдоте про «черниньких» и «беленьких», который только что рассказал им Чичиков и который по-разному отозвался в душах участников разговора. В том анекдоте плуты чиновники в ответ на немой вопрос управителя-немца, которого они чуть не сгноили в тюрьме, а выпустивши, обобрали (хотя он ни в чем не был виноват), в ответ на вопрос, зачем же они это сделали, говорят: «Ты все бы хотел видеть нас прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты полюби нас чернинькими, а белинькими нас всякий полюбит». (Выделено Гоголем.)
«Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца, — пишет далее Гоголь, — другому смешно было оттого, что смешно изворотились плуты; третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в паденьи своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающейся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющей: «Брат, спаси!» Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата».
Был четвертый. И этим четвертым, видящим всю сцену и передавшим ее во всем ее внутреннем противоречии нам, был автор. Он это увидел, и он отвлек от анекдота и вознес на невидимую высоту, с расстояния которой мы увидели весь ужас этой истории. «Брат, спаси!» — это возглас души Чичикова в финале второго тома, когда через «деревенеющую кору мерзостей» пробивается его исповедь.
«Нет, поздно, поздно», — застонал он голосом, от которого у Муразова чуть не разорвалось сердце. «Начинаю чувствовать, слышу, что не так, не так иду и что далеко отступился от прямого пути, но уже не могу. Нет, не так воспитан. Отец мне твердил нравоученья, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал передо мною у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую тяжбу; развратил сиротку (в первом томе этих подробностей детства Чичикова не было. — И. З.), которой он был опекуном. Пример сильней правил. Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большого отвращенья от порока: огрубела натура, нет любви к добру, этой прекрасной наклонности к делам богоугодным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученья имущества. Говорю правду — что ж делать».
«Какие-то неведомые дотоле, незнакомые чувства,— объясняет состояние своего героя Гоголь, — ему необъяснимые, пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то... подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, и как будто то, что было подавлено суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутное, занесенное зимней вьюгой окно, хотело вырваться на волю».
И вновь стоит напомнить читателю, что это лишь черновик, лишь смутное подобие того, чем хотел наполнить эту сцену Гоголь. Но и черновик дает представление о том, как должно было разрушаться во втором томе «строенье» Чичикова.
Идея порока, передающегося, входящего в душу через дурной пример, через впечатления детства, начала жизни, порока, в котором и не повинен, быть может, обладатель его, проносится в этом отрывке. Вновь появляется здесь автор, который все это видит и слышит с высоты, но не с безразличной горней высоты, где одно созерцание и ослепительный холод, а с высоты, одушевленной состраданием и скорбью к падшему. Грешный человек еще более достоин любви, потому что он пал, потому что лишь любовью его и можно поднять, потому что, чувствуя в себе способность на ответную любовь, он и может подняться.
Анекдот о «черниньких» и «белиньких» занимает особое место в поэме. Он — взрыв чувства Гоголя и взрыв идеи второго тома, которая под смешки и хохот слушающего этот анекдот Бетрищева и рассказывающего его Чичикова как бы пародийно оборачивается на самое себя, переиначивая истину Евангелия: полюби ближнего, как самого себя. «Полюбите нас чернинькими, а белинькими нас всякий полюбит...» — этот рефрен анекдота звучит как напоминание о том, что «белиньких» любить легче, любовь к ним ничего не стоит, это чистая, стерильная (и почти мертвая) любовь; но любовь к «черниньким» — любовь живая. Полюбить «черниньких» — возвысить, помочь, такая любовь есть подвиг.
Такова философия второго тома, где карающий бич смеха Гоголя хлещет, кажется, с прежней силой. Уже не генералы на картинках и табакерках осмеиваются здесь, а генерал во плоти Бетрищев, который с первых минут клюет на Чичикова, на его лесть и заискиванья и чванится и рисуется перед ним, тыча тому в лицо бесцеремонным «ты». До его толстокожего сердца не доходит анекдот о «черниньких» и «белиньких», он с ходу верит басне Чичикова о дядюшке, который будто бы не хочет отказывать в его пользу наследство, пока Чичиков не раздобудет нужных трехсот душ. И этот же Бетрищев, воевавший когда-то с Наполеоном и отличившийся в сражениях, а значит, и терявший в них своих боевых товарищей и солдат, готов продать Чичикову хоть «все кладбище» — так говорит он о своих умерших крестьянах — и смеется этой забавной шутке: «Ха-ха- ха!»
Чичиков в тон ему подобострастно подхихикивает: «Хе-хе-хе...»
Но и этот Скалозуб (впрочем, не без добрых чувств, как замечает Гоголь) меняется и теплеет под влиянием любви Улиньки и Тентетникова и горячей речи будущего зятя, которая не уцелела в бумагах Гоголя, но воссоздана в воспоминаниях Л. И. Арнольди, о роли единства русской нации в 1812 году. Он как бы оживает перед лицом своего собственного прошлого, своей прекрасной молодости, которая прошла на полях сражений.
В третьем томе, по рассказам Гоголя, то же самое должно было произойти с Плюшкиным, и он почти что из подвала своей погибшей души, из какого-то затаенного подполья ее должен был воззвать к читателю и к самому себе о погибшей жизни и потухающей совести. Он должен был произнести страстный монолог о старухе смерти, которая все забирает у человека и ничего не отдает обратно, в виду которой все мы равны и видна насквозь душа человека.
То, кажется, должны были быть одни только речи, но кто знает, как и в каких обстоятельствах они вырвались бы из уст героев. Речь Чичикова, хоть и обрывчатая, непрописанная и недописанная, потрясает нас правдивостью, и прежде всего правдой о невозможности героя так, вдруг, стать не тем, кем был еще только что, что накапливалось и сплавлялось в нем годы и годы. «Вся природа его потрясалась и размягчалась, — писал Гоголь. — Расплавляется и платина, твердейший из металлов, всех долее противящийся огню... » Что же говорить о душе человеческой?
Отчего же не расплавиться и Хлобуеву, который в конце второго тома отправляется в коляске собирать деньги на строящуюся церковь? Честно признается он Муразову, предлагающему ему службу, что не способен служить, что отвык, обленился, что годы не те и сил нет, но на богоугодное дело еще может решиться, и путь тот Хлобуеву указан не Муразовым, а неким схимником, который слабым намеком возникает в сохранившейся заключительной главе поэмы. Может быть, это тот самый святой схимник, который появлялся у Гоголя еще в «Страшной мести», может быть, это тот прекрасный священник, которого он рисовал в «Выбранных местах из переписки с друзьями», но в этом намеке заключено предвестие грядущего образа — одного из центральных образов второго тома, как свидетельствуют те, кто слышал все его готовые 11 глав.
2
По мере того как развертываем мы листы этого сочинения (и существующие и несуществующие, оставшиеся лишь в памяти тех, кто слышал их), перед нами предстает действительно необозримая картина современной России, которую на этот раз Гоголь и в самом деле обнимал со всех сторон. Как предвестники всей последующей русской литературы встают с этих страниц и грядущий Обломов (Тентетников), и Штольц (Костанжогло), и старец Зосима (схимник), и Улинька, давшая начало женщинам Тургенева и Толстого, и кающийся грешник (который станет центральной фигурой романов Достоевского), и прекрасный идеальный и беззащитный русский Дон Кихот, чье единственное оружие слово, тот же Тентетников (которому Гоголь отдал много своего), и князь.
И некое фантастическое порождение российской «бестолковщины» и путаницы — страшный подпольный маг-юрисконсульт, которого сам Чичиков считает в делах плутовства Наполеоном, гением, колдуном. Это одно из самых прозренческих созданий Гоголя — венец его беспощадного видения русских язв и российского неустройства, идеал безобразия, действительно маг и волшебник.
Если и искать в сочинениях Гоголя антихриста, дьявола, черта как реальное воплощение идеи зла, то это как раз юрисконсульт из второго тома. Он все знает о
России и русском характере, он не законы усвоил, а именно законность беззакония, обхода законов и попирания их.
Он возрос на всеобщей беспорядочности, безответственности, страхе и обмане. Называют Хлестакова чертом, Чичикова чертом (Д. Мережковский). Но если и изобразил Гоголь когда-либо черта в живом виде и в гибельной его сущности, то это маг- юрисконсульт, который еще пострашней, чем сошедший с портрета старик ростовщик («Портрет»). Кажется, какая-то невидимая отрицательная сила сохраняет его от наказания при всех его бесчинствах.
И она-то — в последний раз в поэме — испытывает свою притягательность на Чичикове.
«Этот юрисконсульт, — пишет Гоголь, — был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никаким образом нельзя было отрешить от должности. Все знали, что за подвиги его шесть раз следовало послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было взвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном... »
Опытный в искусстве лжи и лицемерья Чичиков сталкивается в лице юрисконсульта с еще большей опытностью, с очевидной гениальностью зла, смысл которой заключается в беспощаднейшем знании всех слабых сторон добра и природы человека. Не беспокойтесь, говорит он Чичикову, мы их всех запутаем. «Поверьте мне, это малодушие», — отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист. «Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь не то чтобы оправдывать и защищать себя, — нет, просто спутать новыми вводными...»
«То есть, чтобы... » — заикается Чичиков.
«Спутать, спутать — и ничего больше», — отвечал философ: «ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали бы сюда и других, сделать сложным, и ничего больше. И там пусть после наряженный из Петербурга чиновник разбирает. Пусть разбирает, пусть его разбирает». В этом трехкратном повторении «пусть разбирает» так и видится бесконечность этого безнадежного (в глазах философа) разбирательства, в котором уже не поможет никакой приезжий петербургский чиновник, то есть тот настоящий ревизор, который прибывает в конце гоголевского «Ревизора». Иллюзия, что этот приезжий петербургский чиновник может все разобрать и поставить на свои места, распутать паутину, сплетенную юрисконсультом-философом, а вернее, под его руководством самими чиновниками губернии, здесь встает во весь свой рост. То именно Иллюзия, гигантский Призрак, на который нечего надеяться, от которого нечего ждать.
«Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу», — сказал Чичиков, смотря... с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем.
«Подберутся обстоятельства, подберутся. Поверьте, от частого упражнения и голова сделается находчивою... Первое дело спутать. Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое, и губернатора, и вицегубернатора, и полицеймейстера, и казначея, — всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются. Да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать...» Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслаждением, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики».
Нет, никакой Чичиков не черт, он чертенок по сравнению с этим Чертом, поистине Сатаной, который и всем обликом своим напоминает получеловека, полуколдуна, и вид его комнаты — запущенной и вместе с тем наполненной дорогими вещами, и сам замасленный халат, в который он одет, — все разительно не совпадает с его всесилием, с его могущественной властью, которую он вскрывает на глазах у Чичикова, как какой- нибудь часовой механизм. «Нет, этот человек, точно, мудрец», — подумал про себя Чичиков...» С таким же успехом он мог сказать: «Нет, точно, он дьявол». Ибо все концы путаницы сходятся к нему. Стоит ему дернуть за ниточку, как начинают плясать под его дудку тысячи не подозревающих о его существовании душ, и открывается во всем своем зловещем великолепии гоголевский маскарад, который уже напоминает предсмертную пляску на краю пропасти, пир во время чумы, и высится над всем этим черное око черного мага, беззвучно хохочущего и наслаждающегося своей работой.
«А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом. Всех опутал решительно, прежде, чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина (рукой которой было подписано поддельное завещание старухи. — И. З.), он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь стоишь?» — «С утра, ваше благородие!» — «Долго до смены?» — «Три часа, ваше благородие!» — «Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого». — «Слушаю, ваше благородие». И, уехав домой, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и схватил первую бабу, какая попалась, и сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым: «Ступай... меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену». Обменился и стал сам с ружьем. Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время когда Самосвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, и всех привел в такое положение, что к нему должны были все обратиться за советами. (Вот верх искусства дурачить всех! — И. З.) Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и званья, и у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума».
Представление, затеянное вокруг дела Чичикова, перекидывается из города в губернию и перерастает в грандиозный спектакль. «В одной части губернии оказался голод, — пишет Гоголь. — Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста, укокошили не-антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядиться в армяки и будут мужики, и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать».
Мужики, переодетые во фраки, а помещики, переодетые в армяки, — это уже гомерическая гоголевская насмешка над бредовой идеей полковника Кошкарева, который решил, что если мужик наденет немецкие штаны и станет говорить по-французски, то в России сразу наступит «золотой век».
Если и есть у черта какая-либо облюбованная им в человеческой жизни сфера, так это «настоящая минута», ибо над вечностью он не властен. Он властен лишь над тем в душе человека, что привязано к этой минуте, цепляется за нее, за видимые преимущества, за ее материальность. Гоголевский князь одинок, и он безумен, ибо только за сумасшедшего могут его принять чиновники, которых он, вместо того чтобы покарать данною ему властью, созывает к себе и пытается словом пронять, словом образумить, словом вызвать в них «внутреннего человека».
Но именно он — а вместе с ним и Гоголь — берет верх в поэме над магом- юрисконсультом. Идеальное берет верх над материальным. Чичиков отрывается от черта, порывает с ним. Не черт побеждает человека в «Мертвых душах» (как писал Мережковский), а человек черта.
«Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, — говорит князь, — ...я должен сделать клич... Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих... И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла... покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народа вооружался против врагов, так должен восстать против неправды».
Судя по воспоминаниям Л. И. Арнольди, почти такую же речь произносил на обеде у Бетрищева Тентетников. Надоумил его на ту речь, как ни странно, Чичиков, как надоумил он его и о главной идее его «пространного сочинения о России», которое до приезда Чичикова больше было в голове Тентетникова, чем на бумаге. Желая подольститься к Бетрищеву, Чичиков сказал, что сосед его (Тентетников) пишет историю о генералах. О каких генералах? — спросил Бетрищев. «О генералах 12 года, Ваше Превосходительство!» — не моргнув глазом выпалил Чичиков. Позже, передавая этот разговор Тентетникову и умоляя спасти его от гнева Бетрищева, если тот узнает, что он соврал, он как бы подталкивает Тентетникова к мысли, которая, быть может, давно носилась у него в голове.
Вдохновленный этим Тентетников рассказывает на обеде у генерала о плане своего сочинения, точнее, о центральной идее его, которая основывается на примере 1812 года. То идея Гоголя, и не надо долго искать, где именно она высказана, достаточно сличить речь Тентетникова (как ее передает Арнольди) и цитаты из «Выбранных мест...». Тентетников говорит, что не отдельными сражениями и не подвигами отдельных личностей замечателен 12-й год, а тем, что «весь народ встал как один человек», что «все сословия объединились в одном чувстве любви к отечеству» и «каждый жертвовал всем для общего дела...». Отдав Тентетникову главную спасительную идею своей книги, Гоголь отдал ему и свою профессию: Тентетников у него не чиновник (хотя он служил), не помещик (хотя пытался сделаться им), он писатель.
Может, поэтому он в мыслях своих так близко стоит к правителю, то есть князю, который у Гоголя хоть и занимает официальную должность генерал-губернатора, но рассуждает за всю Россию. Он говорит в своей прощальной речи, что гибнет не одна губерния или несколько губерний, а вся земля наша, и его поездка в Петербург, на доклад к государю, выглядит символически. Можно представить себе, что ждет его в Петербурге, если он явится туда с таким докладом и такими мыслями!
В чертах князя, в его попытке первым покаяться видны черты автора. Прежде чем обличить чиновников, прежде чем произнести свои слова о спасении Руси, он говорит: «Я, может быть, больше всех виноват... » «теперь тот самый, — возглашает князь после перечисления тех кар, которые мог бы обрушить на своих подчиненных, — у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит».
Этот метафорический жест — жест самого Гоголя в «Выбранных местах...»
Так разветвляется Гоголь в своих героях, так отдает он им себя. Он пишет все о том же Чичикове, о его плутнях с «мертвыми душами», он выставляет Россию со всех сторон, но он выставляет и себя — то и история независимых от него героев, и история его жизни, его дороги. На этой дороге он тоже собирает и строит себя, как строят себя здесь Чичиков, Хлобуев, Тентетников и князь. Он готов подставить под удары реальности самые свои идеальные стороны, самые нежнейшие струны, как он любил говорить, испытать их действительностью, но выйти из этой переделки освеженным.
«Свежести! свежести!» — вот чего ему хочется в эти годы. Свежести чувств, свежести здоровья, свежести кисти. И «свежие минуты» даются ему.
Есть люди, которые склонны отрицать это. Которые утверждают, что второй том «Мертвых душ», как, впрочем, и первый, писал уже не тот Гоголь, не Гоголь «Ревизора», не живой, а мертвый Гоголь, Гоголь выдохшийся, утративший способность смеяться. Это ложь о Гоголе и его поэме.
Оглядывая сейчас то, что осталось от второго тома, строя мысленно мостки и переходы между сохранившимися частями, восстанавливая по обрывкам, намекам, воспоминаниям, оборванным фразам самого Гоголя целое, мы видим, какой колосс воздвигался под его пером. И смех его не увял, а глаз не потерял остроты зрения, и способность «караулить над собой» в том же смехе не пропала.
Всякое лицо — новое лицо и новая мысль; даже старые лица — Чичиков и его слуги — во втором томе новые, и разговоры они ведут иные (кстати, подолгу разговаривая меж собой), и направление их умов изменилось. И вырастают рядом с ними генерал Бетрищев, безумный полковник Кошкарев со своими учреждениями, вывесками на избах («депо земледельческих орудий», «комиссия построения», «комиссия прошений» и т. д.), бумажным ведением дел и всеобщим запустением в хозяйстве, которое при всей своей европейской экипировке в тысячу раз безобразнее плюшкинского; обжирающийся до умопомрачения Петр Петрович Петух, набивающий свои кулебяки и свиные сычуги начинкой в долг, ибо имения его все заложены в ломбард (а на вырученные деньги он, как пишет Гоголь, закупил провизии на десять лет вперед), Петух, никогда не скучающий (как его гость Платонов), потому что скучать некогда: он или ест, или переваривает свои лукулловы обеды; наконец, томящийся от тоски Платонов, этот сильно подвыцветший Онегин, который навсегда, кажется, удалился из столиц, так как ему там нет места; Тентетников — опора и молодость России, облекшаяся в халат и губящая свои дни сидением у окна и наблюдением за ссорами приказчика и ключницы, Тентетников, который, казалось бы, по летам, по уму, по доброму сердцу должен стоять у истока всяких государственных начинаний и деятельности и лишь случайно пробужденный ото сна Чичиковым (не заверни к нему Павел Иванович, так и спал бы); Самосвистов — этот рубака без рубки, герой сражений без сражения, ибо сражаться ему негде, негде проявить свою храбрость и силу мышц, который должен тратиться на проделки вышеописанные; Хлобуев также от нечего делать пьет шампанское и дает роскошные обеды в городе, в то время как мужики его совсем разбрелись, избы покосились и покрылись мхом, в доме нет ни крошки хлеба, а сапоги у самого Хлобуева залатаны (хотя жена у него говорит по- французски и одета по последней моде); страшная картина запустения и одичания русского, русской исполинской скуки и поистине исполинский, затянутый ряской пруд, некое стоячее море, на котором хочет посеять движение и ветер Гоголь. Это не обличения желчных речей Костанжогло — тут Гоголь выступает как поэт, сила живописания которого не померкла, а в своем беспощадном трезвом видении стала эпической. Страшным, грозным эпосом веет от этих описаний и лиц — чего стоит один полковник Кошкарев или ворота, сорванные с петель и лежащие на одной из изб в деревне Хлобуева!
Русский приживал и русский богач, русский плут и русский святой, русская прекрасная женщина (Улинька) и русский идеалист (Тентетников), русский военный и русский чиновник, русский Христос (князь) и русский антихрист (маг-юрисконсульт) — таков охват полотна, которое развертывает Гоголь в живописных частях своей поэмы. Я уж не говорю о русском хозяине (Костанжогло) и русском писателе, который изображен в Тентетникове. А Петрушка и Селифан, а эти торговцы и хозяева из мужиков, которые мельком возникают в главе о Костанжогло, а некий «купец-чародей», который развертывает перед Чичиковым штуки материи, в том числе цвета наваринского дыма с пламенем?
Послушайте, как он говорит, и вы увидите совсем не того купца, который когда-то был изображен Гоголем в «Отрывке» или «Женитьбе», — это уже новый купец, купец России середины XIX века. «Ведь купец есть негоциант... — говорит он. — Тут с этим соединено и буджет, и реакцыя, а иначе выйдет паувпуризм». Двух-трех движений этого «чародея» хватает Гоголю и двух-трех его фраз, чтоб описать его с ног до головы, как хватает и одного упоминания о некоем Вороном-Дрянном, основавшем в Тьфуславльской губернии нечто вроде шайки или тайного общества, в которое, кстати, был завлечен и Тентетников (в других редакциях носящий фамилию Дерпенников).
В первой главе есть место, когда Тентетников, по обычаю сидящий у окна, замечает подъезжающий экипаж Чичикова и в страхе отшатывается в глубь комнаты. Он принимает Чичикова за «жандарма», который приехал взять его. Так возникает в поэме тема «тайных обществ» и всяческих заговоров и смущений, к которым недвусмысленно иронически относится Гоголь. Чичиков, принятый за «жандарма» (сам, можно сказать, бегающий от жандармов), — это так же смешно и двусмысленно, как мат-юрист, то есть представитель правосудия, как смешон Чичиков в персидском халате, принимающий контрабандистов (и тут переодеванье, маскарад: Чичиков то ли шах, то ли еще какой-то восточный правитель, одним словом, ряженый), как смешно то описание одного «филантропического общества», в члены коего Тентетников попал еще в Петербурге.
То филантропическое (и, разумеется, тайное) общество было составлено из каких- то философов из гусар, пишет Гоголь, из недоучившегося студента да промотавшегося игрока. Возглавлял его некий плут, масон и карточный игрок, впрочем, красноречивейший человек. Он-то и присвоил те суммы, которые с невиданным рвением и готовностью к самопожертвованию собирали бедные члены общества. Куда те деньги пошли, было известно одному «верховному распорядителю». Сами же члены общества, добрые люди, но принадлежавшие к классу огорченных людей, к концу пребывания в этой организации сделались горькими пьяницами от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса. Общество, добавляет Гоголь, имело необыкновенно обширную цель — доставить счастье всему человечеству. Мы не знаем, когда это писалось — до 1847 или 1849 года или после, но в теме «тайного общества» есть прямой отклик Гоголя на действительные события в России.
В годы работы Гоголя над окончанием второго тома вопрос о тайных обществах, притихший было со времен 14 декабря 1825 года, вновь всплыл на поверхность. За кирилло-мефодиевцами последовали петрашевцы. Их арестовали в апреле 1849 года, а 18 мая А. О. Смирнова писала Гоголю, что «над ними производится суд». Возглавлял это общество титулярный советник М. В. Буташевич-Петрашевский, но, что более всего поразило Гоголя, состоял в нем и писатель, автор романа «Бедные люди», Федор Достоевский.
Достоевского прочили не только в ученики Гоголя (их было много, этих «учеников»), но и в наследники. И не без основания. Его роман Гоголь прочитал, или «перелистнул», как осторожно признался он в одном письме. Но и этого перелистывания было достаточно, чтобы понять, что слухи о том, что на Руси появился новый Гоголь, не лишены резона.
И вот в декабре 1849 года суд вынес приговор: «...отставного инженер-порутчика Достоевского за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского... подвергнуть смертной казни растрелянием».
К счастью, казнь заменили каторгой.
После европейских событий 1848 года министр внутренних дел составил циркуляр о бородах, который был разослан всем губернским предводителям дворянства. В нем говорилось: «Государю не угодно, чтобы русские дворяне носили бороды: ибо с некоторого времени из всех губерний получаются известия, что число бород очень умножилось. На западе борода — знак, вывеска известного образа мыслей; у нас этого нет, но Государь считает, что борода будет мешать дворянству служить по выборам».
В мае 1849 года А. С. Хомяков писал одному из своих корреспондентов: «Мы все уже ходим бритые».
Вскоре начались гонения и на славянофилов. В крепость был отправлен Юрий Самарин. Он напечатал в газете отчет о своей поездке по остзейским губерниям. В отчете были некоторые самостоятельные мысли о состоянии государственного механизма. Самарина вызвал для беседы царь. «Знаешь ли ты, что могло произвести твое сочинение?» — спросил он. «Нет, ваше величество». — «Новое четырнадцатое декабря», — сказал Николай.
Четырнадцатое декабря мерещилось ему всюду: в университетах, где чересчур увлеклись преподаванием философии (последовало указание: сократить), и в переводах с иностранного (профессор Московского университета О. М. Бодянский, земляк и знакомый Гоголя, за напечатание в редактируемом им журнале сочинения Флетчера «О государстве русском» был отстранен от должности), и, наконец, в частной переписке. Вскрывши переписку Ивана Аксакова, Третье отделение решило, что и его пора взять под арест. Младшего сына Сергея Тимофеевича (и его хорошо знал Гоголь) заподозрили в намерении установить отношения с панславистами на Западе. И. Аксакова заставили письменно отвечать на вопросы царя. «По вежливому приглашению» Дубельта, как пишет П. В. Анненков, он должен был изложить свои взгляды на современное положение России. Записка была составлена. Николай прочел ее и сказал шефу жандармов графу А. Ф. Орлову: «Прочти и вразуми». «Вразумленный» И. Аксаков отправился служить в Ярославль (то была ссылка), еще ранее выехал в Симбирск Ю. Самарин.
Это было поколение русской интеллигенции, воспитанной уже Гоголем. С Ю. Самариным Гоголь переписывался, с него и с таких, как он, писал он отчасти своего Тентетникова. Мог ли он не волноваться их волнениями? Мог ли не предостеречь от того, что казалось ему кривыми дорогами, уводящими с прямого пути?
3
Всюду — в политическую, семейную, хозяйственную, религиозную жизнь России
—пытается внести он своим вторым томом спокойствие. Сознавая временами невыполнимость этой задачи, он все же работает над ней, все более расширяя круг тем и проблем, охватывая то, что ранее не хотел захватывать, добираясь до корней и верхушек и стараясь отгадать загадку русского феномена, а может быть, и феномена всемирного.Один из современников Гоголя, слушавший главы второго тома «Мертвых душ» в исполнении автора, писал, что Гоголь в нем должен дать отгадку 1847 годам христианства. Так иногда воспринимал свой труд и Гоголь. Охватить всю Русь в поэме ему казалось уже мало, ставя перед своими героями проблемы русские, он не отделял их от задач, стоящих перед человеком вообще, — Россия в будущем должна была влиять на судьбы мира, он заботился и об этих судьбах.
В его бумагах, набросках, черновиках остались строки, поясняющие внутренний сюжет «Мертвых душ», их сверхидею, которая кажется столь же неохватимой, как и привлекаемый Гоголем материал. «Идея города, — записывает он. — Возникшая до высшей степени Пустота... Как созидаются соображения, как эти соображения восходят до верха смешного... Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью...
Проходит страшная мгла жизни и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление? Жизнь бунтующая, праздная — не страшно ли великое она явленье... жизнь... Весь город со всем вихрем сплетней — преобразование бездельности жизни всего человечества в массе...
Противуположное ему преобразование во II части, — продолжает Гоголь, — занятой разорванным бездельем.
Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?»
Записи эти относятся к годам писания первого тома. Но уже в ту пору Гоголь видел в нем не один «жанр», как говорили тогда о бытовой живописи, не одни копии нравов в его отечестве или увеличенные, гротесковые копии жизни, но и некую всемирную карикатуру на жизнь, на великое безделье мира. Вихрь пустоты, завивающийся на пустом месте и уносящий с собой человека, вихрь жизни, не направленной ни на что, ни во что уходящей и ни на что не оглядывающейся, оттого и разорванной, оторванной от содержания, сущности, от духовного первопочатка ее, — вот что вставало перед Гоголем, когда он вглядывался в свою поэму.
И все же она оставалась чисто русским созданием.
Нет, не бессмысленную вавилонскую башню он строил, не отвлеченное здание непонятной архитектуры, которое хотел навязать русской земле, не некую вненациональную и химерическую утопию в виде «прекрасного храма», а совершенно русское строение и в русском духе.
Преобразование «русского безделья» в «безделье» мира, ужас самой жизни, признающей лишь материальное и кружащейся в кругу материального (некая завихривающаяся вокруг самой себя пустота), и показ разрыва внутри самого безделья — вот что хотел показать он во втором томе. В оставшихся главах мы видим эту вихрящуюся пустоту, проносящуюся как смерч на фоне ярмарки в городе Тьфуславле и имеющую в центре своем страшного философа-МАГА, которому противостоит другой маг — сам Гоголь, который со своей высоты останавливает ее действие.
Маг-автор побеждает мага-дьявола.
Таков фантастический сюжет второго тома. Он угадывается в оставшихся главах стихийно, непреднамеренно, как уже сложившаяся в своих очертаниях, хотя и непрописанная, схема его. Выросший на русской почве, том этот поднимается «до преобразования всемирного», в аллегорических образах представляя соперничающие ДОБРО и ЗЛО и их непрекращающийся поединок.
ТРОЙКА, КОПЕЙКА И КОЛЕСО
1
Образ Руси-тройки у Гоголя был бы непонятен, неполон, беден, если б мы не соотнесли его с тройкой Чичикова. Сближая этот образ с тою живой тройкой, из которой он вылеплен, мы осязаем его плоть и плоть мечты-мысли автора.
Чичиков отправляется в путь жизни на лошадке, «известной у лошадиных барышников под именем сороки». Сорока тоже птица, но птица, из которой не вылепишь птицу-тройку. Как, впрочем, не слепишь ничего из той полтины, которую оставил Чичикову «на расход» его отец.
Но этой полтине суждено превратиться в полмиллиона, а сорока исчезнет навсегда, уступив место гнедому, каурому и чубарому, которые запряжены в бричку Чичикова.
Бричка эта вовсе не похожа на ту колесницу, которая несется в конце поэмы Гоголя, разрывая на куски воздух. Это скромный, дорожный снаряд, в котором ездят холостяки. И общество, восседающее в бричке, довольно скромное: Чичиков, кучер Селифан и лакей Петрушка. Однако эта троица ловко рифмуется с тройкой коней, и характеры лошадей отчасти похожи на характеры людей. Чубарый (пристяжной) — лентяй и философ, его, как и Селифана, хлебом (овсом) не корми, а дай поговорить. Гнедой целеустремлен, как и Чичиков, а каурый, как говорит Селифан, ничего конь, хороший конь.
Селифан у Гоголя часто гостит в кабаке (иногда и с Петрушкой), но лошади у него вовремя накормлены и почищены, а хомут, из которого вчера выглядывала пакля, «искусно зашит».
Чичиков в этой троице самый энергичный, но его энергия подвергается осмеянию со стороны мужика: со стороны Селифана иносказательно и в словах, со стороны Петрушки (вечного молчуна) — в молчании.
Петрушка хоть и носит «сертук» с плеча барина, вовсе не поддакивает барину, а в свободные часы (их у него много) предается чтению книг. Читает он все, без разбора — «похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник» (список сам по себе красноречивый) и в чтении более занят процессом чтения, тем, как из букв составляются слова, нежели смыслом прочитанного. Но молчание Петрушки в «Мертвых душах», может быть, весомей, чем словоохотливость Селифана.
В Селифане есть что-то от Санчо Пансы Сервантеса. Он так же готов подпеть барину и так же способен заговорить его. Словопрения Чичикова и Селифана напоминают споры Дон Кихота и его оруженосца. Селифан берет барина умением молоть попусту, хотя, кажется, и мелет он по делу. Когда Чичиков, которого Селифан вывалил в грязь, грозится его посечь, тот не возражает: «Почему ж не посечь, коли за дело? на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки: почему ж не посечь?»
«На такое рассуждение, — пишет Гоголь, — барин совершенно не нашелся, что отвечать».
И в самом деле, Селифан говорит то, что сказал бы сам Чичиков. Он пользуется логикой и фразеологией барина и тем ставит его в тупик.
Селифан прекрасно усвоил язык и манеры Чичикова, которыми тот пользуется в «хорошем» обществе. С ними, со слугами, и вообще с мужиками Чичиков не церемонится, с чиновниками и помещиками он всегда изображает кого-то. То «незначащего червя», то «барку, носимую волнами», то благородного человека. Манилову он жалуется, что потерпел по службе и виной всему было то, что, «соблюдая правду», был чист на своей совести. Селифан, как будто подслушав эти жалобы, дает совет чубарому: «...живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение... Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государственную, он сколеской советник».
Селифан произносит эти речи для ушей Чичикова и для ушей читателя. Он и льстит барину, и смеется над барином, он и нам дает заодно понять, что все знает про Чичикова.
У Селифана свой, особый язык. Когда он гневается, то начинает крестить своих лошадей иностранными именами. Когда он пьян или в настроении, речь у него увещевательная, ласковая, он просто Демосфен, а не Селифан.
Слуг Чичикова обычно не замечают при Чичикове. Но он без них как без рук, как, впрочем, и они без него ни мужики, ни дворовые. Эта троица седоков брички — единая плоть, и именно так и стоит рассматривать население тройки.
Чичиков с чиновниками галантен и обходителен, сыплет цитатами и книжными оборотами, с мужиками он прост и в простоте своей простодушен. «Щекотливый» нос Чичикова морщится от особенного запаха Петрушки, или, как называет его деликатно Гоголь, «воздуха», но тем не менее представить себе Чичикова без Петрушки (и без Селифана) невозможно.
Селифан не только кучер Чичикова, он вожатый его брички, он отец родной каурому, гнедому и чубарому, с которыми беседует, как с детьми. И если уж только очень его рассердить, то на коней посыплются удары вожжей и прозвища Чубарого (как самого ленивого) он окрестит «Бонапартом», «панталонником немецким», а каурого Заседателем. А всех троих вместе — «секретарями».
Это смешно, потому что самого Чичикова примут в городе N за Наполеона, а Коробочка, когда он начнет торговать у нее «мертвые души», спросит Чичикова, не служил ли он заседателем.
Тройка Чичикова не может тронуться в путь без мужика, не может скакать по Руси без реплик мужика, без его поддакивания или неодобрения. Да и бричку Чичикова, как пишет Гоголь, собрал и снарядил в дорогу ярославский расторопный мужик.
Мужик в «Мертвых душах» подправляет путь брички Чичикова, указывает ей направление, а то и просто вытаскивает ее из грязи. Девчонка Пелагея, которая не знает, где лево, а где право, помогает тройке выбраться на шоссе. «Без девчонки было бы трудно сделать... это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине».
Мужики показывают Чичикову дорогу к Манилову, они же пытаются разнять коней Чичикова с конями губернаторской дочки. Помощи из этого не получается, беспрестанные пересаживания дяди Митяя и дяди Миняя с одной лошади на другую и обоих вместе на третью отдают бестолковщиной, «бездна» мужиков, собравшаяся поглазеть на это событие («подобное зрелище для мужика сущая благодать»), дает пустые советы, и автор, кажется, смеется в этой сцене над русским «миром», над сельской сходкой, которая не может решить такого пустякового вопроса. Но этот смех сменяется уважением к мужику, когда Чичиков, спустя некоторое время, встречает мужика — «муравья», который тащит на плече претолстое бревно. Как проехать к Плюшкину? — спрашивает его Чичиков. «Мужик, казалось, затруднился таким вопросом. «Что ж, не знаешь?» — «Нет, барин, не знаю». — «Эх ты! А и седым волосом еще подернуло! скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?» — «А! заплатанной, заплатанной!» — воскликнул мужик. Было им прибавлено и существительное к слову заплатанной, очень удачное, но не употребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ!»
Последнее слово в поэме остается за мужиком. С оценки колеса Чичикова, которую дают стоящие напротив гостиницы мужики, начинаются «Мертвые души», криками Селифана «Эх! эх! эх!», понуждающими коней тройки, они заканчиваются.
«Эх! эх! эх!» Селифана перерастают в авторское «Эх! тройка, тройка, птица- тройка, кто тебя выдумал...», сливаются с ним и далее уже делаются нераздельны.
Не успело чичиковское колесо въехать в повествование, а герой поэмы показаться читателям, как уже является некий оценщик и судия, который судит и о колесе, и о самой цели путешествия. «Что ты думаешь, — говорит один мужик, — доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет», — отвечает его собеседник. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — соглашается другой мужик.
Что это за разговор? Зачем он? Не праздное ли это препровождение времени, тем более стоят мужики «у дверей кабака», а стало быть, говорят они о своем, вовсе не имея в виду Чичикова?
И все же вопрос, заданный ими, остается. Он сообщает поэме вопросительный характер. Колесо Чичикова, по мысли Гоголя, должно сломаться и должно куда-то не доехать. Казань и Москва — названия условные, хотя города эти, судя по топографии поэмы, расположены не так далеко от города N. Речь идет не о Казани и Москве, а о целях поездки Чичикова.
У Чичикова две цели: одна (ближняя) — сколотить капитал, другая (дальняя) — его потратить. Эта дальняя цель — «дом», «бабенка», «потомки», «отличные лошади», «хороший повар», одним словом, «жизнь во всех довольствах».
И этот «дорожный снаряд», в котором восседает Чичиков, Гоголь превращает в птицу-тройку? Да, этот. Потому что цели Чичикова в дороге меняются. Потому что меняется сам Чичиков. Потому что везет Чичикова колесо, и подчиняется оно не Чичикову, а автору, и, кроме того, колесо — это круг, и Чичикову в поэме придется возвратиться на круги своя.
2
Когда Чичиков выехал от Коробочки, земля на дороге была «глиниста и цепка», и оттого «колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею как войлоком», что значительно отяжелило экипаж. Именно это обстоятельство и задержало Чичикова, и он выехал на шоссе позднее, чем того хотел. А явись он в трактир, стоящий на шоссе, раньше, он не встретил бы там Ноздрева и не дал бы промашки с открытием тому тайны о «мертвых душах», что и расстроило в конечном счете его предприятие. Роковая ошибка Чичикова (визит к Ноздреву) произошла из-за отяжеления колеса.
Колесо и далее будет фигурировать в поэме как некий знак, подающий намек на кренделя и загогулины, которые делает, отклонясь от прямого пути, Чичиков. «...Все пошло, как кривое колесо», — скажет Гоголь, посвящая читателя в чувства Чичикова, сбитого с толку разоблачениями Ноздрева. Всегда аккуратный и точный, все взвешивающий и держащий в голове, Чичиков вдруг потеряет власть над собой, станет ходить не с той карты, а однажды, сильно размахнувшись рукою, «хватит сдуру свою же».
Колесо в «Мертвых душах» то подыгрывает Чичикову, то мешает ему. Чичиков хочет ехать, а колесо не хочет. Он настаивает на скорейшем отбытии, а колесо как бы говорит: погоди. Так поступает оно в день отъезда Чичикова из города. Отъезд назначен на шесть утра. Все собрано, все готово, готов и сам хозяин брички, но в последнюю минуту к Чичикову является с виноватым видом Селифан и говорит: «...Вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень такой везде пошел».
То, что колесо обтягивают новой шиной (а эта обтяжка затягивается на три часа), дает Чичикову еще некоторое время на размышления — на размышления, которыми он не собирался заниматься. Ибо размышления для героя Гоголя, паузы в деятельности, остановки в пути, пусть то будет даже путь добывания «копейки», смерти подобны. Он никак не выносит этих пустот, этих тягостных минут наедине с собой, когда надо думать, думать и думать.
В «Мертвых душах» есть лицо, которое мелькает невзначай, на одну минуту, но явленье его трудно изгнать из памяти, потому что трудно забыть ночь в губернском городе, полную тишину, погашенные окна в домах и единственное горящее в гостинице окно, за которым ходит сосед Чичикова — рязанский поручик, примеривающий уже пятую пару сапог. «Несколько раз подходил к постели, — пишет Гоголь, — с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги; точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук».
Поручику живется легче, чем Чичикову: он любитель сапог. Созерцание сапога отвлекает его от мыслей о жизни. Можно убить целую ночь на обсматривание каблуков. Поручик — артист созерцанья, поэт одиночества, способный саму скуку обратить в праздник.
Чичиков, когда он один, перебирает бумажки, лежащие в шкатулке, листает том герцогини Лавальер (единственная книга, которую он возит с собой) или смотрится в зеркало. Это любимое его занятие, как, впрочем, и столь же любимое занятие других героев Г оголя — Собачкина из «Отрывка» и Хлестакова.
Все они от одиночества нервничают, потому что даже ничтожная деятельность — для них деятельность, потому что она дает возможность отвлекаться от смерти. Они, как и Чичиков, живут настоящей минутой, а что там, по ту сторону ее, — бог весть.
Оттого Чичиков все время и спешит, погоняет то Селифана, то Петрушку, а Селифан, в свою очередь, погоняет лошадей. Спешка — темп жизни гоголевского героя, он должен все успеть, он «вдруг» хочет схватить то, что накапливается годами.
«...Да не так, как немец, — говорит в поэме мертвый Максим Телятников, — что из копейки тянется, а вдруг разбогатею».
Это «вдруг» сродни и Чичикову. Ему ведомы и азарт, и перебарщивания, и хлестаковщина.
Колесо, задержав Чичикова в городе, вывозит его на встречу со смертью. Дорогу бричке пересекают похороны прокурора. Скорбная процессия, однако, вызывает ободрительные мысли у героя Гоголя. «Это, однако ж, хорошо, — думает он, — что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника».
Такова примета, но таково и предупреждение Гоголя. Первое такое предупреждение делает в поэме Плюшкин. Тут смерть является в образе своего предвестника — старости, и Чичиков, глядя на Плюшкина, на его прореху на спине, думает: не дай бог! Не дай бог дожить до таких лет и превратиться в пародию на человека.
Всякий раз, когда Чичиков встречается с кем-либо из помещиков, он совершает осмотр своих идеалов. Манилов — это семейная жизнь, бабенка, детки, Коробочка — изобилие и удовольствие, чесание пяток, пуховая перина, Ноздрев — хвастовство и завиральность, игра, блеф, Собакевич — собственная деревенька, доход, крепкие избы, работящие мужики, Плюшкин — капитал, недвижимость. Воплощенные идеалы Чичикова проходят перед ним, имея лицо, фамилию и даже биографии.
Происходит странная вещь: Чичиков путешествует по губернии, объезжает незнакомые ему деревни и поместья, а на самом деле колесит по стране своих мечтаний, только находятся эти мечтания не в воздухе, не у него в голове, а прикреплены к той существенности, до которой так охоч герой Гоголя.
И всякий раз он смотрится в кривое зеркало, которое, отражая не его, Чичикова, отражает тем не менее именно его, потому что и Манилов, и Коробочка, и Ноздрев, и Плюшкин по отдельности то, чем сразу вместе хотел бы стать Чичиков.
Маниловский бельведер, с которого видно Москву, то же, что и мечты Чичикова о херсонских поместьях, Ноздрев напоминает ему самого себя в минуты вранья, Собакевич пугает отсутствием души, которая, «как у Кощея Бессмертного», скрыта «где-то за горами... и закрыта... толстою скорлупою». Перед кучей Плюшкина он замирает, как перед своим погибшим идеалом.
Куча эта — надгробный холм над идеалом материалиста. Это миллионы и голландские рубашки, превращенные в прах. Чичиков, глядя на эту кучу, осознает тщету соревнования со смертью.
Ибо, спасаясь от нее, он цепляется за то, что подлежит гниению и уничтожению. Куча Плюшкина — это Смерть, воплощенная в образе смертной материи.
Смерть подступает к герою поэмы в главе о Плюшкине с двух сторон — со стороны старости (сам Плюшкин) и со стороны этой могилы, где зарыт его идеал. Тема смерти из комической переходит в трагическую. Именно в этой главе вспоминает Чичиков о дороге, которая есть его дом, ибо другого дома у него нет, и о том (и эти мысли подсказывает ему автор), что, пока не поздно, надо забирать с собою в путь «все человеческие движения».
Смерть прокурора и похороны прокурора вновь напоминают ему об этом. Не встреть он их, может быть, и не было бы его возвращения к картинам детства, не было бы этих проникнутых жалостью к себе и к своей участи вздохов памяти, после которых тройка Чичикова вырывается на истинный простор. В этом полете она должна пролететь над смертью и перелететь через смерть.
Без этой цели тройка Чичикова не смогла бы превратиться в птицу-тройку, а затем в Русь. Без нее не было бы вопроса: «Русь, куда ж несешься ты?»
Этот вопрос автора окликает вопрос мужиков возле гостиницы — доедет ли чичиковское колесо до Казани или не доедет. По истечении поэмы делается ясно, что вопрос этот звучит так: а доедет ли Чичиков (и душа Чичикова) до бессмертия или нет?
Если в первых главах поэмы, когда речь заходила о мертвых и о смертях, о них говорилось как-то в шутку, не всерьез (Коробочка спрашивала даже, не собирается ли Чичиков откапывать мертвых из земли), то затем насмешливая интонация при упоминании о смерти снимается. Г оголь хочет сказать, что со смертью не шутят.
«А между тем, — пишет он о смерти прокурора, — появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке; тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один бог ведает».
Как ни слышны в этих словах остатки иронии по отношению к прокурору, здесь есть и горькая мысль о равенстве всех перед смертью, перед этим судом в последней инстанции, перед которым предстает человек.
Смерть в «Мертвых душах» как бы судия жизни и ее ревизор. Смерть прокурора — предвестие Страшного суда, которым пугает свою кухарку Мавру еще Плюшкин и который в последних главах грозит разразиться над головами героев поэмы.
Слухи о покупках Чичикова сливаются со слухами о приезде нового генерал- губернатора, а также с апокалиптическими явлениями и пиршеством «антихриста». О явлении антихриста извещает некий пророк в нагольном тулупе, который сидит в городской тюрьме.
Но если генерал-губернатора можно подкупить (как подкупают в «Мертвых душах» нового начальника новые плуты, сменившие старых), то смерть неподкупна. Она безжалостно рассудит и правого и виноватого. «Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, — читаем мы в поэме, — и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» — а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да, это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания!» — и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и не достойно, чтобы о нем говорить».
Зачем Г оголь так напирает на слово «смертный»? Чтоб напомнить читателю, что и тот не лишен общей участи. Чтоб смех над смертью, которому автор дал повод своими рассказами о покупках «мертвых душ», погас.
Колесо — дорога (переходящая в путь) — ревизская душа (она же копейка) — капитал — миллион — ревизия (смерть и суд) — такова цепь символов Гоголя в «Мертвых душах». Где колесо, там и дорога, где деньги, там и ревизия.
Нет ни одного сочинения Гоголя, где бы акт суда не имел бы места. В «Тарасе Бульбе» отец судит сына, в «Страшной мести» всадник осуждает на смерть колдуна, в «Шинели» привидение у Калинкина моста срывает со «значительного лица» шинель. Судят и судятся в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», и в «Вии», и в «Ночи накануне Ивана Купала».
Тема суда и правосудия одна из заветных тем Гоголя. Человек должен предстать перед судом — перед судом своей совести хотя бы, — ибо без этого, как считает автор, для него нет спасения.
И не важно, является ли идея суда и ревизии в виде жандарма, как в «Ревизоре», или всадника на Карпатских горах, или просто человека, как в «Тарасе Бульбе», ее приход неизбежен. Без удара грома и гнева небес Гоголь, что называется, не может.
Этот гром гремит на балу у губернатора. Над городом нависает угроза тотальной ревизии, где ревизор — генерал-губернатор и ревизор-смерть соединяются на мгновение в одно лицо. Проверке этих инстанций подлежат не только финансы, полицейская власть, состояние богоугодных заведений, палат и так далее, а сама жизнь и назначение жизни.
При этом Гоголь, как правило, начинает за упокой, а кончает за здравие. В самую решительную минуту, когда зло настигнуто и обличено, когда должно состояться наказание и акт суда и мести свершается, свершается и очищение. Погибает колдун — воскресает песня о пане Даниле, уничтожается старик на портрете — на том же холсте является мирный пейзаж.
Чичиков, как ни убит он событиями, развернувшимися в первом томе «Мертвых душ», выезжает из этого тома другим человеком. «Бог знает, — пишет Гоголь, — судила ли ему участь увидеть когда-либо в продолжение своей жизни» эти дома и стены, заборы и улицы. Чичиков прощается с городом N навсегда. Но он как бы навсегда прощается и с тем Чичиковым, который въехал когда-то в этот город.
Чичиков гоняется за своей копейкой, он носится по свету, убегая от смерти, а та настигает его, становится ему поперек дороги и говорит: помни!
Не зря в шкатулке Чичикова хранится похоронный билет. Это приглашение на похороны лежит там по соседству со свадебным билетом, любовным письмом анонима и сорванной с городского столба афишкой. Весь круг жизни очерчен в этих бумагах Чичикова, не хватает только выписки из церковной книги о рождении и аттестата об окончании училища.
Шкатулка не просто «ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы», но и тайник души Чичикова, которая, как и Собакевича, скрыта за толстою скорлупою.
3
В шкатулке тайные намерения героя Гоголя обращены в явные, документально подтверждены и обоснованы, скреплены печатями и подписями. Начиная от банковских билетов (ассигнаций), которые упрятаны в особо потайном ящичке, и кончая бумагами для заключения купчих крепостей. Мыльница и другие приспособления для туалета говорят о том, что Чичиков — опрятный человек; сургучи и перья — что он деловой человек; сорванная со столба афишка — что он друг Мельпомены. Впрочем, афишка эта, как поясняет Гоголь, нужна была Чичикову более для определения цены партера в городском театре.
Свадебный билет — это мечты Чичикова о семье, письмо анонима с признанием в любви — свидетельство слабости сердца, а приглашение на похороны — знак того, что Чичиков, как и всякий смертный, помнит о смерти.
Ибо он не только смертный, но и живой человек.
«Кровь Чичикова играла сильно», — пишет Гоголь. Кажется, он имеет в виду одну страсть своего героя — страсть к приобретательству. Он так и называет Чичикова — «хозяин», «приобретатель». С легкой руки автора это имя закрепилось за главным героем «Мертвых душ».
Он даже называет Чичикова «подлецом»: «...припряжем подлеца!» — восклицает Гоголь.
Но зачисление Чичикова в «подлецы» происходит в том месте поэмы, где Гоголь спорит со своим читателем, предполагая, что ему, читателю, не понравится его герой. Слово «подлец» возникает в контексте спора, где на другом полюсе стоит некий «добродетельный человек» — услада читателя, которого, по мнению автора, давно уже заездили писатели. Этот «добродетельный человек» уже выдохся, он уже мертвый человек, «как мертва книга перед живым словом».
В конце поэмы — перед тем как расстаться с Чичиковым и с тройкой Чичикова — Гоголь вновь вспоминает о «подлеце». И вновь задает вопрос о своем герое: «Кто же он? стало быть, подлец?» И отвечает: «Почему ж подлец, зачем же так быть строгу к другим?» Он отводит целый пассаж рассуждению о том, что каждый из нас, заглянув «во внутрь собственной души», найдет в себе «часть» Чичикова. Мало этого, он дает понять читателю, что и с Чичиковым не все кончено, ибо «человеческая бедность», изображенная в нем, еще не весь Чичиков, что ему предстоит «преодолеть более трудные препятствия», и поэма вместе с ним — и благодаря свершившимся с ним метаморфозам
—приобретает «величавое лирическое течение».
«Но мудр тот, — заключает свои суждения насчет Чичикова Гоголь, — кто не гнушается никаким характером... И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся в свет поэме».
Итак, «подлец» — это еще только кличка, наклейка, знак, который каждый бы — по первому впечатлению — навесил на героя Гоголя. Сам автор, несмотря на то что он видит в его душе «страшного червя», пожирающего «жизненные соки», видит и душу, может быть, «рожденную на лучшие подвиги».
«Подлец» возникает в «Мертвых душах» как антитеза «добродетельному человеку». «Добродетельный» тот, кто не скажет: я Чичиков. Или: во мне есть часть Чичикова. Он укажет на другого человека. «Подлец» в этом контексте не «добродетельный человек», а стало быть, не мертвый, а живой человек.
Припряжем живого человека! — вот мысль Гоголя.
Недаром Достоевский считал Чичикова одним из немногих героев русской литературы. В его списке Чичиков стоит рядом с Онегиным и Печориным, которых никто, надеемся, еще не считал «подлецами». Поступая так, мастер изображения человеческого подполья, а также борьбы бога и черта в душе человека имел в виду, что у героя Гоголя есть свой «верх» и «низ», что ему, как и любимым героям Достоевского, даны свои «падения» и «восстания».
Если заглянуть в детство Чичикова и вспомнить, что он рос без матери, то это о многом скажет. Бедное детство, бедное не только по отсутствию благ, но и материнской ласки, оно должно было перерасти и в черствую юность, в холодное мужество, которое в конце концов привело к «охлажденности» всей души Чичикова.
Душа его спрятана в шкатулке; открывая этот ларец, Чичиков как бы беседует с самим собою, но и здесь лежат только мертвые бумаги, которые ему дано лишь на мгновения оживить своим чувством. Так оживляет он восклицанием «сердечные мои» списки умерших крестьян, проданных ему Коробочкой и Собакевичем. Здесь шкатулка- душа приоткрывается, и хозяин-приобретатель предстает перед нами не как хозяин и приобретатель.
«Мертвые» в «Мертвых душах» присоединяются к живым, встают с ними в один ряд, образуя то живое народонаселение России, без которого эта поэма была бы недонаселена. Гоголь говорит, что Селифан и Петрушка не второстепенные и даже не третьестепенные ее герои, что тут есть лица поважней. Но он лукавит. Именно эти мужики, а с ними заодно и четыреста душ «мертвых», которые скупил Чичиков в N-ской губернии, и есть те самые первостепенные герои, которые составляют ее живую плоть.
На небольшом пространстве «Мертвых душ» уместилась вся Русь. Кого тут только нет! Кажется, всех званий и всех сословий коснулся в них Гоголь, никого не обошел. Дворянство, крестьянство, офицерство, губерния, Петербург, трактир и кабак, катакомбы канцелярий (которые Гоголь сравнивает с кругами ада) и русский необъятный простор. Захочешь ли увидеть русского приказчика — увидишь и его, купца — является и купец, полицейского — есть и полицейский, дам — налицо и дамы. Курьеры, зеваки, работники, половые, хозяева трактиров, жмоты и скряги, беглые и каторжники, разбойники и дети — все тут есть. Есть даже пророк, потому что не может обойтись русская земля без пророка, хотя, как любил повторять Гоголь, нет пророка в отечестве своем.
А вот новелла о дворовом человеке Попове, которую Гоголь включил в главу о купленных Чичиковым крестьянах: «Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя, беспашпортного, поймал капитан-исправник... ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика», отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк», отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» — «у хозяина, мещанина Пименова». «Позвать Пименова! Ты Пименов?» — «Я Пименов». — «Давал он тебе пашпорт свой?» — «Нет, не давал он мне никакого пашпорта». — «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. «Так точно», отвечаешь ты бойко: «я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю». — «Позвать звонаря! Давал он тебе пашпорт?» — «Нет, не получал я от него пашпорта». — «Что ж ты опять врешь!» — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. «Где ж твой пашпорт?» — «Он у меня был», говоришь ты проворно: «да, статься может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его». — «А солдатскую шинель», говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое- какое крепкое словцо: «зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?» — «Никак нет», говоришь ты, не сдвинувшись: «в воровском деле никогда еще не оказывался». — «А почему же шинель нашли у тебя?» — «Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее». — «Ах, ты, бестия, бестия!» говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. «А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму». — «Извольте! я с удовольствием», отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!»
Не найдем ли мы в этом мужике черты мужика Марея Достоевского и Платона Каратаева Толстого? Не для них ли выхватил Гоголь из массы русского народа этого Попова?
Мужик простодушен, и мужик хитер. Он умен и насмешлив и переигрывает в этом диалоге капитан-исправника. Тот обладает всей полнотой власти, а мужик полнотой своего превосходства над ним.
С этим живучим Поповым ничего нельзя поделать. Он так же бессмертен, как Абакум Фыров, Пробка Степан, Колесо Иван и Максим Телятников. Один из них плотник, другой сапожник, третий, должно быть, колесных дел мастер. В поэму о колесе должен был обязательно затесаться мужик с таким именем. И не он ли пустил в свет чичиковское колесо? Не от него ли оно поехало?
«И умер такой все славный народ, все работники», — говорит Чичикову об умерших крестьянах Коробочка. «Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика», — божится, торгуя тех же «мертвых», Собакевич. Собакевич готов и соврать, но избы у его мужиков крепкие и определены, как пишет Гоголь, «на вековое стояние».
А каретника Михеева, которого Собакевич продал Чичикову, помнит и председатель палаты. «Я знаю каретника Михеева, — подтверждает он слова Собакевича, — славный мастер; он мне дрожки переделал».
Странная история: живые мужики у Гоголя почти все резонеры, а «мертвые» — работники. Кажется, что, поэтизируя смерть, Гоголь видит в мертвых более жизни, чем в живых. Но это не так.
Мужик-«муравей», тащащий на себе бревно, мужики в доме Ноздрева, белящие потолок, бабы, подобравшие подол и ловящие бреднем рыбу в пруду Манилова и видом своим оживляющие пейзаж, мужики на завалинках, мужики у кабака, мужики, провожающие тройку Чичикова из города (среди них и просто любопытные, и половой из трактира, и слуги других бар), кузнецы, обтягивающие колесо Чичикова новою шиной и заламывающие при этом невозможную цену, дядя Митяй и дядя Миняй, не могущие никак разнять сцепившиеся экипажи, мужики Вшивой-спеси, заступившиеся за своих жен и девок и отправившие на тот свет «земскую полицию», — все это народ в поэме Гоголя.
Его как бы нет, и он есть. Он состоит и из ревизских душ, из невидимых душ, из неосязаемостей, и все же он та копейка, из которой составляется миллион.
4
Идея капитала — главная идея героя Гоголя, и она неизбежно сталкивается в поэме с идеей народа, который, как и миллион Чичикова (а его в городе N называют «миллионщиком»), состоит из душ-«копеек». Копейка в «Мертвых душах» приравнивается к душе, она и есть в переносном смысле душа, так как в некоторых говорах русского языка (тверском, например) «копейка» не только единица денежного измерения, но и «душа», «работник».
Из копеек составляются тысячи, из «копеек»-душ — тьмы русского народа. Капитан Копейкин — одна из этих «копеек», и хотя он дворянин и по сословному своему положению принадлежит к тому же классу, что и «министр», или «вельможа», которые выгоняют его из своего кабинета, он защитник «копейки» и мститель за «копейку»-душу.
Гоголь не случайно дал ему эту фамилию, хотя вор Копейкин — герой русской песни о разбойнике. Копейкин в «Мертвых душах» тоже разбойник, предводитель шайки разбойников, в которой, между прочим, обретаются и беглые души.
В черновой редакции поэмы Гоголь объясняет цель грабежей Копейкина. Тот не грабит частных лиц, а лишь потрошит казну, выдавая даже иногда расписки тем, кто сопровождает казенное имущество, что вот, мол, получил сполна под расписку такой-то капитан Копейкин. Деньги казны нужны гоголевскому Копейкину, чтоб сколотить свой «капиталец». И опять-таки тут не одно самолюбие, истинная цель Копейкина — создание инвалидного капитала из государственных средств, капитала, который бы мог помочь существованию раненых, тех, кто, как и он, «проливал кровь» в 1812 году.
Чичиковский идеал копейки (как основы богатства) и понятие капитана Копейкина о капитале в поэме пересекаются, и недаром чиновники принимают героя Гоголя на какую-то минуту за капитана Копейкина.
Капитан Копейкин и Чичиков одинаково возмутители спокойствия. Они одинаково грабят казну. Но, ставя перед собой разные цели, они добиваются одинакового результата. Они «взбунтовывают» русскую жизнь. Разбойник ради общего блага (Копейкин) встречается с разбойником ради личного блага (Чичиков); происходит спор идеи миллиона с идеей копейки. «Наверно нельзя было сказать, сколько там было денег», — пишет Гоголь об особом потайном ящичке в шкатулке Чичикова. Да читателю это и не важно знать. Чем менее оказывается в шкатулке ассигнаций, тем более там помещается «мертвых душ». Идет спор за место в душе Чичикова, и он-то и создает электрическое напряжение в поэме.
Кажется, тяжба идет из-за херсонских поместий, из-за того, кто кого обманет и надует — Чичиков ли помещиков и чиновников или чиновники и помещики Чичикова, а подлинная баталия разгорается здесь, где душа-копейка тягается с мертвой монетой.
Чичиков покупает только мужчин, он дает за душу 32 копейки (Плюшкину), рубль, два с полтиной (Собакевичу), он берет душу бесплатно (у Манилова), а получает за каждую из них не менее трехсот рублей. Такова цена живой или мертвой крестьянской души. За женскую же ревизскую душу платят в два раза меньше.
Есть что-то горькое в этой мене-обмене, над самим процессом которой Гоголь смеется в главе о Ноздреве. Ноздрев готов все менять на все, но как ни смешны и условны сделки, совершенные Чичиковым, покупают и продают-то людей.
Вот отчего конец поэмы Гоголя заполнен смутами. Бунтуют мертвые души, обращаясь на глазах Чичикова в живых людей, бунтуют крестьяне сельца Вшивая-спесь и Задирайлова-тож, страх, что купленные Чичиковым крестьяне взбунтуются на самом деле — при провождении их в Херсонскую губернию, — охватывает город. Чичикову даже советуют взять с собой «конвой», чтоб тот охранял его от «буйного» народа.
Все это завершается слухами о капитане Копейкине, который орудует не где- нибудь, а в рязанских лесах. Если вспомнить утверждение Гоголя о том, что описанный им город находится недалеко от обеих столиц, то можно понять, что шайка Копейкина находится где-то поблизости. Тем более в поэме не раз поминается Волга, а в списке городов, где побывал Чичиков, есть и Пенза, и Симбирск, и Нижний. «...Нижегородская ворона!» — кричит на кучера Чичикова кучер губернаторской дочки.
Нет, бричка Чичикова путешествует не в безвоздушном пространстве. По сторонам ее пути то и дело попадаются попутчики и пешеходы, один из них — пешеход в протертых лаптях — направился куда-то, как пишет Гоголь, за 800 верст.
На огромном русском пространстве, как и в шкатулке Чичикова, тесно. Мужики у кабака, мужики, грузящие суда на одной из волжских пристаней, мужики, строящие храмы и находящиеся в бегах, купцы, гуляющие на N-ской ярмарке, гуляющие до убиения друг друга, мужики в лодках, поющие песню, во втором томе «Мертвых душ», — все это души-копейки, составляющие бесценный капитал поэмы Гоголя.
Чичиков настолько свыкается с тем, что купленные им крестьяне, купленные, как тогда говорили, «на вывод», то есть для переселения на другие земли, живые, что в конце седьмой главы, несколько подвыпив, отдает Селифану «приказания собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку».
Из таких, как они, мужиков и хотел бы он в мечтах создать некую Чичикову слободку, деревеньку, где бы он, Чичиков, был и хозяином, и главою семьи, и обладателем дома.
Тоска по дому — вот что мучает героя Гоголя. Дом, который он в детстве покинул и откуда вывезла его лошадь по имени Сорока, он после смерти отца продал, чтоб с этих денег начать свое путешествие к миллиону. Он начал с «копейки» — с продажи дома, и теперь этот акт торга возвращается к нему в виде отмщения-разорения.
Потому что чичиковский капитал не накапливается, Чичикова слободка не выстраивается. Чичиков бежит, но от своих грехов не сбежишь: души-копейки трясутся вместе с ним в его экипаже.
5
Но пора вновь бросить взгляд на этот экипаж.
В конце поэмы в нем воцаряется согласие. Взаимные неудовольстия и распри позабыты, Селифан дремлет, голова Петрушки падает Чичикову на колено, так что «тот должен был дать ей щелчка». Между барином и мужиком нет вражды, хотя их и разделяет пропасть. Физически они умещаются в одной бричке, и кони, ускоряя свой бег, кажется, еще более соединяют их вместе.
Чичиков улыбается, Селифан «помахивает да покрикивает», а Петрушка? Петрушка, по обыкновению, молчит. Тут еще почти что идиллия, хотя идиллии никакой нет, единение всех троих временно и непрочно. Но, тем не менее, именно этой тройке и ее пассажирам суждено дать жизнь птице-тройке, которая вдруг из тройки Чичикова превратится в тройку-Русь.
Как это произойдет? Г оголь и сам не знает. Да и читатель, увлеченный ритмикой скачки (и ритмикой речи), этого не заметит. Вдруг тройка преобразится и из дорожного экипажа превратится в «божье чудо», в «молнию, сброшенную с неба», и полетит уже не по дороге, а по воздуху, и на облучке ее уже окажется не Селифан, а ямщик.
«Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху...» В этих конях не узнать ни чубарого, ни Заседателя, ни гнедого. Это не те знакомые нам коняги, на которых покрикивает Селифан и которым, осерчав на Чичикова за то, что он отказался играть с ним в карты, не дал овса Ноздрев. Это окаменевший в медном литье ветер, это само движение, получившее права бессмертия.
Гоголь как бы отделяется от тройки Чичикова и от самого Чичикова, потому что, хоть Чичиков, как и все русские, любит быструю езду, это не он несется в птице-тройке, а сам автор, вспоминая проносящиеся мимо картины, погоняет ямщика. Душа автора откликается азарту героя, этому желанию «закружиться, загуляться, сказать иногда «черт побери все!», и дальше летит, отдаваясь своей мысли, своему воображению.
Как ни далек Гоголь от Чичикова, а это чувство азарта он берет от него. Что-то связывает автора и героя, эту «скотину» Чичикова, как он назовет его в одном из своих писем, и поэта.
В «дорожном снаряде» не плут, а поэт, на облучке ямщик — «борода да рукавицы», и кони — не кони, а Фальконетовы изваяния, «наводящие ужас».
Сама поэзия, сам бег строки выносит Гоголя к этому образу, и лишь один вопрос: «Русь, куда же несешься ты, дай ответ?» — еще имеет отношение к Чичикову и к его безумному предприятию, конца которому не видно, ибо «еще не мало пути» придется ему пройти «вдвоем рука в руку» с автором.
Медные груди коней Гоголя навевают сравнение с Медным Всадником Пушкина. Но сравнение это чисто внешнее.
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта? —
спрашивает Пушкин.
Почти с тем же вопросом обращается к Руси-тройке Гоголь.
Пушкин не дает ответа, Гоголь намеревается дать ответ: «Две большие части впереди — это не безделица».
Пушкин всех оставляет при своих интересах — Петра на медном коне, Евгения — у подножия «горделивого истукана». Вопрос повисает в воздухе, окаменевает, как Медный Всадник, которому, в сущности, нет дела ни до Евгения, ни до поэта.
Он не думает ни о «рас», ни об «аде» — ему видится настоящее: своя державная воля, своя скачка, узда в руках.
Ямщик — «борода и рукавицы» — тоже натягивает узду. Но он подчиняется не воле самодержца, а воле поэта, которая поднимает его (и его тройку) над землей, в то время как Медный Всадник припаян медью к пьедесталу.
Слово «рай» употребляется в тексте «Мертвых душ» исключительно в ироническом смысле. «О! это была бы райская жизнь!» — восклицает Чичиков в ответ на мечтания Манилова о том, как они вместе будут жить «под одною кровлею». Рай, просто рай! — ответствует он на вопросы жителей города о впечатлении, произведенном на него поездкой по губернии.
Но в конце поэмы Гоголь вдруг заводит речь о «бесконечном рае... души», который обещан только тем, кто, как и душа Чичикова, рожден «на лучшие подвиги».
Для того чтобы перейти из состояния, в котором находится Чичиков, в «рай», нужен подвиг. Два этих слова — «подвиг» и «рай», стоящие рядом, снимают с интонации Гоголя иронический налет. То, что раньше казалось смешным и воспринималось как пародия, уже не кажется нам пародией.
6
Поэму Гоголя не раз сравнивали с «Божественной комедией» Данте. Гоголь и сам дал к этому повод, вспомнив великого итальянца в том месте «Мертвых душ», где рассказывается, как Чичиков путешествует по губернской преисподней. Его и идущего с ним Манилова ведет «один из священнодействующих... приносивших жертвы Фемиде», который прислужился нашим друзьям, «как некогда Вергилий прислужился Данту».
Гоголь отчасти пародирует «Божественную комедию», отчасти следует ей. Он делит «Мертвые души» так же на три части, он так же «оживляет» мертвых, у него, наконец, та же идея — идея воскрешения в «раю», только «рай» Гоголь ищет на земле, а не на небесах.
«Эмпирей» Гоголя должен найти себе место в России, а не над Девятым небом рая, как в поэме Данте.
Гоголь все время «снижает» и «снижает» интонацию, как бы принижая вместе с тем и высокую идею, которой он вдохновляется, но тем стремительней взлет к этой идее, тем резче и неожиданней переход, тем энергичней «восстание» его мысли, находящейся в двух шагах от ее «падения».
Пародируя какую-либо идею, Гоголь показывает ее смешные стороны, как бы опробуя ее смехом, испытывая смехом. Он смехом устилает дорогу к «светлой храмине» идеала.
Волновые колебания «Мертвых душ», взмывающих от «жанра» к оде, от неудержимого юмора к «лирической вьюге вдохновения», от ударов бича к смягчающим картинам сельской астреи, отражают волновые колебания гения Гоголя, для которого «небо» и «земля» не отстоят отдельно, а смешиваются в природе человека.
Какое бы великое произведение литературы мы ни взяли, его герой обязательно передвигается в пространстве, пересекает моря и земли и, если даже путешествует по собственной земле, все равно бродяга и путник. Одиссей, отвоевавшись в Трое, кочует по миру, Дон Кихот колесит по Испании, Г улливер переезжает из страны лилипутов в страну великанов. В русской литературе первое эпическое творение — «Слово о полку Игореве» —тоже слово о походе, о движении дружины Игоря на Дон. Пушкин недаром хотел включить в «Евгения Онегина» путешествие Онегина — герой его романа должен был проехаться по Руси.
Проехаться по Руси — мечта Гоголя. Он хотел бы повидать Сибирь, постранствовать по центральным губерниям России, а то и махнуть фельдъегерем на Камчатку.
Сюжет жизни Гоголя — путешествие. Герой его первой поэмы «Ганц Кюхельгартен» — путешественник. Архив Гоголя забит подорожными. «По указанию его величества Государя Императора... самодержца всероссийского... От города Одессы до Москвы коллежскому асессору Николаю Гоголю... из почтовых давать по четыре лошади с проводником за указанные прогоны без задержания». А вверху бумаги двуглавый орел, и по бокам ее внизу печати с теми же орлами (только поменьше) и надписями внутри печатей: «по казенной надобности».
Герой Гоголя Чичиков — тоже путешественник. География «Мертвых душ» тяготеет к центру России. Хотя мысли Чичикова иногда заносятся в воспоминаниях на польскую границу, где он служил на таможне, а в воображении — в Херсонскую губернию, где пустуют земли и куда он (по версии, придуманной им) намерен переселить своих крестьян.
Стало быть, и крестьяне — мертвые — должны в поэме Гоголя совершить некое путешествие — переселиться из центра России на юг. Так обыгрывается в «Мертвых душах» мотив переселения душ, который потом откликнется в теме «рая» и Страшного суда.
Чичиков, хоть и рассчитывает со временем осесть, стать обладателем дома и главою семьи, — человек бродячий, дорожный. Его капитальные предприятия и аферы срываются еще и потому, что остановка в пути означает остановку сюжета, а стало быть, и прекращение деятельности, тогда как деятельность героя Гоголя — движение.
Одиссей у Гомера прибывает на Итаку после долгих скитаний по свету. Но прорицатель Терезий предсказывает ему новые скитания. Одиссей должен утолить свою страсть к путешествиям, то есть страсть к самопознанию, и только после этого он может вернуться домой.
Символ этой страсти Одиссея — весло. Лишь тогда окончатся его странствия, когда он, попав в страну, где нет моря, встретит путника, который скажет ему: «Что за лопату несешь на блестящем плече, иноземец?» — он воткнет весло в землю, и завершится путешествие его «роковое».
Чичиковым движет, с одной стороны, страсть накопления и приобретения, а с другой — тот же путь к «вечной истине», на который выводит в конце поэмы Гомер своего Одиссея.
Не пытка богатством, а пытка ума и сердца, имеющая целью сами ум и сердце, движет и героем древнего эпоса и героем Гоголя.
Чичиков в разговорах с помещиками и чиновниками города называет себя «баркой, носимой среди волн». Он приравнивает свою участь к участи Одиссея, для которого море — та область, где человека качает, где все связано с переменой ветра и капризом стихии.
«В дом возвратись, — говорит Одиссею Терезий. — ...Кончину встретишь, украшенный старостью светлой, своим и народным счастьем богатый». Чичиков тоже заикается о «счастии», хотя представляется оно ему несколько туманно — как и сама жизнь, которая с детства глянула на него «как сквозь занесенное снегом окно».
Чичиковский «идеал» как-то съеживается и уменьшается в ореоле финала «Мертвых душ». Он исчезает, как исчезает с облучка тройки Селифан, а из брички сам Чичиков.
Мелькают по сторонам верстовые столбы, бабы в платках, мужики на завалинках, кресты церквей, шлагбаумы, фельдъегери, избенки, города; косясь, смотрят на пролетающий экипаж народы и государства, а простор, русский необъятный простор, над которым Гоголь не раз посмеивался в своей поэме и который Чичиков сравнивал с территорией древних римских монархий, намекая на то, что земли, мол, много, а порядку мало, превращается вдруг в «горизонт без конца», за которым пропадает «далече колокольный звон».
Гоголевская ирония «вздрагивает» в этом месте поэмы, как вздрагивает под копытами тройки дорога, и вот ее уже не видно совсем: только «что-то пылит» вдали и «сверлит воздух».
1984—1985 гг.
«МАСТЕРСКАЯ ШУТКА»
1
Гоголевский поэтический взгляд всегда весел — даже если последствием этой веселости может стать печаль. Поэтому, ища идеи у Гоголя, мы должны вглядываться в смех Гоголя.
Смех Гоголя колеблется между сатирой, где он несет карающие функции, и юмором, где функции эти не только ослаблены, но и отданы во власть веселия и забавы. Смех в юморе простодушен, чистосердечен и моложе душою, чем его сатирический собрат. У сатиры всегда есть точный адрес, она знает, кого и за что приговаривает к осмеянию, юмор направлен на все стороны жизни, а не на одну из сторон. В этом смысле он более совершенен, чем сатира, и более долговечен. Конечно, эти два рода смеха стоят рядом, конечно, и у Гоголя они соседствуют и, что называется, меняются местами, но есть в творчестве Гоголя пример, когда юмор решительно берет верх над сатирою и является без ее посредничества.
Этот пример — повесть «Коляска». Стоящая поодаль от остальных повестей, не включенная ни в один из циклов (будь то петербургские повести, повести «Миргорода» или «Вечеров на хуторе близ Диканьки»), она никак не сообразуется с ними по интонации.
Во всех повестях Гоголя есть событие. В «Шинели» крадут шинель, в «Носе» пропадает нос, в «Невском проспекте» кончает с собой живописец Пискарев. Так же гибнет Чартков в «Портрете», сходит с ума Поприщин в «Записках сумасшедшего». И даже в невозмущаемой жизни Ивана Федоровича Шпоньки готовится переворот — женитьба.
И только в «Коляске» ничего не происходит. Наш ум, привыкший искать смысл в сложном, плохо понятном с первого раза, одним словом, ум в уме, а не в чистосердечности и простоте, недоумевает. Мы спрашиваем себя, а заодно и автора: а не посмеялся ли он над нами, заставив читать эту повесть?
Упрек жизни? Здесь его нет. Сатира на уездное общество? И это отсутствует. Так что же? Гоголь не дает пояснения ни к одному из наших вопросов. Он устраняется из повествования и оставляет нас наедине со своим шедевром.
«Коляска» — шедевр юмора Гоголя, феномен юмора Гоголя. И если мы хотим понять природу этого юмора, хоть как-то приблизиться к нему, нам есть резон вновь перечитать его повесть. «Коляска» повесть «провинциальная» — и по своему положению среди других повестей Гоголя (она находится на отшибе от них), и по географической принадлежности места действия, и оттого, что идея ее так же приглушена, затемнена, незаметна, как и сама провинциальная жизнь.
Меж тем из этой «глуши» есть выход в большой мир Гоголя. Эхо «Коляски» отдается как назад — к Гоголю «Вечеров», так и вперед — к Гоголю «Мертвых душ». Она соединяет раннего Гоголя, беспечно веселого Гоголя с Гоголем, становящимся (и уже ставшим) зрелым гением.На старости лет Лев Толстой записал в своем дневнике о Гоголе: «Лучшее произведение его таланта — «Коляска». Тут же Толстой добавил: «Лучшее произведение его сердца — некоторые из писем». Толстой в те времена перечитывал «Выбранные места из переписки с друзьями». Говоря о таланте, он имел в виду художественный талант, талант поэта, тогда как в «Выбранных местах...», как он считал, выступает иной талант Гоголя — талант человека, талант сердца.
«Мастерская шутка» — так назвал «Коляску» Белинский.
Белинский и Толстой сходятся в одном: «Коляска» творение мастера; мастер, поэт берут в ней верх надо всем. Вероятно, и Пушкин, печатая повесть в первом номере «Современника», отдавал должное этой стороне дела.
Когда читаешь «Коляску» в окружении других статей «Современника» и, в том числе, по соседству с прозой самого Пушкина — с его «Путешествием в Арзрум», — ясно видишь, что все остальное, как оно ни хорошо, все же записки, штрихи к прозе, абрис прозы, а повесть Г оголя — чистая проза в чистом виде.
Что делает ее такой? Беспечность в выборе слов и в выборе тона? Свобода в отношении того, как писать и что писать? Или удовольствие живописания, счастье живописания, которое переживает автор и которое передается читателю?
«Коляска» создана Гоголем в полдневный час его жизни. Все в те минуты удавалось ему. Брался ли он за повесть — выходила повесть, начинал ли поэму — шла и поэма. А дав Пушкину обещание, что «духом будет комедия из пяти актов» (был бы сюжет), выдал в свет комедию, потратив на нее лишь месяц. То был «Ревизор».
За короткое время Гоголь написал и издал «Миргород» и «Арабески», затем начал «Мертвые души», сочинил пьесу. И — как бы между делом — создал «Коляску» и «Нос». «Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны... Я совершу», — писал он в обращении к своему гению (1834). Менее чем в два года Гоголь это обещание выполнил.
Его творчество в 1834—1835 гг. напоминает полет. Сильные взмахи крыльев поднимают его выше и выше. В какой-то точке гений Гоголя достигает той высоты, в какой не надо более набирать высоту, а можно свободно парить.
Так парит в «Коляске» его смех. Смех Гоголя здесь как бы уравновешивается с природой. Он не ропщет на нее, не перечит, не взыскует. Он просто гуляет в поднебесье.
«Я же тебя умоляю еще раз, — писал Гоголь М. А. Максимовичу 27 июня 1834 года , — беречь свое здоровье; а это сбережение здоровья состоит в следующем секрете: быть как можно спокойным, стараться беситься и веселиться, сколько можно, до упаду, хотя бывает и не всегда весело, и помнить мудрое правило, что все на свете трын-трава и».
Пусть простит нас читатель, но последние строки этого отрывка непечатны, и мы ставим отточия там, где ставят их издатели.
«Коляска», быть может, единственное сочинение Гоголя, где смех не выпадает в горечь, где нет осадка смеха. Смех тут шалит, играет, как играет в аллеях парка Чертокуцких легкий ветерок, навевая прохладу и свежесть. «Солнце, вступивши на полдень, жарило всею силою лучей,— читаем мы в повести, — но под густыми темными аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, утрояли свой запах».
Полнота этого полдня, в котором есть даже какой-то избыток («цветы утрояли свой запах»), уравновешивает неполноту картины в начале «Коляски», где описывается городок Б. и его обитатели. Обитателей этих, впрочем, немного. То свиньи-«французы», купающиеся в «ваннах» грязи, одинокий петух, переступающий через дорогу, баба вкрасном платке на рыночной площади да два приказчика, играющих на той площади в свайку.
Где-то «за кадром» проходят еще несколько персонажей: городничий, который спит от обеда до вечера и от вечера до обеда, судья, живущий в одном доме с какой-то диаконицею, портной, дом которого высунулся углом на площадь, и два-три местных помещика, полубрички или полутележки которых изредка тарабанят по мостовой городка Б.
Что касается запаха, цвета и вкуса этой жизни, то все в ней как-то ущербно. Низкие домики, которые на юге России обычно выглядят весело и побелены белой краской, здесь смотрят «до невероятности кисло». У рыночной площади «печальный вид». На ней в лавках можно увидеть «связку баранков», «пуд мыла», «горький миндаль» и «дробь для стреляния». Дощатый забор городничий выкрасил «под цвет грязи», тут же стоит «каменное строение о двух окнах», которое возводится уже пятнадцать лет и так и не возведено до конца. Его городничий начал строить еще во времена своей молодости.
Садиков при домах нет — их «для лучшего вида» велел вырубить тот же городничий.
Вводя себя самого в текст под именем «проезжающего», Гоголь пишет: «Невозможно выразить, что делается... на сердце: тоска такая, как будто или проигрался, или отпустил некстати какую-нибудь глупость».
Похоже, что эти слова имеют прямое отношение к сюжету повести. Ибо глупость и игра здесь как бы соревнуются друг с другом. Игра мешается с глупостью, меняется местами с глупостью.
3
Начало «Коляски» напоминает финал «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Тот же уездный городок, тот же фон, то же настроение. И там проезжающий, в котором нетрудно угадать Гоголя, спешит погонять лошадей.
Но в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче тоска венчает дело, здесь она завязка действия, точнее, бездействия, так как в городке ничего не происходит. Хотя первая фраза «Коляски» обещает нам нечто неординарное: «Городок Б. очень повеселел, когда в нем начал стоять *** кавалерийский полк».
Прибытие полка, а также квартиры бригадного генерала должны перевернуть жизнь городка Б.
«Улицы запестрели, оживились, — пишет Гоголь. — Деревянный плетень между домами был весь усеян висевшими на солнце солдатскими фуражками». Всюду появились... усы. «Усы... были видны во всех местах. Соберутся ли на рынке с ковшиками мещанки, из-за плеч их... выглядывают усы. На лобном месте солдат с усами...»
Многочисленные усы как бы восполняют пустоту картины. Существовавшие на ней бреши заполняются усами. Усы Чертокуцкого, «черные огромные усы» денщика генерала, усы самого генерала — все это создает ощущение многолюдства и движущейся жизни, которой так не хватало городку Б.
«Общество сделалось еще многолюднее и занимательнее», — сообщает автор. Сами домики смотрели уже не на свиней и не на петуха, а на «проходящего мимо ловкого, статного офицера с султаном на голове».
Впрочем, мы замечаем, что петух и молодой офицер недалеко отстоят друг от друга. И у того и у другого, что называется, петушиные намерения, да и султан на голове очень похож на гребень, к тому же ирония Гоголя насчет военных слышна и в сравнении свиней, этих «дородных животных», с французами, ибо события 1812 года еще свежи в памяти и француз для жителей городка не просто француз, а военный.
Высшие офицеры ***ского полка, кстати, тоже весьма дородны. Про майора говорится: «довольно толстый майор», «тучный майор», про генерала: «генерал был дюж и тучен».
Цель «Коляски» (если у нее есть цель) — осмеять военный сюжет и преувеличения этого сюжета. Вот почему Гоголь вводит в городок Б. войско. Вот почему обещает нам нечто «чрезвычайное», «значительное», «замечательное» и «огромное», которое оказывается не чем иным, как обедом у генерала. К обеду этому делаются невиданные приготовления. Для кухни генерала был забран «весь рынок». Несчастный судья с диаконицею вынуждены были питаться лепешками из гречневой муки и крахмальным киселем, ибо все припасы из лавок исчезли. «Всю ночь» четыре солдата, приданные в помощь повару, стучали на кухне ножами, трудясь над «фрикасеями и жалеями». Стук их ножей был слышен у городской заставы.
Все это напоминает экспозицию битвы, когда в ночной тишине идет перегруппировка частей, полки занимают свои позиции, а артиллерия располагается на высотах. Потом эта артиллерия выстроится на столе у генерала: «Бездна бутылок, длинных с лафитом, короткошейных с мадерою... Горлышки бутылок смотрят в потолок, как жерла пушек».
Обед, переходящий в осмотр генеральской кобылы, а затем в вист, а затем в ужин, затем в нашествие генерала и господ офицеров на имение Чертокуцких — таков батальный сюжет «Коляски».
Как и во всякой интриге с участием военных, в историю должна быть замешана женщина. Несколько существ женского рода являются в повести. Это коляска, кобыла генерала Аграфена Ивановна и жена Чертокуцкого, которую он зовет «моньмуня». Диаконица, баба в красном платке на площади и мещанки с ковшиками — не в счет.
Речь о коляске заходит именно во время знакомства с Аграфеной Ивановной, когда генерал и его гости с «приятной тяжестью в желудках» выходят на крыльцо и закуривают трубки.
«Лошадь, пуф, пуф, — говорит генерал, выпуская дым, — очень порядочная!»
И перед нами предстает гнедая кобыла, «крепкая и дикая, как южная красавица». Она так мощна, что, поднявши голову, отрывает от земли и держащего ее под уздцы солдата «вместе с его усами». «Сам полковник, — читаем мы, — сошедши с крыльца, взял Аграфену Ивановну за морду. Сам майор потрепал Аграфену Ивановну по ноге...
Чертокуцкий сошел с крыльца и зашел ей взад».
Надо сказать, что в присутствии Аграфены Ивановны господа офицеры ведут себя довольно развязно. «У генерала, полковника и даже майора мундиры были вовсе расстегнуты, так что видны были слегка благородные подтяжки из шелковой материи, но господа офицеры, сохраняя должное уважение, пребыли с застегнутыми, включая трех последних пуговиц».
Коляска возникает в разговоре как добавление к гнедой кобыле, как некая соперница южной красавицы, которой хвастается генерал. Чертокуцкому нужно тоже чем-то похвастаться, что-то подобное поставить на карту чести. И он ставит коляску. Тем более, как мы узнаем от него, он эту коляску выиграл у приятеля.
«У меня, ваше превосходительство, — выкладывает он свой козырь, — есть чрезвычайная коляска, настоящей венской работы».
И, чтоб окончательно победить генерала и наверняка завлечь его к себе в усадьбу, бросает еще один козырь: «Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома».
«Мне очень приятно», — сказал генерал, поглаживая усы.
Чертокуцкий не зря упоминает о своей хорошенькой жене. Он давно славился победами по этой части. Еще в бытность свою офицером, когда его полк, как пишет Гоголь, кочевал по балам и собраниям, он снискал «славу» (слово тоже военное) среди девиц Тамбовской и Симбирской губерний. Его служба в полку, правда, закончилась «неприятной историей», то ли он дал кому-то оплеуху, то ли ему дали ее (не могу вспомнить, уточняет автор), по Чертокуцкого попросили выйти в отставку.
Тут-то он и бросил свои военные таланты на женитьбу. Жену он добыл, а с нею двести душ крестьян и несколько тысяч капиталу. «Капитал был тотчас употреблен на шестерку... отличных лошадей, вызолоченные замки к дверям, ручную обезьяну для дома и француза дворецкого. Двести же душ вместе в двумястами его собственными были заложены в ломбард, для каких-то коммерческих оборотов»
4
Как ни призрачны нынешние занятия Чертокуцкого — он играет в карты, ездит по ярмаркам, шумит на выборах — на нем по-прежнему не штатский сертук, а фрак «с высокой талией на манер военного мундира»! Усы он носит, как и шпоры, чтоб дворяне не подумали, что он служит в пехоте, которую он, как все кавалеристы, причисляющие себя к элите армии, — называет презрительно то «пехтурой», то «пехонтарией».
Герой «Коляски» — один из главных аристократов Б. и в то же время «из числа видных и значительных офицеров» К тому же его зовут Пифагор Пифагорович, что должно намекать на его большой ум, т. к. Пифагор Пифагорович это как бы Пифагор в квадрате.
Чертокуцкий у Гоголя носил в первых вариантах фамилии Кропотов, Крапушин. Фамилии эти имели причастность к его основному занятию — игре в карты и к жульничеству в игре. Крап дело шулеров, а Чертокуцкий почти шулер, хотя и непреднамеренный. За вистом у генерала он беспрерывно играет, но играет как-то шутя: вместо дамы сбрасывает валета, отрывается от карт и вмешивается невпопад в разговор, а по окончании игры обнаруживает, что как будто «выиграл много, но руками не взял ничего»
Чертокуцкий шут в игре, фат в игре. Он играет впустую. Так же — играя невсерьез — он приглашает генерала к себе в гости, так же шутя забывает о своем приглашении. Чертокуцкий не что иное, как черт куцый, т. е. черт, которому оттяпали часть хвоста. Вранье Чертокуцкого ни для кого не опасно, недаром повесть заканчивается ничем: генерал увидел Чертокуцкого в коляске, задернул его обратно кожей, повернулся и уехал. Что, собственно, произошло? Прокатились офицеры в теплый летний день по проселочной дороге, посмотрели коляску, посмеялись беспамятству похмелья и отбыли. Анекдот.
«Шутка, от которой становится больно, уже не шутка», — сказал Сервантес. В «шутке» Гоголя нет боли, смех здесь беззлобен, простодушен. Он щедр и милосерден.
Конечно, «Коляска» отчасти пародия на военные действия и на военных. Нагнетание эпитетов «чрезвычайный», «значительный», «огромный», кажется, подготавливает в начале повести нечто такое, чему равного, может быть, не было никогда. Вроде той истории, о которой рассказывает на ужине у генерала один помещик, участвовавший в кампании 1812 года. Он поведал о «такой баталии, какой никогда не было, и потом, совершенно неизвестно по каким причинам, взял пробку из графина и воткнул ее в пирожное».
События 1812 года возникают в повести не без умысла Тогда действительно была война, а сейчас что? Вместо чрезвычайных событий на поле боя — чрезвычайный обед. Вместо смотра войска — смотр, — данный гнедой кобыле. Вместо конной атаки на неприятеля — наезд (и опять-таки ради обеда) — на имение Чертокуцких.
Само это нашествие напоминает выезд барской семьи с детишками, а не маневр кавалерии в военной обстановке. «Впереди ехала легонькая колясочка, — пишет Г оголь, — в ней сидел генерал с толстыми блестевшими на солнце эполетами и рядом с ним полковник. За ней следовала другая, четвероместная; в ней сидели майор с генеральским адъютантом и еще с двумя насупротив сидевшими офицерами; за коляской следовали... дрожки... за дрожками четвероместный бонвояж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках, за бонвояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках».
Генерал со своими толстыми эполетами и сам будучи дюж и тучен помещается вместе с полковником, который тоже, надо думать, не тонок, в одной колясочке. Офицер сидит у своих собратьев на руках, как сидят на руках у матери или мамки малые дети. И все это более похоже на детскую игру, чем на войну. Хотя Гоголь подробно, как в военной реляции, перечисляет количество «наступающих» и их иерархическое расположение.
Про коляску, которую он сватает генералу, Чертокуцкий говорит; «...а когда вы сядете в нее, то просто как бы, с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала!»
Чертокуцкий как бы предсказывает ту картину, которую увидит в конце повести читатель.
Да и сам он (т. с. Чертокуцкий) похож на дитя, которое, как «теленок», ищет сосцов своей матери. Таков он в сцене пробуждения. Жена будит его, называя его ласково «пульпультик» (тоже вполне детское прозвище), а он мычит и тянется поцеловать ее в шейку.
Смех Гоголя проникает даже в святая святых — спальню Чертокуцких. Мы видим, как возвращается домой пьяный Пифагор Пифагорович, у которого в усах торчат репьи (подхватил, кланяясь от выпитого вина по дороге), как падает без слов на постель, тревожа свою спавшую подругу. Та лежит «прелестнейшим образом в белом, как снег, спальном платье». Пробужденная падением мужа, она потягивается, поднявши ресницы, три раза зажмуривается (как и положено хорошеньким женщинам) и «с полусердитою улыбкою» обращает к Чертокуцкому свой взгляд. Но, увидев, что тот на этот раз «решительно не хочет оказать... никакой ласки», поворачивается на другой бок и засыпает.
Гоголь приводит читателя в альков, как приводит он его — вместе с героями повести — в экипажный сарай, где стоит коляска. Некоторая двусмысленность есть в этих сопоставлениях: кобыла — коляска — жена Чертокуцкого, но это двусмысленность веселая, не обидная. Мы вспоминаем, что в самом начале повести на мостовой Б. появляется гнедая кобыла с жеребенком — на ней едет какой-то помещик. Затем на сцену ступает гнедая Аграфена Ивановна, затем гнедые лошади, на которых красуются господа офицеры. Да и о коляске говорится так, как о супружеской постели: «Очень, очень покойна; подушки, рессоры, это все... как на картинке».
Генерал на эти рассказы Чертокуцкого о коляске отвечает: «Очень хорошо».
А позже мы узнаем, что один штаб-ротмистр, в гостиной у генерала расположившись совершенно как в коляске, «подложивши себе под бок подушку», рассказывает в кружке собравшихся возле него штатских и военных «довольно свободно и плавно» свои любовные приключения.
Смех Гоголя летает по этим подробностям, перелетает с предмета на предмет, не нанося, кажется, урона этому предмету, а лишь слегка придавая ему иной отсвет.
О той же Аграфене Ивановне мы слышим такой диалог.
«Очень, очень хорошая!» — сказал Чертокуцкий: «статистая лошадь!»
«Шаг у нее хорош», — согласился генерал, — «только., черт его знает... этот фершел дал ей каких-то пилюль, и вот уже два дня все чихает»
«Ах, я лошадь!» — вскрикивает Чертокуцкий, узнав, что гости уже на дворе, а обед, на который он их пригласил, не готов. Если лошадь зовут человеческим именем, то почему бы человеку не назвать себя лошадью.
5
У Гоголя есть обычай: он предметам неодушевленным, а иногда и одушевленным, но не принадлежащим к человеческому сословию, дает человеческие имена. Так пирог у него может быть назван «городничим», а нос «фельдмаршалом». В «Игроках» колода карт именуется Аделаидой Ивановной.
Все смешно в «Коляске». И солдат, который так смотрит на господ, как будто «хочет вскочить в них». И эта Аграфена Ивановна. И «пуф, пуф, пу, пу, пу, пу... у... ф», которое растягивается на целую строку и которое есть все, что может сказать генерал. Смешон городничий, который пьет на ночь какой-то декокт, заправленный сухим крыжовником. Смешна отстегнутая пуговица у господ офицеров и гости генерала, которых после ужина слуги берут «в охапку» (как маленьких детей) и развозят по домам. Смешон «солитер», с которым Чертокуцкий сравнивает длину своего чубука и которого, как и вышеупомянутую пуговицу, цензура, конечно, вымарала.
Цензура нашла эти выражения «неприличными» и косвенно позорящими офицерство.
Все это сбивалось бы на сатиру и на мораль, а также на неполноту идеи (потому что сатира эта — неполная идея), если б не было в «Коляске» летнего полдня, шелеста листвы и тени, прекрасного утра, описанного Гоголем, — утра, когда встает из постели жена Чертокуцкого и, умывшись свежею, как она сама, водой, выходит в парк, чтобы полюбоваться виднеющейся вдали дорогою. Смех как бы обрывается на это мгновение, умолкает в полдневном безмолвии и отдается, как и глаз автора, созерцанию.
6
Это мгновенье чрезвычайно значительно в повести. Не столь ложно «значительно», как все остальные «значительно» в тексте, а в подлинном смысле чрезвычайно для понимания феномена «Коляски».
«Безлюдная пустынность» дороги, которую видит хорошенькая и томная жена Чертокуцкого, не обещает ей ничего дурного. Ничего ужасного и пугающего, что связывается обычно у Гоголя с понятием «пустыни», не ожидает ее. Оно просто не может случиться в такое утро.
Утро это так же полно сил и свежести, как и сама хозяйка.
В «Старосветских помещиках» пустота сада, по которому гуляет одинокий Афанасий Иванович и где он слышит голос Пульхерии Ивановны, призывающей его, навевает на » автора «страшную сердечную пустыню». Это происходит в разгаре дня. Но то же испытывает глубокой ночью Акакий Акакиевич в «Шинели», когда после пирушки у приятеля выходит на улицу и ступает на «бесконечную» петербургскую площадь. Она глядит на него «страшною пустынею».
Пустота для Гоголя равна угасанию или предвестию угасания, неполноте жизни и исчерпанности ее. Акакий Акакиевич после встречи с «пустынею» лишается шинели и умирает в бреду. Гибнет и Афанасий Иванович, а его усадьба «разваливается вовсе». Пустота сеет разрушение, она — сама смерть, которая путает даже среди бела дня человека.
В «Коляске» полнота и избыток жизни выталкивают пустоту, уничтожают пустоту. Она заполняется играющими красками, играющим светом солнца в просветах деревьев, играющей кровью в молодом тело.
Жизнь играет в хорошенькой жене Чертокуцкого, жизнь играет в анекдоте, который приключился с Чертокуцким, в обеде у генерала, в красавице лошади, которая «вздрагивает» всею кожею и пугается людей. «Она грянула копытами о деревянное крыльцо, — пишет Гоголь, — и остановилась». И этот усиленный звук — звук, равный удару грома, эхом отдается в полноте дня.
«Бездна бутылок... прекрасный летний день, окна, открытые напролет, тарелки со льдом на столе, отстегнутая последняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владетелей укладистого фрака, перекрестный разговор, покрываемый генеральским голосом и заливаемый шампанским, — все отвечало одно другому». Так описан обед. Если судья с диаконицею сидят на голодном пайке, то здесь едят вдоволь. Стол ломится от стерляди, спаржи, дроф, перепелок, грибов, осетрины. Все это как будто говорит об обжорстве, о неумеренности аппетитов собравшихся у генерала помещиков и офицеров и, вместе с тем, об избытке, об изобилии, которые есть антитеза пустоте. Все отвечает полноте момента — и окна, открытые напролет, и разговор, заливаемый шампанским, и прекрасный летний день.
Гоголь не скупится на превосходные степени — пустоте существования он предпочитает не только полную жизнь, но и жизнь переполненную, переливающуюся через края. Даже генеральский голос, который покрывает в сцене обеда разговор, не просто голос, а «значительный бас» И в нем дает о себе знать тот же избыток.
Чем заполняется пустота городка Б.? Веселостью. Смехом Гоголя. «Городок... повеселел» — городок ожил. В нем поселился гоголевский смех и преувеличения этого смеха
Герой повести Гоголя — преувеличение. Веселое преувеличение, которое есть ответ юмора Гоголя на недостаточную жизнь. Если в жизни чего-то недостает, то надо додать ей смехом. Надо оживить ее, воскресить ее в веселии.
В самом конце «Коляски» разочарованный генерал и офицеры всячески клянут коляску Чертокуцкого и дают ей уничижительные оценки.
«Ну ничего особенного», — сказал генерал; «коляска самая обыкновенная».
«Самая неказистая»,— сказал полковник: «совершенно нет ничего хорошего».
«Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит четырех тысяч», — сказал один из молодых офицеров..
«Какое четырех тысяч! она и двух не стоит. Просто ничего нет...»
Кажется, это оценка не только коляски, но и самого никудышного сюжета. Ожидалось приключение, приключения не случилось. Генерал и офицеры не только разочаровались в коляске, но они не увидели ни хозяина, ни хозяйки. Впрочем, хозяина они увидели — он сидел в коляске «согнувшийся необыкновенным образом», — но Чертокуцкий не представлял для них интереса. А его хорошенькая жена, которая своим видом и приятностью могла бы восполнить потерянное ими время, наверное, спряталась от стыда.
«Признаюсь, это шутка», — сказал полковник, смеясь.
Полковник еще смеется, а офицеры помалкивают. Генерал же — еще до встречи с коляской — выражает неудовольствие: «Фить... Черт».
«Черт» в сочетании с «фить» не страшен. Это опять-таки какой-то смешной черт, это черт в ночной сорочке с наброшенным поверх ее халатом — т. е. еще более разоблаченный (раздетый догола) Черто-куцкий.
«Разве внутри есть что-нибудь особенное...» — говорит с надеждой генерал, прося кучера Чертокуцкого отстегнуть фартук коляски. Он хочет хотя бы чем-нибудь вознаградить себя за глупый визит.
Но и «внутри», как мы уже знаем, не оказывается «ничего особенного». Повторяя слова генерала, мы можем сказать: «просто ничего нет».
Смех Гоголя обрывается на этой легкой ноте безответственности конца. Казалось, за всем этим должно последовать продолжение. Какая-нибудь аффектация со стороны генерала или авторская ремарка, резюмирующая эту смешную историю.
Но Гоголь ставит точку.
«В пафосе Гоголя, и в самых капризных причудах его юмора, — писал Аполлон Григорьев, — вы чувствуете всегда живое чутье жизни, любовь к жизни». Это абсолютно верно в отношении «Коляски». Повесть без сюжета, без смысла обретает смысл в самом художестве, в волшебстве искусства, в веселящемся «до упаду» взгляде на жизнь.
В смехе Гоголя в «Коляске» нет слез. Разве что слезы радости оттого, что мы живы и что жизнь играет в нас.
1982 г.
БЛОК И ГОГОЛЬ
1
Сближение вершин в литературе всегда поучительно и законно. Любая вершина соотносится с другой вершиной, в этом нет натяжки, произвола сопоставителя — горное эхо, разносясь по отрогам, меняет голос, но остается эхом гор.
Вершина Блока не так уж далеко отстоит от вершины Гоголя. В пространствах русской литературы это почти шаг. Из-за горных пиков Толстого и Достоевского выдвигается покрытый шапкой облаков Гоголь. Он загадочен, какие-то вихри обвевают его голову — что-то темное клубится и носится на высоте белых снегов. На мгновение в разорванных тучах предстанет ослепительно-чистый лик и опять скроется, и гул стоит по горам, предвещая обвалы, бедствия, сотрясения, как говорил Гоголь, всего земного состава.
Это, может быть, гул не только русского потрясения, а предвестие мирового переворота, мирового испытания и мирового обновления.
Именно этот гул слышит в конце жизни Блок. 9 января 1918 года он записывает: «Слышал гул, гул: думал, это началось землетрясение». Проходит еще несколько дней, и Блок заканчивает «Двенадцать». В записной книжке рядом со словами «сегодня я — гений» мы читаем: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его — призывы к порядку семейному и православию)».
В торжественную — и вершинную — минуту своей жизни Блок вспоминает Гоголя, окликает Гоголя. Гоголь, по его мнению, слышал тот же шум, но пытался заглушить его. Блок отдается этому шуму, или гулу, отдается музыке «переделки всего».
Это музыка революции. Можно ли себе представить, чтоб на месте Блока оказался Гоголь? Чтоб он этот гул приветствовал, этот гул назвал музыкой? Никогда. «Невидимая, сладкогласная, — писал он о музыке, — она проникла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна; но могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук...»
Музыка обращает нас к Нему, как пишет Гоголь, не называя имени Того и имея в виду Бога, в котором еще не отделен, не выделен Христос.
Мятежность в музыке Гоголя побеждается согласием. Блок же приветствует мятеж. Он, кажется, хочет смотреть только вперед, забыв о том, что было до него. Но все же, не имея сил не оглянуться, оглядывается.
Гоголь писал в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», что русская литература началась с восторга. Окидывая взглядом ее всю — от Ломоносова до Языкова, — он заканчивал статью пророчеством: «Скорбью ангела загорится наша поэзия».
Эта скорбь слышится в стихах Блока. Его ангел — ангел скорбящий, не тот, что победил демона, а тот, кто видит страшные деяния демона.
Блок пишет о своем герое в «Возмездии» (то есть о себе), что он последний в роде. Последний всегда ставит точку, последнему надо выяснять и отношения с первым — с первым в том роде, который сменяет его род.
В Блоке как бы истекают силы великой русской литературы. За спиною Блока — путь ее страданий, на котором было все: и искус чистого мастерства, и проповедничество, и сатира, желание спасения в реализме и отлеты от него, попытки познать глубины греха (Достоевский) и глубины святости (Достоевский и Лесков), и даже дерзкие опыты споров с Евангелием, переписывания Евангелия (Толстой). Все это потребовало такого напряжения и такой отдачи, что русская литература подошла к Блоку, как бы испробовав все — ноты восторга еще слышались в ней, но уже верх брала иная музыка, музыка исчерпанности.
Если Гоголь находится на средине ее пути и, может быть, ближе к началу, то Блок стоит у его завершения. Он, собственно, и завершает его, если иметь в виду русскую дворянскую культуру и русскую литературу — литературу вершин. Переход из девятнадцатого века в двадцатый — из века «железного», как называл его Блок, в век еще более железный — для Блока все равно что переход с освещенной солнцем стороны на неосвещенную сторону. Блок творит как бы в атмосфере затмения.
Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла (Еще чернее и огромней Тень Люциферова крыла).
Тень эта накрывает и поэзию Блока. «Дитя добра и света», как назвал он поэта в своих стихах, а стало быть, и себя, он ищет свет, идет на свет. Поэзия Блока прорывает мглу, вырывается из мглы, но болезненность ее восторга порождает именно мгла. Поэтому даже свет, облитый кровью, уже для Блока свет. «Закат в крови!» — пишет он.
Кровь сопутствует свету, ею надо платить за свет. Блока дразнит кровь. Так же дразнит его и огонь.
Мировой пожар в крови.
Господи, благослови!
Демонское и ангельское мешается в поэзии Блока. Ангел часто смотрит демонскими глазами и соблазняет, как демон («Благовещение»), демон есть падший ангел или отпадший ангел, как говорит Гоголь в повести «Портрет».
Гоголь и Блок — фигуры катастрофические в русской литературе. И тот и другой стоят на пороге перелома, слома. Гоголь, оставшись одни после Пушкина, должен принять какое-то решение перед лицом надвигающихся «страхов и ужасов России», Блок тоже должен выбрать. И их решение и выбор не только поэтические, но и пророческие. Но если Гоголь лишь предчувствует катастрофу, то Блок находится в центре ее. У него циклон, буря, землетрясение — не метафорические буря и землетрясение, а реальность России XX века.
В «гуле», который слышит Блок, отдаются звуки разрушения, расправы, мирового катаклизма, который все сметает на земле. Блоковский гул — гул падающих церквей, дворцов, библиотек, провала старого в какую-то яму — провала, который не что иное, как акт мести за свершенные родом грехи. Пусть при этом, как при землетрясении в Мессине, проваливаются сквозь землю дома и сады, город и люди, иного пути очищения и покаяния, воздания за грехи и спасения, как думает Блок, нет.
«Только все на этой равнине еще спит, — писал он еще в 1908 году, — а когда двинется — все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощенные богородицы, пойдут с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдет вся земля».
В ритмике этих строк слышна ритмика «Откровения Иоанна Богослова» — ритмика, преобладающая и в пророческих главах книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Упоминание о Гоголе в записи Блока о «Двенадцати» («Гоголь слышал тот же шум») — упоминание об этой книге. Весной 1918 года, вскоре после окончания «Двенадцати», Блок записывает: «Мы опять стоим перед этой книгой: она скоро пойдет в жизнь и в дело». О том, что «Выбранные места» надо вернуть к жизни, Блок пишет и в статье «Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве» и в заметке «О списке русских авторов».
Почему эту книгу выбирает Блок и почему ее он читает в эти дни? Потому что поздний Г оголь всего ближе позднему Блоку.
Книга Гоголя — книга покаяния, в том числе покаяния художника, поэта. Поэт видит греховность одного искусства, чистого искусства, не замешанного на высшей идее. Искусство, по Гоголю, должно стать «незримой ступенью к христианству», если оно не станет этой ступенью, оно не нужно.
Это крайняя точка зрения и посягновение поэта на цели религии.
Об этом написана и повесть «Портрет». Голая натура, являясь в демонских глазах ростовщика, разрушает и губит. И лишь изображение божественного младенца на стене храма, которого рисует тот же художник, стирает с картины черты зловещего ростовщика. Рождается младенец (на фреске), исчезает дьявол, демон, колдун. Так пятится и бежит от святой иконы колдун в «Страшной мести».
Высокое мастерство автора, изобразившего в «Портрете дьявольские глаза, осуждается Гоголем. Художник был как бы зачарован злом, околдован злом, и это — благодаря его искусству — передалось картине.
«Я слишком умею это делать», — сказал как-то Блок о писании стихов. В этих словах слышится усталость от техники, от внешнего совершенства. Желание снять этот грех с искусства и с художника, как и трехсотлетние грехи дворянства перед народом, толкает Блока навстречу «циклону». Ему кажется, что циклон все смоет и все очистит Что он целителен.
Чувства личной греховности и греховности русской жизни сливаются как в Гоголе, так и в Блоке. У Гоголя это вызревает в душе, в душе как бы и разрешаясь, у Блока тоже вызревает в душе, но совпадает с мировым катаклизмом. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь предупреждал, что опасность идет от непомерно развившейся «гордости ума», от «страстей ума». Он писал об исполинской скуке, которая, как смертная тень, может закрыть Россию. Но и против скуки, против гордости, против ожесточения и ненависти он находил одно заклятие — крест. Как крестится верующий человек при приближении нечистой силы, так Гоголь заклинал надвигающееся зло именем Христа.
Здесь-то и возникает в открытой форме и, может быть, впервые в прозе Гоголя имя Христа. Отныне Г оголь будет мерить все этим именем, сверять с ним человека и его деяния, начиная от самого низшего, стоящего в низу иерархической лестницы, и кончая высшим, то есть самим царем. Ибо и царь должен «быть образом того на земле, который сам есть любовь».
«Светлое Воскресение» — так назвал он финальную главу своей книги. Она посвящена празднованию самого светлого праздника на Руси — Пасхи. Помещение ее в конец книги объяснялось не только требованиями композиции, но и требованиями идеи. Апофеоз воскресения Христа является венцом исповеди Гоголя и венцом «Выбранных мест».
Христос, может быть, одно из главных действующих лиц этой книги. Если кто и ведет здесь Россию, то он, если за кем, по мнению Гоголя, и должна идти она, то за ним. Он ставится в образец чиновнику, поэту, помещику и монарху. Его закон кладется в основание законов государства. Политическая, хозяйственная, нравственная жизнь должна быть подчинена ему. Рассказ об А. А. Иванове, создателе картины «Явление мессии»,— рассказ, где повествуется о муках художника, пытающегося изобразить обращение человека к Христу, — составляет центр книги.
Совпадает ли это с поэтическими представлениями Блока? Есть ли Христос Блока, шествующий впереди двенадцати (в поэме «Двенадцать»), хотя бы отчасти Христос Гоголя, или это другой образ?
В блоковских заметках о Христе, в строках стихов, где он является, нет ни грана гоголевского отношения к Христу, то есть безусловного приятия идеи Христа и личности Христа. Для Гоголя Христос богочеловек, сын Бога, сын Человеческий. Для Блока это метафора. Он пользуется ею без священного трепета и с тем профессиональным чувством, с каким мастер естественно пользуется образами старой поэзии.
Мы бы слишком отошли от темы, если бы взялись говорить о том, как относилась к образу Христа русская литература. Нам пришлось бы отойти к древней русской литературе, к Аввакуму, затем к оде Державина «Бог», а потом к последним стихам Пушкина. А после перейти к поэзии и прозе всего XIX века. Скажем только, что Христос никогда не был литературным героем на Руси. Он был Христос.
Блок творит в иное время, в атмосфере другой литературы, которая как бы сняла запрет с этого имени и ввела его в свой литературный контекст. Так что здесь дело не в одном Блоке, но и в эпохе.
И вместе с тем, в его отношении к этому образу есть нечто личное. Даже непозволительно личное, с точки зрения Гоголя. Христос проходит через всю поэзию Блока и доходит с нею до конца. И всюду совершаются подмены и перестановки в стихах, где на место героя является автор, а автора «замещает» герой. «Мне, не воскресшему Христу», — пишет Блок. Блок называет своего лирического героя (сиречь себя) «Сыном Человеческим», а в набросках плана пьесы о Христе прямо упоминает имя своей жены рядом с именем Магдалины. Христа он делает художником, то есть поэтом. «Россия — моя Галилея», — пишет Блок. Из этого следует: я — Христос. Христос искупает грехи человека, Блок — грехи дворянского рода и искусства.
Христос у него и «невоскресший», и «сжигающий», и «чудовищный», и «уставший», и «грешный». Он не мужчина и не женщина, он, наконец, «ненавистен» Блоку как «женственный призрак». Последнее сказано о герое «Двенадцати».
«Великое и страшное имя — Христос», — говорил Гоголь. Гоголь, как и тютчевская душа, готов «к ногам Христа навек прильнуть». Он поклоняется Христу, он верует в него, не страшится вступить с ним в диалог, преступить им самим очерченный круг (вспомним Хому Брута), за которым личное отношение к Христу, споры и вопросы. У Блока нет страха перед Христом. Тут уже видна школа Достоевского, школа пародирования, провоцирования евангельских образов с целью проверки их подлинности. Поэтический ход здесь как бы инструмент этой проверки.
Недаром при Христе Блока в плане пьесы о Христе присутствует Фома Неверный — Фома Неверующий, которого, правда, заставляют поверить, а после того проповедовать «инквизицию, папство, икающих попов». Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» не говорит «поп», он говорит «священник». Для него имя священнослужителя свято, по крайней мере, должно быть освящено именем божиим. В лексике Блока он только поп:
А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?
В «Двенадцати» поп шарахается от красногвардейцев в сугроб, в «Выбранных местах» он вместе с народом идет за Христом.
У Гоголя пасхальный звон, раздающийся в Светлое Воскресение над всей Россией, объединяет, «всю землю сливает в один гул», для Блока это звон бесполезный: «Над смрадом, смертью и страданием трезвонят до потери сил».
В стихотворении «Новая Америка» Блок снижает образ мессии в прямом и переносном смысле. Рисуя картину России, над которой разносится все тот же колокольный звон, он — в пику этому звону — провозглашает:
Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!
«Царь иудейский», «жених», «мессия» — евангельское обозначение Христа. По христианской символике Христос — Жених, а Невеста — церковь. Блок обращает эту символику на себя, в его стихотворениях жених он, Блок, а его невеста (или жена) Россия.
В «Новой Америке» Блок низводит героя не только с небес на землю, но и под землю (в древней мифологии обиталище ада), он неодушевленный камень (уголь) ставит на одну доску с тем, кто есть дух и олицетворение духа.
В поэзии Блока имя Христа, если о нем идет речь во втором или третьем лице, редко пишется с большой буквы С заглавной буквы пишется имя Женщины, Прекрасной
Дамы, Незнакомки, Жены и т. д. Женщина, земная женщина, грешница и любовница, встает между поэтом и Богоматерью.
Еще П. Флоренский писал, что «кощунство» Блока над богородицей, «над спасенья нашего главизной» есть предел демонизма и одновременно свидетельство «подлинности» последнего. По мнению П. Флоренского, это «кощунство всерьез», и оно «обязывает быть причастным глубине». Блок, пишет П. Флоренский, ломится к престолу через царские врата, сокрушая центр иконостаса — изображение благовещения.
Действительно, в стихотворении Блока «Благовещение» показано падение девы Марии. Не в силах устоять перед красотою, молодостью и чувственным отношением к ней ангела, она отдается ему под сенью его широких крыл И этот акт любви наблюдает находящийся за занавесом художник.
Как известно, Блок хотел написать исследование об изображении богоматери на русских иконах. Но этого замысла он не осуществил. Зато мадонна много раз является в его стихах. И всякий раз как бы совершается дьявольское искушение — кроткие матери божии начинают смотреть с фресок и картин «кошками», девками. В их взглядах вспыхивает алчность, голод. Их взгляды похожи на ненасытный взгляд Клеопатры, изображение которой Блок видел в одном из флорентийских музеев.
Между мадоннами Блока и поэтом в его стихах существует плотская связь.
Тут играет улыбка отрицателей и циников Достоевского. В статье «Ирония» Блок писал, что смех его эпохи, по преимуществу, «разлагающий смех». Меня самого, добавлял он, «ломает бес смеха». Бес смеха — даже не дьявол. Он сродни «мелкому бесу» Федора Сологуба, перед которым колоссальные создания комического воображения Гоголя кажутся сказочными богатырями.
Гоголь боялся разрушительного влияния своего смеха и поэтому, как бы неся на себе грех осмеяния, отрицания, насмешки над человеком, превратил всю вторую половину своей жизни в оправдание. У Блока нет оправдания, а есть желание скорейшей гибели.
В Гоголе смех все еще от полноты, от здоровья, от здоровья самого смеха, у Блока
—от «болезни личности», от двоеверия, от разложения. Сергей Бочаров прав, когда называет иронию Блока романтической, но это ирония не одного восстания, но и падения, если пользоваться терминологией Достоевского. Разлагающий смех исходит из разложения и уходит в разложение — в разъедающую щелочь, в истребление целого, расщепление целого. Даже в храме, где немеет комическое одушевление Гоголя, у героя Блока не исчезает улыбка.
В своей молитве суеверной Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной Смеются лживые уста, —
пишет Блок в стихотворении «Люблю высокие соборы».
Но под тем же куполом собора — в данном случае Сиенского собора — он способен чувствовать и другое:
Молчи, душа. Не мучь, не трогай,
Не понуждай и не зови:
Когда-нибудь придет он, строгий.
Кристально-ясный час любви.
Идея подвига не покидает и Блока. Его состояние колеблется на весах веры и безверия, и смех должен скрыть это колебание, покрыть его.
Что такое смех Гоголя? Он соединяет разорванные явления жизни, он лечит, врачует, он восполняет пустоту, которая часто и есть сама жизнь. У Блока пустота как бы вакуум между рождением и смертью. В смехе Гоголя, как говорил Блок, слышен «полет на воссоединение с целым», «Ревизор», по мнению Блока, «праздник». Слова эти сказаны, кажется, о самой безнадежной комедии на свете.
Смех Гоголя не разлагает, не отзывает человека с праздника. Он зовет на праздник. И по этой своей поэтической природе он близок Блоку. Потому что над цинизмом, над усталостью, над «безочарованием» (это слова Жуковского о Лермонтове) горит в поэзии Блока звезда любви:
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.
2
Блок фатально смотрит на судьбу искусства. Если Гоголю, как писал один исследователь, присущ «магический идеализм» в отношении искусства, если Гоголь верует, что искусство способно преобразить мир и изменить человека («Портрет», статья «Об «Одиссее», переводимой Жуковским»), то Блок не верует в это. Он считает, что искусство износилось, что и на него должна пасть карающая рука. «Возмездие падет и на него, — пишет он, — за то, что оно было великим, тогда когда жизнь была мала; за то, что оно отравляло и, отравляя, отлучало от жизни; за то, что его смертельно любила маленькая кучка людей и — попеременно — ненавидела, гнала, преследовала, унижала, презирала толпа». С отвращением отворачивается Блок от толпы зевак и туристов, которые своими спинами загородили в миланской церкви «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. «Так и все стены живых картин, — добавляет он, — заслонены мертвой людской стеною» («Молнии искусства»).
«Не будет в тебе никакого художника и никакого художества», — сказано в «Откровении Иоанна Богослова» о судьбе искусства в гибнущем Вавилоне.
Примерно так думает накануне событий 1917 года Блок. Для Гоголя (как и для Пушкина, Достоевского, Толстого) прошлое — твердыня, мера, гранит, на котором может воздвигнуться здание настоящего. Не на разрушении и гибели, не на пепелище хотел бы Гоголь строить, а на устоявшихся основах русской жизни, на традиции, на предании, на камне выработанного веками русской истории идеала.
Прошлое истории воплощается для Гоголя в битвах, сражениях, объединяющих моментах русской жизни. В эти моменты весь народ, как пишет Гоголь, думает и чувствует «как один человек». Это украинское Возрождение, XVII век, эпоха «козацких» войн, это победы Петра, екатерининская эпоха, наконец, Бородино и 1812 год. «Соберемся, как русские в 1812 году», — восклицает он в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Громоподобная лира Державина еще слышна в строках Гоголя.
У Блока нет за спиной екатерининских «орлов», как назвал Гоголь деятелей эпохи Екатерины II, ни Бородина, ни 1812 года. Его род уже целым столетием отделен от того времени. В глазах Блока Цусима, Порт-Артур, 1905 и 1914 годы. И — галицийские болота, в которых тонет русская армия. Детство и юность Гоголя восходят под звездой Пушкина, звездой победы над Наполеоном. Бронзовый, а не живой Пушкин смотрит на Блока с постамента на Тверском бульваре.
Отсюда иллюзии Гоголя и отсутствие иллюзий у Блока. Для Гоголя война — доблесть, защита отечества, слава, для Блока — позор и «пошлость». Лишь в дальних событиях русской военной истории он видит красоту.
Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи! —
пишет он в стихах о Куликовской битве.
Цикл «На поле Куликовом» есть историческая мечта Блока, аналог «Тараса Бульбы», но еще более отнесенный в сферу воображения, в сферу музыки. Это мечта Блока о единении, о сплочении через кровь, пролитую во имя России и ее целостности. Сама Куликовская битва есть образ целого — того целого, которым уже не может быть эпоха Блока.
Гул копыт конницы на поле Куликовом отзывается эхом на гул копыт конницы Тараса Бульбы.
Россия у Гоголя — тройка, несущаяся вдаль, у Блока она «степная кобылица» и та же тройка. В записях к стихотворению «Я пригвожден к трактирной стойке...». Блок пишет об этом образе: «Слышите ли вы задыхающийся гон тройки?.. Это — Россия летит неведомо куда — в сине-голубую пропасть... Видите ли вы ее звездные очи — с мольбою, обращенною к нам: «Полюби меня, полюби красоту мою!..» Кто же проберется навстречу летящей тройке тропами тайными и мудрыми, кротким словом остановит взмыленных коней, смелой рукою опрокинет демонского ямщика...»
Это написано в октябре 1908 года, а месяцем позже, в статье «Народ и интеллигенция» Блок даже не пытается «остановить» бег тройки. «Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух», — летит прямо на нас? (Выделено Блоком. — И. З.) Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель».
Два чувства разрывают Блока: желание остановить, направить бег тройки и — броситься ей под копыта. Ноты поэтики конца слышны в предреволюционных стихах Блока.
Если гоголевская тройка в «Мертвых душах» никого не давит, а несется по дороге, сопровождаемая беззлобными усмешками русского мужика, то у Блока ее бег приобретает зловещий характер. И сам ямщик, сидящий на облучке, уже не ямщик, а демон, демонский ямщик, и «усмешка мужика», которую барин видит с высоты несущегося экипажа, не сулит барину ничего хорошего. «Интеллигенты не так смеются, —читаем мы в статье «Народ и интеллигенция», — несмотря на то, что знают, кажется, все виды смеха; но перед усмешкой мужика, ничем не похожей... на гоголевский смех сквозь слезы... — умрет мгновенно всякий наш смех, нам станет страшно и не по себе».
У Г оголя тройкой правит Селифан, который хоть и из-под палки, но делает то, что приказывает ему барин. Он надувает барина, но он не зол на барина, не питает к нему вражды. Для него теплая лежанка, кабак и красная девка с белыми ручками, за которые он может подержаться в теплый летний вечер, — утешение и награда за тяготы дороги. Селифан не боится Чичикова, но и Чичиков не боится Селифана.
Блоковский барин боится мужика.
Сегодня ты на тройке звонкой Летишь, богач, гусар, поэт...
Но жизнь — проезжая дорога,
Неладно, жутко на душе:
Здесь всякой праздной голи много Остаться хочет в барыше...
Ямщик — будь он в поддевке темной С пером павлиньим напоказ,
Будь он мечтой поэта скромной, —
Не упускай его из глаз...
Задремлешь — и тебя в дремоте Он острым полоснет клинком,
Иль на безлюдном повороте К версте прикрутит кушаком...
Иронические отношения, которые существуют у Гоголя почти между всеми его героями и их слугами, между помещиком и крестьянином, не меняют того, что мужик для барина — «свой», а барин для мужика — хоть и отвратен иногда — тоже «свой». И спят, и едят, и ездят они все время вместе. Тонкая перегородка отделяет Чичикова от Петрушки и Селифана, так же отделяет она героев «Портрета», «Носа», «Ревизора» от их дворовых, где бы они ни жили — в Петербурге, в маленьком городишке или на постоялом дворе.
«У нас нет ненависти между сословий, как на Западе, — писал Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», — у нас дворянин и крестьянин связаны «сильнейшими связями — связями во Христе». Пусть это идиллия Гоголя, но это идиллия, в которую он верит.
Блок в нее не верит. В 1917 году, в месяцы засухи, рассуждая о Промысле Божьем, не посылающем людям дождя, он записывает: «И вот задача русской культуры — направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевую музыкальную волну».
Это, собственно, и есть задача Христа в «Двенадцати». Христос идет впереди огня («кругом огни, огни, огни»), впереди восклицаний о мировом пожаре. Он, кажется, знает, что нужно сжечь.
Это как бы новое крещение, но не водою, а огнем.
Идея эта категорически противопоказана Гоголю. В «Мертвых душах» Гоголь не без иронии изобразил возмущения крестьян. «В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист... Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили не-антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, когда мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан- исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам».
У Гоголя нет сомнений, что бунт надо остановить. Даже капитан Копейкин в первой части «Мертвых душ» обращается с письмом к государю и готов сложить оружие (он — главарь разбойничьей шайки), лишь бы была удовлетворена справедливость. Блок между «остановить» и «направить» выбирает последнее.
Его Христос идет впереди двенадцати, но кто он? Кто он, если не сын Божий? Или, может быть, он сын поэта?
В поэме «Возмездие» (1921), где все грехи рода должен искупить последний в роде, поэт угадывает в неопределенной дали образ своего наследника — сына, рожденного от женщины по имени Мария. Поэт встречает ее где-то в Польше и умирает в ее объятиях.
Мария, нежная Мария,
Мне пусто, мне постыло жить!
Я не свершил того...
Того, что должен был свершить...
Этот набросок окончания «Возмездия» относится к маю—июлю 1921 года. Таковы, по существу, последние стихи Блока. Есть ли новый младенец новый богочеловек, а нежная Мария — мать его? Оставим этот вопрос без ответа.
В набросках плана пьесы о Христе, которую Блок задумывает в те дни, когда пишет свою поэму (речь уже о «Двенадцати»), герой назван «художником». Он слушает, что говорят апостолы, что говорит народ, и «пропускает разговоры сквозь уши». «Что надо, — пишет Блок, — то в художнике застрянет». «Тут же проститутки», — добавляет он.
Герой дан в окружении той атмосферы, которая близка «Двенадцати». Есть толпа, есть «митинг» (момент нагорной проповеди), есть грешные апостолы (как Петруха и Ванька в «Двенадцати»), есть Иуда, у которого «лоб, нос, перья бороды, как у Троцкого», есть улица, есть факт насилия (в отношении Фомы Неверного), есть, наконец, ссора между апостолами (ссора между двенадцатью и Петрухой), есть упоминание о воскресении: «А воскресает как?»
Блок как бы подбирает тона для своего Христа. Герой неясен. Он не принадлежит ни тем, ни другим (ни апостолам, ни толпе), он сам по себе, он задумчив, «рассеян», но он тут не посторонний, все события обращаются вокруг него, и народ ему не безразличен, ибо, как пишет Блок, «он все получает от народа».
Момент волевого начала выявлен лишь в одной сцене: «Митинг». Но это другой митинг. Нагорная проповедь не политическая речь, это слово поэта.
Понимает ли толпа, за кем идет и идет ли она за ним?
В «Двенадцати» двенадцать не видят Христа, они окликают его, просят показаться, но тот не является, и они в раздражении стреляют туда, где мерещится им его тень. Тень это или пятно — понять трудно. Неясность облика идущего впереди остается в силе.
Раздаются выстрелы — вьюга отвечает на них смехом. Смех кружит в этой поэме Блока как метель, надувает сугробы, отбрасывает в сторону всех, кто мешает красногвардейцам идти «державным шагом», хохот отдается над убийством Катьки и над горем Петрухи
Гуляет нынче голытьба, —
пишет Блок, и мы вспоминаем страх седока тройки перед «голью праздной».
В «Двенадцати» поэт и стихия впервые сходятся один на один и лицом к лицу. Все мешается в этих сценах — «святая злоба» и «черная злоба», «черный вечер» и «белый снег», кровь Катьки и слезы Петрухи, печатный шаг красногвардейцев и «нежная поступь» Христа. Улица оглашена криками, перебранкой двенадцати, воплями старушки, воем бездомного пса. Вьюга улюлюкает вслед двенадцати. Но герой идет впереди в молчании. Красногвардейцы — с винтовками, он — «в белом венчике из роз».
Несовместимость, несоединимость и — вместе с тем — роковая связь.
Огонь Емельки и Стеньки, мужицких вождей, орудий народного возмездия, огонь, который готов «направить» герой Блока, огонь не поэтический. В его пожирающем пламени может сгореть все.
И идут без имени святого Все двенадцать — вдаль,
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.
Такого безраздельного расчета с прошлым не желал еще ни один поэт. Блок приравнивает события поэмы к страшному суду. На обломках старого Иерусалима (старой веры) должен быть построен новый Иерусалим. И ввести туда людей может только тот, кого поставил Блок впереди идущих в «Двенадцати».
Блок как-то писал, что поэт видит Бога. В «Двенадцати» никто не видит Христа (он «за вьюгой невидим»), но его видит автор. Тот является ему, как и должен явиться поэту, — не в образе Христа карающего (таков он в «Откровении Иоанна Богослова» и на фреске Микеланджело на стене Сикстинской капеллы в Риме), он идет «снежной россыпью жемчужной». Снег, над которым движется этот «призрак» Блока, ослепительно чист. На нем нет следов крови, хотя над самим героем развевается «кровавый флаг».
Этот Христос скорее напоминает другого Христа Микеланджело — героя «Пиета», героя — нежного сына девы Марии, которая — после снятия с креста — держит его на руках. Он взрослый муж — и он младенец, он бессилен — и он нуждается в материнской ласке.
Найдешь в душе опустошенной Вновь образ матери склоненный, —
писал Блок в «Возмездии».
Сын девы Марин и сын смертной женщины Марии сближаются в этих стихах.
Но вьюга уже разыгралась над Россией.
Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах...
Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...
Музыку «циклона» разрывают выстрелы. Они хотели бы достать и идущего впереди, но тот «от пули невредим».
Так невредимо и искусство. «Когда родился Христос, — писал Блок в очерке о Катилине, — перестало биться сердце Рима». Но не перестало биться сердце искусства, — добавим мы. Герой Блока слишком женствен, чтоб быть красногвардейцем. Он слишком красив, чтобы сжигать красоту, он — над вьюгой, как парит над событиями истории всякий поэт.
Все поэтическое существо Блока отдается здесь надежде. «Несчастью верная сестра», как назвал надежду Пушкин, вновь оживает в его стихах. Она витает и над выстрелами, и над смехом, и над плачем, покаянием, смирением, жестокостью. Гоголь с его светлыми пророчествами вспоминается в эти минуты. Поэзия конца обращается, кажется, к поэзии начала.
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь, говоря, что «христианским высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт», добавляет: «другие дела наступают для поэзии» — она призвана вызвать человека «на битву уже не за временную нашу свободу... но за нашу душу». Это требование согласуется со строками стихотворения Блока «Пушкинскому Дому»:
Пушкин! Тайную свободуПели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Это стихотворение Блок пишет в конце своей жизни. Выходя к Христу и к гоголевской идее следования по пути Христа, он ищет одновременно поддержки у Пушкина — поддержки у самой поэзии.
«Тайная свобода» — это свобода духа, «непогода» — метель и вьюга «Двенадцати». Слово «музыка», которым Блок заклинал стихию, в предсмертные месяцы исчезает из его словаря. На место «музыки» становится «поэзия» Она переживет падение Рима. Она выстоит в немой борьбе. Она имеет ключ к «тайной свободе».
Гоголь писал, что поэты не только казначеи сокровищ наших, но и строители наши. Таков же поэт и в виденье Блока. Поэзия, но его утверждению, должна «внести гармонию во внешний мир». Ее «немая борьба» близка молчанию Христа в финале «Двенадцати».
Финал поэмы и судьбы Блока приобретает в этих последних стихах свою завершенность. Слова о «гармонии» придают этой завершенности вид окончательного решения.
Стихи Блока о Пушкине ставят точку на его земном пути. Тучи рассеиваются, на небе вновь является солнце, и вершина Блока вплотную подвигается к вершине Гоголя.
1981г.
Идеи и игры
ШАНЕЛЬ № 19
Оповести Евг. Долматовского «Международный вагон»
Сейчас про заграницу пишут редко и пишут по преимуществу те, кто побывал там в первый раз. Это сообщает свежесть впечатлениям. Заглянул, скажем, автор в Сикстинскую капеллу — смотришь: очерк. Побывал в Англии — на тебе эссе об английских хозяйственных магазинах.
Путевой очерк более сворачивает в сторону внутреннюю, российскую, и это хорошо, хотя нам, конечно, было бы интересно знать, что делается и за рубежом. Знать примерно на уровне «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевского или «Парижских писем» П. Анненкова.
Те, правда, живали за границей подолгу. Лечились на водах, переезжали из страны в страну. Достоевский во Флоренции даже «Идиота» писал, дом этот и по сей день стоит недалеко от палаццо Питти.
Ну а Евг. Долматовский? Он тоже — и тут я его цитирую — «несколько раз останавливался в Париже, когда работал над книгой стихов». И вообще бывал в Париже не раз. Как, впрочем, и в Берлине, и в Мадриде. В его повести «Международный вагон» (Новый мир. — 1986. — № 5), посвященной поездке в Париж, есть справка: он и его жена посетили музей Прадо в Мадриде десять раз.
Автор повести любит статистику. Он сообщает читателю, что вагон, в котором он и его жена совершают поездку в Париж, носит номер пятнадцать. В вагоне «десять купе» и «двадцать пассажиров». В каждом купе «два дивана», «один над другим». Мы узнаем, как называется этот вагон на других языках, какая у него окраска, какая форма крыши. Евг. Долматовский вспоминает при этом, что в старых вагонах того же типа стены были обиты «красным деревом», в них было удобно ехать, там были бронзовые ручки у дверей, умывальники и т. д.
Автор повести ценит комфорт. И хотя летать самолетами Аэрофлота удобнее (им тоже отведено место в «Международном вагоне»), все-таки поезд безопаснее, к тому же Евг. Долматовский — и тут я его вновь цитирую — «весь мир излетал вдоль и поперек». Рассказывая об аэропорте Шереметьево-2, он добавляет, что это то самое Шереметьево, «откуда я вот уже лет двадцать подряд улетаю и улетаю».
Проследить за маршрутами Евг. Долматовского невозможно. Можно ткнуть пальцем в любую точку на карте и сказать с уверенностью, что он здесь был. «Я ездил в Сахару, когда был в Алжире», — пишет он. «Будучи в Японии, я был приглашен одним писателем в ресторан». «Приходилось ездить по внутренним железнодорожным линиям в Норвегии, Румынии, Испании». «Я побывал в Перу», «выступал в Обществе советско- перуанской дружбы». «Я представлял на митинге (в ГДР. — И. З.) Советский Союз». «Мы, — рассказывает он в другом месте, — встречались на поэтических фестивалях в Греции, Марокко, Югославии». «Будучи во время американского нападения на Вьетнам в Ханое, я не раз пересекал Красную реку». «Я был приглашен на симпозиум, прилетел вечером в Брюссель и поселился в отеле «Космополит».
Что касается Парижа, то в Париж был «первый заход», потом второй. «Впервые я бывал в Париже, — уточняет автор, — три десятилетия назад». «Позже на международных конгрессах в защиту мира в разных краях планеты, да и при посещениях Франции... » В Париже Евг. Долматовский писал книгу «Африка имеет форму сердца». В Париже он познакомился с Луи Арагоном и Эльзой Триоле. Они водили его по бульвару Сен-Жермен и улице Кота-рыболова и передали ему «свою восторженную влюбленность и в город и друг в друга».
На этот раз в Париж его пригласил «один из постоянных соратников Жолио Кюри». Кроме того, жена автора — «искусствовед, специалист по западной живописи и ваянию». А сам Евг. Долматовский готовит книгу о наших партизанах, сражавшихся во Франции. Да и вообще отправиться в Париж куда лучше, чем в дом отдыха или санаторий. Или, не дай бог, на периферию. Евг. Долматовский так и пишет: «Периферия»
—и досадует, что там проводятся «всевозможные литературные дни, недели и праздники». Эти дни и недели он не одобряет. На них, замечает он, выступают одни «саморекламисты».
Другое дело — столица Франции. Париж стоит мессы. Да и «просто побывать в Париже — счастье, чего греха таить!».
Повесть заканчивается тем, что поезд, в котором находится описываемый Евг. Долматовским международный вагон, подходит к Парижу. Идут строки: «Мы приближаемся к Парижу, мы к Парижу приближаемся, к Парижу приближаемся мы!» «Мы» — это пассажиры вагона, и «мы» — это сам Евг. Долматовский и его жена.
«Местоимение «мы», — поясняет Евг. Долматовский, — относится не к нам двоим непосредственно. Вошло в привычку, впиталось в душу полагать все, происходящее у нас в стране, нашей судьбой». Именно поэтому, наверное, разговор, который ведут, оставшись вдвоем в купе, муж и жена, не касается дел домашних. «Мы растянулись на своих диванах, полнейший покой, отдых, как это на Западе называется, кейф. А разговор идет все о тех же проблемах, волнующих внучку.
—Неужели они посмеют напасть на Никарагуа?»
Дома об этом некогда поговорить. Дома «редко удается бывать вместе». У них «бессонная работа». «Наэлектризованные тревогами и обуреваемые жаждой не отстать от космических скоростей века», они не успевают «поглядеть друг на друга». Они «ложатся за полночь», «встают чуть свет» и сразу «врываются в круговерть дня».
Евг. Долматовский и его жена любят красные дни календаря, любят путешествия. В путешествии они и познакомились. Произошло это на «корабле мира», двигавшемся «к самой северной точке Европы — мысу Нордкап». А их заочное знакомство состоялось еще раньше: жена поэта, будучи девочкой, пионеркой, «пела у костра» его песню «Любимый город может спать спокойно».
Это не единственная песня на слова Евг. Долматовского. Его перу принадлежит и «Родина слышит, Родина знает», которую Юрий Гагарин «взял с собой в космос», и песня «В небесах мы летали одних» — о полку «Нормандия—Неман». Последнюю «перевели на французский язык», а проводник дядя Леня, обслуживающий пассажиров вагона номер пятнадцать, даже «слышал» ее «по телевизору».
Читая, удивляешься: зачем Евг. Долматовский об этом пишет? Его песни знают в народе. Их поют по радио, с эстрады. И нет никакой нужды в который раз об этом напоминать.
Я помню военную песню Евг. Долматовского «Ой, Днипро, Днипро». В тылу мы, мальчишки, пели ее и представляли наших солдат на берегу Днепра. Позже я узнал, что автор сам участвовал в боях за Днепр. Такое не забывается. Такое — и по прошествии лет
—внушает уважение.
Но когда все время говорится только о себе — и за служенного человека хочется остановить. Проезжает поезд город Гжатск (ныне Гагарин) — следуют воспоминания о встречах Евг. Долматовского с Гагариным. Появляется на горизонте столица Польши — и Евг. Долматовский вспоминает, как болел под Варшавой воспалением легких. А Берлин навевает ему образ молодого майора Долматовского, стоящего на ступенях рейхстага и держащего под мышкой бронзовую голову Гитлера. Снимок, где Евг. Долматовский запечатлен с этой достопримечательностью — и сие мы узнаем из повести, — был помещен в одном из западноберлинских журналов.
Из нее мы также выносим сведения о том, что автор «научился читать, писать» в Ростове, там же «переболел всеми смертельными болезнями... и набрался если не ума, то впечатлений». А еще в него «целились кулаки», а потом он «был деткором «Пионерской правды». Он автор книги «Зеленая Брама», которая вышла двумя изданиями, он был дружен с И. Эренбургом, К. Симоновым, встречался с Агостиньо Нето. Кроме того, он выступал со стихами на радио, «много читал и думал о Наполеоне, когда работал над сценарием о своем любимом художнике Верещагине», давал интервью западногерманскому телевидению. В Западном Берлине Евг. Долматовский «расписывался под протоколом о сотрудничестве».
Тщетно я искал в «Международном вагоне» большего, чем эти подробности. Во всех видах и всех ракурсах — и по преимуществу крупным планом — передо мной вставал автор. Он расспрашивал проводника дядю Леню, не пели ли французы, ехавшие в том же вагоне, его песню. Он жаловался на свое тщеславие, на свои немолодые годы, на «корреспондентскую, испорченную штампами душу», на то, что он «немного зазнается» в связи с тем, что его жена очень строго отбирает друзей, на «глупую привычку сперва обращать внимание на иностранцев, потом уж на своих», на то, что он «не великий писатель», и на многое другое.
«Что это я так любопытен?» — спрашивал он себя и без спроса просовывал голову в чужое купе. «Отчего я так тщеславен?» — и снова заводил речь о себе.
Жалобы эти сильно отдавали кокетством. Указывая на недостатки автора, они тем не менее притягивали читательское внимание опять-таки к нему, оставляя в тени остальных обитателей вагона.
Отех сообщается весьма скупо: один одет в кроссовки и «укороченные штаны», другой в «пакистанскую рубашку». На третьем «розовая кофта» и «розовые штаны», на четвертом «голубая майка и узкие штанишки до колен». Про жениха и невесту — американца и японку — сказано: «Оба в туфлях, состоящих из каучуковой подошвы и кожаного колечка для большого пальца». Про американца и японку Евг. Долматовскому нечего было сказать, поэтому он, подумав и погадав о том, что их могло свести вместе, ограничивается выводом: несчастные мои соседи по вагону.
Впрочем «несчастные» у него и пассажиры другого купе — Виктория и Эдик. Виктория в «туго натянутом трикотажном платье из черных и желтых треугольников», он
—в «шерстяном жилете». Говорят они все время о «загранработе» и курят «Марльборо». Виктория автору так не понравилась, что ему захотелось «размахнуться, дать ей пощечину». Только чувство интеллигентности остановило его. «Ладно, пусть живут как хотят, — решил он. — Оболью их безразличием!»
Как в калейдоскопе, мелькают в повести священник в облачении «из черного тропикаля» (из-под рукавов у него выглядывает фланелевая ковбойка), американец, выдворенный из СССР за то, что пытался провезти запрещенную литературу (в его облике запоминается только то, что у него брюки со множеством карманов), конголезец из Браззавиля (на нем «разношенные кроссовки»), индеец, прическа которого «напоминает крыло орла», «противоречивые репатрианты» — семейство, уезжающее в ФРГ и поедающее на глазах автора курицу, «шведка-путешественница», обвешанная «квадратными и шаровидными сумками из тонкого, химически поблескивающего материала», коммерсант «с асимметричным лицом боксера» и наши, русские: строитель газопровода, преподавательница французского языка Серафима Андреевна и проводник дядя Леня.
Разговаривая со строителем газопровода, Евг. Долматовский рассказывает о газопроводе Сибирь — Западная Европа то, что известно из газет; когда в его поле зрения попадает преподавательница французского языка, едущая во Францию преподавать русский, то он считает нужным поведать читателю, опять-таки основываясь на газетных данных, о преподавании русского языка «в Японии и в Португалии, в Бирме, Коста-Рике, Мавритании и Великобритании».
То же самое происходит, когда дело касается полка «Нормандия—Неман», или Парада Победы в Москве, или падения самолета-гиганта «Максим Горький», участвовавшего в полете над Ходынским полем.
Хотя в рассказе о катастрофе над Ходынкой автор повести отступает от общеизвестных фактов. Он, например, пишет, что фамилия летчика, задевшего крылом своего истребителя самолет-гигант (что и привело его к гибели), сохранилась только в стихах. Меж тем фамилия летчика — Благов — выбита на надгробной плите вместе с именами других погибших, останки которых замурованы в стене Новодевичьего монастыря в Москве.
Авиация — любимый конек Евг. Долматовского. Его сравнения, эпитеты и метафоры часто напоминают нам об этом. О своем багаже автор пишет: «крылатый багаж». О своем друге-иностранце: «упрямец, мечтатель, крылатый характер». А вот натюрморт с курицей: «Они ели курицу, складывали косточки так, что их грудка (косточек? — И. З.) напоминала разбившийся самолет в сильно уменьшенном масштабе».
Как я ни пробовал представить себе разбившийся самолет, похожий на съеденную курицу, у меня ничего не вышло.
Сетуя по поводу наличия у него штампов, Евг. Долматовский был прав, но в своем самобичевании скромен. Кроме штампов, которыми заселена вся повесть, в ней есть и прямые нелепости, языковые открытия, которые смущают душу. Я уже упоминал о «противоречивых репатриантах». А вот еще несколько примеров: «квадратное наречие», «болото болтовни», «взглядоотталкивающие стекла» и «человекоотталкивающие люди», «чувство родиносохранения». «Мир... стариком полагать», «обрасти... противостоянием», «исполнить ладонью... жест», «шустро выскочило... создание» — все это фразы из повести. Про фуражки пограничников говорится: «цвета лесов и полей». Но каков цвет лесов и полей? Что он, один и тот же? И разве этот цвет (если он все-таки есть) не меняется с временами года?
Язык — орудие литературы, и, если с этим орудием обращаться без знания, оно повернется против тебя.
Язык способен мстить за небрежение, способен — из-за неряшества в отношении к нему — поставить изображаемую ситуацию с ног на голову. Описывая историю времен войны, связанную с подвигом девушки-комсомолки, Евг. Долматовский рисует, как та уничтожает документы на верхнем этаже здания, а внизу уже появляются немцы. «Гомонили немцы», — пишет Евг. Долматовский, не замечая, как сразу же разрушает напряжение происходящего. Потому что «гомонить» могут дети, мирные люди, а не немца, которые пришли убивать и разрушать.
Желая помянуть добрым словом людей, пострадавших в 1937 году, Евг. Долматовский так поминает их, что лучше б он этого не делал. «Было среди моих друзей,
—пишет он, — и немало бедолаг, безвинно пострадавших. Они теперь обелены, но про беды умалчивается». Но какие же они «бедолаги»? Говорить так о людях, героически вынесших отвержение, унижение, годы немоты, по крайней мере негуманно. Бедолагами называют неудачников, тех, кому не везет в жизни, кто достоин скорее снисхождения, чем восхищения. А я восхищаюсь многими из тех людей. Для них это испытание было подвигом, и они его свершили.
Но когда едешь в международном вагоне, об этом думать не хочется. Гораздо приятнее рассуждать о духах «Шанель № 5» и «Шанель № 19» или о духах «Банди» (есть, как мы узнаем из повести, и такие), о «мартини со льдом» и французских купюрах, на которых изображен Эжен Делакруа и фрагмент его знаменитой картины «Свобода на баррикадах».
«Мой путь к международному вагону, — признается Евг. Долматовский, — был долог и извилист». «Начиналось с комсомольских эшелонов», с теплушек. Но те времена канули в вечность. «Не будем прибедняться, — добавляет автор, — настало время СВПС»
СВПС — это спальный вагон прямого сообщения Проехав в нем три тысячи километров от Москвы до Парижа, Евг. Долматовский не поведал нам ничего важного. Кроме, пожалуй, того, что он «впитывал пространство России, чтобы... повезти в Европу, в Африку, за океан, куда угодно». Впитывая, он формулировал некоторые свои мысли. Вот они: «Невелика честь для литературы — писать о готовеньких героях, куда важнее находить их и создавать»; «не писатель выбирает себе тему, а тема выбирает себе творца»; «то, что было характерно для феодализма, получило новое развитие в современности, простые люди из разных стран ищут способ соединиться»; «ведь мы всегда движемся, вращаемся вместе со своей планетой, поезд только придал ускорение извечной и безостановочной круговерти».
Да, когда приближаешься к вокзалу Гар-дю-Нор, когда тебя ожидает Лувр, Нотр- Дам, «Бальзак и Гюго, Клод Моне, Камиль Писсарро, Альбер Марке, наконец, наш Владимир Маяковский, вернувший Парижу молодость», — не до великих мыслей. Скорей, скорей! С перрона в Лувр, в кассу. «Итак, произведем первый валютный расход
—вот купюра... Итак, с нас тридцать два франка».
Изображение французской купюры и цена билета в Лувр стоят в конце повести как последний аккорд, рифмующийся со всем ее предшествующим содержанием. Они достойно венчают гимн пустякам, который пропел в «Международном вагоне» Евг. Долматовский.ИДЕИ И ИГРЫ
Жизнь литературы похожа на сообщающиеся сосуды. То один журнал вырвется с хорошей прозой (притом, что у него дурная критика), то другой, наоборот, преуспевает в критике, тогда как с прозой у него дела обстоят плохо. Когда-то мы читали критику «Нового мира» и даже «Октября», а теперь? В поисках критики приходится бродить с лампой, и дай бог, чтоб это была волшебная лампа — она хоть и нескоро, но приведет нас к искомым сокровищам.
С некоторых пор я стал читать альманах «Современная драматургия». Собственно, с тех пор, как он стал выходить. А выходит он три года. И стал читать не пьесы, а именно критику. Потому что в этом альманахе стали печататься Лев Аннинский, Инна Соловьева, Константин Рудницкий, Владимир Турбин. Критику ведь читаешь не по «темам», не по упоминаемым в ее статьях книгам и пьесам, а по именам тех, кто подписывает статьи. Личность — уже тема, талант — уже событие, уже повод для интереса, диалога, заочного диспута.
В «Современной драматургии» эти имена есть. Кроме упомянутых выше появились статьи Петра Палиевского, Станислава Лесневского, Михаила Эпштейна, Бориса Зингермана. Нескучно. Хочется этих критиков читать, хочется знать, что они думают — пусть даже о драматургии, о которой, как говорил Пушкин, «за недосугом» как-то не думалось.
Что такое для нас театр? Это именины. Иногда именины сердца, иногда просто выход в костюме и галстуке (хотя сейчас в театр можно ходить в джемпере и джинсах), на люди, под свет люстр, на глаза публики. Мы выходим в театр, как в гости, а в гости сейчас стали ходить редко. Стало быть, театр — несмотря на то, что там показывают, — праздник, выходной день.
В театр ходят не учиться, а отдыхать. Никто не несет с собою мысли, что с ним в театре произойдет катарсис, что он уйдет из стен театра другим — не таким, каким вошел. Для меня, например, праздник — поход в цирк. Я люблю яркий свет, музыку, люблю, когда меня смешат, когда замирает сердце от того, что кто-то взлетает под самый купол, а потом падает вниз. В антракте (или перерыве) ходишь по фойе, ешь мороженое, смотришь на нарядно одетых людей. Хорошо. Душа на месте.
Меж тем где-то на Юго-Западе, в подвале обычного московского дома, где обитают обыкновенные граждане, дают «Ревизора», «Женитьбу» и «Игроков». И два молодых человека играют Бобчинского и Добчинского так, как не играли их никогда на классической сцене, И хочется плакать, глядя на них, — плакать счастливыми слезами. Потому что Гоголь понят в этом подвале, как, может быть, нигде в мире. Понят в этих двух ролях, в этих беспомощных человечках, которые, возбуждая смех, возбуждают и такое сочувствие, такую жалость, о которой мог только мечтать Гоголь.
Об этом театре на Юго-Западе (называется он Студия при отделе культуры исполкома Гагаринского райсовета) не пишут, пишут о других театрах, а я хочу назвать имена двух актеров, которые играют героев Гоголя. Это В. Колпалов и А. Мамонтов. Дорогие мастера сцены! Дорогие гении современности! Пойдите, посмотрите на них.
Студия на Юго-Западе напомнила мне, что театр еще и храм, где можно очиститься, отслоить все дурное в себе от хорошего и почувствовать, что это хорошее не звук пустой, а нечто материальное, находящееся вблизи сердца.
Вернемся к критике. Критика «Современной драматургии» не зависит от театра. Скажу прямо: она хороша помимо театра и мимо театра. Потому что как только она начинает внедряться в сценографию, в отношения художника и театра, музыки и театра, в «проблемы» и «темы», которые, как я догадываюсь, являются пищей для докторских диссертации, я вяну. Я начинаю зевать, и мне откровенно хочется закрыть книжку альманаха.
Не знаю, может быть, все эти проблемы и темы надо обсуждать на театральных летучках или на совещаниях в министерстве культуры, но на страницах издания, предназначенного для всех, они не идут. Не лезут, что называется, в рот.
Не стоит, пожалуй, останавливаться и на тех, кто пишет об отдельных спектаклях и рецензирует эти спектакли. Такая критика — фантазия и сказка. Сказка, придуманная на миг, на одну минуту, так как завтра в той же пьесе и в том же театре актеры сыграют совсем другое.
Спектакль даже не фильм, его нельзя прокрутить снова, чтоб посмотреть, что и как сделано. Фильм отснят, и его не переиграешь. Пьеса переигрывается тысячу раз. И критика, которая гоняется за мгновением каждого исполнения, вынуждена приписывать мгновению то, что мгновению не принадлежит. Она смертное, исчезающее хочет возвести в закон, в принцип, она к частному — сиюминутно родившемуся и сиюминутно испаряющемуся — хочет приплюсовать общее. Конечно, актеры произносят один и тот же текст, конечно, у них есть штампы, «находки» и т. д. Но пользуется ими живой человек, и он никогда не сможет жить в этот вечер так же, как жил вчера. То мгновение умерло. Ту жизнь не вернешь.
Вот и приходится одному критику в одном жесте видеть печаль, а другому в том же жесте радость. Вот и сочиняет один критик такую сказку, а другой — иную. Хорошо, если сказочник талантлив и обладает даром воображения, а если нет?
Меня занимают в критике идеи и мысли, а конкретный разбор — он годится только тогда, когда из него вырастает мысль. Он может, наконец, и опираться на мысль, произрастать из мысли (порядок тут не важен), но если ты упираешься в одну эмпирику, то опять-таки делается скучно.
Борис Емельянов в статье «Баловни века» пишет о героях пьес, которым под сорок. Условно, конечно, под сорок — кому-то, может, и побольше, а кому-то поменьше,
—но, за неимением лучшего термина, этих героев называют «сорокалетники». Он остроумно замечает, что это люди, родившиеся сразу после Победы. И что же из них стало? В кого они выросли? «Баловни века» — название, уже отвечающее на вопрос. Это не суд и не осуждение. Это желание назвать вещи своими именами и, воспользовавшись материалом театра и кино, рассмотреть портрет целого поколения.
Статья написана без гнева, но с иронией. В ней есть тоска по сильной личности. И печаль от того, что такой личности нет. Нет ни в пьесах, ни в фильмах, ни в жизни. Поколение, получившее в подарок мир и относительное спокойствие, оказывается, не очень радо своему положению. Оно томится. Оно мечется, оно идет на всякие эскапады и игры, чтобы как-то выразиться. У него нет идей, и оно, как замечает горько Б. Емельянов, вынуждено «вытанцовывать» свой гражданский протест».
Критику Бориса Емельянова можно назвать социологической, а я бы назвал ее физиономической. Тут схвачена физиономия целого слоя людей, которых автор называет не только «баловнями века», но и «вечными школьниками» и просто детьми. Они выросли, но не повзрослели, они хотели бы быть мужчинами, но им не хватает мужества. Как, впрочем, и их сверстницам, женщинам, не хватает женственности.
Пьесы и фильмы мелькают в статье, чтоб помочь нам понять, откуда эти молодые люди взялись. Где их родословная. И к чему они, собственно говоря, пришли. Именно пришли, а не идут, потому что движения Б. Емельянов в этом поколении не видит. Оно уже сложилось, и его роль сыграна.
«А Бэмс, — пишет он о герое одной пьесы, — когда-то «кумир молодежи», влачит жизнь скромного инженера по коммунальному хозяйству под своей настоящей фамилией
—Куприянов. Непостижимо! Гегель назвал бы это хитрым маневром Мирового Духа».
Да, с Мировым Духом у этого поколения дело обстоит плохо. Но, может быть, в этом застое почил на некоторое время и сам Мировой Дух. И у него бывают простои, остановки, наконец, отпуск. Последуем за интонацией иронии Б. Емельянова и пожалеем этих ребят. Пожалеем и их подружек. Если человек томится в отсутствии идеала, то он, может быть, подозревает, что этот идеал все же существует. Что без него хуже, чем с ним. В финале статьи, говоря о том, что современная молодая женщина ждет от своего избранника подвигов, Б. Емельянов пишет: «Чтобы требовать от женщины добродетелей Пенелопы, надо самому по меньшей мере быть Одиссеем».
Это верно. Но и Одиссей не идеальный герой. Он герой потому, что воюет, побеждает циклопа, искушения сирен (и самих богов), потому что у него есть цель — вернуться на Итаку. Но Одиссей (и не станем о том забывать) для достижения этой цели идет на все. В том числе на обман. Вспомните, как он расправляется с женихами. Он устраивает им почти что Варфоломеевскую ночь.
Вероятно, современные «вечные школьники» на это не способны. На что же они тогда способны? Вот вопрос. Б. Емельянов настаивает на одном: на том, чтоб они хотя бы хорошо работали. Этого «хотя бы» хватило для самоудовлетворения целой эпохе. Потому что восстановить честное отношение к труду — это уже значительно продвинуться в сторону Мирового Духа.
Мне нравится этот пассаж из статьи Б. Емельянова: «Раб, под кнутом работающий на фараона, мог бы сказать, указывая на пирамиду, здесь есть и мои камни, стоящие на века. Но ничего нет страшнее судьбы Сизифа. Производительность его труда равна нулю и рассчитана на полную деморализацию Сизифа».
Я недавно был в Греции и видел гору, на которую катал камни Сизиф. Гора высокая, и, глядя на нее, видишь, что миф о Сизифе дан человечеству в назидание. Но почему надо выбирать между рабом и Сизифом? Может, история предложит нам еще какой-то вариант?
Статью Б. Емельянова приятно читать. Статья умная и написана с блеском. Написана свободным пером. Иногда вкус, правда, отказывает автору, и, будучи увлечен своей идеей, он забывает о материале, с которым имеет дело. В «Скамейке» А. Гельман,
—читаю я, — «достигает почти пиранделловских высот». Не знаю, что такое пиранделловские высоты, знаю только, что Пиранделло прекрасный писатель. И появление его имени рядом с именем А. Гельмана меня несколько озадачивает. Потому что, читая альманах, я прочитал заодно и «Скамейку». И не нашел там ничего пиранделловского (т. е. сочувствия к «маленькому человеку»). По-моему, это длинный газетный фельетон, разбитый на диалоги и имеющий целью поразить одну цель — плохую работу наших гастрономов. Ибо единственная идея, которую я выудил из разговоров героев на скамейке, это идея, что наши гастрономы закрываются слишком рано: в 9 часов вечера. Из-за этого, как считает А. Гельман, мужчины и женщины спешат в свои квартиры и там предаются разврату и пьянству.
Если А. Гельман, по мнению Б. Емельянова, достиг пиранделловских высот, то И. Дворецкий, по заявлению И. Вишневской, превзошел всю русскую литературу. «Самую решительную роль в пересмотре многих и многих взглядов, сложившихся на характер «делового человека», — пишет она, — как его понимали доселе в русской литературе, сыграла пьеса И. Дворецкого. Именно она и стала первооткрывателем абсолютно новых жизненных процессов, повлияв, в свою очередь, на саму действительность».
Как говорит один мой приятель, неслабо сказано.
Если мы осторожны в заключениях относительно влияния на русскую жизнь книг Достоевского и Толстого и говорим скромно, упоминая о них, что влияние это было косвенное, невидимое, опосредствованное, духовное, то тут прямо заявлено: влияет, и все.
И. Дворецкий в статье И. Вишневской превзошел русскую классику, а Александр Гельман — «драматургию веков и народов». Так черным по белому и написано: «Чувство и долг, сколько помнит себя драматургия веков и народов, были в трагическом разладе... Но, может быть, первым на мировой сцене познал... единение чувства и долга бригадир Потапов из пьесы А. Гельмана «Заседание парткома».
Заявление пародийное, но вполне в духе театральной критики. У нее, как я заметил, страсть к преувеличениям еще сильней, чем у критики литературы. Тут венки и звезды раздаются гораздо щедрее. Мировая сцена просто трещит и разламывается от тяжести памятников и монументов, которые воздвигаются на ее слабых досках. Кажется, гуляешь по греческим залам Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: всюду изваяния, изваяния, изваяния, правда, иногда с отбитыми носами и другими частями тела.
Еще мы любим цитировать. Борис Любимов, например, несколько статей которого опубликованы в альманахе, постоянно цитирует то П. Флоренского, то Б. Пастернака, то
А.Майкова, а то и Оноре де Бальзака. В его работах мелькания имен авторов пьес, актеров, режиссеров и иных театральных деятелей обязательно мешается с «гастрономическим» набором из самых лучших «блюд». Тут же цитируется непременно знаменитость и непременно мало цитируемая простыми людьми. Из-за этого я никак не могу понять, чего же хочет сам Борис Любимов и хочет ли он чего-либо вообще. Зато мне преподносятся мысли В. А. Жуковского о переводе, мысли П. Маркова об инсценировках, мысли Вл. И. Немировича-Данченко о «классичности». «Затишье на сцене, — пишет Б. Любимов, — рождает бурю в стакане воды, льющейся в наших дискуссиях». Получается, что буря... льется в дискуссиях. Но если в этой неуклюжей фразе автор имеет в виду, что льется не буря, а вода, то ее предостаточно в его пространных статьях
Чего ты хочешь — это очень важно. Что ты имеешь в виду — тоже. Когда у критика есть идея, ему не нужно обращаться к авторитетам. Но когда этой идеи нет, приходится показывать свою образованность.
Инна Вишневская пишет как будто идейные статьи. Они называются «Тревоги на марше», «Государственное мышление художника». Названия ответственные, солидные. Но как посмотришь, что за ними следует, то обнаруживаешь, что нет никакого марша и никаких тревог.
«Среди многочисленных прекрасных «энергий», — начинает свою статью «Тревоги на марше» И. Вишневская — ...есть одна мне несимпатичная. Это энергия настойчивого поддразнивания всех...». «На заре молодого советского театра выплеснулись различные тенденции». «Мощная интернациональная динамика, перемешавшая все», «новотворчество, резкая оригинальность... укладывались в испытанные каноны драмы», «сбившись в некой неонатуралистической тесноте», «внутренний мир уже не «принимался» дома, словно горошинки витамина для обогащения организма. Внутренний мир уже «не надевался», будто бы разношенные домашние туфли после тяжкого трудового дня. Внутренний мир «поселился» отныне в человеке-труженике как бы на целый рабоче-домашний, домашне-рабочий день».
Но больше всего мне нравятся из статей И. Вишневской такие выражения: «абстрактное мышление на подножии факта», «это был образ-компас, по которому сверялось время на главных часах страны», «конфликт разворачивался в другой пьесе постпроизводственного косяка».
Особенно хорош «постпроизводственный косяк».
Я не знаю, как Инна Вишневская собирается сверять часы по компасу, но я твердо знаю, что серьезному альманаху печатать это не к лицу.
Тем более что рядом печатаются прекрасно написанные статьи Инны Соловьевой, Льва Аннинского и Бориса Зингермана.
Анатолий Эфрос в своей статье «Лабардан-с, экзистанс» остроумно высмеял словотворчество Инны Вишневской, ужасно любящей прибавлять к словам приставки «нео» и «пост», и мы отнесем читателя к Анатолию Эфросу, тем более что и его статья написана чисто и ясно, как статьи лучших литературных критиков. Вообще я заметил, что как только за дело берется мастер, «мастер своего мастерства», как говорил Гоголь, сразу все становится видным и понятным. Пишет ли о театре Олег Ефремов (пусть это быт театра, а не театральные идеи), это понятно, пишет ли об актере и зрителе Лев Дуров, тоже все ясно и внятно. Пишет ли Анатолий Эфрос — я вижу, что он приемлет и чего не приемлет. А. Эфрос, например, не почитает правдоподобия. Он за сгущение мелочей и пустяков, он за «мыслящий театр», за философию на сцене. Он не так уж чтобы против правдоподобия, как такового, но за то, чтоб оно присутствовало в разумных дозах и, присутствуя, давало бы повод для воспарения над фактами.
«Что же касается «послевампиловских» пьес, то острые углы в них мелькнули и тут же спрятались. Почти не видно этих острых углов. Мы здорово научились их закруглять». Таков первый тезис статьи А. Эфроса «О современной пьесе».
«Пора бы уже нам отболеть детской болезнью правдоподобия» — это тезис второй.
«Нам не часто удается раскрыть на сцене свою собственную, довольно тонкую организацию. Оттого так трудно сыграть Чехова. Трудно играть и многих других авторов, пишущих в расчете на огрубление» — это тезис третий.
И наконец, тезис-признание: «Я не знаю, удастся ли моему поколению придумать что-либо совершенно новое. Но я знаю, что надо упорно и упрямо заниматься искусством».
Как видите, здесь нет никаких «пост» и «нео», а есть то, что Инна Вишневская называет торжественно тревогами на марше. Марш тут, конечно, ни при чем. Мысли на распутье — так определил бы я жанр статьи Л. Эфроса.
Читая такие статьи, понимаешь, что в театре что-то происходит. И даже при внешнем затишье в нем что-то вырабатывается. Как будто уже стало ясно (и окончательно ясно), что не надо делать. Но еще неясно, что делать и как.
Мне не хочется касаться драматургической части альманаха. Но она, соседствуя с критической, бросает свет и на критику. Альманах печатает рядом с современной драмой
—пьесы из архива: здесь увидели свет «Зойкина квартира» М. Булгакова, «Позиция» Е. Шварца, «Вечерний плеан» А. Файко, «Высокое напряжение» А. Платонова, «Милосердие» Н. Рериха, «Феникс» Марины Цветаевой, «В священном лесу» В. Вересаева. Не так уж мало. Но ни одна из этих пьес, насколько мне известно, не поставлена на сцене. И критике нет повода о них сказать. Сам альманах в предисловии публикации говорит об этих пьесах скромно и сжато, но это мемориальные публикации. Как будто в фойе театра выставляются старые реликвии и материалы, которые доступны для обзора, но которые руками не потрогаешь.
Театральное наследство существует не для того, чтобы им любоваться. Оно извлекается из-под спуда, чтобы жить. Я думаю, если б театр поставил хотя бы некоторые из этих пьес, и критике было бы веселей жить.
Тогда не надо было бы писать, как пишет та же И. Вишневская об Игнатии Дворецком: «Человек, сминающий все на своем пути волей, постоянно создающий новые формы, рядом с ним растут театры и таланты, он открывает невиданные сюжеты, он нередко дает направление и мысль целым эстетическим эпохам».
Когда в права вступает подлинная литература и подлинная драматургия, такие слова сами собой снимаются, отменяются, исчезает вместе с ними и такая критика.
Критика бедна от бедности материала и бедности вкуса, когда вкус, как ртуть в градуснике, падает. Вкус публики тянет за собою и вкус критики, которая хочет нравиться, хочет оставаться на виду, на поверхности, хочет мелькать, присутствовать, не пропадать.
Должен сказать, что «Современная драматургия» не потакает такому вкусу. Она не ориентируется на элиту, но и не опускается до зрителя в кожаном пальто с меховым воротником. Почему-то для меня этот зритель более всего представляется как любитель всяких «пост» и «нео». Он не понимает, что это такое, но понимает, что это «современно». Что это «престижно». Это так же престижно, как душиться французскими духами.
В одной из своих статей, опубликованных в альманахе, Владимир Турбин пишет, что слово «эссе» его раздражает, что оно напоминает ему название французских духов. «Эссе», выброшенное на рынок, действительно отдает чем-то парфюмерным.
Но есть эссе и эссе. Сам Владимир Турбин, чьи обзоры в журнале «Молодая гвардия» мы помним и по сей день, выступает в роли дразнителя нравов на страницах альманаха. Он предается своим филологическим играм, как всегда, привлекая зрителя, читателя и подписчика. Живой ум В. Турбина легко обращается с идеями, он перебрасывает их, жонглирует ими, как актер в цирке своими булавами, и, веселя публику, забавляя ее, заставляет иногда задуматься о серьезных вещах. Его статья «Размышления и разборы» по теме весьма скучна. Что можно сказать в обзоре театроведческой литературы? И кто ее читал? Те же театроведы. Но В. Турбин начинает ее с утверждения М. Бахтина «людям недодано» — и далее развивает эту мысль. Статья с первой фразы держится на идее, идеей вдохновляется и идее подчинена. Идея М. Бахтина порождает собственные идеи автора, какие-то добавки к идее, спутники при идее, собеседники при идее. Ну, например; мысль о слуге, об идее слуги, если можно так выразиться. Вот что пишет В. Турбин: «Зазорно иметь слугу. Еще зазорнее быть слугой. «Слуг нынче нет!» Их действительно нет, ни в жизни нет, ни в нашем сознании и идея служения, услужения растворилась в шаржах на пронырливых подхалимов. Слуга для нас
—что-то дикое; совершенно нелепое
А слуга это не профессия даже, а миссия. Слуга — жрец быта. Он освящает быт. Жертвуя собой, он дарует свободу другому. Фирс — слуга. Оруженосец уже достаточно ветхого рыцаря; и таким играет его в Малом театре Игорь Ильинский».
А вот его мысль из совсем другой области: «Рецензия по природе своей трактует художественное явление... как эпизод, да и сама-то она эпизод. Рецензия — приглашение почитать, посмотреть; зов, даже, может быть, выкрик... Рецензия в культурном обиходе народа — то же, что междометие в речи отдельного человека...» Цепь метафор у В. Турбина продолжается, но мы их прервем. Его метафоризм не имеет границ, но однажды, на каком-то отрезке пути, по которому скользит его фантазия, он вдруг напарывается на что-то важное.
Идеи о слуге и о рецензии мне запомнились.
Повторяю, В. Турбин часто перебарщивает, но ему можно простить: он делает это талантливо. Он порой напоминает мне одного персонажа Гоголя, который смог потрясти русский провинциальный мир своими сказками о Петербургском житье-бытье. Этого персонажа сам В. Турбин поминает в своей статье «К нам едет «Ревизор». Статья эта — дитя произвола, произвола воображения критика, замешанного на филологической алхимии, на густых испарениях ассоциаций, реминисценций и аллюзий. Но аллюзий не социальных, не прагматически-либеральных, а чисто литературных. Как-то В. Турбин, выступая перед молодыми критиками, сказал: я могу сравнить все со всем. Недаром про меня говорят: дайте В. Турбину коробок спичек, он вставит его в контекст мировой литературы.
В статье о «Ревизоре» речь идет не о коробке спичек, а о великой комедии Гоголя. И — почему-то о трагедии Пушкина «Борис Годунов». Автор считает, что между этими двумя драматическими произведениями есть связь. Более того, «Ревизор» — пародия на «Бориса Годунова». Какая же? А вот: Хлестаков — это Самозванец, а Анна Андреевна — «ма-а-аленькая Марина Мнишек». Тут, впрочем, есть и отскок в комедию Грибоедова, ибо Хлестаков ведет свою родословную от... старухи Хлестовой. Если персонажа у Гоголя зовут Лука Лукич, то это неспроста. Это «удвоенное имя» апостола Луки. А почему удвоенное? Потому что у Гоголя всюду «двоицы»: два ревизора, две крысы, двое именин у Сквозника-Дмухановского, две невесты (мать и дочь). «Снова двоица , — пишет о матери и дочери В. Турбин, — снова будто бы две руки, к каждой из которых попеременно простирает руки герой комедии».
Но при чем тут руки? — спросит читатель. А при том, ибо «жест движения рук» является ее коронным жестом. Тут, оказывается, «с сугубой многократностью, с чрезвычайным усердием... обозначается то, что... вытворяют руки ее персонажей».
Далее на этом «жесте рук» строится целая теория. Даже тому, что Хлестаков, как пишет Гоголь в ремарке, «вертит рукою около лба», придается мистическое значение.
Да и вообще Хлестаков даже не Самозванец, не пародия на Гришку Отрепьева из трагедии Пушкина, пародия на мессию, на Христа. Таким умозаключением заканчивает свою статью В. Турбин.
А кто же тогда городничий? — поинтересуется читатель. Он — пародия на несчастного правителя, на Бориса Годунова. А далее — «духовный отец» Хлестакова, чуть ли не бог-отец. А Тряпичкин? Пародия на Отрепьева. О-трепьев — расчленяет В. Турбин фамилию героя Пушкина, Тряп-ичкин — фамилию героя Гоголя. И тот и другой «треплются», и в той и другой фамилии можно найти корень «тряп» — а городничий называет Хлестакова «тряпка». Стало быть, тут приплюсован и Хлестаков.
Ну а Бобчинский и Добчинский? Это «волхвы-двойники», возвестившие о явлении «младенца». Младенец опять-таки Хлестаков, его явление — явление «лжебога».
Возникает цепь метафор, по которым можно дойти до геркулесовых столпов. Точней, подняться по этим маршам фантазии критика, ведущим бог знает куда.
Если следовать терминологии Михаила Эпштейна (статья «Игра в жизни и в искусстве»), то это «оргаистический экстаз» игры воображения, ее дионисский пир, разгул.
Совершенно верно пишет М. Эпштейн: «...между субъективным и объективным бытием человека всегда остается зазор, и в этой взаимной несводимости всегда возникает игра».
«Что наша жизнь? Игра, сегодня ты, а завтра я», — поет Германн в «Пиковой даме». Наверное, он прав. Но есть и русская пословица: играй, да не заигрывайся Статья В. Турбина о «Ревизоре» напоминает мне те инсценировки классики, где от классики остаются рожки да ножки, а в полный рост выстраивается фигура со-автора, человека, чей рост не соответствует росту автора.
В одном из номеров «Современной драматургии» даже проведена маленькая дискуссия об инсценировках. Автор статьи «Ошибка Гете?» А. Караулов сетует на литературоведов, что те сердятся, когда в театре перекраивают классику А. Ланщиков справедливо отвечает ему: сердятся, потому что имеют на это основания. Виктор Розов, выступающий в том же номере, смело заявляет: «Я могу предполагать вопли благородного негодования читателя, но пусть эти эмоции прочистят ему кровь — дело полезное если я брался за инсценировки, то только с чувством полной раскованности... В нашем деле работать на цыпочках и с почтением согнув спину перед любым авторитетом нельзя. Это поза лакейская...»
Если с почтением смотреть на Достоевского (а именно его инсценировал для театра В. Розов) — поза лакейская, то что такое лакей?
От этих смелых заявлений меня коробит. Недавно в одной газете я прочитал статью знаменитого режиссера. Тот, изображенный на фотографии, вмонтированной в статью с призом серебряного Павлина, сам был похож на павлина, распустившего полинялые перья. Он охорашивался перед читателем и зрителем и смачно делился подробностями о визите на кинофестиваль, где ему вручили этого павлина за то, что он успешно обрубил многие реплики классика. Режиссер злорадствовал над бедными докторами наук, которые учили его уму-разуму, в то время как этот серебряный павлин уже шел ему в руки. Ему очень хотелось узнать, не подмешано ли в серебро приза золото и сколько оно весит, но он так и не узнал, хотя прокатиться в другую страну и поцеловать в губы председателя жюри французскую кинозвезду ему было весьма приятно.
Классика занимает умы критики. И хотя от классики уже наблюдается отход (хватит, пожили жизнью взаймы), о ней пишут. В альманахе напечатаны две статьи о Чехове. Статья Б. Зингермана «Столица и усадьба» и статья П. Палиевского «Чехов». Две статьи, два взгляда на Чехова. И в чем-то весьма знаменательных. Один взгляд вполне классический и почти хрестоматийный (только положенный на теорию пространства), другой — пытающийся вывести Чехова из-под огня оберегающих его штампов.
Идея П. Палиевского состоит в том, что в Чехове как бы уравновесились искания русской литературы, ее метания, крайности. Они усмирились, дав результат — сбалансированную личность и сбалансированное писание, имеющее целью жизнь и только жизнь. Ничего от «идеологизирования» Достоевского, «:исступленных молитв Гоголя», «метаний Толстого». «Чехов, — пишет П. Палиевский, — впервые после Пушкина на массовом общенародном уровне невидимо соединил высокий идеал с потребностями, вкусами и всеми слабостями рядового человека». Идеал как бы обретен русскою литературою в Чехове. Он обретен и русскою жизнью, утверждает автор статьи. Жизнь — то центрирующее вещество, которое делает Чехова уравновешивающей величиной в мире духовных страстей. Б. Зингерман утверждает другое. По Б. Зингерману, обыкновенная жизнь для Чехова это недостаточность, это томление, недаром герои Чехова бегут из своих усадеб и медвежьих углов — одни в Москву, другие в Париж, третьи неизвестно куда, Жизнь, уравновешенная, устоявшаяся и имеющая центр, для Чехова, пишет Б. Зингерман, не жизнь. Чехов ищет ее продолжения, продвижения в пространство, в какую-то даль, сидение в усадьбе с садом (даже если это непритязательное Мелихово) не по нему и не по его героям. Чеховскому герою может и Москва не понравиться, если это опять-таки сидение в Москве, повторение одних и тех же визитов, привычек, дел. Жизнь без движения (в том числе, без движения физического, без пожирания верст дороги или простора степи) это смерть, это превращение человека из «homo sapiens» в «самодовольную свинью» Б. Зингерман так и называет героя «Крыжовника» Чимшу-Гималайского: свинья.
Отсюда апологетика беспокойства, перелетов, уходов, бегств, влечений прочь и всяческого «прогресса». Слово «прогресс» никак не вяжется с Чеховым. А Б. Зингерман говорит о Чехове: «поклонник прогресса».
Так что же такое прогресс? Прогресс это нечто такое, что отрицает жизнь в формах жизни? Что на эти формы смотрит как на путы, на цепи? Человек так или иначе призван жить на одном месте, рождаться и умирать там, где жили его родители, предки.
Что в этом дурного? И что видел в этом дурного Чехов? Нет ли тут натяжки Чехова на свой аршин?
Чехов боялся не того, что человек осядет на двух аршинах земли, а того, что эти два аршина (т. с могила) ждут его, куда бы он ни поехал. Другими словами, доктор Чехов, будучи мужественным человеком, страшился смерти как и все мы, и страшился своего безверия, не обещавшего ему ничего по ту сторону черты. Это мука всех его героев и его самого, а не то, где жить, куда ехать, сидеть ли в усадьбе или плыть на пароходе в Америку.
Перечитывая сейчас Чехова, многое видишь не так, как виделось в школе. Или даже в университете. Или — еще ближе — в молодые годы. Семья Туркиных из «Ионыча» уже не кажется тебе синонимом пошлости и мещанства Они несчастные люди, потому что бог не дал им талантов. Но не всем же иметь таланты. Туркины обманывались на этот счет и поэтому выглядели смешными. Но все-таки они поняли, что талантов у них нет Что же им остается делать? Стреляться? Вешаться? Или просто жить? И есть ли что- то уничижительное в этом «просто жить»? То есть принимать гостей, быть с ними ласковыми, кормить их, наконец. В одной книге о Гоголе я прочитал, что старички из «Старосветских помещиков» только и делали, что кормили своих гостей. Это «только» звучит очень высокомерно. Ибо автор тут же добавляет, что у старичков не было никаких «деятельных духовных движений».
Так третируется такая черта, как гостеприимство. Если тебя в этой семье лишь покормили, это уже духовно нищая семья, это почти обыватели. А вот если бы к этому добавили парочку умных тирад, цитат, то все было бы в порядке.
Туркины смирились со своей участью Вместе с тем, они добрые люди — а этого никто не замечает Все сосредоточиваются на том, что у них один день похож на другой и что бедный лакей, встречая гостей, произносит одну и ту же фразу: «Умри, несчастная!» Ну и что? Смешно, конечно. Но тогда смешно и то, что мы каждый день встаем, умываемся, завтракаем, обедаем, ужинаем. Кто из нас не повторяется в мелочах, в привычках жизни, кто не пошл в этом смысле? Скромная жизнь, повторяющаяся изо дня в день, тоже имеет право на существование и на признание своей достаточности.
Человеку недодано — напоминает слова M. M. Бахтина В. Турбин. Но можно сказать, что ему многое дано. И это безмерно многое — сама жизнь. Мы часто ропщем на нее, недовольны ею, но вспомним слова Достоевского в «Идиоте»: если б я знал, что моя жизнь вот-вот прервется, я минуту превратил бы в вечность.
Мы эту минуту не проживаем, не доживаем, мы проживаем ее, может быть, на одну четверть, на одну треть.
Чехов смеялся над аптечками и другими «малыми делами» в «Доме с мезонином», но сам делал эти малые дела. Чехов, может быть, хотел посмеяться и над Туркиными (как хотел он посмеяться над Душечкой), но не получилось. Жизнь выиграла, а либеральные идеи, которыми Чехов руководствовался, исчезли, как дым. Было это и у Чехова, как ни любил он «идеологизирования». Он был сын своего времени, воспитанный, кстати сказать, и русской критикой. Весь конец XIX века стоит под звездой русской критики. Вся интеллигенция воспитывается на ее идеях. Чехов и Блок — дети этой критики.
А мы привыкли смотреть на критиков как на официантов при литературе. Как на слуг, которые не «жрецы быта», а обыкновенные половые, бегающие между столиков с подносами. «Чего изволите?» Статью? Рецензию? Похвальный отзыв или чистый панегирик? Или, может быть, научное исследование, содержащее в упаковке из научных фраз тот же торт для юбиляра?
Чехов когда-то написал рассказ «Юбилей» и всю эту юбилейщину изобразил в лицах. Критика в иных изданиях напоминает этот рассказ. Она вся состоит из «портретов», «штрихов к портрету» и рубрик «Литература моя — любовь моя». Акцент при сем делается на слове «моя».
К счастью, критика альманаха «Современная драматургия» составляет исключение. Панегирики тут попадаются, но редко. Бывают и откровенные глупости. Есть легкомыслие. Но все же такого списка достойных имен не встретишь, пожалуй, ни в одном из критических отделов толстых журналов. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, несколько пережимаю от страсти.
Но это, думаю, делу не повредит.
1985 г.
ДОКОЛЕ?
0микрофинале, протосюжете, о Базарове, резавшем кошек, и еще кое о чем
Главный враг наук» — наукообразность..
Главное достоинство научного языка — ясность.
Д. С. Лихачев
1
Прочитал я статью Б. Бяликаи вспомнил свои университетские годы. Тогда нас душили цитатами. На каждую цитату была своя охранная грамота: не дай бог, не совпасть с цитатой, отступить от цитаты. Не только двойка ждала отступника, но, может быть, и изгнание из университета.
Чтобы как-то подкрепить свое мнение о Гоголе, автор цитирует Чехова. Он ссылается на его отзыв по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями». Чехов-де писал, что «презирает» эту книгу Гоголя. Но заглянем в письмо Чехова к А. С. Суворину от 8 сентября 1891 года, которое неполностью воспроизводит Г. Бердников. Чехов пишет: «Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, боже мой, сколько тут личного! Я третьего дня читал его «Послесловие». Убейте меня, но это глупее и душнее, чем «Письма к губернаторше», которые я презираю».
Сказано, по-моему, четко и ясно. Чехов «презирает» письма Гоголя к губернаторше, то есть ту главу из «Выбранных мест», которая называется «Что такое губернаторша». Но в книге Гоголя тридцать две главы, и почему же, если Чехов не приемлет одну из них, тень его неприятия падает и на все остальные?
Потому что так хочет Г. Бердников. Потому что, ставя мнение Чехова сразу вслед за мнением Белинского о книге Гоголя, он, говоря об их совпадении, не дает себе труда проверить, а читал ли Белинский письма к губернаторше. Нет, не читал, подскажем ему мы. Потому что эта глава была изъята из текста «Выбранных мест» цензурою, и вот как объясняет это изъятие комментарий к восьмому тому Полного собрания сочинений Гоголя, изданного Академией наук СССР, членом-корреспондентом которой имеет честь состоять Г. Бердников: «Откровенные рассуждения Гоголя о жизни высших сословий и бюрократии г. Калуги, в особенности же даваемая им характеристика «безопасной взятки», «которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз», сделали статью неприемлемой для цензуры. Она была целиком запрещена и впервые напечатана в газете «Современность и Экономический листок» (1860. — № 1)».
Так как же быть с «верноподданичеством» и «холопством» Гоголя? Как быть с «презрением» Чехова?
Можно понять гнев Белинского по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» — гнев, выказавший себя в резких словах осуждения. Можно понять праведный для своей минуты гнев великого современника Гоголя, который писал это от любви к Гоголю, искренне веря, что поступает так от любви. Право на этот гнев давали Белинскому его талант, его значение в русской литературе, его личность и жизненный подвиг. И — что немаловажно — форма личной переписки.
Но нельзя понять критика, который в 1984 году печатно заявляет о Гоголе: вот до чего «докатился автор «Шинели», «Ревизора» и «Мертвых душ».
Если Гоголь у Г. Бердникова «зашел в тупик», то Достоевский у Кулешова «сваливает в кучу разные вещи», в его сочинениях слышатся «заклинания» и, хотя он сам «отличался странностями, религиозностью», в его выводах иногда мелькает «здравая идея». «Это наблюдено Достоевским верно», — делает В. Кулешов послабление своему герою. Религиозность Достоевского, как мы видим, отнесена к «странностям», стоит в одном ряду со «странностями». Можно подумать, что это какая-то причуда писателя, какой-то вывих, а не идея его жизни.
А вот пассаж о Достоевском из книги В. Кулешова «История русской литературы XIX века. 70—90 гг.»: «Принимая во внимание, что Достоевский гений и никакое самомнение в укор ему идти не может, должно сознаться, что это гордое возвеличивание себя в начале поприща было частью его гения».
Так похлопывают по плечу Достоевского. Так и ему дают понять, что хоть он и гений, но тоже, так сказать, подлежит суду истории.
Это высокомерие по отношению к классикам распространяется не только на их личности, но и на ту эпоху, в которую они жили. «Строй, при котором каждый день убивали и вешали», — пишет В. Кулешов. Действительность, «...которая уготавливала человеку лишь обывательское счастье бесцветного мертвенного существования», — вторит ему Г. Бердников. Книга Э. Полоцкой «Пути чеховских героев» полна уничижительных характеристик чеховской эпохи. «Расцвет мещанской психологии», «полное духовное опустошение», жизнь была «бедна», это были «годы мрачнейшей реакции в России». Нравственное уродство, пишет Э. Полоцкая, проникло во все слои общества, всюду господствовала пошлость, «обывательская тупость и безнравственность». На этом безнадежно-мрачном фоне, однако, вдруг возникают имена Толстого и Салтыкова-Щедрина, Чайковского и Римского-Корсакова, Репина и Сурикова, Менделеева и Тимирязева, которые, оказывается, жили и творили в это время. И не просто творили, а, как утверждает автор, «объективно внесли вклад в подготовку революции».
Возникает вопрос, откуда взялись эти таланты, если нравственное уродство проникло во все слои общества? Как они могли так бурно расцвесть, если процветало совсем другое — мещанская психология и обывательская тупость?
А — вопреки. По логике авторов книг о классике, все в старой России совершалось вопреки существующей действительности. Жили вопреки, писали вопреки, создавали шедевры вопреки. И сами таланты поступали вопреки себе. Гоголь, пишет Г. Бердников, питал «самодержавно-крепостнические иллюзии», но он же, вопреки им, «всеми фибрами души ненавидел существующий строй». Как это может быть? Идеи Достоевского, пишет В. Кулешов, мешали ему смотреть правде в глаза, но пафос его романов «расшатывал основы политического строя». В одном месте своей книги он утверждает, что роман «Бесы» — «целиком памфлет», в другом — что у него есть только «элемент памфлетности» и потому он «пронизан стремлением к прогрессу».
В анкете, которая составляется на каждого классика, обязательно присутствует графа «отношение к прогрессу». И поскольку в этой графе чаще всего приходится ставить прочерк или смущающие авторов слова «не принимал», «не одобрял», то предпринимаются попытки оговорить, противопоставить идеи писателя его творчеству и в конце концов добиться спасительной формулировки: «не принимал, но объективно внес вклад». Стало быть, получается, что на самом деле не одобрял, а «объективно» все же был за «прогресс». Точней, за «прогресс» были его сочинения, которые писал как будто бы он и, вместе с тем, не он, вернее, тот, кто не соглашался с его идеями.
Согласно этой теории, как читаем мы в книге Г. Бердникова, действительность не давала нашим классикам «подходящего материала» для положительного идеала. Да и откуда ему было взяться, если, как пишет Г. Бердников, «при существующих общественных отношениях» не могло быть прибежища не только торжеству добродетели, но и простой «порядочности»? Этот поборник порядочности «в рамках существовавшего строя», — отзывается он пренебрежительно о Гоголе. С ним солидаризуется Ю. Суровцев. В сборнике «В мире отечественной классики», споря со статьей, где говорится, что «герои русской литературы «ведут» себя так же, как ее творцы», он замечает: «По отношению к Гоголю последняя фраза... способна вызвать разве что смех».
Ю. Суровцев думает, что он смеется над Собакевичами и коробочками, но он смеется заодно и над Тарасом Бульбой, и над Хомой Брутом, над Данилой Бурульбашем, над славными запорожцами и над стоящим за всеми ними автором, прямым и косвенным героем «Театрального разъезда», «Миргорода», петербургских повестей и «Мертвых душ».
Послушаешь такое и решишь, что и сама жизнь Гоголя ничего не стоит, пример Гоголя — ноль в нашей истории, как и пример и жизнь Пушкина, Достоевского, Толстого. Решишь, что их идеи и их поведение не имеют никакого отношения к идеалу, тогда как именно они и есть доказательство существования этого идеала «в рамках крепостнического строя»
Но по теории так не должно быть. Так не должно быть потому, что это подрывает теорию, потому что она лишается привилегии все видеть, все знать и держать ключ от идеала в своих руках Высокомерие теории унижается этим фактом пребывания идеала на стороне, вне ее власти, за границами ее царствования.
2
Эти неравные отношения теории с практикой мы наблюдаем сплошь и рядом. Практике приходится вытягиваться перед теорией, как ученику перед учителем на школьной линейке. Ей приходится поворачиваться и маршировать в ту сторону, куда прикажет ей теория. Назвал, скажем, Д. Николаев свою книгу «Сатира Гоголя», так Гоголю уже никакой дороги нет, кроме дороги к сатире. Все остальные пути ему заказаны, как заказаны они и тем, кто пишет о Гоголе. Тут и самому М. Бахтину достается за то, что он осмелился поставить смех Гоголя в контекст смеховой культуры народа, в контекст юмора народа. Юмор не вяжется с сатирой, и Д. Николаев спешит изгнать юмор не только из гоголеведения, но из смеха Гоголя.
Суждения М. Бахтина он называет «наивными», «антиисторичными» и грубо извращающими концепцию писателя. В пример Бахтину ставится М. Храпченко, который еще несколько десятилетий назад предупредил об опасности таких взглядов.
Но не один М. Бахтин, но и Белинский, оказывается, заблуждался относительно смеха Гоголя. Он упрямо величал сочинения Гоголя вершинами юмора и иронии. Он шел еще дальше и писал, что «нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру». В статье «Похождения Чичикова, или Мертвые души» Белинский почти на каждой странице, рассуждая о природе смеха Гоголя, повторяет: юмор, юмор, юмор. Но это не смущает Д. Николаева. Он хочет найти такую цитату у великого критика, где имя Гоголя и слово «сатирический» стояли бы рядом. Уже одно соседство этих слов, считает он, спасет положение. И вот извлекается цитата. В статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Г оголя «Мертвые души» Белинский пишет, имея в виду смех сквозь слезы: «В этом и заключается трагическое значение комического произведения Г оголя; это и выводит его из ряда обыкновенных сатирических сочинений».
Что означает это высказывание Белинского? Что он настаивает на своей точке зрения. Он спорит с той критикой (в частности, с критикой Н. Полевого), которая относила «Мертвые души» к разряду сатиры. Он выводит поэму Гоголя из ряда не только обыкновенных, но и из ряда сатирических произведений. Д. Николаев толкует эту цитату Белинского в свою пользу. Вот его комментарий: «Обратим внимание на конец последней фразы. Отмечая, какие именно качества выводят «Мертвые души» из ряда обыкновенных сатирических сочинений, Белинский тем самым фактически признает, что перед нами необыкновенное сатирическое произведение» (подчеркнуто Д. Николаевым.
—И. З.).
Игра слов, скажет читатель. Игра теории, скажу я. С помощью нехитрой казуистики делается вывод, обратный тому, который имел в виду автор. Получается, как в случае с одобрением революции у Гоголя: Белинский не считает «Мертвые души» сатирой, более того, оспаривает эту точку зрения, но «фактически признает», что они — сатира.
Такие игры с цитатами делаются нужны всякий раз, когда теория испытывает недостаток в аргументах, когда факты против нее, когда приходится идти на сальто- мортале, чтоб вывернуться из объятий фактов.
Отбрасывая все, что может пролить свет на Гоголя-несатирика, Д. Николаев с ножницами проходится как по его жизни, так и по его сочинениям. С ранних лет Гоголь настроен по отношению к действительности сатирически и саркастически. Уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» он обличает «представителей власти, церкви и собственности». А еще до «Вечеров», собирая материалы к «Вечерам» и обращаясь к матушке с просьбой прислать ему образцы народных костюмов и песен, он хочет проникнуться ненавистью к «господам». Потехи Левко и его товарищей в «Майской ночи» над головою, как считает Д. Николаев, бросают вызов «той системе сословноиерархических отношений, порождением которой является голова». Он забывает при этом, что голова и Левко — отец и сын, что они люди одного сословия и что Левко не может бросать вызов «системе», потому что сам принадлежит к ней. Единственная цель Левко — отбить у отца Ганну и жениться на ней.
Но эти подробности не интересуют Д. Николаева, потому что они противоречат идее о том, что «беспощадный, бескомпромиссный смех» Гоголя — это «оружие» социальной сатиры, а сам Гоголь — «писатель-борец».
Зато если дьяк или голова в «Ночи перед Рождеством» ухаживают за ведьмой, если они, а не простые мужики ластятся к ее прелестям, то это трактуется как бунтарская мысль Гоголя. Гоголь, по мнению исследователя, намекает на то, что власть связана с нечистой силой.
Автор книги «Сатира Гоголя» совершенно игнорирует тот факт, что Гоголь в «Ночи перед Рождеством» похвалил царицу, а в «Страшной мести» воспел пана Данилу, человека, у которого есть слуги, двор и подчиненное ему войско. Но привести эти факты
—значило бы расстаться с теорией, и Д. Николаев отбрасывает их, как отбрасывает он и слова Гоголя о «жаркой печали», бросающие свет на любовь Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Для Д. Николаева они — «обыватели», и никаких иных — кроме обывательских — чувств у них нет и быть не может.
«Прорехи на человечестве» — пишет он о старичках, их жизнь — «каскад «пищепоглотительных» эпизодов». У них и «перед смертью... на первом месте мысли о еде». «Пустое, бессмысленное, ничтожное существование», животная жизнь — заключает свой приговор героям Гоголя Д. Николаев.
Так же, как и старичков, отчитывает он Ивана Федоровича Шпоньку. Этот безобидный поручик, читающий у Гоголя гадательную книгу и страшащийся предстоящей женитьбы, объявляется «паразитической натурой». У него «поползновения паразитические», и Гоголь, безусловно, «издевается над своим героем».
Но почему же тогда Гоголь, хочу я спросить Д. Николаева, отдал Шпоньке свои чувства, свои воспоминания о детстве, которые заставили сильно биться его сердце, когда тот подъезжал к родному хуторку? Зачем Пушкин, прочтя «Старосветских помещиков», назвал эту повесть «идиллией, заставляющей нас смеяться сквозь слезы грусти и умиления»? Чему умилился в ней Пушкин? Каскаду пищепоглотительных эпизодов?
Смех Гоголя, по Д. Николаеву, не может ни умилять, ни радовать, ни ласкать, ни смешить, ни давать какие-либо положительные переживания. Он может лишь клеймить, разоблачать, «пригвождать» и «издеваться». И это для Д. Николаева естественно, ибо Гоголь «окружавшую его на родине действительность... воспринимал как «гадкую Русь». Это было «царство пошлости, подлости и лжи».
При таком взгляде на историю даже то, что человек поругался с женой, уже социальный протест. Не может человек ссориться с женой просто так, он должен негодовать против общественного строя. Именно в этом духе толкует Г. Бердников письмо Горького Чехову по поводу «Дамы с собачкой». Прочитав этот рассказ, сообщает Чехову Горький, он почувствовал такую тоску, что поругался с женой и с мужем ее сестры. Какой же из этого следует вывод? Вот такой вывод из этого делает Г. Бердников: «Произведения Чехова пробуждали все более острое отвращение к действительности самодержавно-полицейской России».
Следуя той же логике, сразу два исследователя (В. Кулешов и Э. Полоцкая) зачисляют Чехова в «соратники» Салтыкова-Щедрина, а В. Лакшин Татьяну Ларину — в потенциальные декабристки. «Из женщин, подобных Татьяне Лариной, выходили декабристки», — утверждает он, а мужа Татьяны называет «вероятным декабристом».
В своем труде «Биография книги» В. Лакшин вводит закон селекции для героев истории и героев литературы. Деля их на «чистых» и «нечистых», он одних ставит по одну сторону баррикады, других — по другую. Если, допустим, А. Раевский, прототип пушкинского Демона, был несогласен с декабристами, то он неминуемо должен был прийти к предательству. «Кризис политического сознания, — пишет В. Лакшин, — ведет к моральному кризису» и далее эта цепочка выстраивается так: кризис моральный — кризис совести — перерождение и возможность предательства. Не решаясь прямо обвинить А. Раевского в предательстве, автор книги делает это косвенно. Он внушает Пушкину мысль, что А. Раевский способен предать. В этом духе трактуются письма Пушкина 1826 года, в которых тот с беспокойством спрашивает о судьбе арестованного Раевского. Это беспокойство В. Лакшин объясняет опасениями Пушкина: «Не выдаст ли?»
Ни одного факта, подтверждающего это предположение, у В. Лакшина нет. Однако он продолжает держать А. Раевского на подозрении. «В январе 1826 года он испугался», — говорит критик о Раевском и вновь не приводит никаких доказательств в пользу этого обвинения. И наконец, снимает с читателя тяжесть: «Но Пушкина он не выдал».
Но как А. Раевский мог выдать Пушкина? В чем, собственно, Пушкин был замешан? Разве он был заговорщик или член тайного общества?
Сам В. Лакшин признает и ссылается при этом на воспоминания очевидцев, что А. Раевский вел себя на встречах с царем (когда шло следствие) достойно. Откуда же тогда взялся «испуг» Раевского и недоверие на его счет со стороны Пушкина?
Так упрощается ход дел. Так история и история литературы превращается, пользуясь сравнением В. Лакшина, из цветной в черно-белую. И для героя истории не остается выбора. Он должен или стать в ряды восставших, или, мягко говоря, впасть в «моральный кризис». «Время... — пишет В. Лакшин, — не предлагало им поприща для благородных деяний». Но это было время, в которое жили Карамзин, Пушкин, Крылов, Грибоедов. Разве их жизнь и их поступки не были «благородным деянием»?
Проводя резкую грань между декабристами и недекабристами, автор сурово обходится со всеми остальными представителями дворянской интеллигенции, которые, не приняв декабризма, все же исполнили свой исторический долг. Среди этих людей, кстати сказать, были и Жуковский, и Чаадаев, и те, кто подготовил впоследствии реформы 1861 года. Но о них с пренебрежением отзывается В. Лакшин.
Желая окончательно развенчать политического отступника А. Раевского, он даже не доверяет рассказам о том, как Раевский во время холеры 1831 года «ходил по избам и спасал крестьян». Этого не могло быть, считает В. Лакшин. Все это не что иное, иронизирует он, как «подслащенное семейное предание». Ибо, по железным установкам теории, человек, имеющий «не те» идеи, неспособен к состраданию.
Даже женская любовь, если она не совмещена с «передовыми взглядами», ставится в нашей науке о литературе под сомнение. Так, дружно нападают все исследователи творчества Чехова на героиню рассказа «Душечка», которая, по их словам, олицетворяет собою бездуховное существование. У Душечки, пишет Э. Полоцкая, полностью отсутствуют духовные интересы. Любовь Душечки родилась из пустоты ее жизни, и эта пустота стала «благодатной почвой» для любви, потому что у Душечки нет ни «интеллектуальных потребностей», ни «яркого личного начала».
Но в чем же проявляется «яркое личное начало» женщины, как не в любви?
Это прекрасно понимал Л. Толстой, и потому он в послесловии к рассказу Чехова, изданному «Кругом чтения», восхитился Душечкой. Но Э. Полоцкая приводит лишь обрывки фраз из этого послесловия, а толстовское отношение к героине Чехова называет «умилением».
В глазах науки о литературе умиление — чувство неполноценное, почти отрицательное. Это «не наше» чувство, и исследователи предпочитают или обходить его, или относиться к нему как к некоторой слабости. К слабости классиков относится и их гуманизм. Вот что, например, пишет в своей книге «Историзм в художественном творчестве и в литературоведении» П. Николаев: «Гуманизм гоголевской «Шинели» с ее бедным чиновником Башмачкиным принадлежит лишь истории литературы». Но это не все. Похоже, что истории принадлежат и такие понятия, как совесть и стыд. Вот что мы читаем в книге П. Николаева: «Но это всего лишь нравственная иллюзия Гоголя, ищущего, подобно многим великим европейским и русским моралистам, спасительные рецепты в сферах, обозначаемых особенно популярными тогда словами «совесть», «стыд».
Оказывается, совесть и стыд всего лишь слова, которые могут быть в какую-то эпоху популярны, а в какую-то — нет. Судя по всему, мы живем в эпоху, в которую они, как думает П. Николаев, не популярны.
Методология превосходства — вот как бы я определил методологию этой критики. В основе ее лежит тезис, что любой современный литератор — только потому, что он современный, — имеет преимущества перед классиком, стоит выше его. Он обладает полнотой истины, которая была недоступна писателю прошлого. В одной из книг я прочитал: «выше заурядного уровня совести». Прочитал и подивился. Уже и совесть делят на чины и звания, уже и у совести могут быть разные «уровни». Я увидел в этой фразе и страшную гордыню, и претензию, и наполеонство «высшей» совести, кичащейся, что она высшая, и принцип табели о рангах, внесенный в сферу чувств.
Это мог сказать только человек, который убежден, что у него с уровнем совести все в порядке и что ему позволено осуждать отклонения от этого уровня как ущербные.
Отсюда и покровительственный тон в отношении к классикам, желание натянуть их на свой аршин, поставить на место их верований свои. Д. Чалый, автор статьи «Кольцов и Шевченко», опубликованной в сборнике «В мире отечественной классики», делает из Кольцова бунтовщика, приписывая ему антицаристские тенденции. Д. Чалый приводит строки из стихотворения Кольцова, посвященного Ивану Грозному. Поэт действительно резко осуждает царя за злодеяния. Стихотворение это написано 16 октября 1841 года. Но на следующий день Кольцов пишет «Русскую песню», где рассказывается о победе молодого Ивана IV над казанским ханом. И здесь его отношение к царю совершенно другое. Завершают «Русскую песню» такие строки:
Воеводы — рати храбрые Ездят, бьют татар по улицам;
А на башне с русским знаменем Юный царь стоит — как солнышко!
Где же здесь противник самодержавия А. Кольцов?
То же и с верой в Бога. Д. Чалый утверждает, что Кольцов, начав со смирения и религиозности, затем пришел к отрицанию бога. Но достаточно раскрыть стихотворение Кольцова «Поэт», написанное им за два года до смерти, чтоб увидеть, что это не так. Вот что пишет Кольцов:
Мир есть тайна Бога,
Бог есть тайна жизни;
Целая природа —
В душе человека.
Слова эти никак не сходятся с заявлением Д. Чалого о том, что Кольцов проповедовал «пафос разрушения» и «шел в направлении будущей революционной демократии».
Очень хочется нашим авторам, чтоб все классики шли в направлении революционной демократии. Они усиленно подталкивают их в эту сторону, опуская «ненужные» и поднимая «нужные» факты, обрубая цитаты, приводя только те из высказываний современников, которые могут подправить и выправить непослушных гениев.
Если, допустим, речь идет об А. Н. Островском, то приводятся отзывы о нем только Салтыкова-Щедрина, если о Достоевском — то цитируется тот же Щедрин. Всякие «иные» мнения отсекаются или — с помощью выборочного цитирования — компрометируются. С. Шевырев в освещении Г. Бердникова выглядит как союзник «Булгарина и его соратников», тогда как стоит заглянуть в статью С. Шевырева «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Гоголя», чтобы убедиться, что это натяжка. Далее Г. Бердников цитирует письмо группы английских писателей по случаю столетней годовщины со дня рождения Гоголя и «теряет» при цитировании строки, являющиеся корневыми в этом письме. Считая неуместным внеклассовый подход английских писателей к творчеству Гоголя, он вырезает из их послания всю сердцевину и оставляет только начало и конец. А сердцевина эта выглядит так: «И более всего поражает нас в русской литературе то необычайное сочувствие ко всему, что страдает, к униженным и оскорбленным, к пасынкам жизни всех классов и состояний — к людям, души которых еще живы, но как бы парализованы или изуродованы в водовороте жизни. И это особенное сочувствие, проникающее собою все, что есть наиболее выдающегося в русском искусстве, нисколько не является покровительством или даже жалостью. Оно есть скорее чувство кровного родства людей, которое держит тесно вместе членов семьи, равно в несчастии, как и в счастии; оно есть то чувство истинного братства, которое объединяет все разнородное человечество».
Г. Бердников обходит эти слова и цитирует только то место из письма, где говорится, что Гоголь презрел вкусы «самодовольного общества». Брошена тень на «общество», Г оголь оценен как сатирик — это для автора книги главное.
И еще о С. Шевыреве. «Выбранные места из переписки с друзьями», — пишет Г. Бердников, — принято считать торжеством бывших врагов Гоголя и таких близких ему людей, как Погодин. Действительно, в хоре похвал той книги голоса Шевырева и Булгарина слились воедино». Но «Выбранные места» не стали торжеством М. Погодина. Наоборот, М. Погодин обиделся на Гоголя за эту книгу, потому что Гоголь в главе «О том, что такое слово» назвал его «муравьем», который тридцать лет хлопотал и работал зря и не сумел сберечь свое слово от «неряшества». Что же касается С. Шевырева, то его отношение к книге Гоголя выражено в его заметках на полях того экземпляра «Переписки», который был преподнесен ему с дарственной надписью автора. Вся книга исчеркана С. Шевыревым, против многих абзацев стоит знак вопроса, а иные сопровождены комментариями, отнюдь не выражающими восхищения книгой Гоголя. Особенно много таких помет на полях статьи «Русский помещик», напечатанной как письмо к Б. Н. Б-му. «Лучше бы Гоголь, — спорит с этой статьей С. Шевырев, — посоветовал Б. самому снискивать хлеб трудом и потом, а не лежать на боку и жрать хлеб, добытый трудом и потом бедного крестьянина!» «Гоголь, — отмечает он, — других упрекает в противоречии, а сам противоречит себе: говорит, что всякому желает добра, между тем как здесь он направляет Б. на бедных крестьян, как злодея волка на невинных овец» (отдел рукописей Центральной научной библиотеки АН УССР, «Гоголиана», № 1493).
Как видит читатель, строки сии весьма далеки от «похвал».
Да, в русской литературе слишком много противоречий, чтоб ее можно было оценить по методу «черное — белое», а авторы и герои то и дело попадают на то поле, где черное и белое смешиваются, не обозначая своих контуров. И тут их никак не может уловить двухцветная оптика нашей науки. Теряясь, она начинает искать спасения в терминологии, в ученом языке, в формулировках, которые бросают такую тень на ясный день, что и самому просвещенному человеку, глядя на них, остается только поднять руки и сказать: «Сдаюсь!»
3
Когда Гулливер посетил Великую академию в Лагадо, ему показали пятьсот комнат, в каждой из которых обреталась какая-нибудь отрасль науки. В одной комнате составлялся проект по извлечению из огурцов солнечных лучей, в другой ученый муж бился над тем, как превратить лед в порох путем пережигания его на сильном огне. Обитатель третьей комнаты работал над созданием механических приборов, предназначенных для открытия отвлеченных истин.
Мне кажется, что сегодня такие приборы уже есть. Они изобретены нашим литературоведением. И успешно применяются им на практике.
Судите сами. Что такое «сатирический гнев» или «социологический реализм»? Что означает «принцип вопиющего контраста»? Никто не ответит. Но зато это в высшей степени научно и наукообразно. Удивительно: классики писали просто, а о них пишут сложно. «Смесь несовместимостей, — утверждает В. Кулешов в книге о Чехове, — была вообще характерна для Чехова... В этой смеси Чехов работал и как писатель». И написано это не в какой-нибудь докторской диссертации, изданной на потребу тем же докторам и кандидатам наук, а в книге, вышедшей в свет в издательстве «Детская литература». Пусть себе дети представляют, как Чехов «работал в смеси». Будто Чехов — это не Чехов, а взбиватель коктейля.
А вот что говорится о рассказе Чехова «Канитель»: «Канитель» написана по гоголевской модели в передаче тугодумия». Нет, чтоб сказать по-человечески: в «Канители» Чехов следовал Гоголю. Но это будет «ненаучно», это будет слишком легко для науки. Надо утяжелить фразу сверхсмыслом, надо русский язык поставить с ног на голову, чтоб фраза эта приобрела характер высокого силлогизма.
Так являются на свет «микросюжеты» и «микрофиналы», «протопроблемы» и «протоидеи». У В. Лакшина в «Биографии книги» есть даже «проточувство», «протонастроение», «протофакт», не говоря уже о «протосюжете» и «протипизме», который, очевидно, образован от прототипа.
В. Лакшину нравится приставка «прото», Г. Бердникову — «микро». «Но у Чехова и в микросюжете, — пишет он, — это лишь повод для подлинного микрофинала».
Иногда с самыми обыденными вещами наука проделывает операции, которые делают их неузнаваемыми. «Мотив еды, — утверждает Д. Николаев, — становится сюжетообразующим фактором». «Сумасшествие героя, — отзывается ему П. Николаев,
—детерминировано идеей чина». С П. Николаевым перекликается У. Гуральник: «Мы не склонны фетишизировать уже найденные дефиниции»; с У. Гуральником — В. Кулешов: «Каждый предмет несет в себе метод своего раскрытия».
Я помню, как в 1961 году К. И. Чуковский читал нам, участникам семинара критиков в Переделкине, свои ранние статьи. И он очень смешил нас, обыгрывая в одном фельетоне словечко «доминанта», которое было когда-то в большом почете у ученой критики. Сейчас «доминанта» уступила место «структуре». Пойдешь налево — упрешься в «структуру», пойдешь направо — вырастет опять она. Частокол из «структур» возведен в работах Г. Бердникова и П. Николаева, «структура» — желанный гость на страницах книг В. Кулешова и Д. Николаева. Последний до того возлюбил ее, что написал о повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»: произведение «целиком сатирическое по пафосу и структуре». Что такое произведение сатирическое по пафосу, я еще могу понять, но что такое сатирическое по структуре, убей меня бог, не пойму.
Читая книги о классике, порой чувствуешь себя лесорубом в темном лесу. Нет сил пробиться к первоисточнику через заросли «дефиниций», «экстраполяций», «полифункциональности». Вот несколько густых мазков из этого, как выражается В. Кулешов, «колоризма изображения»: Достоевский и Чехов «фиксировали сдвиги в развитии типов... характеризовали колоритные фигуры-символы, интегралы целых поколений», «эти броские названия-определения заучиваются, как формулы-ключи», «Чехов не довольствуется типическим в литературе, он хочет встряхнуться и... найти готовые модели прекрасного», «чучело характеризует все бездушие его отношения к Нине», «Мавра, несомненно, обрамление сюжета», «позиция Треплева атакована иронией со стороны его матери», «из этого положения вытекает сила обличения», «приемы изображения порывов... будут и дальше развиваться у Чехова», «Григорович бичует пошлость более меткими способами», «даже шутки при страшных картинах должны были служить поискам объективной манеры повествования».
Не стоит утомлять читателя, но это лишь некоторые извлечения из некоторых книг В. Кулешова. В «Этюдах о русских писателях», рассчитанных на «широкий круг любознательных читателей», В. Кулешов в предуведомлении «От автора» сообщает, что «форма изложения» им «выбрана самая доступная», но тут же удивляет нас афоризмами, подобные которым, как говорил Гоголь, трудно отыскать в природе. «Проблема прототипов всегда имеет относительный смысл», «Тургенев писал не только с живых лиц, а еще и кровью сердца», «Добролюбов мыслил категориями, сложившимися в его столкновениях с Тургеневым», «круг впечатлений... был источником его главных творческих импульсов».
В.Кулешову принадлежит честь открытия таких определений: «ординарная посредственность», «гипертрофия психологизма», «доля горечи и соли», «беспримесный реализм», «обособленная оригинальность», «разноприродные образы», «новая ступень раскрытия ужасов», «фанатик собственной персоны».
Подобный язык невольно приводит к курьезам. Витиеватая форма (смесь научности со штампами) создает особые переливы «узорчатости» (используем термин В. Кулешова), которая никак не отвечает за содержание. Народные массы, пишет Г. Бердников, «своей кровью... прокладывают человечеству путь к лучшей жизни», в «Тарасе Бульбе» Гоголь «опирается на социальные мечты, близкие декабристским кругам», «оптимизм писателя креп в меру все более глубокого постижения им противоестественности господствующих общественных отношений».
Не менее парадоксален в этом смысле и П. Николаев: «Его сознание (речь идет о Гоголе. — И. З.) искало спасительные пути социально-нравственного изменения родины», «художник — концентрация эмоций, рождающая индивидуальность», «Нос» выступает эстетической программой Гоголя», «он собирался в своих мечтаниях вносить принципиальные коррективы в общий паразитический порядок жизни», «конкретные усилия тогдашней России сопротивлялись ему».
Можно было бы продолжить этот список, но, как верно — и глубокомысленно — заметил П. Николаев, «в области пустопорожнего внешние оттенки не имеют значения».
Совершенно не чувствуя языка искусства, эта наука не чувствует ни собственного языка, ни цвета красок, ни интонации фразы. Она глуха и слепа по отношению к красоте, к слову, к художественной плоти, которая одна лишь и может объяснить ту или иную идею в литературе.
Как исключение поминается в книге В. Кулешова о Чехове «узорчатость» стиля Гоголя, отличающая Гоголя от Чехова, но, открыв книгу того же автора о Достоевском, мы обнаруживаем, что «узорчатость» присуща и стилю Достоевского. Так в чем же разница между Гоголем и Достоевским?
Упоминая о «некоторых художественных особенностях», авторы книг о классике предпочитают отделываться скупыми отписками типа: «логичен комизм сцены», «облит иронией образ горничной», «фамилия Буркина символична...: человек словно завернулся в бурку, огражден от всех свежих дуновений».
Если же нужно сопоставлять писателя с писателем, то говорится: «не с той ноги, чем у Островского... начинается чеховский купец». «Чехов хотя и повторяет Гоголя, но у него много и своего». Чехов, однако, совпадает с Достоевским. И у того и у другого в размышлениях о будущем возникает слово «сад». И неважно, что слово это у Чехова произносит Петя Трофимов, а у Достоевского сам Достоевский — да еще придавая ему религиозное значение, — налицо «преемственность».
«После Сахалина, — пишет В. Кулешов, — у Чехова... появились идеалы». Он говорит так, не подозревая, что лишает Чехова того, без чего бы он не мог стать писателем. Не будь у Чехова идеалов (и это понимает каждый школьник), он и не поехал бы на Сахалин и никогда бы не создал того, что создал до поездки на этот остров.
Непонимание и незнание предмета поражает в работах ученых литературоведов. Казалось бы, за наукой право последнего суда над фактами, казалось бы, к ней, как к справочнику, должны мы обращаться в трудные минуты. Но не спешите этого делать. Не все, что научно, то правильно. В книге П. Николаева, например, сборник Гоголя «Миргород» назван «циклом повестей и рассказов». До сих пор «Миргород» считался сборником повестей Гоголя, и, издавая его в 1835 году, Гоголь снабдил его подзаголовком: «Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки». Но для П. Николаева Гоголь не авторитет, он переименовывает повести в рассказы. Тот же П. Николаев пишет о Гоголе: «Умер в полной нищете». Откуда взят этот факт? Чем уважаемый исследователь может доказать его? Гоголь был скромен в своих потребностях, не имел лишних вещей, ограничивал себя самым необходимым. Но «полная нищета» Гоголя — абсурд, фантазия, достойная воображения его небезызвестного героя.
П. Николаев называет отца Гоголя «комедиографом» — в то время как тот был всего лишь исправным помещиком и иногда пописывал стихи и пьески, — утверждает, что Гоголь намеревался предпринять «географические исследования Украины», путая два желания Гоголя — написать украинскую историю и книгу по географии для детей. Никаких сведений о специальном труде Гоголя по географии Украины не существует.
Обрывая цитату из «Театрального разъезда», П. Николаев находит у Гоголя образное выражение «электричества чин» и вводит его в свой научный оборот. «Электричества чин» мелькает на страницах книги П. Николаева «Историзм в художественном творчестве и в литературоведении». Но у Гоголя нет такого выражения, у него в «Театральном разъезде» сказано: «Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?»
Весьма поразил меня В. Кулешов, который в книге «Жизнь и творчество А. П. Чехова» (Детская литература, 1982) написал: «Базаровы только резали кошек на пользу науки». До сих пор было известно, что Базаров ставил опыты над лягушками и резал лягушек, но на то, что он еще занимался и живодерством, у И. С. Тургенева нет никаких указаний. В той же книге В. Кулешов посвящает целый абзац анализу рассказа Чехова «Студент». И в этом абзаце мы читаем: «Эти поля, осенний ветер — все как при Рюрике... Студент присел к группе крестьянок, копавших картошку, и рассказал им об апостоле Петре». Но действие рассказа Чехова происходит весной, на Пасху, и весь рассказ о весне, о Пасхе, о пасхальных ассоциациях, о предательстве Петра и т. д. Причем тут «осенний ветер»? Да и крестьянок в рассказе не «группа», а всего две — мать и дочь. И не копают они никакой картошки (какая же картошка весной?). И студент вовсе не «приседает» к этим женщинам, а остается стоять. Все тут перепутано, все — плод фантазии автора. В издании 1985 года В. Кулешов подробности о женщинах и о картошке снял, а «осенний ветер» все же не тронул.
На фоне таких преображений безобидными кажутся неточности, которые мне все же хотелось бы привести.
Из книги Д. Николаева мы узнаем, что Гоголь «с детства жил в атмосфере веселья и смеха», что эта атмосфера постоянно окружала его отца, что Василий Афанасьевич Гоголь «жил весело, радостно, увлеченно, купаясь в стихии шутки и смеха». Но это неправда. Гоголи жили трудно. И если иногда вспыхивал в доме смех, то он прерывался «припадками» Василия Афанасьевича и его меланхолией по поводу зависимости от Д. П. Трощинского и необходимости жить в заботах и хозяйственных хлопотах. Об этом говорят письма Василия Афанасьевича и его грустные стихи.
В книге «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского» В. Кулешов замечает: «Фома произносит чисто гоголевскую фразу: «Я знаю Русь, и Русь меня знает». Но эта фраза, ставшая крылатой, произнесена вовсе не Гоголем, а Н. Полевым в предисловии к роману «Клятва при гробе Господнем», о чем есть соответствующие примечания к повести «Село Степанчиково и его обитатели» в Полном соббрании сочинений Ф. М. Достоевского (Т. 3. — С. 511; см. также: Т. 5. — С. 368).
4
В науке всегда было фаустово и вагнерово начало. Одни выводили из фактов идею, из опытов теорию, другие сквозь стекло теории смотрели на факты. Одни менялись в ходе исследования, отрекались от добытых ими истин, пересматривали свои взгляды, другие стояли на своем, взращенного ими в колбах гомункула предпочитая живому веществу.
Мы знаем много прекрасных книг о литературе, вышедших в последние годы. Но сейчас речь не о них. Сейчас речь о том, что наросло на науке, наросло на литературе и омертвляет их у нас на глазах. Это делается именно у нас на глазах, потому что издается массовыми тиражами, переиздается и увенчивается лаврами всяческих званий и премий. Книга Г. Бердникова «А. П. Чехов. Идейные и творческие искания», которую я цитировал, удостоена Государственной премии СССР и переиздана уже три раза. Книги других авторов принесли им, по крайней мере, звания докторов наук или даже членов- корреспондентов. Они не просто вышли в свет и заняли свое скромное место среди других изданий — они законодательствуют, они строго одергивают тех, кто идет, по их убеждению, не в ту сторону.
Г. Бердников, например, печатает в своей книге «Над страницами русской классики» статью «О партийном отношении к классическому литературному наследию», где отлучает своих собратьев по перу от этого отношения только потому, что те противоречат Г. Бердникову. Такая узурпация истины — не новость, но она — нонсенс для наших дней. Грозя со страниц этой статьи мыслящим не так, как он, Г. Бердников списывает их книги в «теневые стороны наших достижений». При этом подразумевается, что «наши достижения» — это и его, Г. Бердникова, достижения.
Так высокомерие не оставляет нашу науку о литературе ни в чем. Несколько лет назад вышел сборник «В мире отечественной классики», о котором уже шла речь. В аннотации к сборнику составители указали, что они включили в него «наиболее значительные статьи из периодики последних лет». И что бы вы думали? Те же имена: Ю. Суровцев, В. Кулешов, Г. Бердников. «Когда возникает советская литература? — спрашивает со страниц сборника В. Кулешов. И отвечает: — Мы полагаем, что она начинается с Советской власти».
«Мы полагаем» звучит смешно, потому что ответ и так ясен.
Подобного рода трюизмами полон весь сборник. Он на четыре пятых состоит из цитат и общих мест, которые подаются, однако, как основополагающие умозаключения.
Я бы даже назвал это поэзией общих мест, упоением общими местами, если бы в этих «инвективах» и «антиномиях» присутствовала хоть капля чувства. Почему-то больше всего этот водопад холодных слов обрушивается на читателя, когда — и это бросается в глаза — речь заходит о работах В. И. Ленина. «Развитие литературы рассматривается В. И. Лениным, — читаем мы в статье В. Щербины «Литература и действительность», — как органическая составная часть прогресса общества», «именно в органическом слиянии воплощения внешней стороны жизни с ее внутренней смысловой стороной В. И. Ленин видел основной принцип и величайшие творческие завоевания художественного реализма», «для В. И. Ленина литература это активная сила, участвующая в решающем историческом процессе социалистического изменения мира».
В 1949 году, когда я окончил школу, учебники по литературе были полны теми же фразами. Но на дворе 1987 год. Доколе? — хочется спросить у ученых-литературоведов.
1987 г.
БЕЗ РИСКА
Гранин — писатель умный, но дисциплинированный. Читая его, знаешь, что если дело и дойдет до риска, до роковой черты, где правда как бы превышает себя, как бы обретает ту свободу, которая уже не поддается ни расчету, ни вдохновению, то тут же последует и остановка, тут же, над самой пропастью, все и притормозит и мирно отбуксует обратно — туда, где нет ни страха, ни риска. Иной раз ходишь по острию, кажется, черта между дозволенным и недозволенным исчезнет, сотрется, и приятный холодок опасности проникает в сердце, но и это переживание на мгновение, на мгновение заблуждения, потому что Гранин решительно против таких пассажей, потому что ум у него сторожит и караулит и не допустит к своевольничанию ни чувство, ни воображение.
Так было всегда, так случилось и в «Картине».
«Картина» — роман алгебраическое упражнение, но без неизвестных. Противоборствующие силы заключены в скобки, вынесены за скобки, производится операция по вычитанию, сложению, делению. Но как умный учитель, задающий студентам задачу, знает ее окончание, так и Гранин знает ответ, держит его при себе и в финале спокойно выкладывает на стол: нате смотрите — вы старались, отгадывали, а он был у меня в кармане. Тут не только решение математическое и ответ безошибочный, но и расстановка слагаемых, вычитаемых и делимых та же, ничуть не отличающаяся от математики, хотя речь идет о людях, об идеях и даже о боге.
Да, и о боге Гранин пишет, в современном романе не обойтись без бога, а Гранин
—современный писатель, он всегда начеку относительно того, что на повестке дня, что проклевывается или ждет своего обозначения в литературе. Когда-то это были физики, наука (роман «Иду на грозу»), сейчас бог — памятники старины, технократия, бюрократия.
Гранин берет в главные герои человека, который соединяет в себе черты технократа, бюрократа и вместе с тем некоего славянофила, что ли, если опять-таки выражаться современным языком. Лосев — председатель горисполкома, его ум забит заботами о стульчиках для детского сада, о строительстве жилья, школ, о размещении в городе филиала фирмы счетно-вычислительных машин. И в то же время он коренной лыковский житель, он любит этот город с его старинными лабазами, колокольнями, Жмуркиной заводью. Жмуркина заводь — это ответвление речки, которую копа-то изобразил художник Астахов на своем холсте и которую теперь собираются извести. За эту Жмуркину заводь, о судьбе которой он в начале романа и не помышлял, Лосев в конце романа стоит горой: он готов ради нее отказаться от любви, от должности, от повышения, от карьеры.
Вначале это вполне лощеный, верткий бюрократ — с улыбочками, с дрессированной волей, правда, несколько превышающий по своим возможностям бюрократа районного масштаба; в конце это сломившийся от сомнений интеллигент, интеллигент, выбитый из колеи ностальгией по прошлому, по всему тому, на что наступает безжалостная НТР.
Гранин сначала дает нам «делового человека» (этим и откликаясь на спрос времени), затем — вовсе не делового, даже антиделового, целиком доверяющего своим чувствам, а не уму, своим воспоминаниям, а не ориентации на настоящее. Лосев склеен из двух противоположностей, умело подработан и подогнан под нестандартностандартный тип, в котором есть и безумство некоторое, некоторая вольность в мыслях, и предельность всех этих безумств, этих загибов и перегибов,
В иных романах и идея может стать героем, героем со своей судьбой, с полной неизвестностью пути, с полной непроницаемостью насчет окончания этого пути, потому что жизнь этой идеи не умышленная жизнь, потому что и автор иногда не волен над ее выбором, потому что искусство тут выше творца.
В Гранине творец, автор чересчур уж преобладает, преобладает с таким перевесом, что и идее, человеку простора уже не дается, повинуются они железной логике сюжета, узде умысла, и строгий надзор автора не дает им очень уж занестись.
Сама идея картины кажется мне весьма запланированной, запущенной с однозначной нагрузкой в сюжет. Это идея и сюжет искусства, вступающего в противоречие с технократией и всем комплексом «технократических чувств», искусства, которое таки берет верх, которое шире НТР, древнее НТР, долговечнее НТР. События вокруг картины в романе организованы Граниным, и организованы так, что видны следы организации, вербовки, следы распределения обязанностей.
Лосев — двоящийся герой, Уваров — цельнометаллический, это бюрократ без изъяна, чистый, без примесей. Все при нем работает на бюрократию с иголочки, на бюрократию презентабельную, бюрократию с лоском. И его затемненные очки, и американский карманный компьютер (сам купил в Штатах), и диктофон. Да и стиль семейной жизни Уварова с отрегулированным бытом — это стиль бюрократа высшего пошиба, «со знаком качества». «От него, — пишет Гранин, — передавалось ощущение хозяина, т. е. здравого смысла». В Уварове живет здравый смысл, в нем тикает секундомер, он сам, как говорит он о себе, «компьютер».
Уваров — компьютер, а Поливанов — это человек, который когда-то жег на площади Лыкова иконы и старинные книги (когда был «начальником» города), а теперь кается, на смертном пороге видит бессмысленность всей своей жизни и хочет что-то подправить, восстановить, списать со своего исторического баланса. Это кающийся левак эпохи военного коммунизма, который и жизнь прожил, как ту эпоху — без поблажек себе и другим и уж, во всяком случае, без каких-то там чувств и слюней по поводу какой-то картины.
Гранин без колебаний подводит его к смерти и заставляет публично просить прощения у народа чуть ли не на улице. Поливанов просит Лосева дать ему произнести речь по радио или выступить на площади. Он и умирает на пути к дому Кислых (дому, который изображен на картине), умирает на мостовой, не успев довести идущую за ним манифестацию до этого дома. Дом хотят снести — Поливанов бросается на его защиту. Идее технократии (Уваров) противопоставляется идея неуправляемой искренности, которая при одних обстоятельствах может творить зло, при других — добро.
Пример Поливанова заражает Лосева. Смерть Поливанова, надгробная речь на могиле Поливанова, которую произносит председатель горисполкома, сами похороны, которые превращаются чуть ли не в демонстрацию (сильная умственная натяжка Гранина), решают исход дела в пользу картины. Колеблющийся Лосев становится неколебимым, в смущение введены и Уваров (из области) и Орешников (из Москвы). В довершение всего как гром среди ясного неба появляется статья в «Правде» в защиту Жмуркиной заводи и картины Астахова — и тут стоящий на нижних ступенях лестницы Лосев получает верховную поддержку.
Пересказывая этот сюжет, я вспоминаю роман Д. Гранина «Иду на грозу». Там дело тоже доходило до края, там тоже умирал один из главных героев (академик Дан), но и там торжествовала справедливость, добродетель брала верх и мучающий героев конфликт благостно разрешался, выпускал из себя пар. Ученик Дана — Крылов — получал гарантии для честной работы в физике, к Крылову — в награду за упорство — приходила и любовь. Эту компенсацию получает и Лосев в виде любви учительницы Тани Тучковой.
Таня Тучкова в романе представляет молодое поколение. Под его напором гнется Лосев (другой представитель этого поколения — Костя Анисимов), его жесткостью и революционностью вдохновляется, под его взглядом проверяет себя.
Костя Анисимов — молодой человек в джинсах — просто перевоспитывает его. Лосев перестает осторожничать, начинает совершать опрометчивые, с точки зрения делового человека, поступки. Таня Тучкова действует на него с удвоенной силой. Эта слабая девушка в очках (почти девчушка) приводит его к столкновению с Уваровым и Орешниковым, заставляет развернуться на сто восемьдесят градусов и вообще покинуть Лыков.
Чтоб придать ей немножко сложности и как-то оправдать ее неумеренное участие в делах с картиной, а также в делах Лыкова и Лосева, Гранин делает ее внучкой священника, то есть женщиной, которая читала Евангелие, знает наизусть Бунина и Блока. Она даже вступает в спор с неким еретиком от церкви — Ильей Самсоновичем, служкой в соборе, который восстает на лицемерие верующих. Есть у Гранина и такой тип
—он тоже нужен в этой комбинации, без него не обойтись: введя тему церкви, нельзя не ввести и тему оппозиции ей.
Богословские споры между Ильей Самсоновичем и Таней разрешаются в пользу Тани — и так тоже должно быть. Таня и верит и не верит. «Как хорошо. Не верю, а хорошо. Тайна есть. И какая-то важная...» Сделать Таню верующей было бы уж слишком для Гранина, и он выбирает формулу: и не верю, а хорошо. Это дает ему право и Лосева так повернуть к проблеме, что и ему делается удобно при ней — некоторые неположенные размышления появляются у него в голове, но они как бы текут поодаль, поодаль. Весь груз тут переносится на женщину: она женщина, ей можно.
«Он радовался своей свободе, — читаем мы о Лосеве. — Горячая волна спора обдавала его, но он не позволял ей подхватить, унести. Приятно было видеть усилия Таниного ума, как разбиралась она в Евангелии, в библейских сюжетах, которых не изучали ни в каких институтах, в вещах, казалось бы, начисто исключенных из обихода... »
Речи Тани (в спорах с Ильей Самсоновичем) разжигают Лосева, но разжигают не только речи, но и сама Таня. У Гранина «деловой сюжет» не может обойтись без любви, без подмалевки любви, но поскольку она лишь подмалевка, то и стараться особенно не стоит: было бы «дело», а любовь приложится.
Как человек, привыкший мыслить математически, Гранин и любовь включает в число слагаемых и вычитаемых. Любовь, правда, подразумевает единство взглядов, но далее в действие вступают ее слепые законы, которые у Гранина почему-то не слепы, а зрячи. И здесь все рассчитано, отработано, впрочем, отработано в духе стихии, некой горячки, вакханалии чувств. «Горячая волна обдала его... Она подняла голову, вытянулась, что-то вспыхнуло в ней, дохнуло жаром таким, что Лосев внутренне отпрянул. Где-то там бушевало пламя, что-то плавилось и сгорало...»
Но это прелюдия любви. Далее чувства героев набирают темп: «Она выпрыгнула из постели, как была, в длинной ночной рубашке, забегала по номеру. Босые ноги стучали по ковру глухо, на линолеуме — шлепая... » От стука этих босых ног воображение Лосева возбуждается. В нем тоже что-то начинает «плавиться и сгорать». «Она рассмеялась... Подняла руки, приглаживая разлохмаченные волосы, и от света окна рубашка ее стала прозрачной. Внутри обозначились высокая грудь, длинные полные ноги... »
Обращаю внимание автора на эти дважды повторенные «внутри». Лосев «внутренне отпрянул». «Внутри обозначилась... грудь». Где «внутри»? Внутри чего, рубашки? И как можно «внутренне отпрянуть»?
Что остается делать Лосеву? «Лосев вскочил. Если б была гитара, он сыграл бы, спел, назло принуде, которая управляла им, лишая его всякого выбора». Что за «принуда», какая принуда? Понять я это не могу. Что принуда — картина, обязанность отстаивать ее или сама Таня? Или должностные ограничения, которые не позволяют Лосеву отдаться любви?
Назло принуде Лосев все-таки отдается. «Он увидел, как она страдает за него. Нашлась живая душа, которой важно то, что с ним происходит. Какое это счастье! В той машине деловой жизни, которая крутила его столько лет, редко кто интересовался им самим... Взгляды их встретились, ударились друг о друга. Лосев облизнул пересохшие губы, и в этот момент Таня произнесла голосом, который он потом помнил всю жизнь:
—Идите ко мне».
Предоставлю читателю разобраться самому в том, что последовало далее. «Каждым своим изгибом тело старалось соединиться с другим телом... Это был взрыв жизни, окончательная истрата ее, состояние наибольшей полноты и наибольшего опустошения.
Горячие тела их лежали обессиленно, впитывая покой. Плечи, ноги еще соприкасались, но течение уже разносило их... Опытность ее была неожиданной... Лосеву это нравилось... Лицо Тани поднялось над ним, взошло влажное и счастливое. Груди ее с алыми сосками. Капельки пота блестели на верхней губе. Лосев разглядывал ее лицо, учился читать его...
Лосев удивлялся количеству существующих на свете стихов о всем том, что происходило между ними. Обозначить это словом «любовь» было неинтересно, оно обезличивало... То, что происходило между ними, было так тонко и переменчиво...»
Да, это настолько «тонко и переменчиво», что слово «любовь» тут не подходит. Оно устарело. Деловой человек не привык к иносказаниям в сценах любви. Стихи, литература его не устраивают. Ему подавай рубенсовскую плоть и щекочущую «опытность». Если не назвать все своими именами, будет не то, несовременно. И Гранин во вкусе инженерии любви преподносит ему эту инженерию. И тут он оказывается на уровне ненавистной ему НТР. Впрочем, слово «ненавистной», пожалуй, не подходит. Гранин за то, чтоб искусству было хорошо и НТР хорошо. Чтоб одно другому не мешало, одно другое не теснило. Скажем, в живописи он за высокое искусство, за чистоту сюжета со Жмуркиной заводью, а в обслуживающей НТР беллетристике — за срывание покровов с тайн.
Его собственное письмо как бы противоречит всей идее романа: роман за картину Астахова, а язык романа, скорей, против нее. Это технократическое отношение к слову не как к духовной максиме, выражению духовной максимы, а как к орудию информации, подсобному средству, тогда как в искусстве слово (по заключенному в нем смыслу) цель.
И еще о языке. Гранин пишет: «Впервые после школы он произносил стихи. Внизу шли воскресные люди... Несмотря на митрополита, народу не прибывало... Он невольно заражал своим чувством». Штампы и проходные слова смешиваются в языке романа с глухотой к слову, с обезличиванием текста. Кто такие «воскресные люди»? По Гранину, те, что в воскресенье гуляют по городу. Но тогда можно сказать: над столом летали воскресные мухи. По дороге бежала воскресная собака. И как можно «произносить стихи»?
Я помню книгу очерков Гранина о поездке за границу. Там в словах была четкость и ясность, как в осеннем пейзаже. Все просвечивалось личным чувством автора — и резкость зрения была следствием работы по отбору и выбору слов. Там проза Гранина достигала некоего равновесия между словом и чувством — там был человек и не было задания, там личность автора свободно растворялась в материале.
В «Картине» Гранин ищет этой санкции, этого верховного поощрения у собственного замысла, у той надзирающей силы, которая не позволяет ему быть свободным. И это связывает ему руки в выборе слов.
Есть и еще один важный просчет в «Картине». Просчет этот — сама картина, так насильственно поставленная в центр повествования, так заполнившая и подчинившая себе все в нем. Эта картина, как идол, распоряжается человеческими чувствами, казнит и милует, но она еще и физически занимает в романе много места. Роман начинается с описания картины, с описания изображенного на ней вида, и далее эти описания следуют одно за другим, наплывая одно на другое, затирая предыдущее изображение, натирая на нем мозоль. Пейзаж картины становится отвлеченностью, окостеневшим символом, недвижной идеей о Жмуркиной заводи (о том, что на картине изображена Жмуркина заводь и дом Кислых, только и помнишь), а не живым холстом, на который достаточно раз взглянуть, чтоб его запомнить. Эффект всякого живописного творения всегда эффект первого впечатления, мгновенной вспышки, которую производит встреча с картиной или портретом, причем не в содержании тут дело, а в красках. Таинственный язык красок, их согласие, их внутренняя жизнь бьют по глазу и вызывают волнение, увлечение, музыка живописи без посредства слов проникает в сердце. Слова, объяснения могут лишь поддержать литературную часть живописного полотна (если она есть), но ничто не может заменить этого первого осязания глаза, внезапного схватывания и сюжета, и смысла, и цвета, которые даются только тогда, когда видишь картину, остаешься с нею один на один. Потом можно вглядываться, стоять возле холста часы и уходить все глубже и глубже в свое собственное переживание, но все же это будет движение по пути этого переживания, движение, образовавшееся от толчка первого впечатления.
Гранин пренебрегает этими отношениями человека и живописи. Он смазывает эффект первого впечатления постоянными возвращениями к картине, постоянными напоминаниями о том, что на ней изображено, как изображено. Каждый герой, входя в роман, обязан столкнуться с картиной, поклониться картине, осмотреть картину. И всякий раз возле него оказывается автор, который, как словоохотливый экскурсовод, спешит дать разъяснения насчет холста. Роман начинает простаивать на наших глазах — простаивать от недостатка действия, от этих разъяснений, от того, что нам буквально приходится стоять перед холстом Астахова и в который раз всматриваться в этот холст.
Живопись оттого и живопись, что говорит своим языком, и язык слов не может заменить язык красок. Можно понять писателя, когда он ставит в центр романа или рассказа известное полотно — полотно, которое кто-то из читателей видел или мог видеть (как сделал это Достоевский в «Идиоте»), но картина-аноним, картина — плод воображения автора — всегда гомункулус, существование которого (существование в наших чувствах) мы вправе подвергнуть сомнению.
Читатель должен поверить Гранину на слово, что картина Астахова — шедевр, автор должен заручиться этой безоговорочной поддержкой читателя, а читатель — закрыть глаза на шедевр, подразумевая, что он шедевр. Это создает неравноправные отношения читателя и писателя, создает натяжки в отношениях между читателем и картиной, героями и картиной. Недвижность и механистичность этого главного символа романа набрасывает свой свет и на людей, на пересечения идей, на проблематику романа.
Гранин пытается оживить картину, освежить картину, вписав в нее купающегося мальчика, — так видят картину в начале романа Лосев и в конце романа художник Бадин. Этот купающийся в Жмуркиной заводи мальчик — и сам Лосев, и символическое дитя, прообраз надежды.
Но и эта деталь, на которую уповает Гранин, не меняет дела. Картина по-прежнему остается недвижной, на механическом символе появляется еще один символ, символ наклеивается на символ, и арифметика опять вступает в свои права.
Недаром картине противопоставляется не что иное, как филиал фирмы счетновычислительных машин. На месте Жмуркиной заводи хотят возвести не завод, не жилой дом, а именно это — символ прогресса XX века. От этой арифметики зависит и другая арифметика. По одну сторону занимают место отцы, по другую — дети; на одном полюсе оказываются бюрократы и дельцы, на другом — бессребреники-энтузиасты. В романе есть реформаторы (Лосев), поборники «малых дел» (военком), старые большевики (Поливанов), эмиграция (Лиза Кислых). Все они, как в музыкальной шкатулке, движутся друг возле друга, пути их пересекаются, колесики и винты срабатывают и не дают машине остановиться. Нить от отца Лосева (честного интеллигента, гадавшего о загадке мироздания) тянется к Лосеву, нить от отца Пашкова тянется к Пашкову. Пашков — карьерист, отец его, занимавший когда-то высокий пост, сломался на карьере. Он покончил с собой, когда его понизили в должности.
Проблема карьеры вообще весьма занимает Д. Гранина. Может быть, и картина понадобилась ему только для того, чтобы высказать несколько мыслей о карьере, для этого понадобилось и все остальное, была заведена пружина и рассчитано время игры. Лосев, как я уже говорил, покидает кресло председателя горисполкома. Он многозначительно уходит, не «его уходят», как говорят, хотя и «его уходят» тоже, но уходит преимущественно он сам, по собственному почину, без подсказки извне.
Пестрая биография героя Гранина, впрочем, изобилует уходами. Он был атомщиком, водопроводчиком в жэке (где, по словам автора, и выпивал, и халтурил, и даже брал «на чай» с жильцов), работал на стройке, на Севере. Председатель горисполкома не первая и не последняя его должность. Гранин дает понять, что и теперешнее положение Лосева — он вновь прораб на какой-то стройке — еще не вечер. Потому что Лосев — «человек из легенды», он «вернется, потому что обстоятельства именно такого человека потребуют», потому что купающийся мальчик на картине — это не просто мальчик, это возрождающийся Лосев, новый Лосев, это, наконец, намек на то, что мальчики еще придут и свое слово скажут.
Будем надеяться.
А пока Гранин решает в Лыкове все устроить так, чтоб и идея Лосева не пострадала и чтоб не очень уж она выглядела розовой. Он ставит на место Лосева бюрократа Морщихина (показывая, как вреден уход таких людей, как Лосев) и делает директором музея, расположенного в доме Кислых (где висит теперь картина), Костю
Анисимова. Он заканчивает роман по-гранински: никому не нанося непоправимой обиды, ставя вопрос остро и вместе с тем не заостряя его, подводя нас к черте и не переступая ее.
1984 г.
«СУХА, МОЙ ДРУГ, ТЕОРИЯ...»
Писать учебники (или даже учебные пособия) по литературе нелегко. Тем более если речь идет о литературе, еще не отошедшей от нас на почтительное расстояние — еще вчера бывшей плотью и горящим веществом дня. Ничто в ней еще не уложилось, не сложилось, не профильтровалось, еще не осел осадок. Тем не менее существуют кафедры современной литературы, студентов надо учить, и учебники выходят в свет.
Один из таких учебников (а точнее, учебных пособий) передо мной. Издал его Московский университет. Рецензировали доктора наук А. А. Журавлев и А. В. Огнев, а написал коллектив авторов в составе: доктор филологических наук А. И. Метченко, кандидаты филологических наук А. П. Герасимов, В. А. Зайцев и Б. С. Бугров. Сознательно ссылаюсь на научный авторитет писавших: о науке и научности и пойдет у нас речь.
Но сначала несколько цитат: «Рассказом «Бессовестные» писатель утверждает мысль, что этический эталон... также подвластен диалектическому закону», «в условиях, когда все институты нашего общества нацелены на полнейшее самовыражение личности, не исключена активизация честолюбивых устремлений», «антигерой паразитирует на духовном багаже... общества зрелого социализма», «дымка таинственности, которой окружены финальные эпизоды их биографий, — продуманный способ подчеркнуть прекрасное... »
Все это — из книги. И таких перлов тут — от начала до конца. Спрашивается, что это, язык науки? Или просто плохой русский язык? По-моему, второе.
Когда критики кипятятся и говорят, что наука слишком засушивает практику, им отвечают: таковы задачи науки. Наука не чета критике, слышал я в одном научном сообщении, критика живет день, час, она на день и на час рассчитана, а наука живет вечно. Но почему же тогда, хочу я спросить постфактум автора этого сообщения, жив Белинский, а иные ученые мужи, занимавшиеся в его время словесностью, канули в Лету?
Ответить на этот вопрос непросто. Подумавши, можно сказать, что в эпоху Белинского науки о литературе как таковой не было, что Белинский был и ученый и практик, в своем роде профессор и в то же время критик. Можно сослаться на то, что раз уж наука о литературе появилась, то так было нужно. И надо с этим считаться и признать ее право на пребывание в храме искусств.
Не знаю, как насчет храма, но то, что такая наука — реальность, не признать не могу. Более того, скажу, что она дала нам таких писателей, как M. M. Бахтин или А. Ф. Лосев. Но какие они писатели? — возразят мне. Пишут тяжело, читать их трудно. Это не какие-нибудь милые вашему сердцу эссеисты.
И с этим соглашусь. Читать Лосева и Бахтина трудно. Их язык тяжел. Но это тяжесть мысли, преодолевающей желанье природы остаться «вещью в себе». Проходя через плотные слои предубеждений, их мысль выходит один на один с природой уже изнеможенной. И нужны новые затраты сил, ибо природа, по словам Эйнштейна, «с мраморной усмешкой» взирает на попытки ума человеческого познать ее.
Тут муки мысли и тяжесть мук мысли, а не тяжесть темноты, застоя крови и груза знаний. Когда в мысли нет живой крови, она застывает, она превращается в мертвый груз, в балласт.
Так что есть тяжесть и тяжесть. Есть тяжесть тяжелой энергии и есть тяжесть тянущего мысль в воду камня.
Читая пособие «Современная советская литература. 70-е годы», я чаще всего сталкивался с тяжестью второго рода. Передо мной нагромождались цитаты, выстраивались этажи теории, они обносились балконами и балкончиками, камень ложился на камень, но мысль при этом не росла вверх, не тянулась к небу, а прочно покоилась под гробовой плитой фундамента.
Образцы нескольких мертвых мыслей мне хотелось бы продемонстрировать. Во введении к книге есть такой абзац: «Если во времена Пушкина принцип народности служил стимулом борьбы за национальную самобытность, а в эпоху Некрасова — за освобождение народа, то в условиях победившего социализма он стал фактором сближения наций. Получает свободное развитие национальное как народное».
Что касается нас с вами, то все правильно. Но то, что касается Пушкина и Некрасова, то совсем неправильно. Получается, что для Пушкина принцип народности противоречил идее сближения наций, что для Пушкина и Некрасова национальное не было народным. По форме мы имеем теоретический постулат, который смотрится весьма солидно, но солиден он только по значительности упомянутых в нем понятий, так как ни «науки», ни правды тут нет.
Или еще: «Мыслить глобально и заботиться о судьбе каждого, — пишут авторы во «Введении», — таков диапазон творческих забот социалистического реализма сегодня». Но, простите, хочу спросить их, а вчера у социалистического реализма разве не было этих забот? А разве не было таких забот у великой русской литературы XIX века?
Это смешно. Стараясь доказать, что литература в 70-е годы поднялась на новый уровень, пережила новый этап, авторы пособия таким образом приподымают ее в наших глазах. Да нуждается ли она в этом?
«От Радищева, Пушкина, Гоголя, Некрасова, — читаем мы в том же «Введении»,
—в русскую советскую литературу входит образ дороги, наполняясь новым содержанием. В этом образе запечатлено не только ощущение необъятности России, но и вера в ее счастливое будущее (Твардовский «За далью — даль», Е. Исаев «Суд памяти»)». И опять-таки в этом «но и» заключено противопоставление русской классике. Выходит, что ни Пушкин, ни Гоголь, ни Радищев, ни Некрасов не верили в будущее России.
Стоит ли доказывать, что это не так? Достаточно открыть «Мертвые души» на странице, где воспета знаменитая птица-тройка, чтоб увидеть, что это ложная мысль, «... и постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства», — пишет Гоголь о тройке. «Дружно и разом» напрягают ее кони свои «медные груди» и «чудным звоном» заливается над ними колокольчик. Что это — неверие в будущее России?
Чтобы хвалить новое, не обязательно ругать старое. И даже наоборот. Чем более мы уважаем старое, тем более мы возвышаемся в его и в собственных глазах как новое.
Поэзия и проза семидесятых годов действительно была новой полосой в литературе, но об этом надо говорить, опираясь на факты, на текст, а не возводя теории на песке. Теория строится на песке тогда, когда ее не хотят строить на основаниях жизни. Когда жизнь, по мнению теоретиков, слишком «кусается», чтоб над нею можно было возвести благополучную теорию.
А теорию-то хотят возвести именно благополучную, никого не трогающую, хвалебно-усыпляющую — не ту, которая заставляла бы думать и, пожалуй, беспокоиться.
В этом все дело. Отсюда и архитектурные излишества, и теоретические украшательства. Ими заполнено не только «Введение», но и все главы книги. И в частностях авторы не отступают от общего закона. Вот что они, например, пишут о творчестве Михаила Колесникова. В его произведениях «схематизм, декларативность, авторская назидательность, непродуманность поступков... героев» бросается в глаза. «Тем не менее, — настаивают они, — в характере Алтунина-администратора писатель одним из первых воплотил новую философию управления».
Каждый грамотный студент-филолог (к которому и обращено пособие) знает, что для того чтобы в литературе можно было что-либо «во-плотить», нужна плоть, нужно вещество языка, нужна материя воплощения. Ибо если этой плоти нет, то нет и воплощения, нет, собственно говоря, и литературы.
Но его учителя, авторы пособия, утверждают обратное. При том они еще пишут, что М. Колесников использовал в своем творчестве некий «центрический способ обобщений» Как же мог он это сделать, если обобщать-то ему, судя по всему, приходилось схематически, декларативно, назидательно и проч.?
«Центрический способ обобщений» такое же теоретическое открытие книги, как и «панорамный роман». Говоря о романе 70-х годов, авторы вводят это понятие как принципиально новое, как присущее именно этому периоду в литературе.
«И что же такое «панорамный роман»? Ему свойственны «многоплановость повествования широкий охват событий». Но чем же тогда «панорамный роман» отличается от «Войны и мира» Толстого? Или от «Тихого Дона» М. Шолохова?
Не вижу разницы.
Далее понятие «панорамного романа» уточняется: «роман с широким охватом событий и множеством действующих лиц», «панорамный роман требует крупноформатного изображения событий, а также создания группового портрета масс, людей... » И вновь это уточнение ничего не объясняет. Перед нами все признаки старого романа-эпопеи, только он переименован здесь в «панорамный роман». Налицо, кажется, новое качество, а как посмотришь внимательнее, то ничего нового, кроме кинематографического словца «крупноформатный», тут нет.
Столь же далеки от реальности и рассуждения авторов относительно «природного человека» Оказывается, проза о деревне в 70-е годы воскресила этого «природного человека», описанного еще Тургеневым, но воскресила по-своему «Современный природный человек, — читаем мы, — так же, как и тургеневский Калиныч, стоит ближе к при роде, чем к людям, он так же не любит рассуждать и многое принимает на веру. Таков Иван Африканович.
К этому герою современные советские писатели обращают взор с надеждой... дать эстетический образец для воспитания «экологических» эмоций. Новаторство «деревенских писателей состоит в том, что, поэтизируя вслед за классической литературной традицией мир «природного человека», они видят и его ограниченность — социальная инфантильность (пошехонство Ивана Африкановича); полная растворенность в мире природы делает его беспомощным в человеческом общении».
Здесь опять-таки этажи рассуждений возводятся на пустом месте. Ну какой же Иван Африканович — герой повести В. Белова «Привычное дело» — «природный» человек? Где его «полная растворенность в мире природы»? И где взгляд Василия Белова на этого героя как на «ограниченного» человека?
Все это не соответствует правде повести, не соответствует правде и в теоретическом смысле. Человек, прошедший войну и имеющий орден Славы, — инфантильный человек? Он — образец для «экологических» эмоций?
Трудная жизнь Ивана Африкановича в колхозе, вся история его семьи — это не «экологические» эмоции. Это самая что ни на есть социальность — та социальность, про которую Белинский писал: «Социальность, социальность или смерть!»
Здесь вопросы жизни и смерти крестьянства, жизни и смерти послевоенной деревни, а не новаторство в сфере экологических проблем.
Слово «экологический» должно придать теории современный отблеск. Сказал «экология» — и сразу вписался в XX век.
Отсутствие опоры на практику ощущается всюду в книге. Хромота теории говорит о том, что практика слабо подпирает ее, что почва практики ускользает из-под ее ног. Поэтому и приходится авторам отделываться общими фразами, когда речь заходит об истинном существе сделанного литературой 70-х годов. Вот эти фразы: «В целом проза заметно укрепила свои позиции», «поэзия приобрела черты, зрелости», «активизировались «тихие» поэты», «усиливается пристальное внимание к человеку», «видное место заняли различные формы раздумий», «лирические и эпические начала находятся в сложном взаимодействии», «заметен рост аналитичности», «богаче стало жанрово-стилевое многообразие».
Если взять все эти определения и приложить их к любой другой эпохе нашей литературы, то получится, что и в те эпохи происходило то же самое. Росла аналитичность, усиливалось пристальное внимание к человеку и проза заметно укрепляла свои позиции. И даже в жанрово-стилевом разнообразии наблюдалась подвижка. Авторы, например, считают, что в 70-е годы произошло «введение в лиро-эпическую повесть элементов драмы». Они относят это качество к достижению литературы десятилетия. Но это введение осуществлял в своей практике еще Александр Блок.
Говоря о «различных формах раздумий» (формулировка сама по себе «замечательная»), они настаивают на том, что развились формы баллады, монолога, разговора. Но такое было в начале XIX века и в конце его и в двадцатые годы XX столетия. И лирическое и эпическое начала находились в сложном взаимодействии тоже сто лет назад. А «синтез реалистических и романтических начал» — родовая черта литератур всех времен и народов.
Такая неконкретность, такое необязательное приложение общего к частному делает пособие «Современная литература. 70-е годы» весьма уязвимым. Из него исчезает дыхание времени — то есть отлетает историческая душа, — а что литература без этого?
Даже реальные имена реальных писателей теряются в этой дымовой завесе теории Что говорить о тех, кого в этой книге попросту нет?
Пособие по литературе 70-х годов оставляет за бортом этой литературы Валентина Катаева, Владимира Тендрякова, Арсения Тарковского, Николая Рубцова, Константина Воробьева, Виктора Конецкого. Их имена даже не упомянуты на его страницах.
Можно подумать, что эти писатели не творили в семидесятые годы, что их не было. Но именно в это десятилетие В. Тендряков напечатал «Три мешка сорной пшеницы», повести «Весенние перевертыши», «Шестьдесят свечей», «Затмение», «Ночь после выпуска», а Виктор Конецкий выпустил пять лучших своих книг На это время падает расцвет прозы Гранта Матевосяна и Энна Ветемаа, в эти годы печатают повести и романы Борис Можаев, Иван Акулов, Елизар Мальцев, Андрей Скалон, Владимир Личутин, Анатолий Ким, Андрей Битов. Но, повторяю, ни об одном из этих писателей в пособии не сказано ни слова.
Как не сказано ни строчки о В. Казанцеве, Б. Окуджаве, А. Прасолове (чьи стихи, как и стихи Н. Рубцова и повести К. Воробьева, пришли к нам в семидесятые годы), А. Кушнере, В. Крупине, Б. Ахмадуллиной, Д. Самойлове и других.
Все это отнюдь не третьестепенные и не второстепенные имена, а та неумолимая практика литературы 70-х годов, которая проигнорирована высокой теорией.
Можно ли представить прозу о войне в семидесятые годы без прозы Константина Воробьева? Без его огнедышащих повестей? Нет Можно ли прозу о деревне представить без повестей и романов, а также публицистики Бориса Можаева? Нет. Можно ли вообще представить литературу семидесятых годов без названных выше имен? И вновь любой непредубежденный читатель ответит: нет.
Отворачиваясь от реальности, всегда рискуешь попасть в объятия схемы. Поневоле начнешь писать: «сложное взаимодействие романтических и реалистических элементов», «в поэзии 60—70-х годов характерно слияние общественно-гражданских и личных мотивов». И рискуешь, что мальчик, всегда зорко смотрящий на голого короля, спросит тебя: а раньше эти мотивы что, не сливались?
Отбор, отсеивание материала в книге отсутствуют. Эстетическая оценка упоминаемым романам, поэмам и стихам не дается. Цитируются откровенно слабые стихи (С. Смирнова, например) и всерьез разбирается их «содержание», неприкрыто слабая проза (В. Попова) и производится тот же разбор. Всякий раз, вчитываясь в рассуждения авторов, спрашиваешь себя по тому или иному конкретному поводу: а как это написано? Состоялось ли хвалимое произведение как произведение искусства?
Но ответов на эти вопросы нет. Ты как бы плаваешь в море без руля и без ветрил, натыкаясь на какие-то тела в виде «тем», «сюжетов», «центрических принципов». Глаз ищет реальных идей и реальных критериев, а упирается в славословие. Там, где речь заходит о художественности, авторы не скупятся на похвалы. Причем эти похвалы, не будучи ничем подтвержденными, повисают в воздухе. В книгах В. Кожевникова, читаем мы, «жизнь нашей страны, славная ее история не только осмыслена творчески, но и прожита писателем рядом с ее героями». О романе А. Чаковского «Блокада» без обиняков сказано, что это «роман-эпопея», а про поэму Д. Кугультинова «Бунт разума», что это «одно из значительнейших произведений нашего времени». «Новым шагом в эстетическом постижении духовного облика нашего современника» стала, по словам авторов, пьеса Геннадия Бокарева «Сталевары».
Я не против похвал. Но коли хвалишь, то и докажи. Подними читателя на эту вершину творчества или сделай с ним вместе этот эстетический шаг. Ибо одним декларациям он не поверит.
В том же случае, когда действительно приходится доказывать, авторы пособия демонстрируют уровень, который никак не вяжется с высоким научным грифом их издания. Вот как анализируются художественные достоинства пьесы А. Макаенка «Трибунал». «Семья Колобка, — говорят они о герое пьесы, — потрясенная изменой, сама совершает над ним «трибунал»: его связывают и засовывают в большой мешок, откуда он так и не вылезает на протяжении всего последующего сценического действия
—лишь его голова торчит поверх мешка. Но тем действеннее, активнее раскрывается внутренний мир героя... »
Выходит, что для того, чтобы действенней раскрыть внутренний мир героя, его (то есть героя) надо засунуть в мешок.
Я уж не упоминаю о бесчисленных фразах типа «автор бережно воссоздает», «автор предельно обстоятелен и правдив», «автор находит свой угол» и т. п. Это — расхожие штампы цитатной науки и критики, ее, так сказать, коренной язык. Иногда это соединение цитаты и штампа дает комический эффект: «Души прекрасные порывы» в условиях зрелого социализма обретают особый смысл и значение».
Я пишу это не для того, чтоб посмеяться над авторами, а чтоб погоревать вместе с читателями по поводу того, какие у нас издаются учебники. Как живая жизнь и живая литература, проходя через «научные» чистилища, делаются непохожими на себя. Как будто их обрабатывают какими-то кислотами, отнимающими цвет, запах и вкус.
Мне бы хотелось, чтобы так называемая наука поучилась в этом деле у критики, которая, не в пример ей, научилась говорить с публикой языком, понятным всем. Которая, переняв от литературы ее трепет и связь с миром, сделалась частью литературы.
Но авторы учебника-пособия ни в грош не ставят критику. Обещая в аннотации, что они представят «ведущие черты литературы 70-х годов» и «сосредоточат внимание на основных закономерностях литературного процесса», они исключили из этого процесса критику. Три главы в книге: проза, поэзия, драматургия. Критика отсутствует. Если ее и поминают, то только в связи с ее оценками, и то это оценки не критики (хотя и такие приводятся время от времени), а цитаты из авторефератов диссертаций, которые читателю недоступны (ибо не изданы) и пылятся на полках хранилищ. В диссертационные залы, где лежат эти авторефераты, ходят по преимуществу те же диссертанты.
Нет главы о критике, нет и мыслей о критике. Критика исчезла, как красная свитка, как прошение Ивана Никифоровича в известной повести Гоголя. Или — еще можно добавить — как нос майора Ковалева.
Отчего это произошло? Приходится только гадать. То ли авторы побоялись соперничества с критикой, которая совсем не так смотрит на литературу, то ли, посчитав, что раз семидесятые годы кончились, то — по теории — и критика, обслуживавшая их, как некая бледная тень или приживалка при литературе, приказала долго жить.
Несправедливо.
«Ведущие черты» литературы 70-х годов нельзя представить без критики, без работ по истории литературы. Одной из таких черт (естественно, не единственной) был возврат критики к классике. Об этом велись дискуссии, в том числе дискуссия о биографическом жанре в «Литературной газете» (1975), дискуссия в «Вопросах литературы» (1980, № 9), в других журналах и изданиях. Критика в эти годы на самом деле сделала шаг вперед, ибо, вернувшись к поэзии и прозе XIX века и отдав им часть труда и внимания, с новым взглядом и новыми требованиями подошла к современной литературе. И не только к литературе, но и к жизни.
Но жизнь — это то, чего более всего страшится псевдонаука. От чего она бежит, как черт от ладана, открещиваясь и крестясь, заклиная ее своими заклинаниями. Она прячется за софизмы и силлогизмы, она изобретает свою лексику, свои средства отпора, она лучше живот положит, чем откажется от своих принципов.
Но принципы ли это? Принцип есть убеждение, а значит, добытая кровью мысль есть что-то опять-таки жизненное, не мертвое. Мертвых принципов не бывает.
Ну что же, спросит меня читатель, если нет в этой книге жизни, то, может быть, что-то все-таки есть? Есть факты, выверенность фактов, солидность и надежность информации? Увы, и их нет Федор Александрович Абрамов здесь назван Федором Алексеевичем, Павел Антокольский Павлом Антакольским, а на стр. 49 написано, что герои В. Шукшина находились «на стержне жизни». Могут сказать, что это опечатки, вина корректоров, типографские огрехи Так-то оно так. Да только не знать отчества одного из лучших писателей десятилетия, того десятилетия, которому и посвящена книга,
—это тоже невнимание к жизни, глухота по отношению к ней.
Такие имена должны знать не только в отделах проверки издательств, их должны помнить наизусть и сами пишущие, ибо литература — это и слово, и звук, и имя собственное, и все они — и слово, и звук, и имя — неповторимо-единственны и вечно зелены, как вечно зелено древо жизни.
Напомним в конце эти знаменитые слова Гете. «Суха, мой друг, теория, и вечно зелено древо жизни».
1984 г.
КРИТИЧЕСКИЕ МЕЧТАНИЯ
А почему бы иногда не помечтать? Не унестись мыслью в эдакие дали, как любил говаривать Гоголь. Почему бы не помечтать, скажем, о критике, благо о ней сейчас все пишут и к строгости ее призывают и порядку. Я и сам за строгость и порядок, но с чего начать, если иметь в виду строгость и порядок?
Я думаю, опять-таки — с гоголевского высказывания. В статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» Гоголь писал: «И... выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано... Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть только употреблен для одних хозяйственных расчетов... Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой».
Своевременное напоминание. А то читаю я статьи о критике, читаю и дивлюсь — статьи, указующие, предопределяющие, так сказать, пути развития, сплошь написаны не мастерами своего мастерства. Получается странная штука: в статьях этих критика содержится и даже поученье коллегам, как статьи писать (да уж заодно и про что писать), а сами-то поучающие как бы в деле писания пас. «Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником».
Шум да треск, а где же блеск?
Совсем недавно в одной статье я прочитал, что очень уж вредит нам эссеистика. Слишком много развелось этих эссеистов. И пишут они что-то не то. Пишут не то не потому, что плохие люди или со взглядами у них там что-нибудь не в порядке, а просто эссе их заело, жанр такой: сам автоматически диктует ошибки. Ошибки и заблуждения. Прочитал я это и подумал, а что такое эссе? «Педант» Белинского — не эссе? «Письмо к Гоголю» — не эссе? Даже в словаре русского языка сказано, что эссе — это литературное произведение в свободной форме.
Так, может, тут свобода виновата? И автор тайно на нее грешит? Дескать, поубавить бы свободы, и ошибок бы поубавилось. Всяких увлечений. И было бы все ровно и гладко.
Но скажи ему о том, он руками замашет: что вы, что вы! Да кто же против свободы, тем более свободной формы? Пожалуйста, пробуйте! Только... и тут-то его монолог обрывается. «Только», «но» — какая же тут свобода? Это уже не свобода получается, а бог знает что.
Как я заметил, на эссеистику обижаются, как правило, те критики, которые сами эссе не пишут. И писать не могут. Потому что, простите, для свободной формы талант нужен. То самое мастерство, о котором Гоголь писал и на которое в нашем деле опираться советовал.
Так что тут не против эссеистики выступление, не против какого-то жанра в литературе (подумаешь, проблема), а против свободной формы и против таланта.
Но какое же мастерство без таланта и какой мастер? Мы, грешные, пишем, что классики заблуждались, неужто уж нам не позволено? Ведь кто не работает, тот и не заблуждается. А кто дело делает, обязательно куда-нибудь не туда и заедет. Он и сам из этого «не туда» выберется, без посторонней помощи, но тут-то и является критик- инспектор и строгим голосом, как работник ГАИ, говорит: штраф. И делает прокол в талоне.
Или шум поднимет о неблагополучии в критике. Шум для него — милое дело. Шум, если его подхватят другие (а охотники всегда найдутся), и собственное безголосие покрыть может. И как-то обратить внимание на шумящего: вот видите, он на посту. Недаром в старину у сторожа колотушка была. Он и себе не давал уснуть и другим показывал, что сторожит.
Это функция такая — сторожить. Никому спуску не давать. Увидел, например, что кто-то не то делает, сразу кричи он не то делает! А сам-то ты что делаешь? Это уже не важно. Я кричу.
Один критик недавно написал: «Оправдано и наше сегодняшнее внимание к таким фигурам... как К. Аксаков или Киреевский, А. Григорьев или Страхов, но не за счет Белинского». И опять это «но» и при нем — Белинский. Теперь где только это «но» ни появляется, тут же пристегивается и Белинский. Как будто он вечный страж при «но», как будто завещал он нам в наследство это огромное и всемогущее «НО».
А Белинский, между прочим, скучно не писал. Он, может быть, и разгонялся долго, пока в темп входил, но если уж до сердцевины доходило, если возгорался он полным пламенем, то тут не было ему в то время равных. Одни его афоризмы чего стоят: «Вдохновение есть внезапное проникновение в истину», «Что художественно, то уже и нравственно», «Простота есть красота истины». Статьи Белинского жгли, обжигали. Брался ли он определить понятие легкомыслия, тут же являлось слово «паркетность», говорил ли о гении, говорил с блеском: «У гения всегда есть инстинкт истины и действительности».
Был у нас случай еще выше Белинского поднять, во весь рост его высветить.
170 лет исполнилось отцу русской критики, но никто почти об этой дате и не вспомнил.
Одно только телевидение и вспомнило — выдало в свет фильм времен царя Гороха. Там Белинский был больше на Стеньку Разина похож, призывающего вешать бояр и «кунать» их в Волгу, чем на литературного критика. Он прямо-таки рвался с дубьем и дрекольем идти против царя.
Странно, но факт. Но, видно, ничего подходящего в активе не оказалось. Нечего было показать, нечего и о Белинском сказать.
Как Белинским кого-то побивать, так мы тут как тут, а как напомнить — и показать, — что он был мастер своего мастерства, так нет охотников. Пишется что-то невнятное, что-то тусклое. Что-то стирающее в нашем сознании живое лицо Белинского.
Трудно представить себе, что Белинский, открыв историю русской критики, вдруг увидел себя там одного. Он не в пустоте творил, он от чьих-то статей отталкивался, от чьих-то идей. Оставь Белинского без этого окружения, без воздуха, которым он дышал и как критик питался, так и Белинского понять нельзя будет. С кем он воевал, с кем скрещивал шпагу? Давая новую жизнь его оппонентам, издавая их книги, мы даем новую жизнь и ему, его положению в русской критике.
Так что если пользоваться этим «бухгалтерским» термином, то не за счет Белинского получается, а на счет Белинского все кладется.
Так куда ж мы без блеска денемся? Кто нам прогресс делать будет? Кто заставит проснуться читателя, который спит? Однотомники и двухтомники с «четко выверенными акцентами» на полках стоят, а эссеистики там не видно. Раскупают.
И читают.
Мыслимое ли дело, чтоб мы за нечитабельную критику боролись? А выходит, что
так.
Белинский в своей первой статье в «Молве» порешил чуть ли не всю предшествующую литературу и критику. Он начал с разрушения ложных ценностей. Сгоряча напал и на неложные, но ему простили. Надо было эту гору, возведенную профессорами словесности, прорыть, обрушить и выйти на вольный простор, к Пушкину.
Те, кто произносит сердитые фразы «не за счет Белинского», пусть об этом вспомнят. О том, с чего начал Белинский. То было землетрясение, катаклизм. Но русская литература не рухнула. Просто явился новый талант с новой точкой зрения. И она его приняла. Пушкин и Гоголь приветствовали явление критика на Руси.
Впрочем, нашлись и ортодоксы, которые хотели бы этот талант закрыть. Наказать, так сказать, молодого человека — и наказать так, чтоб он это навсегда запомнил. И более таких статей не писал, далее собственного носа не высовывался.
Что было бы с русской критикой, если б им это удалось?
Белинский «сторожей» при литературе не поощрял. Сам меняясь ежеминутно, он испытывал недоверие к тем, кто не меняется, кто, как скупой рыцарь, сидит на своих сундуках и боится, что их кто-то отберет у него. Хотя отбирать-то, может, и нечего. У пушкинского скупого рыцаря хоть золото настоящее в подвалах было, а тут, может, черепки.
Я за то, что если поправляешь коллегу, то и сам что-нибудь создай. Мысль какую- нибудь произведи или чувство. Будь мастером, тогда и попрекай мастера. Хотя попрек в таких случаях всегда заключен в твоем собственном творчестве. Ты творишь не так, как другой мастер, и это и есть попрек, есть спор. А кто прав, это уже история решит. Или народ. Вполне может статься, что и тот и другой правы окажутся.
Я что-то статей, похожих на «Литературные мечтания» Белинского, не читал. Или что-то вроде его статей о Марлинском или Бенедиктове. Дерзость у нас не поощряется. На дерзкого всегда есть алебарда, на пути дерзкого — полосатая будка. Не дремлют охранители «методологии».
У нас вместо обзора или критического эссе появился новый жанр — портретный. Один толстый журнал даже исключительно специализируется на «портретах». Берет критик календарь знаменательных дат, выписывает оттуда имена писателей (часто вовсе даже и не замечательных) и валяет по списку. И смотришь, в одном номере — ну прямо портретная галерея Доу. Каждый, конечно, знает этот зал в Зимнем дворце, где одни только портреты висят. Но там все же изображены полководцы, герои Отечественной войны 1812 года, а тут кто?
Не было такого в русской критике. Не было юбилейщины. Бывало, грешили этим Булгарин и Греч и сами себя (точнее, друг друга) хвалили в своих изданиях. Но не помню времени, чтоб русская критика юбилеями кормилась. Все было — и распри, и переходы на «личности», и «на ножах» бывали противники, но чтоб с лавровыми венками в очередь становиться — такого не было.
Одна наша газета, не удовлетворенная рубриками «Штрихи к портрету» и «Рубежи зрелости» (что оказалось одно и то же), ввела новую — «Литература — любовь моя». И под рубрикой этой огромный портрет современного классика и его мысли о литературе. Но когда вчитаешься в статьи, являющиеся под этой рубрикой, — а это не статьи, а полотна, — то увидишь, что называется эта рублика несколько ошибочно, потому что точное ее название «Литература моя — любовь моя». То есть люблю я, что сам пишу. Уж очень много в этих статьях слов «моя», «мне», «я» и т. д.
Сначала шли портреты людей покрупнее, потом пошли помельче. Но все равно тон портретный, тон юбилейный. Раз уж под рубрику попал, значит, мастер. И — без всяких оговорок.
В другой газете рубрика «Мастера — молодым». Посмотришь на фотографию этого мастера и долго вспоминаешь, где ты его видел. Хоть по фотографии узнать, кто он, а то и книг не читал, и фамилии не слышал.
—Ваше мнение, мастер, о произведении такого-то? — спрашивает корреспондент.
—Мое мнение о произведении такого-то такое-то, — отвечает мастер.
—Как Вы пишете, ночью или утром?
—Я, гм-гм, пишу, ночью. Знаете, дневной свет отвлекает.
—А ваше любимое занятие?
—Стрелять уток.
И далее в том же духе. Попадаются, правда, у некоторых мысли о литературе, но выглядят они примерно так: классики завещали нам переписывать свои сочинения по многу раз. Вот и я. Особенно важна работа над словом. Слово надо шлифовать, надо шлифовать все — эпитеты, метафоры, сравнения.
Но — шутки в сторону Пример из другой области. Является в свет роман Юрия Бондарева «Выбор». Тут же рецензия в одной газете, затем в другой газете. И обе на одно лицо: авторы в пояс кланяются прозаику, встречают его хлебом-солью. А он этими хлебами с солью уже объелся. Он этих рушников расписных видеть не может. Всюду его как почетного гостя встречают, с цветами и пионерами. И кланяется он ответно, отщипывает от каравая и, морщась, жует муляжное тесто.
А он писатель, а не почетный гость. Он несколько лет этот роман писал, и от того, поймут ли его, поймут ли его идею, его собственная судьба зависит Если ему скажут, что в романе все прекрасно, что сам он прекрасен и, как всегда, неповторим, он и вправду может подумать, что это так. Потому что все и повсеместно говорят
Одну фразу напомню из этого романа — ее произносит Илья Рамзин: «Нет ни рая, ни родного угла». Про один сон напомню — как видит Васильев всех троих вместе — Галю, себя и Илью, а потом какой-то эшафот появляется и кровь.
Над этой фразой и над этим сном никто не задумался А тут связь и разрыв, и боль связи и разрыва, и фраза ключевая для героя, а может быть, и для всего романа.
Но — песнопения продолжаются.
Хлебом-солью встретила критика и роман Айтматова «И дольше века длится день». Тут даже соревнование было: кто быстрей к прогрессу приобщится. Роман-то прогрессивный, с прогрессивными мыслями. А кому неохота в лучах прогресса погреться? И успел один критик вперед забежать, цветы по дороге автора рассыпать. За несданные, так сказать, позиции, за верность избранной прогрессивности. Сам этот критик когда-то в недрах прогресса воспитывался, писал статьи исключительно о прогрессивных, а когда оказалось, что прогрессивные как-то слишком далеко зашли, писать о них перестал.
Помню его статьи о баскетболе и композиторе Глюке. Хорошие были статьи. А сейчас открываю журнал и — боже! — статья о вышестоящем начальнике
Но это тоже, как говорится, для прогресса нужно. Начальник хоть сам и не прогрессист, но, глядишь, от прогрессивной критики подобреет, поумнеет, помягче станет. И критику, его похвалившему, есть польза, и общему делу.
А роман Айтматова что ж? В нем и масштаб есть, и сильные сцены с манкуртами. Маленький человек и космос ловко повязаны. Но когда Едигей в конце романа бежит на космодром вразумлять инструкторов и генералов это натяжка, идиллия, а критика о ней как об апофеозе пишет. В частных сценах слишком много взято из вторых рук (особенно когда речь идет о страданиях друзей Едигея). Вся фольклорная часть в романе хороша, вся реальная слабее, да и написано это небрежно-быстро, на скорую руку.
Но критику-прогрессисту важно, что тут прогресс.
Читаю я еженедельник и вижу, что у Айтматова все хорошо, а про Достоевского там же пишут, что вот в нем мы не все принять можем. Он, дескать, гений, но с изъяном. И главный изъян его — его «христианничанье». Так черным по белому и написано: «христианничанье». Как будто «христарадничанье».
Сказал такое критик и думает: ну, убил. Ну просто наповал положил. Кто же станет спорить и доказывать, что «христианничанье» — это хорошо? Да в наш век? Все, конечно, скажут: нехорошо. Или промолчат. Тут и авторитет Достоевского не поможет.
Но, позвольте, какой же Достоевский без «христианничанья», или, если снять этот полный высокомерия «термин», без Христа? Так ведь это другой писатель будет. Да и только ли к Достоевскому это относится? Если мы оторвем русскую литературу от этого самого «христианничанья», то что получится? Даже с Герценом, не говоря уж о Достоевском и Толстом. Герцен писал: «Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами... Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.
Проповедь к врагу — великое дело любви».
Герцен с уважением относится к так называемому «христианничанью». А вот некий любитель «маргиналий», из статьи которого мы взяли это слово, уважения к нему не испытывает. В его «маргиналиях», безусловно, «христианничанья» нет, но зато там нет и ничего вообще. Одно только название, «маргиналии», да и то за тем, чтоб понять, что это такое, надо в словарь лезть.
Мы слишком мягки в отношении к именитым современникам и слишком строги, когда речь заходит об «ошибках» классиков. Это еще со школы начинается и почин этому дает критика. Это критики и литературоведы то тут, то там «поправляют» наших великих предшественников, которые жизнью своей заплатили за свои убеждения.
Если ты думаешь не так и думаешь искренне, то тоже плати. Ищи эти самые убеждения, в муках их рожай. А то получил готовенькими вместе с аттестатом и Достоевского теперь похлопываешь по плечу.
Может, это называется «идейная борьба»? Но, повторяю, борьба на таком уровне предполагает и уровень, и собственные выстраданные идеи, собственный путь. Ты же путь ставишь под сомнение, путь критикуешь (как в случае с Достоевским), а не терминологию. И критикуешь, не сходя с места. При том же школьном учебнике и находясь.
Нет, прав был Гоголь, тут нужен мастер своего мастерства. Мастер всегда поймет мастера. Мастер о вере и деле жизни мастера не напишет, что это, мол, христианничанье, пустяки. Даже, сочтя эту веру и это дело за заблуждение, он отдаст должное величию этого заблуждения.
Продолжу цитату из Герцена: «Проповедь к врагу — великое дело любви: они не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом богатств, который их стянет в нее, — им надобно раскрыть глаза, а не вырывать их, — чтоб и они спаслись, если хотят».
И это говорится о врагах. Так неужто Достоевский нам враг?
Но мы на авторитет Герцена ссылаемся только тогда, когда он призывает быть непримиримым. Когда однозначно высказывается о каком-то явлении. Мы и с Чернышевским так привыкли поступать.
Но, не теряя своих убеждений и, более того, оставаясь тверды в них, наши предшественники, сами находясь на высоте, умели ценить высоту иной точки зрения.
Чернышевский в ответ на критику в адрес Гоголя позднего, якобы утратившего свой талант, писал: «Мы имеем сильную вероятность думать, что Гоголь 1850 г. заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835 г.»
В течение года я наблюдал «идейную борьбу» между литературной газетой и толстым журналом. Журнал считал, что его направление правильное, газета, естественно, считала, что ее. Грубо говоря, одна сторона доказывала правду деревни, другая — правду города. Спор был вполне в духе газеты, которая давно уже питается дискуссиями типа «Быть или не быть?», «Есть ли литература на Марсе?» и т. п. Так вот с помощью цитат из всяческих постановлений били друг друга газета и журнал и ничего не добились. Не читал читатель их споров и опять-таки потому, что не мастера спорили, а «пристегнувшиеся сбоку» ремесленники. Читать их полные раздражения статьи было скучно — жанр искусственный, слово искусственное, вымученное, измочаленное, от частого употребления попортившееся. Стертый язык, цитата лезет на цитату, бьют друг друга не своим умом, а чужим, и хоть бы страсть была (а от нее и слово рождается), а то и страсти нет.
Так борьба ли это?
Зато когда другой критик в другом журнале предложил борьбу не искусственную, не с потолка взятую, а имеющую современный смысл, то на критика этого посыпались нападки. И — неизвестно за что. Критик он не увлекающийся, не загибщик, не экстремист. Спокойный, как у нас говорят, критик, серьезный. И статью хорошую написал — о целой, можно сказать, «школе» прозаиков. Так эта «школа», сама себя и назвавшая «школой», потому что никто ее так не называл и вряд ли назовет когда-нибудь, такой шум подняла!
Ну я понимаю, обидел он «школу» и имеет «школа» все права защищаться, но не теми же руками, какими основополагающие произведения этой «школы» пишутся. Я понимаю, когда критик критику говорит: да ты, брат, загнул, перехлестнул маленько. Хоть бы оставил что-нибудь от этой «школы» на закуску. А то всех разом и списал в обоз. Или писатель какой-нибудь (не из «школы») в защиту «школы» выступил.
А тут выступает сама «школа» (в которой, кстати сказать, что ни прозаик, то и критик и апологет «школы») и начинает себя защищать. С желчью и гневом и с какими- то даже дурными намеками. Потому что критик, напечатавший ту статью, не в Москве живет, а в провинции. Тут же ему это его местожительство в строку: а ты чего это на Москву напал? Москва тебе не нравится? (Уже не «школа», а Москва.)
Получается, что критик не против «школы», не против ее слабых писаний (а в этом все дело), а против Москвы и москвичей. Потому что школа та «московская» и ее создатели в Москве живут.
И пишет это все, и печатает в уважаемых органах такой же критик, он же прозаик этой «московской школы». Которого в вышеозначенной статье крепко (и доказательно) покритиковали Как же у него рука поднимается так мысли собрата искажать?
Чем хороша статья, о которой речь? Тем, что критик дал себе труд прочитать сочинения «школы» и внимательно в них вникнуть. Кстати, и написана она не уныло, а с некоторым блеском. Стало быть, от нее уже подлинным мастерством попахивает. Когда мастер, который сам писать умеет, говорит о какой-то книге, что она плоха или слабо написана, то вес его мнения как бы утяжеляется вдвое.
Тут и отвечать надо мастерством — и мастерски, — а не подводить под критику, выступающую против тебя, идейную базу.
Грустно это как-то.
Я вспоминаю еще один пример. Напечатал прозаик пьесу. В пьесе той такая брань по адресу «деревенской литературы», и самого типа «деревенского» писателя, или «писателя-деревенщика», какой я сроду не слыхивал. Получается по этой пьесе, что все наши беды от деревенской прозы пошли и от ее творцов. Покопайся поглубже, так к чему они зовут? Назад, к кулаку. И у самих у них, если в биографиях порыться, что-нибудь кулацкое обнаружится. Их реализм и нашу молодежь свихнул с ума. Она, начитавшись этой прозы, и пить стала, и в разводы ударилась.
И хоть бы что. Хоть бы одна робкая рецензия на эту пьесу появилась. Прозаик-то
—большой чин. Трогать его не позволено. Сами признаем, что деревенская проза — лучшее, что появилось в нашей литературе за последние годы. А заступиться не можем. Сказать этому автору пьесы, что помимо сущностной лжи (то есть лжи по сути) есть в ней еще и ложь плохой пьесы. Потому что написано это так, что хоть святых выноси.
Даже тот журнал, о котором я упоминал и который горой за деревню стоит, не сказал ни слова. Так отчего беды нашей критики — от эссеизма или от этого?
Хочется помечтать. О чем? О том, чтоб этого не было. Чтоб это, как принято у нас говорить, никогда не повторялось.
Помечтаем сообща!
1982г.** *
Год начался печатанием «Печального детектива» и кончается публикацией романа А. Бека «Новое назначение». О разных эпохах идет в них речь. В «Печальном детективе»
—наши дни, у Александра Бека, написавшего свой роман более двадцати лет назад, — пятидесятые годы. В «Печальном детективе» давно нет Сталина, нет даже воспоминаний о нем, «Новое назначение» — роман об эпохе Сталина, о людях той эпохи, которые после смерти «хозяина» или «кумира», как называет его А. Бек, не могут перейти в новую жизнь, сламываются и погибают от ностальгии.
И все-таки тридцать с небольшим лет отделяют время действия одного романа от времени действия другого романа. Между двумя эпохами ощущается кровная связь. То поколение, которое входило в жизнь после смерти Сталина, в романе Астафьева принимает на себя тяжесть решений. Это поколение Сошнина. Но рядом с ним и вместе с ним живут и доживают свои дни тс, которых эпоха Сталина воспитала и образовала — тетя Граня, Чича, Маркел Тихонович, его жена Евстолья. Они захватили и двадцатые, и тридцатые, и сороковые годы. Это люди поколения Онисимова — главного героя романа Бека.
** *
Вспоминаю один анекдот, который родился после 1956 года. Тогда в моде были анекдоты про Сталина. Так вот в этом анекдоте определились лица сразу трех эпох — эпохи Сталина, эпохи после Сталина и эпохи после после Сталина. «Сначала, — говорилось в этом анекдоте, — один плюет на всех, потом все плюют на одного, а потом все плюют на все» Как ни проста была эта формула, она точно определяла последствия так называемого культа личности.
Именно об этих «последствиях» написаны повесть Василя Быкова «Карьер», роман Александра Бека «Новое назначение», повесть В. Тендрякова «Чистые воды Китежа». Одни из этих вещей написаны вчера, иные — как и романы Астафьева, Белова, Айтматова — сегодня, но сходятся они в одном — в неприятии душевного разврата, который, как и разврат хозяйственный, поразил нашу жизнь за эти десятилетия.
В повести «Карьер» Василь Быков решает одну частную задачу. Его герой Агеев хочет разыскать останки женщины, которая была расстреляна на краю карьера. У него нет точных данных, что она погибла и погибла именно здесь, но он твердо знает, что если она погибла, то в этом повинен он, пославший ее на смерть. Жертвуя этой женщиной, которую он полюбил, Агеев смыл с себя подозрение в том, что он бездействует, что он не хочет принимать участие в подпольной борьбе. Но, смыв это подозрение, он взял на свою душу грех.