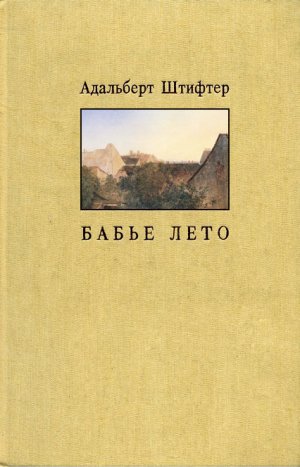
О кротком законе
Роман австрийского классика Адальберта Штифтера «Бабье лето», вышедший в свет в 1857 году, на русском языке публикуется впервые. Трудно назвать другую книгу, столь явно не отвечающую нашему времени. Трудно назвать другую книгу, так глубоко ему необходимую. Для австрийской литературы это произведение имеет такое же значение, как для немецкой «Вильгельм Мейстер» Гёте, с которым оно связано многими нитями. Но, как и свойственно классике, это глубоко австрийское произведение перешагнуло границы своей страны и своей эпохи. Современники Штифтера меньше ценили этот, как и следующий его исторический роман «Витико» (1867), чем его новеллы (сборники «Штудии», 1844–1845 и «Пестрые камешки», 1853). Но потом, как написал в 1924 году в посвященной Штифтеру статье другой знаменитый австрийский писатель Гуго фон Гофмансталь, пришла следующая «современность», потом третья, а книга все больше открывалась в своей значительности[1].
Штифтер прожил неприметную жизнь, лишь несколькими чертами отозвавшуюся в его творчестве. Он родился 23 октября 1805 года в Оберплане (Богемия) в семье ткача. Посещал латинскую школу при бенедиктинском монастыре в Кремсе, изучал право, математику и естественные науки в Венском университете. Служил гувернером в знатных семьях (какое-то время в доме Меттерниха). Занимался не только литературой, но и живописью. После несчастной любви к Фанни Грейпль женился на бедной венской модистке, брак этот не был счастливым. Уже будучи известным писателем, он принял пост инспектора народных школ в Верхней Австрии. Был «консерватором» архитектурных памятников, то есть следил за их восстановлением и охраной. Тяжело больной (рак печени), он в припадке отчаяния покончил с собой 28 января 1868 года.
Если можно говорить о художественном произведении как о живом организме, наделенном своим отношением к миру, то книга, лежащая теперь в руках читателя, прежде всего внимательна. Все идет в этом романе своим бережным ходом. Завязка не содержит в себе ничего экстраординарного. Герой не «извлекается» из сложившейся жизни и обычных для него привычек. Сын состоятельных родителей из купеческого сословия, он занимается геологией и, отправившись в очередную летнюю экспедицию в горы, застигнутый по пути надвигавшейся грозой, попадает в одиноко стоящий дом, увитый розами. Этот дом становится для него не только кратковременным прибежищем, но притягательным магнитом на протяжении следующих лет.
Повествование ведется от лица героя, Генриха Дрендорфа, это его записки, в привычке к ведению которых он признается в самом начале. Герой — естествоиспытатель, он смотрит вокруг внимательным взглядом, измеряет глубину и рельеф горного озера, составляет схемы местности, иногда превращая эти схемы в рисунки и картины (след профессиональных занятий Штифтера живописью), которым, однако, не придает художественного значения. Цель у него другая: он хочет точно воспроизвести увиденное, понять его закон. И тот же характер имеет движение героя по жизни, его отношение к людям, предметам, к вещам. В тексте часто встречаются выражения вроде «я не совсем понял», «я не понимал, почему я раньше проявил так мало участия к его красоте» (речь идет о средневековом церковном алтаре). В каком-то важном смысле герой «Бабьего лета» похож на простодушного Ганса Касторпа из «Волшебной горы» Томаса Манна, также поставленного автором в ситуацию ученичества. Но если взгляд Т. Манна на своего героя не лишен иронии, то для Штифтера, как и в других романах конца XVIII–XIX века, получивших название «воспитательных» («Вильгельм Мейстер» Гёте, «Зеленый Генрих» Келлера), ученичество героя — единственно достойная позиция, и автор позволяет себе лишь изредка улыбнуться.
И сам роман не спешит, открывая перед читателем пространство за пространством (подробное описание дома роз, а потом и дворца Штерненхоф, равнинной Австрии, высокогорья). Он не приносит подробности в жертву концепции: многое достойно внимания и готово раскрыться.
Событий и персонажей немного: родительская семья — отец, мать, сестра героя; хозяин дома роз и близкие ему люди — как те, кто служит ему, его помощники, ибо они выполняют вместе с хозяином важные задачи, так и те, кто, как можно предположить, дороже ему всего на свете — Матильда, владетельница поместья Штерненхоф, ее дети — подросток-сын и красавица Наталия. Предположительность в оценке их отношений принципиальна. Герой знакомится с названными людьми, множество раз встречается с ними. Но не считает возможным задавать вопросы. В статье о Штифтере Гофмансталь писал, что среди многих других примет австрийской жизни Штифтер передал и сам характерно-австрийский тип беседы: расспрашивать тут не принято. Но суть дела для автора не только в этом. Суть в уважительном и терпеливом отношении ко всему вокруг. Парадоксально, но лишь ближе к концу романа герой узнает имя хозяина дома роз — до этого он именуется «мой гостеприимец». В главе «Сообщение», перед самой свадьбой Генриха и красавицы Наталии, этот самый обаятельный и таинственный герой как будто бы простодушного повествования спрашивает жениха: «Вы знаете, наверное, что я барон фон Ризах?» На что получает в ответ, что долго не знал, а потом узнал случайно. Генрих, не позволяя себе навязчивости, не задает вопросов. Больше того: услышав через открытое окно разговор хозяина дома и Матильды об их любви, он тотчас уходит из комнаты, считая нужным появиться в другом месте.
И сам молодой герой открывается читателю не через мысли и чувства, а через свое фактическое отношение к людям, вещам, природе. Его взгляд не погружен в себя, а замечает другого. Расставшись после мимолетной встречи, он фиксирует не только свой следующий шаг, но и совершенно неважный для повествования следующий шаг собеседника: тот не перестал быть ему интересен. Рассказывая об экспедиции, он каждый раз замечает, что заплатил рабочим и что они остались довольны. Движения души видны в поступках — иным способом они не выявлены. Собственные же чувства запрятаны так глубоко, что, кажется, неведомы и самому герою. Едва заметное их выражение косвенно: так, о муках ревности говорят лишь упоминания о других претендентах, в том числе и блистательных, на руку Наталии. Психологии же в романе почти нет. Лишь в самые решающие моменты кто-то из персонажей раскрывается, говорит о себе. В остальное время царит целомудренное молчание, о содержании которого должен догадаться читатель. Автор, как и герои, считал для себя запретным вторгаться в сокровенные уголки душ. Штифтер «показывает нам, — писал по этому поводу А. В. Михайлов, — что столь характерный для реализма XIX века психологизм с его вниманием к психологическим глубинам и эмоциональным нюансам человеческой психики был только одной возможностью реалистического искусства того времени, что можно было быть и проще и мудрее…»[2].
Внутреннее напряжение романа не в психологических сложностях и преодолении препятствий. В отличие от «Вильгельма Мейстера» Гёте, где героя учила сама жизнь, на пути Генриха препятствий почти нет. Внутреннее напряжение — в усилии всматривания, постижения. Правда, в широком смысле это качество прозы Штифтера связано с немецкой классикой — кардинальным представлением Гёте о том, что форма уже есть содержание и все внутреннее может быть замечено во внешнем.
В лице стареющей женщины, как в тронутой увяданием розе, Генрих учится видеть ее красоту. В настоящем заметны следы прошлого. В этом романе озабочены историей мест, селений, былыми владельцами заброшенных поместий, первозданным видом старинных церквей, полуразрушенных деревянных алтарей. Ризах и Ойстах, занимающийся вместе с хозяином восстановлением произведений искусства и просто старинных вещей, умеют видеть за наслоениями — подлинник, на поверхности — отпечаток смысла и глубины.
Несколько страниц романа посвящены описанию разрушенного временем Кербергского алтаря, в восстановлении которого принимает участие Ризах (в действительности это Кефермарктский алтарь XV века, спасенный от разрушения Штифтером). Маленькая старая церковь одиноко стоит на плоскогорье, к ней ведет безлюдная сельская дорога. Генрих слушает разговоры своих спутников о значении отдельных сцен алтаря и о законах старонемецкой деревянной резьбы. В былые времена, замечает его старший друг, эти законы и сцены были, вероятно, понятны всем, иначе зачем бы строились церкви в таких уединенных местах?
Сам Ризах неустанно собирает и хранит произведения искусства. На площадке лестницы в доме роз стоит статуя, к которой не раз возвращается внимательный герой. Но не менее важна ее история. Во время путешествия по Италии Ризах и его спутник нашли гипсовую фигуру, поразившую их красотой форм. Ряд признаков рождает подозрение, что красота эта имеет скрытое основание: под гипсовой оболочкой обнаруживается мраморная фигура времен античности. В этой фигуре скрыто, как постепенно раскрывается в романе, множество смыслов. Но прежде всего она самый наглядный пример той возможности постижения, перед которой, по Штифтеру, стоит человек. Постижение это дается нелегко: Генрих не один раз видит статую, пока наконец в предгрозовом свете она не поражает его.
Того же напряженного внимания требует к себе и все окружающее героя. В доме Ризаха и во дворце Матильды множество прекрасных, заботливо размещенных вещей, каждая из которых имеет свое предназначение. Можно подумать, что тут действует страсть к накопительству, коллекционированию или холодное эстетство. Можно, если бы таким же внимательным взглядом не осматривались в этом романе вещи простые и непритязательные, если бы герои не совершали специальной поездки в горы, чтобы застать там красоту поздней осени, если бы не следили за ростом трав и цветов, как за судьбой каждого человека. В «эстетстве» Штифтера есть свойства, это обозначение подрывающие. Господствует принцип неизбранности, равенства всего, окружающего человека. В замечательной новелле «Портфель моего прадеда», глубоко связанной с его романом (работа над ней шла с 1841 по 1867 год), описано необычное состояние природы: после оттепели и дождя все вокруг оделось покровом льда, оледенела одежда людей, попона лошади, лед покрыл ветки деревьев, каждую иголку в еловом бору. Герои улавливают странный звук — лес звенит, как будто колышутся сотни хрустальных подвесок. Состояние людей и природы общее — ломаются отяжелевшие деревья, прегражден путь людям, все в опасности, все поставлено автором в буквальном и переносном смысле в страдательный залог. Большое и малое (каждая иголка на ели) имеют для автора равное значение. Всюду действует один и тот же природный закон. В предисловии к сборнику новелл «Пестрые камешки» Штифтер писал о том, что люди, отгороженные от природы научными концепциями, отучились самостоятельно замечать во всем вокруг проявление ее вечных законов. Эти законы можно заметить, писал он, не только в бушующей грозе или извержении вулкана — такое их проявление он считал могучим, но «односторонним». Они и в росте растения, и в силе, поднимающей пену над кипящим молоком в доме бедной крестьянки.
Весь текст «Бабьего лета» пронизан вниманием к этим незримым, но постоянным законам. В романе, где, в сущности, происходит немногое и как будто бы преобладает покой, все на самом деле в движении, все растет, расцветает, стареет, находится под угрозой ломки, исчезновения, смерти. Вещи в доме Ризаха, в том числе самые неприметные, «спасены»: они укрыты на время.
Слово «вещь» (Ding) — частое в текстах Штифтера. Мартин Хайдеггер заметил, что оно приложено и к тому замершему лесу, который описан в новелле «Портфель моего прадеда»: «Мы въехали в эту вещь»[3]. Слово объединяет творение природы и творение рук человека. Творение вещи — творчество, подражание творцу. Значит, и в них скрыта частица истины. «Искусство, — говорится в романе, — область религии». И еще: красивые вещи творятся из любви к ним и «из любви к человечеству».
Внимания к себе требует, значит, как великое, так и малое. Малое, говорит Ризах, быть может, требует к себе внимания прежде всего: будущие времена, предполагает он, грозят уничтожением «малого», как и всего обособленного, отличного. «Сейчас, — говорит Ризах, — какой-нибудь провинциальный городок и его окрестности могут со всем, что у них есть, что они представляют собой и что они знают, отгородиться от мира. Но скоро будет не так: их захватит всеобщая связь». «Малое» будет поглощено «великим».
Есть, однако, в природе и силы, говорится в предисловии к сборнику «Пестрые камешки», служащие тому, чтобы продолжало существовать отдельное. Так действует неистребимый природный «кроткий закон». Этот закон пускает в рост растение и дерево, этот закон желает, чтобы каждый был чтим рядом с другим и мог идти своим самым высоким путем.
Генрих в романе «Бабье лето», как и положено герою «воспитательного романа», все время в пути. Путь этот, вопреки традиции, не ведет, однако, неизменно вперед. Напротив, герой постоянно возвращается — в дом роз, в свою родительскую семью, снова и снова в горы. Ему нужны, очевидно, не новые приключения на широких дорогах жизни, как это было, скажем, в «Истории Тома Джонса, найденыша» Филдинга — английском варианте «воспитательного романа». То «воспитательное путешествие» по великим городам Европы, которое он но настоянию отца предпринимает перед свадьбой, зафиксировано всего в нескольких абзацах. Кажется, что он чего-то недосмотрел здесь, в ближних пределах. Расстояние, которое проходит герой, не в километрах дальнего пути — оно в постепенном сокращении дистанции между ним и почитаемыми им людьми, прошлым, искусством, природой.
Когда Генрих в волнении спрашивает Ризаха, почему он не помог ему понять красоту беломраморной статуи, тот отвечает, что ждал, пока он поймет ее сам. Точно так же отец, вспоминает герой, всегда давал ему идти своими путями. В этом романе никто никого ничему не учит. Поспешность, подстегивание, одержимость, прыжки, немыслимые в природе, столь же не приняты в мире романа. Все здесь основано на другом, однажды провозглашенном принципе: «смириться, уповать, ждать». И тогда и отец, сыну, казалось бы, хорошо знакомый, может открыться новыми сторонами: возвратившись в очередной раз в родительский дом, Генрих неожиданно для себя открывает, какого превосходного качества коллекция собранных в доме картин и ониксов и что, в сущности, и отец — такая же продолжающая раскрываться тайна, как гостеприимец из дома роз. «Я доселе не знал, — говорит Генрих, — что ты читаешь книги на древних языках».
Произведения Штифтера, не только этот его роман, но и новеллы, строятся на некоторой повторяющейся схеме. В большинстве случаев в основе сюжета — преодоление пространства, путь не только «географический», но и к пониманию и сближению. Вехой на этом пути оказывается важнейшая ситуация традиционного эпического повествования — встреча. Но встречи лишены напряжения борьбы. В этом романе, как и в новеллах Штифтера, нет или почти нет отрицательных персонажей (таковых можно обнаружить разве что в ранней его новелле «Авдий»). Хозяин дома роз Ризах, Матильда, полюбившаяся Генриху Наталия, его собственная семья, второстепенные персонажи романа — все это прекрасные люди, разница между ними разве что в степени благородства и высоты. В старике Ризахе, живом и подвижном, как юноша, нет, например, той упрямой настойчивости, с которой отец Генриха устанавливает распорядок в семье. Впрочем, и это качество в нем постепенно сглаживается, когда происходит знакомство и сближение обоих домов.
Сближение — это и есть та задача и трудность, которую несут с собой встречи. Перегородок нет, все как будто открыто. «Лучшее, что может сделать человек для другого человека, — сказано в романе, — это ведь всегда то, что он для него значит». Но встречи дают почувствовать и неизведанную глубину чужой жизни. Обычным свойством сюжета в произведениях Штифтера оказывается поэтому тайна.
Много сотен страниц спокойно текущего повествования читаются с неослабевающим интересом еще и потому, что все здесь ясно и в то же время таинственно. Что побудило Ризаха построить этот прекрасный дом? Почему это дом роз? Почему на срок их ежегодного цветения приезжают сюда гостить Матильда и Наталия? Какой смысл придается здесь этому царственному цветку? Какие, наконец, отношения связывают Ризаха и Матильду? В чем тайна их жизни? Прояснения этого читатель ждет с бо́льшим интересом, чем наконец состоявшегося по воле счастливого случая любовного объяснения Генриха и Наталии. В глуби романа, исполненного умиротворением, отгоревшие страсти. Без них безжизненно было бы это спокойствие, без знойного лета не было бы того, что за ним следует, — осени, бабьего лета, Nachsommer.
Исповедь Ризаха в конце романа производит сильнейшее впечатление потому, что вдруг будто распахнулись тяжелые двери — и перед нами душа человека. Впечатление примерно такое, как от внутреннего монолога Гёте, когда в романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре» приходит очередь седьмой главы (не «Седьмая глава», а «Глава седьмая», называет ее автор) и нам открывается внутренний мир гения. У Штифтера в этом кульминационном месте в повествование входят другие времена и просторы — бедное детство и молодость Ризаха, его успешное учение в Вене, высокие государственные должности, особое положение при дворе, которое скромный Ризах обозначает словами: «Император стал, смею сказать, моим другом». Такие судьбы были и на самом деле нередки в истории Австро-Венгерской монархии на рубеже XVIII–XIX веков (как пример может быть назван приближенный императрицы Марии Терезии просветитель барон Йозеф фон Зонненфельд, поднявшийся из низов). В романе Штифтера есть сцена, в которой Генрих встречает на улице Вены карету, а в окне ее он с удивлением замечает своего гостеприимного хозяина в парадном костюме со звездой на груди. В самой же исповеди слабо намеченным фоном проходят антинаполеоновские войны и Венский конгресс, за дипломатическое участие в котором, очевидно, и был отмечен Ризах. На основании этих страниц, но также на основании сосредоточенности героев на устройстве жизни, гармоничном порядке в доме, в ведении хозяйства, в отношениях между сословиями (упоминается, например, что Матильда освободила крестьян и заменила оброк десятиной) австрийские исследователи относят «Бабье лето» к типу «государственного», то есть политического романа.
Но главное в исповеди Ризаха не это. Он рассказывает прежде всего о своей любви, окончившейся разрывом, потому что родители Матильды, в дом которых он был приглашен воспитателем их сына, отказались выдать за него свою дочь по причине ее молодости. Других мотивов родительского решения не названо: для героя они так и остаются прекрасными людьми. Мы, правда, вправе предположить, что причиной могла быть и недостаточная к тому времени обеспеченность и не завоеванное еще Ризахом общественное положение. Однако герой, да и сам роман не позволяют себе такого предположения: произведение исповедует «эстетику сдержанности, уравновешивания крайностей, опосредования противоположностей»[4]. Сдержанность кончается лишь тогда, когда речь заходит о самой любви, о неспособности Матильды понять отступившегося от нее героя, о боли и чувствах, не иссякших за всю жизнь.
Именно Генрих оказывается слушателем этой исповеди, именно он заслужил доверие хозяина дома роз. Случилось это, очевидно, не только потому, что Генрих стал женихом Наталии, но и потому, что он духовно созрел, продвинулся вперед в своей жизни. Сам Генрих не отдает себе в этом отчета. Его развитие так непринудительно и естественно, что он не чувствует его, как «не чувствует невиновный своей невинности, не кичится же честный человек честностью». В день венчания с Наталией дружески расположенный к нему садовник (и тут естественная связь людей, несмотря на иерархию сословий) преподносит ему прекрасный, распустившийся к торжеству цветок, выращенный не без деятельного участия жениха. Сам Генрих не вспоминает об этом своем участии и как бы не замечает себя. Удивительно, что даже его внешность остается неизвестной читателю. Отмечается лишь одежда: как и другие обитатели дома роз и дома Матильды, Генрих переодевается часто — в этом знак уважения к хозяевам общих трапез. Его жизнь течет как бы сама собой, повторяя цикл естественного развития и роста.
Конечный этап эпического цикла — обретение — реализуется в достигнутой полноте. Она не только в счастливом соединении молодых героев, в сближении двух семейств и умиротворенности Ризаха и Матильды. Как ежегодно приходит пора цветения роз, так повторяются круги жизни людей. Молодая пара повторяет рисунок отцветшей жизни: и тут герой приходит в богатый дом и любовь связывает его с прекрасной и знатной девушкой. В судьбе молодых нет, однако, препятствий, разъединивших Ризаха и Матильду. Напротив, все открыто их счастью: три раза, с намеренной подробностью, фиксируется согласие на этот брак — сначала матери невесты, потом родителей Генриха, потом названого отца Наталии — Ризаха. Соответствия в сюжете несут в себе сгустки смысла: поэтическая повторяемость в романе дает ощущение стабильности — ложный изгиб выправился, логика людских судеб соответствует общей логике жизни.
Но гармонизация неполна. Ничто, кроме выдержки, мудрости, терпения, не может поправить судьбу Ризаха и Матильды. Их любовь, как отцветшая роза — спутница жизни Матильды.
С удивительной остротой Штифтер передал не только чарующую прелесть нарисованного им мира. Он передал его хрупкость, непрочность, недолговечность. Сроки жизни этого мира, как и его главный тон, точно отмечены и отмерены в заглавии: бабье лето.
И хотя ближе к концу просторы романа на какое-то время ширятся — Генрих осуществляет давнее свое желание подняться зимой на одну из горных вершин, — эти просторы, замечательно нарисованное Штифтером залитое солнцем ледяное безлюдье, — просторы природы и души героя, а не просторы жизни людей.
Штифтер создал свою Касталию (вспомним роман XX века — «Игру в бисер» Германа Гессе). Он создал ее, руководствуясь поразительно сходным с Гессе намерением: «спасти что-то благородное от гибели и показать людям нечто благообразное и высокое, чтобы они, если у них есть на то способность и воля, могли вознестись душой». Так, во всяком случае, говорится в романе о роли прекрасного в жизни людей.
Гессе поместил свою Касталию в изоляцию высокогорья, но внизу шумит море житейское, и всегда возможно повторение исторических катастроф. Роман «Бабье лето» был создан на столетие раньше. Быть может, относительная устойчивость его мира определена у Штифтера застылой, неподвижностью Австро-Венгерской монархии — вплоть до краха в 1918 году. Но главная причина не в этом.
Мягкий свет Штифтера — свет «кроткого закона», которым держится его мир. Этому закону пытаются следовать герои. «Этот закон всюду, где люди живут рядом друг с другом, — говорится в предисловии к «Пестрым камушкам», — он обнаруживает себя там, где люди действуют против людей. Он во взаимной любви супругов, в любви родителей к детям, детей к родителям, в любви братьев и сестер, друзей друг к другу, в сладостной склонности полов, в труде, который дает нам возможность жить, в деятельности на благо своего круга, для дали, для человечества и, наконец, в порядке и воплощениях, которыми общество и государство окружают себя и приводят все к завершению»[5]. В «Бабьем лете» Ризах высказывает сходные мысли. А в последнем своем произведении. «Витико», историческом романе из времен Гогенштауфенов, Штифтер повествует о том, как на старой богемской земле осуществилось однажды мудрое государственное правление и свободный союз народов.
Мечтательные представления? Но Штифтер видит и нарушения закона жизни. Его герои в романах и в новеллах с трудом преодолевают последствия того, что одному человеку не дают жить рядом с другим («Бабье лето»). Лишь с великим трудом налаживается жизнь героев в новелле «Бригитта», лишь ценой больших усилий обретают покой и счастье герои в новелле «Портфель моего прадеда». Разрушения катастрофичны и быстры, они гасят тот мягкий свет, который исходит у Штифтера от каждой вещи, каждого пейзажа и человека. В предчувствии разрушений он и создал прекрасный мир своего романа. По существу, это не пример идиллического состояния жизни (любое состояние преходяще) — это картина вполне идеальных, но и вполне возможных человеческих отношений. Кроткий закон действует тихо и оживляет души.
Н. Павлова
Бабье лето
ТОМ ПЕРВЫЙ
1. Дома
Отец мой был купцом. Он снимал в городе для жилья часть второго этажа довольно большого дома. В том же доме у него были лавка, контора, склады и прочее необходимое для его дела. Кроме нас, на втором этаже жила еще только одна семья, состоявшая из двух старых людей, мужа и жены, которые два раза в году у нас отобедывали, да и навещали нас, как и мы их, по праздникам или в такие дни, когда принято делать визиты или приносить поздравления. У моего отца было двое детей, я, старший, и дочь, на два года моложе меня. У каждого было в квартире по комнатке, где мы делали уроки, с самого детства регулярно нам задаваемые, и где мы спали. Мать следила за этим, позволяя нам порой играть в ее комнате.
Отец почти всегда был в лавке или конторе. В двенадцать он поднимался, и в столовой обедали. Приказчики отца ели за нашим столом с отцом и матерью, а у двух служанок и кладовщика был свой стол в людской. Нас, детей, кормили простой пищей, отец и мать ели иногда жаркое и каждый раз выпивали по стакану хорошего вина. Приказчикам тоже подавалось жаркое и по стакану того же вина. Сначала отец держал только одного конторщика и двух приказчиков, позднее — четырех.
В квартире была одна довольно большая комната. В ней стояли широкие плоские шкафы, благородно глянцевые, выкладной работы. С застекленными дверцами, с зелеными шелковыми занавесками за стеклом, они были наполнены книгами. Зеленые занавески отец завел для того, чтобы через стекло нельзя было прочесть заглавий, тисненных обычно золотом на корешках, и чтобы никто не подумал, будто он кичится своими книгами. Он любил стоять перед этими шкафами и часто, выкроив минутку после еды или в другое время, отворял дверцу какого-нибудь шкафа, смотрел на книги, вынимал ту или другую, заглядывал в нее и ставил ее снова на место. Вечерами, которые он редко проводил вне дома, разве что когда отлучался по городским делам или ходил с матерью в театр, что порой охотно делал, он часто сидел час-другой, а то и дольше за старинным резным столом, стоявшим в библиотеке на столь же старинном ковре, и читал. Мешать ему тогда нельзя было, и никто не смел проходить через библиотеку. Затем он выходил и говорил, что пора приступать к ужину, каковой и протекал без приказчиков, только в нашем с матерью обществе. За ужином он очень любил говорить с нами, детьми, и рассказывал нам всякую всячину, порой потешные истории и сказки. Книгу, которую он читал, он ставил точно на то место, откуда ее взял, и, войдя в библиотеку тотчас после его ухода, никак нельзя было заметить, что здесь кто-то сидел и читал. Отец вообще не терпел ни в какой комнате следов чьего-либо пребывания в ней, каждая убиралась так, словно это парадный покой. Зато она должна была ясно показывать свое назначение. Смешанных комнат, как он выражался, которые могли быть одновременно чем угодно — спальней, местом для игр и тому подобным — отец не выносил. Каждая вещь и каждый человек, твердил он, может быть чем-то одним, но уж этим он обязан быть целиком. Эта черта, строгая точность, запала нам в душу и заставляла нас исполнять родительские наказы, даже если мы и не понимали их. Так, например, даже нам, детям, не дозволялось входить в спальню родителей. Убирать ее было обязанностью одной старой служанки.
В комнатах висели картины, и в иных стояла старинная мебель, с замечательными резными фигурами или выложенными из разных дощечек листьями, кругами и полосами.
Был у отца и шкаф, где лежали монеты, иные из которых он нам показывал. Хранились тут по преимуществу красивые талеры с изображениями латников и лиц с пышными кудрями, было и несколько очень древних монет с чудесными не то юношескими, не то женскими головками и одна с мужчиной, у которого были крылышки на ногах. Хранил отец и камни с вырезанными на них рисунками. Эти камни он очень ценил и говорил, что они остались от самого изощренного в искусстве народа давно минувших времен, от Древней Греции. Иногда он показывал свои сокровища друзьям, те долго стояли у шкафчика, держали тот или иной камень в руках и говорили о нем.
Случалось, к нам приходили люди, но не часто. Иной раз приглашались дети, с которыми нам разрешалось играть, а часто и мы ходили с родителями в дома, где были дети и устраивались игры. Учили нас дома учителя, и это учение, и так называемые рабочие часы, когда мы, дети, должны были исполнять заданное, создавали в распределении времени регулярность, отступать от которой не дозволялось.
Мать была женщина добродушная, нас, детей, она любила безмерно и ради какой-нибудь забавы с легкостью позволила бы нам отступить от заведенного порядка, если бы ее не удерживал от этого страх перед отцом. Она хлопотала по хозяйству, все устраивала, все улаживала, не допуская из вышеназванного страха никаких послаблений, она была для нас таким же достопочтенным образом добра, как отец, и никаких изменений образ этот не мог претерпеть. Дома она обычно носила очень простое платье. Лишь изредка, идя куда-либо с отцом, она надевала свои нарядные шелковые платья и украшения и казалась нам тогда похожей на фею, изображенную в наших книжках с картинками. При этом мы замечали, что на ней всегда были совсем простые, хотя и очень блестящие камни и что отец никогда не увешивал ее теми резными, о которых говорил, что рисунки на них прекрасны.
Когда мы, дети, были еще очень малы, мать проводила лето всегда с нами в деревне. Отец не мог составить нам компанию, потому что дела удерживали его в городе; но каждое воскресенье и в каждый праздник он приезжал, оставался на целый день с нами и был нашим гостем. На неделе мы один раз, а то и два раза навещали его в городе, и тогда он принимал нас и потчевал.
В конце концов это прекратилось — сначала потому, что отец постарел и уже не мог обойтись без матери, которую очень почитал; а позднее по той причине, что ему удалось приобрести в предместье дом с садом, где мы могли дышать свежим воздухом, двигаться и жить словно в деревне весь год целиком.
Приобретение дома в предместье было большой радостью. Из старого, мрачного городского дома мы переехали в приветливый и просторный. Отец заранее привел его в общем в порядок, да и когда мы уже поселились в нем, в разных его комнатах все еще трудились мастера. Дом предназначался только для нашей семьи. В нем жили еще лишь наши приказчики и — за привратника и садовника — один пожилой человек с женой и дочерью.
В этом доме отец устроил себе библиотеку в комнате куда большей, чем та, что была у него в городской квартире, и отвел особую комнату для картин; в городе из-за недостатка места картины были развешаны по разным комнатам. Стены этой новой картинной были оклеены темными, красновато-коричневыми обоями, на которых очень красиво выделялись рамы. Пол был покрыт блеклым ковром, чтобы не искажал красок картин. Отец заказал себе мольберт из коричневого дерева, и тот стоял в этой комнате, чтобы на него можно было поставить ту или иную картину и рассматривать ее при нужном свете.
Для старой резной и выкладной мебели тоже была выделена особая комната. Однажды отец привез с гор потолок, вырезанный из липы и кедровой сосны. Потолок был собран и увеличен кое-какими незаметными добавлениями, благодаря чему он и подошел к этой комнате. Для нас, детей, это была большая радость, и с вящим удовольствием сиживали мы теперь, когда нас водили туда по вечерам отец и мать, в том старинном покое, занимаясь чем-нибудь и слушая рассказы о временах, когда делались подобные вещи.
В конце обшитого деревом коридора, выходившего на втором этаже дома к саду, отец построил стеклянную комнату, две стены которой, глядевшие в сад, состояли сплошь из стекла, а задние стены были деревянные. В эту комнату он поместил старинное оружие разных времен и разного вида. По рамкам, в которые были вставлены стекла, он обильно пустил плющ из сада, да и внутри по остову вился плющ, шелестевший около оружия, когда открывались оконца и от них тянуло ветром. Стоявшую в этой комнате дубинищу со щетиной ужасных гвоздей он называл денницей, что нам, детям, было совсем непонятно, поскольку денница куда как красивее.
Еще была комнатка, которую он велел обить купленной им красной шелковистой материей с замысловатыми вытачками. А вообще-то пока не знали, что поместить в этой комнате.
В саду были карликовые фруктовые деревья, были грядки овощей и цветов, а на его краю, откуда виднелись горы, на расстоянии полумили описывающие вокруг города большую дугу, росли высокие деревья и трава. Старую теплицу отец частью отремонтировал, частью расширил пристройкой.
Имелся при доме и большой, слишком открытый со стороны сада двор, где, когда трава в саду была мокрая, мы играли и куда выходили окна кухни, в которой часто находилась мать, и кладовок.
Отец ежедневно поутру отправлялся в город, в свою лавку и контору. Приказчики порядка ради отправлялись с ним вместе. В двенадцать часов он приходил обедать, а с ним и те приказчики, кому не выпала очередь сторожить в обеденный час лавку. Пополудни он большей частью снова уходил в город. Воскресные и праздничные дни он проводил с нами.
Теперь к нам гораздо чаще приглашали знакомых с их детьми, потому что места у нас стало больше и мы могли веселиться во дворе и в саду. Учителя приходили и в предместье, как прежде приходили к нам в городе.
Отец, которому долгое сиденье за письменным столом грозило болезнью, ежедневно выкраивал себе по настоянию матери свободное время, чтобы размяться. В эти часы он ходил то в картинную галерею, то к приятелю, у которого мог посмотреть какую-нибудь картину, или напрашивался в гости к незнакомому человеку, у которого можно было увидеть что-либо достопримечательное. В погожие дни летних праздников мы выезжали, бывало, и на лоно природы и проводили день где-нибудь в деревне или в горах.
Мать, необычайно радовавшаяся приобретению дома в предместье, занималась домашним хозяйством с повышенным рвением. Каждую субботу на особой площадке в саду «белым цветом вишни» цвело развешенное белье и под надзором матери убирали одну за другой комнаты — кроме тех, где хранились отцовские драгоценности и где вытирание пыли и прочая уборка проходили всегда у него на глазах. За фруктами, цветами и овощами в саду мать ухаживала вместе с отцом. Она пользовалась в окрестности такой славой, что к ней приходили соседки с просьбой прислать работников, получивших выучку в нашем доме.
По мере того как мы подрастали, нас все больше и больше вовлекала в себя жизнь родителей, отец показывал нам свои картины и многое в них объяснял. Он говорил, что картины у него только старые, обладающие определенной ценой, которую всегда можно выручить, если случится нужда продать их. Он показывал нам, когда мы ходили гулять, эффекты светотени, называл краски предметов, объяснял линии, создающие движение, в котором, однако, царит покой, а покой в движении и есть, мол, условие всякого произведения искусства. Говорил он с нами и о своих книгах. Он рассказывал, что среди них есть такие, где содержится все, что случилось с родом человеческим от его начала до наших времен, что там излагаются истории мужчин и женщин, которые были некогда очень знамениты и жили давным-давно, часто больше тысячи лет назад. Он говорил, что в других книгах содержится то, что люди за много лет узнали о мире и некоторых вещах, об их устройстве и свойствах. В иных, впрочем, сказано не о том, что происходило или как обстоит дело, а о том, что люди думали, что могло бы случиться и какие у них мнения о земных и неземных делах.
В это время умер один наш двоюродный дед со стороны матери. Мать унаследовала драгоценности его умершей еще раньше жены, а мы, дети, — остальное имущество. Отец, как наш естественный опекун, положил этот капитал в банк и каждый год прибавлял к нему проценты.
Наконец мы подросли настолько, что обычное наше учение постепенно сошло на нет. Сначала отпали те учителя, что давали нам азы знаний, которые считаются ныне необходимыми всем, потом поредели и те, что обучали нас предметам, которые преподают детям, прочимым в просвещенные или высшие слои общества. Наряду с предметами, которыми она еще продолжала заниматься, сестра должна была мало-помалу вникать в домашнее хозяйство и учиться важнейшим в этом деле вещам, чтобы когда-нибудь достойно последовать по стопам матери. Усвоив предметы, считающиеся в наших школах предварительными, подготовляющими к так называемым насущным знаниям, я продолжал заниматься разделами, которые были труднее и не давались без посторонней помощи. Наконец возник вопрос о моем будущем, и тут отец сделал нечто такое, за что многие строго осуждали его. Он назначил мне быть ученым вообще. Я дотоле очень прилежно учился и весьма ревностно вникал в каждый новый предмет, к которому приступали учителя, и поэтому в ответ на вопрос, каковы мои успехи в той или иной дисциплине, учителя отзывались обо мне всегда с большой похвалой. Я сам желал поприща, намеченного отцом, и он согласился с моим желанием. Желал я его по какому-то влечению души. Несмотря на свою молодость, я уже, конечно, понимал, что всех наук изучить не смогу; но чему и сколь многому я буду учиться, было для меня так же неясно, как то мое чувство, которое влекло меня к этим вещам. Не мнилось мне и никаких особых выгод, какие можно было бы извлечь из моего устремления, нет, мне просто казалось, что я должен так поступить, что будущее таит в себе нечто внутренне ценное и важное. Но чем именно мне заняться и с какого бока взяться за дело, этого не знали ни я, ни мои близкие. У меня не было ни малейшего пристрастия к тому или иному предмету, все казались заманчивыми, и ни малейшего основания считать недюжинными свои способности к какому-то одному; одолеть, думалось мне, можно все. Мои родные тоже не находили признака, который говорил бы о моем исключительном призвании к чему-либо.
Не за необычность этой затеи осуждали люди моего отца; они говорили, что он должен был указать мне полезное обществу занятие, посвятив которому все свое время и всю свою жизнь, я мог бы, когда придет мой час, умереть с сознанием, что исполнил свой долг.
На этот упрек отец отвечал, что прежде всего человек живет не ради человеческого общества, а ради себя самого. И наилучшим образом живя ради себя самого, он и для человеческого общества живет так же. Кого Бог создал наилучшим в этом мире художником, тот сослужил бы человечеству дурную службу, если бы стал, к примеру, дельцом: если он станет величайшим художником, он и миру сослужит величайшую службу, для которой Бог создал его. Это всегда обнаруживается через внутреннюю тягу, которая ведет человека к чему-то и которой нужно подчиняться. Как же еще можно было узнать, кем тебе назначено быть на земле, художником ли, полководцем, судьей ли, если бы не существовало духа, который это говорит и который ведет тебя к тому, в чем ты найдешь удовлетворение и счастье. Бог так уж устраивает, что таланты распределяются надлежащим образом, отчего каждый труд, который надобно исполнить на земле, исполняется и не наступает время, когда все люди — строители. В такого рода талантах заключены уже и таланты общественные, и большим художникам, правоведам, государственным мужам всегда присущи доброчестность, мягкость, справедливость и любовь к отечеству. Именно из таких людей, достигших наибольшего развития своих задатков, чаще всего выходили во времена опасности защитники и спасители своего отечества.
Есть люди, которые говорят, что ради блага человечества они стали купцами, врачами, чиновниками; но в большинстве случаев это неправда. Если их не привело к тому внутреннее призвание, то своим заявлением они лишь скрывают некую худшую причину, а именно — что на свое занятие они смотрят как на средство добывать деньги, имущество, пропитание. Часто они не очень-то и размышляют о выборе занятия, а просто подчиняются обстоятельствам и произносят громкие слова о благе человечества как о своей цели лишь для того, чтобы не признаться в собственной слабости. Есть еще особый тип — всегда толкующих об общественной пользе. Это те, у кого в собственных делах нет порядка. Они всегда попадают в беду, всегда у них незадачи и неприятности, притом по их собственному легкомыслию; и тут сам напрашивается выход — свалить вину за свое положение на общественные условия и твердить, что пекутся они, собственно, об отечестве и что они-то уж все устроили бы в нем как нельзя лучше. Но случись отечеству и в самом деле призвать их, дела отечества пойдут так, как прежде шли их собственные дела. Во времена смут эти люди самые своекорыстные и часто самые жестокие. Но есть несомненно и такие, кого Бог наделил общественной жилкой в особой мере. Эти посвящают себя людским делам по внутренней потребности, вернее, чем кто бы то ни было, разбираются в них, находят радость в их упорядочении, а часто и жертвуют своей жизнью ради своего призвания. Но в то время, когда они жертвуют своей жизнью, будь оно долгим или длись один миг, они испытывают радость. оттого что поддались внутреннему порыву.
Целью наших действий Бог вовсе не ставил пользу, ни нашу собственную, ни чью бы то ни было, он дал добродетельной жизни ее собственную прелесть и ее собственную красоту, к которым и стремятся благородные души. Кто делает добро потому, что его противоположность роду человеческому вредна, тот стоит на довольно низкой ступени нравственного развития. Он совершил бы и грех, если таковой принесет пользу роду человеческому или ему самому. Для таких людей все средства хороши, такие творят зло отечеству, своей семье и самим себе. Таких во времена, когда они действовали с большим размахом, называли государственными деятелями, но они всего лишь лжедеятели, и сиюминутная польза, которой они добивались, была лжепользой и в дни суда оказывалась злосчастием.
Отцом не владело никакое своекорыстие, и это явствует из того, что в совете города он безвозмездно занимал общественные посты, что часто трудился на этих постах и ночами и что щедрее всех прочих жертвовал деньги на общие нужды.
Он говорил, что мне нужно только дать срок, и уж само собой определится, на что я гожусь и какое место следует мне занять в мире.
Я продолжал свои телесные упражнения. С самого детства нас заставляли двигаться как можно больше. Это было одной из главных причин, почему мы летом жили в деревне, а сад, имевшийся при доме в предместье, был одной из главных причин, по которым отец купил этот дом. В детстве нам разрешали ходить и бегать, сколько нам было угодно, и прекращали это только тогда, когда мы сами угомонялись уставши. В городе появилось заведение, где телесные движения совершались по определенным правилам, чтобы упражнять по потребностям все части тела и способствовать их естественному развитию. Это заведение я стал посещать после того, как отец посоветовался с опытными людьми и сам посмотрел, чем там занимаются. Для девочек такого заведения тогда не было, поэтому в одной из комнат нашего дома отец установил для сестры столько приспособлений, сколько он и наш домашний врач, сторонник таких вещей, сочли нужным, и сестра должна была выполнять упражнения, для которых предназначались эти снаряды. С приобретением дома в предместье дело это облегчилось еще более. Не только внутри дома появилось у нас больше места, чтобы установить гимнастические снаряды получше и в большем количестве, прибавились еще двор и сад, где и так-то удобно было делать телесные упражнения и можно было установить еще и дополнительные снаряды. Что мы очень любили эти занятия, понятно само собой ввиду пылкости и подвижности молодости. Уже в детстве мы научились плавать и летом почти каждый день, хоть и живя в предместье, откуда идти было дальше, ходили в заведение для плавания. Даже для девочек уже появились тогда особые плавательные заведения. Да и вообще мы любили дальние прогулки, особенно летом. Когда мы бывали за городом, родители разрешали мне с сестрой отлучаться. Мы упражнялись в ходьбе на большие расстояния или в подъеме на гору. Затем возвращались на то место, где нас ждали родители. Сначала с нами обычно ходил кто-нибудь из слуг, а потом, когда мы подросли, нас отпускали одних. Чтобы быстрее и с большим удобством для родителей добираться до любого места в округе вне города, отец завел впоследствии двух лошадей, и работник, который доселе исполнял обязанности садовника и, случалось, нашего надзирателя, стал теперь и кучером. В школе верховой езды, где мальчики и девочки занимались в разное время, мы научились ездить верхом и позднее по определенным дням недели могли в определенные часы упражняться в манеже. В саду у меня была возможность прыгать к цели, ходить по узким дощечкам, карабкаться по снарядам, бросать каменные диски в цель или на как можно большее расстояние. Сестра, хотя окружающие обращались с ней как с барышней, очень любила участвовать в так называемых грубых работах по хозяйству, чтобы показать, что она не только смыслит в этих делах, но и превосходит силой даже тех, кто занимался такими работами с детства. Родители не только не препятствовали ей в этом, но даже одобряли ее поведение. Кроме того, она читала свои книги, музицировала, особенно на пианино и арфе, под которую и певала, а еще писала акварельными красками.
Когда я расстался с последним учителем, обучавшим меня языкам, а в тех науках, где требовалось длительное учение, потому что они были труднее или важнее, преуспел так, что в учителе уже не стало нужды, возник вопрос, как быть с избранным для меня научным поприщем, не следует ли наметить какой-то план и пригласить учителей для его исполнения. Я попросил не нанимать мне никаких учителей, сказав, что справлюсь сам. Отец согласился с моим желанием, и я был очень рад, что у меня нет больше учителей и я теперь ни от кого не завишу.
Я спрашивал совета у людей, пользовавшихся репутацией хороших ученых и обычно подвизавшихся в том или ином учреждении города. Я обращался к ним только тогда, когда это не могло показаться нескромным. Поскольку обычно мои вопросы к таким людям относились лишь к моему учению, а своего общества я никому из них не навязывал, они не сердились на меня за докуку и отвечали всегда очень любезно и благосклонно. Да и среди тех, кто бывал у нас в доме, было немало сведущих в ученых делах. К ним тоже я обращался. Вопросы мои большей частью касались книг и последовательности, в какой их надлежало прочесть. Сначала я продолжал заниматься теми разделами, которые уже изучал раньше, потому что в то время они считались основой общего образования, только старался, с одной стороны, внести в них больше, чем то удавалось прежде, порядка, а с другой — продвинуться и в том предмете, который приходился мне больше по вкусу. Таким образом тут установился хоть какой-то порядок, ведь при неопределенности всей этой затеи очень велика была опасность запутаться в самых разных дисциплинах и погрязнуть в мелочах. В связи с начатыми мною занятиями я посещал и те заведения нашего города, что могли пойти им на пользу, — библиотеки, выставки инструментов и особенно места, где производились опыты, которых я по незрелости и по отсутствию возможностей и приборов поставить не мог. Нужные мне книги и вообще учебные пособия отец с готовностью покупал.
Я был очень усерден и отдавался выбранному предмету со всем жаром, свойственным увлечениям юности. Хотя при посещении общественных заведений для физического или умственного развития, а также при приемах гостей или наших походах в гости мне довелось познакомиться со множеством молодых людей, я никогда не стремился к сплошным развлечениям, и притом часто пустым, как то делала, видел я, большая их часть. Развлечения, случавшиеся в нашем доме, когда к нам приходили гости, были всегда более серьезного рода. Познакомился я и со многими людьми старшего возраста; но тогда я обращал на такие знакомства меньше внимания, потому что молодости свойственно проявлять живое участие к тем, кто ближе к ней по годам, а старших не замечать.
Когда мне исполнилось восемнадцать лет, отец отдал в мое распоряжение часть моей собственности из наследства двоюродного деда. Дотоле у меня не было регулярного денежного довольствия, и когда мне что-то бывало нужно, отец это покупал, а на вещи помельче давал деньги, чтобы я покупал их сам. На развлечения я тоже время от времени получал небольшие суммы. Отныне же, сказал отец, я буду получать в первый день каждого месяца определенную сумму, я должен вести этим деньгам учет, тратя их по своему усмотрению, а мое состояние остается пока в его распоряжении — он будет вычитать эти выплаты, и его счета должны сходиться с моими. Он дал мне листок с перечнем того, что я должен оплачивать из моих ежемесячных поступлений. Ни одного предмета, входящего в этот перечень, он из своих денег покупать мне больше не будет. В расходах я должен быть точен и экономен; аванса он мне никогда, даже при крайности, не станет выплачивать. Если я в течение какого-то времени не вызову его недовольства своим хозяйничаньем, он увеличит мой круг расходов и по справедливом рассмотрении определит, через какое время передаст мои дела целиком в мои руки еще до моего законного совершеннолетия.
2. Путник
Содержанием, которое мне выделил отец, я распоряжался хорошо. Поэтому через некоторое время круг моих расходов был, как то обещал отец, расширен. Из назначенного мне жалованья я должен был теперь покрывать не только какую-то часть своих нужд, а все. Мое содержание соответственно увеличилось. И выплачивал мне его отец теперь уже не ежемесячно, а раз в четверть года, чтобы приучить меня к большим промежуткам во времени. Вручать мне деньги раз в полгода или вовсе раз в год он не решался, чтобы я, чего доброго, не запутался. Он выдавал мне не все проценты с наследства, а только часть, другую же часть прибавлял к основному капиталу, благодаря чему мое имущество росло, хотя из своего содержания я ничего не откладывал. Оставалось одно ограничение: я должен был жить в доме родителей и столоваться у них. За это была назначена плата, которую я вносил каждую четверть года. Все прочие нужды, будь то платье, книги, мебель или еще что-либо, я должен был удовлетворять по своему усмотрению и разумению.
Сестра тоже получила право на свою часть дедовского наследства в подобавшей девушке мере.
Мы были очень довольны этим нововведением и решили следовать желаниям и воле родителей, чтобы доставить им радость.
Потрудившись во многих направлениях разных наук, которыми под конец занимался со своими учителями, наук, общее знание каковых считается необходимым для образованного человека, я перешел на математику. Мне всегда говорили, что эта наука самая трудная и самая замечательная, что она — основа всех остальных, что в ней все верно и что, овладев ею, приобретаешь достояние на всю жизнь. Я купил книги, которые мне рекомендовали, чтобы, исходя из уже имевшихся у меня предварительных знаний, продвигаться все дальше к более сложному. Я купил очень большую аспидную доску, чтобы делать на ней свои работы. И в часы, отведенные для изучения наук, я теперь сидел за столом и производил вычисления. Я шел по стопам мужей, которые открыли формы этой науки, приводившие их потом ко все новым и новым формам. Я установил для себя определенные периоды, когда переставал продвигаться вперед, чтобы прежде чем приступить к дальнейшим разделам, повторить и закрепить в памяти уже пройденное. Книги, которые я собирался постепенно проштудировать, были по порядку расставлены мной на полке. Через соответствующее время я продвинулся к довольно трудным разделам высшей области этой науки. Отец наконец разрешил мне жить летом какое-то время вдали от родителей, где-нибудь в деревне. Первым пристанищем такого рода было избрано имение одного отцовского друга, неподалеку от города. Я получил комнату в верхней части дома, с окнами, выходившими на близкие виноградники и на отдаленные горы между их склонами. Хозяйка дома выдавала мне через очень короткие промежутки свежевыстиранные белоснежные занавески. Очень часто меня навещали родители и проводили весь день в деревне. Я тоже часто ездил к ним в город, а иногда и оставался ночевать дома.
Второе пристанище следующим летом оказалось гораздо дальше от города, в доме одного сельского жителя. В домах наших поселян, где все горницы и прочие комнаты находятся внизу, над этими покоями бывает часто еще один этаж с одной или несколькими комнатами. К ним принадлежит и так называемая верхняя горница. Часто это вообще единственное помещение на втором этаже. Верхняя горница — комната некоторым образом парадная. В ней стоят лучшие в доме кровати, обычно две, в ней стоят шкафы с нарядной одеждой, в ней стоят мишенные и охотничьи ружья хозяина, если у него таковые есть, а также призы, полученные им, например, за стрельбу, здесь стоит парадная посуда хозяйки, особенно если у нее есть оловянные кувшины или что-нибудь из фарфора, здесь же и лучшие в доме картины и прочие украшения, например, прекрасный младенец Иисус из воска, лежащий в тонком белом пуху. В такой верхней горнице поселянина я и жил. Дом этот находился столь далеко от города, что родителей я навестил — с помощью почтовой кареты — всего один раз; а они ко мне вовсе не приезжали.
Пребывание там произвело во мне перемены.
Поскольку видеть родных мне не доводилось, желание общаться с ними было у меня гораздо сильнее, чем когда я жил дома и мог удовлетворить его в любую минуту. Я прибег поэтому к подробным письмам и отчетам. До сих пор я всегда учился по книгам, которых накупил в свои шкафы на свои деньги уже довольно много; но сам я ни разу не упражнялся в связном повествовании. Теперь мне пришлось этим заняться, и я занимался этим охотно, радуясь, что во мне постепенно растет способность изображать и повествовать. Я переходил ко все более сложным и стройным описаниям.
Произошла и другая перемена.
Я с детства любил реальность вещей, которую являли природа или уклад человеческой жизни. Это бывало порой большим неудобством для моего окружения. Я непрестанно спрашивал, как называется та или иная вещь, каково ее происхождение и назначение, и не мог успокоиться, если отвечали уклончиво. Не мог я также терпеть, когда какой-нибудь предмет делали иным, чем он действительно был. Особенно обидно бывало мне, если он, как я полагал, ухудшался от подобного изменения. Я огорчился, когда однажды срубили и распилили на чурбаки старое дерево. Чурбаки уже не были деревом, и поскольку они оказались гнилыми, из них нельзя было вырезать ни скамеечки, ни стола, ни креста, ни лошадки. С тех пор как я впервые встретился с вольной природой и увидел сосны и ели на горах, мне всегда бывало жаль досок, из которых в нашем доме было что-либо сделано, потому что когда-то они были такими соснами и елями. Я спрашивал отца, когда мы ходили по городу, кто построил большую церковь святого Стефана, почему у нее только одна башня, почему она такая острая, почему церковь такая черная, кому принадлежит тот или иной дом, почему он такой большой, почему в другом доме везде по два окна рядом, а еще в другом два каменных человека подпирают карниз над парадным входом. Отец отвечал на такие вопросы по своему разумению. В иных случаях он высказывал только предположения, в иных говорил, что не знает. Когда мы выезжали на природу, я хотел знать все растения и камни и узнавал имена поселян и собак. Отец говаривал, что мне надо бы стать когда-нибудь писателем или художником, изготовляющим из разного материала предметы, столь сильно его занимающие, или хотя бы ученым, исследующим признаки и свойства вещей.
Эта склонность направила меня, когда я жил в деревне, по особому пути. Я оставил математику и предался созерцанию своего окружения. Я стал присматриваться ко всему происходившему в доме, где я жил. Я постепенно познакомился со всеми инструментами и их назначением. Я ходил с работниками на поля, на луга и в леса и сам, случалось, работал вместе с ними. Таким образом я за короткое время узнал, как выращиваются все земные плоды той местности, где я жил. Старался я ознакомиться и с первой сельской переработкой их в конечный продукт. Я узнал, как делается вино из винограда, пряжа и полотно из льна, масло и сыры из молока, мука и хлеб из зерна. Я запоминал, как называют поселяне те или иные вещи, и вскоре знал признаки, по которым можно судить о доброкачественности или неполноценности земных плодов или их дальнейших видоизменений. Я даже заводил разговоры о том, как произвести то или другое более, может быть, целесообразным способом, но натыкался тут на упорное сопротивление.
Изучив производство первичных изделий в местности своего пребывания, я перешел к предметам промышленного труда. Неподалеку от моего жилья находилась широкая, плоская долина, где протекала река, которая благодаря своей постоянной полноводности и тому, что зимой почти никогда не замерзала, особенно подходила для устройства приводных механизмов. В долине поэтому было разбросано много фабрик. Они принадлежали большей частью крупным торговым домам. Владельцы их жили в городе и время от времени посещали свои заводы, находившиеся под присмотром управляющего или заведующего. Я постепенно побывал на всех этих фабриках и ознакомился с производимыми там изделиями. Я старался узнать, как доставляется сырье на фабрику, как проходит оно первую обработку, затем вторую и так далее через все стадии, пока не превратится в готовое изделие. Я научился здесь различать качество поступающего сырья и узнал признаки, по которым можно судить о добротности конечного продукта фабричного производства. Узнал я также способы и пути, какими перерабатывается сырье. Машины, по большей части для этого применявшиеся, были мне уже знакомы по общему знанию их устройства. Поэтому мне нетрудно было понять смысл их особых, нужных здесь для каких-то отдельных целей приспособлений. Благодаря любезности служащих я осматривал все по частям, пока наконец не понял и не представил себе всего так ясно, словно передо мной лежал один из тех чертежей, по которым мне только и доводилось прежде знакомиться с такого рода устройствами.
Позднее я стал заниматься естественной историей. Я начал с ботаники. Прежде всего я пытался выяснить, какие растения есть в местности, где я пребываю. Для этой цели я ходил по всем направлениям, стремясь узнать, где находятся и как ведут себя те или иные растения, и собрать все виды. Что можно было взять с собой и хоть как-то сохранить, я брал с собой в свое жилье. То, чего нельзя было унести, особенно деревья, я подробно описывал и прилагал эти описания к своей коллекции. Описывая всегда все замеченные мной свойства растений, я обнаруживал, что по моим описаниям к одной и той же группе принадлежат иные растения, чем те, которые объединялись в одну группу ботаниками. Я заметил, что ботаники классифицировали растения по одному или нескольким признакам, например по семенным долям или по частям цветка, и что в одной группе оказывались растения, которые по всей своей форме и по большинству свойств очень различны. Я придерживался принятой классификации, но полагался и на свои описания. В этих описаниях растения группировались по очевидным линиям и, если можно так выразиться, по их строению.
Собирая минералы, я попал примерно в такое же положение. Я с самого детства старался добыть некоторые их образцы. Почти всегда они покупались или дарились из других коллекций. Они уже раньше принадлежали к каким-то коллекциям и обычно сохраняли наклейки с названиями. И бывали, как правило, в кристаллическом состоянии. Система Моса наделала когда-то много шума, меня навели на нее мои математические занятия, я изучил ее и полюбил. Но поскольку минералы я искал и собирал в той местности, где оказывался, находил я их куда чаще в некристаллическом, чем в кристаллическом состоянии, отчего они обнаруживали и совершенно другие свойства. Кристаллизация веществ, предполагаемая системой Моса, представилась мне опять-таки неким цветением, и по этим цветкам вещества тоже объединялись в группы. И тут я тоже не мог не прибегнуть наряду с общепринятой классификацией к собственным описаниям.
Приблизительно в миле от нашего города уходит на запад гряда красивых холмов. Прерываемые лишь кое-где равнинами, эти холмы следуют все дальше на запад, пока наконец не переходят в более возвышенную и еще более холмистую местность, в так называемое Нагорье. Вблизи города холмы усыпаны домиками и украшены садами и парками, дальше картина более сельская. На склонах — виноградники, поля, попадаются и луга, а вершины, да и некоторые северные участки, покрыты лиственным лесом, с похожей больше на кусты, чем на деревья, растительностью. Ручьи и вообще вода в тех местах — редкость, и летом, спустившись вниз из-за жажды или просто случайно, я часто выходил к высохшему, наполненному белыми камнями руслу ручья. Живя в этой местности, я все дальше продвигался на запад. Я делал дальние походы и часто покидал свое жилье на несколько дней. Я бродил глухими тропками, проходившими среди полей или виноградников, тянувшимися от деревни к деревне, от селения к селению на много миль, так что обойти их за один день никак нельзя было. Я ходил по уединенным лесным тропинкам, прятавшимся среди деревьев и кустов и нередко бесследно терявшимся в листве, траве или мелких зарослях. Я и без всяких тропок часто бродил по лугам, лесам и прочим урочищам, чтобы найти то, что я искал. Понятно, что мало кто из наших городских жителей выходит на такие пути, ведь они могут позволить себе наслаждаться сельской жизнью лишь короткое время, каковое и проводят на одних и тех же разъезженных дорогах сельских увеселений, ведать не ведая о других тропах. С юга вся эта холмистая местность была на протяжении многих миль окаймлена высокими горами. В одном месте с бастиона нашего города можно увидеть между домами и деревьями синее пятнышко этого высокогорного массива. Я часто ходил по этому бастиону, часто глядел на это пятнышко, думая только одно: вот они, горы. Даже видя часть гор из дома, бывшего моим первым летним пристанищем, я не обращал на них особого внимания. Теперь я, бывало, с удовольствием смотрел с какой-нибудь возвышенности или холма на отрезки синей цепи, убегавшей все дальше туманными звеньями. Часто, когда мне случалось вдруг выбраться из диких зарослей на открытый обрыв и передо мной загоралась вечерняя заря, окутывавшая местность пеленой красной дымки, я садился, глядел на догоравший закат, и какие только чувства не наполняли мне душу.
Когда я возвращался в родной дом, меня встречали с большой радостью, и мать постепенно привыкала к моим отлучкам, каждая из которых делала меня более зрелым. Она и сестра нередко помогали мне разобрать принесенные вещи, чтобы я затем разместил их по нужным комнатам.
Так наконец пришло время, когда отец счел, что пора предоставить всю ренту с наследства двоюродного деда в полное мое распоряжение. Он сказал, что с этим доходом я могу поступать как угодно, только его должно мне хватать. Он ни в коем случае не будет ни добавлять из своих денег, ни давать мне авансов, ибо мой годовой доход достаточно велик, чтобы не только покрывать мои текущие траты, даже если они изрядно возрастут, но и чтобы я мог оплачивать всякие развлечения. Тем самым, это в моих руках — обеспечить себе на будущее, которое может потребовать больших расходов, и больший доход. Жить и столоваться я могу теперь при желании не в доме родителей, а где мне угодно. Основной капитал останется там же, где он лежал. Отец прибавил, что выдаст мне его, когда я достигну двадцати четырех лет. Тогда я смогу распоряжаться им по собственному усмотрению.
— Советую тебе, однако, — продолжал он, — не гоняться тогда за большой рентой, потому что обычно она сопряжена с большей опасностью для основного капитала. Будь всегда уверен в своем основном капитале, а малую ренту с него увеличивай умеренностью. Если ты последуешь этому отцовскому совету, в совете тебе и впредь не будет отказа. Если я умру или выйду из дела по доброй воле, вы оба получите добавление к своему имуществу от меня. Сколь велико оно будет, я еще не могу сказать, осторожностью и разумным ведением дел я стараюсь сделать его как можно большим и как можно более верным. Но все мы в руках господних, и обстоятельства, которых никто предсказать не в силах, могут мое имущественное положение существенно изменить. Поэтому будь мудр и поступай со своим добром так, как делал это до сих пор, к моему и матери удовольствию.
Я был тронут поступком отца и поблагодарил его от всей души. Я сказал, что всегда буду стараться оправдать его доверие, что буду настойчиво обращаться к нему за советами, что ни в имущественных, ни в других делах никогда не пойду против него и что не сделаю ни малейшего шага, не спросив у него совета. Поселиться где-либо вне родительского дома, пока я живу в нашем городе, было бы мне очень тягостно, и я прошу разрешить мне оставаться в доме родителей и у них на хлебах, покуда сам Бог не рассудит иначе.
Отец и мать были рады этим словам. Мать сказала, что к прежнему моему жилью, которое для меня, как для самостоятельного отныне человека, особенно при нынешних моих обстоятельствах, вероятно, слишком мало, она прибавит еще несколько помещений, не повышая платы несоразмерно. Я, разумеется, был согласен со всем. Я тотчас же отправился с матерью осмотреть выделенные мне комнаты и поблагодарил ее за заботу. Уже на следующий день я устроился на новой квартире.
Зиму я отчасти использовал для всяких приготовлений, чтобы следующим летом снова пуститься в странствия. Я решил побывать наконец в горах и побродить по ним в свое удовольствие.
Когда пришло лето, я поехал из города в горы кратчайшим путем. От места прибытия я хотел пойти по горам с востока на запад. Я тотчас отправился в путь. Я ходил вдоль долин даже тогда, когда они отступали от моего направления и всячески извивались. После таких отклонений я всегда старался вернуться на главный свой путь. Поднимался я и на седловины и спускался в долину с противоположной стороны. Взбирался на вершину, чтобы оттуда осмотреть местность, а заодно и определить, в какую сторону двигаться дальше. В общем, по возможности я держался направления главного хребта и старался отклоняться от водораздела как можно меньше.
В одной долине, возле очень прозрачного ручья, я увидел мертвого оленя. За ним охотились, пуля попала ему в бок, и он, вероятно, искал прохладной воды, чтобы остудить свою боль. Но у воды он умер. Теперь он лежал возле нее, уткнув в песок голову и погрузив передние ноги в чистую струю. Животное это очень понравилось мне, я восхитился его красотой и испытал большую жалость к нему. Глаза его еще не угасли, они еще скорбно блестели и, как весь его выразительный облик, были как бы упреком его убийцам. Я погладил оленя, он еще не остыл. Постояв несколько мгновений возле мертвого животного, я услышал звуки в горном несу, походившие на крики ликования и вой собак. Звуки приближались, становились отчетливее, и вскоре через ручей перемахнуло несколько красивых собак, а за ними еще несколько. Они побежали ко мне. Но увидев возле дичи незнакомого человека, некоторые из них остановились поодаль и свирепо залаяли, а другие стали с воем носиться вокруг меня широкими кругами, натыкаясь в спехе на камни и кубарем падая. Через довольно долгое время появились и люди с ружьями. Когда они подошли к оленю и стали рядом со мной, приблизились и собаки, теперь меня уже не боявшиеся, обнюхали меня и заметались, дрожа, возле дичи. Вскоре после появления охотников я удалился.
Занимаясь естественной историей, за животными я дотоле не наблюдал, хотя описания таковых усердно читал и заучивал. Невнимание к подлинному телесному облику зашло у меня так далеко, что, даже проводя часть лета в деревне, я все еще не искал обозначенных на моих рисунках примет коз, коров и овец в бродивших передо мной живых образцах.
Теперь я пошел другим путем. Олень, которого я увидел, так и остался у меня перед глазами. Это был благородный павший герой, существо чистое. Собаки, его враги, тоже казались мне правыми в их призвании. Их стройные, прыгающие, словно кем-то подбрасываемые тела тоже оставались у меня перед глазами. Только люди, застрелившие животное, были мне противны, потому что они словно устроили из этого праздник. С того часа я стал наблюдать животных, рассматривать их, как дотоле наблюдал и рассматривал камни и растения. И теперь, еще в горах, и позднее, дома, и в дальнейших своих походах я наблюдал за животными и старался узнать важнейшие признаки их телосложения, образа жизни и назначения. Увиденное я записывал и сравнивал с описаниями и классификациями, которые находил в своих книгах. И снова я то и дело оказывался в разладе с этими книгами, потому что мне претило видеть объединенными в одну группу по пальцам ног или другим признакам животных, которые по своему строению были, на мой взгляд, совершенно различны. Поэтому я составил другую классификацию, не научную, а для собственного пользования.
Никакой особой цели я в этот первый раз при походе в горы себе не ставил, довольствуясь тем, что попадется случайно. В горы я пошел только затем, чтобы вообще их увидеть. Немного уняв этот первый зуд, я в следующий раз отправился на равнину и вернулся домой по ней же.
Однако новое лето опять повлекло меня в горы. Если в первый раз я смотрел на все только в общем и поддавался воздействию впечатлений, то теперь я больше входил в частности, больше управлял собою и направлял свое внимание на определенные вещи. Многие из них занимали мою душу. Сидя на камне, я глядел на широкие полосы тени и на острые, словно вырезанные в них ножом клинья света. Я думал, почему тени здесь такие синие, а свет такой яркий, а зеленый цвет такой огненный, а вода такая сверкающая. Мне вспоминались картины отца, на которых были изображены горы, и казалось, что их следовало бы взять с собой для сравнения. Порой я надолго задерживался в маленьких селениях и наблюдал за людьми, за их каждодневным трудом, за их чувствами, их речью, их мыслями, их пеньем. Я познакомился с цитрой, рассмотрел, исследовал ее, слушал, как на ней играют и как поют под нее. Она показалась мне предметом, уместным только в горах и единым с горами. Облака, их образование, их повисание на отвесных склонах, их тяга к пикам, а также свойства тумана и его тяготение к горам — все это казалось чудесным.
Этим летом я забирался и на высокие места, я не только ходил с проводниками на ледник, очень меня занимавший и побуждавший к наблюдениям, но и взбирался с ними на самые высокие зубцы гор.
В мраморах, встречавшихся в горах и обтесываемых в некоторых долинах, я видел остатки древнего, погибшего мира. Я старался найти особые сорта и посылал их домой.
С тех пор я каждое лето ходил в горы.
Когда я из комнат своей квартиры в доме родителей, проведя там зиму, глядел на небо и уже не так часто видел на нем туман и серые тучи, как ясную синеву, словно бы говорившую о большой мягкости воздуха, когда по стенам, трубам и черепичным крышам, открывавшимся моему взору с разных сторон, все шире разливался солнечный свет, а снега уже не было видно и на деревьях нашего сада набухали почки, — меня манило на волю. Чтобы хоть на время утолить эту жажду, я, бывало, выходил из города и упивался простором лугов, полей, виноградников. А когда расцветали цветы и распускались первые листья, я уже двигался к синевшим горам, хотя их склоны еще поблескивали от снега. Я выбирал разные места, на которых задерживался, чтобы ознакомиться с ними и сжиться.
Отец ничего не имел против этих путешествий, да и очень доволен был тем, как я распоряжался своими деньгами. Каждый год оставалась изрядная часть, которую можно было прибавить к основному капиталу. При этом я не чувствовал никакого ущерба в своем быту. Я стремился к вещам, доставлявшим мне радость и стоившим дешево, гораздо дешевле, чем удовольствия, которым предавались мои знакомые. В одежде, еде, питье я обходился самым простым, потому что это отвечало моей натуре, потому что нас приучали к умеренности и потому что эти потребности, если бы я уделял им много внимания, отвлекали бы меня от других устремлений. Все шло, таким образом, хорошо, отец и мать радовались моему распорядку жизни, а я радовался их радости.
В один прекрасный день я решил рисовать. Свои объекты, подумалось мне, я ведь могу зарисовывать с таким же успехом, как и описывать их, а рисунок, в конце концов, даже лучше, чем описание. Я удивился, что не напал на эту мысль сразу же. Рисовал я, правда, и прежде, но это были всегда математические линии, следовавшие законам счета, изображавшие плоскости и тела по правилам межевого искусства и проводимые с помощью циркуля и линейки. Я, разумеется, прекрасно знал, что линиями можно изображать всевозможные тела, да и видел это на отцовских картинах; но я не очень о том задумывался, будучи занят другим. Такое упущение вызвано было, видимо, свойством, которым я в большой мере обладал и за которое меня упрекали. Поглощенный каким-то одним предметом, я забывал о многих других, может быть более важных. Говорили, что это односторонность, даже недостаток чувства.
Рисовать я начал с растений, с листьев, стеблей, веток. Сходство поначалу было не очень большое, и совершенством рисунок не отличался, как я позднее увидел. Но дело шло все лучше, потому что я был усерден и попыток не оставлял. Растения, засушенные в моих гербариях, как тщательно они ни были препарированы, постепенно теряли не только цвет, но и форму и даже отдаленно не напоминали о своем первоначальном строении. Растения же зарисованные сохраняли хотя бы форму, не говоря уже о том, что среди растений есть такие, которые из-за строения или просто величины нельзя засушить в гербарии, как, например, грибы или деревья. В рисунке, напротив, их удавалось хорошо сохранить. Но просто рисунки меня постепенно перестали удовлетворять, потому что отсутствовал цвет, а это в растениях, особенно в цветах — главное. Поэтому я стал свои рисунки раскрашивать и не успокаивался до тех пор, пока не появлялось все более возраставшее сходство с оригиналом.
От растений я перешел к другим предметам, цвет которых обращал на себя внимание и поддавался воспроизведению. Я взялся за бабочек и пытался изображать их. Потом пришла очередь объектов менее приметных, чьи краски хоть и невзрачны, но замечательны, например, некристаллических горных пород, прелесть которых открылась мне мало-помалу.
Поскольку я стал рисовать и поэтому наблюдал за вещами гораздо пристальнее, а рисование и теперешние мои устремления все-таки не целиком заполняли меня, я пошел и по другому, намного дальше ведущему направлению.
Я уже говорил, что любил подниматься на высокие горы и смотреть на окрестности с них. Теперь пластические формы земли являли наметанному глазу гораздо более выразительные особенности и обозримое соединялось воедино большими частями. Теперь уму и сердцу открылась вся прелесть этих образований, их складок и подъемов, их уходов вдаль и отклонений в сторону, их стремления сбежаться к одной точке и рассеяться по плоскости. Мне вспоминалась одна старая картина, вычитанная мною когда-то в какой-то книге и потом забытая. Когда вода из паров воздуха оседает на наших оконных стеклах бесконечно малыми, едва различимыми сквозь лупу каплями, а потом ударяет мороз, возникает то покрывало из нитей, звезд, опахал, пальм и цветов, которое мы называем замерзшими окнами. Все эти предметы соединяются в одно целое, и, глядя сквозь увеличительное стекло, восхищаешься этими лучами, долинами, хребтами, узлами льда. Таким же, если смотреть с очень высокой горы, предстает строение лежащей внизу земли. Она возникла, должно быть, из застывшего вещества и разбросала свои опахала и пальмы в великолепном увеличении. Сама гора, где я стою, — это белая, светлая, сверкающая точка, которую мы видим посредине тонкой ткани на наших замерзших окнах. Осыпавшись из-за тока воздуха или оттаяв от тепла, края пальм на замерзших стеклах зияют пробелами. В горных грядах разрушения происходят из-за выветривания под влиянием воды, воздуха, тепла и холода. Только на разрушение иголок льда на окнах требуется меньше времени, чем на разрушение иголок взгорий. Созерцание простирающейся подо мной земли, каковому я часто предавался часами, возвысило мне душу, и самым достойным делом, делом, для которого все прежние мои усилия были лишь подготовкой, казалось мне исследовать становление этой земной поверхности и через много маленьких фактов, собранных в разных местах, объять то величавое целое, что предстанет нашему взору, если мы от вершины к вершине пойдем по нашей земле, пока не обойдем ее всю и глазам уже нечего будет обследовать, кроме выпуклого морского простора.
Под напором этих чувств и мыслей я занялся, словно завершая и суммируя все свои прежние труды, наукой о происхождении земной поверхности, а тем самым, быть может, и о происхождении самой земли. Помимо того, что я часто зарисовывал земную поверхность с высоких точек, видя ее как в зеркале, я добыл превосходнейшие книги, трактующие об этой науке, познакомился с нужными приспособлениями и их применением.
Я занимался этим предметом с неубывающим усердием и соблюдая строгий порядок.
При этом я постепенно знакомился с небесными явлениями и с условиями, от которых зависит погода.
Мои походы в горы преследовали теперь почти исключительно эту цель.
3. Приход
Однажды я спускался с гор к холмам. Я хотел перебраться с одной гряды на другую и пройти этот путь через открытую местность. Все знают холмы предгорья, образующие словно бы переход к равнине. Поросшие лиственными и хвойными деревьями, приятного цвета, они тянутся вдаль, открывая кое-где глазу синеву маячащих над ними горных вершин, и, прерываемые там и сям светящимися лугами, направляют текущие с гор воды. На этих холмах можно увидеть то какую-нибудь постройку, то церковку, они простираются к более застроенным и более заселенным местам во всех направлениях, по каким снижаются горы.
Сойдя со склонов этих гор и окинув взглядом открывшийся мне простор, я увидел на западе легкие тучи медленно собирающейся и заволакивающей небо грозы. Я пошел быстрым шагом, глядя, как нарастают и сгущаются тучи. Пройдя довольно большой путь и выйдя в места, где пологие холмы чередуются с долинами, где разбросаны хутора, где плодовые сады похожи на рощи, а в темной листве просвечивают колокольни, в те места, где везде, благодаря этой шири, виден синий зубчатый пояс высокогорья, я вынужден был подумать о пристанище; ибо деревни, в которой я собирался передохнуть, мне уже вряд ли удалось бы достичь. Гроза приблизилась настолько, что могла разразиться через час, а то и ранее.
Передо мной была деревня Рорберг, колокольня которой, резко освещенная солнцем, виднелась над ивами и вишнями. Она лежала чуть в стороне от дороги. Ближе находились два хутора, каждый, на некотором расстоянии от дороги, красовался среди лугов и полей. Виден был еще дом на холме, не походивший ни на крестьянскую хижину, ни на мещанскую хозяйственную постройку, а смахивающий скорее на загородный дом горожанина. Бывая в этих местах, я уже не раз видел его, но никакого дела мне до него не было. На сей раз он привлек к себе мое внимание, тем более что оказался ближайшим от меня укрытием и сулил больше удобств, чем хутора. К этому прибавилось и своеобразное очарование. Когда уже почти всю округу, за исключением рорбергской колокольни, покрывала тень, дом этот был еще ярко освещен и блестел среди окружающей серости и синевы приветливой белизной.
Я решил, стало быть, поискать убежища в этом доме.
Прежде всего надо было найти путь, ведущий от дороги на холм, где стоял дом. При моем знании местных обычаев мне без труда удалось обнаружить окаймленную забором и кустами дорожку, поднимавшуюся туда от проселка. Я взобрался по ней на холм и вышел, как и предполагал, к дому. Он был все еще ярко освещен солнцем. Но, подойдя ближе, я увидел восхитительную картину. Дом был сплошь увит розами, и, как то бывает в этом плодородном холмистом краю, где уж если что-то цветет, то цветет все сразу, здешние розы словно бы дали обещание распуститься в одно и то же время, чтобы окутать дом покрывалом прелестного цвета и облаком великолепнейшего благоухания.
Если я говорю, что дом был сплошь увит розами, то не следует понимать это буквально. Дом имел два довольно высоких этажа. Стена первого этажа была до окон второго увита розами. Остальная часть до крыши была свободна, и это-то и была та светящаяся белая полоса, которая глядела вдаль и в известной мере приманила меня наверх. Розы были прикреплены к установленной перед стеной дома решетке. Они представляли собой деревца. Среди них были крошечные, чьи листья начинались у самой земли, были повыше, чьи стволы возвышались над первыми, и так далее, вплоть до последних, заглядывавших своими ветками в окна второго этажа. Растения были так распределены и выращены, что нигде не оставалось просвета, и до того места, куда доходили розы, стена дома была покрыта ими полностью.
Устройства такого рода я в столь больших размерах еще ни разу не видел.
К тому же здесь были почти все виды роз, какие я знал, и некоторые мне незнакомые. Цвета переходили от чисто белого через желтовато- и красновато-белый промежуточных видов к нежно-красному, к синевато- и черновато-красному. Такое же разнообразие было в формах и в строении цветов. Распределены они были не по окраске, при посадке внимание обращали, казалось, только на то, чтобы в стене роз не было никаких пробелов. Краски поэтому перемешались.
На зеленый цвет листьев тоже нельзя было не обратить внимания. Он был очень чистый, и ни порченых листьев, встречающихся у роз чаще, чем у других растений, ни какой-либо из распространенных болезней я не увидел. Ни засохших, ни изъеденных гусеницами, ни искореженных ими листьев не было вовсе. Не было даже тли, которая часто заводится в розах. Распустившись во всю свою мощь, листья красовались всеми оттенками зеленого цвета. В смеси с красками цветов они составляли поразительное покрывало. Солнце, все еще освещавшее, казалось, единственно этот дом, окрашивало розы и зеленые листья золотом и огнем.
Забыв о своей цели, я простоял несколько мгновений перед этими цветами, и лишь потом, спохватившись, подумал о дальнейшем. Я поискал глазами вход в дом. Но не нашел его. Во всей довольно длинной стене не было ни дверей, ни ворот. Не было и дорожки, которая вела бы к входу; вся площадка перед домом, песчаная, чистая, была разровнена граблями. От полей за моей спиной ее отрезала каемка из дерна и живая изгородь. По обе стороны дома, в направлении длины его, тянулись сады, отделенные от песчаной площадки высокой, железной, крашеной зеленой решеткой. Где-то в решетках, видимо, и прятался вход.
Так оно и оказалось.
В решетке, ближайшей к дороге, я обнаружил дверь, вернее, две створки двери, встроенной так, что с первого взгляда ее нельзя было отличить от решетки. В дверях имелись две медные ручки, а сбоку одной из створок рукоятка звонка.
Сначала я заглянул через решетку в сад.
Песчаная площадка продолжалась и за ней, только она была окаймлена цветущими кустами и усажена высокими плодовыми деревьями, дававшими тень. В тени стояли столы и стулья; но рядом не было ни души. Сад огибал дом сзади и, показалось мне, уходил довольно далеко вниз.
Я потянулся сначала к дверным ручкам, но дверь не открылась. Тогда я прибег к рукоятке звонка.
На звонок кто-то вышел из кустов сада. Когда незнакомец подошел ко мне со внутренней стороны решетки, я увидел человека с белоснежными волосами, ничем не покрытыми. Вообще же он был невзрачен, одет в какую-то домашнюю куртку, или как там назвать одеяние, тесно его облегавшее и доходившее ему чуть ли не до колен. Подойдя, он осмотрел меня и спросил:
— Что вам угодно, любезный сударь?
— Надвигается гроза, — ответил я, — и вскоре она нагрянет сюда. Я путник, как вы видите по моей сумке, и прошу поэтому позволить мне укрыться в этом доме, пока дождь, хотя бы самый сильный, не пройдет.
— Грозы не будет, — сказал незнакомец.
— Она начнется не далее как через час, — возразил я, — я хорошо знаком с этими горами и кое-что смыслю в здешних тучах и грозах.
— А я знаком с местом, где мы стоим, по всей видимости, гораздо дольше, чем вы с этими горами, потому что я намного старше вас, — отвечал он, — смыслю я также в здешних тучах и грозах и знаю, что сегодня на этот дом, на этот сад и на эту местность дождь не прольется.
— Не будем долго обмениваться мнениями насчет того, обойдет ли гроза этот дом или нет, — сказал я. — Если вы не решаетесь отворить мне эту калитку, будьте так добры, позовите хозяина дома.
— Хозяин дома я.
После этих слов я взглянул на незнакомца внимательней. Лицо его тоже, правда, свидетельствовало о почтенном возрасте; но оно показалось мне моложе, чем его волосы, и вообще принадлежало к тем приветливым, приятного цвета, не расплывшимся от возраста лицам, о которых не знаешь, сколько им лет.
После этого я сказал:
— Мне следует, пожалуй, извиниться за то, что я так назойливо настаивал на своем знании здешних мест. Если ваше утверждение, что грозы не будет, равнозначно отказу, я удалюсь тотчас же. Не думайте, что я, человек молодой, так уж боюсь дождя; вымокнуть, конечно, менее приятно, чем остаться сухим, но и не настолько уж неприятно, чтобы из-за этого кого-то обременять. Меня часто застигал дождь, и не беда, если он застигнет меня и сегодня.
— Тут, собственно, два вопроса, — отвечал хозяин дома, — и возразить я должен на оба. Во-первых, вы неверно судили о делах естественных, это объясняется, может быть, тем, что вы недостаточно хорошо знаете здешние условия или не очень внимательны к явлениям природы. Во-вторых, если вы, при грозе или без грозы, хотите посетить этот дом или вам угодно воспользоваться его гостеприимством, милости просим. В этом доме побывало уже немало гостей, и многим он охотно давал приют; и, судя по вашему виду, он охотно приютит и вас, и вы будете его гостем столь долго, сколько найдете нужным. Поэтому, прошу вас, войдите.
С этими словами он нажал на замок на воротах, одна створка отворилась, повернулась на колесике по полукругу железной рельсы и открыла мне проход.
Я помешкал.
— Если грозы не будет, — сказал я, — то у меня, в сущности, нет причины входить; ведь я свернул с дороги и поднялся к этому дому только из-за надвигающейся грозы. Но простите мне, если я еще раз коснусь этого вопроса. Я в некотором роде естествоиспытатель, я много лет занимался наблюдениями за природой, особенно в этих горах, и мой опыт говорит мне, что сегодня над этой местностью и над этим домом разразится гроза.
— Ну, так войдите же наконец, — сказал он, — теперь нам надо вместе подождать, кто из нас окажется прав. Я хоть и не естествоиспытатель и не могу о себе сказать, что занимался естествознанием, но кое-что читал об этих предметах, старался всю жизнь наблюдать за природой и размышлять о прочитанном и увиденном. Вследствие этих усилий я усмотрел сегодня верные признаки того, что тучи, которые еще стоят на западе, которые уже один раз прогромыхали и заставили вас подняться ко мне, не разольются дождем ни над этим домом, ни вообще где-либо. Возможно, когда солнце сядет, они разойдутся и рассеются по небу. Вечером мы, пожалуй, почувствуем ветерок, а завтра, несомненно, день будет ясный. Может, правда, случиться, что упадет несколько тяжелых капель или пройдет небольшой дождик, но никак не над этим холмом.
— Коли так, — ответил я, — то я с удовольствием войду и вместе с вами дождусь решения, которое мне любопытно узнать.
После этих слов я вошел, он запер решетку и сказал, что будет моим вожатым.
Он обвел меня вокруг дома, ибо дверь была в противоположной розам стене. Он провел меня внутрь, предварительно отперев дверь ключом. Войдя, я увидел коридор, вымощенный аммонитным мрамором.
— Этот вход, — сказал он, — собственно, и есть главный. Но мне не хочется портить пол коридора, а потому вход этот всегда заперт, и люди проходят в комнаты через дверь, которую мы увидим, еще раз свернув за угол дома. Из-за пола я должен попросить вас надеть эти войлочные туфли.
Несколько пар желтоватых войлочных туфель стояли сразу за дверью. Никто более, чем я, не мог быть убежден в необходимости беречь такой благородный, такой прекрасный мрамор, и вообще-то великолепный, а тут еще и мастерски вылощенный. Поэтому я надел на свои башмаки пару таких туфель, он сделал то же, и мы пошли по гладкому полу. Коридор, освещенный сверху, привел нас к филенчатой двери. Сняв перед ней войлочные туфли, незнакомец потребовал от меня того же, а когда туфли остались на деревянной приступке, отворил дверь и провел меня в комнату. С виду это была столовая: посередине стоял стол, явно устроенный так, что его можно было увеличивать и уменьшать в зависимости от большего или меньшего числа сотрапезников. Кроме стола, в комнате этой находились только стулья и шкаф, где могла храниться посуда.
— Оставьте здесь, — сказал хозяин, — шляпу, палку и дорожный мешок, затем я отведу вас в другую комнату, где вы сможете отдохнуть.
После того как это было сказано и исполнено, он подошел к широкой циновке и сапожным щеткам у выхода из комнаты и тщательно очистил с их помощью свою обувь и предложил мне последовать его примеру. Я так и поступил, и, когда покончил с этим делом, он открыл другую дверь, тоже коричневую и филенчатую, и через переднюю провел меня в комнату для отдыха, с нею смежную.
— Эта передняя, — сказал он, — собственно, и служит входом в столовую, и входят сюда через другую дверь.
Комната для отдыха оказалась приятным помещением, словно бы предназначенным для того, чтобы пребывать в нем в покое. Ничего, кроме столов и кресел, здесь не было. Но на столах не лежало, как то случается в наших гостиных, никаких книг, рисунков и предметов; доски столов, ничем не покрытые, были на редкость хорошо отполированы и натерты. Они были из темного красного дерева, потемневшего от времени еще больше. Единственным, помимо столов и кресел, предметом мебели была этажерка со множеством отделений, наполненная книгами. На стенах висели гравюры.
— Здесь вы можете отдохнуть, если устали от ходьбы или вообще нуждаетесь в покое, — сказал хозяин, — а я пойду позабочусь, чтобы вам приготовили поесть. Вам придется некоторое время побыть в одиночестве. Книги на этажерке, если вам захочется в них заглянуть, к вашим услугам.
С этими словами он удалился.
Я в самом деле устал и сел.
Усевшись, я понял, почему хозяин, прежде чем войти в эту комнату, так тщательно вычистил свою обувь и пожелал, чтобы я поступил так же. Паркет был здесь прекрасный, какого я никогда прежде ни видел. Это был прямо-таки ковер из дерева. Я не мог им налюбоваться. Из дощечек разного дерева, сохранявших свой естественный цвет, был сложен целостный узор. Будучи благодаря отцовской мебели знаком с такими вещами и кое-что смысля в них, я понял, что все сделано здесь по выполненному в красках эскизу, который и сам-то мне представлялся произведением искусства. Я подумал, что лучше бы мне вообще не вставать и не ходить по этому паркету, тем паче принимая в соображение шипы, которыми были подбиты мои горные башмаки. Да и не было у меня охоты вставать, поскольку покой после долгой ходьбы был мне очень приятен.
И вот я сидел в этом белом доме, куда поднялся, чтобы переждать в нем грозу.
Солнце все еще падало на дом, косо заглядывало в окна комнаты, где я сидел, и ложилось светлыми полосами на прекрасный пол. Через некоторое время мной овладело странное ощущение, которого я сначала не мог себе объяснить. Мне показалось, что я сижу не в комнате, а на воле, в каком-то тихом лесу. Я посмотрел в сторону окон, чтобы объяснить себе это чувство; но окна не дали мне объяснения: я увидел в них небо, местами ясное, местами облачное, а под небом — сад с поднимающимися над зеленой листвой цветами — такую картину я видел уже, наверное, множество раз. Я чувствовал, как меня обдает чистый, свежий воздух. Причина оказалась в том, что окна комнаты были открыты в верхних своих частях. Они открывались не внутрь, как то обычно бывает, а только отодвигались, причем так, что передвинуть можно было в раме то стекло, то легкую вуаль из бело-серого шелка. Когда я находился в той комнате, верх окна закрывала вуаль. Воздух вливался свободно, а мухам и пыли доступа не было.
Хотя чистый воздух и напоминал о вольном просторе, полного объяснения в этом я не нашел. Я заметил и кое-что другое. В комнате, где я находился, не слышно было ни малейшего звука из тех, что во всяком жилом доме, даже в самом тихом, более или менее слышны издали. Это отсутствие домашних шумов хоть и скрывало близость заселенных комнат, но, как и свежий воздух, не могло создать ощущения, что вокруг лес.
Наконец я, кажется, доискался до причины. Я почти непрерывно слышал, как поют наперебой птицы, то близко, то далеко, то тише, то громче. Сосредоточившись на этом наблюдении, я вскоре отметил, что слышу пенье не только тех птиц, что гнездятся вблизи человеческого жилья, но и таких, чьи голоса и щебет были знакомы мне только по лесам и глухим зарослям. Этот ненавязчивый, знакомый мне по походам в горы и действительно не сразу замеченный мною шум и был, по-видимому, главной причиной моего заблуждения, хотя тишина комнаты и чистый воздух тоже ему способствовали. Прислушавшись к этому нестройному щебету, я действительно различил в нем голоса очень редких и всегда живущих в лесной глуши птиц. Это поразительно не соответствовало жилой и благоустроенной комнате.
Но когда я нашел, или решил, что нашел, причину странного ощущения, оно утратило большую часть своей загадочности, а тем самым и приятности.
Стоило мне обратить внимание на пение птиц, я сразу заметил и нечто другое. Когда приближается гроза и воздух тяжелеет от духоты, лесные птицы обычно замолкают. Помню, что в такие минуты я в самых прекрасных, самых густых, самых глухих лесах не слыхал ни малейшего звука, разве что раз-другой стукнет дятел или коротко вскрикнет тот коршун, которого местные жители зовут водолеем. Но даже он умолкает, когда гроза совсем уж близка. Только птицы, живущие рядом с человеком и так же, как он, боящиеся грозы, или те, что гнездятся где-то на вольном просторе и, может быть, восхищаются ее величественным приближением, возвещают ее приход. Так, например, я видел, как ласточки, с их белыми брюшками, кружатся над густыми тучами надвигающейся грозы, и сам слышал их крики, и видел, как взлетают к темным тучам поющие жаворонки. Пение лесных птиц показалось мне дурным знаком для моего предсказания. Не было и никаких признаков начала грозы, которое я, сворачивая с дороги, считал не таким далеким. Солнце еще освещало дом, и блестящие полосы света все еще лежали на прекрасном паркете.
Мой гостеприимец старался, казалось, подольше оставить меня одного, вероятно, чтобы дать мне возможность удобнее отдохнуть; он не возвращался дольше, чем я ожидал после его слов.
Когда сидение перестало доставлять мне то удовольствие, что вначале, я встал на цыпочках, чтобы поберечь пол, прошел к этажерке посмотреть книги. Но там оказались почти одни только поэты. Я нашел тома Гердера, Лессинга, Гёте, Шиллера, переводы Шлегеля и Тика из Шекспира, греческого Одиссея, но и кое-что из риттеровского «Описания земли», из «Истории человечества» Иоганна Мюллера и из сочинений Александра и Вильгельма Гумбольдтов. Отставив поэтов, я взял «Путешествие в тропические страны» Александра Гумбольдта, которое хоть и знал уже, но всегда читал с удовольствием. С книгою я и вернулся к своему креслу.
Я успел не так уж мало прочесть, когда вошел наконец хозяин.
Поскольку его так долго не было, я думал, что он, наверное, переодевается ради гостя из-за своего затрапезного вида. Однако он возвратился в том же платье, в каком стоял передо мной у решетки ворот.
Он не стал извиняться за свою отлучку, а предложил мне, если я отдохнул и не прочь закусить, последовать с ним в столовую, где мне подадут еду.
Я сказал, что и в самом деле отдохнул, но что пришел я лишь попросить укрытия, а не зачем-то еще и уж никак не затем, чтобы обременять кого-то, заставляя кормить себя и поить.
— Вы никого не обременяете, — отвечал он. — Вы должны поесть, тем более что вам придется здесь задержаться, пока не решится дело с грозой. Поскольку полдень уже миновал, а мы обедаем точно в полдень и потом до ужина ничего не подается, вам, чтобы не ждать вечера, накроют особо. А если вы уже обедали и хотите подождать до вечера, то все равно честь дома требует вас угостить. Последуйте же за мною в столовую.
Я положил книгу на соседнее кресло и приготовился выйти.
Но он взял книгу и поставил ее на место.
— Простите, — сказал он, — у нас так заведено: книги, стоящие на этажерке для того, чтобы тому, кто отдыхает или еще почему-либо находится здесь, было при случае или желании что почитать, — книги эти после чтения ставятся на место, чтобы комната сохраняла подобающий ей вид.
Затем он отворил дверь и, пропустив меня вперед, пригласил пройти в знакомую мне столовую.
Когда мы туда вошли, я увидел на прекрасной, белого полотна скатерти только один прибор и рядом с ним на столе варенья, вино, воду и хлеб, а также сосуд с колотым льдом для вина. Своего мешка и своей вырезанной в терновнике палки я не увидел, но шляпа моя лежала на прежнем месте.
Мой провожатый вынул из кармана своего платья серебряный, как я предположил, колокольчик и позвонил. Тотчас появилась служанка и принесла жареную курицу и чудесный, в красных крапинках, кочанный салат. Мой гостеприимец предложил мне сесть и приняться за еду.
Такое любезное приглашение нельзя было не принять. Хотя я в самом деле сегодня уже поел, было это до полудня, и от ходьбы я успел снова проголодаться. Поэтому я отдал должное угощению.
Хозяин подсел ко мне, но ни есть, ни пить не стал.
Когда я, покончив с едой, положил вилку и нож, он предложил мне пройти в сад.
Я согласился.
Он снова позвонил колокольчиком, веля убрать со стола, и повел меня в сад на сей раз не тем коридором, через который мы вошли, а другим, с полом из обыкновенного камня. Теперь на его седых волосах был ажурный чепец, какие надевают на голову детям, как бы ловя их локоны сеткой. Когда мы вышли наружу, я увидел, что, пока я ел, солнце перестало светить на дом, оно было закрыто стеной грозовых туч. Сад, как и всю местность, покрывала теплая, сухая тень, всегда возникающая в таких случаях. Но за то время, что я был в доме, стена туч мало изменилась и не обещала скорого начала дождя.
С первого же взгляда я убедился, что сад за домом очень велик. Но это был не такой сад, какие обычно бывают позади или возле дач горожан, где сажают неплодоносные или разве что декоративные кусты и деревья, а между ними устраивают газоны, песчаные дорожки, холмики и клумбы, нет, этот сад напомнил мне родительский, при доме в предместье. Обширное пространство было отдано здесь фруктовым деревьям, которые, однако, оставляли достаточно места, чтобы между ними могли расти плодоносные или предназначенные лишь для цветения кусты и успевали созревать овощи и распускаться цветы. Цветы росли отчасти на отдельных грядках, отчасти служили ограждением, отчасти находились в таких местах, где могли предстать в полной своей красе. От подобных садов на меня всегда веяло духом домовитости и полезности, тогда как другие, с одной стороны, не дарят дому никаких плодов, а с другой — не суть и лес. Что цветет в пору роз, то цвело и благоухало, и поскольку на небе висели тяжелые тучи, все запахи были еще острей и сильней. А это опять-таки предвещало грозу.
Близ дома находилась теплица. Но с дороги, по которой мы шли, видна она была не в длину, а в ширину. И эта сторона теплицы, частично скрытая кустами, тоже была одета розами и походила на розарий в миниатюре.
Мы шли через сад по просторному проходу, сначала ровному, потом с плавным подъемом.
В саду тоже розы главенствовали. Либо где-нибудь в подходящем месте стояло отдельно деревце, либо по разным направлениям тянулись живые изгороди, либо попадались целые участки, где розы находили особо благоприятные условия для роста и могли радовать глаз. Группа очень темных, почти фиолетовых роз была ограждена изящной решеткой, то ли выделявшей, то ли защищавшей ее. Все цветы, как и перед домом, поражали чистотой и ясностью форм, даже листья отцветших казались еще мощными и здоровыми.
По поводу последнего обстоятельства я сделал какое-то замечание.
— Разве вы никогда не видели старых женщин, — сказал мне мой провожатый, — которые в молодости были очень красивы и долго сохраняли свою красоту? Они подобны этим розам. Даже если лицо у них все в морщинах, оно остается прелестным, и цвет его приятен и мил.
Я ответил, что никогда еще не замечал этого, и мы пошли дальше.
Кроме роз в саду были и другие цветы. В тенистых местах видны были целые грядки аврикул. Они, правда, давно отцвели, но их крепкие зеленые листья свидетельствовали о хорошем уходе. Кое-где попадались одиночные лилии, а в горшках на особой подставке с приспособлениями для защиты цветов от солнца красовались мощные гвоздики. Они еще не расцвели, но по сильно набухшим почкам видно было, что цветы выйдут превосходными. На подставке стояли, по-видимому, только отборные экземпляры: когда мы прошли немного дальше, я увидел рассаду этих цветов на длинных, далеко уходящих грядках. Вообще же здесь росли обычные садовые цветы, одни на грядках, другие на отдельных площадочках, третьи в виде бордюра. Особое предпочтение отдавалось, по-видимому, левкоям: их было множество, большой красоты и самых разных видов. Их аромат приятно веял в воздухе. Даже в горшках видел я эти цветы ухоженными и расставленными по благоприятным местам. Какие тут были луковичные растения, гиацинты, тюльпаны и так далее, я определить не мог, ибо время цветения этих растений давно прошло.
Прошло и время цветущих кустов, и только с зелеными листьями стояли они у дороги или на отведенных им местах.
Овощи занимали дальние, более обширные площадки. Между ними и сбоку от них шли грядки клубники. Земляника казалась особенно ухоженной, многие побеги были подвязаны, и названия сортов значились на жестяных табличках.
Плодовые деревья распределялись по всему саду, мы проходили мимо многих из них. Рядом с ними, но особенно возле многочисленных карликовых деревьев, я тоже видел таблички с названиями.
На многих деревьях я видел деревянные ящички, то на стволе, то в ветвях. У нас в Нагорье любят делать такие домики, чтобы скворцы устраивали в них свои гнезда. Но здешние ящички были иного рода. Я хотел спросить о них, но в ходе разговора забыл об этом.
Когда мы так шли по саду, я снова слышал, особенно возле кустов, те же голоса птиц, что и в гостиной, только теперь яснее и звонче.
И еще одну вещь я заметил, когда мы прошли уже изрядную часть сада: нигде не было видно повреждений от гусениц. Бродя по окрестностям, я такие повреждения, однако, видел, хотя особого внимания на них и не обращал, поскольку ничего чрезвычайного в них не было и для развития плодов они не представляли опасности. Из-за свежих листьев этого сада я вспомнил о гусеницах. Присмотревшись к листве, я нашел, что она здесь и совсем иная, чем где-либо, зеленые листья были больше, темнее, всегда без изъянов, а маленькие яблочки и грушки, из них выглядывавшие, казались совсем здоровыми. Это наблюдение заставило меня приглядеться и к росшей неподалеку от нашей дороги капусте. На ней тоже не было объеденных краев, которые оставляет гусеница капустницы. Листья были целы и хороши. Я решил заговорить об этом при случае со своим провожатым.
Между тем мы дошли до конца посадок, и начался луг, круто поднимавшийся в гору, внизу усаженный деревьями, а выше и дальше — голый.
Мы стали подниматься.
Когда мы забрались довольно высоко и деревья уже не мешали обзору, я приостановился, чтобы оглядеть небо. Остановился и мой провожатый. Тучи висели теперь не только на западе, а везде. Слышали мы и отдаленный гром, повторявшийся то и дело. Мы слышали его то с запада, то с юга, то со стороны, которую определить не могли. Мой гостеприимец был, надо думать, очень уверен в своей правоте; ведь я видел, что работники очень усердно черпали воду из многочисленных колодцев в саду, чтобы направить ее по желобам в водоемы. Видел я уже раньше и работников, наполнявших у водоемов лейки и поливавших грядки. Мне было очень любопытно, чем обернется дело, но я ничего не говорил, и провожатый мой тоже молчал.
После короткой остановки на лугу мы продолжили свой подъем, под конец довольно крутой.
Так достигли мы высшей точки, а с нею и конца сада. Затем шел снова пологий спуск. На этом месте стояла очень высокая вишня, самое высокое дерево сада, а может быть, и самое высокое из плодовых деревьев по всей округе. Ствол этого дерева охватывала деревянная скамья с четырьмя, по числу стран света, столиками перед ней, где можно было отдыхать, озирать окрестности, читать или писать. Отсюда открывался вид почти во все стороны. Я отчетливо вспомнил теперь, что во время своих странствий уже видел это дерево то ли с дороги, то ли откуда-то еще. Оно казалось темной, четкой точкой, венчавшей самое высокое место в округе. Отсюда в ясные дни можно было, наверно, увидеть всю цепь гор на юге, но сейчас их совсем не было видно: все сливалось в сплошную массу грозовых туч. С севера показалась приветливая гряда холмов, за которой, по моему предположению, находился городок Ландег.
Мы присели на скамеечку. Казалось, что мимо этого места невозможно было пройти, не присев, чтобы оглядеться; трава вокруг дерева была вытоптана начисто, так, словно дерево огибала дорожка. По-видимому, на этом месте любили собираться.
Едва мы немного передохнули, я увидел, как из не очень отдаленных кустов кто-то вышел и пошел в нашу сторону. Когда он подошел поближе, я разглядел то ли юношу, то ли мальчика. Пришедший казался порой совсем уже юношей, порой совсем еще мальчиком. На нем была полотняная рубаха в синюю и белую полоску, шейный платок отсутствовал, а голову его покрывали лишь густые каштановые кудри.
Подойдя, он сказал:
— Я вижу, ты занят сейчас посетителем, поэтому я не буду тебе мешать и опять спущусь в сад.
— Хорошо, — сказал мой провожатый.
Отвесив мне быстрый и легкий поклон, мальчик повернулся и ушел туда, откуда пришел.
Мы продолжали сидеть.
На небе между тем мало что изменилось. Так же висели тучи, так же грохотал гром. Только тучи, казалось, стали темнее, и поэтому порой видны были молнии.
Через некоторое время мой провожатый сказал:
— Ваш поход не преследует ведь какой-то цели, с которой задержка на несколько часов, на день или на несколько дней пошла бы вразрез.
— Вы правы, — ответил я, — моя цель — делать, в меру своих сил, научные наблюдения и попутно, что я тоже считаю важным, наслаждаться жизнью на лоне природы.
— Последнее и впрямь важно, — отвечал мой сосед, — и поскольку вы обозначили цель своего похода, вы, конечно, не откажетесь от моего предложения не идти сегодня дальше, а провести ночь в моем доме. Если же вы пожелаете провести у меня и завтрашний день и последующие дни, то это будет зависеть только от вашей воли.
— Я хотел, даже если бы гроза оказалась длительной, еще сегодня отправиться в Рорберг, — сказал я. — Но поскольку вы так любезны к незнакомому путнику, я буду рад провести сегодняшнюю ночь в вашем доме и благодарю вас за это. Что будет завтра, я еще не могу решить, ибо завтрашний день еще не наступил.
— Значит, насчет этой ночи мы договорились, как я сразу и подумал, — сказал мой провожатый. — Вы, наверное, заметили, что вашего мешка и вашего посоха уже не было в столовой, когда вы вошли туда поесть.
— Я действительно заметил это, — отвечал я.
— То и другое я велел отнести в вашу комнату, — сказал он, — потому что предполагал, что вы проведете эту ночь в нашем доме.
4. Приют
Через несколько мгновений хозяин сказал:
— Поскольку вы согласились остаться у меня на ночь, мы можем пройти и подальше, чем это дерево, чтобы вы познакомились с нашей местностью. Если разразится гроза, то мы оба достаточно хорошо знаем ее признаки, чтобы вовремя повернуть и благополучно дойти до дома.
— Так и поступим, — сказал я, и мы поднялись со скамейки.
В нескольких шагах за вишней сад был отгорожен от своего окружения крепким забором. Когда мы подошли к забору, мой провожатый вынул из кармана ключ и открыл калитку, а когда мы вышли, снова запер ее за нами.
За садом начинались поля, засеянные самыми разными злаками. Хлеба, которые вообще-то колышутся при малейшем дуновении, стояли спокойно и ровно, ости колосьев, по которым скользили наши взгляды, как бы светились неподвижным золотисто-зеленым светом.
Через хлеба шла тропка, довольно широкая и сильно вытоптанная. Она шла вдоль холма, не поднимаясь и не опускаясь, а все время оставаясь на самом его верху. По этой тропе мы и двинулись.
С обеих сторон в хлебах багровели маки, их легкие лепестки тоже не шевелились.
Повсюду стрекотали кузнечики; но этот стрекот был как бы другой тишиной и усугублял повсеместное ожидание. По тучам, закрывавшим все небо, иногда пробегал грохот грома, и синие молнии прорезали их темноту.
Мой провожатый спокойно шел рядом со мной, поглаживая время от времени ладонью зеленые колоски. Сняв со своих седых волос сетку, он сунул ее в карман, и его непокрытую голову овевал мягкий воздух.
Наша дорога вывела нас к месту, злаками не засеянному. Это была довольно большая площадка, покрытая короткой травой. На этой площадке тоже оказалась деревянная скамья и стоял средней высоты ясень.
— Я оставил это место пустым в том виде, в каком принял его от своих предшественников, — сказал мой провожатый, — хотя, если его распахать и выкопать дерево, оно за несколько лет дало бы довольно много зерна. Работники отдыхают здесь в полдень и обедают тем, что им приносят в поле. Я велел поставить здесь скамейку, потому что тоже люблю здесь сидеть — правда, лишь для того, чтобы смотреть на жнецов и созерцать торжество полевых работ. В старых привычках есть что-то успокаивающее, успокоительны даже просто прочность и повторяемость. Но есть, видимо, и еще причины, по которым это место не возделывалось и на нем стоит дерево. Тень от ясеня хотя и скудна, но другой здесь нет, поэтому она желанна, и люди, хоть они и грубы, обращают, конечно, внимание на открывающийся отсюда вид. Присядьте рядом и полюбуйтесь тем, что позволяет увидеть сегодня хмурое небо.
Мы сели на скамейку под ясенем лицом к югу. Я увидел внизу косо раскинувшийся зеленым подолом сад.
На конце его я увидел белую северную стену дома, а над ней приветливую красную крышу. От теплицы видны были только крыша и труба.
Дальше на юг окрестность и горы были едва различимы из-за синих теней туч и из-за их синей дымки. На юге виднелась белая башня в Рорберге, а на север шли поля за полями, сначала по нашему холму, за ним по следующему, и так далее, насколько видны были холмы. Между ними проглядывали белые хутора и другие одиночные дома или группы домов. По здешнему обычаю, между полями тянулись ряды плодовых деревьев, а близ домов и деревень деревья эти стояли гуще, как бы лесочками. Я спросил своего соседа насчет домов и насчет хозяев полей.
— Поля к западу от вишни до первого ряда деревьев наши, — сказал он. — Те, через которые мы прошли от вишни досюда, тоже принадлежат нам. Они доходят до тех длинных зданий, которые вы видите внизу, это наши хозяйственные постройки. На север, если вы оглянетесь, поля тянутся до тех лугов с ольшаниками. Луга тоже принадлежат нам и образуют границу наших владений. На юге наши поля доходят до той ограды из боярышника, где вы свернули с дороги. Вы видите, таким образом, что немалая часть этого холма — наши угодья. Мы ограждены собственностью, как другом, чьей верности не поколеблет ничто.
От меня не ускользнуло, что, говоря о собственности, он каждый раз употреблял слова «нам», «наши». Я думал, что он имеет в виду супругу или детей. Мне вспомнился мальчик, увиденный мною, когда мы поднимались сюда: может быть, это его сын.
— Остальная часть холма разделена между тремя хуторами, — заключил он свою речь, — нашими ближайшими соседями. С низин, окружающих холм, за которыми опять идут взгорья, начинаются наши дальние соседи.
— Благодатная, благословенная Богом земля, — сказал я.
— Вы правы, — отвечал он. — Земля и нива — благодать божья. Человек и не представляет себе невероятной, безмерной ценности этих злаков. Исчезни они с нашей части земли, мы погибли бы с голоду при всем нашем прочем богатстве. Кто знает, не потому ли жаркие страны не так густо заселены и не так преуспевают в науке и искусстве, как более холодные, что у них нет хлеба. Вы не поверите, как много зерна дает даже этот холмик. Я как-то потрудился измерить площадь этого холма в возделанной его части, чтобы на основании урожая наших полей и полей соседей подсчитать, какое в среднем количество зерна дает этот холм каждый год. Вы не поверите, какие получились цифры, да и я не представлял себе, что они окажутся такими большими. Если нам угодно, я покажу вам дома свою работу. Я тогда подумал, что злаки — такая же неприметная и постоянная принадлежность жизни, как воздух. О злаках и о воздухе мы долго не рассуждаем, потому что того и другого у нас вдоволь и они везде окружают нас. Спокойное потребление и воспроизводство злаков тянется бесконечной цепью через века и тысячелетия. Везде, где народы являют определенные исторические черты и разумное государственное устройство, мы застаем их уже с хлебом, а пастуха, который живет без тесных общественных связей, но в единстве со своим стадом, кормят не злаки, а их бедные родственники — травы, поддерживающие его бедное опять-таки существование. Извините, однако, что я разглагольствую о травах и злаках, это естественно, ведь я живу среди них, и только на старости лет научился ценить эту благодать.
— Передо мной не за что извиняться, — ответил я, — ведь я целиком разделяю ваш взгляд на злаки, хотя и вырос я в большом городе. Я много наблюдал за этими растениями, много читал о них, правда, больше с точки зрения ботаники, и с тех пор, как провожу изрядную часть года на лоне природы, все лучше и лучше понимаю их важность.
— Вы тем более поняли бы ее, если бы владели землей и особенно если бы разводили на ней эти культуры.
— Мои родители живут в городе, — отвечал я, — мой отец занимается торговлей, и кроме сада, никакой земли ни у него, ни у меня нет.
— Это очень важно, — сказал он, — в полной мере оценить эти культуры может лишь тот, кто их разводит.
Мы помолчали.
Я видел, что у его хозяйственных построек хлопочут люди. Одни ходили у ворот, занятые домашними работами, другие косили траву на ближайшем лугу, а часть провозила через ворота высоко нагруженные возы с высушенным за день сеном. Из-за большого расстояния я не мог различить подробности этих работ и разглядеть, как построены и устроены службы.
— Назвать вам, как вы просили, чьи там дома и поля, — продолжил он через несколько мгновений, — довольно трудно, особенно сегодня. Вообще-то с этого места большую часть соседей можно увидеть. Но сегодня из-за туч не видны не только горы, но и те белые точки в низине, что обозначают дома, о которых мне хотелось бы упомянуть. С другой стороны, этих людей вы не знаете. Вам следовало бы, собственно, побродить, пожить в этих местах, чтобы они что-то говорили вашей душе и вы понимали их жителей. Может быть, вы придете еще раз и погостите у нас подольше, а может быть, продлите теперешнюю свою задержку. А сейчас я скажу вам несколько общих слов, а из частностей прибавлю то, что может представлять для вас интерес. На это место я часто прихожу из-за соседей. Ведь помимо того, что здесь наверху всегда, даже в самые жаркие дни, дует прохладный ветерок, помимо того, что здесь я нахожусь среди своих работников, отсюда я вижу всех, кто меня окружает, а это наводит меня на всякие мысли, я размышляю, чем могу быть им полезен и как вообще сделать все лучше. В целом это необразованные, но не тупые люди, надо только принимать их такими, каковы они есть, и не торопиться переделывать их. Тогда они обычно и добронравны. Я многое перенял от них душой и способствовал многим их внешним выгодам. Они следуют тому, что говорит их долгий собственный опыт. Не надо только опускать руки. Сначала они высмеивали меня, а в конце концов начали подражать мне. Во многом они и сейчас меня высмеивают, и я это сношу. Эта дорога через мои поля короче другой, и когда я сижу здесь на скамейке, кто-нибудь обычно проходит мимо, останавливается, говорит со мной, я даю ему советы и чему-то учусь у него. Мои поля приносят уже больший урожай, чем у них, они это видят, и это для них самая веская причина задуматься. Только луг, лежащий у нас за спиной, лежащий ниже полей и орошаемый ручейком, мне не удалось улучшить, как я хотел: его еще портят кусты и пни ольхи, окаймляющие ручей и превращающие иные места в болото: но существенно поправить дело я не могу, потому что кусты и пни ольхи нужны мне для других целей.
Чтобы отвлечься от моего вопроса о разных его соседях, на который он, как я теперь понял, ответить не мог, во всяком случае, ответить так, как вопрос был поставлен, я спросил его, не входит ли в его имение и участок леса.
— Входит, — отвечал мой провожатый, — хоть он расположен не так близко, как того можно было пожелать ради удобства, однако же и достаточно далеко, чтобы не портить этот прелестный холм. Если бы вы продолжили путь в Рорберг, вместо того чтобы подняться к нашему дому, то, прошагав полчаса, вы увидели бы справа у самой дороги клин букового леса, который она огибает. Клин этот круто поднимается, расширяясь сзади, куда заглянуть с дороги нельзя, и принадлежит лесу, уходящему далеко назад. Отсюда видна большая его часть. Вон там, слева от поля, где заколосился ячмень.
— Я довольно хорошо знаю этот лес, — сказал я, — он обвивает взгорок и примыкает к дороге лишь одним краем; но, войдя в него видишь, какой он большой. Это Алицкий лес. Там растут могучие буки и клены, примешавшись к елям. За ним Алиц впадает в Аггер. По обоим берегам Алица — высокие скалы с редкими лекарственными травами, а оттуда на юг, к долине, идет полоса мощнейших буков.
— Вы знаете этот лес, — сказал он.
— Да, — ответил я, — я уже бывал в нем. Я зарисовал там самый большой бук, который когда-либо видел, собирал там растения и камни и осматривал скалы.
— Та полоса леса, где растут мощные буки, и еще большая часть того леса относятся к этому имению, — сказал мой гостеприимец. — Нам принадлежит и горка, дальше к лугу, с кривоствольными березками, которые на дрова не годятся, но дают материал для всяких поделок.
— Эту горку я тоже знаю, — сказал я, — там кончается гранит, из которого состоит вся северная часть нашего края, и начинается известняк, образующий наконец высокие горы на южной его границе.
— Да, эта горка — самая южная гранитная глыба, — сказал мой провожатый, — она образует и перекаты в реках. Несмотря на дымку, мы видим кое-где контур гранита.
Вон Кламшпитце, — добавил он, — где еще есть гранит, правее Гаисбюль, затем видны еще Ассер, Лозен и, наконец, Грумхаут.
Со всем этим я согласился.
Между тем приближался вечер, день шел на убыль.
Тучи на небе прямо-таки поражали меня.
Поднимаясь на холм к белому дому, чтобы найти пристанище, я ожидал, что вот-вот хлынет ливень, но прошло несколько часов, а дождя так и не было. Тучи на небе не шевелились. Их пелена в некоторых местах совсем потемнела, и там то выше, то ниже вспыхивали молнии. За ними спокойными тяжелыми раскатами следовал гром: но в пелене туч не видно было никаких грозовых сгустков, и дождь даже не собирался идти.
Наконец я сказал своему соседу, указав на работников, косивших сено в низине, где находились службы:
— Они, кажется, не ждут ни грозы, ни обычного за ней дождя, они косят траву, которую то ли вымочит сильный дождь ночью, то ли высушит завтра и превратит в сено жаркое солнце.
— Они думать не думают о погоде, — сказал мой провожатый, — и косят сено только потому, что я так распорядился.
Это были единственные слова, сказанные им о погоде. Повода для других высказываний я и не дал ему.
Посидев, мы не пошли дальше; когда мы поднялись, мой провожатый повернул в сторону дома. Мы пошли той же дорогой обратно.
Гром гремел даже громче, раздаваясь то там, то тут. Когда мы вошли в сад, когда мой провожатый запер за нами калитку и когда мы стали спускаться от большой вишни вниз, он сказал мне:
— Позвольте мне позвать мальчика и кое-что приказать ему.
Я тотчас согласился, и он крикнул куда-то в кусты:
— Густав!
Мальчик, которого я видел, когда мы поднимались, вышел из кустов почти там же, где и появился в тот раз. Поскольку теперь он стоял перед нами дольше, я смог хорошенько его разглядеть. Лицо его показалось мне очень розовым и красивым, особенно располагали к себе большие черные глаза под каштановыми кудрями, замеченными мною и раньше.
— Густав, — сказал мой провожатый, — если ты хочешь побыть еще за своим столом или вообще где-либо в саду, то помни, что я сказал тебе о грозе. Поскольку тучами покрыто все небо, неизвестно, ударит ли вообще в землю молния и где именно. Поэтому не задерживайся под высокими деревьями. А находиться здесь можешь сколько угодно. Этот господин останется сегодня у нас, и к ужину приходи в столовую.
— Хорошо, — сказал мальчик и, поклонившись, ушел по песчаной дорожке в кусты.
— Этот мальчик — мой приемный сын, — сказал хозяин, — он привык в эти часы гулять со мной, потому он и поднялся к нам из-за своего рабочего стола, ища меня, когда мы сидели у вишни. Но, увидев со мной незнакомого человека, он вернулся на свое место.
Привыкши к простому, последовательному словоупотреблению, я сейчас снова отметил, что, говоря о своих полях, мой провожатый употреблял слово «наши», а ведь если бы он подразумевал и свою супругу, ему и теперь пристало бы употребить слово «наш».
Спустившись с лужайки в сад, мы пошли по нему другой, чем когда поднимались, дорожкой.
На этой дорожке я увидел, что хозяин сада выращивал в нем и виноградные лозы, хотя здешняя земля для этого растения не вполне подходила. Было возведено несколько специальных темных стенок, по которым вились вверх направляемые деревянными решетками лозы. Другие стенки служили заслонами от ветров. Только в полдень эти места бывали открыты. Так и тепло накапливалось, и лозы были защищены. Выращивал он на той же лужайке и персики, судя по листьям, очень благородных сортов.
Мы проходили здесь мимо высоких лип, и вблизи от них я заметил улей.
От теплицы я на обратном пути увидел только, надо полагать, продольную стену, никаких подробностей я разглядеть не мог, потому что мой провожатый не свернул к ней. Просить об этом особо не хотелось: я предполагал, что он поведет меня к своей семье.
Когда мы подошли к дому, он провел меня через общий вход по обыкновенной каменной лестнице на второй этаж и пошел вместе со мной по коридору со множеством дверей. Отперев одну из них ключом, который был у него уже наготове, он сказал:
— Это ваша комната на то время, что вы пробудете в нашем доме. Вы можете сейчас остаться в ней или покинуть ее, как вам угодно. Только в восемь часов вы должны снова быть здесь, в это время вас отведут ужинать. Теперь я должен оставить вас. В гостиной вы читали сегодня «Путешествия» Гумбольдта. Я велел отнести эту книгу в вашу комнату. Если вам нужна сейчас или на вечер еще какая-либо книга, назовите ее, чтобы я посмотрел, есть ли она в моем собрании.
Я отказался от этого предложения, сказав, что доволен и тем, что есть, а если захочу заняться другими сочинениями, кроме Гумбольдта, то в сумке у меня кое-что найдется, чтобы пописать карандашом или просмотреть и поправить написанное ранее, чем я во время своих странствий часто занимаюсь по вечерам.
После этих слов он удалился, а я вошел в комнату.
Я окинул ее одним взглядом. То была обычная комната для гостей, какие имеются в каждом большом сельском доме, где порой приходится предоставлять кров посетителям. Мебель здесь была не новая и не в том вкусе, который тогда господствовал, а разных времен, однако довольно приятного вида. Кресла и кровать были обтянуты тисненой кожей, что тогда уже редко встречалось. Приятное дополнение, не частое в таких комнатах, составляли старинные часы с маятником на ходу. Мои сумка и палка, как и сказал хозяин, уже лежали здесь.
Я сел, взял вскоре свою сумку, открыл ее и стал листать вынутые оттуда бумаги и делать заметки в них.
Наконец стемнело, я встал, подошел к одному из двух открытых окон, высунулся и огляделся. Передо мной были снова хлеба на плавно спускающемся холме. Утром этого дня, покинув свой ночлег, я тоже видел вокруг себя хлеба; но те ходили веселыми волнами, а эти стояли недвижно, нестройным полчищем копий. Перед домом была песчаная площадка, которую я уже видел, когда пришел, и где уже побывал. Мои окна выходили, стало быть, на сторону стены с розами. Из сада еще доносился слабый щебет птиц, и благоухание тысяч роз поднималось ко мне жертвенным воскурением.
На небе, померкшем сегодня гораздо раньше, произошла перемена. Покрывало туч разделилось, тучи стояли отдельными клубами, как горы на небосводе, и между ними проглядывало чистое небо. Молнии, однако, сверкали сильнее и чаще, гром гремел звонче и короче.
Простояв некоторое время у окна, я услышал стук в мою дверь, вошла служанка и сообщила, что меня ждут к ужину. Я сложил свои бумаги на тумбочке у моей кровати, прикрыл их Гумбольдтом и последовал за служанкой, предварительно заперев дверь. Она повела меня в столовую.
Войдя туда, я увидел трех человек: старика, с которым я совершил прогулку, другого, тоже старообразного человека, ничем особенно не примечательного, кроме одежды, которая выдавала в нем священника, и приемного сына в его полотняной, в синюю полоску, рубашке.
Хозяин дома представил мне священника, сказав:
— Это его преподобие рорбергский священник, который боится грозы и потому проведет эту ночь в нашем доме, — а затем, указав на меня, прибавил: — А это незнакомый путник, который тоже разделит сегодня с нами наш кров.
После этих слов и короткой немой молитвы мы сели за стол на указанные нам места. Ужин был очень простой. Он состоял из супа, жаркого и вина, к которому, как во время моей обеденной трапезы, был подан колотый лед. Обслуживала нас та же служанка, что принесла мне обед. Слуга-мужчина в комнату не входил. Священник и мой гостеприимец, говорили о вещах, касавшихся этой местности, а меня втягивали в разговор тогда, когда заходила речь об общих предметах. Мальчик вообще молчал.
Стемнело наконец настолько, что свечи, боровшиеся прежде с сумраком, теперь совсем взяли верх, а черные окна лишь временами освещались вспышками молний.
Когда ужин кончился и мы приготовились разойтись, хозяин сказал, что проведет священника и меня в наши комнаты более близкой лестницей. Мы взяли по восковой свече, которые подала нам служанка зажженными, а мальчик Густав попрощался и ушел через обычную дверь. Нас же хозяин вывел через ту дверь, в которую я вошел поначалу. Мы вышли в прекрасный мраморный коридор, откуда вела наверх такая же мраморная лестница. Нам не нужно было надевать войлочных туфель, потому что теперь в коридоре и на лестнице лежали половики, по которым мы и прошли. В середине лестницы, где она прерывалась, образуя как бы расширение или площадку, стояла на подставке фигура из белого мрамора. Благодаря нескольким молниям, как раз теперь окрасившим голову и плечи мраморного изваяния еще краснее, чем то могли сделать наши свечи, я углядел, что на площадку и на лестницу свет должен падать сверху через стеклянный потолок.
Когда мы дошли до конца лестницы, хозяин повел нас через дверь налево, и мы оказались в коридоре, где находилась моя комната. Это был коридор комнат для гостей, как я решил. Наш гостеприимец указал священнику его комнату и повел меня в мою.
Когда мы вошли в нее, он спросил, не нужно ли для моего удобства еще чего-либо, в частности, книг из его библиотеки.
На мои слова, что ничего мне не нужно и что я найду чем заняться до отхода ко сну, он ответил:
— Ваша комната, ваше право. Приятно почивать.
— Спокойной ночи и вам, — ответил я, — и спасибо за хлопоты, которые я вам доставил.
— Никаких хлопот и не было, — возразил он, — а то ведь я мог бы и избежать их, вообще не предложив вам переночевать у меня.
— Справедливо, — отвечал я.
— Позвольте, — сказал он, достав восковой огарок и зажигая его от моей свечи.
Покончив с этим делом, он поклонился, я ответил поклоном, и он вышел в коридор.
Я запер за ним дверь, снял сюртук и ослабил шейный платок, потому что, несмотря на поздний час, спокойная ночь дышала все еще жаром и духотой. Я походил по комнате взад-вперед, затем подошел к окну, высунулся в него и поглядел на небо. Насколько можно было различить в темноте при все еще вспыхивающих молниях, все обстояло так же, как вечером перед ужином. В разрывах туч проглядывало, как показывали звезды, чистое небо. Временами над нивами холма и над вершинами деревьев пролетала молния, а за нею катился гром.
Надышавшись свежим воздухом, я закрыл сначала свое окно, затем другое и улегся.
Я но привычке некоторое время почитал лежа, внося карандашом кое-какие пометки в свои бумаги, потом задул свечу и постарался уснуть.
Не совсем еще погрузившись в сон, я услышал, как на дворе поднялся ветер и громко зашумел в вершинах деревьев. Но у меня уже не было сил взбодриться, и я сразу заснул.
Спал я довольно спокойно и крепко.
Когда я проснулся, первым моим делом было посмотреть, шел ли дождь. Я вскочил с постели и распахнул окна. Солнце уже взошло, небо было сплошь ясное, безветрие не нарушалось ничем, в саду заливались птицы, розы благоухали. Только на зелень дернового ограждения намело немного песку, и работник сейчас сметал его, надлежаще выравнивая.
Противник мой, стало быть, оказался прав, и мне было любопытно узнать, из каких источников черпал он свою уверенность, в которой был так тверд, и как обнаружил, как исследовал эти источники.
Чтобы поскорей это узнать и не задерживаться в гостях, я решил одеться и без промедления повидаться с хозяином.
Одевшись и спустившись в столовую, я застал там служанку, занятую приготовлениями к завтраку, и спросил у нее, где хозяин.
— Он в саду на птичьей площадке, — сказала она.
— А где эта птичья площадка, как ты ее называешь? — спросил я.
— Сразу же за домом, недалеко от теплиц, — отвечала она.
Я вышел и направился к теплице.
Перед ней, на песчаной площадке, я нашел своего гостеприимца. Это была та же площадка, откуда я вчера видел узкую сторону теплицы и ее низкую дымовую трубу. Эта сторона была одета розами, отчего вся постройка казалась как бы вторым, маленьким домиком роз. Хозяин был занят странным делом. На песке перед ним находилось несметное количество птиц. В руке у него было что-то похожее на продолговатую плетеную крышку корзины, откуда он брал корм и бросал его птицам. Казалось, он наслаждался тем, как они клевали, как перелетали друг через друга, толкались, клохтали, как улетали насытившиеся и налетали все новые. Теперь я воочию увидел, что кроме обычных садовых птиц тут были и такие, которых я знал только по глухим лесным чащам. Они вовсе не казались такими робкими, как я по праву мог полагать. Они доверяли кормившему их совершенно. Он стоял опять с непокрытой головой, и мне показалось, что такой обычай в его вкусе, поскольку и вчера, на прогулке, он свой легкий головной убор спрятал в карман. Стоял он, наклонившись вперед, и прямые, но густые седые волосы свисали у него на висках вниз. Одет он и сегодня был странно. На нем, как и вчера, было подобие куртки, доходившей ему почти до колен. Куртка была светлая, но по груди и спине шла вниз красновато-коричневая полоса шириною почти в полфута, словно куртка была сшита из двух материй, белой и красной. Обе материи, однако, выдавали свой преклонный возраст: белая стала желтовато-коричневой, а красная — коричневато-багровой. Под курткой видны были неказистые чулки и башмаки с пряжками.
Я остановился на некотором расстоянии у него за спиной, чтобы не мешать ему и не спугнуть птиц.
Когда он опустошил свою корзинку и гости его улетели, я подошел ближе. Он как раз повернулся, чтобы уйти домой, и, увидев меня, сказал:
— Вы уже вышли? Надеюсь, вы хорошо спали?
— Да, я очень хорошо спал, — отвечал я, — я еще слышал ветер, который поднялся вчера вечером, а что было дальше — не знаю. Знаю только, что земля сегодня сухая и что вы оказались правы.
— Думаю, что на эту местность не упало ни капли, — ответил он.
— Судя по виду земли, так оно и есть, — сказал я, — но откройте мне теперь, хотя бы отчасти, откуда вы это знали и как обрели такое знание. Ведь признайтесь, что множество признаков было не в вашу пользу.
— Я вам вот что скажу, — отвечал он. — Объяснение, которого вы требуете, — дело довольно долгое, ведь с вами, человеком, который занимается науками, я не могу говорить поверхностно. Обещайте мне задержаться у нас еще на сутки, и я расскажу вам не только это, но и многое другое, а вы расскажете мне о своей науке.
Этого предложения, сделанного открыто и любезно, я не мог отклонить, да и мое время позволяло мне отдать постороннему занятию даже не один день, а несколько дней. Я прибег поэтому к обычной фразе о нежелании быть в тягость и принял приглашение с такой оговоркой.
— Пойдемте же сначала к утренней трапезе, которую я разделю с вами, — сказал он. — Господин священник из Рорберга покинул нас уже чуть свет, чтобы вовремя быть у себя в церкви, а Густав уже пошел работать.
С этими словами мы повернули к дому. Когда мы пришли туда, он отдал то, что я принял было за крышку корзинки, но что оказалось специально сплетенной, очень плоской и продолговатой корзиночкой для корма, служанке, чтобы та положила ее на место, и мы отправились в столовую.
За завтраком я сказал:
— Вы сами говорили о том, что я мог бы многое здесь увидеть. Не будет ли слишком нескромно с моей стороны попросить разрешения поподробнее осмотреть дом и его окрестности? Имение это расположено чудесно, и я уже увидел здесь так много достопримечательного, что вполне естественно мое желание продолжить осмотр.
— Если вам доставит удовольствие осмотреть наш дом и его достопримечательности, — ответил он, — то это можно сделать сразу после завтрака, много времени на это не потребуется, поскольку здание не так велико. Тогда, кстати, и то, о чем нам надо поговорить, окажется естественней и понятней.
— Да, конечно, — сказал я, — это для меня удовольствие.
После трапезы мы приступили к делу.
Он повел меня вверх по лестнице, на которой стояла мраморная фигура. Вместо красиво рассеянного света свечей и молний, освещавшего ее минувшей ночью, на нее падал сегодня тихий белый дневной свет, от которого ее плечи и голова мягко поблескивали. Не только ступеньки были в этой лестничной клетке из мрамора, но и облицовка стен. Кровлей служило выпуклое стекло, обтянутое тонкой проволокой. Когда мы взошли наверх, мой гостеприимец отворил дверь, противоположную той, что вела в коридор, где находились комнаты для гостей. Дверь эта выходила в большой зал. На пороге, где кончался поднимавшийся по лестнице половик, снова стояли войлочные туфли. Надев их, мы вошли в зал. Это была коллекция мрамора. Пол был сложен из самого красочного мрамора, какой только можно найти в наших горах. Плиты прилегали друг к другу так плотно, что зазоров почти не было видно, мрамор был очень гладко отшлифован, а краски подобраны таким образом, что пол походил на картинку. К тому же он блестел и мерцал от лившегося в окна света. Стены были простых, мягких цветов. Цоколь был зеленоватый, панели — из самого светлого, почти белого мрамора, какой есть в наших горах, пилястры — чуть красноватые, а карнизы между стенами и потолком — снова из зеленоватого и белого мрамора, через который золотыми поясками пробегали полоски желтого. Потолок был бледно-серый, и не из мрамора, только посредине была подборка из красных аммонитов, откуда спускался металлический стержень, державший на крестовине четыре темных, почти черных мраморных светильника, которые должны были освещать это помещение в темное время суток. В зале не было ни картин, ни стульев, ни какой-либо мебели, только в трех стенах было по двери прекрасного темного дерева, а в четвертой — три окна, освещавшие этот зал днем. Два из них были открыты, и вместе с блеском мрамора зал наполняло благоухание роз.
Я выразил свое восхищение таким убранством; старика мое одобрение явно обрадовало, но он не стал распространяться на этот счет.
Из этого зала он вывел меня через одну из дверей в комнату, окна которой выходили в сад.
— Это в некотором роде мой кабинет, — сказал он, — здесь, кроме как рано утром, мало солнца и поэтому летом приятно. Я люблю здесь читать, писать или заниматься еще чем-либо, что вызывает у меня интерес.
Я сразу же, и даже с какой-то тоской подумал о своем отце, как только вошел в эту комнату. В ней мрамора не было и в помине, она походила на наши обычные покои; но обставлена она была старинной мебелью, какую приобретал и любил мой отец. Только мебель показалась мне такой красивой, какой я еще никогда в жизни не видел. Я поведал своему гостеприимцу о пристрастии отца и вкратце рассказал ему о вещах, у того имевшихся. Я попросил также разрешения рассмотреть эти предметы как следует, чтобы по возвращении рассказать о них отцу и хотя бы кое-как описать их. Мой провожатый очень охотно ответил согласием. Внимание мое привлекла прежде всего конторка, потому что она была не только самым большим в комнате, но, вероятно, и самым красивым предметом. Опершись на землю нижней частью голов и устремив вверх свои извивающиеся тела, четыре дельфина поддерживали этими извивающимися телами корпус конторки. Я решил было, что дельфины сделаны из металла, но мой провожатый сказал, что они вырезаны из липы и на средневековый манер отделаны под желтовато-зеленоватый металл; такая обработка дерева теперь забыта. Корпус конторки был со всех сторон закруглен и имел шесть ящиков. Над ними находилась средняя часть, отступавшая назад пологим, красивым изгибом и содержавшая откидную крышку для письма. Над средней частью поднималась насадка с двенадцатью изогнутыми ящичками и дверцей посредине. У ребер насадки и по обе стороны дверцы стояли в виде столпов позолоченные фигуры. Две самые большие по бокам дверцы изображали силачей, поддерживающих главный карниз. Щитки у них на груди прикрывали замочные скважины. Две фигуры у передних боковых ребер были морские девы, имевшие, в соответствии с опорами в виде дельфинов, рыбьи хвосты. Две фигуры у задних боковых ребер были девы в складчатых одеждах. Все тела — и рыб, и столпов — показались мне сделанными очень естественно. На ящичках были золоченые ручки, за которые они выдвигались. На восьмиугольных плоскостях этих ручек были выгравированы воины в латах или нарядные женщины. Облицовка конторки была сплошь в инкрустациях. Кленовые листья на темном поле ореха, а вокруг извивы лент и ольховое, в подпалинах дерево. Ленты были словно из мятого шелка, это объяснялось тем, что они состояли из тонких полосочек розового дерева разных цветов, выложенных по оси вертикально. Инкрустации были помещены не только, как то свойственно такой мебели, на видных местах, спереди, но и на боковых частях и на фризах столпов.
Стоя рядом со мной, когда я рассматривал эту конторку, мой провожатый многое мне показывал и по моей просьбе объяснял непонятное.
Находясь в этой комнате, я сделал и другое наблюдение, наведшее меня на раздумья. Одежда моего провожатого уже не виделась мне такой странной, какой предстала вчера да и сегодня на птичьей площадке. Рядом с этой мебелью она показалась мне сообразной, уместной, и я подумал, что, может быть, еще одобрю такую одежду и что старик в этом отношении разумнее меня.
Кроме конторки, мое внимание привлекли два письменных стола, одинаковые по величине и по форме, но отличавшиеся друг от друга только видом доски. На обеих досках красовались гербы, какие бывали у рыцарей и аристократов, только гербы эти не были одинаковы. На обоих столах они были окружены и оплетены узором из листьев, цветов и растений, и нигде я не видел более тонких, чем здесь, нитей стеблей, усиков и колосьев, хотя они были инкрустациями из дерева. Остальная мебель состояла из кресел с высокими спинками, с резьбой, плетениями и инкрустациями, двух резных скамей, какие в средние века называли «гезидель», резных знамен с картинками и, наконец, двух ширм тисненой кожи с аппликациями в виде цветов, плодов, животных, мальчиков и ангелов из крашеного серебра, которое выглядело как червонное золото. Пол комнаты, подобно мебели, был выложен старинными инкрустациями. Вероятно, из-за красоты этого пола мы оставались, войдя сюда, в войлочных туфлях.
Хотя старик сказал, что эта комната — его кабинет, никаких непосредственных следов работы не было видно. Все, казалось, заперли в ящик или положили на место.
И здесь, когда я высказал свою радость от вида этой комнаты, мой провожатый был, как и в мраморном зале, не очень словоохотлив; но мне все-таки показалось, что на лице его выразилось удовольствие.
Следующая комната имела тоже старинный вид. Она также выходила окнами в сад. Пол здесь был, как и в предыдущей, с инкрустациями, но на нем стояло три платяных шкафа, и комната эта представляла собой гардеробную. Шкафы были большие, со старинными инкрустациями, каждый с двумя двустворчатами дверями. Они показались мне хоть и менее красивыми, чем конторка в предыдущей комнате, но тоже вещами большой красоты, особенно средний, самый большой, с золоченым венцом и очень красивыми узорами из гербов, листьев и лент на вогнутых дверях. Кроме шкафов, здесь были только стулья и стойка с крючками для платья. Внутренняя сторона дверей этой комнаты соответствовала мебели, будучи тоже украшена инкрустациями и карнизами.
Выйдя из этой комнаты, мы сняли войлочные туфли.
Следующая комната, тоже выходящая окнами в сад, была спальня. Мебель была здесь нового образца, но не совсем того вида, к какому я привык в городе. Прежде всего, кажется, здесь принимали в соображение целесообразность. Кровать стояла посреди комнаты и была окружена плотными занавесками. Она была очень низкая, и рядом находился лишь столик, на котором располагались книги, светильник с колпачком и принадлежности для зажигания огня. Еще была здесь обычная для спальни утварь, особенно такая, которая помогает раздеваться, одеваться и умываться. Внутренняя сторона дверей здесь тоже соответствовала убранству.
К спальне примыкала комната с приспособлениями для научных занятий, особенно для естественных наук. Я увидел новейшие инструменты естествознания, изготовителей которых я знал либо лично по встречам в городе, либо по фамилии, если инструменты были из других мест. Здесь имелись инструменты из самых главных областей естествознания. Были здесь естествоведческие коллекции, преимущественно из царства минералов. Между приборами и у стен было достаточно места, чтобы ставить опыты с помощью этих приспособлений. Комната опять-таки выходила окнами в сад.
Наконец мы пришли в угловую комнату дома, окна которой глядели отчасти на главный массив сада, отчасти на северо-запад. Назначения этой комнаты угадать я, однако, не мог, такой она показалась мне странной. У стен стояли шкафы лощеного дуба со множеством ящичков. На ящичках имелись надписи, какие бывают в бакалейных лавках или аптеках. Некоторые надписи я понял, то были названия семян или растений. Но большинства я не понимал. Ни стульев, ни какой-либо другой мебели в комнате не было. Перед окнами были прикреплены полочки, вроде тех, на какие ставят горшки с цветами, но никаких горшков на них я не увидел, да и при ближайшем рассмотрении оказалось, что они слишком непрочны, чтобы выдержать тяжесть горшков. Таковые к тому же наверняка стояли бы здесь, если бы полки предназначались для них, ибо во всех комнатах за исключением мраморного зала на каждом более или менее подходящем месте я видел расставленные цветы.
Я не стал спрашивать своего провожатого о назначении этой комнаты, и он тоже по этому поводу ничего не сказал.
Тут мы снова вышли к покоям, расположенным на южной стороне дома и глядевшим на песчаную площадку и на поля.
Первым из них после угловой комнаты была библиотека. Комната эта была большая, просторная и полна книг. Шкафы здесь были не такие высокие, какие обычно бывают в библиотеках, а как раз такой высоты, чтобы легко было дотянуться до самых верхних книг. И глубины эти шкафы были такой, чтобы книги стояли только в один ряд, ни одна из них не закрывала другую, и корешки всех до одной были видны. Никакой мебели в этой комнате, кроме длинного стола для книг, не было. В его ящике хранились каталоги. При этом общем осмотре дома мы не касались вопроса о содержании имеющихся книг.
Рядом с библиотекой находилась комната для чтения. Она была маленькая, с одним только окном, которое, в отличие от всех других в доме, украшали зеленые шелковые занавески, тогда как на остальных были подъемные шторы серого шелка. У стен стояли всевозможные стулья, кресла, столы и пюпитры — для удобства читателей. Посредине, как и в библиотеке, стоял большой не то стол, не то шкаф — ибо в нем было много ящиков, — на котором можно было разложить таблицы, папки, географические карты и тому подобное. В ящиках лежали гравюры на меди. Мне бросилось в глаза, что нигде здесь не было книг или чего-либо, что напоминало бы о назначении этой комнаты.
За читальным покоем последовала снова большая комната, стены которой были покрыты картинами. Картины, сплошь в золотых рамах, представляли собой исключительно подлинники и висели не выше, чем то было удобно для их осмотра. А висели они так тесно, что между ними не проглядывало ни кусочка стены. Мебель состояла здесь из множества стульев и мольберта, на который можно было ставить картину, чтобы лучше ее рассмотреть. Это устройство напомнило мне картинную моего отца.
Картинная вела назад в мраморный зал через его третью дверь, и таким образом мы завершили круг этих покоев.
— Таково мое жилище, — сказал мой провожатый, — оно невелико и ничем не замечательно, но очень приятно. В другом крыле дома находятся комнаты для гостей, почти все они похожи на ту, в которой вы провели эту ночь. Там же и жилье Густава, но туда мы не будем заходить, чтобы не мешать его учению. Через зал и по лестнице мы можем теперь снова выйти на воздух.
Пройдя через зал, спустившись по лестнице и подойдя к выходу из дома, мы сняли войлочные туфли, и мой провожатый сказал:
— Вы, наверное, удивлены тем, что в моем доме есть места, где приходится затруднять себя надеванием подобных туфель. Но иначе, право, нельзя, ибо полы слишком чувствительны, чтобы по ним можно было ходить в обычных башмаках, да и места с такими полами предназначены, собственно, не для жилья, а лишь для осмотра, а осмотр даже ценишь больше, когда платишь за него какими-то неудобствами. В этих комнатах я обычно ношу мягкие башмаки с шерстяными подошвами. В свой кабинет я могу пройти и напрямик, не через зал, как мы это сделали сейчас, с первого этажа туда ведет коридор, которого вы не видели, потому что оба его конца закрыты хорошо спрятанными в обоях дверями. Рорбергский священник страдает подагрой, поэтому для него, когда он здесь бывает, я покрываю полы и лестницы шерстяными половиками, как вы вчера видели.
Я отвечал, что это средство очень целесообразно и что его следовало бы применять везде, где есть полы, имеющие художественную или еще какую-либо ценность.
Когда мы были уже в саду, я сказал, оглянувшись на дом:
— Вы не правы, говоря, что ваше жилье ничем не замечательно. Насколько я могу судить после короткого осмотра, таких, как оно, не очень-то много. Да и не думал я, глядя на ваш дом с дороги, что он такой просторный.
— Тогда я должен показать вам и еще кое-что, — ответил он, — пройдите за мной в эти кусты.
С этими словами он пошел вперед, я последовал за ним. Он направился к густым кустам. Когда мы дошли до них, он стал пробираться сквозь заросли по узкой тропинке. Наконец на нашей дороге появились даже высокие деревья. Через некоторое время перед нами открылась прелестная лужайка, где тоже стоял дом, длинный, одноэтажный. Его многочисленные окна смотрели на нас. Этого дома я прежде не видел, ни с дороги, ни с тех мест сада, где уже был. Виною тому были, наверное, обступавшие дом деревья. Когда мы подходили к дому, из трубы его поднимался дымок, хотя стояло лето, топить было не время, и поскольку до полудня было еще далеко, приготовление пищи тоже не могло служить причиной тому. Когда мы подошли ближе, я услышал в доме какой-то скрип, какое-то скольженье, словно там что-то пилили или строгали. А уж войдя, я и впрямь увидел столярную мастерскую, где кипела работа. У окон, дававших много света, стояли верстаки, а к остальным стенам, без окон, были прислонены части находившихся в работе изделий. Во всем этом я тоже нашел некое сходство со своим отцом. Если тот пристроил одного молодого человека восстанавливать старинные вещи по его указаниям, то здесь я увидел целую мастерскую такого рода; ибо по стоявшим кругом частям я понял, что здесь занимаются главным образом восстановлением старинной мебели. Изготовляются ли в этой мастерской и новые вещи, я с первого взгляда определить не мог.
У каждого рабочего было свое место у окна, отделенное от соседа барьером. Здесь он держал свои инструменты и то, над чем работал сейчас, остальное, пока не нужное, находилось у него за спиной, у задней стены дома, что создавало единый и обозримый порядок. Рабочих было четверо. В большом шкафу, занимавшем часть боковой стены, хранились запасные инструменты — на тот случай, если что-то испортится и на починку уйдет слишком много времени. В другом шкафу у противоположной стены стояли бутылочки и баночки с жидкостями и находились другие предметы, нужные для приготовления лаков и политур или для того, чтобы придать дереву определенный цвет или старинный вид. От мастерской был отделен очаг, где горел необходимый для столярных работ огонь. Очаг стоял в огнеупорном ограждении, не подвергая опасности мастерскую с ее содержимым.
— Здесь, — сказал мой провожатый, — восстанавливаются вещи, изготовленные задолго, порой за много веков до нашего времени и пришедшие в ветхость, — восстанавливаются хотя бы в той мере, в какой это позволяют время и обстоятельства. В старинной мебели есть почти такое же, как в старинных картинах, очарование ушедшего и отцветшего, все более усиливающееся для человека на склоне лет. Он потому так старается сохранить принадлежащее прошлому, что и у него самого есть прошлое, которое уже не очень подходит к новизне подрастающего вокруг него племени. Поэтому мы и основали здесь заведение для старинной мебели, которую мы спасаем от гибели, собираем, чистим, лощим и пытаемся снова ввести в обиход.
Когда я находился в мастерской, как раз шла работа над доской стола шестнадцатого, по словам моего провожатого, века. Она была инкрустирована дощечками разных, но естественных цветов. Только зеленые листья воспроизводились деревом, травленым зеленой морилкой. По краю шло обрамление из переплетающихся и закрученных в спираль веток и плодов. Внутренняя часть, отделенная от обрамления узором из розового дерева красного цвета, изображала на фоне коричневато-белого клена собрание музыкальных инструментов. Они, правда, были инкрустированы несоотносительно с их размером. Скрипки были гораздо меньше мандолины, барабан и волынка были одинаковой величины, а флейта под ними вытянулась в длину, как навой. Но в отдельности инструменты показались мне очень удавшимися, а мандолина была выполнена на редкость чисто и мило, не хуже, чем изображались такие вещи на старинных картинах моего отца. Один из рабочих вырезал дощечки из клена, самшита, сандалового, эбенового, розового дерева и лещины, чтобы все это в измельченном виде как следует высохло. Другой вынимал из доски поврежденные дольки и выравнивал пустые места, чтобы наилучшим образом вставить новые планки. Третий вырезал и обстругивал ножки из кленовой болванки, а четвертый был занят тем, что по раскрашенному чертежу, стоявшему перед ним, выбирал из кучи дощечек те, которые наиболее соответствовали краскам чертежа. Мой провожатый сказал мне, что остов и ножки стола пропали и их нужно сделать заново.
Я спросил, как удается добиться того, чтобы новое подходило к оставшемуся.
Он ответил:
— Мы сделали рисунок, приблизительно показывающий, какими могли быть остов и ножки.
На новый вопрос — как можно это узнать — он ответил:
— У этих вещей, как вообще у важных предметов, есть своя история, и из нее можно вывести представление о виде и строении этих предметов. В ходе времени формы мебели постоянно менялись, и, обратив внимание на эти изменения, можно по сохранившемуся целиком судить о пропавших частях, а по уцелевшим частям представить себе целое. Набросав множество чертежей, каждый из которых включал в себя доску стола, мы таким путем все более приближались к предполагаемому виду данной вещи. Наконец мы остановились на чертеже, показавшемся нам не слишком противоречащим истине.
На мой вопрос, всегда ли у него находится работа для его мастерской, он отвечал:
— Она не вдруг стала такой, какой вы сейчас ее видите. Вначале возник интерес к старинным прадедовским вещам, и по мере того, как он рос, накапливались и предметы, подлежащие восстановлению. Начали мы со всяческих попыток починки. Ошибок при этом было сделано множество. Тем временем число собранных предметов росло, что наводило на мысль о будущей мастерской. Узнав, что я покупаю старинные предметы, мне стали их доставлять или указывать места, где их можно было найти. К нам присоединились и люди, интересовавшиеся предметами старины, писавшие нам о них, а порой и присылавшие соответствующие рисунки. Так наш круг постепенно расширялся. Неумелые починки давних времен тоже давали материал для новой работы, и поскольку работа велась поначалу в разных местах, а места, прежде чем мы здесь осели, часто приходилось менять, то времени уходило много, и предметы для работы накапливались. Наконец мы напали на мысль изготовлять новые вещи. Напали мы на нее благодаря постоянно пребывавшим у нас в руках старинным вещам. Делались эти новые предметы, однако, не в том виде, в каком они теперь в ходу, а в том, какой мы находили красивым. Мы учились у старины. Но мы ей не подражали, как то случается в архитектуре, когда целые здания возводятся в каком-то старинном, например, в так называемом готическом стиле. Мы старались делать для нынешнего времени самобытные вещи со следами учения у прошлого. Ведь и наши предшественники черпали многое у своих предшественников, а те у своих, и так далее, вплоть до ничем не примечательных, примитивных начал. Но везде истинными указателями были творения природы.
— Есть ли такие заново сделанные предметы в вашем доме? — спросил я.
— Ничего значительного, — ответил он. — Иные разбросаны по округе, иные собраны не в этом доме, а в других местах. Если у вас есть или возникнет когда-либо интерес к таким вещам и ваша дорога вновь приведет вас сюда, будет нетрудно доставить вас в такое место, где вы сможете увидеть множество наших лучших изделий.
— Дороги, которыми ходят люди, очень различны, — отвечал я, — и кто знает, не была ли дорога, приведшая меня из-за грозы на ваш холм, хорошей дорогой и не случится ли мне еще раз пройти ее.
— Очень справедливое замечание, — ответил он, — дороги людей очень различны. Вы в этом еще больше убедитесь, когда станете старше.
— А этот дом вы построили специально для столярной мастерской? — спросил я затем.
— Да, — отвечал он, — мы построили его специально для этой цели. Но возник он гораздо позднее, чем наш жилой дом. Когда мы уже стали изготовлять вещи у себя дома, очень легко было сделать следующий шаг — устроить собственную мастерскую. Но строительство дома было отнюдь не самым трудным делом, гораздо труднее было найти людей. Столяров у меня побывало много, и мне приходилось их увольнять. Сам понемногу учась, я сталкивался с упрямством, своеволием, косностью. В конце концов я стал брать таких людей, которые не были столярами и сначала должны были здесь обучиться. Но и у них, как и у их предшественников, был один грех, весьма распространенный в рабочем, да, пожалуй, и других сословиях, — грех довольства достигнутым или нерадивости, которая всегда говорит: «Сойдет и так» — и всякие дальнейшие условия считает ненужными. Грех этот присутствует и в самых незначительных, и в самых важных делах жизни, и в прежние годы я с ним часто встречался. Я думаю, что он натворил много бед. Из-за него погибло множество жизней, и великое множество других, даже если они и не погибли, он сделал несчастными и бесплодными. Произведениям, которые иначе были бы созданы, он не дал родиться, а искусство и все, что с ним связано, было бы при этом грехе вообще невозможно. Только настоящие мастера своего дела лишены этого греха, и из них-то и выходят художники, поэты, ученые, государственные мужи и великие полководцы. Но я отклоняюсь от темы. В нашей мастерской этот грех приводил лишь к тому, что ничего существенного у нас не получалось. Наконец я нашел человека, который не бросал сразу работу, когда я на него наседал; но в душе он, наверное, довольно часто раздражался и клял мое упрямство. После обоюдных усилий дело пошло. Влияние стали приобретать изделия, сочетавшие в себе точность с целесообразностью, и они-то служили теперь руководством. Возрастало внимание к красоте форм, легкое и тонкое предпочиталось тяжелому и грубому. Он подбирал себе помощников и воспитывал их в своем духе. Одаренные быстро освоились. Стали заниматься химией и другими естественными науками, а для душевного развития читали художественные сочинения.
После этих слов он подошел к человеку, подыскивавшему дощечки в соответствии с лежавшим перед ним рисунком, и сказал:
— Не будете ли вы добры показать нам некоторые чертежи, Ойстах?
Молодой человек, к которому были обращены эти слова, поднялся, оторвавшись от работы, и явил нам свой спокойный, любезный нрав. Он снял с себя зеленый суконный фартук и прошел со своего рабочего места к нам. Рядом с этим местом в стене находилась стеклянная дверь, затянутая снаружи складками зеленого шелка. Отворив ее, он провел нас в приятного вида комнату. В этой комнате с искусно выложенным полом стояло несколько широких гладких столов. Из ящика одного из них молодой человек вынул большую папку с чертежами, открыл ее и разложил на столе. Увидев, что чертежи извлечены для просмотра, я стал медленно переворачивать листы. Это были сплошь чертежи построек, показывавшие то общий их вид, то отдельные части. Выполнены были чертежи и, как принято говорить, в перспективе, и в иных планах, в продольном и поперечном сечениях. Поскольку я сам долгое время занимался рисованием, хотя и предметов иного рода, то за этими чертежами я был больше на месте, чем возле старинной мебели. Зарисовывая растения и камни, я всегда стремился к большой точности и старался с помощью простого карандаша передать суть так, чтобы можно было распознать род их и вид. Правда, лежавшие передо мной рисунки изображали постройки. Я никогда не рисовал построек, я, собственно, по-настоящему не рассматривал их. Но, с другой стороны, линии крупных сооружений, слоев материала и больших плоскостей были такими же, какие являли мне скалы и горы, а легкие завитки украшений были знакомы мне по растениям. Ведь, в конце концов, все постройки созданы по образцам, которые дала природа — в виде, например, округлостей и зубцов скал или даже елей, сосен и других деревьев. Поэтому я рассматривал чертежи довольно подробно, обращая внимание на их соответствие действительности. Перелистав их, я перевернул всю пачку и еще раз просмотрел каждый лист.
Все чертежи были выполнены простым карандашом. Были показаны свет и тени, а линии были проведены с разным нажимом, чтобы передать не только материальность предметов, но и так называемую воздушную перспективу. На некоторых листах были применены акварельные краски либо для обозначения отдельных мест, особенно ярко или своеобразно окрашенных, таких, например, где зелень растений особенно ярко выделяется на фоне каменного ограждения, либо там, где от солнца или воды материал приобретает необычный цвет, как, например, некоторые камни, делающиеся от воды бурыми, чуть ли даже не красными; применялись краски и для того, чтобы сделать рисунок правдоподобнее и гармоничнее; наконец, иные детали были обозначены красками или, как говорят, колерами, затем, чтобы оттеснить на задний план какие-то плоскости, предметы или отдельные их части. Но всегда краски выполняли подчиненную роль, благодаря чему чертеж не перерастал в произведение искусства, а оставался чертежом, который краска только оживляла. Я очень хорошо знал эту методу и сам часто ее применял.
Что касается ценности этих чертежей, то она показалась мне довольно значительной, сделаны они были, видимо, опытной рукой, судя по тому, что при всем их множестве никакого совершенствования я не заметил: оно произошло во времена более ранние, и эти чертежи оказались его плодом. Линии были проведены чисто, уверенно, так называемая линейная перспектива была, насколько я мог судить, — ведь подвергнуть ее математической проверке возможности не было — верной, чертежник прекрасно знал фактуру карандаша и умело пользовался его небольшими возможностями, поэтому каждый предмет отчетливо отделялся от своего окружения. Гам, где краска приближалась к действительному цвету, она была нанесена с объективностью и чувством меры, что, как я знал по опыту, трудно выполнить так, чтобы вещи выглядели натурально, а не как раскрашенная картинка. Это особенно касается предметов менее определенных цветов, таких, как камни, кладка из них и тому подобное, а с предметами, четко окрашенными, такими, как цветы, бабочки, даже иные птицы, дело обстоит проще.
При просмотре этих чертежей я заметил одну особенность. В архитектурных украшениях, заимствованных у творений природы, растений и даже животных, встречались существенные ошибки, даже нелепости, каких не допустит и новичок, если хорошенько рассмотрит растение. А в таких же точно украшениях на других зданиях, на других чертежах, этих ошибок не было, украшения были исполнены верно по отношению к их образцам в природе. Занимаясь рисованием, я часто разглядывал картины моего отца, и в них, даже в таких, которые он считал превосходными, находил подобного рода ошибки. Поскольку картины отца были старинные, а эти чертежи изображали опять-таки старинные здания, я решил, что передо мной зарисовки подлинных построек, что ошибки в украшениях на чертежах — это ошибки в подлинных украшениях зданий и что украшения, изображенные на чертежах без погрешностей, не имели погрешностей и в подлинниках. Это обстоятельство повысило в моих глазах ценность чертежей, потому что как раз и доказывало большую их точность.
При осмотре этих чертежей мне пришла в голову одна своеобразная мысль. Никогда я не видел дотоле такого множества архитектурных зарисовок, поскольку сами произведения архитектуры предметами моего внимания никогда не были. Когда я увидел всю эту череду орнаментальных листьев, изгибов, зубцов, извилин, завитков, они мне показались как бы творениями природы, наподобие растительного царства с соответствующим ему миром животных. Мне подумалось, что их можно сделать точно таким же предметом наблюдения и исследования, как настоящие растения и прочие творения земли, хотя в данном случае это всего лишь мир камня. Я никогда не задумывался об этом, хотя не раз, глядя на церковь или иное здание, замечал какой-нибудь каменный стебель, или розу, или острые травинки, или стержень колонны, или решетку двери. Я решил, что надо будет присмотреться к таким вещам внимательнее.
— Все эти чертежи — зарисовки зданий, действительно имеющихся в нашей стране, — сказал мой провожатый. — Мы собрали их постепенно. Не пропущено ни одно, красивое либо целиком, либо чем-то. И у нас в стране, как и повсюду, случалось, что к старинным церквам или к другим незавершенным зданиям пристраивали новые части в совсем другой манере, отчего возникал разнобой в стиле построек, среди которых есть и красивые, и безобразные. Местных церквей, выстроенных в наше время в разных местах, мы в это собрание не включили.
— Кто же изготовил эти чертежи? — спросил я.
— Чертежник стоит перед вами, — сказал мой провожатый, указывая на молодого человека.
Я посмотрел на него, и он чуть покраснел.
— Мастер объезжал страну часть за частью, — продолжал мой гостеприимец, — и зарисовывал постройки, которые ему нравились. Эти зарисовки он привез в своем альбоме домой и потом сделал все набело на отдельных листах. Кроме зарисовок зданий, у нас есть и зарисовки их внутреннего убранства. Будьте любезны, покажите и эту папку, Ойстах.
Молодой человек сложил папку, которую мы просмотрели, и убрал ее в ящик. Потом извлек из другого ящика другую папку и положил ее передо мной со словами:
— Здесь церковная утварь.
Я стал просматривать рисунки из открытой им папки, как просматривал раньше зарисовки зданий. Рисунки изображали алтари, аналои, кафедры, дарохранительницы, купели, перила хоров, кресла, отдельные статуи, цветные витражи и другие предметы, встречающиеся в церквах. Как и зарисовки построек, они были выполнены либо сплошь простым карандашом, либо частью в цвете. Если я уже и прежде углублялся в такие вещи, то теперь углубился и вовсе. Они были еще разнообразнее и заманчивее для глаз, чем постройки. Я рассматривал каждый лист отдельно, а к иным, уже отложив их было, возвращался опять. Когда я покончил и с этой папкой, мастер положил передо мною следующую и сказал:
— Здесь предметы мирские.
Папка содержала рисунки самой разной мебели, встречающейся в жилищах, замках, монастырях и так далее, были здесь зарисовки панелей, потолков, оконных и дверных обрамлений, даже полов выкладной работы. Краски для предметов светского обихода применялись щедрее, чем для церковной утвари и для построек; ведь от цвета очень часто зависит самый вид светской мебели, особенно инкрустированной разноцветными дощечками. В этой коллекции рисунков я нашел изображения мебели, уже виденной мной в жилище моего гостеприимца. Были здесь, например, конторка и большой платяной шкаф. Также и стол, над которым трудились в столярной мастерской, красовался перед нами на бумаге уже в готовом виде. Я заметил при этом, что только доска выведена четко и твердо, остов же и ножки расплывчато. Я понял, что так обозначаются добавления, которые нужно сделать заново.
Мне этот способ понравился.
— Церковная утварь нашего края представлена в этой коллекции довольно полно, — сказал мой гостеприимец, — во всяком случае, ничего существенного не пропущено. О мебели светской этого нельзя сказать, поскольку неизвестно, что еще разбросано по разным местам.
Когда я покончил и с этой папкой, мой провожатый сказал:
— Это все зарисовки подлинных предметов, сохранившихся со старых времен, но у нас есть и собственные наброски мебели и других небольших предметов. Покажите их тоже, мастер.
Молодой человек положил на стол новую папку.
Она была гораздо объемистее предыдущих и содержала изображения не только общего вида предметов, но также их чертежи с продольными и поперечными сечениями и горизонтальной проекцией. Тут были рисунки разной мебели, облицовки полов, потолков, ниш и, наконец, даже частей постройки — лестниц и приделов. Все исполнялось с большой осмотрительностью и добросовестностью; иные рисунки были в четырех, даже в пяти экземплярах, каждый раз с какими-то изменениями и поправками. Самые последние всегда были выполнены в цвете, особенно четко тогда, когда предмет надо было сделать из дерева или из мрамора. Я спросил, исполнено ли что-либо из всего этого в самом деле.
— Разумеется, — ответил мой провожатый, — иначе зачем же было изготовлять столько чертежей? Все, что вы видели в нескольких изображениях, последнее из которых выполнено в цвете, было сработано в самом деле. Эти рисунки суть планы и наброски новой мебели, к изготовлению каковой мы, как я уже говорил, постепенно пришли. Если бы вам довелось побывать в том месте, где, как я уже сказал, мебели множество, вы увидели бы там не только многие предметы из тех, что здесь нарисованы, но и такие, которые неотделимы друг от друга и составляют одно целое.
— Глядя на эти рисунки, — сказал я, — и глядя на те, что я видел раньше, приходишь к мысли, что здания определенного времени и мебель, которой следует стоять в этих зданиях, составляют некое неразрывное единство.
— Конечно, — отвечал он, — ведь мебель — родственница архитектуры, как бы ее внучка и правнучка, ведущая свой род от нее. Это несомненно, ведь и нынешняя наша мебель тоже соответствует нынешней архитектуре. Наши комнаты — почти как полые кубики или как ящики, и у мебели, стоящей в таких комнатах, линии обычно прямые, а плоскости ровные. Неудивительно потому, что в наших жилищах гораздо более красивая старинная мебель производит на многих жутковатое впечатление, она противоречит жилью; но люди не правы, если находят эту мебель некрасивой, некрасиво жилье, и его-то и следовало бы изменить. Потому-то в замках и старинных зданиях мебель такого рода и выглядит красивей всего, что там она находит подобающее ей окружение. Мы извлекли из этого обстоятельства пользу и, зарисовывая здания, научились изготовлять мебель, которая бы этим зданиям соответствовала.
— Видя перед собой столько вещей в стольких изображениях, — сказал я, нельзя не проникнуться тем сильным впечатлением, которое все это производит.
— До нас жили весьма глубокие люди, — ответил он, — это не всегда понимали и только сейчас начинают понемногу понимать. Не знаю, как назвать — умилением или грустью — чувство, которое я испытываю, думая о том, что наши предки не завершили своих величайших и важнейших трудов. Полагаясь, видимо, на вечность чувства красоты, они были убеждены, что начатое ими достроят потомки. Их недостроенные церкви стоят в наше время как что-то чужое. Мы не воспринимали их или уродовали безобразными подделками. Хотел бы я быть молодым в такое время, когда в нашем отечестве уважение к первоосновам вырастет настолько, что появятся средства, чтобы идти от этих первооснов дальше. Средства вообще-то есть, только пускают их на что-то другое, ведь и эти постройки остались незавершенными не из-за недостатка средств, а по другим причинам.
На это я сказал, что в затронутом вопросе я не силен, зато по другому поводу, о рисунках, мог бы, пожалуй, кое-что сказать.
— Я долгое время рисовал растения, камни, животных и прочее, очень набил руку и поэтому смею, вероятно, судить. По чистоте линий, по верности перспективы, по умелому расположению каждой части предмета и правильному применению красок эти рисунки кажутся мне совершенно замечательными, и я чувствую себя обязанным это сказать.
Мастер на эту похвалу не отозвался ни словом, он только потупил взгляд, а моего гостеприимца мое суждение, по-видимому, обрадовало.
Он дал знак мастеру завязать папку и положить ее в ящик, что тот и сделал.
Из этой комнаты мы пошли в другое помещение мастерской. Когда мы переступали порог, я думал, что, несмотря на отцовские коллекции, окружавшие меня всю жизнь, в старинных предметах я разбирался до сих пор, в сущности, мало и мне еще надо бы поучиться.
Из комнаты рисунков мы прошли в жилую комнату мастера, где, кроме обычной мебели, стояли тоже чертежные столы и мольберты. Обставлена эта комната была так же приятно, как предыдущая.
Побывали мы и в комнатах помощников, а затем обошли подсобные помещения. Здесь находились всякие предметы, требующиеся в таком заведении. Интереснее всего была сушильня, расположенная за столярной мастерской, откуда и можно было пройти в ее нижнее и верхнее отделения. Она служила для того, чтобы все виды дерева, которое шло в работу, достигали здесь необходимой для мебели сухости, предотвращающей всякие повреждения в дальнейшем. В нижней комнате хранился крупный материал, в верхней — мелкий и тонкий. Я мог убедиться, как основательно здесь было поставлено дело; в сушильне я нашел не только очень большой запас древесины, но и почти все отечественные и иноземные виды ее. В этом я со времени моих естественнонаучных усилий кое-что смыслил. Кроме того, дерево почти сплошь было уже нарезано на болванки удобных для обработки форм, чтобы оно высыхало достаточно надежным образом. Мой провожатый показал мне разные хранилища и объяснил в общих чертах их содержимое.
В нижней комнате я увидел доски лиственницы, связанные как бы в очень большие, странно узкие каркасы и рамы, и, недоумевая, спросил об их назначении.
— В нашей стране, — ответил мой провожатый, — много резных алтарей. Все они сделаны из липового дерева, и некоторые весьма красивы. Они восходят к очень давнему времени, примерно к тринадцатому-пятнадцатому векам, это створчатые алтари, которые при открытых створках походят формой на дароносицу. Частью они сильно повреждены и грозят раньше или позже совсем развалиться. Один мы уже за мой счет восстановили и работаем теперь над другим. Деревянные каркасы, о которых вы спрашиваете, — это остовы, где будут укреплены орнаменты. Орнаменты еще вполне хороши, но их остовы сильно прогнили, отчего и нужно сделать новые, заготовки для которых вы видите.
— Неужели вам разрешили переделывать церковный алтарь? — спросил я.
— Нам разрешили это лишь после многих трудностей, — отвечал он, — но мы таковые преодолели. Особенно препятствовало нам недоверие к нашим знаниям и способностям, и оно было справедливо. До чего можно дойти, опрометчиво разрешая видоизменять имеющиеся произведения искусства? Ведь так можно изуродовать или уничтожить вещи величайшей ценности. Мы должны были показать, что именно мы изменим или добавим и как будет выглядеть вещь после такой переделки. Лишь после того, как мы объяснили, что не внесем никаких изменений в существующую композицию, что ни одно украшение не окажется на другом месте, что ни у одной статуи не будут переделаны ни лицо, ни руки, ни складки одежды, что мы только хотим сохранить то, что есть, в его теперешнем виде, чтобы оно больше не разрушалось, что материал мы обновим только в пострадавших местах, а в целом оставим нетронутым, что прибавим лишь кое-какие мелочи, вид которых точно известен по их полным подобиям, отчего им и можно придать совершенно тот же облик, какой был у них прежде, когда мы, далее, изготовили цветной чертеж, показывающий, как будет выглядеть очищенный и восстановленный алтарь, и, наконец, когда мы восстановили резные украшения небольшого объема, отдельные статуи и прочее, как сочли нужным, и выставили все это напоказ, лишь тогда нам предоставили свободу действий. О помехах, исходивших не от начальства, о подозрениях и прочем говорить не стану, да это не очень-то и доводилось до моего сведения.
— Вы, я вижу, взвалили на себя долгий и, как мне кажется, важный труд.
— Работа длилась много лет, — отвечал он, — а что касается важности, то никто, наверное, больше, чем мы сами, не терзался сомнениями в том, что у нас есть необходимое знание дела. Потому-то мы и по сути ничего не меняли. Даже в тех случаях, когда было совершенно ясно, что части алтаря оказались со временем расположены иначе, чем изначально, мы сохраняли все в том виде, в каком это дошло до нас. Мы только снимали грязь и закраску, укрепляли рассыпающееся и распадающееся, восполняли недостающее там, где, как я сказал, первоначальный вид был точно известен, заполняли деревом пустоты, образовавшиеся по вине древоточцев, предотвращали испытанными средствами будущие разрушения и, наконец, покрывали весь алтарь, когда он был готов, тусклым лаком. Настанет время, когда государство создаст из лучших знатоков дела службу, которая будет заниматься восстановлением старинных произведений искусства, возвращать им первоначальный вид и препятствовать их искажению в будущем. Ведь так же, как предоставили свободу действий нам, которые тоже ведь могли кое-что исказить, предоставят ее когда-нибудь и другим, менее одержимым сомнениями или способным ради красоты в своем понимании уничтожить самую суть унаследованного.
— И вы думаете, что закон, запрещающий менять что-либо в существе дошедшего до нас произведения, предотвратил бы его уничтожение и гибель? — спросил я.
— Этого я не думаю, — отвечал он. — Ведь могут прийти времена такого малого понимания искусства, что и самый этот закон отменят. Но долгое время от такого закона было бы все-таки больше пользы, чем от его отсутствия. Наилучшую защиту старинных произведений искусства обеспечил бы, конечно, растущий и неугасающий интерес к искусству. Но никакие, в том числе и самые совершенные средства не в силах спасти произведение искусства в конечном счете от гибели. Причиной тому постоянная деятельность людей, их стремление к переменам и бренность материала. Все сущее, каким бы великим и прекрасным оно ни было, держится какое-то время, выполняет свое назначение и проходит. И все произведения искусства, что сейчас еще есть, окутает такой же вечный покров забвения, каким окутаны те, что были до них.
— Вы работаете над восстановлением старого алтаря, — сказал я, — потому что один уже сделали. Будете ли восстанавливать и другие, поскольку вы говорите, что их много в стране?
— Будь у меня средства, я сделал бы это, — отвечал он, — я даже, будь я достаточно богат, завершал бы начатые в средние века постройки. Например, в Грюнау, у самой границы нашей страны, возле городской церкви стоит самая красивая в нашей стране башня, которая была бы и самой высокой, если бы ее достроили. Но доведена она приблизительно до трех четвертей своей высоты. Эта древненемецкая башня была бы первым, что я достроил бы. Когда вы придете снова, я отведу вас в церковь, где за казенный счет восстановлен резной створчатый алтарь, одно из самых значительных произведений искусства, какие есть в этом роде.
С этими словами мы пошли из сушильни назад в мастерскую. По пути мой провожатый сказал:
— Поскольку Ойстах занят сейчас преимущественно текущей работой, он обучил своего подросшего брата, и тот занимается теперь главным образом чертежами. В данное время он как раз зарисовывает орнаменты, которые встречаются у нас в стране на постройках, деревянных изделиях или еще где-либо и пока не представлены на наших рисунках крупных работ. Мы ждем, что вскоре он вернется на несколько дней. На этих рисунках могло бы поучиться и наше время, если оно захочет учиться. Глядя на сделанное нашими прадедами и самыми искусными дохристианскими народами, мы могли бы только по их крупным творениям учиться жить в благородных зданиях, в окружении благородных предметов или хотя бы молиться, как греки, в прекрасных храмах; нет, и в малом могли бы мы совершенствоваться, красивее стала бы обивка наших комнат, даже обычные предметы, кувшины, чаши, лампы, светильники, топоры, даже узоры тканей для платья, женские украшения, наконец, из драгоценных камней; они переняли бы легкие формы прошлого и не были бы, как часто теперь, дикарством камня в дикарстве золота. Вы признаете мою правоту, вспомнив рисунки крестов, роз, звезд на наших изображениях средневековых построек.
Я восхищался человеком, который, говоря такие слова, шел рядом со мной в странной, даже безвкусной одежде.
— Во всяком случае, научиться уважать людей, живших до нас, при виде такой устремленности можно было бы, — продолжал он, — а мы привыкли твердить о нашем прогрессе по сравнению с невежеством наших прадедов. Бахвальство куда как часто напоминает о бедности опыта.
С этими словами мы опять пришли в мастерскую и попрощались с мастером. Я протянул ему руку, он подал мне свою, и я крепко пожал ее. Когда мы выходили, я оглянулся и увидел в окно, как он снимал с крючка и снова повязывал свой зеленый фартук. Снова послышались звуки рубанка и пилы, приумолкшие, когда мы находились в мастерской. Мы вышли на тропинку в кустах и пошли к жилому дому.
— Теперь вы видели все мое обиталище, — сказал мой гостеприимец.
— Я ведь не видел еще ни кухни, ни погреба, ни людской, — ответил я.
— Их вы увидите, если хотите, — сказал он.
Я не взял назад своих слов, сказанных скорее в шутку, и мы пошли в дом.
Здесь я увидел большую сводчатую кухню, большую кладовую, три комнаты для слуг, комнату, вероятно, дворецкого, затем прачечную, хлебопекарную печь и подвал для хранения фруктов. Как я и предполагал, все это содержалось в чистоте и отвечало своему назначению. Я видел занятых работой служанок, встретили мы и поглощенного каждодневными делами дворецкого. Плоская корзиночка, из которой мой провожатый кормил птиц, стояла у двери в особой нише, которая, по-видимому, и была ее постоянным местом.
Из этих помещений мы прошли в теплицу. Здесь было много всяких растений, в большинстве своем таких, которые в те времена были распространены. На подставках стояли камелии с холеными зелеными листьями, рододендроны, среди них, как явствовало из надписи, желтые, каких я никогда не видел, азалии самых разных видов и особенно много новоголландских растений. Среди роз преобладали чайные, которые как раз цвели. К теплице примыкал стеклянный домик с ананасами. На песчаной дорожке перед обоими домами стояли в кадках лимонные и апельсиновые деревья. У старика-садовника волосы были еще белее, чем у хозяина. Одет он был тоже необычно, только определить, в чем была эта необычность, я никак не мог. Я заметил, что на нем было много чисто белого, и в сочетании с белым фартуком это напоминало скорее одеяние повара, чем садовника.
Заметил я также, что узкая сторона теплицы была снаружи одета розами, как и южная сторона жилого дома, но это не показалось мне неприятным.
Старая супруга садовника, которую мы застали в его жилье, была, как и старик, во всем белом. К жилищу садовника примыкали комнаты его помощников.
— Теперь вы видели все, — сказал мой гостеприимец, когда мы вышли из этих комнат, — кроме комнат для гостей, каковые я вам покажу, если захотите, и жилья моего приемного сына, куда, однако, сейчас входить нельзя, потому что мы помешали бы его ученью.
— Подождем более позднего времени, и тогда я напомню вам об этом, — сказал я, — а теперь не откажите исполнить другую, более настоятельную мою просьбу.
— Что же это за более настоятельная просьба? — спросил он.
— Чтобы вы наконец сказали мне, — отвечал я, — откуда у вас такая уверенность в отношении погоды.
— Очень справедливое желание, — сказал он, — тем более что ваше мнение насчет грозы было причиной, заставившей вас подняться к нашему дому, а наш спор о грозе причиной, по которой вы здесь задержались. Пройдем, однако, к улью и сядем на скамейку под липой. По пути и на скамье я вам все расскажу.
Мы свернули на широкую песчаную дорожку, окаймленную вначале большими фруктовыми деревьями, а дальше — высокими, тенистыми липами. Между стволами стояли скамейки, в песке рылись птицы, а из веток доносилось пенье, которое я уже слышал вчера.
— В моем доме вы видели собрание естествоведческих инструментов, — сказал мой провожатый, когда мы пошли по дорожке, — они уже объясняют часть занимающего нас дела.
— Я видел их, — ответил я, — и особенное внимание обратил на барометр, термометр, а также на измеритель прозрачности и влажности воздуха. Но эти приборы есть и у меня, и когда я справлялся с ними перед своим походом, они предвещали скорее осадки, чем что-либо противоположное.
— Барометр упал, — отвечал он и прибавил, что понижение давления очень часто бывает связано с дождем.
— Верно, — заметил я.
— Стрелка гигрометра, — продолжал он, — приближалась к точке наибольшей влажности.
— Да, так оно и было, — отвечал я.
— Но электрометр, — сказал он, — показывал малую насыщенность воздуха электричеством, так что разрядки, с которой в наших краях обычно связан дождь, не приходилось ждать.
— Я тоже заметил это, — возразил я, — но электрическое напряжение не так уж связано с переменами в погоде и бывает чаще всего их следствием. К тому же вчера к вечеру накопилось достаточно электричества, и все приметы, о которых вы говорите, предвещали осадки.
— Да, они предвещали осадки, и таковые последовали, — сказал мой провожатый. — Ведь из незримых испарений образовались зримые облака, а они ведь не что иное, как мельчайшие капли воды. Вот и осадки. Малому электрическому напряжению я веса не придавал. Я знал, что если уж образуются облака, то и за электричеством дело не станет. Но приметы, о которых мы говорили, относятся лишь к тому малому пространству, в каком ты сейчас находишься, а надо смотреть шире, учитывать синеву воздуха и форму облаков.
— В воздухе уже вчера утром была та глубокая темная синева, — отвечал я, — которая предшествует дождю, и образование облаков началось уже в полдень и очень быстро усилилось.
— До сих пор вы правы, — сказал мой провожатый, — и природа подтвердила вашу правоту, нагромоздив такое множество облаков. Но есть и другие признаки, кроме тех, о каких мы сейчас говорили. Вы знаете, наверно, что есть приметы, свойственные только какой-то определенной местности и известные ее уроженцам, которым они передавались из поколения в поколение. Науке часто удается объяснить природу явлений, открытых благодаря долгому опыту. Вы знаете, что в той или иной местности облачко, появившееся и повисшее в определенной точке вообще-то чистого неба, — верное для этой местности предвестие грозы, что потемнение неба в определенном месте или ветер с определенной стороны предвещают обложной дождь, и дождь этот всегда следует. Такие приметы есть и в данной местности, а вчера ничто на дождь не указывало.
— Признаков, свойственных только этой местности, я наблюдать не мог, — сказал я, — но думаю, что все-таки не они одни заставили вас высказаться так решительно, как вы это сделали.
— Да, не они, — отвечал он, — у меня были и другие причины.
— А именно?
— Все предвестия, о которых мы до сих пор говорили, очень грубы, — сказал он, — и обычно воспринимаются нами через пространственные перемены, каковых, если они не достигнут определенной величины, мы вообще не заметим. Сцена, на которой разыгрываются метеорологические события, очень велика. Там, куда мы не в силах заглянуть и откуда нельзя воздействовать на наши научные приборы, — там как раз, может быть, и находятся причины и противопоказания, которые, будь они нам известны, обратили бы наш прогноз в его противоположность. Поэтому приметы могут и обмануть. Но есть куда более тонкие приборы, устройство которых для нас тайна, приборы, на которые влияют причины, нам непостижные, приборы, на которые можно положиться всегда.
— Что же это такое?
— Нервы.
— Значит, если пойдет дождь, то вы чувствуете это своими нервами?
— Своими — нет, — отвечал он. — Слишком сильно воздействуя на нервы, человек, к сожалению, наносит ущерб их тонкости, и они говорят с ним уже не таким ясным языком, как, наверно, могли бы. Кроме того, природа дала человеку взамен нечто куда более высокое — разум, рассудок, чтобы выходить из затруднений и знать, как вести себя. Я имею в виду животных.
— По-видимому, вы правы, — ответил я. — Животные связаны с низшей природой гораздо непосредственнее, чем мы. Все дело в том, чтобы докопаться до этой связи и найти для нее какое-то выражение, особенно по части предстоящей погоды.
— Я до этой связи не докопался, — отвечал он, — и тем более не нашел для нее выражения. В общем виде решить обе эти задачи весьма трудно. Но, сделав случайно кое-какие наблюдения, я нарочно повторил их, и сопоставив результаты опытов, пришел к выводам, позволяющим предсказывать погоду с почти полной уверенностью. Многие животные настолько зависят от дождя и солнца — а для иных это прямо-таки вопрос жизни, идет ли дождь или светит солнце, — что Бог должен был дать им органы, ощущающие такие вещи заранее. Человеку же это ощущение неведомо, он не может за ним наблюдать, потому что оно недоступно его органам чувств. Только животные принимают на основании этого предощущения какие-то подготовительные меры, наблюдая за которыми человек может делать выводы. Одни животные находят себе пищу, когда кругом сыро, а другие в этом случае теряют ее. Одни должны прятать от дождя свое тело, другие — укрывать от него свой приплод. Многие должны покидать облюбованное было жилище или искать другую работу. А поскольку предощущение должно быть точным, чтобы вытекающее из него действие обеспечивало безопасность, и поскольку нервы у животных уже задеты, когда все человеческие научные приборы еще молчат, прогноз погоды, основанный на наблюдении за поведением животных, более надежен, чем основанный на показаниях всех научных приборов.
— Вы открываете новое направление.
— Люди уже многое тут узнали. Лучшие знатоки погоды — насекомые и вообще мелкие животные. За ними, однако, гораздо труднее наблюдать, потому что их нелегко найти, когда это нужно, и потому что не всегда легко понять их действия. Но от мелких животных часто зависят крупные, чью пищу они составляют, и действия мелких животных имеют следствием действия крупных, за которыми человеку уследить легче. Правда, тут появляется промежуточное звено — умозаключение, — при котором опасность ошибиться больше, чем при непосредственном наблюдении, когда факт как бы сам говорит за себя. Почему, например, перед дождем квакши опускаются вниз, ласточки низко летают, а рыбы выпрыгивают из воды? При частом повторении наблюдений и тщательном сравнении опасность ошибиться, естественно, уменьшается. Но все-таки самое надежное — стаи мелких животных. Вы, конечно, слышали, что пауки — вестники погоды и что муравьи предсказывают дождь. Надо наблюдать жизнь этих мелких тварей, видеть их обиталища, смотреть, как они проводят время, узнавать, где границы их распространения, и в чем их счастье, и как они его добиваются. Поэтому охотники, лесорубы и люди одинокие, которым приходится наблюдать эту обособленную жизнь, больше всего смыслят в таких вещах и умеют предсказывать погоду по поведению животных. Но для этого, как и вообще для всего, нужна любовь.
Вот место, — прервал он себя, — о котором я раньше говорил. Вот самая красивая в моем саду липа, я велел устроить под ней удобное сиденье и редко прохожу мимо, не присев на минутку, чтобы насладиться голосами в ее ветвях. Сядем?
Я согласился, мы сели, над головами у нас действительно слышно было жужжанье, и я спросил:
— А сами вы занимались таким наблюдением за животными, как вы сказали?
— Наблюдение, собственно, я своей целью не ставил, — отвечал он. — Но поскольку я долго жил в этом доме и в этом саду, кое-что накопилось. Из накопившегося выстроились выводы, а выводы эти опять-таки подталкивали меня к наблюдениям. Многие люди, привыкшие глядеть на себя и на свои устремления как на центр вселенной, считают такие вещи мелкими, но для Бога это не так. Вовсе не велико то, что во много раз больше, чем наше мерило, и не мало то, для чего у нас и мерила-то нет. Это видно из того, как он одинаково заботится обо всем. Я часто думал, что изучение человека и его поведения, даже его истории — всего лишь другая ветвь естествознания, хотя для нас, людей, она важнее, чем была бы для животных. Одно время у меня была возможность многое из этой ветви узнать и кое-что намотать на ус. Вернусь, однако, к своему предмету. О том, как ведут себя мелкие животные перед тем, как пойдет дождь или выглянет солнце, и о том, как я вообще делаю выводы из их действий, говорить я сейчас не буду, потому что это было бы слишком долго, хоть оно и любопытно. Но могу сказать, что, судя по моему прежнему опыту, ни одно из мелких животных в моем саду не подавало вчера никаких знаков дождя, начиная от пчел, жужжащих в этих ветках, и кончая муравьями, кладущими личинки на заборе моего сада на солнце, или щелкунами, которые высушивают свою пищу. Поскольку эти животные, сколько я за ними ни наблюдал, ни разу меня не обманывали, я заключил, что увлажнение, которое предсказывали наши более грубые научные приборы, не пойдет дальше образования облаков, ибо в противном случае животные это знали бы. А что произойдет с облаками, я точно не знал, я заключил только, что из-за охлаждения, обусловленного их тенью, и из-за потоков воздуха, которым они и обязаны своим возникновением, поднимется ветер, который ночью снова очистит небо.
— Так оно и вышло, — сказал я.
— Предвидеть это я мог тем увереннее, что небо над нашим садом уже часто бывало таким, как вчера, и всегда становилось таким, каким стало нынешней ночью.
— Вы затронули большую тему, — сказал я. — Тут перед нами явление очень важное. Оно снова доказывает, что у каждого знания есть зацепки, о которых часто даже и не подозреваешь, и что нельзя пренебрегать мелочами, даже не зная еще, как они связаны с чем-то более важным. Так, вероятно, и приходили великие люди к свершениям, которыми мы восхищаемся, и так может существенно обогатить метеорологию все то, о чем вы говорили.
— Я тоже в это верю, — отвечал он. — В естественных науках вам, молодым, будет вообще легче, чем было старшим. Теперь все больше идут путем наблюдений и опытов, а раньше больше отдавалось предположениям, теориям и даже фантазиям. Этот путь долго не был ясен, хотя отдельные люди шли им, пожалуй, во все времена. Чем больше почвы приобретаешь этим новым способом, тем больше у тебя материала для будущих открытий. Теперь основательно вникают и в отдельные отрасли, а не стремятся, как прежде, к обобщениям. Настанет поэтому время, когда уделят внимание и предмету, о котором мы говорили. Если естествознание будет еще несколько столетий так же плодотворно, как в последние десятилетия, то мы не в силах и представить себе, до чего это дойдет. Одно мы только знаем сейчас — что не возделанное еще поле бесконечно больше возделанного.
— Вчера я заметил, — сказал я, — что, хотя небо было затянуто тучами, несколько работников качали воду, наполняли лейки и поливали растения. Знали ли и они, что дождя не будет, или просто исполняли ваши приказы, как и косари, косившие траву на хуторе?
— Справедливо последнее, — отвечал он. — Эти работники каждый раз думают, что я ошибаюсь, если видимость против меня, хотя итог мог бы их вразумить. Вчера тоже они, конечно, думали, что пойдет дождь. Они поливали растения, потому что я так приказал и потому что у нас заведено, что того, кто дважды не выполнил указания, увольняют с работы. Есть, впрочем, и другие предсказатели погоды, кроме животных, например растения.
— О растениях я это уже знал, и притом лучше, чем о животных, — возразил я.
— У меня в саду и в теплице есть растения, — сказал он, — обнаруживающие поразительную связь с атмосферой, особенно при появлении солнца, после того как оно долго скрывалось за облаками. По запаху цветов можно предсказать дождь, а трава, бывает, им прямо-таки пахнет. Такие вещи происходят у меня в саду и в доме от случая к случаю. Но вы узнаете их гораздо лучше и основательнее, если пойдете путями новой учености и воспользуетесь существующими теперь вспомогательными средствами, особенно исчислением. Избрав какое-то одно направление, вы добьетесь на нем необыкновенных успехов.
— Из чего вы это заключаете? — спросил я.
— Из вашей внешности, — отвечал он, — да из весьма определенного суждения насчет погоды, высказанного вами вчера.
— Но это суждение было неверным, — ответил я, — и из него вы могли извлечь прямо противоположный вывод.
— О нет, — сказал он. — Своей определенностью ваши слова показывали, что вы глубоко вникали в этот предмет, а своей теплотой — что занимались им с усердием и любовью. Если ваше мнение оказалось все же ошибочным, то лишь потому, что вы не знали какого-то обстоятельства, которое повлияло на вас, да и не могли знать. А то бы вы судили иначе.
— Да, вы правы, я судил бы иначе, — ответил я, — и впредь я не буду столь опрометчив.
— Вчера вы сказали, что занимаетесь естествознанием, — продолжал он, — можно спросить, выбрали ли вы какое-нибудь определенное направление и какое именно?
Немного смущенный этим вопросом, я отвечал:
— Я ведь, в сущности, обыкновенный пеший путник. Средств у меня как раз столько, чтобы жить независимо, и я брожу по миру, чтобы поглядеть на него. Еще недавно я брался за все науки. Но от этого я отошел и взялся в основном за одну — за науку об образовании земли. Чтобы дополнить труды, которые я читаю на эту тему, я стараюсь наблюдать за природой во время своих путешествий по разным краям, записываю увиденное и делаю зарисовки. Поскольку труды эти трактуют преимущественно о горах, я тоже хожу по преимуществу в горы. Да и вообще мне в них многое мило.
— Это наука очень широкая, — отвечал мой гостеприимец, — если подходить к ней с точки зрения истории земли. Она включает в себя много наук и на многих основывается. Сейчас, когда эта наука еще молода, когда ее первые черты только вырисовываются, горы имеют, конечно, очень большое значение. Но придет очередь и равнине, и ее простой, однако труднее разрешимый вопрос приобретет, несомненно, не меньшую важность.
— Несомненно, — отвечал я. — Равнину и ее язык, каким она со мной говорила, я полюбил еще до того, как взялся за теперешнюю свою задачу и узнал горы.
— Я думаю, — сказал мой провожатый, — что сегодня задача науки, о которой мы говорим, — собирать. Из этого материала в отдаленном будущем построят что-то, чего мы еще не знаем. Собирание всегда опережает знание. Это не удивительно, ведь собирание и должно предшествовать знанию. Удивительно то, что стремление собирать овладевает умами, когда какая-то наука только должна возникнуть, когда они еще не знают, каково будет ее содержание. Сердца как бы томятся, гадая, зачем на свете то-то и то-то, для чего это сотворил Бог. Но и без такого томления в собирательстве есть что-то очень привлекательное. Я сам собрал в горах все свои мраморы, под моим руководством их выламывали из скал, распиливали, шлифовали, подбирали друг к другу. Эта работа доставила мне много радости, и думаю, что эти камни так дороги мне только потому, что я сам находил их.
— У вас все породы наших гор? — спросил я.
— Не все, — отвечал он, — может быть, я и набрал бы их постепенно, если бы мог постоянно продолжать свои вылазки. Но в старости мне это все трудней и трудней. Когда я теперь изредка взбираюсь к кромке ледника Зимми, я чувствую, что дело обстоит уже не так, как в молодости, когда не существовало никаких границ, кроме как конец дня или явная невозможность. Поскольку к дальним залежам недостающего мне мрамора я уже ходить не могу, разработка их идет на убыль. Идет она на убыль и по той причине, что пород у меня собрано много, и значит, мало осталось мест, где я мог бы найти то, чего мне не хватает. И поскольку весь мрамор собрал я сам, мне не к лицу пристраивать у себя в доме добытое чужими руками.
— Вы, стало быть, сами и построили дом или изрядно его перестроили? — спросил я.
— Я сам построил его, — отвечал он. — Жильем при этих землях служил прежде хутор, где вчера, когда мы сидели на скамеечке, люди косили траву. Купив его вместе со всеми землями у прежнего владельца, я построил на холме дом, а хутор отвел на хозяйственные нужды.
— Но уж сад-то вы вряд ли могли посадить заново?
— Это особая история, — отвечал он. — Я скажу: я посадил его заново, и я скажу: я не сажал его заново. На остаток дней я построил себе дом в подходящем, как мне казалось, месте. Хутор стоял в долине, как обычно располагаются постройки такого рода, чтобы вокруг двора была сочная трава, которая часто бывает нужна в хозяйстве. А мне хотелось построить себе жилье на возвышении. Когда оно было готово, пришлось подтягивать к нему сад, соседствовавший с хутором и доходивший до меня лишь одиночными деревьями или их группами. Липа, под которой мы сейчас сидим, как и ее подруги, которые стоят вокруг нее или образуют аллею в саду, стоят там, где стояли. Большая старая вишня на пригорке стояла среди хлебов. Я присоединил этот пригорок к своему саду, проложил дорожку к вишне и опоясал ее скамеечкой. Так же я поступил и со многими другими деревьями. Некоторые, и среди них такие могучие, что даже не верится, мы пересадили. Мы выкопали их зимой с большими комьями земли, повалили с применением веревок, притащили сюда и с помощью рычагов и бревен опустили в заранее вырытые, хорошо подготовленные ямы. Надлежаще подрезанные ветки и сучья наливались весной особенной силой, словно деревья пробуждались для новой жизни. Кусты и карликовые плодовые деревья — все это посажено заново. Скорее, чем думалось, мы, к своей радости, увидели сад, сросшийся воедино так, словно он никогда и не был на другом месте. Близ хутора я велел кое-где срубить оставшиеся деревья, если они мешали зерновому хозяйству. Ведь места, откуда были выкопаны деревья, распахивались, чтобы возместить на той стороне землю, которая на этой пошла под сад.
— Прелестная у вас резиденция, — заметил я.
— Не только резиденция, прелестен весь этот край, — возразил он, — здесь хорошо жить, удалясь от человеческой скученности и трудясь в меру своих сил. Иногда надо заглядывать в самого себя. Но и в самом прекрасном краю негоже быть всегда наедине с собой. Порой следует возвращаться к своему обществу, хотя бы лишь для того, чтобы прийти в умиление от какой-нибудь великолепной развалины, оставшейся от знакомца нашей юности, или полюбоваться каким-нибудь крепышом, которому удалось сохраниться. После таких перерывов сельская жизнь снова льет свой целительный бальзам на открытую душу. Но нужно находиться вдали от города и не испытывать его воздействия. В городе видны те перемены, которые вызваны искусствами и ремеслами, в деревне же те, причина которых — насущная потребность или взаимодействие явлений природы. Между этими переменами нет лада, и после городской жизни сельская представляется тебе чуть ли не вечной, и тогда перед тобой — прекрасная явь, а перед мысленным взором — прекрасное прошлое, уходящее в бесконечность чередой изменений в природе и людях.
Я ничего не ответил на эту речь, и мы помолчали.
— Вы останетесь у нас на вторую половину дня и на ночь?
— После такого приема, — отвечал я, — я с удовольствием провел бы здесь еще одни сутки.
— Отлично, — сказал он, — только позвольте мне оставить вас на некоторое время одного, потому что приближается час, когда я должен сходить к Густаву и помочь ему в его учебных занятиях.
— Только не стесняйте себя ни в чем, — ответил я.
— В таком случае я вас покину, — сказал он, — а вы прогуляйтесь по саду, или поглядите на поле, или пойдите в дом.
— Сейчас мне хотелось бы еще немного посидеть под этим деревом, — отвечал я.
— Поступайте как вам угодно, — сказал он, — только помните, что обедают в этом доме, как я вчера сказал, в двенадцать.
— Помню, — сказал я, — и порядка не нарушу.
Вскоре он встал, стряхнул с волос былинки и букашек, упавших на него с дерева, поклонился и ушел в сторону дома.
5. Прощание
Я довольно долго просидел под деревом, размышляя об увиденном и услышанном. Пчелы жужжали в деревьях, и в саду пели птицы. Дом, куда ушел старик, проглядывал сквозь зелень деревьев отдельными частями, белой стеной, черепичной крышей, а справа от меня, за кустами, там, где угадывалась столярная мастерская, в небо поднимался дымок. Пенье птиц и жужжанье пчел были для меня почти тишиной, потому что в своих странствиях по горам я привык к такому постоянному шуму. Тишину нарушали лишь отдельные звуки, доносившиеся из сада от работников, то слышался визг насоса, качавшего и направлявшего в бочку по желобам воду для вечерней поливки, то раздавался дальше или ближе человеческий голос, что-то приказывавший или объяснявший. Небо, просвечивавшее там и сям в зелени деревьев, было везде синее и показывало, сколь прав был мой гостеприимец в своем предсказании хорошей погоды.
Наконец я оторвался от своих размышлений и пошел садом вверх.
Пошел я к высокой вишне. Я искал открытого места, потому что в саду из-за ограниченного обзора нельзя было определить метеорологическую обстановку. Здесь, наверху, небо вздымалось надо мной высоким, широко растянутым колоколом, и на всем этом колоколе не было ни единого облачка. Горы, которые мы вчера не могли увидеть, четко вырисовывались на юге. Пространство перед ним было усеяно белыми точками церквей и деревень, ближе ко мне виднелись башни знакомых мне мест, а подо мною покоились сад и дом, в котором вчера меня так приветливо приняли. Хлеба, начинавшиеся неподалеку от меня за оградой и вчера совсем неподвижные, находились сегодня в хоть и легком, но веселом волнении. Я подумал, что погода не только сейчас так хороша, но и долго еще останется такой же прекрасной.
От высокой вишни я снова пошел в сад, разглядывая разные предметы.
Я еще раз побывал в теплице. Теперь я многое рассмотрел подробнее, чем это удалось мне прежде, когда я со своим провожатым совершал только обход дома. Белый садовник, присоединившийся ко мне, многое мне объяснял, давал разные справки и отвечал на все мои вопросы в меру своей осведомленности. Когда я покидал это здание, он сказал, что хочет показать мне еще кое-что, чего хозяин по забывчивости не показал. Садовник повел меня на песочную площадку, со всех сторон открытую солнцу, но защищенную от сильных ветров окружавшими ее на некотором расстоянии деревьями и кустами. Среди площадки стоял стеклянный домик, он был углублен в землю. Поэтому и еще из-за того, что его окружали деревья, я прежде не заметил его. Когда мы подошли ближе, я увидел, что он весь из стекла и что каркас у него не крепче, чем нужно, чтобы держались стеклышки. Домик был, вероятно, для защиты от града, обтянут мощной железной сеткой. Когда мы по нескольким ступенькам спустились из сада внутрь домика, я увидел, что в нем помещены растения, причем только одной породы, сплошь кактусы. В тысячах горшочков было более сотни разновидностей кактусов. Низкие и круглые стояли свободно, длинные же, пускавшие воздушные корни, соседствовали со стенками из смешанной с землей древесной коры, куда и вцеплялись корнями. Все окошки над нашими головами были открыты, отчего все помещение продувалось воздухом, а солнечные лучи не встречали препятствий. Горшки стояли на деревянных подставках, а между ними были промежутки, так что можно было ходить по всем направлениям и все осматривать. Садовник водил меня, показывая мне группы и подгруппы, по которым были распределены кактусы.
Я сказал, что рад такому заботливому отношению моего гостеприимца к этим растениям, несомненно своеобразным и занятным.
— Чем дольше их наблюдаешь и чем дольше имеешь с ними дело, тем занятнее они становятся, — сказал садовник. — Строение их очень разнообразно, иголки могут служить и настоящим украшением, и оружием, а листья бывают чудесны, как сказки. Через месяц вы бы увидели очень красивые, они еще не распустились как следует.
Я сказал ему, что уже видел их листья, не только такие, которые, хоть они и красивы, встречаются везде, но и другие, редкие, и такие, где красота соединяется с приятным запахом. Я сказал ему, что в прежние времена занимался ботаникой, правда, не ради садоводства, а для собственного образования и развлечения и что кактусам я уделял внимание не в последнюю очередь.
— Если хозяин собирает старые вещи, — сказал он, — то ему следовало бы делать это и со старыми растениями. В Ингхофе в теплице есть cereus потолще мужской руки вместе с рукавом. Он поднимается по стене, загибается и растет дальше по потолку, к которому прикреплен веревками. Нижняя часть его уже одеревенела, на ней вырезаны имена. Думаю, что это cereus peruvianus. Там не так уж дорожат им, и хозяину следовало бы купить его, даже если из-за длины этого кактуса пришлось бы сцепить три повозки, чтобы доставить его сюда. Ему уже добрых двести лет.
Я не ответил на эту речь, чтобы не вмешиваться в его летосчисление разведения кактусов в Европе.
Осмотрев наконец все, я поблагодарил его за труд и вышел из домика. Он очень любезно и со множеством поклонов попрощался со мной.
Я прошел к входной решетке, через которую меня вчера пропустил хозяин, потому что мне хотелось немного осмотреться и за пределами сада. Работник, занятый чем-то поблизости, открыл мне калитку, потому что я не знал устройства замка, и я вышел наружу. Я обошел в разных направлениях ту сторону холма, по которой взобрался еще вчера. Хотя я в общем хорошо знал местность, где сейчас находился, мне никогда еще не случалось задерживаться здесь столь долго, чтобы можно было вникнуть в подробности. Я увидел теперь, что оказался в очень плодородном, очень красивом краю, что между изгибами холмов тянутся прелестные места и что густая заселенность придает этому краю что-то очень веселое. День делался все теплее, не становясь жарким, и стояла та тишина, которая более, чем в какое-либо другое время, царит в полях в пору цветения роз. В эту пору все злаки зелены, они находятся в состоянии роста, и если в данной местности не так много лугов, где сейчас идет сенокос, то людям в полях нечего делать, и они оставляют их наедине с плодотворящим солнцем. Тишина была такая, как в горах; но она не была такой одинокой, потому что со всех сторон тебя окружало дружное общество растений-кормильцев.
Звон далекого деревенского колокола и часы, которые я вынул, напомнили мне, что уже полдень.
Я пошел к дому, решетку мне открыли, как только я дернул звонок, и я вошел в столовую. Там я застал хозяина и Густава, и мы сели за стол. Обедали мы только втроем.
Во время обеда мой гостеприимец сказал:
— Вы удивитесь, наверное, что мы принимаем пищу в таком уединении. И правда, очень жаль, что исчез старый обычай, чтобы хозяин дома сидел за трапезой вместе со своей родней и челядью. Так слуги превращались в членов семьи, они часто служили в одном и том же доме всю жизнь, хозяин жил с ними в приятной дружбе, и поскольку все полезное для государства и человечества идет от семьи, они становились не только хорошими, любящими дело слугами, но и хорошими, доброчестно привязанными к дому, как к святыне, людьми, для которых хозяин надежный друг. Но с тех пор, как они отделены от него, с тех пор, как получают плату за труд и принимают пищу отдельно от него, они не связаны ни с ним, ни с его ребенком, у них свои цели, они оказывают ему сопротивление, легко покидают его и часто, поскольку у них нет ни семьи, ни образования, предаются порокам. Пропасть между так называемыми образованными и необразованными становится все шире. А уж когда крестьянин ест свои кушанья в своей отдельной каморке, неестественное различие воцаряется там, где естественного не могло бы и быть.
— Я хотел, — предложил он через несколько мгновений, — завести этот обычай в здешнем нашем доме. Люди, однако, воспитаны здесь иначе, они закоснели в своих привычках и не могли приспособиться к чужому, это было бы для них только утратой свободы. Нет сомнения, что постепенно они сжились бы и с другим порядком, особенно молодые, еще поддающиеся воспитанию. Но я слишком стар, на эту задачу мне не хватит остатка лет. Вот я и не стал принуждать своих слуг, а моим более молодым преемникам вольно возобновлять такие попытки, если они разделяют мое мнение.
Во время этой речи мне вспомнился родительский дом, приятный тем, что по крайней мере приказчики отца обедали с нами за одним столом.
Послеобеденное время было отведено посещению хутора, и Густав сопровождал нас.
Мы не пошли по дороге, что ведет мимо высокой вишни и верхом полей. Эта дорога, сказал мой гостеприимец, уже знакома нам. Вблизи улья мы вышли через калитку наружу и пошли вниз по тропинке по пологому склону, поросшему оставшимися еще от хуторского сада высокими плодовыми деревьями лучших местных сортов. Луга, через которые мы проходили, были хороши на редкость.
Подойдя к дому, я увидел, что он, как и другие большие усадьбы в округе, представляет собой пространный прямоугольник, но что его кое-где улучшали и расширяли пристройками. Вокруг построек двор был вымощен широкими камнями, а в остальной своей части покрыт измельченной кварцевой крошкой. В постройках, его окружавших, находились хлевы, амбары, каретные сараи и жилища. Погреб стоял на отшибе в саду. Мы осмотрели скотину, находившуюся на месте, от лошадей и коров до свиней и птицы. Для коров за домом была выгорожена славная площадка, где их можно было оставлять на воздухе. Свежая питьевая вода подавалась им туда по глубокому каменному желобу. Такого устройства я никогда раньше не видел, и оно мне очень понравилось. Похожая площадка была выгорожена и для птицы, а неподалеку от нее была полянка для жеребят. Посетили мы и жилища работников. Здесь я обратил внимание на большие, красивые каменные наличники на окнах, нетрудно было также заметить, что окна значительно расширены. В каретном сарае стояли про запас не только коляски и другие повозки, но и всякие сельскохозяйственные орудия. Под навозохранилище, имевшееся, как в большинстве хозяйств нашего края, и здесь, была отведена за домом площадка, отгороженная высокими кустами со всех сторон.
— Многое находится еще в стадии возникновения и становления, — сказал мой гостеприимец, — но потихоньку дело движется. Надо щадить предрассудки тех, кто вырос в других условиях и к ним привык, чтобы люди, придя в растерянность от нового, не перестали любить работу. Надо успокаивать себя тем, что очень многое уже достигнуто, и уповать на будущее.
Люди, жившие в этом доме, убирали скошенное вчера сено или, где требовалось, разбрасывали его для полной просушки. Мой гостеприимец кое с кем из них заговаривал и спрашивал о разных насущных делах.
Уходя с противоположной стороны дома, мы увидели и огород, где выращивались овощи для домашней надобности.
Обратно мы пошли другой дорогой. Если раньше высокая вишня оставалась севернее, то теперь мы оставляли ее южнее, отчего казалось, что мы обойдем весь сад. Мы поднялись к тому лугу, о котором хозяин вчера сказал, что это — северная граница его владений и что ему не удалось улучшить здесь землю, как он хотел. Дорога плавно шла в гору, и в глубине луга нас встретил извилистый ручеек в окаймлении камышей и кустов. Вскоре мой спутник сказал:
— Это луг, который я вчера показывал вам с холма, говоря, что мои владения доходят досюда и что я не смог сделать здесь то, что хотел. Вы видите, что земля у ручья заболочена и трава на ней влажная. Дело легко можно было бы поправить и получить нежнейшую траву, спрямив ручей, чтобы он быстрее стекал, укрепив его стенки камнями и засыпав низинки сухой землей. Теперь я могу показать вам причину, по которой это не получается. По обеим сторонам ручья вы видите побеги ольхи. Подойдя ближе, вы увидите, что они растут как бы из чурбаков, как бы из коряг, бревен, частью торчащих на поверхности, частью ушедших во влажную почву.
После этих слов мы подошли к ручью, и я увидел, что так оно и было.
— Эти коряги, — продолжал он, — их которых вылезают прутики или хилые веточки, образуются здесь в заболоченной почве, но возникают также в песке или в камнях, это — выродившаяся ольха, дерево вообще-то рослое и красивое. Из-за стремления всех частей дерева пустить побольше побегов и мешающих друг другу ветвей, чтобы тем самым распространиться, расшириться, возникают такие сплетения, такие закрученности волокон и коры, что если распилить чурбан и загладить срезы, то в кольцах, извилинах и завитках открываются великолепные сочетания цветов и рисунков, благодаря чему такая древесина очень хороша для столярных работ и в большой цене. Когда я купил усадьбу, осмотрел луг и увидел эти коряги, я велел одну из них выкопать и распилить, а потом исследовал ее. Хорошо к тому времени разбираясь в дереве, я понял, что эти колоды — одна из лучших на свете пород дерева, что эта огненная краснота, этот мягкий, шелковистый блеск, на что особенно обращают внимание, ни с чем не сравнимы. Я велел выкопать несколько таких колод и разрезать на доски. Их применение вы увидите в нашем соседстве, если вновь посетите нас и позволите провести вас туда, где они находятся. Остальные колоды я оставил в земле — как сокровище, чтобы оно здесь хранилось и умножалось. Только когда какая-либо из них перестает пускать ростки и начинает гибнуть, мы ее выкапываем и разрезаем на доски, которые я сохраняю для будущих работ или продаю. На ее месте быстро образуется другая. К решению разводить эту породу я пришел, во-первых, после того, как обследовал окрестности нашего дома, все ложбинки, все русла ручьев, и нигде не нашел такого хорошего ольхового дерева, а во-вторых, после того, как все, что мне, по моей просьбе, присылали из многих других мест, оказалось не идущим ни в какое сравнение с нашим. Выше этого ольшаника я устроил плотину, чтобы ольху не затопляла вода и не засыпала галька и еще чтобы отвести воду к другому стоку. Мои соседи признали целесообразность моих стараний, а двое из них даже развели такие ольшаники на пустошах, от которых не нужно было отводить воду. Увенчалось ли это успехом, еще нельзя сказать, поскольку деревца еще слишком молоды.
Осмотрев ряды посадок, мы пошли дальше.
Мы пошли вдоль луга, миновали рощицу, пересекли плотину, упомянутую моим гостеприимцем, и начали обход не только сада, но и всего холма с полями, на котором стоит дом.
Поскольку солнце пригревало все сильнее, хотя жары вроде бы не было, я удивился, что оба моих провожатых обходились без головных уборов. Они вышли без них из дому. Старик подставлял солнцу всю копну своих седых волос, а голову воспитанника покрывали густые, блестящие, каштановые кудри. Не знаю, кто был чуднее — они без головных уборов или я рядом с ними в своей дорожной шляпе на голове. У юноши было, во всяком случае, то преимущество, что от солнца щеки его стали еще краснее и румянее и красивее прежнего.
Мне и вообще было приятно смотреть на него. Его легкая походка была как ясный весенний день в сравнении с хоть твердой еще, но целенаправленной и размеренной поступью его спутника, его стройная фигура была как веселое начало, а фигура его воспитателя — как близкое окончание. Что касается его манеры вести себя, то он был сдержан и скромен и в разговоры не вмешивался. Я часто обращался к нему с вопросами о разных вещах, особенно о таких, которые касались окружающей местности и которые, по моему предположению, он должен был знать. Отвечал он уверенно и с некоторой почтительностью ко мне, хотя возрастом я отстоял от него не так далеко, как его воспитатель. Шел он, даже если дорога была достаточно широкая, большей частью позади нас.
Полностью обойдя холм и пройдя мимо множества сельских жилищ, мы поднялись к дому с той же стороны и по той же дороге, по какой я вчера к нему подошел. Здесь нас встретили розы, как они встретили меня вчера. Я воспользовался этим зрелищем, чтобы расспросить своего гостеприимца насчет роз, ибо и вообще собирался задать ему один вопрос по поводу этих цветов. Я предложил пройти по большой песчаной площадке поближе, чтобы обзор был лучше. Сделав это, мы оказались перед целой стеной цветов, закрывавших нижнюю часть белого дома.
Я сказал, что он, верно, особый охотник до этих цветов, коль скоро развел столько сортов, и что таких совершенных растений, как у него, нигде не увидишь.
— Я и впрямь люблю эти цветы — и нахожу их самыми прекрасными. Право, не знаю, которое из этих чувств рождено другим.
— Я тоже, пожалуй, — сказал я, — склонен считать розу самым прекрасным цветком. К ней близка камелия, нежная, ясная, чистая, полная нередко великолепия, но в камелии мы всегда чувствуем что-то чуждое, какую-то аристократическую отстраненность. Мягкости, позволю себе так выразиться, очарования розы у нее нет. А о запахе не будем и говорить: он к делу не относится.
— Да, — сказал мой гостеприимец, — он к делу не относится, если говорить о красоте. Но если пойти дальше и говорить о запахе, то ни один не сравнится в приятности с запахом розы.
— Об этом могут быть разные мнения, — ответствовал я, — но у розы, конечно, гораздо больше друзей, чем противников. Ее чтут ныне и чтили в прошлом. Ее обликом чаще всего пользуются для сравнения, ее цветом украшают себя юность и красота, ею наряжают жилища, ее запах считается ценностью, им дорожат и торгуют. Были народы, особенно покровительствовавшие разведению роз, воинственные римляне венчали себя розами. Особенно мила она, когда так выставлена на обозрение, как здесь, где она как бы возвышена, как бы восславлена своим разнообразием и множеством сочетаний. Во-первых, здесь целые россыпи роз, а к тому же они распределены по большой белой плоскости дома и на ней выделяются. Перед ними белая плоскость песка, а она в свою очередь отделена от поля зеленой полоской травы и живой изгородью, словно зеленой шелковой лентой и зеленой отделкой.
— Сажая розы, — сказал он, — я об этой особенности не задумывался, хотя стремился представить их во всей красоте.
— Но я не понимаю, почему они здесь так хорошо прижились, — заметил я. — Условия для них здесь, собственно, самые неблагоприятные. Деревянная решетка, к которой они привязаны, белая стена, у которой их палит солнце, навес, создающий преграду дождю, росе и воздействию небосвода, да и сам дом, препятствующий притоку воздуха.
— Такого роста, — ответствовал он, — нам удалось добиться лишь постепенно, было несколько неудачных попыток. Но на них мы учились и стали вести дело по правилам. Землю, которую розы особенно любят, мы частью выписывали из других мест, частью приготовляли в саду, руководствуясь приобретенными мною для этого книгами. Я ведь явился сюда не совсем неопытным человеком, я и прежде уже разводил розы и применил здесь имевшийся у меня опыт. Когда земля была готова, мы вырыли перед домом глубокую, широкую канаву и заполнили ее этой землей. Затем была поставлена деревянная решетка, которую обильно выкрасили масляной краской, чтобы от воды не завелась гниль, и весной саженцы роз, которые я либо вырастил сам, либо получил от цветоводов, были посажены в рыхлую землю. По мере того как они подрастали, их подвязывали, а с годами пересаживали, меняли и так далее, пока стена постепенно не закрылась. В саду разбили грядки про запас, это был как бы питомник, где выращивали экземпляры, которым предстояло переселиться сюда. Для защиты от солнца мы прикрепили под крышей рулон полотна, превращающийся, стоит лишь потянуть за веревки, в навес над розами, который смягчает лучи. Таким образом саженцы защищены от слишком жаркого летнего солнца, а цветы — от вредных для них лучей. Сегодняшнее солнце не слишком жарко для них. Вы видите, они радуются ему. Что касается вашего замечания насчет росы и дождя, то решетка стоит не настолько близко к дому, чтобы совсем закрыть доступ небесной влаге. И роса садится на розы, и даже дождь на них каплет. А на случай, когда небо воды не даст, у нас имеется под кровельным лотком бак с очень мелкими отверстиями, который можно наполнять водой из стоящих под крышей бочек. Легким нажатием на ручку отверстия эти отворяются, и вода падает на розы, словно роса. Приятно смотреть, как в великую сушь вода стекает с листьев и веток и они освежаются ею. А чтобы не прекращался, как вы опасаетесь, приток воздуха, есть простое средство. Прежде всего на этом холме и так-то всегда веет слабый ветерок, обдувая и стену дома. Но если в совсем тихие дни растениям все-таки не хватает воздуха, мы открываем окна первого этажа — и на этой стене, и на противоположной. А поскольку противоположная стена северная и воздух там холодный из-за тени, он втекает в те окна и вытекает из этих у роз. При полном безветрии вы можете здесь увидеть легкое шевеление листьев.
— Это изрядные усилия, — отвечал я, — доказывающие вашу любовь к этим цветам. Но одними усилиями все-таки нельзя объяснить то особое, никогда не виданное мной доселе совершенство ваших растений, когда нет ни одного несовершенного цветка, ни одной засохшей веточки, ни одного неправильного листика.
— Отчасти это объясняется все-таки усилиями, — сказал он, — воздух, солнце и дождь улучшены южной стороной и всяческими приспособлениями, насколько это возможно. Еще больше труда ушло на землю. Поскольку мы не знаем, в чем первопричина роста живых существ вообще, я заключил, что розам полезнее всего то, что происходит от роз. Поэтому мы собирали все отбросы, особенно листья и даже ветки от диких роз, которых полно в округе. Эти отбросы мы складываем в кучи в отдаленных частях сада, там они подвергаются воздействию воздуха и дождя, и таким образом готовится земля для роз. Когда в такой куче нет уже ни следа от растений и уже ничего, кроме рыхлой земли, не видно, эту землю и отдают розам. Новопосаженные кусты получают в своих ямках сразу столько земли, что ее хватает им на много лет. Старые розы, истощившие свою почву за долгое время, получают подкормку. Иногда с их корней сметают старую землю и заменяют новой, а иногда растения вовсе выкапывают и их лунки заполняют свежей землей. Прямо-таки на глазах у тебя радуются этому подарку листья и лепестки. Но несмотря ни на землю, ни на воздух, ни на солнце, ни на влагу, розы не предстали бы вам такими прекрасными, если бы не было за ними другого ухода. Ведь беды, случается, происходят от нераспознанных нами причин или от причин, которые мы распознали, но устранить не в состоянии. Наконец, как и все живое, растения умирают естественной смертью. Больные растения у нас все же выкапываются, их отправляют, как в госпиталь для роз, в сад и заменяют другими, из питомника. Мертвые деревья здесь попадаются редко, потому что во время умирания их уже удаляют. Если же какая-то причина убивает деревце быстро, его удаляют без проволочки. Точно так же удаляются заболевшие или погибающие части решетки. Лучшее время для этого — весна, когда ветки еще голые. Тогда мы ставим стремянки, дающие доступ ко всем частям решетки, и вся она обследуется. Надо также очищать кору, ухаживать за ней, перевязывать ее раны, подвязывать ветки, отрезать негодные. Но и летом мы удаляем каждый неправильный листик, каждый недоразвитый цветок. Постепенно все в доме пристрастились к розам, следят за ними и тотчас дают знать, если заметят что-либо неладное. В округе тоже полюбили эти цветы, их сажают в садах, за ними ухаживают, я дарю соседям саженцы с моих грядок и обучаю их обращению с ними. В двух часах ходьбы отсюда живет крестьянин, у которого, как и у меня, вся стена дома обсажена розами.
— Чем важнее мне кажется ваше обращение с розами, — отвечал я, — и чем большую важность придаете вы им сами, тем сильнее напрашивается у меня вопрос, почему вы разводите розы предпочтительно у этой стены вашего дома, где место для них не самое благодатное и требуется столько хлопот для полного их процветания. Спору нет, они здесь прекрасно разрослись и очень красивы, но нельзя ли было разместить их такими или еще более красивыми группами в саду, да еще с тем преимуществом, что за ними было бы гораздо легче ухаживать.
— Я посадил розы у стены этого дома, — возразил он, — потому что с этим цветком меня связывает одно воспоминание юности, из-за которого мне приятен именно такой способ его выращивания. Думаю, что только поэтому роза кажется мне такой прекрасной и поэтому я трачу столько сил на уход за нею.
— Вы ничего не сказали о насекомых, — заметил я. А я знаю по опыту, что ни один вид растений, кроме разве что тополя, насекомые не одолевают с таким напором, как розу, заводясь в разных ее сортах и поколениях им на погибель. Здесь я не нахожу никаких признаков этого бедствия, словно его вообще не существует или роза избавлена от него каким-то искусственным средством. Не станете же вы вылавливать каждого трубковерта, каждого паука, каждую тлю? Но это наводит меня еще и на другое обстоятельство, о котором я собирался вас спросить, вопрос этот я при удобном случае задал бы, конечно, еще до моего ухода, но позволю себе задать его сейчас, раз уж вы с такой добротой и готовностью посвящаете меня в дела своего имения. Во время своих странствий по селам я не раз замечал, что плодовые деревья порой стоят с совсем голыми ветками или что листва их изъедена гусеницами. Я не обращал на это особенного внимания, поскольку такая картина была знакома мне с юности и поскольку ничего необыкновенного она не являла. Но я обратил внимание вот на что: так же как здесь в розарии, во всем вашем саду не видно никаких следов этой напасти — ни одного засохшего росточка, ни одной голой веточки, ни одного объеденного до стебля листочка, даже ни одного испорченного листа капусты, на которую обычно набрасывается капустница. При виде такого благополучия мне вспомнились потравы, виденные мною повсюду, и по этому поводу я решил спросить вас, известны ли вам какие-либо особые средства. Ведь собирание гусениц и насекомых нигде не оправдывало себя.
— Обирая вредителей с листьев и веток, мы и не спасли бы от порчи ни наших роз, ни кустов и деревьев сада, — ответствовал он. — У нас в самом деле есть другие приемы. Должен сказать, что я рад, что вы заметили в моем саду отсутствие какой-либо потравы от гусениц, и я охотно просвещу вас, тем более что этот опыт следовало бы распространить. Однако ответ на ваш вопрос лучше всего дать в саду, где я смогу в подтверждение своих слов сразу и показать вам некоторые приспособления. Если вы не против, пройдемте в сад, небольшой отдых в котором, где-нибудь на скамеечке, будет мне после подъема от хутора весьма кстати.
— Позвольте мне еще минутку поглядеть на эти розы, — сказал я.
— Поступайте как вам хочется, — отвечал он.
Сначала я подошел поближе к решетке, чтобы рассмотреть все подробно. Я увидел действительно чистейшую, без единой травинки землю, в которой стояли стволы. Я увидел хорошо окрашенную деревянную решетку, к которой были привязаны деревца и по которой раскинулись их ветки, отчего и не было ни одного пустого места на стене дома. На каждом стволе висела бумажка с названием цветка, упрятанная в стеклянный футляр. Футляры эти служили защитой от дождя, будучи сверху закрыты, а внизу загнуты и снабжены сточным желобком. Рассмотрев все это с близкого расстояния, я опять отошел назад и еще раз медленно оглядел всю стену цветов. Сделав это, я сказал, что теперь можно пойти и в сад.
Мы подошли к калитке, старик нажал на ручку, как вчера, когда он впустил меня, калитка открылась, и мы вошли в сад. Там мы направились к скамейке, стоявшей в приятной послеполуденной тени. Когда мы сели, мой гостеприимец сказал:
— Средства, которыми мы защищаем от оголения деревья, кусты и мелкие растения, так просты, так натуральны, что стыдно было бы их перечислять, хотя, с другой стороны, применяют их, особенно последние, отнюдь не везде. Что касается оголения деревьев и веток, то происходит оно не всегда по вине гусениц, а часто и по другим причинам. Против окончательного умирания, то есть оголения всего дерева, средств, как и против смерти человека, не существует. Нельзя, однако, доводить дело до того, чтобы дерево стояло в саду мертвым. Надо время от времени подрезать ветки, тем самым придавая дереву новые силы, а когда это средство перестает оказывать действие, надо разлучать дерево с садом на благо обоим. Такому дереву вообще не место в более или менее ухоженном саду или еще где-либо. А против оголения частей дерева средств у нас много. Заключаются они в том, чтобы давать дереву то, в чем оно нуждается, и отнимать у него то, что ему вредит. Поэтому первое правило — не сажать дерево в таком месте, где оно жить не может. На местах, вообще непригодных для жизни деревьев, никакой разумный человек дерева, конечно, не посадит. Но есть места, негодные только потому, что они не возделаны или в них не хватает чего-то необходимого для определенных растений. Чтобы как следует возделать такое место, мы, прежде чем посадить дерево, выкапываем там глубокую яму и наполняем ее рыхлой землей, чтобы дерево успело подрасти, прежде чем ему придется пустить корни в невозделанный грунт. Даже старые стволы, которые я здесь застал и состояние которых мне не понравилось, я привел в прекрасный вид, выкопав их и пересадив в разрыхленный грунт. Но прежде чем выкапывать яму и сажать в нее дерево, мы старались по опыту или по книгам определить, в чем, помимо земли, оно нуждается и где подходящее для него место. А дерево, для которого такого места в саду нет, — из сада долой. Деревья, требующие много воздуха, мы сажаем на месте, где много воздуха, любящие свет — на свету, любящие тень — в тени. Нуждающиеся в защите мы сажаем под защиту более высоких или ветроустойчивых. Боящиеся мороза или оледенения стоят у стен или в теплых местах. Так все они и живут собственной жизненной силой и естественной пищей. Весной каждый ствол и все крепкие его ветки обмываются и очищаются щеткой и свежей мыльной водой. Щеткой удаляются посторонние вещества, способные причинить вред дереву, а обмывание полезно для коры, которая так же важна для жизни, как кожа животных, да и стволы мытье только красит. На наших деревьях нет мха, кора у них чистая, а у вишен она почти так же изящна, как серый шелк.
Я заметил, что у всех деревьев очень здоровая кора, но я связывал это с их прекрасными листьями и вообще с их хорошим состоянием как с неким непременным следствием такового.
— Если же, несмотря на все эти предосторожности, — продолжал мой гостеприимец, — отдельные части дерева оголятся из-за холода, ветра и тому подобного, их удаляют при подрезании веток весной. Срез залепливается хорошей замазкой, чтобы влага не проникала в дерево, вызывая болезнь в еще здоровой его части. Вот почему в саду и вовсе не нашлось бы оголенных ветвей, если бы не вмешательство внешних врагов. Таковые суть град, ливни и подобные явления природы, против которых средств нет. Но и вред от них не так уж велик. В наших местах они редки, да и последствия их легко скрадываются быстрым устранением погубленного, молодой порослью и дополнительными высадками. Более опасные противники — насекомые, они способны загубить сад, разрушить его красоту и в иные годы придать ему весьма плачевный вид. Вот то обстоятельство, о котором я сказал, что упомяну о нем под конец. Вы видите, что от нашествия насекомых, которое вы, говорите, замечали во время ваших походов на других деревьях, наш сад в этом году избавлен.
— Я видел в теплых и тихих местах яблони почти вовсе без листьев, — отвечал я. — Таких случаев мне встречалось немало. А уж отдельные ветки без листьев или целые деревья с изуродованной листвой я видел часто. Однако я не считал это великой бедой и объяснял неудачным годом, зная, что такие потравы случаются всегда и что урон от них, если они не чрезмерны, не так уж значителен. Я смотрю на это как на нечто неизбежное.
— Тут вы, однако, не правы, — сказал мой гостеприимец, — явление это постоянно приносит урон, и если подсчитать его по целой округе, он может оказаться весьма существенным, а к нему надо прибавить и то, что приходится глядеть на голые ветки. К тому же явление это вовсе не неизбежно. Против него есть средство, притом не только действенное, но и очень красивое, а значит, дающее, кроме пользы и наслаждение, через которое природа как бы пробуждает нас прибегнуть к нему. Тем не менее, как я уже сказал раньше, средство это применяется меньше всех прочих, а во многих местах его даже стараются уничтожить.
Я посмотрел на него вопросительно.
— Не слышали ли вы в нашем саду чего-то, что вас особенно поразило? — спросил он.
— Пение птиц, — сказал я вдруг.
— Вы заметили верно, — отвечал он. — Птицы в этом саду и есть наше средство от гусениц и вредных насекомых. Это они очищают деревья, кусты, мелкие растения, а также, естественно, розы гораздо лучше, чем на то способны человеческие руки или какие-либо средства. С тех пор как нам помогают эти приятные труженики, в нашем саду, не только в этом году, но и вообще никогда, не случалось хоть сколько-нибудь заметной потравы от гусениц.
— Но ведь птицы есть повсюду, — возразил я. — Может быть, в вашем саду их больше и потому они лучше защищают его?
— Их больше в нашем саду, — ответил он, — гораздо больше, чем в любом месте этой страны, а может быть, и других стран.
— И как же здесь оказалось их больше? — спросил я.
— Дело тут обстоит так же, как с деревьями, о которых я сказал, что, если хочешь, чтобы они были у тебя в каком-то определенном месте, надобно создавать им условия для роста, — только живность не нужно высаживать, она прибывает на это место сама, особенно птицы, которым переселяться очень легко.
— И каковы же эти условия? — спросил я.
— Главным образом — защита и пища, — ответствовал он.
— Как же можно защитить птицу? — спросил я.
— Ее нельзя защитить, — сказал мой гостеприимец, — она сама себя защищает. Но предоставить ей возможность защищать себя можно. Певчие птицы, не имеющие оружия для защиты, прячутся от врагов и непогоды в дуплах, скалах, каменных стенах и вообще отверстиях, узких настолько, что их, птиц, враг, обычно более крупный, не может туда влезть, и настолько глубоких, что и достать до дна клювом или когтями он не способен. Некоторые, как дятел, сами выдалбливают себе такие отверстия в деревьях, другие забираются в такие чащи, что хищные птицы, ласки и подобные преследователи не в состоянии проникнуть туда. При этом птицы больше заботятся о защите, которую получают в таких местах их птенцы, чем о своей собственной. Только тогда, когда таких укрытий найти нельзя, а время не терпит, довольствуются певчие птицы худшими для жилья и для выведения птенцов местами. Если какая-то местность богата такими убежищами, то можно с уверенностью заключить, что в ней, при наличии прочих нужных условий, птиц множество. Возьмите старую дырявую крышу какой-нибудь башни, сколько вьется вокруг нее галок и стрижей! Если хочешь привлечь птиц в какую-либо местность, надобно создать такие укрытия, причем как можно лучшие. Не нужно, как вы видите, выдалбливать отверстия в скалах и стволах, достаточно сделать из дерева и развесить по деревьям ящики с дырочками. Так мы и поступаем. Ящички эти мы делаем достаточно глубокие, отверстие отворачиваем от ветра, обычно в сторону юга, и делаем его как раз такой ширины, чтобы могла влетать и вылетать птица, для которой оно предназначено. Вы, верно, видели такие штуки на деревьях нашего сада?
— Я видел их, — отвечал я, — и смутно догадывался об их назначении, но из-за последовавших затем других впечатлений эта догадка вылетела у меня из головы.
— Пройдясь еще раз по саду, — сказал мой гостеприимец, — мы увидим множество таких будочек. Для тех, что высиживают птенцов в кустах, мы устраиваем такие плотные сплетения терновых веток, что кажется, через них не проберется и шмель. А птица все-таки находит себе лазейку и вьет себе гнездо. Таких гнезд вы можете при желании увидеть много. Приятно в них то, что они позволяют нам наблюдать быт этих птиц. С теми, что кладут яйца в какую-нибудь полость, это не получается. Так мы и защищаем мелких пташек, которые нужны нашему саду. Большие птицы, способные защищаться клювами, когтями и крыльями, для нас скорее враги, чем друзья, и мы не пускаем их сюда.
— Кроме защиты, — продолжал он вскоре, — птицы нуждаются в пище. Они избегают мест, бедных пищей, и этим отличаются от людей, которые порой проделывают длинный путь именно туда, где им нечем кормиться. Птицы, подходящие для нашего сада, питаются главным образом червяками и насекомыми. Но если в месте, удобном для гнездования, численность птиц становится так велика, что они уже не находят пищи, часть их улетает и ищет себе прокормления еще где-либо. Поэтому, если хочешь удержать в каком-либо месте столько птиц, чтобы их с лихвою хватило на самые обильные вредными насекомыми годы, надобно вдобавок к той пище, которую дает им природа, подкармливать их самому. Если это делать, можно развести в определенном месте сколько угодно птиц. Надо только не упускать из виду своей цели и ограничивать подаяние пределами необходимого для прокорма. Вообще-то не приходится опасаться избытка искусственной пищи, поскольку насекомые все равно птицам больше по вкусу. Только если эта пища была бы для них чересчур лакома, мог бы возникнуть избыток, что было бы сразу заметно по размножению насекомых-вредителей. Некоторый опыт позволяет соблюдать тут надлежащую меру. Зимой, когда некоторые виды не улетают, и в периоды полного отсутствия естественной пищи нужно брать птиц на полное довольствие, чтобы удержать их на месте. Благодаря нашим стараниям, птицы, которые весной ищут место для гнезд, оставались в нашем саду и возвращались на следующий год, зная, что здесь уютно и сытно, зимние же птицы и вовсе не покидали сада. А поскольку и у птенцов есть чувство родины и они держатся за места, где появились на свет, то и они облюбовали наш сад для постоянного проживания. К имевшимся прибавлялись постепенно новые поселенцы, и таким образом число птиц в саду и даже в ближайших окрестностях год от года растет. Даже птицы, которые вообще-то живут не в садах, а больше в лесах и отдельных кустах, прилетали сюда и, если им здесь нравилось, оставались, хотя и лишались многого, что дают лес и уединенность. К пище мы причисляем также свет, воздух и тепло. Эти блага мы предоставляем по потребностям, устраивая строительные площадки для гнезд в самых разных местах сада, чтобы пары выбирали себе более теплые или более прохладные, более воздушные или более солнечные. Для кого подходящего места найти нельзя, тех здесь нет. Это такие птицы, для которых наши края вообще не годятся, но и они тогда нашим краям не нужны. В надлежащую пору нас посещают и перелетные птицы, делая остановку на своем ежегодном пути. Им, собственно, подаяние не причитается, но, смешиваясь с местными жителями, они едят из их кормушек и летят дальше.
— Каким же образом вы даете птицам нужную пищу? — спросил я.
— Для этого у нас есть разные способы, — сказал он, — иные птицы, когда едят, твердо стоят на ногах, например дятлы, которые долбят деревья, и те, что ищут себе корм на ровной земле. Другие, особенно лесные птицы, любят, чтобы, когда они едят, качались ветки, потому что пищу они себе в этих-то ветках и ищут. Для первых корм где-нибудь рассыпают, они уж его найдут. Для вторых вешают на веревках решетки, где корм насыпан в корытца или нанизан на палочки. Птицы прилетают и раскачиваются во время еды на решетке. Постепенно птицы становятся доверчивы, наконец поступаются правилами столования, и на площадке возле теплицы, где вы видели меня сегодня утром, копошатся рядом и те, что любят твердо стоять на ногах, и те, что предпочитают качаться.
— То, что я видел сегодня утром, я счел скорее случайностью, чем умыслом, — сказал я.
— Я люблю это делать, когда нахожусь дома, — отвечал он, — хотя это могут сделать и другие. Для вовсе уж боязливых, как большинство новичков, и для совсем уж закоренелых лесных жителей у нас есть отдаленные площадки, куда мы насыпаем им корм. А для более доверчивых и общительных я нашел очень удобный и приятный способ кормления. У меня в доме есть комната, под окнами которой прикреплены лоточки, куда я и сыплю корм. Пернатые гости не заставляют себя ждать и обедают у меня на глазах. А еще в одной комнате я устроил кладовку и храню там в шкафах и ящичках с надписями такой корм, который либо состоит из семян, либо нескоро портится.
— Это угловая комната, — сказал я, — назначения я ее раньше не понял, а лотки принял за подставки для цветов, хоть и нашел их не подходящими для этого.
— Почему же вы не спросили? — возразил он.
— Я собирался спросить, но потом забыл, — ответил я.
— Поскольку большинство певчих птиц питается живыми существами, — продолжил он свой рассказ, — не так-то легко приготовить пищу для всех. Но поскольку большая их часть все же не брезгает, помимо насекомых, и семенами, в кладовке есть все семена, зреющие в наших полях и лесах, и когда они кончаются или залеживаются, их заменяют свежими. Для тех, кто не охотник до зерен, недостаток пищи возмещается остатками от наших трапез, нежным мясом, фруктами, крошеным яйцом, овощами и прочим, что можно подмешать к зернам. Синица, если она деятельна и особенно если хорошо заботится о птенцах, получает в награду кусочек сала, которое она очень любит. Насыпаем иногда и сахар. Питья в саду вдоволь. К каждой бочке с водой косо спускается укрепленная деревянная сходня, по которой птицы могут слезть к воде. В кустах стоят каменные плошки, куда наливается вода, а в зарослях на западной стороне есть родничок, который мы оправили камнями.
— Много же, однако, у вас трудов и хлопот с этими обитателями сада, — сказал я.
— Это быстро входит в привычку, — отвечал он, — а вознаграждается с лихвой. Нельзя и представить себе, чего только не узнаешь, годами заботясь о пернатых и приглядываясь к их деятельности. Никаких средств, придуманных людьми для защиты растений от вредителей, как бы хороши они ни были и как бы прилежно ни применялись, недостаточно по самой природе вещей. Сколько понадобилось бы человеческих рук, чтобы обнаружить бесчисленные места, где заводятся вредные насекомые, и применять против них эти средства. Да и полностью очищенные места не дают уверенности надолго, их надо проверять снова и снова. В самое разное время насекомые незаметно заводятся на стеблях, листьях, лепестках, под корой и распространяются быстро и неожиданно. Как же тут обнаружить зародыши и вовремя их уничтожить? Порою вредные козявки так малы, что наш глаз их не различает, а порою они заводятся в труднодоступных для нас местах, например на кончиках самых тонких веток. Иногда порча случается очень быстро, хотя думаешь, что уже осмотрел каждый уголок сада, не пропустил ничего и велел работникам все обследовать самым тщательным образом. Эта работа самим Богом назначена птицам, особенно мелким, певчим, и только птицам вполне по силам эта работа. Никакие свойства насекомых, о которых я говорил, ни их обильность, ни их мелкость, ни укромность их обиталищ, ни, наконец, быстрота их распространения, не защищают насекомых от птиц. Возьмем обильность. Все певчие птицы, даже если позднее они едят семена, кормят своих птенцов гусеницами, насекомыми, червями, а поскольку птенцы эти подрастают быстро и едят, так сказать, непрестанно, то одна только пара за один только день приносит в гнездо огромное количество таких вредителей, а уж сколько приносят их сто пар за десять дней, за две недели, за двадцать дней. Столько примерно времени требуется птенцам, чтобы научиться летать. И все уголки, как бы ни были они многочисленны, обследуются деятельными родителями. Возьмем мелкость насекомых. Как бы ни были мелки они или их личинки и яйца, зоркие, острые глаза птицы их обнаружат. А иные птицы, например королек, крапивник, должны приносить своим птенцам лишь мельчайший корм, потому что те сами, когда они вылупливаются из яйца, никак не больше какой-нибудь мухи или паучка. Если перейти, наконец, к укромности и недостижимости мест, где живут насекомые, то и это не защищает их от клюва птицы, когда той нужна пища для птенцов или для себя. Что может быть недоступно для птицы? Она взлетает к самым высоким веткам, цепляется за кору и долбит ее, пробирается через самые густые заросли, ходит по земле, проникает даже под бревна и камни. Однажды я видел, как зимой, когда ветки, казалось, окаменели от мороза, дятел вовсю долбил одну из них и добывал пищу из ее внутренности. Таким образом, кстати сказать, дятлы указывают на гнилые, пораженные насекомыми ветки, подлежащие, стало быть, удалению. Что же касается непредвиденного и внезапного нашествия гусениц, которое человек обнаруживает слишком поздно, то оно невозможно, потому что птицы за всем следят и вовремя приходят на помощь.
— До какой степени предназначены для вредных насекомых эти пернатые существа, — сказал он позднее, — явствует из того, что они разделяют свой труд между собой. Лазоревка и лесная синица находят скрытые под корой личинки листовертки и других гусениц, обыскивая кончики веток, синица большая обыскивает внутреннюю часть кроны, синица-кузнечик облезает ствол за стволом, извлекая спрятанные яички, зяблик, живущий в хвойных деревьях, отчего мы и держим таковые в саду, любит спускаться с них и охотиться на всяких жучков, а ему помогают или, вернее, превосходят его в этой работе овсянки, славки, малиновки, которые ищут и находят пищу на земле, под капустой и в живых изгородях. Не мешая друг другу, они не знают устали в своей неимоверной деятельности и как бы даже подхлестывают в ней друг друга. Я не наблюдал за ними нарочно, но когда живешь среди птиц долгие годы, наблюдения накапливаются сами собой.
Еще одну любопытную мысль, — продолжал он, — пробудил во мне, или, вернее, укрепил, поскольку она уже давно у меня возникла, образ жизни этих созданий. Всем явлениям, которые важны, Бог, кроме нашего осознания их ценности, придал и некую прелесть, располагающую к ним нашу душу. Этим столь полезным созданиям он дал еще, я бы сказал, золотой голос, который проймет и самого зачерствелого человека. В нашем саду я испытывал большее удовольствие, чем порой в залах, где игралась самая изощренная музыка, какую редко доводится слышать. Правда, птица поет и в клетке, ведь она легкомысленна, правда, она очень пуглива, всего боится, но испуг и страх быстро забываются, она прыгает на жердочке и распевает песенку, которую однажды выучила и всегда повторяет. Попав в молодости или даже в старости в неволю, она забывает о своем горе, прыгает взад-вперед в тесном пространстве, хотя ей прежде был нужен простор, и поет свою мелодию. Но это песня привычки, не радости. Наш сад — это как бы огромная клетка без проволоки, прутьев и дверки, где птица поет от необычайной радости, которой она так легко отдается, где мы можем услышать дружный хор голосов, который в комнате показался бы лишь беспорядочным криком, где мы можем, наконец, наблюдать быт птиц и их повадки, весьма различные и часто способные вызвать улыбку у самой серьезности. Разводить птиц в саду по нашему примеру соседи не стали. Люди не глухи ни к красоте птицы, ни к ее пению, и оба эти свойства — беда для птицы. Люди хотят наслаждаться ими, наслаждаться вблизи и, не создавая, как мы, клетки с незримыми проволочками и прутьями, показывающей естество птиц, делают клетку зримую, где птица поет взаперти, пока ее не постигнет ранняя смерть. Они, таким образом, не бесчувственны к голосу птицы, но бесчувственны к ее страданию. К тому же людям, особенно детям, по слабости их и тщеславию, бывает приятно хитростью завладеть птицей, которую крылья и скорость выводят как бы за пределы человеческой силы. Поэтому ловля птиц была исстари удовольствием, особенно для людей молодых, удовольствие это, однако, нужно сказать, весьма грубое, достойное, в сущности, презрения. Еще хуже, правда, и отвратительнее, когда певчих птиц ловят не ради их пения, а ловят и убивают, чтобы их съесть. Невиннейшие, порой прекраснейшие создания, радующие нас своим сладкозвучным пением и милым нравом, дающие нам одно лишь добро, преследуются как преступники, их расстреливают, когда они повинуются зову к общению, их вешают, когда они хотят утолить острый голод. И делается это не для того, чтобы удовлетворить насущную потребность, а из прихоти, для удовольствия. В это нельзя было бы поверить, если бы мы не знали, что так поступают от недомыслия или по привычке. Но это-то и показывает, как мы еще далеки от истинной цивилизованности. Вот почему среди диких народов, а также народов, неспособных укротить свою жадность или еще не нашедших своим силам более высокого применения, мудрые люди распространили суеверия, чтобы спасти ту или иную птицу из-за ее красоты или полезности. Так стала священной птицей ласточка, которая приносит благословение дому, если влетит в него, и убить которую — грех. И вряд ли какая-либо птица заслуживает этого больше, чем ласточка, которая так прекрасна и приносит такую неисчислимую пользу. Так оказался под божественным покровительством аист, а для скворцов мы вешаем на свои деревья деревянные домики. Надеюсь, что, когда у наших соседей откроются глаза на полезность ухода за певчими птицами, они последуют нашему примеру: ведь успех и пользу они замечают как нельзя лучше. Думаю, что и нашим властям надлежало бы отнестись к этому делу серьезно, издав строгий закон против ловли и истребления птиц и соблюдая его со всей осмотрительностью и строгостью. Тогда роду человеческому была бы сохранена некая благодать и отрада, мы ходили бы по земле, как по прекрасному саду, а настоящие сады дарили бы нам радость, никогда не болея, а в особенно несчастливые годы не являя нам полного отсутствия листьев и печального запустения. Не хотите ли вы поглядеть на наших пернатых друзей?
— С удовольствием, — сказал я.
Мы поднялись и отошли еще дальше в глубь сада.
Многоголосый щебет в саду и громкое пение поблизости, немало удивившие меня вчера, когда я слышал их из комнаты, показались мне сейчас чем-то очень приятным, даже достопочтенным, и, видя шагающих в ветках или скачущих по песчаной дорожке птиц, я проникался какой-то радостью. Мой провожатый подвел меня к живой изгороди, указал на нее пальцем и сказал:
— Смотрите.
Я ответил, что ничего не вижу.
— Присмотритесь получше, — сказал он, снова указывая направление пальцем.
В густом сплетении колючих веток, устроенном в изгороди, я увидел гнездо. В гнезде сидела малиновка, судя по красной метке на спинке. Она не вспорхнула, а только чуть повернула к нам головку и без страха, доверчиво посмотрела вверх черными, блестящими глазами.
— Эта малиновка сидит на яйцах, — сказал мой провожатый. — Поздний брак, как то часто бывает. Я уже несколько дней навещаю ее и подкладываю поблизости личинки хрущака. Плутовка это знает, поэтому она уже спрашивает меня о них и не боится пришедшего со мной незнакомца.
В самом деле, птичка спокойно сидела в гнезде, ее не смущали ни наши речи, ни наши взгляды.
— Вообще-то с ней надо быть честным, — сказал мой гостеприимец, — но у меня сейчас нет личинок в руке — поэтому, Густав, сходи в дом и принеси мне одну.
Юноша быстро повернулся и поспешил в дом.
Тем временем мой провожатый провел меня немного вперед и снова показал мне под колючками в изгороди гнездо, где сидела овсянка.
— Эта сидит на своих птенцах, на которых нет еще и пушка, и греет их, — сказал мой провожатый. — Она не может надолго отлучаться от них, поэтому большую часть пищи доставляет отец. Но через несколько дней они окрепнут настолько, что станут отовсюду вылезать из-под матери, хотя она время от времени и будет садиться на них.
Овсянка при нашем приближении тоже не улетела, а спокойно посмотрела на нас.
Так показал мне мой провожатый еще несколько гнезд с птенцами, которые, если они были одни, разевали при звуке наших шагов желтые клювы и ждали пищу. В двух других сидели матери, при нашем приближении они не взлетели. Когда мы проходили мимо еще одного гнезда, где птенцов кормили родители, те не прервали своего занятия, а подлетали и потчевали детенышей в нашем присутствии.
— Сейчас я показал вам гнезда, которые еще населены, — сказал мой гостеприимец, — но большинство из них уже опустело, молодняк уже порхает по саду и упражняется для осеннего перелета. Гнезд больше, чем можно предположить, мы осматриваем только те, что под рукой.
Между тем вернулся Густав с требуемой личинкой и вручил ее старику. Тот пошел к живой изгороди, где находилось гнездо малиновки, и положил личинку на дорогу с ним рядом. Едва он вновь подошел к нам, стоявшим поблизости, малиновка вышмыгнула из нижних веток изгороди, подбежала к личинке, схватила ее и вернулась назад.
Не могу передать, как тронуло меня это зрелище. Мой гостеприимец показался мне мудрецом, снизошедшим к низшей твари.
Юный Густав тоже был очень весел и выказывал радость, когда заглядывал в кусты, где было чье-то жилище. Это послужило мне доказательством, что разорять гнезда, похищать яйца и птенцов и вообще ловить птиц не свойственно детям от природы, что жажда разрушения, если она проявляет себя, вызвана и направлена по этому пути родителями и воспитателями и что при хорошем воспитании она превращается в свою противоположность.
Мы пошли дальше. На маленькой сосне, стоявшей с краю сада, они показали мне еще одно жилище зяблика, встроенное возле ствола в сплетение частью разросшихся, частью искусственно сцепленных сучьев и веток. На других деревьях мы видели птиц, влетавших в развешанные для них ящички и вылетавших из них. Мой провожатый сказал, что, пробудь я здесь подольше, мне самому стали бы понятны обычаи птиц.
Я возразил, что уже многое знаю благодаря своим походам в горы и своим прежним занятиям естественными науками.
— И все же это меньше, — сказал мой гостеприимец, — чем можно приобрести через живое соседство.
Несколько заведомо уже опустевших ящичков, прикрепленных к деревьям сплетенными прутьями, были сняты и разобраны, чтобы показать мне их устройство. Это была всего лишь простейшая полость, состоявшая из двух невысоких дощечек, которые можно было прижать друг к другу, закрутив кольца.
— Ни одна певчая птица, — сказал мой провожатый, — не полезет в готовое гнездо, построенное ею самой или другой птицей. Каждую весну она строит себе гнездо заново. Поэтому мы делаем эти ящички из двух частей, чтобы легко было их разбирать и вытаскивать старые гнезда. Да и чистить ящички при таком их устройстве удобно. Ведь когда эти полости не заселены, в них забираются всякие паразиты, а птица не любит мусора и скверного воздуха и никогда не сунется в нечистую полость. В конце зимы, когда весна уже не за горами, все эти ящички мы снимаем, тщательно выскабливаем и убираем. Зимой они потому на деревьях, что птицы, которые не улетают, ищут в них убежища. Старые гнезда мы разбираем и к весне рассыпаем по саду их составные части, добавив к ним новый материал для весенних птичьих построек.
Проходя, я увидел также жердочки на бочках с водой, а в кустах журчал ручеек.
На пути домой мой провожатый сказал:
— Есть у меня и другого рода гости, которых я кормлю не для того, чтобы они приносили мне пользу, а чтобы не приносили вреда. На самых первых порах моего здесь пребывания, устраивая так называемый питомник, то есть садик, где выращиваются пригодные для окулировки деревца, я заметил, что зимой кора на них обгладывается, и как раз самая лучшая и самая нежная кора на самых лучших деревьях. Виновники обнаружились отчасти по следам на снегу, отчасти же будучи застигнуты на месте преступления: это оказались зайцы. Сколько их ни прогоняли, они прибегали опять, а стоять день и ночь на страже в питомнике было невозможно. Тогда я подумал: эти бедные воришки жрут кору только потому, что ничего лучшего для них нет, а будь что-нибудь получше, они бы коры не трогали. Я стал собирать всякие отбросы, остававшиеся от капусты и подобных растений в саду и на полях, хранил их в погребе, а в морозы и снежные зимы выносил на поля за садом. Мои усилия были вознаграждены: зайцы пожирали эти отбросы и оставляли наш питомник в покое. Когда они открыли такую удобную кормушку, число гостей стало непрестанно расти. Но поскольку они довольствовались худшим, даже толстыми кочерыжками, а этого добра на наших полях и у соседей хватало, меня такое нашествие зайцев не беспокоило, и я продолжал их кормить. Я часто смотрел на них с чердачного окна в подзорную трубу. Забавно было наблюдать, как они прибегают издалека, какое недоверие у них вызывает готовое угощение, как они становятся на задние лапки, прыгают, а потом все-таки не удерживаются и набрасываются на пищу, на которую летом не стали бы и глядеть. Кое-кто ставил капканы, зная, что сюда набегают зайцы. Но поскольку мы очень усердно за этим следили и убирали капканы, а я к тому же запретил ходить по нашим полям и привлекал нарушителей этого запрета к ответственности, ловить зайцев перестали. Птицам мальчишки тоже ставили поблизости от нас ловушки. Но толку от этого не было, поскольку у нас в саду птицы находили очень хороший корм и на чужие приманки не зарились. Добыча птицеловов никогда не была велика, и благодаря известной бдительности, которую мы проявляли в первые годы, это безобразие вскорости прекратилось.
Старик пригласил меня войти в дом и посмотреть кладовку для корма.
По дороге он сказал:
— К врагам певчих птиц относятся также кошки, собаки, хорьки, ласки и хищные птицы. От последних защитой служат колючки и ящички для гнезд, кошек же и собак в нашем доме отучают ходить в сад, а если это не удается, то совсем удаляют.
Тем временем мы вошли в дом и прошли в угловую комнату, где я уже раньше видел множество ящиков. Мой провожатый показал мне свои припасы, выдвигая ящики с семенами. Корм, состоящий не из семян, такой, как яйца, хлеб, сало, берется по мере надобности из продовольственной кладовой.
— Мои соседи говорили, — сказал мой провожатый, — что труд, которого требует сохранение певчих птиц, и расходы на их питание несоразмерны с их пользой. Но это неверно. Труд этот — удовольствие, кто за него берется, вскоре в том убеждается, любитель цветов тоже не знает труда, а знает уход, который к тому же, когда дело касается цветов, требует гораздо больше усилий, чем разведение певчих птиц. Расходы же и в самом деле не так уж незначительны, но если продать благородные плоды одной-единственной сливы, которую благодаря птицам не объели гусеницы, то выручка вполне покроет издержки на питание пернатых певцов. Правда, выгода эта тем больше, чем благороднее выращиваемые в саду фрукты, а соседей очень трудно заставить выращивать в этой местности благородные фрукты, потому что они полагают, что ничего не получится. Чтобы доказать, что все получится, нам приходится их угощать нашими плодами и предъявлять им письма наших торговых партнеров, покупающих у нас фрукты. Мы делимся с ними деревцами из нашего питомника и учим их, как и в каком месте то или иное сажать.
— Наступит еще, чего доброго, снова такой год, как пять лет назад, — продолжал он, — а это был скверный год, жаркий, засушливый, со страшным нашествием гусениц. Деревья в Рорберге, в Рогау, в Ландеге стояли как метлы, и на обезображенных ветках висели серые флаги гусеничных гнезд. А наш сад оставался, как ни в чем не бывало, темно-зеленым, даже каждый листок сохранял свои края и зубцы. Если, не приведи Бог, выдался бы еще такой год, соседи приобрели бы еще немного опыта, которого не извлекли в прошлый раз.
Я тем временем рассматривал всякие семена и приспособления, задавал вопросы и получал объяснения. Затем мы покинули эту комнату, а когда мы проходили по коридору в сторону комнаты Густава, старик сказал:
— Само собой разумеется, прилетают и незваные гости, бездельники, смутьяны. Большой задира — воробей. Он врывается в чужие жилища, затевает потасовку с первым встречным, не оставляет в покое наших семян и вишен. Когда воробьиная компания невелика, я не вмешиваюсь, даже рассыпаю им зерна. Но если их собирается слишком много, на помощь приходит духовое ружье, и мы прогоняем их на хутор. Опасным врагом оказался краснохвост. Он подлетал к улью и ловил пчел. Ничего не оставалось, как убивать его без пощады из духового ружья. Мы установили чуть ли не регулярную стражу и продолжали преследование до тех пор, пока не избавились от этого племени. Краснохвосты оказались достаточно умны, чтобы распознать, где опасность, и ушли к амбарам, к деревянной хижине на хуторе и кирпичной хижине, где под крышей много осиных гнезд. Для этого мы и не разоряем на хуторе и в других отдаленных местах таких, похожих на серые шары гнезд, прячущихся под рейками, стропилами или выступами крыш, чтобы они оттягивали к себе этих птиц.
Во время этого разговора мы подошли по коридору, где находились комнаты для гостей, к квартире Густава. Мой гостеприимец, спросил, не хочу ли я сейчас осмотреть ее, и мы вошли внутрь.
Квартира эта состояла из двух комнат, кабинета и спальни. В обеих, что редко увидишь в таких комнатах, царил порядок. Меблировка же была очень простая. Книжные шкафы, письменные и чертежные принадлежности, стол, шкафы для одежды, стулья и кровать. Юноша чуть ли не покраснел, когда в его квартире оказался незнакомый человек. Мы вскоре удалились, и мальчик отвесил нам такой же легкий, изящный поклон, какой я отметил еще вчера, — ибо не собирался сопровождать нас дальше, а хотел остаться у себя в комнатах, где его ждала работа.
— Теперь вы можете взглянуть и на комнаты для гостей, — сказал мой провожатый, — тогда вы совершите полный осмотр помещений нашего дома.
Я согласился. Он вынул из кармана серебряный колокольчик и позвонил.
Вскоре появилась служанка, у которой он попросил ключи от комнат. Она принесла связку их на кольце, с которого можно было снять каждый в отдельности. На каждом был выгравирован номер соответствующей комнаты. Отпустив служанку, мой гостеприимец стал открывать мне одну комнату за другой. Все они были совершенно одинаковы: одинаковых размеров, в каждой по два окна и такая же мебель, как в моей комнате.
— Видите, — сказал он, — не такие уж мы нелюдимы, и, устраивая дом, рассчитывали на гостей. При крайней необходимости можно приютить и больше гостей, чем по числу комнат, поместив в каждой по два человека и заняв другие комнаты главным образом первого этажа. Но за все время существования этого дома такой крайней нужды не случалось.
Когда мы подошли к восточной стороне дома, прямо противоположной той, где находилась его квартира, он открыл одну из дверей, и мы вошли не в одну комнату, как до сих пор, а в три очень благоустроенные, приглашавшие приятно пожить в них. Первая была комната для слуги или, скорее, служанки, ибо выглядела в точности так же, как комната, где жили девушки моей матери. Здесь стояли большие платяные шкафы, завешенные зеленым ситцем кровати и разбросаны были такие же предметы, как в девичьей моей матери. В двух других покоях таких предметов, правда, не было видно, напротив, там царил образцовый порядок, и все же вид этих комнат заставлял заключить, что они предназначены для женщин. В первой была мебель красного дерева, во второй — кедрового. Везде стояли мягкие кресла и красивые столы. Полы были покрыты мягкими коврами, пилястры — зеркалами, кроме того, в каждой комнате было еще подвижное туалетное зеркало, у окон стояли рабочие столики, а в углу каждой комнаты находилась кровать, наглухо закрытая белым пологом. В каждой комнате было по столику для цветов и на стенах висели картины.
Когда я осмотрел эти покои, мой провожатый, нажав на ручку, отворил скрытую обоями потайную дверь и провел меня через четвертую маленькую комнату с одним-единственным окном. Комнатка эта была очень хороша. Она была сплошь обита нежно-розовым шелком с узорами чуть более темного цвета. По этой розовой стене шла мягкая скамья, обитая светло-серым шелком, отороченным бледно-зеленой тесьмой. Стояли здесь и такого же рода кресла. Серый с серым же узором шелк приятно светился на фоне красноватых стен, создавая такое же впечатление, как от сочетания белых и красных роз. Зеленые полоски напоминали зеленую листву роз. В одном из задних углов комнаты был камин тоже серого, только более темного цвета, с зелеными полосками на карнизах и очень узкими золотыми кантами. Перед мягкой скамьей и креслами стоял стол, доска которого, из серого мрамора, была того же оттенка, что и камин. Ножки стола и кресел, как и оправы скамьи и других предметов, были из прекрасного, фиалкового амарантового дерева, но такой, благодаря выделке, легкости, что дерево ничего не подавляло собой. У окна, окаймленного серыми шелковыми занавесками, которое сквозь зеленые своды деревьев глядело на далекие горы, стояли столик того же дерева, а также мягчайшее кресло со скамеечкой, словно бы предназначенные для того, чтобы здесь отдыхала женщина. На стенах висели четыре совершенно одинаковых по величине олеографии в одинаковых рамах. Пол был покрыт тонким зеленым ковром, простой цвет которого лишь чуть-чуть отличался от зеленого цвета тесьмы. Это была как бы лужайка, над которой парили краски роз. У каминных щипцов и других прикаминных орудий были золоченые ручки, на столе стоял золотой колокольчик.
Ничто в этой комнате не указывало на то, что в ней кто-то живет. Ни один предмет мебели не был сдвинут с места, на ковре не было видно ни одной складки, на занавесках ни малейшей помятости.
Дав мне время подивиться всему этому, мой провожатый снова отворил потайную дверь, которая была незаметна внутри комнаты, и вывел меня наружу. В комнате роз он не промолвил не слова, я тоже. Когда мы обошли другие комнаты и он их запер за нами, он опять-таки ничего не сказал о назначении той квартиры, и спрашивать я, естественно, об этом не стал.
Когда мы вышли в коридор, он сказал:
— Вот вы и увидели весь мой дом. Проходя когда-нибудь мимо или вспомнив о нем где-нибудь вдалеке, вы сможете сразу представить себе, каков он внутри.
С этими словами он спрятал кольцо с ключами в один из карманов своей странной верхней одежды.
— Картина эта, — отвечал я на его слова, — произвела на меня глубокое впечатление, и я нескоро ее забуду.
— Пожалуй, так я и думал, — ответил он.
Когда мы подошли к моей комнате, он попрощался, сказав, что отнял большую часть моего времени и, чтобы не стеснять меня, не будет отнимать его более.
Я поблагодарил его за любезность и радушие, с какими он посвятил мне часть дня, показывая свои владения, и мы расстались. Вынув ключ из кармана, я открыл свою комнату, чтобы войти в нее, а он, я слышал, пошел по лестнице вниз.
До вечера я оставался в своем покое, отчасти потому, что устал и нуждался в передышке, отчасти же потому, что не хотел больше обременять своего гостеприимца.
Вечером я снова побродил по полям за садом и вернулся только к ужину. На этот раз я научился самостоятельно отворять и затворять решетку.
Гостей не было, к ужину, как и к обеду, явились только мой гостеприимец, Густав и я. Разговор шел о разных пустяках, мы вскоре разошлись, я отправился в свою комнату, немного почитал, кое-что записал, наконец разделся, погасил свет и улегся.
Следующее утро было опять чудесное, ясное. Я открыл окно, впустил душистый воздух, оделся, освежился обильным умыванием и, прежде чем солнце выпило первые капли росы, уже стоял в столовой с мешком за спиной, со шляпой и терновой палкой в руке. Старик и Густав уже ждали меня.
Когда покончили с завтраком, во время которого я, несмотря на приглашение, не сбросил мешка, я еще раз поблагодарил за радушие и открытость, с какими был принят здесь, попрощался и отправился в путь.
Старик и Густав проводили меня до решетчатых ворот сада. Старик открыл их, чтобы выпустить меня, как отворил их третьего дня, чтобы меня впустить. Оба вышли со мной за открытые ворота. Когда мы стояли перед домом на песчаной площадке, которую овевало благоуханием роз, мой гостеприимец сказал:
— Прощайте, и счастливого вам пути. Мы вернемся через сад в свою обитель и к своим занятиям. Если вы когда-либо снова окажетесь поблизости и пожелаете посетить нас, примем вас с радостью. А уж если вы зайдете к нам не мимоходом, а из желания нас навестить, это обрадует нас особенно. Когда я говорю «обрадует», то это не пустые слова, я пустых слов не употребляю, а так оно и есть. Если у вас будет такая охота, живите в этом доме сколько угодно, и живите себе так непринужденно, как вам хочется, и мы будем жить себе так непринужденно, как хочется нам. Хорошо было бы, если бы вы послали кого-нибудь уведомить нас заранее, а то ведь мы хоть и не часто, но бываем в отъезде.
— Верю, что вы радушно примете меня, если я появлюсь у вас снова, — отвечал я, — потому что это говорите вы, а рассыпаться в неискренних вежливостях не в вашем, кажется, нраве. Не понимаю, правда, почему вы меня приглашаете, но коль скоро вы это делаете, принимаю ваше приглашение с великой радостью и обещаю, что будущим летом, даже если мой обычный путь не приведет меня сюда, навещу эту местность и этот дом по доброй воле и пробуду здесь короткое время.
— Сделайте это, и вы увидите, что окажетесь желанным гостем, — сказал он, — даже если пробудете долее.
— Так, наверное, и поступлю, — ответил я. — Итак, прощайте.
— Прощайте.
Когда он отпустил мою руку, я протянул ее и мальчику Густаву, который пожал ее, ничего не сказав, а только приветливо взглянув на меня.
Затем мы расстались, они пошли назад через решетчатую калитку, а я, надев шляпу, стал спускаться по дороге, по которой поднимался сюда двое суток назад. Я не знал, у кого же я провел этот день и эти две ночи. Он не спросил моего имени и не назвал своего. На этот счет я остался в неведении.
Итак, я шел дальше. Зеленые колосья сейчас ярко лучились на утреннем солнце, а когда я поднимался сюда, их покрывала тень приближающейся грозы.
Я еще раз оглянулся, спускаясь между полями, и увидел белый дом, залитый солнцем. Таким я его уже не раз видел. Мне даже удалось различить мерцание роз, и показалось, что до меня еще доносится пенье множества птиц в саду.
Затем я опять отвернулся и продолжил свой путь вниз, пока не дошел до живой изгороди, ограждавшей поля, возле которой я свернул с дороги позавчера. Я не удержался и оглянулся еще раз. Дом сделался еще белее, таким, каким я уже не раз видел его во время своих странствий.
Я пошел по тракту в прежнем направлении.
Первого же встретившегося мне человека я спросил, кому принадлежит белый дом на холме и как зовут его владельца.
— Принадлежит он асперскому хуторянину, — отвечал тот. — Вы же сами были вчера на асперском хуторе и расхаживали с асперским хуторянином.
— Но разве владелец этого дома может быть хуторянином? — спросил я. Ведь мне было известно, что в этих местах каждого зажиточного крестьянина называют хуторянином.
— Сначала он не был асперским хуторянином, — отвечал тот, — но он купил хутор у прежнего асперского хуторянина и построил дом, который стоит в саду и принадлежит к асперскому хутору. И теперь он асперский хуторянин, потому что прежний давно умер.
— Неужели у него нет другого имени? — спросил я.
— Нет, мы называем его асперский хуторянин, — ответил тот.
Я увидел, что этот человек ничего больше не знает о моем гостеприимце, который не очень-то и занимает его, и потому отказался от дальнейших расспросов.
Мне встретилось еще несколько человек, от них я получил тот же ответ. Все относили дом в саду к асперскому хутору, а не хутор к дому. Поэтому я решил прекратить расспросы, пока не нападу на человека, от которого можно ждать более толкового ответа.
Поскольку названия «асперский художник» и «асперский хутор» мне не понравились, я пока что мысленно назвал дом, где так усердно пестовали розы, домом роз.
Но никто, кого я мог бы еще расспросить, мне больше не встретился.
Продолжая свой путь, я перебирал в мыслях впечатления последнего дня. Меня радовало, что в этом доме я застал такую чистоту, такой порядок, какие видел дотоле лишь в доме моих родителей. Я вспоминал все, что показал и сказал мне старик, и теперь мне казалось, что тогда я мог бы гораздо лучше вести себя, лучше отвечать на некоторые речи и вообще говорить гораздо лучше.
Эти мои размышления были прерваны. Пройдя по дороге около часа, я вышел к углу букового леса, о котором мы позавчера вечером говорили. Лес этот относится к владениям моего гостеприимца, и там я когда-то зарисовывал раздвоенный бук. Дорога у леса становится немного круче и поворачивает за его угол. Когда я дошел до этого поворота, мне встретилась коляска, медленно спускавшаяся на тормозах. Ехала она медленнее обычного, наверное, потому, что ее седоки взяли за правило осторожность. В открытой, с откинутым ввиду прекрасной погоды верхом коляске сидели две женщины, пожилая и молодая. На обеих были вуали, спускавшиеся со шляп на плечи. У старшей вуаль покрывала лицо, которое, однако, поскольку вуаль была белая, немного проглядывало. Младшая откинула вуаль с обеих сторон, открыв лицо воздуху. Взглянув на дам, я снял шляпу в знак почтительного приветствия. Они любезно поблагодарили, и коляска проехала мимо. Коляска все ниже спускалась с горы, а я думал, что нет, пожалуй, лучшей натуры для рисования, чем человеческое лицо.
Я смотрел вслед коляске, пока она не скрылась за поворотом. Потом пошел по опушке вперед и вверх.
Через три часа я взобрался на холм, с которого можно было оглядеть местность, откуда я пришел. С помощью вынутой из мешка подзорной трубы я ясно увидел белую точку дома, где провел последние две ночи, а за домом виднелись воздушные горы. Как мала была эта точка в огромном мире!
Вскоре я пришел в селение, где, поскольку до сих пор нигде не останавливался, собирался пообедать, хотя солнце еще не совсем достигло зенита.
В этом селении я снова спросил о владельце белого дома, описав, как мог, и дом, и его местоположение. Мне назвали человека, занимавшего когда-то высокие государственные посты. Но назвали мне два имени — барона фон Ризаха и некоего господина Моргана. Как и прежде, я был в неведении.
На другой день утром я вышел к горной гряде, которая была целью моего похода и куда я решил перебраться через равнину с другой горной гряды. В полдень я дошел до того постоялого двора, где собирался поселиться. Мой чемодан был уже там, и мне сказали, что меня ждали раньше. Я назвал причину моего опоздания, устроился в комнате, мною заказанной, и приступил к делам, заняться которыми назначил себе в этой части гор.
6. Гость
На новом месте я оставался довольно долго. Работа, рождая все новые задачи, требовала продолжения и не отпускала меня. Позднее я еще дальше уходил в глубь горной долины и затевал дела, которых вовсе и не намечал на это лето.
Поздней осенью я вернулся к своим родным. На этот раз все было так же, как при каждом моем возвращении домой. Когда я покидал горы, листья кленов, берез и ясеней не только давно опали, но успели приобрести грязно-черный цвет, напоминавший уже не детенышей веток, какими они были летом, а питательную почву для новых растений, в какую они превратятся зимой. Жители горных долин и отлогостей, которые при случае разводят огонь во всякое время года, теперь поддерживали его в своих печах, чтобы согреться, весь день, а ясными утрами на горных лугах блестел иней, и зелень папоротников превратилась в какую-то сухую ржавчину. Но когда я вышел на равнину и горы на ее краю маячили уже синей каймой, когда наконец спускался к нашей столице по широкой реке, меня овевал такой мягкий и теплый воздух, что я подумал, что слишком рано покинул горы. Но дело было лишь в разнице между метеорологическими условиями в горах и далеко от них в низменностях. Когда я сошел с судна и подошел к воротам родного города, акации были еще одеты листьями, на обводные стены и на дома падал теплый солнечный свет, и в послеполуденные часы разгуливали красиво одетые люди. Приятный красноватый и синеватый цвет винограда, который продавали у ворот и под ними, напомнил мне веселые осенние деньки моего детства.
Я пошел по прямой улице, свернул в переулок-другой и наконец оказался перед хорошо знакомым домом и садом.
Поднявшись по лестнице, увидев мать и сестру, я первым делом спросил о здоровье и благополучии моих родственников. Все обстояло превосходно, мать уже позаботилась об уборке моих комнат, все было вытерто, вымыто и на своих местах, словно меня ждали именно в этот день.
После короткого разговора с матерью и сестрой я, не дожидаясь чемодана и воспользовавшись оставшимся дома платьем, оделся на городской манер, чтобы пойти в город и повидать отца, который был еще у себя в лавке. Людская толчея на улицах, множество нарядных людей в аллеях зеленой площади между городом и предместьями, коляски, катящиеся по брусчатке улиц, и, наконец, когда я вошел в город, красивые витрины и представительность зданий поразили и чуть ли не подавили меня полной противоположностью моему сельскому окружению. Но постепенно я освоился, и все это снова стало привычным и отлично знакомым. Я не зашел к друзьям, проходя мимо их жилья, не заглянул по пути в книжную лавку, где не раз проводил по вечерам часок-другой, а поспешил к отцу. Застав его за письменным столом, я почтительно поздоровался с ним и был сердечно встречен. После короткой беседы о здоровье и других общих предметах он отправил меня домой, сказав, что у него есть еще кое-какие дела, но он скоро придет, чтобы провести вечер с матерью, сестрой и со мною.
Я снова пошел напрямик домой. Там я обошел сад, сказал несколько ласковых слов нашей дворняге, которая приветствовала меня прыжками и радостным воем, и провел некоторое время с матерью и сестрой. Затем заглянул во все комнаты нашего жилища, особенно в комнаты со старой мебелью, книгами и картинами. Они показались мне почти убогими.
Вскоре пришел отец. Стол был сегодня накрыт для ужина в комнатке, увешанной старым оружием и обвитой плющом. Окна можно было не затворять до самого вечера. Поскольку за время моей отлучки в город мой чемодан и мои ящики уже доставили с пристани, я велел отнести в эту комнату привезенные мною подарки: для матери несколько редких горшков и другую посуду, для отца улитковый камень особой величины и красоты, разные куски мрамора и часы семнадцатого века, а для сестры — обыкновенный эдельвейс, засушенную горечавку, шелковый крестьянский платочек и серебряную нагрудную цепочку, какие носят в некоторых горных селениях. В эту же комнату принесли и то, что приготовили в подарок и мне: рукодельные работы матери и сестры, среди них особой красоты дорожную сумку, затем всякого рода карандаши, распределенные в коробочке по степени твердости, замечательные ручки для перьев, гладкую бумагу, а от отца — атлас гор, о котором я уже несколько раз упоминал и который он теперь мне купил. После того как все было с радостью преподнесено и принято, мы сели за стол, сегодня вечером только мы одни, как то постепенно стало обычаем при моем возвращении после долгого отсутствия. Подали кушанья, которые мать считала моими любимыми. Тепло, непритворная любовь, какие можно найти в каждой дружной семье, были мне после долгого одиночества необычайно отрадны.
После того как поговорили обо всем, что прежде всего занимало родственников, и о том, что произошло в самое последнее время, после того как мне описали всю жизнь дома в мое отсутствие, пришлось и мне рассказать о моем путешествии. Я объяснил его цель, сказал, где побывал и что сделал, чтобы ее достигнуть. Упомянул я и о старике и рассказал, как попал к нему, как хорошо был им принят и что там увидел. Я высказал предположение, что он, судя по его говору, может быть родом из нашего города. Отец порылся в памяти, но не мог припомнить никого, кто соответствовал бы моему описанию. Город велик, заметил он, мало ли с кем из его жителей он не был знаком. Сестра заметила, что, может быть, из-за окружения, в каком предстал мне этот старик, я увидел и изобразил его в каком-то другом, особом свете, отчего и трудно его узнать. Я возразил, что не сказал ничего, кроме того, что видел, и видел так ясно, что мог бы даже написать это красками, будь я в обращении с ними ловчее. Решили, что со временем, наверное, все выяснится, коль скоро он пригласил меня посетить его снова, а я, разумеется, так и поступлю. То, что я не спросил напрямик его имени, все мои родные одобрили, поскольку он сделал нечто гораздо большее — принял и приютил меня, не справляясь ни о моем имени, ни о моем происхождении.
В ходе разговора отец подробнее осведомился о разных предметах в доме старика, упомянутых мною, особенно расспрашивал он меня о мраморах, о старинной мебели, о разных изделиях, о скульптурах и книгах. Мраморы я мог описать ему довольно точно, старинную мебель, пожалуй, тоже. Отец пришел от этого описания в восторг и сказал, что для него было бы большой радостью увидеть такие вещи собственными глазами. О разных изделиях я мог рассказать уже меньше, о книгах тоже немного, и уж меньше всего, почти ничего — о скульптурах и картинах. Отец на этом и не настаивал и долго на этих последних предметах и не задерживался, а мать заметила, что хорошо бы ему как-нибудь выбраться в Нагорье и самому взглянуть на вещи моего нового знакомого. А то он, отец, слишком долго сидит теперь в своей конторе, в последнее время он ходит туда и вечерами и часто задерживается там до ночи. Поездка очень взбодрила бы его, а старик, который так приветливо встретил сына, конечно, оказал бы и отцу радушный прием и, как знатоку, показал бы свои коллекции еще охотнее, чем любому другому. Таким образом он мог бы, пожалуй, и приобрести что-нибудь для своих собраний старинных вещей. Если он будет вечно ждать, чтобы кончились срочные дела, не желая положиться на своих более молодых помощников, он вообще никуда не тронется: срочные дела всегда найдутся, а его недоверие к способностям молодых людей растет тем больше, чем старше он становится и чем больше старается делать все сам.
Отец отвечал, что не только отправится как-нибудь в путешествие, но в один прекрасный день и вовсе уйдет на покой, оставив коммерческую деятельность.
Мать ответствовала, что это будет как нельзя лучше и что ей этот день покажется второй свадьбой.
Теперь я должен был назвать отцу отдельные сорта дерева, которые пошли на инкрустации, полы и резные украшения в доме роз. Сделал я это довольно хорошо, ибо при осмотре дома думал об отце и запомнил больше, чем то случилось бы при других обстоятельствах. Я должен был также описать ему, в каком порядке сочетаются эти сорта дерева, какие они образуют узоры и есть ли прелесть в таком сочетании линий и красок. Еще я должен был подробно рассказать о сортах мрамора в коридоре и в зале — как они связаны, какой сорт граничит с другим и как они тем самым оттеняют друг друга. Я часто брал бумагу и карандаши, чтобы наглядно представить увиденное. Отец продолжал задавать мне вопросы, и благодаря их целенаправленной последовательности я смог ответить на них лучше, чем мне думалось.
Мы сидели допоздна, пока мать не напомнила, что пора на покой, после чего мы покинули оружейную комнату и разошлись спать.
На следующий день я принялся готовить свое жилище к зиме. Я постепенно разобрал привезенные с собой вещи и расставлял их привычным образом, стараясь сохранить прежний порядок. На это занятие ушло несколько дней.
В первое воскресенье после моего приезда устроили торжественный обед в честь этого события. Пригласили всех помощников отцовской торговли, подали лучшие кушанья и лучшее вино. Присутствовали и старики, муж и жена, которые были нашими соседями в темном городском доме, их пригласили на этот обед потому, что они очень любили меня и соседка сказала, что я когда-нибудь стану большим человеком. Такие обеды вошли в обычай уже несколько лет назад, и эти старики каждый раз бывали на них.
Наведя у себя в комнатах некоторый порядок, я навестил своих друзей в городе и начал снова проводить вечерние часы в книжной лавке, ставшей любимым моим местопребыванием. Когда я шел по городским улицам, все, что я узнал от того гостеприимного старика, казалось мне вычитанным из каких-то сказок. Но когда я возвращался домой и входил в комнаты со старинными картинами и предметами, все это снова становилось реальностью и могло быть сопоставлено со здешним убранством.
Наконец следы, всегда неразрывно связанные с возвращением домой из долгого путешествия, особенно когда привозишь с собой множество предметов, которые надобно разобрать, — наконец следы эти исчезли из моей комнаты, книги мои стояли и лежали наготове, инструменты и рисовальные принадлежности находились в том порядке, в каком им следовало быть зимой. А зима эта была уже довольно близка. Последние ясные дни поздней осени, так часто выпадающие на долю нашего города, миновали, и пришла туманная, мокрая и холодная пора.
В нашем доме в мое отсутствие произошла перемена. Моя сестра Клотильда, которая до сих пор всегда была ребенком, вдруг стала взрослой девушкой. Я сам, возвратясь, очень этому удивился, она показалась мне даже немного чужой.
Эта перемена принесла на предстоящую зиму и перемену в наш дом. Для столицы большой империи наша жизнь была до сих пор очень простой, чуть ли не деревенской. Круг семей, с которыми мы водили знакомство, был неширок, да и в нем встречи ограничивались визитами по какому-нибудь случаю и играми детей в саду. Теперь стало иначе. К Клотильде приходили подруги, с чьими родителями мы имели связь, а у тех были, в свою очередь, родственники и знакомые, с которыми мы постепенно установили какие-то отношения. К нам приходили гости, мы музицировали, читали вслух, и мы ходили в гости, где тоже развлекались музыкой и тому подобным. Обстоятельства эти, однако, не повлияли на наш дом так существенно, чтобы он вообще преобразился. Кроме друзей, которые у меня уже были и к чьим обычаям я уже привык, я приобрел новых. У них были большей частью совсем другие, чем у меня, интересы, и мне казалось, что они почти во всем превосходят меня. Они тоже считали меня человеком необычным, прежде всего потому, что воспитание в нашем доме было иным, чем в других домах, и еще потому, что я занимался другими вещами, чем те, к которым они устремляли свои желания. Я полагал, что они из-за моей странности уважали меня меньше, чем друг друга.
Они оказывали моей сестре всяческие знаки внимания и старались ей понравиться. Принимали в нашем доме только тех молодых людей, с чьими родителями мы были знакомы домами и чье поведение не вызывало никаких опасений. Моя сестра не знала, что они хотят ей понравиться, и не обращала на это внимания. Мне же в те дни, когда я думал, что сестра выйдет когда-нибудь замуж, приходило на ум всегда одно и то же — что муж ей нужен такой, как наш отец.
Эти молодые люди, да и другие, приходившие в дом вовсе не ради сестры, часто вовлекали меня в свои разговоры, рассказывали о своих взглядах, интересах и развлечениях, а иные доверяли мне свои сокровенные мысли. Так, один из них, по имени Преборн, сын одного старика, занимавшего при дворе высокую должность, часто к нам заходивший, сказал мне, что молодая Тарона — первая красавица города, что она сложена так, как никто из полумиллиона его жителей, как вообще никто и никогда не был сложен и как ни один художник, ни старого, ни нового времени, не смог бы изобразить. Глаза ее способны превратить камни в воск и расплавить алмазы. Он любит ее так страстно, что в иные ночи лежит без сна или ходит по комнате. Она живет не здесь, но часто приезжает в город, он покажет ее мне, и я, как друг, должен помочь ему в его положении.
Я подумал, что многое в этих словах, наверное, несерьезно. Если он так ее любит, то ему не следовало бы говорить это мне или кому-либо еще, даже будь мы друзья. А мы не были друзьями в настоящем смысле этого слова, мы были ими только в том смысле, в каком оно употребляется в городе применительно к людям, хорошо друг с другом знакомым и поддерживающим взаимные отношения. Да и не мог он ждать от меня никакой помощи, поскольку не очень-то я был сведущ в таких делах и сильно уступал в этом отношении ему самому.
Помимо встреч в присутствии наших родителей я и сам навещал кое-кого из этих молодых людей, и речь тогда тоже часто заходила о девушках. Мои знакомые рассказывали, как они любят ту или другую, как страдают из-за нее или какие знаки благосклонности от нее получили. Я думал, что им не следовало бы этого говорить. А когда они отпускали вольное замечание о внешности или поведении какой-либо девушки, я краснел, и мне казалось, что обидели мою сестру.
Я чаще ходил теперь в город и внимательно рассматривал старинную архитектуру нашего главного собора. С тех пор как я так подробно просмотрел в доме роз столько зарисовок произведений архитектуры, эти произведения не были мне так чужды, как раньше. Я старался найти в них какое-то сходство с предметами, которые я видел на этих рисунках. Во время моего путешествия из дома роз в ту горную долину, где я потом задержался, и от этой долины до судна, доставившего меня домой, мне ничего особенно достопримечательного не встретилось. Только некоторые путевые столбы очень старинного вида напомнили мне те чистые и непритязательные формы, какие я видел у мастера чистыми линиями на чистой бумаге. Но в нише одного такого столба вместо статуи, которая некогда здесь стояла и на которую еще указывал пьедестал, красовалась новая, написанная пестрыми красками картина, а в другой нише не было вообще ничего. По реке я, правда, проплывал мимо церквей и крепостей, которые, вероятно, заслуживали внимания, но моя цель влекла меня вместе с судном дальше.
В главном соборе я увидел почти все виды украшений цоколей, арок, колонн и деталей, какие видел на бумаге в доме роз. Мне доставляло удовольствие сравнивать по памяти эти формы с виденными ранее и оценивать их путем такого сопоставления.
В связи с драгоценными камнями мне вспомнилось и то, что сказал об их оправах старик в доме роз. Видеть оправленные камни мне случалось достаточно часто. В бесчисленных витринах города украшения выставлены напоказ, чтобы приманить покупателей. Разглядывая их повсюду, где они попадались мне на глаза, я думал, что старик прав. Когда я представлял себе рисунки крестов, роз, ниш и тому подобных вещей, виденные в доме роз, они оказывались гораздо легче, нежнее, и, я выразился бы, проникновеннее, чем эти же фигуры здесь, хотя там они были лишь архитектурными деталями, а здесь — украшениями как таковыми. Мне и в самом деле казалось, что, когда они сделаны из золота или драгоценных камней, они неуклюжи. Исключение в этом товаре составляли лишь некоторые предметы, считавшиеся самыми предпочтительными. Я увидел, что оправы у них очень просты, а камни побольше и подороже оставлены вообще без оправ и к ним прибавлено лишь столько золота или маленьких бриллиантов, сколько просто необходимо для того, чтобы взять эту вещь в руку и прикрепить к человеческому телу. Мне это понравилось больше, потому что тут благородные камни служили воплощением только высокой стоимости и красоты. Но про себя я подумал, что, как бы ни были красивы драгоценные камни, это всего лишь материя, и куда как лучше было бы без ущерба для их красоты придавать им такой облик, чтобы видна была душа человека, которая здесь потрудилась и которой можно порадоваться. Я решил, что, когда снова приду к своему старому гостеприимцу, непременно поговорю с ним об этом. Я понял, что приобрел в доме роз некое очень полезное знание.
При этих обстоятельствах я случайно познакомился с сыном одного торговца украшениями, считавшегося первым в городе. Новый знакомец часто показывал мне драгоценности, имевшиеся в их лавке, но никогда не попадавшие на витрины, он давал мне по их поводу объяснения и указывал мне признаки, по которым определяется красота благородных камней. Я не решался излагать свои взгляды на их оправу. Он обещал мне познакомить меня с драгоценными камнями поближе, и я охотно принял его предложение.
Привыкши благодаря моим странствиям по горам много двигаться, я каждый день либо ходил по городу, либо совершал прогулки по его окрестностям. Благотворность крепкого горного воздуха заменял мне здесь становившийся все резче воздух осени, и я очень любил идти навстречу ему, когда он был напоен туманом или дул с гор, окаймлявших наш город с запада.
В ту же пору я начал ходить в театр. Пока мы были детьми, отец не разрешал нам смотреть спектакли. Он говорил, что от этого у детей непосильно возбуждается воображение, они приписывают себе всякие произвольные чувства и становятся потом жертвами желаний или даже страстей. Когда мы подросли, что со мной произошло уже давно, а с сестрой не больше года назад, нам разрешили изредка посещать Придворный театр. Для таких посещений отец выбирал пьесы, которые, по его мнению, для нас подходили и способствовали нашему развитию. На оперы и уж подавно на балеты ходить нам не дозволялось, под запретом были и театры в предместье. Да и спектакли мы смотрели не иначе как в обществе родителей. Получив самостоятельность, я приобрел и свободу ходить в театр по собственному выбору. Но, будучи занят научными трудами, я не испытывал особого к тому устремления. По привычке я иногда ходил на те же самые пьесы, что уже видел с родителями. Этой осенью все пошло иначе. Порой я сам выбирал пьесу, постановку которой хотел увидеть в Придворном театре.
Тогда на придворной сцене подвизался один артист, славившийся тем, что в роли Шекспирова короля Лира он будто бы достигал предела человеческих возможностей в актерском искусстве. Придворная сцена пользовалась к тому же и славой образцового для всей Германии театра. Утверждали поэтому, что на немецком языке ни на одной немецкой сцене нет ничего, что могло бы сравниться с его игрой, а один знаток театральных постановок в своей книге об этом предмете сказал насчет исполнения роли короля Лира на нашей придворной сцене, что тот не смог бы играть так, как он играет, если бы в нем не горел луч того дивного света, который создал и наполнил непревзойденной мудростью этот шедевр.
Узнав о таких обстоятельствах, я решил сходить на ближайшее представление «Короля Лира» на нашей придворной сцене.
И вот однажды в газетах, ежедневно приходивших к отцовскому завтраку, был объявлен «Король Лир» на придворной сцене, а исполнителем главной роли был назван актер, о котором я говорил и который находился уже в преклонном возрасте. Дело было зимой. Я устроил свои дела так, чтобы отправиться вечером в Придворный театр. Любя наблюдать городскую жизнь так же, как во время своих походов жизнь гор, я вышел пораньше, чтобы медленно пройти путь из предместья в город. На мне был простой костюм, в котором я обычно выхожу на прогулки, и дорожная шапочка. Накрапывал дождик, хотя нижний слой воздуха был довольно холодный. Дождь не был мне неприятен, скорее он радовал меня, хотя и мочил мой костюм, испортить который так уж сильно нельзя было. Я шагал навстречу дождю не спеша. Дорога между деревьями на открытом пространстве перед городом была покрыта льдом, как стеклом, и люди, шедшие передо мною и рядом, часто оступались на скользких местах. Я привык к неудобным дорогам и шел по катку без затруднения. Ветки деревьев блестели рядом с горящими фонарями, вообще же надвигалась ночь, и все кругом, и стены города скрывала темень. Когда я сошел с пешеходной дороги на проезжую часть улицы, мимо меня с грохотом проносились экипажи. Лошади растаптывали, а колеса разрезали наледь. Большинство колясок, хотя и не все, ехали в театр. Мне было прямо-таки странно, что они, как и я сам, устремлялись в этот неприветливый вечер куда-то, где будет разыграна какая-то выдуманная история. Так я подошел к освещенному навесу, где останавливались экипажи, повернул к входу, купил билет, сунул свою шапочку в карман пальто, сдал его в гардероб и вошел в светлый нижний этаж зрительного зала.
У отца я перенял привычку никогда не смотреть театральное представление сверху или с большого расстояния, потому что исполнителей надобно видеть в обычном их положении, а не глядеть на верхушки их голов или плеч, и потому еще, что надобно наблюдать за их мимикой и жестикуляцией. Остановившись поэтому примерно в конце первой трети рядов, я стал ждать, когда наполнится зал и звонок объявит начало спектакля.
Как обычные места, так и ложи очень быстро заполнились нарядными, как то полагалось, людьми, и, привлеченная, вероятно, славой этой пьесы и этого спектакля, толпа валила сюда сегодня куда более густая и пестрая, чем то видно было с первого взгляда. Мужчины, стоявшие рядом со мной, это отметили, и действительно, в толпе мелькали люди, пришедшие, по всей видимости, из самых отдаленных предместий. Когда наконец зал набился битком, большинство стало с любопытством глядеть на занавес. У меня не было тогда, да и теперь нет привычки рассматривать в переполненных помещениях толпу, одежды, наряды, огни, лица и все прочее. Поэтому я спокойно сидел, пока не заиграла и не умолкла музыка, не поднялся занавес и не началась пьеса.
Вышел король, он был, как он впоследствии говорил о себе, король с головы до пят. Но он был и опрометчивым, достойным жалости глупцом. Регана, Гонерилья и Корделия говорили так, как они, по их нраву, и должны были говорить, граф Кентский тоже говорил так, как только и мог. Король тоже принимал эти речи так, как то соответствовало его горячему, легкомысленному и все же симпатичному нраву. Он изгнал простодушную Корделию, не сумевшую украсить свой ответ и вызвавшую у него тем больший гнев, что прежде она была его любимицей, и отдал свое царство двум другим дочерям, Регане и Гонерилье, которые на вопрос, кто больше всех любит его, ответили чрезмерно льстивыми речами, тем самым уже показав, если бы у него был рассудок, всю неискренность своей любви и вызвав у благородной Корделии такое отвращение, что на вопрос, как она любит отца, та отвечала скупее, чем то, может быть, сделала бы в другое время, когда ее сердце открылось бы по своей воле. Кента, попытавшегося защитить Корделию, он, рассвирепев на него, тоже изгнал, и при таком пылком и ребяческом нраве короля ничего хорошего ждать уже не приходилось.
Я этой пьесы не знал и был захвачен ходом событий.
Первый месяц король со своими ста рыцарями живет у первой дочери, чтобы на следующий гостить у другой, и так далее поочередно, как было условлено. Последствия этого худого порядка сказались и на стране. В высоком роду Глостеров внебрачный сын восстает против отца и правомочного брата и творит бесчинства, поскольку и в королевском доме творятся бесчинства и безобразия. При дворе дочери и присоединенном к нему втором дворе короля с его рыцарями возникают разногласия и распри, и ответы дочери на действия короля очень понятны, но и жутковаты. Разрывает сердце простодушная, почти глупая уверенность, с какой король покидает нагрубившую ему в ответ на его действия дочь, чтобы перебраться к другой, более кроткой, которая, однако, прогоняет его еще грубее. На его слугу надевают колодки, его самого не принимают, потому что не приготовились, потому что ждут другую сестру, которую следует принять, королю же советуют вернуться к покинутой дочери и подчиниться ее распоряжениям. Прежде король слепо уповал на дочерей. Он был опрометчив в суждении о Корделии, легкомыслен при раздаче чинов. Теперь приходят раскаяние, стыд, ярость и бешенство. Он не хочет возвращаться к дочери, предпочитая выйти в степь в ненастье и бурю: пусть они неистовствуют, им-то он ничего не дарил. Он выходит в пустыню ночью, в непогоду, в грозу, подставляя седины ветру, он шагает по степи в сопровождении одного лишь шута, он швыряет свой плащ и, исчерпав запас слов, твердит только: «Лир! Лир! Лир!», но в одном этом слове заключены вся его предшествующая история и все его теперешние чувства. Затем он бросается шуту на грудь и в страхе кричит: «Шут, шут! Я схожу с ума, я не хочу сойти с ума, только не это!» Последние три слова он произнес мягче, как бы просяще, и у меня по щекам потекли слезы, я забыл о людях вокруг меня, мне казалось, что действие происходит сию минуту. Я встал и не отрывал глаз от сцены. Теперь король и в самом деле сходит с ума, в дни, последовавшие за той ненастной ночью, он венчает себя цветами, гуляет по холмам и полям и правит суд в обществе нищих. Тем временем его дочь Корделия уже уведомлена, что Регана и Гонерилья обижают отца. Она явилась с войском, чтобы его спасти. Его нашли в поле, и теперь он лежит в палатке Корделии и спит. За последнее время он очень осунулся, на наших глазах он становится все старше, даже как бы все меньше. Он долго спал, врач считает, что помешательство вызвано было лишь непомерной остротой чувств и что длительный покой и освежающий сон приведут его ум в порядок. Наконец король пробуждается, смотрит на стоящую рядом с ним женщину, не решается признать в ней Корделию и, не полагаясь на свой рассудок, смущенно говорит, что считает эту незнакомую женщину своей дочерью. После того как его мягко убеждают в верности его предположения, он без слов скатывается с кровати и на коленях, сложив руки, просит собственное дитя простить его. Мое сердце в этот миг просто разрывалось, я с трудом превозмогал боль. Ничего подобного я не ожидал, спектакля не было и в помине, передо мной была самая действительная действительность. Счастливая развязка, которую вводили в постановки этой пьесы в то время, чтобы смягчить ужасные чувства, вызываемые данной историей, не произвела на меня никакого впечатления, сердце говорило мне, что это невозможно, и я просто не соображал, что происходит передо мной и вокруг меня. Немного оправившись, я робко огляделся, словно чтобы посмотреть, наблюдали ли за мною. Я увидел, что все лица обращены к сцене и, взволнованные, как бы прикованы к месту действия. Только в ложе партера, очень близко от меня, сидела девушка, не замечавшая представления, она была бледна, как мел, и ее родственники хлопотали вокруг нее. Она показалась мне необыкновенно красивой. Лицо ее было залито слезами, и я не мог оторвать от нее взгляда. Поскольку сопровождавшие обступили ее, словно закрывая от любопытных, я почувствовал свою оплошность и отвел глаза.
Между тем спектакль кончился, и вокруг меня возникла суета, которая всегда связана с уходом из театра. Я извлек носовой платок, вытер лоб и глаза и направился к выходу. Я зашел в гардеробную, взял и надел пальто. Когда я вышел в передний зал, там толпился народ и, поскольку выходов было много, людская масса колыхалась туда-сюда. Я влился в большой поток, медленно вытекавший из главного выхода. Вдруг мне показалось, что перед моими направленными на выход глазами, совсем близко, появилось что-то, требующее внимания. Я перевел взгляд, и действительно передо мною, совсем близко, оказались большие, прекрасные глаза и лицо девушки из ложи партера. Я пристально посмотрел на нее, и мне почудилось, будто она приветливо на меня посмотрела и мило мне улыбнулась. Потом я видел ее только сзади и заметил, что она была закутана в черный шелковый плащ. Наконец я вышел через главный выход. Вынув из кармана пальто свою шапочку, я надел ее и еще немного постоял, глядя вслед отъезжающим экипажам, красные фонарики которых прорезали тусклую тьму. Дождь лил гораздо сильнее, чем когда я шел сюда. Я направился домой. Удалившись от едущих экипажей, выбравшись из потока людей, я свернул на пустынную дорогу, которая шла между рядами деревьев к предместью. Шагая мимо темноватых фонарей, я вышел к улицам предместья, прошел их и наконец оказался в доме родителей.
Время близилось к полуночи. Мать, всегда озабоченная в подобных обстоятельствах здоровьем близких, была еще одета и ждала меня в столовой. Сказав мне об этом, отпершая дверь служанка направила меня туда. У матери был готов для меня ужин, и она хотела, чтоб я съел его. Но я сказал, что слишком еще занят спектаклем и есть не могу. Она встревожилась и заговорила о лекарстве. Я ответил, что вполне здоров и ничего, кроме отдыха, мне не нужно.
— Что ж, коль тебе нужен отдых, то и отдыхай, — сказала она, — не буду тебя принуждать, я желала тебе добра.
— Желала добра, как всегда, дорогая матушка, — отвечал я, — спасибо тебе за это.
Я схватил и поцеловал ее руку. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, взяли свечи и разошлись по своим комнатам.
Я разделся, лег в постель, погасил свечи и дал постепенно успокоиться своему пылкому сердцу. Уснул я только под утро.
Первое, что я сделал на следующий день, — это попросил у отца сочинения Шекспира из его библиотеки и, получив их, положил у себя в комнате для чтения этой зимой. Я снова стал упражняться в английском, чтобы читать их не в переводе.
Когда минувшим летом, простившись со своим старым гостеприимцем, я шел по опушке леса проселочной дорогой, мне встретились две ехавшие в коляске дамы. Тогда я подумал, что человеческое лицо — лучший предмет для рисования. Эта мысль возникла у меня снова, и я старался приобрести какие-то знания о человеческом лице. Я пошел в императорскую картинную галерею и посмотрел все имевшиеся там картины с прекрасными женскими головками. Я часто ходил туда и рассматривал эти головки. Но я разглядывал и головки живых девушек, с которыми встречался, а в сухие зимние дни даже ходил на общественные гулянья и смотрел на лица встречавшихся девушек. Но среди всех головок, будь то на картинах или живых, не было ни одной, лицо которой по красоте могло хотя бы отдаленно сравниться с лицом той девушки в ложе. Это я знал наверняка, хотя, собственно, не мог даже представить себе это лицо и не узнал бы его, если бы увидел его снова. Я увидел его в исключительных обстоятельствах, а в спокойной жизни оно, конечно, должно быть совсем другим.
У отца была картина, изображающая читающего ребенка. Лицо ребенка не было ничем примечательно, оно не выражало ничего, кроме внимания к чтению, да и видна была одна его сторона, и все-таки оно было прелестно. Я пытался нарисовать это лицо, но мне никак не удавалось даже отдаленно передать линиями простые черты, в которых и глаза-то не было видно, потому что его закрывало веко. Я снимал картину, ставил ее так и эдак, чтобы снять копию. Но ничего не получалось, хотя я и пустил в ход все свое умение, приобретенное рисованием других предметов. Наконец отец сказал мне, что обаяние этой картины состоит преимущественно в нежности колорита и что ее-то и нельзя воспроизвести черными линиями. Видя мои усилия, он вообще ближе знакомил меня со свойствами красок, а я старался постигать это дело и набивать в нем руку.
Странно, что мне никогда не приходила мысль разглядывать собственную сестру на предмет воспроизведения ее черт и что у меня не возникало желания нарисовать ее лицо, хотя оно, на мой взгляд, было самым прекрасным на свете после лица девушки в ложе. У меня не хватало на это мужества. Мне и теперь еще часто думалось, что на земле не может быть ничего столь прекрасного и чистого, как Клотильда. Но тут мне вспоминались черты плакавшей девушки, которую старались утешить ее родные и на счет которой я вообразил, что она приветливо взглянула на меня в переднем зале театра, и предпочтение я отдавал ей. Представить себе я ее, правда, не мог, какой-то неясный, какой-то смутный образ красавицы маячил передо мной. Лица подруг сестры, как и лица других девушек, с которыми мне приходилось встречаться, обладали многими приятными и милыми свойствами; рассматривая их, я думал, как следовало бы нарисовать то или другое; но и к ним тоже обращаться мне не хотелось, и так мне и не довелось нарисовать кого-то с натуры. Я рисовал, стало быть, либо по памяти, либо с картин. Наконец, мне указали на то, что я всегда делаю наброски девичьих головок. Устыдившись, я стал рисовать мужчин, стариков, женщин, даже отдельные части тела, если мне попадались их образцы или слепки.
Несмотря на эти устремления, которым, в согласии с правилом нашего дома, не чинили препятствий, я не оставил своих основных занятий. Я очень любил расхаживать среди своих коллекций, любил вспоминать речи старика из дома роз, и в отличие от празднеств, куда меня приглашали, даже от прогулок и деловых визитов, мое жилье давало мне прекрасную, полную смысла уединенность, которая была тем приятнее, что его окна выходили в сад и на местность нешумную.
По мере того как зима шла к концу, увеселений в городе становилось все больше, и по этой, да и по другим причинам, мне чаще приходилось ходить в гости в разные семьи.
При таких обстоятельствах и произошел со мной случай, который после постановки «Лира» занимал меня той зимой больше всего. Мы много лет были очень дружны с одной семьей, жившей в Хофбурге. Это были вдова и дочь одного знаменитого человека, пользовавшегося когда-то большим почетом. Поскольку отец занимал при дворе высокую должность, дочь после его смерти тоже стала придворной барышней, отчего и жила с матерью в Бурге. Один из сыновей пребывал в армии, другой — при каком-то посольстве. Когда дочь не была занята по службе, у матери собирался вечерами небольшой кружок, где читали вслух, беседовали или музицировали. Когда мать постарела, играли, случалось, и в карты. Мы часто бывали на таких вечерах в этой семье. В ту зиму я дольше, чем то, собственно, позволяла вежливость, задерживал одну книгу, которую мне дала прочесть мать придворной барышни. Поэтому как-то днем я пошел туда, чтобы лично вернуть книгу и извиниться. Когда я вышел через высокий свод пешеходной дорожки с внешней дворцовой площади на внутреннюю, из двора справа от меня выезжало несколько экипажей, которые преградили мне путь и вынудили меня остановиться. Рядом со мной стояло много людей, и мне было любопытно, что означают эти экипажи.
— Это важные господа, которые поздравляли императора по случаю его выздоровления и которых он только что принимал, — сказал кто-то рядом.
Последний экипаж везли два вороных, а сидел в нем один-единственный человек. Шляпа его лежала с ним рядом, и его седые волосы были открыты зимнему воздуху. Из-под полурасстегнутого пальто видны были звезды орденов. Когда этот экипаж поравнялся со мной, я ясно увидел, что сидел в нем мой старый гостеприимец, так доброжелательно приютивший меня в доме роз. Он быстро, как ездят в экипажах такого рода, проехал мимо и повернул к городу. Он выехал из Бурга через те ворота, где поддерживают карниз два великана. Я хотел спросить кого-нибудь из моих соседей, кто это. Но поскольку в веренице экипажей, которые преградили пешеходам дорогу, его экипаж был последним и путь сразу же стал свободен, все мои соседи уже разошлись, а те, что оказались рядом со мной теперь, с близкого расстояния экипажа не видели.
Я прошел через двор и поднялся по так называемой имперско-канцелярской лестнице.
Я застал старую даму одну, передал ей книгу и принес извинения.
В ходе разговора я упомянул о старике, увиденном в экипаже, и спросил, не знает ли она, кто это. Она ни о чем не знала.
— Я не глядела в окна, — сказала она, — в этом большом дворе много чего происходит, я не обращаю на это внимания. Да и не знала я, что у императора шел прием, вчера он был еще не совсем здоров. Когда был жив муж, мы всегда поглядывали на большую площадь Хофбурга, и хотя там происходят важные события, повторяется все-таки, если наблюдать это много лет подряд, одно и то же. И наконец вовсе перестаешь смотреть на это и сидишь себе за книгой или за рукодельем, когда во дворе командуют «в ружье», скачут всадники или катятся экипажи.
— Кто же ехал с приема в последнем экипаже, Генриетта? — спросила она у вошедшей дочери.
— Это был старик Ризах, — ответила та, — он приезжал представиться его величеству и выразить свою радость по поводу его выздоровления.
В юности я часто слышал фамилию «Ризах», но обращал прежде так мало внимания на то, чем занимается человек с этой фамилией, что и понятия теперь не имел, кто он такой. Поэтому с обычной при подобных вопросах почтительностью я спросил об этом и узнал, что, хотя барон фон Ризах не занимал высших государственных постов, он в важные и трудные годы стареющего ныне императора участвовал в самых значительных его начинаниях, что вместе с людьми, вершившими дела Европы, он трудился над улаживанием этих дел, что его высоко ценят иностранные владыки, что от него ждали восхождения на самый верх, но он отошел от дел. Он живет большей частью в деревне, но часто наезжает сюда и навещает кого-нибудь из своих друзей. Император очень уважает его, и еще теперь к нему время от времени обращаются за советом. Он, по слухам, был женат на богатой женщине, но жену потерял. Вообще-то об этих обстоятельствах никто толком не знает.
Все это сообщила мне придворная барышня.
— Видишь, милая Генриетта, — сказала старая дама, — как все на свете меняется. Ты этого еще не знаешь, потому что молода и ничего не испытала. Низкое становится высоким, высокое — низким, одно становится таким, другое — другим, а третье остается прежним. Этот Ризах очень часто бывал у нас в доме. Когда отец вывозил нас на прогулку в своей старой докторской карете с темно-зеленой и черной полосками, Ризах не раз сидел на козлах, а то даже, когда мы выезжали за город, где нас никто не мог увидеть, становился, как лакей, на запятки, ибо такие при отцовской карете имелись. Мы были совсем дети, он был юный студент, без знакомств, неведомого происхождения, о котором, впрочем, никто и не спрашивал. Когда мы бывали в саду при нашем загородном доме, он вместе с братьями прыгал через гимнастический брус, гонял с ними в воду собак или раскачивал качели. Он привел в наш дом в товарищи моим братьям твоего отца. Тогда трудно было сказать, кто красивее — Ризах или твой отец. Но вскоре Ризах стал реже показываться, не знаю почему, прошло несколько лет, и мы соединились с твоим отцом священными узами брака. Братья, поступив на государственную службу, разъехались, родители умерли, о Ризахе заходила речь часто, но встречались мы редко. Твой отец начал свою деятельность главным образом тогда, когда Ризах уже вышел в отставку. И вот я опять в Бурге, но в другой его части, твоего отца нет на свете, ты уже не ребенок, ты несешь службу у высокой и милостивой повелительницы, а когда заговорили о Ризахе, мне почудилось, что не прошло и нескольких лет с тех пор, как он раскачивал качели в саду.
Я спросил, нет ли у Ризаха именья в Нагорье.
Мне сказали, что есть.
Вернувшись домой, я рассказал за обедом моим родным о сегодняшней встрече. Отец очень хорошо знал барона фон Ризаха. В прежние времена он не раз с ним встречался, но давно уже потерял его из виду. В пользу того, что в доме роз меня приютил именно барон фон Ризах, говорило то, что я сам, если только меня не обмануло из-за скорости езды сходство, увидел его, что у него есть в Нагорье имение, что он человек состоятельный, каковым мой гостеприимец, судя по всему, был, и что он обладает высокими умственными способностями, каковыми мой гостеприимец тоже, кажется, обладал. Решили не вести дальнейшего расследования, поскольку мой гостеприимец не пожелал назвать себя, и оставить все так, как есть.
Кроме этих двух совпадений, важных хотя бы для меня, в ту зиму не случилось ничего, что особенно привлекло бы мое внимание. Я был очень занят, часто урывал для работы и ночные часы, и для меня зима пролетела гораздо быстрее, чем то бывало в прежние годы. В общем же меня особенно удовлетворяли те вспомогательные средства, какие дает для образования большой город и каких нигде больше не найдешь.
Когда дни стали длиннее, когда настоящее городское веселье прекратилось и пошли тихие недели поста, я как-то спросил Преборна, почему он не показал мне графиню Тарона, которую так любит, которая так хороша и для завоевания которой он призывал на помощь меня.
— Во-первых, она не графиня, — ответствовал тот, — я точно не знаю ее звания, отец ее умер, и живет она с богатой матерью. Но я знаю, что она не дворянка, чему я рад, потому что и сам не дворянин, а во-вторых, они с матерью не приезжали этой зимой. Вот почему я не мог показать ее тебе, а ты нашел повод посмеяться надо мной. Но сначала ты должен увидеть ее. Все, кому сегодня говорят комплименты, все, кого превозносят до небес, все, кто блистал, — ничто по сравнению с ней, даже меньше, чем ничто.
Я возразил, что вовсе не смеялся над ним, а просто спросил.
По мере того как приближалась весна, я все больше готовился к своему путешествию. В этом году я хотел приступить к нему раньше, потому что собирался, прежде чем уйду в горы, побывать в доме роз. С каждым годом мои приготовления становились обстоятельнее, потому что с каждым годом я приобретал больше опыта и заходил в своих замыслах все дальше. В этом году я решил взять с собой больше принадлежностей для рисования и даже краски. Как вообще обстоит дело с привычкой, так было и в моем случае. Если каждую осень я тосковал по домашнему уюту, то каждой весной я чувствовал себя перелетной птицей, которая должна вернуться в места, покинутые ею осенью.
Когда в марте в городе установились довольно приятные дни, манившие людей на лоно природы, я свои приготовления закончил и тепло, как обычно, простившись с родными, однажды утром отправился в путь.
И тогда, как и теперь, мне очень претило расставаться с близкими ночью и начинать путешествие в ночные часы. Почта же отправлялась тогда в Нагорье лишь вечером, поэтому я предпочел нанять коляску. Загородные дома, принадлежавшие горожанам, еще не пробудились от зимнего сна. Частично они были укутаны соломой или обиты досками, что очень не вязалось с ясным небом и уже повсюду распевавшими жаворонками. Ехал я только по равнине. Добравшись до холмов, я покинул коляску и продолжил путь обычным своим образом — короткими пешими переходами.
Везде я снова рассматривал постройки, казавшиеся мне чем-либо примечательными. Когда-то я где-то читал, что человеку легче узнать и полюбить те или иные предметы, если он видит рисунки с них и картины, чем если видит их воочию, потому что ограниченные размеры рисунка передают в уменьшенном виде и порознь все то, что в действительности предстает большим и в совокупности со своим окружением. Мой опыт это мнение, кажется, подтверждал. С тех пор как я посмотрел архитектурные рисунки в доме роз, я воспринимал произведения архитектуры легче и не понимал, почему прежде не обращал на них такого внимания.
В Нагорье было еще гораздо холоднее, чем в городе в день моего отъезда. Когда однажды утром я дошел до букового леса во владениях моего гостеприимца, где Алицкий ручей впадает в Аггер, воду во многих местах покрывала еще кора льда. Теперь дом роз произвел на меня совсем другое впечатление, чем когда предстал мне белым пятном в сочной, темной зелени полей и деревьев под жарким и душным небом. Поля, за исключением зеленых полос озими, представляли собой еще бурые глыбы голой земли, на деревьях еще не было почек, и белое пятно дома маячило на каком-то бледно-фиолетовом фоне.
Я прошел по шоссе неподалеку от Рорберга и вышел наконец к тому месту, откуда поднимается по холму проселочная дорога к дому роз. Я пошел между заборами и живыми изгородями, пошел по пригорку между полями и оказался перед знакомым садом. Теперь он был совсем другим. Голые деревья вздымали черные и коричневые ветки в синий воздух. Единственной зеленью была решетка сада. На розовом деревце у дома лежала циновка красивой выделки. Я дернул ручку звонка, появился человек, который знал меня и впустил, и я был отведен к хозяину, находившемуся в саду.
Я застал его в такой же одежде, как летом, только сшитой из более теплой материи. Седые волосы его ничем по обыкновению покрыты не были.
Он показался мне снова, как и прошлым летом, совершенно слившимся со своим окружением.
Работники мыли стволы плодовых деревьев водой и мылом. Видел я также людей на лестницах, срезавших с деревьев отмершие и лишние ветки. Когда я уходил прошлым летом, мой гостеприимец попросил меня сообщить о своем возвращении заранее, чтобы я застал его дома. Но он, видимо, не учитывал, что это окажется трудно, поскольку, как правило, я и сам не знаю, как могут измениться мои намерения в зависимости от погоды или других обстоятельств. Я, стало быть, не предупредил его и нагрянул на свой страх. Но, увидев меня, он обошелся со мной так же приветливо, как во время моего прошлогоднего пребывания в его доме.
Я сказал, что он сам виноват, что я так рано в этом году свалился ему на голову: он от души пригласил меня, и я, не удержавшись, явился сюда до того, как долины и тропы в горах очистятся настолько, чтобы я мог приступить там к своим занятиям.
— У нас хватает комнат, как вы знаете, — сказал он, — мы всегда рады гостям, а вы гость никоим образом не нежеланный, как я вам уже прошлым летом сказал.
Он хотел проводить меня в дом, но я заметил, что прошагал сегодня всего три часа, что еще полон сил и рад был бы остаться с ним в саду. Единственное, о чем я прошу, — это велеть отнести мои мешок и палку в мою комнату.
Он вынул из кармана серебряный колокольчик, который всегда носил с собой, и позвонил. Звук даже на воздухе получился очень пронзительный, и из дома вышла служанка. Хозяин поручил ей отнести мой мешок, который я успел снять с себя, и палку, которую я ей вручил, в мою комнату.
Я спросил о Густаве, спросил о рисовальщике в столярной мастерской, спросил даже о седом старике садовнике и его жене. Густав здоров, услыхал я в ответ, он совершенствуется умственно и физически. Сейчас он занимается в своем кабинете, и он будет, конечно, очень рад увидеть меня. У рисовальщика все по-прежнему, он очень старателен, а что касается садовника и его жены, то они уже много лет не меняются и нынче таковы же, какими я видел их прошлым летом. Наконец, я спросил о челяди, о садовых рабочих и работниках на хуторе. Все они благополучны, гласил ответ, со времени моего прошлогоднего визита никто не болел, да и никаких оснований для недовольства у работников не было.
После всяких общих слов, в частности, о состоянии дорог, по которым я пришел сюда, и об озими на полях, он снова перевел свое внимание на работу, пред ним делавшуюся, и я последовал его примеру. Когда-то, когда он рассказал мне, что у него принято мыть стволы, эта процедура представилась мне очень канительной. Но сейчас я увидел, что все это делается очень просто с помощью раздвижных стремянок и досок. Щетками на длинных палках легко можно было достать до самых высоких веток, а поскольку люди были убеждены в целесообразности этой меры, дело двигалось со скоростью, какой я не ожидал. И правда, глядя на вымытый и очищенный ствол, сверкающий гладкостью и чистотой рядом со своим еще заскорузлым и грязным соседом, я невольно думал, что у одного дела очень хороши, а у другого вид довольно унылый. Мне вспомнились гордые слова, сказанные мне моим гостеприимцем прошлым летом, — чтобы я только взглянул на ствол этой вишни: не напоминает ли его кора тонкий серый шелк. Она и впрямь была как шелк и, наверное, походила на него все более, потому что за ней каждый год так ухаживали.
Когда мы вскоре стали углубляться в сад, я увидел и другие работы. Подвязывались и приводились в порядок живые изгороди, под них укладывали терновый хворост для птичьих гнезд, подправляли подпорченные зимой дорожки, рыхлили землю под карликовыми деревьями, уже подрезанными, смотрели, держатся ли еще подпорки у слабейших из них или сгнили в земле. Завязывали развязавшиеся за зиму веревочки, перекапывали огород, приоткрывали и закрывали зимние грядки, чинили насосы, вбивали гвозди, наконец, чистили и укрепляли домики для птиц.
Я оставил моего гостеприимца, поскольку он был очень занят руководством работами, и пошел бродить по саду. Птиц прилетело уже изрядное количество, они шмыгали в голых ветках деревьев, и уже нет-нет да слышались щебет и шебуршение. Особенно приятно и звонко пели в окрестных полях взлетавшие жаворонки. Из-за отсутствия листьев на кустах и деревьях поилки и кормушки для птиц были везде заметнее, да и искал я их теперь больше, чем в первый свой приход, потому что уже знал о них. Я увидел множество коробочек для зерен, о которых мне рассказывал мой гостеприимец.
Осматривал я и ветки. Почки листьев и цветов уже сильно набухли и ждали часа, когда распустятся.
Я поднялся до высокой вишни и посмотрел поверх сада и поверх дома на горы. Надо всем разливался ясный, синий воздух. Этот прекрасный день, какие ранней весной выдаются еще довольно редко, и побудил моего гостеприимца затеять работы в саду. Под ясным воздухом земля расстилалась еще совсем голая. Я хотел сходить и к полям. Однако земля, утром, вероятно, еще замерзшая, теперь размякла и размокла, так что идти по ней было бы неприятно и грязно. Я поглядел на темные озими, на голые комья соседних с ними полей и стал спускаться.
Я пришел к садовнику и его жене. Мне не показалось, что они, как сказал мой гостеприимец, не изменились. Старик поседел, по-моему, еще больше. Его волосы уже не отличались от полотна. А жена не изменилась. Она была, видимо, из очень чистоплотной семьи, потому что держала дом в очень большой опрятности, а старика одевала донельзя аккуратно и строго. Он произвел на меня точно такое же впечатление, как в прошлом году: словно принадлежал к совсем другому сословию.
Когда я шел от теплицы к площадке для кормления птиц, мне встретился Густав. Он, вскрикнув, подбежал ко мне и поздоровался со мной.
Мальчик этот очень изменился за короткое время. Он стоял передо мной очень красивый, и на фоне сурового пейзажа, еще без листьев, без травы, еще без единого стебелька и цветка, пейзажа, состоявшего в соответствии со временем года лишь из бурой земли, бурых стволов и голых веток, он казался еще красивее. Такое я часто замечал при рисовании: животные, например, при лохматой голове кажутся еще более блестящими, а нежные детские личики, когда они окаймлены мехом, делаются еще нежнее. На щеках его играл легкий румянец, на лоб падали густые каштановые волосы, а большие черные глаза были как у девушки. В них, хотя он был очень весел, таилась какая-то грусть.
Мы пошли к площадке, где хлопотал его приемный отец. По дороге я рассказал ему о своих родственниках — о матери, об отце, о своей милой сестре. Рассказал я ему и о городе — как там живут, какие в нем есть развлечения, какие неприятные стороны и как я провожу там время. Он сказал мне, что уже приступил к естествознанию, что отец показывает ему опыты и что этот предмет ему нравится.
Мы пробыли некоторое время возле его приемного отца. Густав все мне показывал, обращая мое внимание то на одну, то на другую перемену, происшедшую с прошлого моего прихода.
Обед соединил нас в доме.
Сидя за едой напротив своего старого гостеприимца, я вдруг заметил, какие у него прекрасные зубы. Очень частые, белые, маленькие, поблескивающие эмалью, без единого изъяна. На щеках его от долгого пребывания на свежем воздухе был здоровый румянец, только волосы его, показалось мне, стали, как и у садовника, еще белее.
После обеда я удалился в свою комнату. Она была очень приятно устроена, и в печи горел согревающий огонь.
Пополудни мы пошли в столярную мастерскую. Ойстах, шагнув мне навстречу, поздоровался со мной очень весело, и я ответил на его приветствие самым сердечным образом. Другие рабочие тоже дали понять, что они меня узнали. Сначала я все осмотрел мельком и в общих чертах. Знакомый мне прекрасный стол продвинулся очень сильно, но далеко еще не был готов. Снова было сделано несколько приобретений. Мне показали их, объясняя, что может из них получиться. Сделаны были и планы новых самостоятельных работ, и передо мной накоротке разложили наброски к ним. Я попросил у Ойстаха позволения посетить его раз-другой за время своего пребывания здесь. Он разрешил мне это очень охотно.
Затем, несмотря на весьма скверные дороги, мы совершили далекую прогулку. Когда я упомянул о том, что уже заметил в саду птиц, мой гостеприимец сказал:
— Пробудь вы у нас подольше, вы узнали бы теперь всю историю жизни этих пернатых. Зимовавшие здесь уже взбадриваются, улетавшие постепенно возвращаются, их встречают криком. Они набрасываются на корм и едят торопливо и жадно, пока не забыты испытанные ими на чужбине заботы о пище. Ведь они там вряд ли находят кормильца и потчевателя. Теперь они становятся все доверчивее и поют с каждым днем все прекраснее. Затем в ветках начинается воркование, и они гоняются друг за другом. Потом начинается домашняя жизнь. Они заботятся о будущем и строят из всякого мусора гнезда. Я тогда велю надергивать для них ниток, но они не всегда их берут, иногда я вижу, как птица рвет какую-нибудь навозную соломинку. Затем приходит время труда, как у нас в зрелые годы. Легкомысленные птицы становятся серьезны, они без устали кормят своих птенцов, воспитывают их и учат, чтобы привить им какие-то навыки, особенно для предстоящего долгого перелета. Поближе к осени снова выдается более свободная пора. У них наступает как бы бабье лето, и они некоторое время играют, перед тем как отбыть.
Вернувшись с прогулки уже к вечеру, мы собрались в столовой у камина, где горел веселый огонь. Позвали и Ойстаха, призван был и седой садовник, чтобы рассказать, как преуспели растения на зимних грядках и в теплицах. Экономка Катарина ставила время от времени на столик теплое питье.
На следующий день утром я пошел к своему гостеприимцу в кладовку, чтобы посмотреть, как он кормит птиц. Он приготовил, достав из ящичков, всяческий корм и открыл окно над дощечкой. Сам он остался у окна, а я стоял рядом с ним. Тем не менее птицы прилетели, одни покружившись, другие по прямой линии. Его они не боялись, потому что знали своего кормильца, а меня не боялись, потому что я стоял рядом с ним. Они толкались, стучали клювами, щебетали, а порой даже и дрались.
— Поздней весной и летом я даю самкам какую-нибудь лакомую добавку, — сказал он, — потому что среди них может оказаться обремененная заботами мать. Те, что жрут так торопливо и в то же время так испуганно, — это чужие. Они ни за что не приблизились бы, если бы их не принудил к тому лютый голод. В суровые зимы я видел на этих дощечках редчайших птиц.
Когда все кончилось и гости перестали прибывать, он затворил окно.
Затем я поднялся на чердак дома, потому что мой гостеприимец сказал, что теперь и зайцам рассыпают корм за пределами сада и что сверху их можно увидеть. Кроме озимых и сухой хвои, поживиться пока нечем, отчего и приходится им помогать. Как только служанка рассыпала листья и удалилась, зайцы не заставили себя ждать. Я привинтил к балке подзорную трубу и наблюдал забавное зрелище — на это обратил мое внимание Густав, — как в трубе появляется огромный заяц и, глядя на подозрительное угощение испуганными глазами, быстро шевелит губами, словно уже ест. Поглядев на это, я спустился и пошел с Густавом в комнату, где стояли приборы для занятий естествознанием.
Теперь настал час утренней трапезы. В зимнее время завтракали всегда в этой комнате естествоведческих приборов, потому что, проводя часть первой половины дня у себя в комнатах, не хотели спускаться в столовую, а в других покоях старика, в кабинете и спальне, в это же время происходили уборка и проветривание.
Мой гостеприимец уже ждал меня и Густава, ведь на чердак он с нами не поднимался. Комната была натоплена, и близ печи стоял накрытый стол со всем необходимым для приятного утреннего подкрепления. Он стоял на свободном пространстве, вокруг которого располагались научные инструменты.
Когда мы сидели, позавтракав, а комнату наполняло приятное тепло и на утреннем солнце, очень косо светившем в окна, приборы сверкали медью, стеклом и деревом, я сказал своему гостеприимцу:
— Странное дело, когда я вернулся из вашего имения в город и к тамошним заботам, ваше житье здесь вспоминалось мне как сказка, а сейчас, когда я здесь и вижу это спокойствие, здешняя жизнь снова кажется мне настоящей, а городская — сказкой. Большое стало для меня маленьким, а маленькое — большим.
— То и другое, видимо, необходимо для полноты и счастья жизни, — отвечал он. — Люди становятся несчастны оттого, что хотят лишь чего-то одного, восхваляют лишь что-то одно, оттого, что они односторонни в своем желании насытиться. Будь мы в ладу с самими собой, мы гораздо больше радовались бы земным благам. Но от избытка желаний и вожделений мы прислушиваемся только к ним и неспособны понять невинность вещей, что вне нас. К сожалению, мы находим их важными, когда они оказываются предметом наших страстей, и неважными, когда они с нами не связаны, а ведь часто все бывает наоборот.
Тогда я еще не вполне понял эти слова, я был еще слишком молод и сам часто слышал только голос моей души, а не вещей, меня окружавших.
В полдень прибыл тот мой чемодан, что я отправил в дом роз багажом. Я распаковал его, показал некоторые книги, рисунки и другие предметы, составлявшие его содержимое, зашедшему ко мне Густаву и устроился в своей комнате.
Так потекли дни.
В этом доме каждый был независим и мог заниматься своим делом. Только общий распорядок дня связывал в известной мере людей друг с другом. Даже Густав казался совершенно свободным. Закон, управлявший его трудами, был дан только один раз и был очень прост, юноша усвоил его, он не мог не усвоить его, будучи смышлен, и жил по нему.
Густав очень просил меня побывать разок на его занятиях естествознанием. Я сказал об этом моему гостеприимцу, и у того не было возражений. Я присутствовал на этих занятиях не один раз, а несколько. Старик сидел в кресле и рассказывал. Он описывал какое-нибудь явление, объяснял его очень ясно, при возможности показывал с помощью приборов своей коллекции, а в ином случае старался передать рисунком или каким-то наглядным уподоблением. Затем он рассказывал, каким путем пришли люди к познанию данного явления. Затем он проделывал то же самое с другим явлением, родственным. Представив достаточно широкий, как ему казалось, круг связанных друг с другом явлений, он выделял общую их черту и излагал суть явления или закон. Основой такого преподавания не служила какая-нибудь книга, Густав записывал по памяти то, что ему было рассказано, старик затем исправлял это в его присутствии, и таким образом мальчик не только получал учебник естествознания, но, благодаря записыванию и исправлению, выучивал и сам предмет. Усвоенное Густавом обсуждалось порой как бы в дружеской беседе. Язык учения был всегда так прост и ясен, что и ребенок, казалось мне, смог бы понять эти вещи. Тут-то у меня и открылись глаза на то, как неправильно преподают эту науку иные учителя в городе, обряжая ее в какую-то ученую тарабарщину, которой ученик не понимает и с помощью которой они так припутывают ко всему математику, что от обеих наук ничего не остается и никакого единого целого тоже не получается. Я увидел, что Густав тоже применяет к естествознанию счет, но делает это всегда с пониманием и полной ясностью и смотрит на счет не как на главное дело, а как на слугу природы. На основании собственных своих прежних работ я заключил, что и в этом предмете он получил основательную подготовку. Я как-то спросил его об этом и узнал, что и тут его учителем был приемный отец.
Позднее я посетил и занятия по географии. Здесь я обратил внимание на то, что в ходу были карты, начерченные в одном и том же масштабе, в силу чего Россия была представлена на чрезвычайно большой, а Швейцария на очень маленькой карте. Мне был понятен смысл этого правила: при живом юношеском воображении так лучше запоминалось соотношение величин. Тут мне вспомнилось пари на какую-то мелочь, которое мы в детстве заключили по поводу того, находится ли Филадельфия чуть ли не на широте Рима, что большинство со смехом отрицало. Принесенная карта показала, что Филадельфия южнее Неаполя. Присутствующие при этом взрослые дружно сказали тогда, что у детей эту ошибку вызывают, должно быть, пространственные соотношения, в которых вычерчены наши обычные карты. Карты, которыми пользовался Густав, были изготовлены чертежником из столярной мастерской по картам наших так называемых атласов.
Я спросил своего гостеприимца, изучает ли Густав также историю, на что он ответствовал:
— Очень часто молодым ученикам заодно с географией преподают и историю. А я думаю, что это неверно. Если при описании земли смотреть не только на историческое деление земли и стран, что я тоже считаю ошибкой, а и на постоянные формы земли, на которых и под влиянием которых образовались различные народы, то земля — предмет естественный, а география в большой мере — составная часть естествознания. Сведения о природе, если уж противопоставлять природу и людей, гораздо доступнее нам, чем знания о людях, потому что предметы природы можно поставить вне нас и рассмотреть, а предметы человечества заслонены от нас нами самими. Кажется, что должно быть наоборот, что себя самого надо бы знать лучше, чем чужое, многие так и думают. Но это не так. Дела человечества, даже дела нашей собственной души скрыты от нас, как я уже сказал, или, по меньшей мере, замутнены страстью и себялюбием. Разве не считает большинство, что человек — это венец творения, что он лучше всего на свете, даже неведомого? И разве не полагают те, кто не в состоянии выйти из своего «я», что вселенная, в том числе даже бесчисленные миры вечного космоса — всего лишь арена этого «я»? А дело обстоит вовсе не так. Я считаю поэтому, что лишь после изучения общественных наук Густаву следует перейти к наукам о человеке, держась тут примерно такой последовательности: соматология, психология, логика, этика, правоведение, история. Затем пусть почитает что-нибудь из книг философских, а уж потом ему самому надо вступать в жизнь.
Для занятий с Густавом были назначены определенные часы, которых старик никогда не пропускал, для самостоятельной работы были отведены другие часы, и Густав соблюдал их опять-таки самым добросовестным образом. Остальным временем он мог распоряжаться свободно.
Такие часы мы не раз проводили в читальной комнате. Часто приходил туда и мой гостеприимец, а случалось, и Ойстах или еще кто-нибудь из работников. Книги, которые читал Густав, определялись выбором его учителя. Мальчик пользовался ими прилежно, но я никогда не замечал, чтобы он потянулся к какой-нибудь другой книге. У Ойстаха и других выбор был свободный, и, конечно, у меня тоже. Будучи в этом доме в первый раз, я посетовал, что комната с книгами отделена от читальной комнаты, это казалось мне неудобством и излишеством. Но теперь, погостив здесь подольше, я понял ошибочность своего мнения. Оттого, что в комнате для книг ничего не происходило, кроме того, что в ней хранились книги, она была как бы освящена, а книги приобретали важность и значительность: комната — их храм, а в храме не работают. Этот порядок есть и некий знак почтения к духу, которым во всем его многообразии наполнены эти отпечатанные и исписанные листы бумаги и пергамента. В читальной же комнате этот дух затем действительно поступает в дружеское пользование, и его величие входит непосредственно в круг наших земных потребностей. Комната эта к тому же довольно удобна для чтения. Сюда заглядывает приятное солнце, здесь висят зеленые занавески, здесь стоят удобные кресла и приспособления для чтения и письма. Даже то, что каждую книгу полагалось, попользовавшись, относить на ее место в другую комнату, мне теперь нравилось. Это создавало дух порядка и чистоты, и система именно в книгах есть корпус знания. Когда я теперь вспоминал виденные мною библиотеки с лестницами, столами, креслами, скамейками, на которых что-то лежало, книги ли, бумаги ли, письменные принадлежности или вовсе метелки, такие книжные залы представлялись мне церквами, в которые наволокли всякий хлам.
Я часто ходил также к Ойстаху в столярную мастерскую. В один из первых ясных дней я вынес оттуда с его разрешения все рисунки и не спеша, подробно еще раз их рассмотрел. Просто не верилось, как продвинулся я в рисовании благодаря упражнениям, проделанным истекшей зимой. Многое из увиденного я понимал теперь лучше, чем летом, да и большинство работ понравилось мне больше. Я показал Ойстаху кое-что из своих рисунков, особенно из ботанических зарисовок, множество которых я на этот раз привез в чемодане. При первом же моем визите в мешке у меня были только некоторые записи, подзорная труба и другие вещи, помещающиеся в таком небольшом вместилище. А рисунков не было. Ойстах обрадовался им. Но любопытно было видеть, как смотрел он на эти ботанические рисунки: не как любитель и знаток растений, а как архитектор, который может использовать их форму. Он и сам пытался позднее зарисовывать живые растения. Но тут еще больше дало себя знать его отличие от любителя растений: на его картинах растения путем незаметных добавок постепенно превращались в красивые орнаменты. Да и выбирал он себе, как правило, такие образцы, которые были ближе или могли быть приближены к его профессии. Что касается других изделий столярной мастерской, то он показывал мне все и многое, если я просил, объяснял. И в этом отношении я с прошлого лета, казалось мне, сделал успехи — потому, в частности, что, видимо, хорошенько рассмотрел и запомнил отцовскую мебель, чтобы представить ее здесь и сравнить со здешней. Я стал теперь восприимчивее к формам, многое нравилось мне больше, чем прошлым летом, и я замечал многое, чего тогда не замечал. Порой, когда предполуденное солнце мягко светило сквозь закрытые занавески, мы сидели в приятной комнате Ойстаха и говорили о самых разных вещах.
В послеполуденное время, особенно при пасмурной погоде, когда работы под открытым небом свертывались, приятно было собираться в кабинете моего гостеприимца. В такие, более свободные часы эта комната, наполняясь людьми, становилась местом, объединявшим маленькое общество обитателей усадьбы, если оно вообще как-то объединялось. Старик-хозяин сделал эту комнату очень уютной, хотя и приспособил для одиночества, поскольку и вообще, если не собирал для чего-либо людей вокруг себя, любил одиночество. Возле кресла у него была укреплена веревка от колокола, спускавшаяся через пол в людскую и позволявшая быстро позвать слугу. Нечто подобное было и в спальне. Там, кроме обычной веревки колокола, имелись на боковых досках кровати две пластинки, которые при малейшем нажатии на них приводили в движение громко и долго звенящий колокол, чтобы, случись что-либо со стариком, можно было бы поспешить на помощь. У двух слуг всегда находились ключи от его покоя, так что и ночью можно было отпереть дверь снаружи. Это все придумал Ойстах, потому что старик не хотел быть в чем-то стесненным челядью, и даже близость ее мешала ему. Он и Густаву не разрешил спать в соседней комнате, чтобы не привыкать к нему и потом не тосковать о нем, поскольку юноше придется когда-нибудь уйти из дома. Собираясь в кабинете моего гостеприимца, обсуждали обычно дела поместья, необходимые изменения, предстоящие работы и произведения искусства. Сюда приносили планы и наброски вещей, которые надо было сделать из дерева или которые были связаны с посадками в саду или перестройкой зданий. Было полезно приносить такие наброски именно в эту комнату, потому что здесь они попадали в прекрасную, наилучшую обстановку, где любая ошибка, любая погрешность сразу же обнаруживалась и могла быть исправлена. В дни, когда в хозяйский кабинет приходило много людей, на изысканном его полу, чтобы не повредить такового, всегда постилали ковер.
Когда бывало сухо, мы часто ходили на хутор. Там вовсю шли работы, которые приносит с собой ранняя весна. С прошлого года здесь все стало гораздо благоустроеннее. Должно быть, до поздней осени и даже зимой, насколько это было возможно, здесь прилежно трудились. Во внутреннем дворе не только красиво вымостили землю около зданий и посыпали всю его площадь чистым песком, но и устроили в середине его небольшой фонтан, три струи которого падали в окруженный клумбой бассейн. На все это глядели светлые окна домов хутора. И хотя две стороны двора составляли амбары и стойла, эта часть здания походила на родовой замок. Я спросил своего гостеприимца, не возвел ли он и новые стены, потому что хутор кажется более ухоженным, чем в прошлом году, да и красивее других хуторов в этих краях.
— Никаких новых стен я не возводил, — отвечал тот, — только прибавил несколько новых орнаментов и увеличил окна. Основа уже была. Хутора и большие крестьянские усадьбы в наших местах построены не так некрасиво, как вам кажется. Просто они всегда достроены до определенной меры, не больше. Нет завершенности, как бы отшлифованности, потому что ее нет в душе жильцов. Я лишь навел этот последний лоск. Если бы дать побольше примеров, то в стране изменились бы представления о надлежащем виде домов и пригодности их для жилья. Этот дом послужит таким примером.
Дороги вокруг хутора и его лугов тоже были не такими, как прошлым летом. Они были твердые, обложены белым кварцем и очень четко очерчены.
В ясные полдни, становившиеся все теплее, я посиживал на скамейке, опоясывавшей высокую вишню, и глядел на голые деревья, на взбороненные поля, на зеленые полоски озимых, на уже зеленеющие луга и сквозь пар, который испускает земля ранней весной, на высокие горы, искрившиеся еще в изобилии лежавшим на них снегом. Густав часто сопровождал меня, вероятно, потому, что по возрасту я был ближе к нему, чем все другие обитатели дома. Поэтому он любил сидеть со мной на скамейке. Ходили мы и в поля, и он показывал мне то куст, на котором вот-вот распустятся почки, то солнечное место с первыми травинками, то камни, вокруг которых играли какие-то уже появившиеся ранние зверьки.
Однажды я обнаружил в шкафах естествоведческой коллекции образцы всех местных пород дерева. Они представляли собой кубики, две плоскости которых были поперечными, а остальные четыре продольными срезами волокон. Из этих четырех плоскостей одна была шершавая, вторая — гладкая, третья — полированная, а четвертая — с корой. Внутри кубиков, которые были полыми и открывались, находились засушенные цветки, плоды, листья и прочие примечательные принадлежности данного растения, даже, например, мхи, обычно растущие в определенных местах. Ойстах сказал мне, что заложил эту коллекцию и придумал этот порядок хозяин — так называли моего гостеприимца все жители дома, только Густав называл его приемным отцом. Такую же коллекцию хозяин хочет собрать еще раз и подарить ремесленному училищу.
Странная одежда хозяина и его привычка ходить с непокрытой головой, поначалу весьма поразившие меня, совершенно перестали меня смущать, и то и другое, собственно, даже подходило к его окружению, имея в виду и его комнаты, и живших с ним рядом людей, среди которых он не выделялся как некий аристократ, а держался как равный и от которых все-таки отличался какой-то самобытностью. Напротив, мне думалось, что многое, считавшееся у нас образцом вкуса, таковым отнюдь не является, и уж никак не мужские городские пальто и шляпы.
По моей просьбе меня однажды повели в комнаты, обставленные в женской манере. Они мне опять очень понравились, особенно последняя, маленькая, которую я теперь назвал «роза». Здесь можно было сидеть, мечтать и озирать окрестность через приятного вида окно. О назначении этих комнат я, естественно, спрашивать не стал.
Я часто рассказывал моему гостеприимцу о своем отце, о матери и сестре. Я рассказывал ему обо всех наших домашних обстоятельствах и не раз, насколько мог подробно, описывал вещи, которые отец держал у себя в комнатах и считал ценными. При этом я не называл своей фамилии, а он меня о ней и не спрашивал.
Не знал я все еще, хотя побыл в его доме уже довольно долго, и его фамилии. Случайно она оказалась не названа, и поскольку он сам ее не сказал, я из принципа никого об этом не спрашивал. Легче легкого было узнать ее у Густава или Ойстаха. Но менее всего мне хотелось спрашивать этих двоих, и уж подавно Густава, когда он множество раз невзначай говорил «приемный отец». Хозяин был очень добр ко мне, очень приветлив, очень любезен со мной, но он не называл своей фамилии, а с уверенностью предположить, что я знаю ее, не мог. Поэтому я решил вообще нигде, даже совсем далеко от этого места, не спрашивать фамилии владельца дома роз.
Постепенно все заметнее, все разительнее менялась погода. Дни стали гораздо длиннее, солнце грело все жарче, часы, когда небо было ясно, безоблачно, стали дольше тех, когда оно было в облаках или в дымке, земля зеленела, деревья распускались, над розовыми кустами у дома работа кипела, и весна пришла настоящая. На эту пору давно уже было назначено мое отбытие. Я еще раз сказал это своему гостеприимцу, и когда я занялся отправкой своего чемодана, был точно определен день отъезда.
Мы еще раньше договорились, что я распределю свою работу так, чтобы ко времени цветения роз вернуться и снова пожить в доме. Поскольку я видел, что мне здесь рады и что по части внешних средств я дому не в тягость, а душа моя привязалась к этому месту, такой договор вполне отвечал моему желанию. Только из горных долин, считал мой гостеприимец, мне придется отправиться в обратный путь еще до того, как там распустятся розы, потому что здесь, благодаря лучшей почве и лучшему уходу, они расцветают раньше, чем в прочих частях страны. Я согласился, и на том порешили.
За день до моего отбытия вернулся брат Ойстаха. Лет ему было двадцать с чем-то, он был хорошо сложен, смуглощек, обладал темными кудрями и толстоватыми губами. Мне показалось, что я уже несколько раз встречался с ним в моих походах. Он принес в своем альбоме множество зарисовок, в том числе и очень хороших, которые были с интересом рассмотрены. Теперь их нужно было воспроизвести на бумаге большего формата и в более художественной манере.
Побывав еще вечером накануне отбытия на хуторе, сходив на следующее утро к Ойстаху и старикам-садовникам, попрощавшись с обитателями дома и простившись перед тем со своим гостеприимцем и Густавом, я стал спускаться с холма под уже доносившееся из сада, из живых изгородей и с посевов по-весеннему мощное пение птиц.
7. Встреча
По пути к месту своего назначения я зарисовал одну красивую статую, которую нашел в нише в развалине какой-то стены. Для этого я извлек из мешка, где теперь всегда носил его, свой альбом. Это была единственная моя задержка в дороге.
Первое, что я сделал, прибыв на место, это стал распределять свое время лучше, чем прежде. Я должен был признаться себе, что на меня оказало большое влияние то, как выполнялась каждодневная работа в доме роз. Поскольку там очень высоко ценили время и пользовались этим благом весьма осмотрительно, я начал, хотя и прежде особенно упрекать себя не мог, выполнять ту или иную работу за определенное время гораздо целенаправленнее. Раньше, поддаваясь сиюминутным впечатлениям, я часто менял цели и при всем усердии не всегда достигал соответствующего усилиям успеха. Теперь я ставил себе задачей исследовать какой-то определенный раздел, не отставляя, но и не откладывая до лучших времен ничего существенного, так что если я к поре роз с намеченным разделом управиться и не успею, то хотя бы с законченной мною частью действительно справлюсь и смогу указать на какие-то несомненные результаты. Вскоре после начала работ я понял, что наметил себе слишком большой объем, но и понял, что меньший объем, если я одолею его, обеспечит мне больший успех, чем если я, как раньше, стану тратить время на попытки охватить все. К этому прибавилось и некое удовлетворение, которое я почувствовал, увидев, что звено за звеном выстраиваются в какой-то порядок, тогда как раньше привлекательный материал чаще оставался хаосом, чем облекался в соответствующую себе форму.
Мои ящики наполнялись и становились в ряд. Мои проводники и носильщики тоже окрепли духом благодаря такому новому порядку, и доверие их ко мне выросло. У меня появилась приязнь к ним, на которую они отвечали, мы жили дружно и весело, работа была в радость и спорилась. Часто, когда мы вечерами сидели в трактире за большим четырехугольным кленовым столом или, с наступлением жарких дней, не за мертвыми досками стола, а на воздухе, под живыми, шелестящими кленами, вокруг которых был сколочен сосновый стол и на которые глядел многооконный трактир, мои помощники подсчитывали, что сделано сегодня, что — за последние две недели, сколько мы, как они выражались, наработали и сколько обследовано гор. Понимая дело по-своему, они вскоре стали обсуждать происходившее в горах, спорить и требовать от меня, чтобы я, запомнив, откуда взяты собранные образцы, и измерив высоту и толщину гор, выстроил всю горную цепь в уменьшенном виде на каком-нибудь лугу или поле. Я сказал им, что это и есть часть моей задачи, и хотя ни на лугу, ни в поле горы не будут выстроены, они будут начерчены на бумаге и раскрашены в такие цвета, что каждый, кто смыслит в подобных делах, наглядно представит себе и горы, и все, из чего они состоят. Поэтому я не только запоминаю, откуда взяты образцы и в каких условиях находятся они в горах, но и записываю это, чтобы не забыть, и наклеиваю на них таблички со всеми необходимыми сведениями. Образцы эти, составленные в истинном их порядке, служат затем доказательством того, что начерчено на бумаге или, как то называется, на карте. Мои помощники нашли, что это очень умно: если понадобится тот или иной камень или еще что-либо для строительства или чего-то подобного, по карте можно будет сразу узнать, где его найдешь. Я сказал, что другая моя задача состоит в том, чтобы по найденному в горах определить, как они возникли.
Горы вовсе не возникли, возразил один, а существовали с сотворения мира.
— Они тоже растут, — сказал другой, — каждый камень, каждая гора растет, как прочие создания. Только, — прибавил он плутовато, — они растут не так быстро, как плесень.
Так спорили они об этом предмете долго и часто, и так обсуждали мы наши труды. От одного лишь прикосновения к природе гор и частого ее созерцания они постепенно приобретали все новые и все более верные знания и часто смеялись над прежними своими ошибочными взглядами и суждениями.
Дневник, который я для порядка вел, разрастался, листки умножались, позволяя надеяться, что материал удастся объять и привести в систему, когда придут зимние или вообще досужие дни.
По воскресеньям и в другое время, когда работа была менее спешной, выдавалась возможность приятно развлечься и подкрепить силы отдыхом.
Однажды мы нашли кусок мрамора, о котором я подумал, что такого у моего гостеприимца в доме как раз и нет. Цвет его был нежной, приятной смесью чистейшего белого, розового и палевого. Порода эта редкостная, и тут она представала в таком большом куске, в каком я никогда еще не видел ее. Я решил подарить этот мрамор своему гостеприимцу. Я попытался приобрести право собственности на нашу находку, и когда мне это удалось, приступил к извлечению цельной части глыбы, чтобы обтесать ее и придать ей какую-то подходящую форму. Оказалось, что из этого материала можно изготовить прекрасную доску для стола. Лучшие из обломков я взял с собой, чтобы сделать из них разные подарки на память. Из одного удалось вытесать плиту, которую вылощили так, чтобы рисунок и цвет мрамора были видны моему гостеприимцу как нельзя лучше.
В таких делах и прошло какое-то время, когда в долинах стали появляться маленькие почки роз, и даже на боярышнике, росшем в полевых оградах или у скал в горах, шарики превращались в тот красивый, но простой цветок, от которого произошли наши розы. Поэтому я решил начать путешествие к дому роз. Никогда я, пожалуй, не готовился к возвращению домой после долгого лета с таким удовольствием, с каким сейчас, хорошенько поработав, собирался погостить в доме роз, чтобы приятно провести время на лоне природы.
Поднявшись в один прекрасный день к дому, я застал розы хоть и не в цвету, но в таком изобилии почек, что со дня на день можно было ждать богатого цветения.
— Как все изменилось, — сказал я хозяину, поздоровавшись с ним, — когда я весной уходил, все было еще голо, а теперь все одето листьями, все цветет и благоухает почти с такой же силой, как в прошлом году в ту пору, когда я впервые поднялся в этот дом.
— Да, — отвечал он, — мы как богач, который не может сосчитать свои сокровища. Весной каждую травинку, которая осмеливается вылезти из земли среди первых, знаешь в лицо и внимательно следишь за ее ростом, пока их не станет столько, что уже не смотришь на них, не думаешь о том, с каким трудом они пробились, косишь их на сено и не обращаешь никакого внимания на то, что они появились на свет лишь в этом году, и ведешь себя так, словно они тут растут испокон веков.
Мне устроили особое жилье и поселили меня в нем. Это были две комнаты в начале коридора комнат для гостей, превращенные с помощью новопрорубленной двери в единую квартиру. Одна комната была весьма велика и первоначально предназначалась для нескольких человек сразу. Теперь она была освобождена, по стенам ее стояли столы и поставцы, а в середине поставили длинный стол, чтобы я мог разложить на нем свои находки, буде я принесу их с гор. Вторая комната была меньше, в ней устроили спальню и гостиную. Старик вручил мне ключи от этой квартиры. В легкой каменной постройке, находившейся недалеко за столярной мастерской у западной границы сада и служившей в прежние времена для работы каменотесов, мне указали помещение, которое тоже освободили, где я мог пока, до того как займусь ими, сложить собранные мною коллекции. Если мне понадобится больше места, можно будет освободить его еще больше, поскольку работы с камнем почти кончились и редко теперь что-нибудь пилят, гранят или лощат. Я был настолько тронут таким вниманием, что не сумел даже как следует поблагодарить. Я не понимал, какие у меня могут быть заслуги перед хозяином или перед его окружением, чтобы так заботиться обо мне. Одно успокаивало меня: по этим хлопотам я видел, что гость я желанный, иначе никому и в голову не пришло бы так хлопотать. Сознание этого делало мое пребывание здесь гораздо более вольготным. Наконец я выразил свою благодарность, которую с удовольствием приняли.
Сложив в своей квартире дорожные вещи и покончив с первыми общими разговорами, я пожелал обойти и обозреть сад. Я вышел через боковую дверь дома, и когда я оказался в огороженном здесь дворике, ко мне подошла здешняя собака и завиляла хвостом. Увидев, что старый Гилан узнал меня, я обрадовался как ребенок, почувствовав, что я здесь не чужой, а как бы член семейства.
На следующий день после моего прихода прибыла повозка с моей кладью и мраморной плитой. Покончив с разгрузкой, я передал плиту моему гостеприимцу со словами, что это ему подарок на память из гор. Одновременно я вручил ему маленький, отшлифованный камень, лучше показывавший природу этого мрамора. И камень, и затем плиту он рассмотрел очень внимательно. Потом он сказал:
— Этот мрамор необыкновенно красив, такого в моей коллекции нет, и плита тоже, кажется, цельная, без трещин, так что ее можно будет хорошенько отшлифовать, я очень рад этому приобретению и очень благодарен вам за него. Однако в моем доме, как его составная часть, оно не может быть употреблено, потому что там место только таким предметам, которые я собрал сам, и потому что этот способ коллекционирования и приходования доставляет мне такую радость, что я и в будущем не отступлю от этого правила. Но, разумеется, из этого мрамора будет сделано что-то достойное его, я надеюсь, что и вам это понравится, и желаю, чтобы его употребление доставило радость вам и мне.
Я и так ожидал чего-то подобного и успокоился.
Мрамор был отнесен в легкую каменную постройку, где ему и предстояло лежать, пока им не распорядятся. Прочие же мои вещи я велел отнести в свою квартиру.
Летом я всегда бывал очень легко одет, ходил в полотне, суровом или в полоску. Голову покрывала обычно легкая соломенная шляпа. Чтобы здесь не выделяться и меньше отличаться от носивших простую одежду обитателей дома, я достал несколько такого рода костюмов вместе с соломенной шляпой из чемодана, переоделся в один из них и сложил свой дорожный костюм для будущего путешествия.
Мой гостеприимец отчасти ввел в своих владениях довольно своеобразную одежду, отчасти люди сами переняли ее. Служанки были одеты в национальный костюм, только в тех случаях, если таковой, как то бывало в наших горах, кому-то не нравился или не шел, его под влиянием хозяина дома смягчали или дополняли какими-нибудь мелочами, казавшимися мне красивыми. Сначала эти дополнения встречали сопротивление, но поскольку дарил их старик, а его обижать не хотели, их принимали, а потом уж они вызывали у окрестных жительниц зависть и перенимались. Прислуживавшие в доме, работавшие на хуторе или занятые в саду мужчины носили крашеное полотно, только не такое темное, как то принято у нас в горах. Курток или каких-либо иных разновидностей пиджака они летом не носили, а ходили в одних безрукавках со свободно повязанным вокруг шеи платком. Некоторые, как и хозяин дома, ходили без головного убора, другие носили обычные соломенные шляпы. Ойстах, казалось, никому не подражал в одежде, а выбирал ее сам. Он тоже носил полосатое полотно, большей частью ржаво-коричневое с серым или белым. Но полоски были толщиной с ладонь, или вся материя была только двух цветов, наполовину коричневая, наполовину белая. На голове у него была то соломенная шляпа, то ничего не было. Его работники ходили в сходных костюмах, на которых редко можно было увидеть пятнышко, потому что перед работой они надевали большие зеленые фартуки. Среди всех этих людей выделялись садовник и садовница, неизменно ходившие в белоснежном.
Я показал хозяину и Ойстаху свою зарисовку, сделанную со статуи в нише стены. Они порадовались, что я внимателен к таким вещам, и сказали, что такая же картинка есть и среди их рисунков, только сейчас она в числе многих других листов не дома.
Я осматривал теперь все, что казалось мне в прошлом году в это же время года примечательным в саду и в поле. Листья деревьев, листья капусты и других растений не были изъедены гусеницами, причем не только в саду, но и в ближайшей, да и в отдаленной округе. На это обстоятельство я обратил особое внимание еще на пути сюда. Тем не менее сад не был лишен такого прекрасного украшения, как бабочки: во-первых, не могли же птицы склевать всех гусениц до единой, а во-вторых, эти прекрасные живые цветки то заносил в наш сад ветер, то они сами залетали сюда во время своих странствий, порою весьма дальних. Пение птиц снова, как и в прошлом году, показалось мне каким-то необыкновенным, оно было как-то особенно мелодично. Оттого, что птицы находятся в разном отдалении и звуки поэтому долетают до уха с неодинаковой силой, оттого, что птицы иногда прерывают пение из-за всяких своих дел — то им нужно схватить пищу, то последить за птенцом, — возникает прелестная мелодия, словно в лесу, тогда как в клетках, рядом друг с другом, лучшие певчие птицы создают только шум и гам. А поскольку в саду они все-таки ближе, чем в лесу, мелодия усиливается, тогда как в лесу она звучит слабо и одиноко. Я видел гнезда, навещал их и узнавал повадки этих существ.
Я устроился в своих комнатах, достал привезенные книги и бумаги, чтобы читать, зарисовывать и классифицировать. Разложил я также на большом столе и по полкам у стен разные мелкие предметы, привезенные с собой для работы, в частности окаменелости и прочие реликты. Густав часто приходил ко мне, его занимали эти вещи, я многое объяснял ему, и мой гостеприимец, бывал явно доволен, когда я то с книгой в руке, под тенистыми липами сада, то без книги, во время больших прогулок — ибо старик все еще очень любил движение, — говорил с Густавом о своей науке. Он в свою очередь рассказывал мне о своих науках, и я приветливо слушал его, хоть он и излагал вещи, которые я уже знал лучше. В часы, когда я ничем не занимался и был один, я бродил в полях, навещал столярную мастерскую, теплицу и кактусы.
Хлеба, колыхавшиеся вокруг этой усадьбы в прошлом году, колыхались и в нынешнем, становясь с каждым днем красивее, гуще и благодатнее, сад наливался листвой и плодами, пение птиц становилось мне все приятнее и, казалось, все больше наполняло ветви, эти пугливые создания признали меня, принимали от меня пищу и перестали меня бояться. Постепенно я перезнакомился и со всеми слугами, я узнал их имена, они были со мною приветливы, и думаю, что они были так добры потому, что видели, как доброжелателен ко мне их хозяин. Розы развивались прекрасно, тысячи готовы были вот-вот распуститься. Я помогал ухаживать за этими цветами и присутствовал при смотре и проверке работ, связанных с розами. Ходил я смотреть и другие работы, например, в лугах и в лесу, где сейчас распиливали сваленные зимою стволы или готовили их для строительных или столярных работ. Я часто нес свою соломенною шляпу в руке, когда рядом шли с непокрытыми головами старик и Густав, и не мог не признать, что воздух гораздо приятнее продувает волосы, когда голова не закрыта от него шляпой, и что кудри защищают голову от жары не хуже, чем шляпа.
Однажды, сидя у себя в комнате, я услышал, как к дому подъезжает карета. Не знаю, почему я спустился посмотреть на нее. Когда я подошел к ограде, карета уже стояла за ней. Запряженная двумя гнедыми лошадьми, с еще сидевшим на облучке кучером, она, видимо, только что остановилась. Перед дверцей кареты, спиною ко мне, стоял мой гостеприимец, рядом с ним Густав, а рядом с Густавом Катарина и две служанки. Карета еще не открылась, это был застекленный экипаж с задернутыми внутри зелеными шелковыми занавесками. Через мгновение после моего прихода мой гостеприимец отворил дверцу. Он вывел из кареты какую-то женщину. На шляпе у нее была вуаль, но она откинула вуаль и показала нам свое лицо. Это была старая женщина. Как только я увидел ее, мне сразу вспомнилось услышанное однажды от моего гостеприимца сравнение стареющих женщин с отцветающими розами.
«Они похожи на эти увядающие розы. Когда лицо у них уже в морщинах, сквозь морщины еще виден прекрасный, приятный цвет кожи», — сказал он, и так оно и было у этой женщины. Множество морщинок покрывал такой мягкий, такой нежный румянец, что ее нельзя было не полюбить, и она поистине была розой этого дома, которая и отцветая остается прекраснее других роз, хотя те еще в полном цвету. У нее были очень большие черные глаза, из-под шляпы ее выбивались две очень тонкие серебряные пряди волос, а рот у нее был очень красивый и милый. Она сошла с подножки и сказала:
— Здравствуй, Густав!
Тут старик склонился к ней, она склонила к нему голову, и они обменялись приветственными поцелуями.
Затем из кареты вышла другая женщина. У нее на шляпе тоже была вуаль, и она тоже откинула ее назад. У этой были каштановые локоны, лицо гладкое и тонкое, она была еще девушка. У нее были такие же большие черные глаза, прелестный и несказанно добрый рот, она показалась мне невероятно красивой. Ничего больше подумать я не успел, спохватившись, что вопреки всяким приличиям стою за оградой и глазею на приехавших, а встречающие обращены ко мне спиной и не подозревают о моем присутствии. Я обогнул угол дома и вернулся в свою комнату.
По услышанным вскоре шагам и голосам я понял, что все общество проходит мимо моей комнаты по коридору, вероятно, в прекрасные покои на восточной стороне дома.
Что потом произошло у кареты, вышло ли из нее еще какое-либо лицо или два лица, я не знал, ибо даже в окно теперь не хотел выглядывать. Но что из нее выгрузили и пронесли в дом вещи, я мог заключить по голосам и возгласам челяди. Услышал я также, как и карета отъехала наконец, ее, наверное, отправили на хутор.
Я все еще сидел в глубине комнаты. Я не подходил к окну, не выходил в сад и вообще не покидал комнаты, хотя довольно долгое время все было тихо и спокойно. Я пытался читать или писать, но ничего из этого не получалось. Наконец, когда прошло уже, может быть, несколько часов, вошла Катарина и сказала, что хозяин просит меня пожаловать в столовую, меня там ждут.
Я спустился.
Войдя, я увидел, что мой гостеприимец сидит за столом в кресле, а рядом с ним сидит Густав. С противоположной стороны сидела приехавшая женщина. Ее кресло было немного повернуто от стола к двери, через которую я вошел. За нею, чуть боком к ней, сидела девушка.
Они были одеты теперь совсем не так, как когда выходили из кареты. Вместо городских шляп, которые тогда были на них, голову им покрывали теперь соломенные шляпы с не очень широкими, дававшими как раз достаточно тени полями, остальная одежда была из простых, светлых, неярких материй, без каких-либо особых украшений, и в покрое тоже не было ничего броского, ни показной сельскости, ни чрезмерной городской строгости.
Вокруг стояло много слуг, и позвавшая меня Катарина тоже вошла вслед за мною в столовую и присоединилась к собравшимся здесь служанкам. Даже садовник Симон был здесь.
Когда я подошел к столу, мой гостеприимец встал, обошел стол, подвел меня к женщине и сказал:
— Позволь представить тебе молодого человека, о котором я тебе рассказывал.
Затем повернулся ко мне и сказал:
— Эта женщина — мать Густава, Матильда.
В первый миг женщина ничего не сказала, только взглянула на меня темными глазами. Затем мой гостеприимец, указал рукою на девушку и сказал:
— Это сестра Густава, Наталия.
Я не знал, были ли щеки у девушки вообще такие румяные или они покраснели. Я пришел в замешательство и не мог выдавить из себя ни слова. Меня поразило, что сейчас, когда ему прямо-таки необходима была моя фамилия, он ни моей фамилии не спросил, ни фамилии женщин не назвал. Прежде чем я решил, следует ли присовокупить что-либо к поклону, мною отвешенному, он продолжил свою речь и сказал:
— Он стал приятным членом нашей семьи и уделяет нам в нашем сельском уединении часть своего времени. Он стремится изучить горы и страну, расширить наше знание о существующем и об его становлении. Хотя подвиги и совершенствование мира приличествуют больше зрелому мужу и старцу, серьезное стремление украшает и юношу, даже когда оно не так ясно и определенно, как в данном случае.
— Мой друг рассказывал мне о вас, — сказала мне женщина, снова взглянув на меня своими темными, блестящими глазами, — он сказал мне, что вы были у него в прошлом году, что посетили его весной и обещали пожить в этом доме в пору цветения роз. Мой сын тоже очень часто говорил о вас.
— Ему здесь, кажется, не так уж скучно, — сказал мой гостеприимец, — во всяком случае, ни в тот приезд, ни в этот лицо его не теряло веселого выражения.
Во время этих речей я собрался с духом и сказал:
— Хотя я живу в большом городе, я редко имел дело с незнакомыми людьми и потому не знаю, как с ними обходиться. В этом доме, куда я, оплошно боясь грозы, поднялся в поисках укрытия, меня очень приветливо приняли и доброжелательно пригласили прийти снова, что я и сделал. За короткое время все здесь стало мне так же мило, как у моих дорогих родителей, у которых царят такая же размеренность, такой же порядок, как здесь. Если я здесь не в тягость и не докучаю окружающим, то хочу сказать, хоть и не знаю, можно ли это говорить, что буду всегда с радостью приезжать сюда, если меня пригласят.
— Вы приглашены, — отвечал мой гостеприимец, — и по нашему поведению вам должно быть ясно, что мы вам очень рады. Теперь мать и сестра Густава тоже пробудут некоторое время в этом доме, и мы посмотрим, как сложится наша жизнь. Не присядете ли рядом со мной до окончания приветственной церемонии?
Возвращаясь, он снова обошел стол, и я последовал за ним. Густав освободил мне место возле своего приемного отца и посмотрел на меня с той радостью, какую испытывает сын, когда его навещает на чужбине мать.
Наталия не сказала ни слова.
Теперь, имея возможность поглядывать в сторону женщин, я достаточно ясно видел, что это мать и сестра Густава: у обеих были такие же большие черные глаза, как у него, и такие же черты лица, а у Наталии еще и каштановые локоны Густава, тогда как у матери их посеребрил возраст. Очень красиво уложенные, они спускались теперь с обеих сторон лба гораздо более широкими прядями, чем из-под дорожной шляпы.
Пока мы усаживались, к Матильде подошла экономка Катарина.
Гостья сказала:
— Горячо приветствую тебя, Катарина, спасибо тебе, ты особенно опекаешь своего хозяина и моего сына и всячески о них заботишься. Я очень благодарна тебе и кое-что тебе привезла, маленький подарок на память, я позднее передам его тебе.
После того как Катарина отошла в сторону, после того как подошли и поклонились другие, а многие девушки поцеловали руку даме, та сказала:
— Приветствую вас от всей души, вы все заботитесь о хозяине и о его приемном сыне. Привет тебе, Симон, привет тебе, Клара, всех благодарю, всем я кое-что привезла, чтобы вы видели, что я в своем расположении к вам никого не забыла. А вообще-то все это пустячки.
Люди поклонились еще раз, иные еще раз поцеловали даме руку и удалились. Кланялись они и Наталии, которая отвечала на это приветствие весьма любезно.
Когда все ушли, дама сказала Густаву:
— Тебе я тоже кое-что привезла, это тебя обрадует, пока не скажу — что. Привезла, я это, однако, лишь для проверки, и сначала нужно спросить приемного отца, можно ли тебе уже пользоваться этим в полной мере или частично или вовсе еще нельзя.
— Благодарю тебя, мама, — ответствовал сын, — ты очень добра, милая мама, я уже знаю, что это, и как скажет приемный отец, так я и поступлю.
— Вот и хорошо, — отвечала она.
После этих слов все встали.
— Ты приехала нынче очень вовремя, Матильда, — сказал мой гостеприимец, — ни одна роза еще не раскрылась, но все они к этому готовы.
Во время этой речи мы подошли к двери, и мой гостеприимец попросил меня остаться с обществом.
Мы вышли через зеленую ограду на песчаную площадку перед домом. Люди, видимо, были уже оповещены об этом передвижении, ибо двое из них принесли просторное кресло и поставили его на некотором расстоянии от роз.
Дама села в кресло, сложила руки на коленях и стала смотреть на розы.
Мы обступили ее. Наталия стала слева от нее, рядом с Наталией — Густав, мой гостеприимец стал позади кресла, а я, чтобы не оказаться слишком близко от Наталии, справа и чуть позади.
Посидев довольно долго, дама молча встала, и мы покинули площадку.
Мы пошли теперь в столярную мастерскую. При общей приветственной церемонии Ойстаха в столовой не было. Он, видимо, считался художником, которому нужно нанести визит. По всему поведению домочадцев я понял, что отношение к нему действительно таково и кажется им самым естественным. Ойстах, надо полагать, ждал гостей, ибо стоял со своими людьми без зеленых фартуков перед дверью, чтобы приветствовать новоприбывших. Любезно поблагодарив всех за приветствие, дама ласково заговорила с Ойстахом, спросила, как ему и его людям живется, спросила об их трудах и делах и сказала что-то об их прежних работах, что я, не будучи знаком с ними, не совсем понял. Затем мы пошли в мастерские, где дама осмотрела каждое рабочее место в отдельности. В комнате Ойстаха она попросила, чтобы он, когда она задержится здесь долее, все подробно показал ей и объяснил.
Из столярной мастерской мы прошли в квартиру садовника, где дама немного поболтала со стариками.
Затем мы направились в теплицу, к ананасам и кактусам, и в сад.
Все места дама, казалось, отлично знала. Она с любопытством смотрела туда, где надеялась найти какие-то определенные цветы, осматривала знакомые приспособления и даже заглядывала в кусты, в которых еще могло оказаться птичье гнездо. Везде, где что-либо изменилось с прежних времен, она это замечала и спрашивала о причине. Так мы прошли через весь сад к большой вишне с видом на поля. Там она еще поговорила с моим гостеприимцем об урожае и о делах соседей.
Наталия говорила крайне мало.
Вернувшись домой, мы, поскольку близилось время обеда, разошлись но своим комнатам. Еще раньше мой гостеприимец сказал мне, чтобы я не переодевался к обеду: в его доме это не принято даже при незнакомых гостях, и я только бы обратил на себя внимание.
Я поблагодарил его за предупреждение.
Когда колокол пробил двенадцать и я спустился в столовую, я застал там все общество и впрямь непереодетым. Мой гостеприимец был в своей повседневной одежде, и на женщинах было то же платье, что и во время прогулки. Густав и я были в своем обычном виде.
Во главе стола стоял большой стул, а перед ним на столе стопка тарелок. По совершении немой молитвы мой гостеприимец подвел даму к этому стулу, который она тотчас и заняла. Слева от нее сел мой гостеприимец, справа — я, рядом с ним села Наталия, а рядом с ней Густав. От меня не ускользнуло, что даму, в отличие от прочих гостей, хозяин дома подвел к тому месту с тарелками, которое в доме моих родителей занимала и на котором раскладывала пищу моя мать. Но так было здесь, по-видимому, заведено, ибо дама действительно стала тотчас же разливать суп по тарелкам, которые затем разнесла молоденькая служанка. Мне стало от этого очень уютно. У меня было такое чувство, будто этого-то до сих пор и недоставало. В доме появилось подобие семьи, а именно это ощущение делало жилье моих родителей таким для меня приятным и милым.
Обед был таким же простым, как и в другие дни, проведенные мною в доме роз.
После обеда появилась большая корзинка, которую внесла Арабелла, служанка Матильды, — когда она выходила из кареты, я уже ушел. Кроме корзинки, принесен был пакет в серой бумаге, перевязанный красивыми шнурами, каковой положили на два стоявших у стены кресла. В корзине находились подарки, привезенные домочадцам Матильдой и теперь извлеченные. Я понял, что такая раздача подарков вошла в обычай и происходила уже не раз. Вошла челядь, и каждый получил что-нибудь подходящее, будь то черный шелковый платок для девушки, или передник, или материя на платье, будь то серебряные жилетные пуговицы для мужчины, или блестящая пряжка на шляпную ленту, или изящный кошелек. Садовник получил что-то завернутое в фольгу. Полагаю, что это был какой-то особый сорт нюхательного табака.
Когда все было роздано, когда все учтивейше поблагодарили и удалились, Матильда указала на все еще лежавший на кресле пакет и сказала:
— Густав, подойди ко мне.
Юноша встал и, обойдя стол, подошел и ней. Она ласково взяла его за руку и сказала:
— То, что здесь лежит, твое. Ты давно меня об этом просил, и я долго тебе отказывала, потому что для тебя это было рано. Это сочинения Гёте. Они — твоя собственность. Многое здесь — для старшего, даже для самого зрелого возраста. Ты сам не сумеешь выбрать, за какую из этих книг взяться сейчас, а какую отложить на будущее. Ко всем благодеяниям, тебе оказанным, твой приемный отец прибавит еще одно: он сделает для тебя этот выбор, и ты будешь слушаться его в этих делах так же, как слушался до сих пор.
— Конечно, милая матушка, буду, конечно, — сказал Густав.
— Книги эти не новые и не в красивых переплетах, как ты, может быть, того ожидал, — продолжала она. — Это те самые книги Гёте, которые я столько раз с радостью и болью читала и в ночные, и в дневные часы, находя в этом утешение и успокоение. Я дарю тебе свои книги Гёте. Я подумала, что они будут тебе милее, если ты кроме содержания найдешь в них и след руки твоей матери, а не только руки переплетчика и печатника.
— Милее, гораздо милее, дорогая матушка, — отвечал Густав. — Я ведь знаю эти книги в переплетах из тонкой коричневой кожи, с тонкими золочеными узорами на корешках и изящными буквами в этих узорах, книги, за которыми я так часто тебя видел, отчего и не раз просил подарить мне такие же.
— Я и подумала, что они будут тебе милее, — сказала дама, — потому их и подарила. Но поскольку в оставшееся мне время мне еще хочется послушать этого замечательного человека, я куплю себе его книги заново, мне неважно, новые они или старые. Ты же прими эти и поставь их в то место, которое тебе для них выделено.
Густав поцеловал ей руку и с неловкой нежностью обнял ее за плечо. Но он не сказал ни слова, а подошел к книгам и стал развязывать шнурок.
Когда ему это удалось, когда он вынул книги из обертки и кое-какие перелистал, он вдруг подошел с одною из них в руке к нам и сказал:
— Вот видишь, матушка, некоторые строчки тонко подчеркнуты карандашом, и тем же остро отточенным карандашом сделаны на полях заметки твоею рукой. Это твоя собственность, в новокупленных книгах ничего такого не будет, и отнимать у тебя твою собственность я не вправе.
— Но я дарю это тебе, — отвечала она, — мне милее всего подарить это тебе, ты уже сейчас находишься вдали от меня, а в будущем станешь, наверное, жить еще дальше. Читая эти книги, ты будешь читать в сердце поэта и в сердце своей матери, которое, хотя и стоит гораздо меньше, чем сердце поэта, имеет для тебя то ни с чем не сравнимое преимущество, что это сердце твоей матери. Читая места, которые я когда-то подчеркивала, я буду думать: вот здесь он вспомнит свою мать, а когда мои глаза нападут на страницы, где я делала заметки на полях, я представлю себе, как ты переводишь взгляд с напечатанного на написанное и видишь почерк той, лучше которой у тебя нет друзей на земле. Так эти книги всегда будут связывать нас, где бы мы ни находились. Твоя сестра Наталия живет со мной, она слышит мою речь чаще, чем ты. и я тоже часто слышу ее милый голос и вижу ее приветливое лицо.
— Нет, нет, матушка, — сказал Густав, — я не могу взять эти книги, я ограблю тебя и Наталию.
— Наталия получит что-нибудь другое, — ответила мать. — Что ты не ограбишь меня, я тебе уже объяснила, желание подарить тебе эти книги появилось у меня уже давно и хорошо продумано.
У Густава не оставалось возражений. Он схватил ее правую руку обеими руками, пожал ее, поцеловал и вернулся к книгам.
Распаковав все, он позвал слугу и велел отнести их в свое жилье.
После обеда мы по плану должны были разойтись и заняться каждый своими делами.
Во время сцены с книгами я не сумел взглянуть в лицо Наталии, чтобы увидеть, как отразилось на нем происходившее в ней. Я полагал, что она горячо одобряет поступок матери. Но когда мы встали из-за стола, когда, произнеся про себя молитву, раскланялись, — а я при этом смотрел только на своего гостеприимца и на даму, — когда мы выходили из комнаты, а Наталия взяла Густава под руку и они поворачивали к двери, я осмелился поднять глаза к зеркалу, в котором должен был увидеть ее. Но не увидел почти ничего, кроме четырех совершенно одинаковых глаз, мелькнувших в зеркале.
Мы все вышли на воздух.
Мой гостеприимец и дама направились в одну из служб.
Наталия и Густав пошли в сад, он показывал ей, вероятно, то, что его занимало или радовало, а она, конечно, относилась к этому с тем участием, с каким относится сестра к интересам любимого брата, даже если она не вполне понимает их и они ей вообще-то чужды. Так ведь и Клотильда поступает со мной в родительском доме.
Я стоял у входа в дом и смотрел им вслед, пока мог их видеть. Один раз я увидел, как они осторожно заглянули в какой-то куст. Я решил, что он показал ей птичье гнездо и она участливо посмотрела на крошечное пернатое семейство. Другой раз они остановились у цветов и рассматривали их. Наконец ничего не стало видно. Светлая одежда сестры исчезла среди деревьев и кустов, какие-то блики, правда, сначала еще нет-нет да проглядывали, а потом ничего не стало видно. Я поднялся в свою комнату.
У меня было такое ощущение, что эту девушку я уже где-то видел. Но, занимаясь доселе гораздо больше неодушевленными предметами или растениями, чем людьми, я не приобрел умения судить о людях, не научился различать черты лица, запоминать их и сравнивать. Поэтому я и не помнил, где я когда-то мог видеть Наталию.
Всю вторую половину дня я оставался у себя в квартире.
Когда жара совершенно безоблачного дня немного спала, меня пригласили на прогулку. В ней участвовали мой гостеприимец, Матильда, Наталия, Густав и я. Мы пошли садом. Мой гостеприимец, Матильда и я составили одну группу, поскольку они вовлекли меня в свой разговор, и, когда это позволяла ширина песчаной дорожки, мы шли рядом. Другую группу составили Наталия и Густав, они шли на некотором расстоянии от нас впереди. Наш разговор коснулся сада и его разнообразных частей, благотворно сменявшихся для приятного времяпрепровождения, затронул дом и всяческие в нем украшения, перекинулся на хлеба, снова хорошо уродившиеся и сулившие людям еще один сытый год, и зашел о стране, об ее хороших сторонах и о том, что надо было исправить. Я смотрел вслед двум высоким фигурам, шедшим впереди нас. Густав показался мне вдруг совершенно взрослым. Я видел, как он шел рядом с сестрой, и видел, что он выше ее. Это отмечал я несколько раз. Но хотя он был выше ее, фигура ее была тоньше, а осанка грациознее. У Густава, как и у его приемного отца, на голове не было ничего, кроме копны густых каштановых волос, а когда Наталия сняла и повесила на руку дававшую мягкую тень соломенную шляпу, которую она, как и ее мать, носила, локоны ее оказались точно того же цвета, что и у Густава, и когда брат и сестра, очень, видимо, друг друга любившие, шли рядом совсем вплотную, издали была видна одна сплошная копна блестящих каштановых волос, словно обе фигуры разделялись только внизу.
Мы вышли через калитку, обращенную к хутору, но не пошли на хутор, а сделали большой круг через поля и затем наискось по южному склону холма поднялись к дому.
Поскольку дни стояли очень длинные, еще горел закат, когда мы покончили с ужином, который всегда подавался в один и тот же час. Поэтому и после ужина мы вышли сегодня в сад. Мы поднялись к высокой вишне и сели там на скамеечку. Мой гостеприимец и Матильда сидели посредине, глядя вниз, в сад. Слева от моего гостеприимца сидел я, справа от матери — Наталия и Густав. Смеркалось, над кронами умолкнувшего сада и над крышей дома тускло светилось небо. Разговор был веселый и спокойный, и дети, прислушиваясь, часто поворачивали к нам лица и при случае вставляли словечко.
Когда на небе зажглись первые звезды и в гуще садовых кустов воцарилась полная темнота, мы пошли в дом и разошлись по своим комнатам.
Мне было очень грустно. Я положил свою соломенную шляпу на стол, снял сюртук и выглянул в одно из открытых окон. Сегодня все было не так, как тогда, когда я в первый раз в этом доме выглянул из открытого окна поверх решеток с розами в ночь. Не было туч, которые, несясь по небу, придавали ему какие-то формы, на всем небосводе уже просто и спокойно горели звезды. Благоухания роз до моего ночного крова не доносилось, поскольку они еще спали в бутонах, от окон едва тянуло одиноким ветерком, меня не волновало, как в тот раз, желание понять природу и нрав моего гостеприимца, то ли это было мне ясно, то ли неразрешимо вообще. Только хлеба по ту сторону песчаной площадки перед розами стояли, как и в тот раз, спокойно, не шевелились. Но это были другие злаки, и нельзя было ожидать, что ночью они разволнуются, а утром, когда я протру глаза, будут ходить передо мной ходуном.
Уже совсем глубокой ночью я отошел от окна, и хотя я и так ежевечерне молился своему Создателю, я и теперь стал на колени перед простым столиком и сотворил горячую, пылкую молитву Богу, вверяя ему всех и вся, наипаче же свою жизнь и судьбу своих близких.
Затем я разделся, запер замки своей комнаты и лег.
Когда я уже задремывал, мне подумалось, что насчет Матильды и ее обстоятельств я так и не стану задавать никаких вопросов, как не задавал их насчет моего гостеприимца.
Проснулся я очень рано. Но, как свойственно этому времени года, было уже совсем светло, над холмами поднимался купол синего, безоблачного неба, хлеба подо мною действительно не колыхались, а стояли неподвижно в тяжелых каплях росы, вспыхивавших искрами от восходящего солнца.
Я оделся, обратился мыслями к Богу и сел за работу.
Спустя довольно долгое время я услышал через свои окна, которые с наступлением утра отворил, с дальнего конца дома звуки открываемых на восточной стороне окон. В том краю жили женщины в своих красивых, по-женски меблированных комнатах. Я подошел к окну, выглянул и увидел, что действительно все створки окон в той части дома открыты. Через некоторое время, ближе к завтраку, я услышал за своей дверью женские шаги в сторону покрытой мягким ковром мраморной лестницы. Узнал я и голос Густава, хоть и приглушенный, затем, наверное, чтобы не мешать мне. Вскоре и я сошел по мраморной лестнице мимо мраморного изваяния музы в столовую.
День прошел примерно так же, как предшествующий, и так потекли и последующие дни.
Порядок дома с приездом женщин почти не нарушился, только кое-что пришлось устроить так, как того требовала внимательность к ним. Уроки Густава шли как прежде, и точно так же шли своим ходом занятия моего гостеприимца. Матильда, как свойственно женщинам, принимала участие в домашних делах. Она следила за тем, что имело отношение к ее сыну, и за всем, что касалось благополучия старика. Нередко ее можно было увидеть в кухне, где она стояла среди служанок и участвовала в тех или иных работах. Захаживала она также в кладовую, в погреб и прочие важные места. Она заботилась обо всем, что касалось слуг, когда дело шло об их пище, жилье, их одежде и месте для сна. Она содержала в порядке белье, одежду и прочее имущество старика и своего сына и следила за тем, чтобы все вовремя чинилось и обновлялось. Среди этих дел она не раз в течение дня выходила на песчаную площадку перед домом и словно бы с грустью глядела на розы, поднимавшиеся у стены дома. Наталия проводила много времени с Густавом. Брат и сестра, должно быть, необычайно любили друг друга. Он показывал ей все свои книги, особенно новые, прибавившиеся к старым, объяснял ей, что он сейчас учит, пытаясь посвятить ее в это, хотя она это уже знала и прошла те же пути раньше. Случалось, они бродили по саду, радуясь кипевшей в нем жизни и радуясь единой своей, слитной жизни, которая в их сознании не была разделена на две отдельные. Общее у всех свободное время мы часто проводили вместе. Мы выходили в сад, сидели под каким-нибудь тенистым деревом, совершали прогулки, навещали хутор. Я неспособен был вступать в разговоры так, как делал это наедине со своим гостеприимцем, и хотя Матильда весьма дружелюбно со мной разговаривала, я почти всегда терял дар речи.
Розы начали распускаться, многие уже расцвели, и каждый час все новые и новые раскрывали свои мягкие чашечки. Мы часто выходили любоваться ими, и порой приходилось приносить лесенку, чтобы устранить какой-нибудь недостаток.
Полдни протекали очень приятно и мило. И оттого, что Матильда и Наталия были так изящно и удобно, хотя и просто одеты, как то было привычно мне благодаря моей матери и сестре, трапезы приобретали некий блеск, которого мне прежде недоставало. Занавески были из-за прямого солнца всегда задернуты, и комнату наполнял мягкий, преломленный свет.
Вечера после ужина мы всегда проводили на воздухе, потому что погода стояла еще прекрасная. Обычно мы сидели возле высокой вишни, это было лучшее место для вечера, хотя и в любое другое время, если только не было слишком жарко, от него исходило что-то очень приятное. Мой гостеприимец говорил ясно и оживленно, и Матильда умела отвечать ему тем же. Беседы эти велись с мягкостью и рассудительностью, они всегда бывали занимательны, и даже когда они касались самых обыкновенных предметов, я внимал им с ощущением, что слышу что-то новое и важное. Затем при тусклом свете звезд или узкого серпа луны, который все яснее всплывал в багрянце зари, старик вел даму с холма в дом, и стройные фигуры детей удалялись вдоль темных кустов.
Все это было так просто, ясно и естественно, что мне всегда представлялось, будто старшая пара — супруги и хозяева усадьбы, Густав и Наталия — их дети, а я — друг, навестивший их в этом глухом уголке земли, где старшие спокойно и тихо коротали остаток жизни.
Однажды в столовой состоялся праздничный обед. Приглашены были Ойстах, дворецкий, старик садовник с женой, управляющий хутором и экономка Катарина. Вместо Катарины в кухне распоряжалась другая женщина. Как я понял по всему, здесь был обычай — устраивать обед при каждом приезде Матильды. Люди держались непринужденно, и разговоры шли с тактом, свидетельствовавшим о накопившемся опыте. Матильда предоставляла людям повод сказать что-нибудь уместное, а потому лестное для самолюбия говорящего и делавшее для него это общество приятным. Только Ойстаха выделяли тем, что не считали нужным вызывать его на разговор, поэтому он и говорил меньше, и только общие слова об общих делах. Он чувствовал себя причисленным к высшему обществу, что я, успев познакомиться с ним поближе, находил вполне естественным, тогда как остальные не замечали, что их стараются приподнять. Садовник и его жена в своих белых, опрятных костюмах составляли очень милую стариковскую пару, с которой и другие обходились как-то особенно. Выбор блюд был несколько обильней обычного, мужчинам подали хорошее горское вино, женщинам — сладкое.
Когда стали расцветать розы, стулья и кресла расставили однажды полукругом перед домом на песчаной площадке, а между ними и домом поставили длинный стол. Мы расселись, позвали садовника Симона, пришел Ойстах, и из челяди и садовых работников тоже волен был прийти кто желал. Люди не упустили такой возможности. Розы были подвергнуты очень подробному обсуждению, выясняли, какие красивее и какие кому нравятся больше. Мнения расходились, и каждый пытался обосновать свое. На столе лежали печатные труды и рисунки, к которым порой прибегали, соглашаясь с ними, однако вовсе не каждый раз. Задались вопросом, не следует ли иные деревца пересадить, чтобы добиться лучшего сочетания красок. Сошлись на том, что делать этого не следует. Деревцам будет больно, а подросшие могут даже погибнуть. Слишком робкое сочетание красок выдает умысел и портит впечатление, приятнее всего очаровательная случайность. Решили поэтому оставить все как есть. Поговорили о свойствах различных деревцев, обсудили их достоинства вне зависимости от цветков, часто обращаясь за справкой к садовнику. Ни на здоровье растений, ни на уход за ними не было ни одного нарекания, они были и нынче отменны, как и во все прочие годы. На столе появились теперь освежающие напитки и все необходимое для ужина. Из речей Матильды я понял, что она очень хорошо знает все здешние розы и заметила даже мельчайшие перемены, происшедшие за год. Наверное, среди цветов у нее были любимцы, но видно было, что она очень привязана ко всем им. Из увиденного и услышанного я снова мог заключить, как важны эти цветы для этого дома.
Вечером того же дня в доме роз появились гости. Это был владелец немалого поместья поблизости, в котором он сам управлял хозяйством, хотя зимой подолгу живал в городе. Его сопровождали супруга и две дочери. Они заехали на обратном пути после визита в отдаленную часть края и поднялись к дому, как они сказали, затем, чтобы посмотреть, расцвели ли уже розы, и полюбоваться их обычным великолепием. Они собирались уехать в тот же вечер, однако ввиду позднего уже времени мой гостеприимец стал убеждать их переночевать в его доме, на что те и дали согласие. Лошадей и коляску отправили на хутор, путникам отвели комнаты.
Вскоре, однако, те вышли из комнат и направились на песчаную площадку, после чего осмотр роз начался заново. Часть вынесенных сегодня стульев еще оставалась на месте, хотя стол уже убрали. Мать села на один из них и вынудила Матильду сесть рядом с ней. Девушки подошли к розам, все много говорили о цветах и любовались ими.
Перед ужином обошли еще сад и часть полей, затем все разошлись по комнатам.
Когда пробил час ужина, все снова собрались в столовой. Гость и его спутницы переоделись, он вышел даже в черном фраке, женщины были одеты так, как одеваются в городе не для торжественных, а для дружеских визитов. Мы были в своем обычном платье. Но именно из-за этой одежды гостей, которая сама по себе была безупречна, о чем я мог судить со знанием дела, потому что видел такое платье на своей матери и сестрах и часто слышал суждения о нем, наша одежда нисколько не проигрывала, а скорее даже наносила ущерб нарядам гостей, во всяком случае на мой взгляд. Щегольское платье казалось мне крикливым и неестественным, а наше было просто и практично. Создавалось впечатление, будто Матильда, Наталия, старик гостеприимец и даже Густав — личности недюжинные, а те — люди толпы, каких встретишь везде.
За ужином и после него, поскольку мы еще на некоторое время задержались в столовой, я даже любовался красотой девушек. Старшую из двух дочерей наших гостей — мне, по крайней мере, она показалась старшей — звали Юлия. У нее были каштановые волосы, как у Наталии. Пышные, они были красиво уложены вокруг лба. Глаза были карие, большие и глядели приветливо. Щеки были изящные и ровные, а рот очень мягкий и доброжелательный. Ее фигура явила рядом с розами и во время прогулки стройность и благородство, а ее движения — естественность и достоинство. В ней было какое-то притягательное очарование. У младшей, которую звали Аполлонией, волосы были тоже каштановые, как у сестры, но светлее. Они были такие же пышные и уложены, пожалуй, еще красивее. Лоб выделялся в них ясно и четко, а голубые глаза, не такие большие, как карие глаза сестры, глядели из-под него еще бесхитростнее, добрее и искреннее. Глаза она унаследовала, видимо, от отца, тоже голубоглазого, у матери глаза были карие. Щеки и рот казались у Аполлонии еще более изящными, чем у сестры, а фигура чуть-чуть мельче. Держалась она не так прелестно, как сестра, но была простодушнее и милее. Мои друзья в городе сказали бы, что это два пленительных существа, и так оно и было. Наталия — не знаю, была ли она бесконечно красивее или от нее исходило что-то другое — а этого другого я еще не распознал как следует, потому что она очень редко со мной говорила, судить же о ее походке и движениях я не мог, не решаясь рассматривать ее, как рассматривают рисунок, — Наталия казалась рядом с этими двумя девушками как-то гораздо значительнее, ни о каком сравнении тут просто-напросто не могло быть и речи. Если правда, что девушки бывают очаровательны, то эти две сестры были очаровательны. А вокруг Наталии витало какое-то глубокое счастье.
Матильда и мой гостеприимец, казалось, очень любили и уважали эту семью, это явствовало из их обращения с ней.
Матери обеих девушек было лет сорок. Она еще вполне сохраняла свежесть и здоровье красивой женщины, только чуть полноватой, чтобы служить моделью для рисунка, судя по тому, как любят изображать на рисунках красивых женщин. Ее разговор и манеры показывали, что в свете она принадлежит к так называемому высшему обществу. Отец казался образованным человеком, соединяющим с манерами высших сословий города простоту опытности и доброту сельского хозяина, на которого природа оказала смягчающее влияние. Я с удовольствием слушал его речи. Матильда выглядела значительно старше, чем мать девушек, казалось, что когда-то она была такой же, как Наталия, но стала теперь воплощением спокойствия и, я сказал бы, прощения. Не знаю, почему это слово приходило мне уже не раз в те дни на ум. Она говорила о предметах, которые предлагали гости, но собственных предметов для разговоров не предлагала. Говорила она очень просто, не увлекаясь предметом и не желая увлечься исключительно им. Мой гостеприимец вникал в мнения своего соседа по имению и говорил в своей обычной ясной манере, но из вежливости предоставляя гостю выбирать предмет разговора.
Так за одним и тем же столом сидели и в одной и той же комнате двигались эти два вида людей, поистине два вида.
Из того, что они приехали как раз к цветению роз, я заключил, что они не только знали о пристрастии моего гостеприимца к этим цветам, но, пожалуй, и разделяли его.
После трапезы гулять, как обычно в эти дни, не стали, а засиделись за разговорами и разошлись на покой позднее, чем то было принято в этом доме.
На следующее утро завтракали в саду, и, побывав еще в теплице, гости уехали с настойчиво повторенной просьбой навестить их вскоре у них в имении, что и было обещано.
После этого перерыва дни в доме роз пошли тем же ходом, как они шли с приезда женщин. Время, которое у каждого было свободно, мы снова часто проводили вместе. В таких случаях меня нередко особо приглашали в компанию. У Наталии тоже были часы учения, которые она добросовестно соблюдала. Густав сказал мне, что теперь она учит испанский язык и привезла сюда испанские книги. Воспользовавшись местом, выделенным мне в так называемой каменной хижине, я перенес туда много своего добра. Густав уже читал книги Гёте. Его приемный отец выбрал для него «Германа и Доротею», велев читать это произведение так тщательно и внимательно, чтобы каждый стих был ему совершенно понятен, а если что будет неясно, то спрашивать. Меня тронуло, что все книги поставили в комнате Густава в полной уверенности, что он станет читать лишь те, что рекомендовал ему приемный отец. Я часто к нему захаживал, и, не знай я уже, что не в его нраве не исполнять обещанного, я мог бы во время таких посещений в том убедиться. Матильда и Наталия часто присутствовали при том, как мой гостеприимец сыпал на площадке зерно своим пернатым нахлебникам, и нередко, возвращаясь утром с прогулки по саду, я видел, что во время кормления птиц, в угловой комнате, где у окон висели кормушки, орудовала какая-то красивая рука, по которой я узнавал Наталию. Иногда мы ходили смотреть на гнезда, где еще высиживались или вылуплялись птенцы. Большинство гнезд, однако, уже опустело, и потомство жило в ветках деревьев. Мы часто бывали в столярной мастерской, беседовали с людьми, смотрели, как продвигается работа, и говорили об этом. Ходили мы даже к соседям и осматривали их хозяйства. Находясь в доме, мы собирались в кабинете моего гостеприимца, где что-нибудь читали, или в кабинете естествознания, где ставили какой-нибудь занимательный опыт, или в картинной, или в мраморном зале. Мой гостеприимец часто показывал свое умение предсказывать погоду. Его предсказания всегда сбывались. Но часто он отказывался делать их, потому что признаки были недостаточно ясны ему и понятны.
Бывали мы и в комнатах женщин. Приходили мы туда, когда нас приглашали. Маленькая, последняя комнатка, с потайной дверью, принадлежала Матильде. Я назвал ее комнатой роз, и в шутку это название за ней закрепилось. Мне было приятно увидеть, как любовно и мило устроили эту комнату для старой женщины. Здесь царили покой и согласие в сочетании мягких тонов — бледно-красного, серо-белого, зеленого, тускло-фиалкового и золотого. Отсюда открывался пейзаж с милыми очертаниями высокогорья. Матильда любила сидеть у окна в особом кресле, устремив вдаль свое прекрасное лицо, которое мой гостеприимец однажды сравнил с вянущей розой.
В этих комнатах Наталия иногда читала что-нибудь вслух, когда мой гостеприимец о том просил. Вообще же обычно беседовали. На ее столе я видел разложенные в образцовом порядке бумаги и книги. Я не решался взглянуть даже на заглавия этих книг, не говоря уже о том, чтобы взять одну из них и в нее заглянуть. Другие тоже никогда этого не делали. У окна стояла закрытая платком рама с какой-то, может быть, работой. Но Наталия никогда ничего не показывала. Желая, наверное, из приязни ко мне порадовать меня чем-то славным, что делала его сестра, Густав не раз ее об этом просил. Но она каждый раз очень просто отказывала. Как-то ночью, когда мои окна были открыты, я услыхал звуки цитры. Этот музыкальный инструмент горцев я прекрасно знал, во время своих странствий я очень часто слышал игру на нем самых разных рук и старался настроить свой слух на его звуки и модуляции. Я подошел к окну и прислушался. В восточном крыле дома, чередуясь и вторя друг другу, играли две цитры. Кто вдоволь наслушался этих звуков, сразу определит, играют ли на одной и той же цитре или на разных и одними и теми же или разными руками. В покоях женщин я позднее увидел эти две цитры. Но в нашем присутствии никогда на них не играли. Мой гостеприимец об этом не просил, я — подавно, а Густав соблюдал в этом деле твердую сдержанность.
Между тем постепенно подошла пора самого пышного цветения роз. Погода была благоприятная. Легкие дожди, предсказанные моим гостеприимцем, способствовали росту растений гораздо больше, чем то сделала бы стойкая ясность. Они охлаждали воздух, создавали вместо зноя приятную мягкость и смывали с листьев, цветов и стеблей пыль, оседающую на крышах, заборах, листьях и колосьях даже в отдаленных от дороги и окруженных полями местах при долговременной ясной погоде, намного чище, чем то способны были сделать ливни, которыми мой гостеприимец окатывал свои розы с помощью устроенного им под крышей приспособления. Под безоблачным, густой синевы небом распустились в один прекрасный день тысячи цветов, ни одна почка, казалось, не преминула раскрыться. Всех цветов, белоснежные, белые с желтизной, желтые, бледно-красные, багровые, пурпурные, фиалково- и черно-красные, они стояли стеной, и, глядя на них, нельзя было не согласиться с древними народами, которые чтили розы чуть ли не как божества и в дни своих радостей и праздников украшали себя венками из этих цветов. То поодиночке, то вместе мы подходили полюбоваться к решетке с розами или ходили к розариям в саду, но в этот день все в один голос говорили, что сейчас розы в полном расцвете, что прекраснее они уже не станут и отныне начнется их увядание. Это же, правда, говорили и несколькими днями раньше, но теперь полагали, что ошибки уже не может быть, что вершина достигнута. Насколько я помнил прошлый год, когда я тоже застал эти розы в цветении, теперь они были прекраснее, чем тогда.
То и дело приходили посетители поглядеть на розы. Любовь к этим цветам в доме роз и надлежащий уход, который они здесь получали, были известны всему соседству, и иные из приходивших действительно хотели полюбоваться необыкновенными плодами этих усилий, другие хотели сделать приятное хозяину, а третьи только и знали, что подражать окружающим. Все эти категории нетрудно было различить. Обходился с ними мой гостеприимец так тонко, как я и не ожидал от него, открыв за ним это умение лишь теперь, когда мне довелось наблюдать его на людях.
В разное время приходили и крестьяне, просившие показать им розы. Показывали им не только розы, но и все прочее в доме и саду, что им хотелось увидеть, особенно же хутор, коль скоро они не знали его или им были внове последние перемены на нем.
Пришел однажды и рорбергский священник, которого я встретил в доме роз в прошлом году. Кое-какие розы он зарисовал в принесенную с собой книжку, применив даже акварельные краски, чтобы поточнее воспроизвести краски цветов. Но это не было художественное изображение, он просто хотел отметить и запомнить такие цветы, которые собирался пересадить в собственный сад. Так уж повелось, что мой гостеприимец давал священнику растения, которыми тот хотел украсить свой сад, частью недавно заложенный вокруг его дома, частью расширенный.
Но больше всех, казалось, любила розы Матильда. Она, видимо, и вообще любила цветы, ибо на столиках в ее комнатах всегда стояли самые красивые и свежие цветы из сада, да и на столе, за которым мы ели, всегда были горшки с ее цветами. Срывать и срезать цветы, а затем ставить их в вазы с водой в этом доме не полагалось, разве что увядшие, которые следовало удалить. Но больше всего внимания Матильда уделяла розам. Она ходила, заботясь о них, не только к тем, что в виде кустов, отдельных деревцев и их группок росли в саду, но в полном одиночестве, как я уже замечал, навещала и те, что цвели у стены дома. Она часто стояла перед ними и смотрела на них. Иногда она приносила скамеечку и, встав на нее, приводила в порядок ветки. То она срывала увядший листок, не замеченный другими, то высвобождала цветок, которому что-то мешало расцвести в полную силу, то снимала жучка, то разрежала слишком густые и кустистые ветки. Иногда она просто стояла на скамеечке, опустив руки, и задумчиво разглядывала распростертые перед ней растения.
День, который сочли самым прекрасным в цветении роз, оказался и вправду самым прекрасным. После него цветение пошло на убыль, и розы начали увядать, и все чаще приходилось брать лесенку и ножницы, чтобы устранить портящее вид цветника.
Навестили дом и двое незнакомых проезжих, которые провели в нем ночь и начало следующего дня. Они осмотрели сад, поля и хутор. В свою комнату и в столярную мастерскую мой гостеприимец их не водил, из чего я сделал приятный вывод, что в первый мой приход в его дом он оказал мне предпочтение, которого удостаивал не каждого, что я, стало быть, снискал его расположение.
К концу цветения роз в доме появился брат Ойстаха Роланд. Поскольку он задержался здесь на длительный срок, я имел возможность понаблюдать за ним. У него еще не было образованности брата, не было и его покладистости, но, казалось, он обладал большой силой, которая сулила немалый успех его занятиям. Я замечал, что он долее, чем то, по-моему, позволяли приличия, глядел на Наталию своими темными глазами. Он привез ряд зарисовок и собирался посетить еще отдаленную часть страны, а уж потом вернуться, чтобы привести материал в полный порядок.
До отъезда Наталии и Матильды предстояло еще нанести обещанный визит в имение соседа, которое называлось Ингхейм, а в народе именовалось Ингхофом. Туда послали уведомить о дне, когда собирались приехать, и заручились согласием хозяев. Утром этого дня гнедых лошадей, привезших Матильду и оставленных ею на все это время на хуторе, запрягли в карету, которая некогда доставила женщин, и Матильда с Наталией сели в нее. Мой гостеприимец, Густав и я, особо упомянутый в просьбе об ответном визите, сели в другой экипаж, запряженный прекрасными сивыми лошадьми моего гостеприимца. Быстрая езда доставила нас за час к месту нашего назначения. Ингхейм — это замок, вернее, два замка, окруженные множеством других построек. Старый замок был когда-то укреплен. Серые, сложенные из больших четырехугольных камней круглые башни стоят и поныне, как и серая, сложенная из таких же камней стена между башнями. Но обе части уже ветшают. За башнями и стенами стоит старый, нежилой, тоже серый дом, с виду целый. Но от заколоченных досками окон веет заброшенностью и запустением. Перед этими памятниками старины стоит новый, белый дом, очень привлекательный благодаря своим зеленым ставням и красной черепичной крыше. Когда подъезжаешь издалека, кажется, что он пристроен непосредственно к старому замку, возвышающемуся позади него. Но, находясь в самом доме и выйдя из него, видишь, что старые стены еще довольно далеко, что они стоят на скале и отделены от нового дома широким, заросшим фруктовыми деревьями рвом. Из-за необыкновенной высоты старого замка издали нельзя также определить размеры нового дома. Но, оказавшись в доме, видишь, что он весьма просторен и не только вмещает семью, но и позволяет удобно разместить изрядное число гостей. Название замка я слышал часто, но еще ни разу не видел его. Он расположен настолько в стороне от дороги и так скрыт от нее большим холмом, что не виден проезжающим, которые держат путь в горы обычно через эти края. По мере нашего приближения показывались многочисленные здания. Сначала мы увидели хозяйственные постройки, так называемую молочную усадьбу. Они стояли, как то принято во многих имениях нашей страны, довольно далеко от жилого дома, образуя особое отделение. Оттуда дорога к новому дому шла по аллее очень старых, высоких лип. Аллея эта — часть той, что когда-то поднималась к подъемному мосту старого замка. Поэтому она оборвалась, и остаток пути к дому мы проехали через прекрасный зеленый луг, украшенный там и сям холмиками цветников. Дом был серовато-белый, с напоминавшими колоннаду полосами и фризами. На всех окнах, насколько это позволяли видеть открытые ставни, висели тяжелые занавески. Когда карета женщин остановилась под козырьком подъезда, хозяин Ингхейма с супругой и дочерьми стоял уже, приветствуя гостей, у конца лестницы. Все они были одеты нарядно, и стоявшая позади их челядь была в праздничном платье. Хозяин помог женщинам выйти из кареты, а поскольку тем временем мы тоже подъехали и вышли из экипажа, вся семья нас приветствовала и повела по лестнице вверх. Нас привели в большую гостиную и рассадили. На Матильде и Наталии хоть и были более нарядные платья, чем те, что они носили в доме роз, но при всем благородстве материи в этих платьях не было ни тени щегольства или вычурности. Мой гостеприимец, Густав и я были одеты так, как то принято, когда едешь в деревне в гости. Мы опустились на чудесные мягкие сиденья, расположенные здесь повсюду. На столе, покрытом прекрасной узорной скатертью, стояли разного рода угощения. Другие столы, тоже стоявшие в этой комнате, покрыты не были. Мебель была красного дерева и вышла, по-видимому, из городских мастерских. Так же обстояло дело с зеркалами, люстрами и другими находившимися в этой комнате вещами. Угол у окна занимало очень красивое пианино. Первые разговоры касались обыкновенных тем — самочувствия, погоды, состояния полей и сада. Мужчины называли друг друга «сосед», женщины обходились без обращения.
Отведав предложенных кушаний, все поднялись, и мы пошли по комнатам. В ряде их окна выходили на юг, на окрестности. Все комнаты были прекрасно меблированы на новый лад, особенно богата была палисандровая мебель в салоне хозяйки, где, как и в рабочей комнате девушек, тоже стояло пианино. Хозяин дома водил по комнатам особенно меня, которому они были еще незнакомы. Остальное общество иногда следовало за нами в тот или иной покой.
Из комнат пошли в сад. Сад походил на многие ухоженные и красивые сады близ города. Хорошие песчаные дорожки, зеленые подстриженные лужайки с вкраплениями цветов, декоративных и лесных кустов, оранжерея с камелиями, рододендронами, азалиями, вереском, кальцеоляриями и множеством новоголландских растений, наконец, скамейки и столы в удобных тенистых местах. Плодовый сад, как участок хозяйственный, находился не у жилого дома, а за молочной усадьбой.
Из сада мы пошли, как то бывает при сельских визитах, на скотный двор. Мы прошли сквозь ряды гладких коров, в большинстве белолобых, посмотрели овец, лошадей, птицу, хранилище молока, сыроварню, пивоварню и тому подобное. За амбарами мы увидели огород и очень большой плодовый сад. Оттуда мы вышли в хорошо возделанные поля и в луга. Лес, входивший в имение, мне показали издали.
По завершении довольно большой прогулки мы были отведены в просторную столовую на первом этаже, где был накрыт обеденный стол. Был подан простой, но изысканный обед, причем обслуживавшая нас челядь стояла за нашими стульями. Если уже при посещении дома роз семья Ингхейм показала свою принадлежность к образованной части общества, то прием в их собственном доме это подтвердил. И отец, и мать, и девушки держались просто, спокойно и скромно. Разговоры касались многих предметов, не уходя в какую-то одну сторону, а в меру сообразуясь с обществом. Часть послеобеденного времени мы провели в комнатах второго этажа. Музицировали, играли на пианино и пели. Сначала что-то сыграла мать, потом девушки порознь, потом вместе. Девушки спели также по песне. Наталия сидела на шелковых подушках и внимательно слушала. Но когда мы попросили сыграть и ее, она отказалась.
К вечеру мы вернулись в дом роз.
Когда Густав выпрыгнул из нашего экипажа, когда мой гостеприимец и я тоже из него вышли и я увидел направлявшуюся к мраморной лестнице стройную фигуру Наталии, я на минуту остановился, а потом тоже отправился в свои комнаты, где оставался до ужина.
Ужин прошел как обычно, только гулять после него в тот день уже не пошли.
Придя в свою спальню, я отворил окно, которое, несмотря на теплый день, ввиду моего отсутствия не открывали, и высунулся в него. Загорались звезды, воздух был мягкий и спокойный, до меня доносилось благоухание роз. Я замечтался, все было как во сне, тишина ночи и запах роз напоминали мне прошлое. Но сегодня было ведь все иначе.
После поездки в Ингхоф пошли дождливые дни, а когда они кончились и сменились солнечными, подошло и время, когда Матильда и Наталия должны были покинуть дом роз. Часть вещей была уже упакована, и среди них я увидел две цитры, уложенные в бархатные футляры, которые в свою очередь упрятали в кожаные чехлы.
Наконец был назначен день отъезда.
Накануне вечером главную кладь уже погрузили в карету, а в послеполуденные часы женщины ходили прощаться — к садовнику и его жене, в столярную мастерскую и на хутор.
На следующее утро обе явились к завтраку в дорожной одежде. Арабелла, служанка Матильды, укладывала теперь в карету те вещи, которыми пользовались до последней минуты. После завтрака, когда женщины уже надели дорожные шляпы, Матильда сказала моему гостеприимцу:
— Благодарю тебя, Густав, прощай и приезжай поскорее в Штерненхоф.
— Прощай, Матильда, — сказал мой гостеприимец. Эти старые люди снова расцеловались, как в день приезда Матильды.
— Прощай, Наталия, — сказал он затем девушке.
Та только тихо ответила.
— Спасибо за всю вашу доброту.
Матильда сказала мальчику:
— Будь послушен и бери пример со своего приемного отца.
Мальчик поцеловал ей руку.
Затем, повернувшись ко мне, она сказала:
— Спасибо за приятные часы, которые вы посвятили нам в этом доме. Хозяин, вероятно, уже благодарил вас за ваш приезд. Оставайтесь по-прежнему добры к моему мальчику и не тяготитесь его привязанностью к вам. Если позволят ваши прекрасные научные занятия, будьте среди тех из этого дома, кто навестит Штерненхоф. Вы окажетесь там очень желанным гостем.
— Могу ответить лишь благодарностью за всю доброту, с какой отнеслись ко мне вы и хозяин этого дома, — сказал я. — Если Густав испытывает некоторую приязнь ко мне, то причиной тому, наверное, его доброе сердце, и если вы не откажете мне, я непременно буду среди гостей Штерненхофа.
Я чувствовал, что надо бы попрощаться и с Наталией, но не в силах был вымолвить ни слова и только молча поклонился. Она ответила на этот поклон тоже молча.
Затем мы покинули дом и вышли на песчаную площадку. Гнедые с каретой уже стояли перед оградой. Прислуга была уже в сборе. Были здесь Ойстах со своими работниками, садовник со своими людьми и женой, и управляющий с главным скотником тоже пришли с хутора.
— Большое спасибо вам, дорогие, — сказала Матильда. — Спасибо за вашу любезность и доброту, служите своему хозяину верой и правдой. Ты, Катарина, присматривай за ним и за Густавом, чтобы с ними не случилось никаких неприятностей.
— Знаю, знаю, — продолжала она, увидев, что Катарина хочет что-то сказать, — ты делаешь все, что в твоих силах и даже больше того. Но так уж устроен человек, что он просит об исполнении своих желаний, хотя и знает, что они и так будут исполнены и даже уже исполнены.
— Счастливо вам доехать до дома, — сказала Катарина, целуя Матильде руку и вытирая глаза краем передника.
Все подошли прощаться. У Матильды для каждого нашлось приятное слово. Откланивались и Наталии, которая тоже любезно благодарила.
— Ойстах, не забывайте Штерненхофа, — сказала Матильда, повернувшись к нему, — навестите нас вместе с другими. Я не хочу сказать, что вы можете оказаться там нужны и по делу. Приезжайте ради нас.
— Приеду, высокочтимая госпожа, — отвечал Ойстах.
Еще несколько слов она сказала садовнику и его жене и управляющему хутором, после чего все немного отступили назад.
— Будь благополучен, дитя мое, — сказала она Густаву, перекрестив ему лоб большим и указательным пальцами и поцеловав его в лоб же. По его большим черным глазам, в которых стояли слезы, я видел, что он готов был броситься ей на шею. Удерживала его от этого, вероятно, составлявшая часть его натуры стыдливость.
— Оставайся такой же милой, Наталия, — сказал мой гостеприимец.
Девушка поцеловала бы протянутую ей руку, если бы он это позволил.
— Еще раз спасибо тебе, дорогой Густав, — сказала Матильда моему гостеприимцу. Она хотела сказать еще что-то, но из ее глаз хлынули слезы. Она взяла белый тонкий платок и прижала его к заплаканному лицу.
Глаза моего гостеприимца сохраняли спокойное выражение, но из них тоже полились слезы.
— Счастливого пути, Матильда, — сказал он наконец, — и если во время твоего пребывания здесь чего-то недоставало, спиши с нас этот долг.
Она отняла платок от глаз, еще полных слез, показала на Густава и сказала:
— Вот мой самый большой долг, долг, который я, наверное, никогда не смогу погасить.
— Он и не рассчитан на погашение, — возразил мой гостеприимец. — Не говори об этом, Матильда. Если делается что-то хорошее, то делается это от души.
Они еще несколько мгновений подержали друг друга за руки, и утренний ветерок бросил к их ногам несколько лепестков отцветших роз.
После долгих дождей день выдался очень ясный, не слишком теплый. Верх кареты был откинут. Вуаль с той же шляпы, которая была на ней в день приезда, Матильда опустила на лицо. А Наталия свою вуаль подняла и подставила глаза утреннему ветерку. Когда и Арабелла села в карету, лошади тронули, колеса оставили борозды в песке, и карета покатилась вниз к большой дороге.
Мы вернулись в дом.
Все разошлись по своим комнатам и занялись своими делами.
Побыв некоторое время у себя, я вышел в сад. Я пошел к цветам, которые во множестве еще цвели, несмотря на то, что их время уже миновало, прошел к овощам, к карликовым плодовым деревьям и, наконец, поднялся к высокой вишне. Оттуда я направился в теплицу. Там я застал садовника, который трудился над своими растениями. Увидев меня, он пошел мне навстречу и сказал:
— Хорошо, что я могу поговорить с вами наедине. Вы его видели?
— Кого? — спросил я.
— Ну, вы же были в Ингхофе, — отвечал он, — значит, вы, наверное, взглянули на cereus peruvianus.
— Нет, не посмотрел, — сказал я, вспоминая разговор, в котором он рассказал мне, что в Ингхофе есть очень большое растение этого рода, — я забыл о нем.
— Ну, если вы забыли, то уж хозяин-то взглянул на него.
— По-моему, когда мы были в теплице, никто не обращал нашего внимания на это растение, — возразил я. — Ведь если бы кто-то другой подошел к этому цветку особо, я, конечно, заметил бы это и тоже посмотрел на него.
— Очень странно, очень любопытно, — сказал он. — Если вы забыли посмотреть cereus peruvianus, то вам надо как-нибудь сходить туда со мною. Это не займет у нас и двух часов, а дорога туда приятная. Такое не так-то легко увидеть еще где-либо. Они никогда не доводят его до цветения. Будь он у меня здесь, он вскоре расцвел и забелел бы, как мои волосы, нет, конечно, гораздо белее. Наши еще слишком малы, чтобы цвести.
Я сказал ему, что как-нибудь схожу с ним в Ингхоф и даже, если это не будет неприлично и не встретит слишком больших препятствий, постараюсь посодействовать тому, чтобы ему досталось это растение.
Он очень обрадовался и сказал, что препятствия отнюдь не велики, на cereus там не обращают внимания, иначе его бы показали гостям, а хозяин, может быть, просто не хочет одалживаться у соседа. Но если я замолвлю словечко, cereus, конечно, окажется здесь.
Как, однако, люди носятся со своими заботами, подумал я, и как они вовлекают в них весь остальной мир. Этот человек занимается своими растениями и думает, что все на свете должны дарить им свое внимание, а у меня в голове совсем другие мысли, а у моего гостеприимца свои устремления, а Густав занят своим образованием. Но в одном сообщение садовника пошло мне на пользу: оно немного отвлекло меня от уныния и тоски, показав мне, насколько они неосновательны и не вправе считать себя чем-то единственным и самым важным на свете.
Я задержался в теплице, и садовник многое показал мне и объяснил. Затем я вернулся к себе и сел за работу.
Мы встречались за обедом, совершали прогулки во второй половине дня и вели обычные разговоры.
Время в доме роз потекло после отъезда женщин снова так же, как текло оно до их приезда.
Я почти исчерпал досуг, который урвал от своих трудов в горах для пребывания в доме моего гостеприимца. Работа, которую я наметил дополнительно проделать в доме роз, тоже приближалась к своему завершению. Тем не менее я не спешил уезжать, потому что договорились посетить Штерненхоф, где, как я понял, жила Матильда, и потому что в этом посещении мне хотелось участвовать. Намечено было также посетить в горной части края одну церковь с очень красивым средневековым алтарем. Я решил восполнить пропущенное время более долгим осенним пребыванием в горах.
Мой гостеприимец снова затеял строительные работы на хуторе и привлек к ним немало людей. Он каждый день ходил туда присмотреть за работами. Мы очень часто сопровождали его. Тогда шел как раз последний завоз сена с верхних лугов Алицкого леса, где начинают косить позднее, чем на равнине. Мы восхищались этой душистой, пряной пищей для скота, которая на горных лугах гораздо лучше, чем на лугах равнины, ибо в горах растут самые разные травы, питаемые почвой самых различных горных пород, а однородный грунт низин родит не столь многочисленные, хотя и более сочные сорта. Мой гостеприимец уделял этой отрасли очень большое внимание, как главному условию процветания домашних животных, этих общительных помощников человека. Все, что шло в ущерб пряности, душистости и, как он выражался, смачности корма, строжайше избегалось, а если по недосмотру или из-за неблагоприятной погоды такое все-таки вкрадывалось, негодное либо сосем убирали, либо применяли для других хозяйственных нужд. Потому и нельзя было увидеть более прекрасных, более гладких, более блестящих и более веселых животных, чем в Асперхофе. К тому же и хозяйству это шло только на пользу. Поскольку ничего, что похуже, пускать в дело не разрешалось, на сенокосе работали очень тщательно, не говоря уж о том, что благодаря своему знанию метеорологических условий мой гостеприимец нес меньше потерь от дождей и тому подобного, чем большинство сельских хозяев, не заботящихся о таком знании. А невыгоды неприменения того, что похуже, значительно перевешивала выгодность хорошего состояния скота. В Асперхофе всегда можно было с меньшим числом животных выполнить большую работу, чем в других хозяйствах. Сюда надобно прибавить какую-то веселую бодрость подчиненных, что всегда появляется при толковом ведении дела, в котором они участвуют, и при хоть и строгом, но дружеском обращении с ними. Во время теперешнего своего пребывания здесь мне часто случалось слышать от соседей, что, глядя на старый Асперхоф, нельзя было и представить себе, что здесь может получиться такое. Когда, после еще нескольких гроз, небо очистилось, обещая ясные дни, назначили поездку к церкви с достопримечательным алтарем.
На север от нашей чудесной реки, делящей страну на северную и южную части, высится плоскогорье, тянущееся на много миль по северному берегу. На юг от реки есть сравнительно ровная, очень плодородная местность шириной от шести до восьми миль, которую замыкает гряда Альп. До сих пор я предпочитал ходить только в Альпы, в северное плоскогорье я заглянул один-единственный раз и обошел лишь маленький его уголок. Теперь я собирался со своим гостеприимцем проехать во внутреннюю его часть, ибо церковь, составлявшая цель нашей поездки, находится ближе к северной, чем к южной границе плоскогорья. В сопровождении Ойстаха мы поехали от берега реки уступчатыми подъемами и выехали на холмистую возвышенность. Мы то медленно поднимались в коляске к макушке какой-нибудь горы и ехали верхом, то снова спускались кругами с горы в долину, минуя порой какое-нибудь ущелье, то опять поднимались, то и дело меняя направление, и видели холмы, усадьбы и другие постройки с разных сторон. То мы озирали с какой-нибудь вершины простирающуюся к югу равнину с величественной цепью высокогорья, то спускались в теснину, где рядом с нашей коляской ничего не было, кроме какой-нибудь темной, развесистой сосны или мельницы. Порой, когда мы приближались к какому-нибудь предмету словно бы по равнине, в ней вдруг разверзалась пропасть, которую нам приходилось объезжать по спирали.
При первом посещении этого плоскогорья мне показалось, что тишина и безмолвие здесь глубже, чем в любых других, тоже тихих и безмолвных местах. Потом я об этом не думал. Теперь у меня возникло такое же ощущение. Немногочисленные крупные селения находятся в этом краю очень далеко друг от друга, дворы крестьян одиноко ютятся на холмах или в глубоком ущелье или на каком-нибудь неожиданном склоне. Кругом луга, поля, рощи и камень. Ручьи тихо текут в ущельях, а там, где они журчат, их журчанья не слышно, потому что дороги очень часто идут по высоким местам. Большой реки в этом краю нет, и, глядя на простершуюся к югу равнину и на высокогорье, видишь картину очень величественную, но тихую. В Альпах дороги проходят большей частью по узким долинам рек или лесных ручьев, разветвляться им некуда, движение стиснуто, и там много суеты, шума ветра и журчанья воды.
В этом краю сохранилось еще много драгоценных древностей, здесь жили когда-то богатые семьи, войны и смуты обходили этот край стороной.
Мы прибыли в небольшое селение Керберг. Оно находится в очень глухом углу и никакой важности не представляет. Никакой более или менее оживленной дороги здесь не проходит, есть только одна из тех проселочных дорог, что служат для обмена здешними изделиями и славно построены из хорошего местного камня и песка. Расположен, однако, поселок красиво, потому что постройки здесь довольно крупны и частью утопают в сумрачном лесу. И в этом-то селении находится церковь, ради которой мы приехали. За поселком, севернее, на горе стоит просторный замок, окруженный большими садами и рощами. В этом замке жил когда-то богатый и могущественный род. Кто-то и вздумал устроить и украсить церковь в этой глуши. Построил он ее в старонемецком стиле. У нее стрельчатые своды, стройные каменные колонны делят ее на три нефа, свет проникает через высокие окна с розетками, сводами и маленькими многоугольными стеклами. Главный алтарь вырезан из липового дерева, он, как дароносица, высится над местом священника и окружен пятью окнами. Прошло много времени. Основатель умер, в церкви можно увидеть доску с его мраморным горельефом. Пришли другие люди, церковь украсили еще более, расписали и покрасили каменные колонны и сложенные из вытесанных камней стены, заменили два боковых алтаря, первоначальный вид которых теперь никому не известен. Говорят, что дароносицу окружали когда-то красивые витражи, но они исчезли, и пять окон застеклили обыкновенными четырехугольными пластинами. Они и сейчас портят вид церкви. Новые хозяева замка не были так богаты и могущественны, у других времен были другие заботы, и так получилось, что резной главный алтарь загаживали птицы, мухи и всякие вредные насекомые, что его сушило солнце, беспрепятственно проникавшее внутрь через четырехугольные стекла, что из него выпадали части, которые потом произвольно и невпопад вставлялись опять, а руки, лица и одежды фигур истачивал червь.
В церковь привел нас Ойстах; стояло солнечное утро, кругом не было ни души, и мы подошли к резному изделию. Ойстах хорошо знал правила этого старинного искусства и его историю. Он рассказал о средней части алтаря, где на богато украшенных постаментах под богатыми консольными навесами стояли три цельные, выше человеческого роста фигуры. Это были фигуры святого Петра, святого Вольфганга — оба в епископском облачении — и святого Христофора, несущего на плече младенца Иисуса, который, по легенде, показался этому силачу-великану тяжелым, как земной шар, и истощил его силы, и это истощение выражено в фигуре святого. По обычаю наших предков кругом было еще множество мелких фигур. По бокам средней части было два, в затейливых рамах, крыла с рельефами, изображавшими благовещение, рождество, дары волхвов и успение Богородицы. Над средней частью высился ажурный фронтон, который, по мнению Ойстаха, неверно называют готическим, тогда как это стиль немецкого средневековья. В этом ажурном фронтоне было множество фигур. За боковыми крыльями с обеих сторон возвышались фигуры святого Флориана и святого Георгия в средневековых рыцарских доспехах. У ног святого Флориана было изображение горящего дома, а у ног святого Георгия — изображение змея. Ойстах утверждал, что, лишь глядя на эти изображения, понимаешь всю ничтожность подобных добавлений к старинным фигурам, ибо наши смыслившие в искусстве предки, конечно, не допустили бы такого несоответствия размеров. Не отклоняя мнения Ойстаха, мой гостеприимец сказал, что объяснить эту несоразмерность можно и тем, что через огромность фигур, по сравнению с которыми дом или змей так малы, хотели выразить их сверхъестественность.
Мой гостеприимец сказал, что, наверное, были времена не только более тонкого художественного вкуса, но и времена всеобщего, вплоть до простонародья, понимания искусства. Ведь откуда бы иначе взялись произведения искусства в такой глуши, как Керберг, как иначе появились бы они в еще меньших церквах и часовнях плоскогорья, которые часто одиноко стоят на каком-нибудь холме или торчат на какой-нибудь лесной горке, как иначе объяснить, что церковки, полевые часовенки, дорожные столбы, памятники старинных времен сделаны с таким мастерством. Ныне же упадок искусства захватил и высшие сословия, ведь мало того, что в церквах, на могилах и в священных местах выставляют на обозрение народу отвратительные изваяния, которые скорее убивают, чем будят благоговение, так еще к себе, в барский замок, часто тащат пустые и нищие духом поделки бессильной эпохи. Во время этих рассуждений на моего гостеприимца и на Ойстаха напала печаль, не совсем мне понятная.
После алтаря мы осмотрели и всю церковь, осмотрели статую ее основателя, осмотрели другие старинные надгробия и надписи. Тут оказалось, что в отличие от окон нефа в сводах пяти окон вокруг амвона не было каменных розеток, что вновь доказывало, что стекло из этих окон когда-то вынули, а каменные оправы убрали — то ли для лучшего расположения витражей, то ли просто чтобы удобнее было вставить четырехугольные стекла. Обогащенный новыми мыслями, я вышел из церкви со своими двумя провожатыми.
Обратно мы поехали другой дорогой, чтобы я мог увидеть и другие части этого края. Мы осмотрели еще несколько церквей и небольших построек, и Ойстах обещал мне, что дома покажет мне зарисовки того, что мы видели. По дороге мои спутники говорили также о предполагаемом времени, когда появилась церковь, составлявшая цель нашей поездки. Об этом времени они судили по архитектуре и по всяким украшениям. Они жалели только, что нельзя узнать об этом точнее из документов, поскольку в архив старого замка доступа не было.
В полдень следующего дня мы снова проехали по уступчатым склонам и поздно ночью добрались до дома роз.
Спустя несколько дней я напомнил садовнику о договоре насчет посещения Ингхейма. Он обрадовался моей внимательности, как он это назвал, и в один погожий день мы отправились в замок. Мы назвали причину своего прихода и были приняты с большой предупредительностью. Мы тут же направились в теплицу, и растение, к которому меня подвел садовник Симон, оказалось действительно очень красивым и крупным. Я не знал точно, как вообще развиваются эти растения и какой величины они способны достичь. Но более крупного я не видел нигде. Заметил я также, что в Ингхейме не очень-то его ценят: угол теплицы, где оно росло прямо в земле, был самым запущенным, он был завален подпорками для цветов, лыком, опавшими листьями и тому подобным и так заставлен подставками, на которых стояли другие растения, что они совсем заслоняли его. Правда, у самого потолка можно было увидеть зеленую руку этого растения, но туда я в первый свой приход не смотрел. Теперь мой провожатый узнал, что это сегeus peruvianus, и объяснил мне его признаки. Никаких других кактусов мы в Ингхейме не обнаружили. После всяких знаков внимания, явленных нам в замке, мы под вечер отправились восвояси, и я утешил своего старого провожатого, сказав, что, по-моему, будет нетрудно заполучить это растение в дом роз. Там оно дополнит и украсит коллекцию, а в Ингхейме оно прозябает в одиночестве. Желание моего гостеприимца, конечно, исполнят, а уж я постараюсь помочь этому делу.
Вскоре мы отправились в гости в Штерненхоф. На этот раз кроме Ойстаха поехал и Густав. Серых запрягли в большую коляску, чем та, на которой мы ездили в плоскогорье, и мы покатили по холму вниз. Стояло очень раннее утро, до восхода солнца было еще далеко. По главной дороге мы поехали в сторону Рорберга и наконец стали подниматься на взгорье у Алицкого леса. Когда лошади медленно взяли в гору, мой гостеприимец сказал:
— Возможно, что в прошлом году вы увидели на этом месте Матильду и Наталию. Когда они приехали ко мне к цветению роз и я рассказал им о вас, о вашем пребывании у меня и о вашем отбытии в утро их приезда, они сказали мне, что встретили на Алицком взгорье какого-то путника, похожего на того, кого я им описал.
Мне стало совершенно ясно, что две дамы, встреченные мною в то утро на этом месте, были действительно Матильда и Наталия. Теперь у меня перед глазами отчетливо возникли те же дорожные шляпы, что были на них и на этот раз, вспомнились также карета и гнедые лошади. Вот почему, стало быть, мне всегда казалось, что Наталию я уже видел однажды. Я ведь даже подумал тогда, что человеческое лицо — самый благородный предмет для искусства рисования, но как человек неловкий, лучше разбирающийся в тех своих впечатлениях, что не связаны с людьми, я не удержал этот образ в своем воображении. Я сказал своему гостеприимцу, что своим замечанием он оказал помощь моей памяти, что теперь я все отчетливо вспоминаю, что на этом подъеме мне встретились Матильда и Наталия и что, когда их карета медленно съезжала с горы, я посмотрел им вслед.
— Так я и подумал тогда, — ответил он.
Но подумал я и еще кое о чем, отчего покраснел. Значит, мой гостеприимец говорил обо мне с дамами и даже описал им меня. Значит, он отнесся ко мне с участием. Это меня обрадовало.
Когда мы взобрались на гору, мой гостеприимец велел остановиться у одного просвета в придорожных кустах, встал в коляске и попросил меня последовать его примеру. Он сказал, что с этого места можно оглядеть принадлежащий к Асперхофу участок Алицкого леса. Отмечая различия в окраске леса, вызванные смешением буков и елей, светом и тенью и другими особенностями, он указал мне пальцем границы этого поместья. Когда я это более или менее усвоил и тоже пальцем приблизительно указал ему те места леса, где я уже побывал, мы сели и поехали дальше.
Тогда я первый раз услышал из его уст название Асперхоф как обозначение его поместья.
Немного проехав, мы свернули с уходящего на восток главного шоссе на обычную соединяющую дорогу, на юг. Мы, стало быть, приближались к горам.
В полдень, чтобы подкрепиться и дать отдохнуть лошадям, об уходе за которыми мой гостеприимец очень заботился, мы на довольно долгое время остановились на уединенном постоялом дворе, и лишь вечером, уже в густых сумерках, мой гостеприимец показал мне очертания Штерненхофа. Я уже дважды бывал в этих местах, помнил даже в общем это здание и точно знал, что у подножия холма, на котором оно стоит, росли прекрасные клены. Но у меня никогда прежде не было причин о том задумываться.
Мы подъехали при свете звезд к знакомым кленам, миновали подворотню и остановились во дворе. В нем стояли четыре высоких дерева, по характерным очертаниям которых на фоне темного ночного неба я понял, что это клены. Посреди деревьев журчал фонтан. На шум вкатившейся в глухую подворотню коляски выбежали слуги со свечами, чтобы помочь нам выйти из нее. Затем во дворе появились и Матильда с Наталией, чтобы нас встретить. Они провели нас по лестнице в вестибюль, и оттуда нас развели по комнатам.
Моя комната представляла собой большое, уютное помещение, где уже горели на столе две свечи. Когда слуга закрыл за собой дверь, я положил на стол свою шляпу, а потом несколько раз быстро прошелся по комнате, чтобы немного размять затекшие от езды члены. Когда это в какой-то степени удалось, я подошел к одному из открытых окон, чтобы осмотреться. Но увидеть можно было немногое. Слишком поздняя была уже ночь, и свечи в комнате делали воздух за окном еще темнее. Увидел я только, что мои окна выходил и на вольный простор. Постепенно перед моими глазами вырисовались темные контуры стоявших у подножия холма кленов, затем выступили темные и бледные пятна, вероятно, чередование поля и леса, а больше ничего нельзя было различить, кроме блестевшего надо всем этим неба, освещенного бесчисленными звездами при полном отсутствии луны.
Через некоторое время пришел Густав и позвал меня ужинать. Он был очень рад моему приезду в Штерненхоф. Я немного приоделся, благо мой дорожный мешок был уже наверху, и последовал за Густавом в столовую. Столовая была почти такая же, как в доме роз. Матильда, как и там, сидела на почетном месте во главе стола, по правую руку от нее — мой гостеприимец и Наталия, по левую — я, Ойстах и Густав. И здесь подавали кушанья экономка и служанка. Ужин проходил точно так же, как в те вечера у моего гостеприимца, когда мы все были в сборе.
Чтобы успеть отдохнуть от путешествия, мы вскоре разошлись по комнатам.
Я засыпал неспокойно, но постепенно погрузился в глубокий сон и проснулся, когда солнце уже взошло.
Теперь пора была оглядеться.
Я оделся как можно быстрее и тщательнее, подошел к окну, открыл его и выглянул наружу. Ровная, прекрасная зеленая лужайка, без цветочных кустов или чего-либо подобного, с одной только белой песчаной дорожкой спускалась по отлогому склону холма, на котором стоял дом. А по дорожке шли вверх Наталия и Густав. Я смотрел на их красивые, молодые лица, а они не видели меня, потому что не поднимали глаз. Они вели, казалось, задушевный разговор, и при их приближении — по походке, по осанке, по большим темным глазам, по чертам лица — я снова весьма ясно увидел, что они — брат и сестра. Я смотрел на них, пока они не скрылись в темных воротах.
Теперь вся местность стала пустой.
Я и не глядел на нее.
Но постепенно снова показались милые глазу поля, рощицы и лужки вперемежку, я увидел разбросанные кругом хутора, там и сям поблескивавшие вдали белые башни церквей и дорогу, тянувшуюся светлой полоской сквозь зелень. Замыкалось все это высокогорьем, так отчетливо, что в нижней его части видны были изгибы долин, а в верхней — очертания гребней и плоскостей и поляны снега. Очень высоки и хороши были стоявшие внизу у холма клены, поэтому, наверное, они и во время прежних поездок привлекали к себе мое внимание. От них тянулись ряды ольхи, отмечавшие русла ручьев.
Дом был, по-видимому, обширен, ибо стена, где находились мои окна и которую я мог, высунувшись, оглядеть, была весьма велика. Гладкая, с выступающими каменными карнизами, она была серовато-белого цвета, в который ее покрасили явно в новейшее время.
За домом, по-видимому, был сад или рощица, потому что я слышал пение птиц. Порой мне казалось также, что я слышу, как журчит фонтан во дворе.
День был ясный.
Теперь я ждал, что последует.
Слуга позвал меня завтракать. Завтрак подавался в такое же время, как в доме роз. Когда я вошел в столовую, Матильда сказала мне, что это очень мило с моей стороны, что я приехал с ее друзьями и ее сыном в Штерненхоф, она постарается, чтобы мне здесь понравилось, в чем ей должен помочь ее друг, сделавший Асперхоф таким привлекательным для меня.
Я отвечал, что очень радовался предстоящей поездке в Штерненхоф и рад, что нахожусь здесь. Особого внимания мне вовсе не требуется, я прошу только, чтобы ко мне были снисходительны, если я сделаю что-то не так.
За мной вошел Ойстах. Матильда приветствовала и его.
Густав, который уже был здесь, сел рядом со мной.
Дамы были красивы, домовиты, но одеты менее просто, чем в доме роз. Впервые мой гостеприимец был в другом платье, совсем не в том, что в имении или во время поездки в Ингхейм. Он был в черном фраке более просторного, чем обычно, покроя и даже держал в руке легкую бобровую шапку.
После завтрака Матильда сказала, что хочет показать мне свое жилье. Остальные пошли с нами. Из столовой мы вышли в вестибюль. В конце его были открыты две двустворчатые двери, и я заглянул в анфиладу комнат, растянувшуюся, должно быть, на всю длину дома. Когда мы вошли туда, я увидел, что в комнатах все очень чисто, красиво и сообразно. Двери были открыты, так что все комнаты просматривались насквозь. Мебель была хорошо подобрана, стены были украшены многочисленными картинами, видны были стеклянные шкафы с книгами и музыкальные инструменты, а на полках, размещенных самым удачным образом, стояли цветы. В окна заглядывали ближайшие окрестности и дальние горы.
Оказалось, что эти комнаты — прекрасный променад под крышей и между стенами. Можно было шагать вдоль них в окружении приятных предметов, не замечая ни холода, ни неистовств ненастья или зимы и в то же время видя поля, леса и горы. Даже летом было удовольствием побродить здесь при открытых окнах — и на вольном воздухе, и среди предметов искусства. Поскольку я глядел больше на частности, особенно бросилась мне в глаза мебель. Она была новая и сделана по прекрасному замыслу. Все предметы так подходили к своим местам, словно они не прибыли сюда откуда-то, а возникли одновременно с этими комнатами. В мебели смешалось множество пород дерева, это я понял очень скоро, здесь были породы, которые обычно не идут на мебель, но они, казалось мне, так уживались друг с другом, как уживаются в природе очень разные существа.
Я сказал что-то по этому поводу своему гостеприимцу, и он ответствовал:
— Однажды вы спросили меня, есть ли в моем доме предметы, изготовленные в нашей столярной мастерской, и я ответил, что ничего выдающегося в нем нет, но кое-что собрано в другом месте, куда я вас, коли вы охотник до таких вещей, провожу. Эти комнаты и есть то другое место, и вы видите новую мебель, сделанную в нашей столярной мастерской.
— Но она на диво подходит сюда своим разнообразием и своими формами, — сказал я.
— Когда мы задумали постепенно обставить комнаты Матильды новой мебелью, — отвечал он, — мы сделали планы всей этой анфилады в горизонтальной и вертикальной проекциях, наметили цвета стен в отдельных комнатах и сразу внесли эти цвета в чертежи. Затем стали определять размеры, форму, цвет, а тем самым и сорта дерева отдельных предметов. Изготовили цветные чертежи мебели и сравнили их с чертежами комнат. Формы предметов были, как я вам когда-то сказал, переняты у старины, но мы не просто подражали старине, а делали самостоятельные предметы для нынешнего времени со следами учения у прошедших времен. К такому взгляду мы пришли постепенно, видя, что новая мебель некрасива, а старая в новых комнатах неуютна. Когда после множества проб, чертежей и набросков вещи наконец были готовы, мы сами удивились, до чего они хороши. В искусстве, если по поводу такой мелочи можно говорить об искусстве, скачки так же невозможны, как и в природе. Кто вздумал бы вдруг изобрести что-то новое, ни частями, ни построением не похожее ни на что прежнее, тот был бы так же глуп, как если бы он потребовал, чтобы из существующих животных и растений вдруг возникли какие-то новые, доселе неведомые. Только в природе постепенность всегда чиста и мудра, а в искусстве, отданном человеку на произвол, получается то несообразность, то застой, то отход назад. Что касается древесины, то в дело пошли почти все прекрасные доски, вырезанные из наростов ольхи, что растет на нашем топком лугу. Но мы старались собрать древесину со всей нашей местности и постепенно набрали больше, чем думали поначалу. Тут и белоснежный гладкий клен, и кольчатый, и доски из наростов темного клена — все это с Алицкой земли, — затем береза со склонов и утесов Алица, можжевельник с сухой, неровной пустоши, ясень, рябина, тис, вяз, даже свилеватая ель, лещина, жостер, терн и многие другие кустарники, соревнующиеся в прочности и нежности, затем из наших садов орех, слива, персиковое дерево, груша, роза. Ойстах зарисовал в цвете все доски и сопоставил эти рисунки, он может показать вам их как-нибудь в Асперхофе и назвать еще много пород, которых я сейчас не упомянул. Да и в коллекции древесины они тоже, конечно, есть.
Я присмотрелся к мебели. Ольховые доски, о которых мой гостеприимец сказал в прошлом году, что они пошли в дело в каком-то другом месте, были действительно необыкновенны, яркие, величественно огромные, да и все другое дерево было так нежно, так прекрасно в своих сочетаниях, что просто не верилось, что это растет в наших лесах. И формы мебели — легкие, тонкие, обтекаемые, совсем другие, чем в нынешних изделиях, и все же они были новы и подходили к нынешнему времени. Я понял, какая ценность заключена в рисунках Ойстаха. Я подумал о своем отце, большом охотнике до таких вещей. Побывать бы ему здесь, увидеть бы это. Я словно обрел какое-то новое знание. Я отважился взглянуть на Наталию, но быстро отвел взгляд. Она стояла в такой задумчивости, что, кажется, покраснела, когда я взглянул на нее.
Матильда сказала Ойстаху:
— С ходом времени, без какого-либо нарочитого вмешательства, многое здесь стало другим и не так красиво, как вначале. Как-нибудь, если у вас будет время и вы захотите приехать сюда, мы все осмотрим, и вы увидите недочеты и укажете средства их устранения.
Мы двинулись дальше. Открыв дверь, мы вошли в комнаты, расположенные на другой стороне дома. Пройденные выходили на юг, а эти на запад. Здесь были большой зал и два боковых покоя. Если прежние комнаты были милы и уютны, то эти оказались поистине великолепны. Зал был вымощен мрамором, в комнатах были старинные стенные панели, старинные занавески на окнах и старинная мебель, пол зала был выложен по рисунку прекраснейшими, редчайшими и многочисленными сортами нашего мрамора и так вылощен, что все отражал. Это был очень строгий и очень яркий ковер. Здесь тоже нам пришлось надеть войлочные башмаки. На этом зеркальном полу стояли прекрасные, хорошо сохранившиеся старинные лари и другие предметы. Здесь была собрана самая крупная мебель. В двух прилегающих покоях, на ярком и красочном паркете, словно на деревянном ковре, стояли предметы поменьше, более хрупкие и изящные. Хотя старинная мебель и не была красивее, чем у моего гостеприимца — красивее, по-моему, и не бывает, — однако здесь в ней была такая согласованность, словно те, кто когда-то поставил здесь эти предметы, могли вот-вот войти в дверь в своих старинных нарядах. Я проникся ощущением чего-то значительного.
— Мраморы, — сказал мой гостеприимец, — были добыты в разных местах, их обтесали, вылощили и выложили по старинному рисунку многих церковных окон.
— Но поразительно, как вы подобрали мебель: она кажется единым целым, — сказал я.
— Значит, вы чувствуете, что в ней все согласуется, — отвечал он. — Знаете, мне приятно, что вы это сказали. Вы — зритель, который не помешан на старине, как нас упрекают в том наши противники. Это чувство внушила вам, стало быть, сама мебель, а не вы привнесли его в нее, как наши противники тоже о нас говорят. А дело обстоит вот как. Когда увидели ничтожность и пустоту недавних времен и, вновь оглянувшись на старину, перестали смотреть на нее как на хлам и начали искать в ней красоту, произошла некая нелепость. Снова начали собирать старину и только старину. На смену новой моде на новую мебель пришла новейшая мода на старую мебель. Стали гоняться за ларями, скамеечками, столами и тому подобным не потому, что они хороши, а потому что старинные, и нагромождать их у себя. Рядом оказались вещи, которые в свое время отстояли далеко друг от друга, неизбежно получалось что-то мерзкое, и враги старины, если у них был вкус, не могли от этого не отвернуться. Но ничто не сочетается хуже, чем старинные вещи очень разных времен. Предки до такой степени наделяли свои вещи каким-то особым духом — то был дух их ума и их чувств, — что даже жертвовали этому духу целесообразностью. Белье, платье и тому подобное целесообразнее хранить в новых шкафах, чем в старинных. Поэтому старинную мебель примерно одного времени, но разного назначения можно не в ущерб духу тепла и уюта, ей свойственному, ставить рядом, а наша мебель, у которой нет души, а есть назначение, сразу создает какую-то нелепость, если поставить в одной комнате предметы разного назначения, например, письменный стол, умывальник, книжный шкаф и кровать. Наибольшего эффекта достигнешь, конечно, если ставишь в одной комнате старинную мебель какого-то одного славного времени, наделенную, стало быть, одним и тем же духом, и мебель одинакового назначения. Тут действительно возникает нечто совсем иное, чем с нашими новыми вещами.
— А здесь, кажется, именно так и обстоит дело, — сказал я.
— Не все здесь старинное, — отвечал он. — Многие вещи пропали безвозвратно, а потому почти невозможно обставить все жилье предметами одного времени без изъянов в чем-нибудь необходимом. Поэтому недостающие предметы мы предпочли сделать заново в старинном духе, но не мешать старинную мебель с мебелью совершенно другого времени. А чтобы никого не вводить в заблуждение, в каждый такой старинно-новый предмет врезана серебряная табличка, на которой этот факт запечатлен буквами.
Он показал мне те предметы, которые были сделаны в его столярной мастерской в дополнение к старинным.
Тем не менее мое впечатление оставалось прежним, и мысль о моем отце не выходила у меня из головы. Мне показали также подлинно старинные, тяжелые, тканные золотом и серебром занавеси на окнах, а также кожаную, с цветными вставками и металлическими украшениями обивку стен. Только здесь кожу пришлось подправить и подпитать.
Когда мы осмотрели эти строгие и торжественные покои, Матильда отперла тяжелый замок входной двери, и мы прошли в ничем не примечательные комнаты северной стороны, среди которых были общий вестибюль и столовая. Оттуда мы вышли в крыло, смотревшее окнами на восток. Здесь находились жилые покои Матильды и Наталии. У каждой было по большой и по маленькой комнате, обставленным просто, новой мебелью, и жилой вид им придавали самые употребительные вещи, я не видел здесь обычных безделушек, какими, правда, не у моих родителей, но в других местах нашего города наполнены комнаты женщин. В каждой из обеих квартир я увидел одну из цитр, знакомых мне по дому роз. У Наталии было особенно много цветов. Везде стояли подставки, на которые их ставили, принеся сюда из сада на увядание. Стояли здесь также на полу, полукругом и группами, и большие растения, главным образом с красивыми листьями и красивой формы.
В сенях перед этими двумя квартирами имелось пианино.
Комнаты третьего этажа остались такими же, какими были прежде. Вид у них был такой, какой обычно имеют комнаты в просторных старинных замках. Они были заполнены мебелью разных времен, как правило вкусом не обладавших, безделушками прежних поколений, оружием и картинами, чаще всего написанными по какому-нибудь случаю. Особенно стены коридоров были увешаны изображениями больших рыб, некогда пойманных, с приложенным описанием, оленей, когда-то застреленных, дичи, кабанов и тому подобного. Были и портреты любимых собак. На этом этаже на юг выходили комнаты для гостей, и крыло этих комнат было приведено в порядок. Здесь рядом с комнатой Густава находилась и моя.
После осмотра комнат мы пошли на воздух. Широкая главная лестница из красного мрамора вела во двор. Двор показывал, сколь велико это здание. Он был замкнут четырьмя крыльями совершенно одинаковой длины. Посреди двора был бассейн серого мрамора, куда из сплетения водяных богинь изливались четыре струи. Вокруг бассейна стояли четыре клена, которые были никак не меньше тех, что окаймляли холм замка. На песчаной площадке под кленами были скамейки также из серого мрамора. От этой площадки лучами расходились дорожки. Остальное пространство представляло собой газон, только вдоль стен дома шла дорожка из каменных плит.
Из двора мы вышли через большие ворота. Выйдя наружу, я невольно оглянулся, чтобы осмотреть здание. Над воротами была довольно большая каменная доска с семью звездами. Больше я не увидел ничего, чего бы не заметил, выглянув утром в окно. По песчаной дорожке в зеленом газоне мы обошли дом и вышли позади него в сад. Тут я увидел как раз то, что предполагал: здание, которое вполне можно было назвать замком, состоит лишь из четырех крыльев, образующих равносторонний четырехугольник. Здания служб стояли довольно далеко в долине.
Сад начинался цветником, фруктовыми деревьями и огородом, но видно было, что вдали он кончался чем-то похожим на лиственный лес. Все содержалось в чистоте и порядке. Сад и здесь был населен пернатыми жильцами, и были в нем такие же приспособления, как в Асперхофе. Деревья поэтому благоденствовали и дышали здоровьем. Роз тоже хватало, только они не росли такими особыми группами, как у моего гостеприимца. Теплицы сада были вытянуты в длину и выглядели гораздо больше и ухоженнее, чем в Асперхофе. У входа в них нас вежливо и почтительно встретил садовник, человек молодой и, как показалось, сведущий. Он показывал мне свои сокровища более подробно, чем то было, по-моему, совместимо с оглядкой на моих провожатых, для которых здесь не было ничего нового. Имелось здесь много растений из дальних стран — и в теплом доме, и в холодном. Особенно радовался садовник своей коллекции ананасов, занимавших в одной из теплиц отдельное место.
За теплицей, невдалеке, стояла группа лип, почти таких же красивых и высоких, как в асперхофском саду. Песок в их тени был подметен так же чисто, и в довершение сходства по нему так же доверчиво, как по песку дома роз, прыгали зяблики, овсянки, черногорлые чеканы и прочие птицы. Под липами, естественно, стояли скамейки. Липа — это дерево уюта. Где найдешь липу в немецких землях — и в других дело, конечно, обстоит так же, — под которой не стояла бы скамья, липу, на которой не висела бы картина или возле которой не находилась бы часовня. К этому призывает красота ее форм, кров ее тени и дружное гудение жизни в ее ветвях. Мы вошли в тень лип.
— Это, пожалуй, самое лучшее место в Штерненхофе, — сказала Матильда, — и каждый, кто заходит в сад, должен немного посидеть здесь, поэтому сделайте это и вы.
С этими словами она указала на скамьи, почти дугой стоявшие вокруг стволов лип перед стеной зеленого кустарника. Мы сели. Над нами, как всегда среди этих деревьев, слышался ровный гуд, перед нашими глазами по чистому песку молча прыгали птицы, и, когда они вспархивали на деревья, нам легонько ударял в уши шелест их крыльев.
Через некоторое время я заметил, что нет-нет да слышится какой-то еще шорох, словно ветерок то подует, то снова затихнет. Я сказал об этом.
— Вы не ошиблись, — ответила Матильда, — сейчас мы увидим причину.
Мы поднялись и по узкой песчаной дорожке пошли через кусты, что росли почти сразу за липами. Когда мы прошли шагов сорок или пятьдесят, чаща открылась, и мы оказались на лужайке, замкнутой сзади густой зеленью. Зелень состояла из плюща, покрывавшего сложенную из больших камней стену, у обоих концов которой высились исполинские дубы. В середине стены было большое, наподобие ниши или апсиды углубление, ограниченное вверху аркой. Внутри этого углубления, тоже обвитого плющом, возлежала фигура из белоснежного мрамора — я никогда не видел мрамора такой сверкающей, почти прозрачной белизны, особенно поразительной среди зелени. Фигура изображала девушку, но сильно превышала натуральную величину, что, однако, на фоне покрытой плющом стены и в соседстве с высокими дубами не бросалось в глаза. Одной рукой девушка подпирала голову, другой обвивала сосуд, откуда в находящийся перед нею бассейн лилась вода. Из бассейна вода вытекала в выложенный в песке каменный желоб, а оттуда убегала в прятавшийся в кустах ручеек.
Мы постояли, посмотрели на эту фигуру и поговорили о ней. С помощью алавастровой чашки, стоявшей в углублении плюща, мы с Ойстахом попили также свежей воды, лившейся из сосуда.
Затем мы зашли за стену и по каменной лестнице поднялись на холмик, где тоже стояли скамейки в тени кустов. Но вид на дом кусты не загораживали. Здесь мы опять сели меж дубов, и словно в зеленой свилеватой раме, показался дом. С высокой, крутой крышей старинной черепицы, с широкими и высокими дымовыми трубами, он походил на крепость, правда, не рыцарских времен, а тех лет, когда еще носили латы, но на латы уже падали букли парика. Да и во всей постройке была какая-то значительность. С обеих сторон замка видны были окрестности, а за ними — приятная синева гор. Темные контуры лип, под которыми мы сидели, были левее и вида не портили.
— Совершенно напрасно покрасили в серо-белый цвет стены этого замка в недавнем прошлом, — сказал мой гостеприимец, — наверное, хотели сделать его приветливее, в конце прошлого века такую цель часто преследовали. Если бы эти большие камни, из которых сложены главные стены, не стали красить, их естественный серый цвет прекрасно сочетался бы с ржаво-коричневым цветом крыши и зеленью деревьев. А теперь замок похож на старую женщину, которая оделась в белое. Будь замок моей собственностью, я попробовал бы снять краску водой, щетками и, наконец, сухим способом, тонким резцом. Если отводить на это ежегодно небольшую сумму, с каждым годом будет приближаться избавление от такого неприятного зрелища.
— Мы можем ведь попробовать снять краску внизу, у самой земли и после этой работы составить примерную смету расходов, — сказала Матильда. — Признаться, меня тоже не радует вид этой краски, тем более что вся наружная сторона стен состоит из плотно пригнанных друг к другу камней, а значит, при постройке дома никакого другого цвета, кроме цвета камней, не предполагалось. Теперь замок внутри двора выглядит гораздо естественнее, и хотя он не напоминает о каком-то расцвете искусства, там внутри нет такого разнобоя, как снаружи.
— Серый цвет стен с серыми каменными карнизами удачно положенных окон, высота и ширина которых находятся здесь в правильном соотношении с простенками, придал бы, я думаю, дому еще большую красоту, чем то сейчас представляется, — сказал Ойстах.
При этом замечании мне пришли на ум слова, сказанные мне когда-то моим гостеприимцем, — что в старых домах новая мебель не на месте. Я вспомнил, что в зале и обставленных на старинный лад покоях этого замка высокие окна, широкие простенки между ними и необычные потолки очень украшали стоявшую там мебель, чего в комнатах новомодных, конечно, быть не могло.
Когда мы так беседовали, к нам поднялись Наталия и Густав, которые задержались у нимфы фонтана. На лицах у них был румянец, их темные глаза глядели весело, и, грациозно обойдя нас, оба юных существа стали за нами.
С этого холма дубов мы вернулись в сад и наконец оказались, словно в лесу, в замыкавшей сад чаще кленов, буков, дубов и других деревьев. Мы вошли в тень, и вряд ли были где-нибудь громче, чем здесь, возгласы радости и птичий щебет. Мы заглядывали в места, где природе пришли на помощь, чтобы сделать их еще приятнее, и Густав показывал мне скамейки, столики, площадки, где он сиживал когда-то с Наталией, где они учились, где играли детьми. Мы прошли мимо чудесно окрапленных светом и тенью стволов, по темным или светящимся песчаным дорожкам, мимо пышной зелени кустов, мимо скамеек и даже мимо источника с поворотами, которых я не заметил, снова вернулись в открытый сад в месте, противоположном тому, откуда мы вошли в лесок.
Оставив теперь слева два больших дуба и липы, мы вернулись в замок другой дорогой.
Обедали возле прекрасного зеленого холма, прямо перед домом, под полотняным навесом.
Во второй половине дня Матильда и Ойстах обсуждали, как устранить повреждения, которые в ходе времени претерпела новая мебель в южных комнатах, а также полы и отчасти старинная мебель в комнатах западных. Под вечер посетили хутор и службы.
Если в доме роз Матильда, по-женски заботясь о хозяйстве, вникала во все, что к нему относилось, то в Штерненхофе мой гостеприимец вел себя точно так же во всем, что касалось управления имением, а в этом у него было, по-видимому, больше опыта, чем у Матильды. Он входил во все помещения, осматривал скот и корм для скота, следил за хранением и переработкой продуктов хозяйства. Если такое поведение я видел в доме роз, то здесь оно было еще заметнее. В своих действиях и в услышанных мною обрывках его разговоров с Матильдой о домашних делах мой гостеприимец представал человеком, который умеет вести большое хозяйство и выполняет вытекающие отсюда обязанности с усердием, осмотрительностью и широтой взгляда, не переходя поэтому границ, за которыми начинаются дела женские. Происходило это так естественно, словно иначе и быть не могло.
От хутора мы пошли в луга и поля, которые принадлежали поместью. Наконец мы вышли за пределы имения и пошли по земле других владельцев, которых мы иной раз заставали за работой в поле и с которыми вступали иногда в разговор. И вот мы взобрались на возвышенность, откуда открывался широкий обзор. Здесь мы остановились. Первым, на что мы взглянули, был замок на зеленом холме, опоясанный кленами и садом-леском. Затем мы переводили взгляд на другие точки. Мне показали и назвали отдельные дома, разбросанные по местности и соединенные, словно зелеными цепями, линиями фруктовых деревьев, прочерчивающими здесь всю округу. Затем наши глаза перешли к самым дальним селениям, башни которых можно было увидеть отсюда. По этому поводу у меня уже было что сказать, поскольку большинство селений я знал. А уж когда мы добрались взглядом до гор, я оказался чуть ли не самым сведущим. Я постепенно разговорился, ибо меня спрашивали о разных точках, видя, что ответ у меня найдется. Я называл горы, верхушки которых можно было узнать, называл их части, определял долины, изгибы которых удавалось различить, показывал снежные поля, отмечал седловины, связывавшие или разделявшие горы или целые горные цепи, и старался пояснить, где именно расположены были знакомые горные поселки или жили знакомые семьи. Наталия, стоя рядом со мной, слушала очень внимательно и даже задавала вопросы.
Когда солнце зашло и вершины высокогорья погасли, мы вернулись в замок.
Ужинали в столовой.
Так проходили у нас дни в дружеском общении и веселых, подчас поучительных разговорах.
Наконец пришло время нашего отъезда. Коляска была запряжена ранним утром. Матильда и Наталия встали, чтобы проводить нас. Мой гостеприимец простился с Матильдой и Наталией, попрощались Ойстах и Густав, и я тоже счел нужным сказать Матильде несколько слов благодарности за радушный прием. Она любезно ответила и пригласила меня приезжать. Даже Наталии я сказал какие-то прощальные слова, на которые она тихо ответила.
Когда она стояла передо мной, я снова, как и при первом взгляде на нее, подумал и понял, что человек — все же высший предмет для искусства рисования, такой милой прелестью запали ее чистые глаза, ее прекрасные черты в душу смотревшего.
Мы сели в коляску, съехали с зеленого холма, свернули на север и поздно ночью прибыли в дом роз.
Оставался я в этом доме уже недолго, ибо мне больше нельзя было терять время. Я собрал свои вещи, написал на чемоданах и ящиках, куда их доставить, обошел всех, с кем полагал нужным проститься, поблагодарил своего гостеприимца за всю его доброту и любезность, пообещал снова приехать и в один прекрасный день пошел по холму вниз. Поскольку случилось это в такое время, когда Густав был свободен, он и Ойстах прошли со мной час пути.
ТОМ ВТОРОЙ
1. Дальше
Я направился в селение, где прервал свои труды. Люди, знавшие о моем намерении вернуться, ждали меня уже давно. Старый Каспар, мой верный проводник в странствиях по горам, как правило носивший в кожаном мешке наш нехитрый однодневный запас продовольствия, уже не раз спрашивал обо мне в трактире «У кленов»; как сказала мне хозяйка, он обычно, прежде чем войти, останавливался на улице и оглядывал все окна, выходившие из деревянной части дома на клены, чтобы посмотреть, не высунется ли из одного из них моя голова. Теперь он снова сидел у меня за длинным сосновым столом под зелеными деревьями, и другие, которых он оповестил, тоже пришли. Я очень обрадовался и растрогался, увидев, что эти люди довольны моим возвращением и рады продолжению работы.
Изо всех сил, словно меня мучила совесть, я стал наверстывать упущенное из-за долгого отсутствия. Я работал прилежнее и деятельнее, чем когда-либо прежде, мы исследовали отвесные склоны у подножий и на разных высотах, доступ к которым давали нам наши молотки и зубила. Мы ходили по долинам, ища следов их образования, и сопровождали струившиеся в пропастях воды, исследуя то, что они намыли и несли дальше. Главным местом сбора оставался у нас дом с кленами, и хотя мы там подолгу отсутствовали, ночуя то в других горских трактирах, то у лесорубов, то на каком-нибудь горном пастбище или вовсе под открытым небом, в промежутках мы всегда возвращались в дом с кленами, на нас смотрели там как на постоянных жильцов, мои люди устраивались на ночлег на сеновале, а за мной была закреплена благоустроенная комната, и еще было у меня помещение, куда складывались собранные мною предметы.
Часто, устав от работы или решив, что набрал достаточно добра для своей коллекции, я сидел где-нибудь на верхушке скалы и жадно вглядывался в черты окружавшей меня местности или смотрел вниз на какое-нибудь озеро, которых в наших горах множество, или рассматривал темную глубину какого-нибудь ущелья, или выбирал себе в моренах ледника какую-нибудь глыбу или просто сидел в одиночестве, глядя на краски льда — синего, зеленого и в переливах. Когда я потом сходил вниз и оказывался среди своих собравшихся помощников, все снова приобретало для меня ясность и естественность.
Один егерь, который, впрочем, был скорее бродягой, чем осевшим на одном месте и знакомым с округой и здешней охотой егерем, доставил мне в горы цитру. Как раз потому, что он нигде долго не задерживался, он прекрасно знал все горы и знал, где делают самые лучшие цитры. Судить об этом он мог верно и потому, что был самым знаменитым в горах умельцем игры на цитре. Он принес мне очень красивую цитру с грифом иссиня-черного дерева, украшенным инкрустациями из перламутра и слоновой кости и ладами из чистого, блестящего серебра. На доски, сказал мой посланец, пошла самая звонкая ель, выбранная самим мастером и срубленная в добрый час и в надлежащие годы. Ножками цитре служили шарики из слоновой кости. И правда, когда егерь играл на ней, мне думалось, что инструмента с более приятным звучанием я никогда не слышал. Даже то, что играли в доме роз Матильда и Наталия, звучало не так. Я в жизни не слышал ничего, что походило бы на игру этого егеря. Я не раз просил его играть при мне на моей цитре, потому что никакая другая не звучала у него так, как эта, и потому что, по его словам, ее следовало обыграть. Он стал учить меня игре, и, видя, что он предпочитает мою цитру всем другим, я решил, если у меня появится причина быть довольным нашими уроками, купить ему точно такую же. Он сказал мне, что у мастера есть несколько цитр, сделанных из того же дерева и тем же способом. Поскольку она была довольно дорога, я заключил, что мастер распродаст эти цитры не так скоро и одна-то уж останется, когда я к обычной денежной плате, назначенной мною моему учителю, пожелаю прибавить этот подарок.
В то же лето я начал собирать мраморы. Из камней, которые я находил или приобретал, вытачивались маленькие толстые пластинки, грани которых показывали особенности данного мрамора. Когда я находил большие глыбы, то, помимо таких пластинок для коллекции, я пускал их на всякие поделки, из них вытесывались всякие мелочи для письменного стола, шкатулок, умывальников, части мебели и даже сама мебель. Я надеялся доставить большую радость отцу и матери, постепенно украсив их дом, а то и сад такими побочными плодами моих трудов. Я помышлял даже о том, чтобы, если найду достаточно большую глыбу, заказать у каменотеса бассейн.
В Лаутертале я встретил однажды Роланда, брата Ойстаха. Он сделал много набросков в одной старинной церкви и перебеливал теперь в лаутертальской гостинице эти рисунки и некоторые другие, набросанные поблизости. Неподалеку от Лаутерталя находилась одна уединенная усадьба, вернее, крепкий, каменный, похожий на замок дом, принадлежавший когда-то семье, которая разбогатела на торговле изделиями горцев во все более дальних краях, а потом опять обеднела из-за вырождения ее потомков, их легкомыслия и расточительности. Кто-то из этого рода и построил большой каменный дом. Теперь хозяином здесь был чужой человек из города, купивший дом ради его местоположения и его достопримечательностей и время от времени его навещавший. В доме этом были прекрасные покои, прекрасные работы из камня и дерева, прекрасные потолки, двери, полы, мебель. Деревообрабатывающий промысел процветал, видимо, когда-то в горах — не то что теперь. Из этих изделий ничего не разрешалось выносить из дому или продавать. Роланду позволили рисовать то, что он найдет достойным зарисовки. Ради этого он и оставался в лаутертальском трактире. Я посещал с ним этот дом, и у нас возникали разные разговоры, особенно когда мы оба, выполнив свою каждодневную работу, сходились в зале трактира. Я открыл в нем человека очень пылкого, решительного и страстного, особенно когда его пленяло какое-нибудь произведение искусства или еще что-нибудь. Он покинул это место раньше, чем я.
Прежде чем мои дела увели меня оттуда, я нашел еще нечто, чему был из-за отца очень рад. Каспар часто слушал мои с Роландом разговоры, а порой и заглядывал в рисунки. Однажды он сказал мне, что если я такой охотник до старинных вещей, то он может показать мне нечто старинное и весьма любопытное. Принадлежит это одному лесорубу, владельцу дома, сада и полоски земли, которую возделывают его жена и его подрастающие дети. По моей просьбе мы как-то поднялись к его дому, который стоял за клином леса, среди сухого луга, недалеко от небольших полей, вплотную к одинокой каменной глыбе, какие порой попадаются в недрах плодородной земли. Старинным изделием здесь оказалась облицовка двух оконных пилястров, высотой примерно в половину человеческого роста. Она была явно остатком гораздо большей обшивки, покрывавшей на такой же высоте от пола все стены комнаты. Сохранилась только обшивка двух пилястров, но она была совершенно цела. Полусогнутые фигуры ангелочков и мальчиков в орнаменте из листьев стояли на цоколе, поддерживая изящный карниз. Хозяин дома поставил эти обшивки в своей парадной комнате таким образом, что они были обращены к комнате неукрашенной полой частью. Полости он заполнил резными и писаными иконами нового времени. Произведение это находилось прежде, вероятно, в каменном доме и было вынесено оттуда, когда какие-нибудь наследники что-то переделывали и все проматывали. Хозяин дома на лугу сказал нам, что его дед купил эти вещи на распродаже с торгов хагерской мельницы, которая пошла с молотка из-за расточительности мельника. Мои расспросы о дополнениях к этим обшивкам ни к чему не привели, и при посредничестве Каспара я купил у хозяина то, что осталось. Я заказал ящики, разобрал скрепленные части, собственноручно упаковал их и послал в дом с кленами в добавление к другим моим вещам.
В ту осень я и впрямь очень долго пробыл в горах. Снег лежал уже не только на них, а покрывал всю местность, и ездили уже на санях, а не в повозках, когда я покидал дом с кленами. Я уложил все свои вещи и отправил их раньше, потому что в будущем году мне предстояло расположиться уже не в этом приветливом доме, а где-то еще. Я попрощался со всеми моими людьми и по замерзшей дороге вдоль шумящей реки, у берегов которой уже нарастал лед, пошел в края равнинные. Мой путь приводил меня иногда на возвышенности, откуда я видел на севере местность дома роз, а на юге — места вокруг Штерненхофа. В белом покрове полей, прорезанном темными лентами лесов, я едва различал холмы, среди которых должен был находиться дом моего друга, и того меньше — окрестности Штерненхофа, потому что никогда не был в этих местах зимой. Но я точно знал, в какой стороне находится дом, где прошлым летом цвело такое множество роз, и в какой — замок, за которым стояли старые липы и бил родник, хранимый женской фигурой из белого мрамора. Благотворные нити, тянувшие меня в обе эти стороны, уничтожались более крепкими узами, которые вели меня к моим дорогим и милым родным.
Достигнув равнины и прибыв в место, где меня ждали мои ящики, оказавшиеся в целости и сохранности, я передал их возчику для доставки на пристань и попросил его быть особенно внимательным к тем из них, где находились старинные вещи. На другой день я выехал в коляске следом. У реки я проследил за погрузкой моих вещей на судно и на следующее утро поплыл на том же судне в свой родной город.
Я благополучно добрался туда, отправил свое добро в наш дом, распаковал ящики со старинными вещами и успокоился, убедившись, что деревянные резные изделия доехали без каких-либо повреждений. Радость отца была необычайна, мать радовалась за отца, а сестра, чьи блестящие глаза перебегали с меня на отца, показывала, что она мной довольна. Это позволило забыть мне иные свои сердечные заботы. Я снова был с родными людьми, всей душою желавшими мне добра, и это наполняло меня покоем и тем сладким чувством, от которого я в последнее время почти отвык.
На следующий день, войдя в столовую, я увидел отца: он стоял перед привезенными мною панелями и рассматривал их. Он то склонялся к ним, то становился на колени, что-то ощупывал, во что-то вглядывался. У меня сердце забилось от радости, и седые волосы, которых на его голове появлялось среди темных все больше, показались мне еще достопочтеннее, а легкая складка заботы на его челе, возникшая в этом вместилище его мыслей в трудах на наше благо, тогда как я отдавался своим радостям, наслаждаясь жизнью и людьми, а сестра моя расцветала как великолепная роза, наполнила меня чуть ли не благоговением. Подошла мать, он стал ей что-то показывать, объяснять позы фигур, линии стеблей, контуры листьев и общую композицию. Мать, благодаря многолетнему опыту, разбиралась в этих вещах гораздо лучше моего, и я понял теперь, что привез отцу нечто намного более прекрасное, чем я думал. Я решил, что следующей весной разузнаю точнее насчет всяких других частей этих панелей. Прежде я спрашивал только вообще, а теперь мне хотелось тщательно обыскать всю округу. После того как мы еще немного поговорили о панелях, мать провела меня по всем моим комнатам и показала, что сделали в мое отсутствие, чтобы мне приятнее жилось зимой. К нам присоединилась сестра, и когда мать ушла, она обвила мою шею обеими руками, поцеловала меня и сказала, что после отца и матери любит меня больше всех на свете. При этих словах у меня выступили на глазах слезы.
Когда я позднее ходил в одиночестве по своей комнате взад-вперед, сердце твердило мне: «Теперь все хорошо, теперь все хорошо».
На другой день я купил испанскую грамматику, которую рекомендовал мне один мой друг, много лет занимавшийся языками. Наряду с другими своими работами я начал пока самостоятельно учиться по этой книге, чтобы в будущем, если сочту нужным, взять и учителя испанского языка. Я не только продолжал также читать драмы Шекспира, но и употреблял оставшееся от моих работ время на чтение других поэтических произведений. Я снова извлек писания древних греков и римлян, отрывки из которых мне уже полагалось читать в годы учения. Тогда сочинения этих древних народов, прочитанные мною спокойно и трезво, пришлись мне по душе, и поэтому я теперь взялся за книги этого рода.
Моя цитра доставила радость сестре. Я сыграл ей вещи, какие уже мог воспроизводить на этих струнах, показал ей азы игры, и когда в доме появился приглашенный для нас обоих из города наставник в этом искусстве, я одолжил ей свою цитру и пообещал прислать ей из гор такую же хорошую, красивую или еще красивее и лучше, если удастся достать. Я поведал ей, что человек, обучивший меня в горах игре на цитре, играет гораздо лучше, чем городской учитель, хотя и не так манерно. Я сказал, что буду в горах учиться очень старательно и, когда вернусь, преподам ей то, что сумею усвоить.
За этими занятиями и другими делами, затеянными еще в прежние зимы, прошло холодное время года. Когда повеяло весной и земля стала высыхать, я вновь отправился в свое летнее странствие. И все же я снова избрал для себя главным жильем дом с кленами, хотя и знал, что часто придется уходить от него далеко и надолго. Я уже привык к нему, и мне было в нем хорошо и уютно.
Первым делом я послал за егерем, мастером игры на цитре. Поскольку найти его не составляло труда, явился он очень скоро, и мы договорились о продолжении наших упражнений в игре. Одновременно я начал поиски тех частей облицовки стен, которые дополняли привезенные отцу панели пилястров. Я навел справки в доме, где прошлым летом работал Роланд, расспросил лесоруба, продавшего мне панели, распространил поиски на всю округу, наказал людям, часто оказывающимся в самых отдаленных углах домов и прочих построек, например, плотникам, каменщикам, чтобы они сразу оповестили меня, если увидят какую-нибудь резьбу на дереве, сам обследовал некоторые места — но ничего больше не нашлось. Не оставалось почти никаких сомнений, что купленные мною панели принадлежали некогда каменному дому вымершей торговой семьи, в котором они покрывали всю нижнюю часть стен зала. Когда наследники-расточители принялись, так сказать, «наводить красоту», панели, наверное, убрали и передали в чужие руки, откуда они и переходили от одного владельца к другому. Обшивка пилястров, представлявшая собою как бы ниши, куда можно было вставить иконы, сохранилась, а другие ровные части развалились или даже были нарочно расколоты и сожжены.
В первые же дни по прибытии в дом с кленами я сходил также оттуда со своим егерем через Эхерские горы в Эхерскую долину, где жил мастер, у которого егерь купил для меня цитру и у которого я хотел купить еще одну для сестры. Этот человек делал цитры для жителей всех окрестных гор и для рассылки. У него оказалось еще две точно таких же, как моя. Я выбрал одну из них, не найдя никакого различия в отделке и в звучании. Мастер сказал, что давно не делал таких хороших цитр и не скоро такие сделает. Все три, сказал он, из одного и того же дерева, которое он упорно искал и с большим трудом нашел. Такое он едва ли когда-либо еще найдет. Да и вряд ли будет делать такие драгоценные цитры, поскольку дальние его покупатели берут только заурядный товар, а жители гор, хоть и знают толк в качестве, за дорогими цитрами не гоняются.
Пьесы, которые играл со мной егерь, я старался записать как можно подробнее, чтобы сестра могла их разучить и играть. К цветению роз я отправился в Асперхоф и застал уже приготовленными для меня те две комнаты, где я жил прошлым летом.
В первый же день садовник Симон, пришедший ко мне из своей теплицы, сообщил мне, что cereus peruvianus находится в Асперхофе. Хозяин купил его в Ингхофе, и поскольку приобретение это сделано благодаря мне, он, Симон, должен выразить мне свою благодарность. Я хоть и поговорил с моим гостеприимцем о cereus'e, как то обещал садовнику, но не знал, велика ли моя заслуга в этом приобретении, и потому сказал, что принимаю благодарность только отчасти. Мне пришлось последовать за садовником в дом кактусов, чтобы посмотреть на cereus. Растение было посажено прямо в почву, для него в доме кактусов возвели особое сооружение, как бы башенку из двойного стекла, и с помощью подпорок, направлявших солнечные лучи на определенные места растения, старались помочь искривленному потолком ингхофской теплицы cereus'y выпрямиться и снова расти вверх. Я не думал, что это растение такое большое и что оно может стать таким красивым.
Поскольку отцу доставляли столько радости старинные вещи и его так обрадовали панели, привезенные ему прошлой осенью, я, прожив некоторое время в доме моего гостеприимца, обратился к нему с одной просьбой. Просьба эта давно была у меня на уме, но решился я на нее только теперь, встретив в доме роз столько теплоты и радушия. Я попросил у моего гостеприимца разрешения зарисовать и написать красками кое-что из его старинной мебели, чтобы показать отцу эти картинки, которые дадут тому более ясное представление о ней, чем мои описания.
Он очень охотно дал согласие и сказал:
— Если вы хотите доставить удовольствие вашему отцу, то рисуйте и пишите красками, как вам угодно, я не только ничего не имею против, но и позабочусь, чтобы в комнатах, которые вам понадобятся, все было тотчас устроено удобнейшим для вас образом. Если Ойстах может вам помочь, он сделает это, разумеется, очень охотно.
На следующий день в комнате, где стоял большой платяной шкаф, с которого я хотел начать, был установлен мольберт, а рядом с ним стол для чертежных работ — и то и другое к моим услугам. Шкаф был подвинут в более светлое место, а все окна, кроме одного, занавешены, чтобы изображаемый предмет был освещен с одной стороны. Ойстах отдал в мое распоряжение все краски на случай, если в тех, что я привез с собой, какой-то вдруг не окажется. Сразу же стало ясно, что рисунки надо делать цветные, потому что иначе нельзя дать представление о предметах, состоящих из дерева разных цветов.
Я тотчас приступил к работе. Мой гостеприимец позаботился, чтобы меня не беспокоили. Когда я рисовал, никто не смел входить в комнату, и вообще, пока в ней находились мои принадлежности, ею не разрешалось пользоваться для других надобностей. Тем более обязанным считал я себя ускорить свою работу.
Тем временем в Асперхоф приехали Матильда с Наталией, и они жили там же, где в прошлом году.
Я прилежно продолжал рисовать. Никто не выражал желания посмотреть мою работу. Я попросил у Ойстаха разрешения иногда обращаться к нему за советом, на что он с готовностью согласился. Поэтому время от времени я водил его в комнату, где работал, и он с большим знанием дела указывал мне, что надо улучшить. Только Густав проявлял любопытство к моему рисованию. Никаких слов он по этому поводу не говорил, но поскольку он ко мне так привязался, а нрава был очень открытого и прямого, мне не составило труда догадаться о его желании. Поэтому я пригласил его зайти ко мне в комнату в такое время, когда я там рисовал, и устроил так, чтобы часы рисования совпадали с его свободными часами. Он исправно приходил, смотрел, как я работаю, спрашивал меня о том о сем и наконец пожелал тоже попробовать написать нечто подобное. Поскольку мой гостеприимец ничего не имел против того, я позволил Густаву пользоваться своими красками, и он принялся за соседним столом рисовать тот же шкаф, что и я. В рисовании он был очень сведущ, наставником его был Ойстах. Но тот все еще не разрешал своему воспитаннику браться за краски, исходя из принципа, что сначала нужно добиться большой уверенности и ловкости в рисунке. Но позабавиться со шкафом — ибо то была всего лишь забава — он в виде исключения разрешил.
Вскоре я кончил первую работу. При точно и добросовестно воспроизведенных цветах изображение выглядело, пожалуй, еще прелестнее, чем сам предмет, потому что от уменьшения все стало изящнее.
Закончив этот рисунок, я показал его моему гостеприимцу и Матильде. Они одобрили его и предложили несколько маленьких изменений. Признав необходимость таковых, я тотчас их сделал. После этого и мой гостеприимец с Матильдой, и Ойстах сочли, что картина готова.
После платяного шкафа я взялся за письменный стол с дельфинами. Поскольку на первом рисунке я уже набил руку, дело со вторым пошло быстрее, и все удавалось легче и с ходу. Кончив, я показал и эту картину Матильде, моему гостеприимцу и Ойстаху. Густав тем временем тоже завершил свой рисунок большого шкафа и принес его. Немного посмеявшись над Густавом, ему, с другой стороны, указали, что следует изменить и добавить. Мне тоже предложили кое-какие поправки. Когда мы покончили с отделкой, мебель в комнате, где мы рисовали, была водворена на свои места, а мольберт и все наши принадлежности были из нее вынесены. В этой комнате я и собирался зарисовать только шкаф и письменный стол.
Затем я занялся еще несколькими небольшими предметами.
Тем временем в дом роз приезжали гости, мы сами навещали соседей, совершали прогулки, а вечерами часто сидели в саду, или перед розами, или под высокой вишней и говорили о разных вещах.
Как-то, когда я, ведя речь о штерненхофской мебели, заметил, что моего отца очень обрадовали бы ее зарисовки, Ойстах сказал, что ничто не помешает мне рисовать в Штерненхофе так же, как в асперском доме. Я не стал вдаваться в этот вопрос, не отваживаясь говорить об этом с Матильдой. На другой день Ойстах сообщил мне об ее согласии, а Матильда очень радушно пригласила меня и сказала, что в ее доме мне будут предоставлены все удобства. Я от души поблагодарил ее за доброту и через несколько дней поехал на лошадях моего гостеприимца в Штерненхоф, а Матильда с Наталией еще остались в доме роз.
В Штерненхофе, мне на удивление, все уже было приготовлено к моему приезду. Поскольку в замке были картины, имелось и несколько мольбертов, которые, мне на выбор, поставили в большой комнате, где находилась старинная мебель. Чертежный стол со всем необходимым тоже стоял уже в этой комнате. Я выбрал из мольбертов один, а остальные велел отнести на прежние их места. Стол я для удобства оставил у себя рядом с мольбертом. Почти все было теперь приспособлено для работы так же, как в Асперхофе. Да и мебель, которую я собирался рисовать, мне разрешалось передвигать к свету по своему усмотрению. Для житья и для сна мне приготовили ту же комнату, в которой я жил в свой первый приезд. Есть мне предложили либо в зале, где я работал, либо в моей жилой комнате. Я выбрал последнее.
Сначала я осмотрел мебель и наметил предметы для зарисовок. Затем я приступил к работе. Я трудился очень прилежно, чтобы непорядок, неизбежно учиняемый в доме моею работою, длился недолго. Поэтому целый день я не покидал зала и только вечером, когда смеркалось, или, утром, перед восходом солнца, выходил во двор или в сад, чтобы освежиться прогулкой на воздухе или просто постоять или посидеть на скамейке, оглядывая окружающие меня просторы. Часто, вымыв кисти, приведя в порядок и разложив по местам рисовальные принадлежности, которыми пользовался в течение дня, я сидел в саду под старыми высокими липами и предавался своим мыслям, пока сквозь листья не проливался багрянец поздней зари и тени на песке не сгущались настолько, что мелких предметов, лежавших на нем, не было уже видно. Но еще чаще я бывал на площадке за обвитой плющом стеной, откуда виден был замок и за ним открывался вид на окрестности и на горы. Стояла тишина, ясное вечернее небо простиралось над замком, на его крышах поблескивали острия флюгеров, покой ниспадал на зеленую землю, и все мягче становилась синева гор. Иногда, в особенно жаркие дни, я заходил и в грот, где была мраморная нимфа, радовался царившей там прохладе, смотрел на ровно текущую воду, смотрел на все тот же мрамор, на котором лишь изредка вздрагивал зайчик, когда в воду попадал поздний луч и она отбрасывала его на изваяние.
В замке было очень пустынно, слуги находились в своих отдаленных комнатах, целые ряды окон были закрыты спущенными занавесками, и редко кто-нибудь проходил за водой к фонтану во дворе, однозвучно журчавшему между высокими кленами. Из-за этой тишины я тем больше думал об отсутствовавших сейчас обитательницах замка, мне виделись их следы и казалось, что я вот-вот встречу обеих. Лучше бывало, когда я выходил в окрестности. Там жили звуки работы, там я видел веселых, занятых делом людей и подвижных животных, им помогавших.
В замке имелся некий управляющий, которому, видимо, было поручено заботиться обо мне, по крайней мере он делал все, что считал необходимым для моего удобства. Он часто спрашивал меня о моих желаниях, посылал на мой стол больше, чем нужно было, кушаний и напитков, постоянно заботился о свежей воде, свечах и других вещах, доставил мне в комнату кучу книг, взяв их, вероятно, из здешней библиотеки, и полагал, что вежливость обязывает его нет-нет да поговорить со мною несколько минут. Я старался как можно меньше пользоваться всеми благами, предоставленными мне в этом замке, и даже не ходил на хутор, где кипела жизнь, чтобы своим появлением или присутствием не помешать кому-либо в работе.
Покончив с выбранными предметами, я не прекратил рисования: они влекли за собой другие работы, это объяснялось тем, что один предмет требовал другого — по той причине, что мебель этой комнаты и соседних покоев составляла одно целое, которое нельзя было представить себе разрозненным. Но я не напрасно набил руку и в конце концов стал делать за один день больше, чем прежде за три.
Однажды меня навестил Ойстах. Я усмотрел в этом знак, что мне предоставляют возможность спросить у него совета. Так и поступив, я был рад его словам и последовал его мнениям. Он сообщил мне также, что Матильда и Наталия собираются еще долго пробыть в Асперхофе. Помня, что в прошлом году их пребывание в доме роз было гораздо короче, я подумал: не для того ли они решили нынче погостить в нем дольше, чтобы мне вольнее работалось в Штерненхофе. Так ли это было или нет, я не знал, но так могло быть, и потому я решил сократить свое рисование. Должен же я был когда-то кончить, ведь всей мебели я зарисовать не мог. Я назвал Ойстаху срок, за который управлюсь. Он пробыл в замке два дня, что-то измерил, что-то обследовал в разных комнатах и возвратился в дом роз.
Прежде чем я все закончил, приехали все из Асперхофа и пробыли в замке несколько дней. Я показал сделанное, и произошло то же, что и в доме роз. В общем мою работу одобрили, указав то, что требовало поправок. Уже в зарисовках асперхофской мебели я применял масляные краски, потому что обращаться с ними стал постепенно ловчее, чем с акварельными, и потому что они производили гораздо большее впечатление. Штерненхофскую мебель я тоже писал масляными красками, и эти зарисовки удались намного больше, чем те, в доме роз. Я согласился со сделанными мне предложениями и запомнил их, чтобы выполнить.
Из Штерненхофа Ойстах вернулся опять в дом роз, а мой гостеприимец, Матильда, Наталия и Густав предприняли небольшую поездку.
Да и я задержался в Штерненхофе уже не надолго. Исправив то, что мне предложили и что я сам за это время почел нужным исправить, я подождал, пока все хорошенько не высохнет, чтобы это упаковать и сохранить для отца. Упаковав рисунки, я от души поблагодарил управляющего за внимательность, роздал девушкам, которым пришлось потрудиться ради меня, заранее приобретенные для этой цели подарки и сел в коляску, которую управляющий предоставил мне для возвращения в дом роз.
Когда я прибыл туда, мой гостеприимец и его общество успели уже вернуться из поездки. Я остался с ними еще на несколько дней, а потом попрощался и отправился назад, в дом с кленами, к своим работам.
Эти работы я старался выполнить побыстрее. Но все теперь стало другим и приняло в моей душе другую окраску.
Когда я весной покинул город и шел следом за медленно поднимавшейся в гору коляской, я как-то остановился у кучи вытащенной из русла реки и насыпанной у дороги гальки. Я разглядывал ее чуть ли не с благоговением. В красных, белых, серых, черно-желтых и пестро-крапчатых камешках, сплошь плоско-округлых, я узнавал посланцев наших гор, я знал каждый из них по его родным скалам, от которых он оторвался и был послан сюда. Здесь он лежал среди товарищей, чье место рождения находилось порой на расстоянии многих миль от его собственного, и все они приняли одинаковую форму и ждали, когда их разобьют и вдавят в дорогу.
Особенно думалось мне: зачем все сущее, как оно возникло, как взаимосвязано и как обращено к нашей душе.
Однажды, спустившись в солнечный послеполуденный час к озеру, я задумался над тем, что снижающиеся горы красивее всего обычно у водной глади. Случайно ли это, воды ли, спеша к озеру, так красиво избороздили, издолбили, разрезали, распороли горы, или наше ощущение вызвано противоположностью воды и гор: ведь вода образует мягкую, гладкую, нежную плоскость, которую на самом деле разрезают грубые подводные камни, канавы и борозды, но под водой ничего этого не видно, что и усугубляет загадочность? Я подумал тогда: будь вода прозрачнее, пусть не так же прозрачна, как воздух, но почти так же, видна была бы вся внутренность водоема, не так, правда, ясно, как в воздухе, а в зеленоватой влажной пелене. Зрелище было бы, наверно, очень красивое. Вследствие этой мысли я задержался у озера, поселился на постоялом дворе и стал измерять глубину воды в разных местах, расстояние которых от берега определял с помощью мерного шнура. Я думал, что таким образом можно приблизительно узнать форму дна озера и начертить карту, отличая подводную часть от наружной более мягкими зеленоватыми красками. Я решил продолжить эти измерения, как только представится случай.
Такие занятия навели меня на размышления о странностях образовавшихся на земле форм. В дне озера я углядел долину, где, в отличие от других долин, наполненных тысячами растений и обломков, упавших с гор, долин с прекрасным чередованием растений и камней, во впадине не образуется плодородной почвы, а накапливаются мало-помалу окатыши, поднимая дно и заполняя расселины. Сюда надо прибавить глыбы, падающие в озеро прямо с откосов и холмы, сносимые в озеро чрезвычайными паводками и затем сглаживаемые ударами волн. За тысячи и тысячи лет бассейн все более наполняется, и вот, через сотню или сотни тысячелетий, озеро перестает существовать, и по чудовищной толще окатышей ходят люди, на ней зеленеют растения и даже растут цветы. Я знал и места, которые были когда-то дном озера. Река, мать этого озера, прорывала себе все более глубокое русло, понижая уровень воды в озере, дно его поднималось, пока не стало долиной, и берега его тянутся теперь зелеными валами, красуясь пышными травами, цветущими кустами и веселыми человеческими жилищами, а то, что когда-то было могучей водой, змеится теперь узкой блестящей ленточкой.
С озера я осматривал пласты скальных пород. То, что происходит при расслоении кристаллов, наблюдается здесь в увеличенном виде. В одних местах наклон один, в других — другой. Падали ли когда-то эти огромные пласты, поднимались ли, поднимаются ли и ныне? Я зарисовывал эти напластования, передавая их прекрасные соотношения и отклонения от горизонтальной плоскости. Когда я так оглядывал пласт за пластом, у меня было ощущение некоей неведомой истории, которую я не мог разгадать, хотя какие-то отправные точки для догадок существовали же.
Глядя на куски неодушевленных тел, предназначенные для моих коллекций, я замечал, что тела эти в разных местах разные, что порой огромные массы одного и того же вещества нагромождены горами, а порой на небольшом расстоянии чередуются небольшие пласты. Откуда они взялись, как скопились? Распределены ли они по какому-то закону и как этот закон возник? Порой части какого-то большого тела во множестве или поодиночке попадаются в местах, где самого этого тела нет, где им не следовало бы попадаться, где они чужие. Как попали они сюда? Вообще каким образом в том или ином месте возникло именно данное вещество, а не другое? Откуда взялась общая форма гор? Предстает ли она еще в своем чистом виде или уже претерпела и еще претерпевает какие-то перемены? Как образовалась форма самой земли, как избороздилось ее лицо, велики ли пустоты или невелики?
Если вернуться к своему мрамору — как поразителен мрамор! Куда делись животные, чьи следы мы догадливо различаем в этих образованиях? Сколь давно исчезли гигантские улитки, память о которых передана нам здесь? Память, уходящая в далекие времена, никем не измеренные, никем, быть может, не виданные и длившиеся дольше, чем слава любого смертного.
Я обратил внимание на один факт. Мне встречались мертвые леса, как бы усыпальницы костей леса, только кости не были собраны в каком-то зале, а еще прямо стояли на своей земле. Белые, ободранные, мертвые деревья в большом количестве, отчего и надо было полагать, что на этом месте стоял лес. Деревья были соснами, или лиственницами, или елями. Дерево на этом месте уже не могло вырасти, только ползучие растения, да и те редко, обвивали мертвые стволы. Обычно земля здесь покрыта галькой или большими, обросшими желтым мохом камнями. Единичный ли это факт, вызванный лишь какими-то особыми местными причинами? Связан ли он с общей историей земли? Может быть, горы сделались выше и подняли свой лесной наряд в более высокие, смертоносные слои воздуха? Или изменилась почва, или ледники располагались иначе? Но ведь лед когда-то доходил до более низких мест. Как все это произошло?
Возможно ли, что многое, что все еще раз изменится? С какой быстротой это происходит? Если под воздействием неба и его вод горы будут постоянно крошиться, если их обломки будут падать вниз и разламываться дальше и, наконец, в виде песка или гальки, будут смыты в низины, — как далеко это зайдет? Долго ли это уже продолжалось? Неизмеримые слои гальки на местности свидетельствуют, что долго. А долго ли еще это будет длиться? До тех пор, пока воздух, свет, тепло и вода остаются собой. Значит, когда-нибудь горы исчезнут? А равнину будут прерывать лишь плоские, незначительные пригорки и холмы, да и те будут размыты? Уйдет ли тогда тепло во влажные низины или в глубокие, жаркие расселины, а холодный воздух высот перестанет влиять на землю и поэтому все края в наших странах будет обтекать одно и то же прохладное вещество, что изменит условия существования всех растений? Или же энергия, поднимающая горы, жива и ныне и они благодаря внутренней силе возмещают или превосходят высоту, утраченную под воздействием извне? Иссякает ли эта подъемная сила? Продолжает ли через миллионы лет земля остывать, становится ли ее кора толще и потому горячая река в ее недрах уже не способна вытолкнуть на поверхность свои кристаллы? Или же она медленно и незаметно раздвигает края этой коры, постоянно пробивая сквозь нее свои наносы? Если земля излучает тепло и все более охлаждается, не становится ли она меньше? Не уменьшаются ли тогда и скорости вращения? Не меняет ли это пассатов? Не изменяются ли ветры, облака, дожди? Сколько миллионов лет должно пройти, чтобы человеческий инструмент смог измерить эту перемену?
Такие вопросы настраивали меня на серьезный и торжественный лад, казалось, я стал жить более содержательной жизнью. Хотя я собирал свои коллекции не так усердно, как раньше, внутренне я как бы обогащался гораздо больше, чем в прежние времена.
Если какая-нибудь история стоит раздумья и исследования, то это история земли, самая многозначительная, самая увлекательная, история, в которой история людей — лишь вставка, и кто знает, сколь малая, ибо она — часть других историй, быть может, высших существ. Источники для истории земли она сама хранит внутри себя как в книгохранилище, эти источники заключены в миллионах, может быть, грамот, и нам нужно только уметь читать эти грамоты и не искажать их своей упрямой самоуверенностью. Кому предстанут эти истории с полной ясностью? Придет ли такое время или полностью знать их будет всегда только тот, кто знал их извека?
От таких вопросов я убегал к поэтам. Возвратившись из долгих походов в дом с кленами или живя вдали от него где-нибудь в хижине на горном пастбище, я читал сочинения автора, не решавшего никаких вопросов, а выражавшего мысли и чувства, которые походили на решение в прелестной оболочке и были подобны счастью. У меня были разные авторы этого толка. Среди книг попадались и начиненные напыщенными словами. Они изображали природу внутри и вне человека не такою, какова она есть, а старались приукрасить ее для вящего впечатления. Как может кто-то, кому не свято то, что есть, сотворить нечто лучшее, чем сотворенное Богом? Естествознание приучило меня обращать внимание на свойства вещей, любить эти свойства и чтить сущность вещей. У напыщенных авторов я не находил этих признаков, и мне становилось смешно, когда кто-то, ничему не научившись, хотел что-то создать.
Мне нравились те авторы, которые, зорко взглянув на вещи и на события, соразмерно представили их на фоне собственного внутреннего величия. Другие передавали чувства с прекрасной нравственной силой, которая производила на меня глубокое впечатление. Невероятна власть слов. Я любил слова, любил их творцов и часто мечтал о каком-то неопределенном, неведомом счастливом будущем.
Древние, которых я, как когда-то мне думалось, понимал, предстали мне теперь другими, чем прежде. Мне казалось теперь, что они естественнее, правдивее, проще и крупнее, чем авторы нового времени, что их серьезность, их уважение к себе не допускает излишеств, которые в позднейшие времена считались прекрасными. Гомера, Эсхила, Софокла, Фукидида я брал с собой почти во все свои походы. Чтобы понимать их, я заглядывал во все рекомендованные мне учебники греческого языка. Но всего полезнее для понимания само чтение. Древних историков я причислял к поэтам, к которым они, на мой взгляд, были ближе, чем новые.
Занимался я тогда и живописью. Горы предстали мне во всей своей красоте и целостности, какими я никогда их прежде не видел. Для моих исследований они всегда были некими частями. Теперь они были картинами, как прежде были только предметами. В картины можно было погружаться, потому что они обладали глубиной, предметы же всегда были распластаны для обозрения. Как раньше я зарисовывал создания природы для научных целей, как пришел через эти зарисовки к применению красок, как еще недавно рисовал и писал красками мебель, так и теперь пытался я нарисовать на бумаге или написать масляными красками на холсте всю панораму парящей в дымке, отличимой от неба гряды гор. Я сразу увидел, что это гораздо труднее, чем прежние мои усилия, потому что тут надобно было передать пространство, представавшее не в каких-то данных размерах и не в своих естественных цветах, а как бы душою всего, а раньше мне нужно было только перенести в свою папку тот или иной предмет с известным соотношением линий и свойственным ему цветом. Первые попытки не удались полностью. Но это не отпугнуло меня, а, напротив, раззадорило. Я предпринимал все новые и новые попытки. Наконец я перестал уничтожать свои пробы, как то делал прежде, и стал сохранять их для сравнения. Сравнение их постепенно показало мне, что пробы улучшаются, рисунок делается легче и естественнее. Было великое очарование в том, чтобы охватить то наслаждение, что заключалось в вещах, передо мной представавших, и чем больше я старался его схватить, тем прекраснее для меня это несказанное становилось.
Я оставался в горах, пока это было сколько-нибудь возможно и усиливающийся холод совсем не запретил работать на воздухе.
Поздней осенью я еще раз заглянул к своему гостеприимцу в дом роз. Это было в ту пору, когда в горах на высоких местах уже лежали снега, а низкие уже совсем оголились. Сад моего гостеприимца стоял голый, улья были укутаны соломой, в ветках без листьев верещали только одинокие синицы или другие зимние птицы, а над ними в сером небе тянулись на юг серые клинья гусей. Долгими вечерами мы сидели у горящего камина, днем закутывали или еще как-либо защищали от мороза предметы, в этом нуждавшиеся, а иной раз, во второй половине дня, когда по холмам, долинам и равнинам расползался туман, ходили гулять.
Я показал моему гостеприимцу свои попытки писать пейзажи, считая некоей неискренностью ничего не говорить ему о перемене, во мне происшедшей. Я очень стеснялся демонстрировать ему свои пробы, но все-таки сделал это, причем в присутствии Ойстаха. Сначала, однако, я объяснил, как постепенно взялся за эти вещи.
— Так бывает со всеми, кто часто ходит в горы и обладает силой воображения и некоторой ловкостью рук, — сказал мой гостеприимец. — Нечего вам чуть ли не извиняться, можно было ожидать, что вы не ограничитесь собиранием камней и окаменелостей, это естественно, и это хорошо.
Наброски были разобраны внимательнее и подробнее, чем они того заслуживали. Просмотрев каждый лист по нескольку раз, мой гостеприимец и Ойстах говорили со мной о сделанном. Они были единодушны во мнении, что естествоведческая сторона удавалась мне гораздо больше, чем художественная. Камни, находящиеся на переднем плане, растения вокруг них, какая-нибудь старая деревяшка, валяющаяся поблизости, выступы валунов, даже вода непосредственно внизу переданы, мол, верно во всем их своеобразии. А дали, большие площади тени и света на горных массивах и отступающий назад небосвод у меня не получались. Мне объяснили, что я был слишком определенен не только в красках, что я писал не то, что видел вдали мой глаз, а то, что подсказывало мне сознание, что предметы заднего плана даны у меня слишком крупно, они показались моему глазу большими, и я передавал это смещением линий кверху. Но тем и другим, четкостью письма и увеличением далей я приближал таковые и лишал той величественности, которая на самом деле в них есть. Ойстах посоветовал мне покрыть канадским бальзамом стеклянную пластинку, чтобы та стала чуть шероховатее и приглушала краски, но прозрачности не утратила, и через эту пластинку рисовать кисточкой дали с более близкими на границе с ними предметами, и тогда я увижу, какими маленькими покажутся самые высокие и раскинутые горы и какими большими ближайшие мелочи. Но этот способ он рекомендует только для того, чтобы осознать соотношения и найти меру, а не затем, чтобы делать художественные снимки с пейзажей, потому что при таком способе пропадают художественная свобода и легкость, которые составляют суть и душу изобразительного искусства. Надо только упражнять и учить глаз, творить должна душа, а глаз должен служить ей. По поводу окраски далей Ойстах дал мне совет: если я сомневаюсь, вижу ли я что-то или только знаю, лучше вообще не передавать этого в красках, лучше быть менее, чем более определенным, потому что это придает предметам величественность. От неопределенности они отдаляются и от этого становятся больше. Линиями карандаша на маленьком листе или маленьком холсте ничего нельзя сделать большим. От большей четкости тела́ придвигаются ближе и уменьшаются. Раз уж вообще приходится поступаться точностью — ведь никто не в силах передать вещи, особенно пейзажи, во всей их сути, — то лучше уж придавать предметам величественность и обозримость, чем воспроизводить слишком много отдельных признаков. Первое художественнее и действеннее.
Я был вполне согласен со сказанным и знал, как возникли ошибки, о которых мне говорили. До сих пор я зарисовывал всяческие предметы, имея в виду свою науку, а в ней признаки — главное. Их нужно было передать в рисунке, и точнее всего именно те, которыми отличаются эти предметы от родственных. Даже когда я рисовал лица, их линии, их плоть, их светотень были непосредственно передо мной. Поэтому даже в далеких предметах, при всей их нечеткости, мой глаз приучился видеть особенности, какими те действительно обладали, и зато меньше подмечать то, что придали им воздух, свет и туман, даже мысленно отбрасывать эти прибавки как помехи для наблюдения, не обращать на них внимания. Благодаря суждениям своих друзей я вдруг уразумел, что то, что всегда казалось мне до сих пор несущественным, нужно принимать во внимание и узнавать. От воздуха, света, тумана, облаков, от близости других тел предметы приобретают иной вид, и до этого я должен доискиваться, эти причины я должен по возможности изучать так, как прежде изучал признаки, сразу бросавшиеся в глаза. Таким путем можно добиться удачи в изображении тел, плавающих в среде и в окружении других тел. Я сказал это своим друзьям, и они одобрили мое решение. Когда туман и вообще пасмурная погода позволили взглянуть вдаль, сказанное словами пояснялось и подлинными примерами, и мы говорили о том, какой вид принимали далекие горы или их части или более близкие, отделяющиеся от главного хребта зе́мли. Неимоверно многому научился я в тот короткий осенний срок.
Я говорил с моим гостеприимцем о поэтах, которых я читал, и рассказал ему о большом впечатлении, которое производили на меня их слова. Как-то мы зашли в его библиотеку, он подвел меня к шкафам, где стояли поэты, и показал мне, что у него по этой части есть. Он сказал также, что во время пребывания в его доме я могу пользоваться книгами как мне угодно — читать их в комнате для чтения или брать в свои покои. Были здесь книги на древних языках, от Индии до Греции и Италии, были сочинения нового времени, да и новейшего. Многочисленнее всех были, естественно, книги немцев.
— Я собрал эти книги, — сказал мой гостеприимец, — хотя понимаю отнюдь не все, ибо язык иных мне совершенно незнаком. Но жизнь научила меня, что поэты, если они настоящие поэты, принадлежат к величайшим благодетелям человечества. Они — священнослужители красоты и, как таковые, передают нам, при вечном изменении взглядов на мир, на назначение человека, на его участь и даже на дела божественные, то, что вечно живет в нас и всегда дарит нам счастье. Они дают его нам в облике прелести, которая не стареет, которая просто являет себя и не хочет ни судить, ни осуждать. И хотя все искусства несут нам это божественное начало в прелестной форме, они привязаны к определенному материалу, который передает эту форму: музыка — к звуку и тембру, живопись — к линиям и цвету, скульптура — к камню, металлу и тому подобному, архитектура — к большим массам земного вещества. С этими материалами они должны больше или меньше бороться. Только у поэтического искусства почти нет материала, мысль в ее самом широком значении, слово — не материал, оно только носитель мысли, подобно тому, например, как воздух доносит звук до нашего уха. Поэтому поэтическое искусство — самое чистое и высокое из искусств. Держась такого мнения, я и собрал здесь авторов, которых голос времени назвал великими в искусстве поэзии. Я включал в их число и поэтов чужих, непонятных мне языков, если только знал, что они славятся в истории своего народа, и если получал от специалиста свидетельство, что в данной книге представлен такой поэт, какого я имею в виду. Пусть они стоят здесь непонятые, или пусть придет в этот зал кто-нибудь, кто иное поймет и прочтет. Поставил я сюда, правда, и книги, которые нравятся мне, хотя время вынесло иной приговор или еще вовсе не вынесло, эти книги доставили мне много радости, и в старости чуть ли не больше, чем в молодости. Хотя молодость вбирает в себя слова золотых уст с бурным восторгом, хотя она мечтательно лелеет их в сердце, согревает ее больше тепло собственного чувства, чем способность разумно и проницательно оценить чужую мудрость и чужое величие. Вы сами молоды, и, наверное, глубина и искренность поэтического искусства поощрят вас, откроют ваше сердце всему великому, как то всегда происходит в молодости при соприкосновении с чистой поэзией. Но когда-нибудь вы сами увидите, насколько мягче и яснее светит, озаряя величие чужого ума, догорающее солнце старости, чем огненное утреннее солнце юности, окрашивающее все своим сиянием, — точно так же ведь искренняя, истинная и верная любовь стареющей супруги дает более прочное и долгое счастье, чем пылкая страсть молодой, красивой, блестящей невесты. Молодость видит в поэзии беспредельность и бесконечность собственного будущего, это прикрывает недостатки и возмещает отсутствующее. Молодой человек привносит в произведение искусства то, что живет в его собственном сердце. Вот почему произведения весьма разной ценности могут одинаково восхищать молодых, а самые великие труды, если это не отражения расцвета юности, не воспринимаются ими. Даже такие, ушедшие уже в очень далекое прошлое взлеты юности, как тоска первой любви с ее темнотой и беспредельностью, как опьяняющее блаженство ответной любви, как мечты о будущих подвигах и величии, как видение бесконечной, лишь предстоящей жизни, как первый лепет в каком-нибудь искусстве, — даже они доставляют старику, в мягком зеркале его памяти, больше счастья, чем юноше, который не замечает их в бурлении своей жизни, и слеза на седых ресницах бывает блаженнее, а порой и больнее, чем пламень, который вспыхивает от избытка чувств в глазах юноши и не оставляет следа. Я редко теперь читаю подряд величайших писателей — с авторами помельче я поступаю так, наверное, потому, что в отдельных местах они не очень значительны, — но читаю их всегда и буду, наверное, читать до конца своих дней. Они сопровождают своими мыслями и услаждают остаток моей жизни и, предчувствую, возложат мне у гробового входа венки, словно бы сплетенные из моих собственных роз. Потому я и не выпускаю ни одной книги из дому, что не знаю, не понадобится ли она вскоре мне самому. В доме они к услугам любого, кто хочет ими воспользоваться. Только для Густава делается выбор, потому что он еще слишком юн и не может во всем разобраться. Разумеется, ничего совсем уж плохого он здесь не нашел бы. Но не все хорошее он понял бы, и тогда затраченное на это время пропало бы зря. Или он понял бы это превратно, и тогда успех был бы ложный. Плохое, выдающее себя за искусство поэзии, очень опасно для молодых. В науке такое обнаруживается гораздо легче. В математике это проявляется в изложении, ведь вряд ли встречаются такие труды, где даже суть дела переврана, в естествознании — как в изложении, так и в сути дела, когда та принимает форму смелых утверждений. Только в так называемом учении о мудрости это можно, как и в поэтическом искусстве, скрыть лучше, потому что иное учение о мудрости составлено как поэтическое произведение и воспринимается так же. А в произведениях собственно поэтических плохое прячется от цветущей души юноши, он накладывает на них ее цветы и желания и впивает отраву. Ясный ум, приученный с детства именно к ясности, и доброе, чистое сердце — это надежная защита от подлости и безнравственности литературных сочинений, потому что ясный ум отталкивает от себя пустую болтовню, а чистое сердце отвергает безнравственность. Но то и другое происходит только в том случае, если подлость откровенна. Там, где она окутана обаянием и смешана с чем-то чистым, — там-то и таится опасность, там-то и нужна помощь отеческих советчиков и друзей, чтобы те и просвещали неопытных, и предотвращали грозящее зло. Против скверного изложения и его скуки не требуется никакого средства, кроме них самих. Вы хоть и молоды еще, но стали читать писателей не в столь молодом возрасте, как большинство юношей, да и так много занимались науками, что вам, я думаю, можно дать в руки любых писателей, не опасаясь даже очень сомнительных в своем звании. Ваш ум, надеюсь, во всем разберется и как раз от этого станет еще яснее. Поскольку я упоминал о науке, которую в нашем немецком краю все еще определяют греческим словом «философия» как любовь к мудрости, я должен сказать вам то, что вы, может быть, уже заметили по другим моим речам, — что я не очень высокого о ней мнения, когда она притязает на самостоятельность и самобытность. Я добросовестно изучал старые и новые труды этой науки, но я слишком много занимался природой, чтобы придавать вес просто рассуждениям без определенной основы, да они мне просто противны. Может быть, мы еще поговорим как-нибудь об этом предмете. Если я и научился какой-то мудрости, то отнюдь не по учебникам мудрости в собственном смысле слова, тем более не по новым — теперь я уже их не читаю. Почерпнул я ее у поэтов или из истории, которая, в общем-то, представляется мне самым предметным поэтическим произведением.
Слушая эту речь моего гостеприимца, я вспомнил, что действительно часто видел его за чтением. То он сидел с книгой под тенистым деревом или в более суровое время года на солнечной скамейке, то брал книгу с собой на прогулку, очень часто он бывал в зале для чтения и частенько уносил книги в свой кабинет. Во время нашей последней поездки в Штерненхоф он брал с собой книги, и, кажется, я слышал от Густава, что он берет с собой книги в любую поездку.
В это свое пребывание в доме роз я очень часто ходил в библиотеку, и если прежде я стоял перед шкафами с трудами по естествознанию и брал с собой ту или иную книгу в комнату для чтения, то теперь я просматривал множество книг, стоя перед шкафами с поэтами, а иные уносил в читальную залу или, с разрешения моего гостеприимца, к себе в комнату и заносил некоторые заглавия в свою записную книжку, чтобы, когда вернусь домой, купить заинтересовавшую меня книгу.
Под конец моего пребывания в этом доме выдалось несколько солнечных дней, я зарисовал и написал красками несколько фрагментов прекрасных здешних паркетов. Сделал я это для того, чтобы отец мог нагляднее представить себе все мною увиденное.
Когда приблизился день моего отъезда, мой гостеприимец сказал, что должен еще кое-что обсудить со мною, и молвил:
— Раз уж ваша натура сама вытащила вас из круга, вами себе намеченного, раз уж вы к прежним своим устремлениям прибавили интерес к поэзии, — ведь и пейзажная живопись была уже неким переходом в область искусства, неким шагом из вашего круга, — позвольте мне как другу, желающему вам добра, сказать несколько слов. Вам следует расширить свое поприще. Когда жизненные силы действуют одновременно во всех или во многих направлениях, человек, именно потому, что все его силы применены, получает больше удовлетворения и осуществляет себя полнее, чем если какая-то сила направлена только в одну сторону. Душа тогда обретает большую цельность и твердость. Устремленность в одну сторону связывает ум, мешает ему видеть то, что лежит рядом, и уводит его в область фантазий. Позднее, когда основа заложена, человек должен вновь обратиться к чему-то одному, если хочет совершить что-то значительное. Тогда он уже не впадет в односторонность. В юности нужно упражнять себя всесторонне, чтобы в зрелые годы именно благодаря этому быть годным для чего-то одного. Я не говорю, что нужно по всем направлениям погружаться в глубочайшие глубины жизни, например, во все науки, как то вы сами когда-то попробовали. Это было бы непосильно или даже убийственно, да и вообще невозможно. Нет, нужно наблюдать окружающую нас жизнь, нужно поддаваться воздействию ее проявлений, чтобы те оставляли свои следы незаметно и неосознанно, а не подчинять эти проявления науке. В этом, я думаю, состоит естественное знание ума — в отличие от намеренного пестования такового. Он мало-помалу справляется с событиями жизни. Вы, по-моему, слишком рано занялись одной-единственной областью, отвлекитесь немного. Потом вы приметесь за нее с большей свободой и большим размахом. Посмотрите и на незначительные, даже ничтожные явления жизни. Отправляйтесь в город, постарайтесь разобраться в тамошних событиях, возвращайтесь потом к нам в деревню, поживите у нас праздно, то есть делайте, что вам заблагорассудится в эту минуту, насладимся этим домом и садом, навестим соседа Ингхейма, съездим к другим, дальним соседям и не будем ни во что вмешиваться, пусть все идет как идет.
Я поблагодарил его за советы, сказав, что и сам чувствую в себе что-то подобное, что я, наверное, немного беспомощен перед жизнью, что мои родители и доброжелательные друзья, наверное, ко мне снисходительны и что я благодарен за всякое указание. Особенно же я рад его приглашению и воспользуюсь им с великой радостью.
Когда настало время моего отъезда, я упаковал свои рисунки и все, что у меня было в доме роз, тепло простился со стариком, Густавом, Ойстахом и Роландом, который как раз приехал, попрощался со всеми обитателями дома, сада и хутора и отправился назад в столицу, к своим родным.
Первым, что я там увидел после искренне радушной встречи, было то, что за лето отец перестроил полустеклянный-полудеревянный домик, где висело старинное оружие, тот обвитый плющом домик, который представлял собой, в сущности, пристройку к правому крылу дома или как бы выходящий в сад эркер. Отец значительно увеличил его, но сохранил прежний стиль планок, переплетов и рам, в которых держалось стекло, только теперь они были сделаны из нового материала и украшены прекрасной резьбой. Карнизы крыши были изготовлены в средневековой манере и тоже с резными украшениями. Плющ снова был направлен по рейкам вверх и заглядывал внутрь через стекло во многих местах. Окна теперь не отворялись наружу и внутрь, как раньше, а раздвигались. Самое же большое изменение заключалось в том, что отец установил два столба, тогда как раньше обе наружные стены были сплошь из стекла. Оба эти пилястра имели точно те размеры, какие требовались для того, чтобы к ним подошли панели, привезенные мною прошлой осенью. Но панелей на них еще не было, потому что сначала должна была высохнуть кладка, чтобы не причинить вреда деревянной обшивке. Отец только рассказал мне обо всем этом плане и о том, что делается, чтобы его исполнить. С одной стороны, я был рад, что отец так высоко оценил это художественное изделие из дерева, что перестроил домик единственно для того, чтобы создать для моих панелей надлежащее место, с другой стороны, я еще пуще огорчился, что не сумел найти дополнений к ним. Я поведал отцу о своих усилиях и о своем огорчении из-за их безуспешности. Отец и мать утешили меня, сказав, что и в таком виде все довольно красиво, не нужно упрямо домогаться того, что безвозвратно пропало, а надо радоваться тому, что милость случая нам еще сохранила. Домик этот станет памятником, и, приходя в него, когда он примет окончательный вид, каждый будет представлять себе то время, когда были сделаны эти панели, и то, когда один хороший сын привез их с гор на радость отцу.
Я, хоть и с трудом, успокоился. Теперь только я и увидел, как это было бы красиво, если бы облицовка шла по всей внутренней части домика и над нею светились с одной стороны пилястры, а с другой — окна.
Спустя несколько дней, прошедших с тех первых разговоров, какие всегда возникают в семье после поездки одного из ее членов, даже когда такие поездки повторяются каждый год, — а тем временем прибыли мои чемоданы и ящики, — я показал отцу зарисовки мебели и полов, сделанные мною в доме роз и в Штерненхофе. Мне было очень любопытно, какое они произведут впечатление. Я дождался воскресенья, когда он бывал свободен и любил после обеда проводить время в кругу семьи. Я разложил листы перед ним на столе. Увидев их, он — мне кажется — поразился. Он внимательно разглядывал листы, брал каждый по нескольку раз в руки и долго не говорил ни слова. Наконец его впечатление перешло в нескрываемую радость. Он сказал, что мне невдомек, что я сделал, невдомек, как ценны эти вещи; их красоту и согласованность я прежде не передавал словами так верно, как это передано теперь красками и рисунком, хотя и в том, и в другом есть недостатки. В первые мгновения отец счел мебель, зарисованную мною в Штерненхофе, действительно старинной. Когда же я поведал ему, как в действительности обстоит дело, он сказал, что эти эскизы сделаны человеком необыкновенным, который, видимо, не только прекрасно знал, как делали и как сочетали мебель в старину, но обладал необыкновенным чувством красоты, если выбрал из множества традиционных форм то, что он выбрал. И подобрана эта мебель так безупречно, словно она была изготовлена для одной цели и в одно время. Действительно старинная мебель в доме роз тоже, сказал отец, необычайно красива, такой он еще никогда не видел, хотя знаком с самыми знаменитыми коллекциями города и некоторых замков. Таких изысканных вещей, как большой платяной шкаф и письменный стол с дельфинами, не найти, пожалуй, нигде. Они достойны стоять в императорских покоях.
Чтобы дать отцу более точное представление о человеке, сделавшем эскизы для Штерненхофа, я сказал, что видел в доме роз множество чертежей и рисунков, которые изображают куда более значительные предметы и выполнены с несравнимо большим совершенством, чем мои зарисовки. Эти-то работы и послужили образцами тому человеку и помогли ему сделать такие эскизы, какие он сделал.
Отец, казалось, пропустил мои слова мимо ушей, он положил какой-то лист, взял другой и стал рассматривать его.
— Насколько я могу судить по картинкам, — сказал он, — старинные предметы, которые я благодаря тебе вижу, сделаны не просто прекрасно, а еще и, как показывают цвет и рисунок, очень целесообразно. По сравнению с ними моя мебель — пустяк, и по этим листам я вижу, как надо делать дело, когда на то есть время, знания и средства.
Теперь я был рад не столько тому, что напал на мысль зарисовать для отца эти вещи, сколько интересу, который он к ним выказал, и удовольствию, которое они доставили ему.
— У тебя теперь два пути, — заметила мать, — либо заказать по этим рисункам такие же вещи и любоваться ими постоянно, либо же поехать в Асперхоф и Штерненхоф и увидеть их воочию, чтобы радоваться, пока они будут перед тобою, и наслаждаться воспоминаниями, когда ты вернешься домой.
Отец отвечал:
— Заказывать мебель по этим рисункам нелепо. Во-первых, на то нужно согласие владельца, а во-вторых, даже будь таковое получено, в моих глазах эти предметы не имели бы истинной ценности, потому что они были бы только, как говорят художники, копиями. Приходит еще мысль набросать по этим рисункам, с разрешения хозяина, какие-то новые наборы и поручить кому-то их изготовить. Однако это требует такого умения, какого я не только не нахожу в себе, но и не жду от известных мне в нашем городе мастеров на подобные дела. И в конце концов эти изделия были бы всего-навсего полукопиями. Стало быть, изготовление отпадает. Что касается второго пути, то им я определенно пойду. Я и раньше-то, слушая рассказы об этих вещах, положил себе съездить к ним. А уж теперь, увидев эти рисунки, я совершу такую поездку не только с тем большей определенностью, но и в гораздо более близкое время, чем то, вероятно, произошло бы в ином случае.
— Это будет чудесно! — воскликнули мы все почти в один голос.
Мать сказала:
— Сейчас бы ты и назначил время и договорился с сыном, чтобы он отвез тебя в дом роз к старику, а тот бы уж и проводил тебя в Штерненхоф.
— Не торопите только, — отвечал отец, — сказано: съезжу. Человек, зависящий от своего дела, не вправе, поймите, связывать себя, не зная, какие могут возникнуть обстоятельства, требующие от него времени и действий.
Мать слишком хорошо знала его, чтобы настаивать, он все равно остался бы при своем мнении. Она удовольствовалась достигнутым.
И она, и сестра поблагодарили меня за то, что я привез отцу картинки, доставившие ему такое удовольствие.
— Полы, наверное, тоже превосходны! — воскликнул отец.
— Они гораздо красивее, чем то может передать нечеткая живопись, — ответствовал я. — Моя кисть все еще не способна воспроизвести блеск, нежность и шелковистость древесных волокон, а там все это так любят, что ступать на эти полы разрешается только в войлочных башмаках.
— Представляю себе, — отвечал отец, — представляю себе.
Затем я должен был назвать ему все использованные для мебели породы дерева, показанные на моих рисунках разными красками. Большинство он и без того узнавал, что меня радовало, доказывая, что я применял краски не наобум; породы, которых он не угадывал, я ему называл. Я сумел почти все назвать точно.
Он продолжал удивляться и пытался живо представить себе эту мебель.
Мать и сестра спросили меня, много ли времени ушло на эту работу и не угнетала ли она меня.
Я отвечал, что очень прилежно стремился к цели, что поначалу дело шло медленно, но постепенно я набил руку и стал продвигаться вперед гораздо быстрее, чем сам полагал прежде. А что касается угнетенности, то сначала я ее и правда чувствовал, но вскоре, под впечатлением от прекрасных вещей, вошел в раж, и она кончилась. А когда что-то получилось, особенно когда сам вид дерева стал как бы указывать мне нужную краску, ко мне быстро вернулась непринужденность, а к ней уж прибавилась и радость работы.
После этих слов отец показал мне и некоторые ошибки в моих рисунках и объяснил, как избегать их, если я еще когда-либо возьмусь рисовать подобные вещи. Владея картинами и много лет ими занимаясь, он, конечно, знал толк в этих делах, и признав его замечания совершенно верными, я почувствовал в себе способность работать в будущем лучше.
От ошибок отец перешел к достоинствам моей работы и сказал, что, зная рисунки голов, сделанные мною не очень давно, он не ожидал, что я смогу писать маслом так славно.
Эти воскресные послеполуденные часы прошли очень приятно и мило.
Приязнь, которую выказывала мне в этот день сестра, была для меня лучшей наградой, чем если бы какой-нибудь знаток сказал, что мои листы превосходны; похвала матери за то, что я думал об отце и отчем доме и из любви к ним взвалил на себя нелегкий труд, вызвала у меня самые приятные чувства, а когда и отец выразил мне свою благодарность тщательно выбранными словами и сказал, что никогда не забудет этой чуткости, я лишь с большим усилием удержался от слез.
Я отдал все листы ему в собственность, и он приложил их к своему собранию достопримечательностей.
На следующий день я вынул из упаковки цитры, положил обе перед сестрой и предоставил ей выбрать либо мою, либо ту, что я потом купил для нее. Она выбрала вторую и была очень этому рада. Показав ей и пьесы, записанные мною после игры моего наставника-горца, я оставил их в ее комнате, чтобы она могла переписать их и начать упражняться. Я обещал ей быть зимою ее учителем в этом искусстве.
Через некоторое время я извлек на свет и горные пейзажи, мною написанные. Я все не решался на это, но наконец меня стала сильно угрызать совесть, за то что я что-то утаиваю от своих близких. В одно из воскресений, после полудня, я показал отцу эти листы. Я изумленно взглянул на него, когда он, посмотрев их, сказал в точности то же, что сказал мой гостеприимец в доме роз и Ойстах. Те двое меня не удивили, потому что я считал их знатоками и они были жители гор. Отец же, хотя и собирал картины, был купцом и никогда долго не жил в горах. Мое почтение к нему возросло еще более. Он показал мне, где я соврал, и объяснил, как нужно было сделать, и я понял это мгновенно. То, что он похвалил и нашел верным, нравилось мне потом самому вдвое больше.
Клотильде мне пришлось еще раз показать эти листы, одной, в ее комнате. Она требовала, чтобы я чуть ли не все ей объяснил. Она никогда не бывала в высоких, хребтовых, так сказать, горах, и ей хотелось посмотреть, как это все выглядит, ее любопытство было сильно возбуждено. Хотя мои картины не были произведениями искусства, как я теперь все больше понимал, у них все же было одно достоинство, замеченное мною лишь позднее и состоявшее в том, что, в отличие от художника, я не стремился ни к композиционной завершенности, ни к цельности впечатления, ни к применению школьных правил, а без предварительной подготовки отдавался предметам и старался изобразить их такими, какими их видел. От этого мои картины хоть и теряли какой-то блеск, какое-то единство, но зато были правдивы в деталях и давали тому, кто не очень-то разбирается в живописи и никогда не видел гор, лучшее представление о них, чем красивые и художественно завершенные картины, если те не достигли того совершенства, которое несет в себе самую большую правду. По этой причине Клотильда, что-то смутно почувствовав, сказала мне, что теперь она знает, как выглядят горы, а из многих хороших картин она этого так и не могла узнать. Она выразила также желание увидеть высокие горы своими глазами и сказала, что, если отец поедет в дом роз и в Штерненхоф, что даст повод побывать и в горах, она попросит его взять ее с собой. Тут я довольно много рассказал ей о горах, описал их красоту и огромность, познакомил ее со всякими их особенностями и подробнее, чем обычно, объяснил ей цели разных своих походов в горы. Никогда я так много не говорил с нею о горах. После этих слов она пожелала, чтобы я научил ее изготовлять такие же картинки, как те, что лежали сейчас перед нею. Она приобретет краски и все другие необходимые для этого принадлежности. Поскольку она и так уже довольно хорошо рисовала, дело было не таким трудным, каким оно показалось на первый взгляд. Я обещал сестре свою помощь, если родители будут согласны.
Через некоторое время мы спросили родителей. Те ничего не имели против, только мать настоятельно потребовала, чтобы эта работа была делом побочным, развлечением, а не главным занятием. Ибо главная обязанность женщины — дом, а эти дела хоть и могут быть в доме к месту, но если им предаваться односторонне или, того хуже, со страстью, они скорее вредят дому, чем помогают его устраивать. А Клотильда уже достигла того возраста, когда пора думать о своем призвании.
Мы все это поняли и обещали во всем соблюдать меру.
Приобретя все необходимое, мы начали работать в дозволенные часы.
Сестра хотела научиться от меня также испанскому языку. Я продолжал заниматься им и, будучи впереди ее, стал и тут ее учителем, на что мать согласилась с тем же ограничением, что и в отношении пейзажной живописи. Таким образом, на этот год у меня в нашем доме оказалось больше занятий, чем в другие времена.
В ту осень меня особенно удивляло, что ни отец, ни мать не расспрашивали меня о моем гостеприимце. То ли они после моих рассказов прониклись к нему доверием, то ли не хотели сковывать мое непринужденное поведение чрезмерным вмешательством.
При всех своих домашних занятиях я зажил в конце той осени несколько иной жизнью, чем дотоле, — более разнообразной. Прежде я вращался только в таких городских кругах, куда приглашали моих родителей или куда меня вводили обретаемые мною друзья. Круги эти состояли большею частью из людей примерно того же положения, что и мой отец. Теперь мне хотелось узнать обычаи, нравы, а также взгляды тех, кто жил блистательнее. Такой случай вскоре представился, да я и сам искал таких случаев. Я заводил знакомства, а иные удавалось и поддерживать. Я знакомился с людьми из высшей аристократии, смотрел, как они двигаются, как держатся друг с другом и как ведут себя с теми, кто не принадлежит к их сословию.
В нашем городе жила одна старая, благородная вдова, княгиня, чей слишком рано умерший супруг был главнокомандующим в последней большой войне. Она часто сопровождала его в походах, знала все, связанное с войсками и их передвижением, бывала в крупнейших городах Европы, познакомилась с людьми, в чьих руках находились судьбы всей этой части света, читала поэтические, рассудительные и доступные ей научные сочинения выдающихся мужчин и женщин и наслаждалась всем прекрасным, что создано искусствами. Когда-то она слыла в высших кругах красавицей, да и теперь еще нельзя было представить себе ничего очаровательнее, чем приветливые, умные, выразительные черты этого лица. Один человек, много занимавшийся картинами и их критикой и часто бывавший вблизи княгини, как-то сказал, что только Рембрандт смог бы написать тончайшие тона и переливы ее лица. Теперь она квартировала у восточной границы внутренней части города, чтобы ее комнаты наполнялись утренним солнцем и чтобы открывался вид на свежую зелень и дальние предместья. Здесь старую, почтенную мать навещали ее цветущие сыновья в высоких воинских чинах, когда служба позволяла им приезжать в город и когда в городе выдавалась подходящая минута для этого. Около нее сновали красивые внуки и внучки, в ее комнатах то тут, то там появлялась многочисленная родня. Но умственное отдохновение или напряжение — кто как скажет — оставалось ее потребностью. Знать она хотела не только все новое в области духа — но если какой-нибудь нынешний труд по этой части был у всех на устах, она стучалась и в эту дверь, надеясь войти в нее, — нет, она часто брала в руки книгу автора, ценившегося в дни ее молодости, и, пробегая страницы, смотрела, сделала ли бы она и теперь такие же значки и пометки красным карандашом или поставила бы вместо них другие. Более того, она обращалась к произведениям далекого прошлого, которых теперь никто, кроме ученых, не читает, а всякий упоминает. Ей хотелось посмотреть, что в них содержится, и если они нравились ей, то через некоторое время снова извлекались на свет. Она хотела быть постоянно осведомленной о том, что происходит в жизни государств и народов. Поэтому она переписывалась с разными своими родственниками и знакомыми, и самые лучшие газеты доставлялись на ее стол. Но хотя глазами она была еще не так слаба, чтение, вошедшее у нее в привычку, становилось в ее возрасте утомительным, и поэтому у нее появилась чтица, которая часть страниц, притом большую, читала ей вслух. Чтица эта была, однако, не просто чтицей, а скорее и компаньонкой, с которой княгиня обсуждала прочитанное, способной благодаря своей образованности давать пищу уму старой дамы и в свою очередь питаться ее умом. По мнению людей, знающих в этом толк, компаньонка была человеком необычайно одаренным, способным вбирать в себя все значительное и отдавать это миру, и ее собственные творения, которые порой удавалось из нее вытянуть, принадлежали к самым замечательным созданиям того времени. Она всегда оставалась возле княгини, также и летом, когда та уезжала в свое имение, находившееся в отдаленной части империи, любимое ее местопребывание, или путешествовала, или жила, как то часто случалось, в одном красивом месте в наших горах.
Когда княгиня бывала в городе, по вечерам она собирала вокруг себя небольшое общество, в котором читали вслух, говорили о научных, светских, государственных делах или об искусстве. Участники этого круга собирались регулярно по определенным дням недели, они были очень известны в городе, одни их ценили, другие смеялись над ними, они пользовалась большим вниманием и состояли порой из людей выдающихся. В этот круг я получил доступ. Княгиня несколько раз встречалась со мной, как-то зашла речь о моих науках, ей было любопытно, что известно о происхождении земли и на чем основаны выводы на сей счет, и она приблизила меня к себе. Бывая в определенные вечера в ее гостиной, я внимательно слушал, сам же говорил мало, и обыкновенно лишь тогда, когда меня вызывали на разговор. Княгиня сидела в черном или пепельно-сером шелковом платье — более светлых она не носила, — а под ногами у нее стояла скамеечка. Лампа была заслонена от княгини зеленым экраном и, когда читали, лила свой свет на чтицу или чтеца. Остальные располагались вокруг. Подобие круга образовывалось обычно само собой. Все слушали чтение в глубокой тишине и оживленно участвовали в разговорах, которые возникали после него, или, если чтения не было, заполняли весь вечер.
Княгиня умела придать этим разговорам живость и глубину. Казалось, что все, что говорили в ее присутствии чудеснейшие люди, вызвано ее мановением и что величайший ее дар состоял в том, чтобы извлекать из других их внутреннее богатство. Необыкновенно изящная, она мило сидела при этом на своем стуле, и даже на склоне лет ее обаяние не оставляло общество равнодушным. Иногда, взволновавшись, она вставала и, держась за свой стул, что-нибудь говорила, что-нибудь объясняла присутствующим своим чистым, нежным, благозвучным голосом.
В комнатах княгини я познакомился с разными людьми. Иногда там можно было услышать выдающегося художника, иногда государственного мужа, сведущего в важнейших делах нашей страны, там бывали и значительные в обществе лица, и столпы нашего храброго воинства. Я слышал у княгини высказывания, которые потом записывал, чтобы хранить их как свое достояние. Признаюсь, что всегда не без робости я входил в этот салон с голубыми стенами, синей мебелью и несколькими картинами, из которых меня особенно привлекала та, что изображала поместье княгини, и признаюсь, что никогда не покидал этой комнаты без чувства покоя и удовлетворения. Я ощущал, что вечера эти чрезвычайно важны для меня, что они суть некое будущее.
Кроме выдающихся людей, я познакомился у княгини с представителями высшей аристократии нашей империи, не раз соприкасался с их кругом и мог наблюдать его нравы, образ жизни, обычаи.
Наряду с этой частью общества я встречался и с другой. Было в городе одно заведение, посещавшееся главным образом художниками всякого рода, которые там беседовали, закусывали, читали газеты или разминались какими-нибудь играми. Я любил бывать в этом заведении. Захаживали туда артисты Придворного театра и оперы, художник, чье имя тогда гремело, музыканты, как исполнители, так и сочинители, скульпторы, архитекторы, но более всего писатели и поэты, а с ними заведующие и сотрудники газет. Из другой публики там бывали высшие чиновники, горожане, купцы и вообще те, кого интересовали искусство, наука, а также общение, на них направленное. Хотя там царила непринужденная веселость, хотя преобладали там как будто игры-разминки, но велись там и разговоры, как следовало ожидать от такого общества, весьма живые, и они-то, в сущности, были главным. За легкими замечаниями там можно было угадать и глубокий ум, и ум спокойный, расчленяющий все на части, и быстрый, не вдающийся в частности, и опрометчивый, который все высмеивает, или такой, чья собственная нравственность довольно сомнительна. Часто основанием для выводов служили какое-нибудь одно словечко, какая-нибудь одна острота. Несмотря на робость, которая удерживала меня в стороне, я все-таки вступал в разговоры и познакомился кое с кем из здешних завсегдатаев. Даже осанка, даже манеры людей, пользующихся таким влиянием, не были для меня безразличны.
В ту зиму я хаживал и в места, где люди сходятся для развлечения, мне хотелось видеть людей со всех сторон, всю их натуру. Ходил я преимущественно туда, где собирается настоящий народ, так его теперь часто именуют в противовес так называемым образованным. Те, кого называют образованными, почти везде одинаковы. Народ же, как я уже увидел во время своих странствий, самобытен, у него особый нрав и обычай.
Я не пропускал ни одного хорошего исполнения музыкальных пьес, продолжал ходить в Придворный театр, захаживал теперь и в оперу, посещал публичные лекции, а также изучал коллекции произведений искусства и книг, но главным образом выставки картин — для усовершенствования собственных будущих работ.
Я продолжал общаться с моим новым другом, сыном ювелира. Мы наконец действительно начали специальный курс изучения драгоценных камней. Были установлены два дня в неделю, по которым я приходил к нему в определенный, удобный для него час и оставался, сколько позволяло его время. Сначала он ознакомил меня с теми минералами, которые называют драгоценными камнями и используют главным образом для украшений. Показал он мне также все виды жемчуга. Затем он научил меня, как распознавать драгоценности и отличать их от подделок. Лишь затем он перешел к признакам прекрасных и менее прекрасных вещей. В этом учении мне очень пригодились мои познания в естественных науках, я даже мог пополнить знания друга своими сведениями из этой области, особенно по поводу отношения драгоценных камней к проходящему через них свету, к двойному преломлению и к так называемой поляризации света. Но я все никак не решался заговорить с ним об общепринятом оправлении драгоценных камней и поделиться своими мыслями на этот счет.
В таких обстоятельствах, наряду с главными моими работами, регулярно продолжались уроки с сестрой. Живопись давалась ей гораздо труднее, чем мне, потому что у нее, во-первых, была меньше набита рука, а во-вторых, она не видела картин в оригинале, а видела перед собой только неудачные копии. С игрою на цитре дело шло успешнее. Теперь из меня вышел лучший учитель, чем вышел бы в прошлом году; после всего, что я усвоил, я мог вообще давать ей больше, чем любые городские учителя, хотя те и справлялись с такими трудностями, каких ни я, ни Клотильда преодолеть не смогли бы. Но это, говорил мне приобретенный в горах опыт, не имело значения. В конце концов, мы взаимно учились друг у друга и провели за цитрой немало радостных, задушевных часов.
Под конец я стал давать Клотильде и уроки испанского. Опережая ее на несколько шагов, я мог хотя бы в начальных пределах служить ей учителем. А уж что получится дальше, решили мы, видно будет. Мы жили дружно и деятельной жизнью.
Так прошла зима, и в тот раз я остался со своими родными в городе до поздней весны.
2. Сближение
Хотя всю зиму шли разговоры о том, что будущей весной отец отправится со мной в горы и заодно посетит хозяина дома роз, чтобы поглядеть на его редкие и драгоценные вещи, когда пришла весна, у отца не нашлось времени оторваться от дел, и мне, как во все прежние годы, пришлось пуститься в путь одному.
Прибыв к своему гостеприимцу, я первым делом рассказал ему о перевезенных панелях. Прежде я не упоминал о них, потому что не придавал им особой важности. Я рассказал, что нашел и купил их в Лаутерской долине и что они состоят из резных фигур и орнаментов. Что отец, которому я их привез, очень им обрадовался и не только с величайшим удовольствием принял их, но и перестроил часть пристройки нашего дома, чтобы дать панелям подходящее место. Это-то, мол, и показало мне, как ценит такие вещи отец, и навело меня на мысль поискать дополнений к добытым доскам. Ибо то, что досталось отцу, всего лишь фрагменты, облицовка двух пилястров, остальное отсутствует. Я хоть и вел уже разыскания самым, как полагаю, тщательным образом, но хочу продолжить их и попытаться найти какие-то новые средства и пути достижения своей цели, если таковая еще существует, или как можно нагляднее убедиться, что искомого уже нет на свете. Я описал моему гостеприимцу, насколько это возможно по памяти, вывезенные панели и ознакомил его с местом находки и побочными обстоятельствами. Я не скрыл, что рассказываю это для того, чтобы он посоветовал мне, как действовать дальше. Речь, мол, идет о предмете, к которому неравнодушен мой отец. Ищу я эти вещи не столько потому, что они красивы, хотя одно это тоже может побудить к поискам, сколько потому, что они доставят радость отцу. Чем старше тот делается, тем более он замыкается в узком пространстве, его контора и его дом постепенно становятся его миром, а занимается он там главным образом произведениями изобразительного искусства и книгами, и влияние на него этих вещей с годами растет. В первые дни он просто не мог оторваться от резных панелей, он рассматривал каждую их мелочь и наконец знал их так, словно присутствовал при их изготовлении. Поэтому я не хочу заслужить упрека в том, что в моих изысканиях что-то упущено. Пока, правда, они были бесплодны.
Мой гостеприимец расспросил меня еще о некоторых частностях этого произведения и его обнаружения, не рассказанных мною или не совсем ясных, и велел еще раз подробнейше описать места, где оно обнаружилось. Затем он посоветовал мне немедленно написать отцу письмо и попросить его обмерить панели снаружи и внутри и сообщить мне точные цифры. Я тотчас понял целесообразность такой меры и устыдился, что сам до этого не додумался. Тем временем мой гостеприимец напишет Роланду, а потом, когда мы получим точные цифры, пошлет их тому. Кроме того, он поручит своему управляющему в той местности заняться этим делом. Если искомое можно найти, то Роланд будет наилучшим помощником, и те, кого он еще привлечет к работе, тоже уже хорошо зарекомендовали себя в самых разных делах.
Я горячо поблагодарил моего гостеприимца за его любезность и обещал не мешкать. На следующее утро посыльный отнес на ближайшую почту мое письмо отцу и письма моего гостеприимца к Роланду и другим людям. Мой гостеприимец писал, должно быть, до глубокой ночи, ибо писем оказалась целая пачка. Доброта эта тронула меня чрезвычайно, я не знал, чем заслужил ее.
Само собой разумеется, в первые же дни пребывания в доме роз я посетил все свои любимые места.
В чертежной комнате Ойстаха я увидел, что музыкальный стол готов. Работа над ним завершилась недавно, потому он и стоял еще здесь.
Я не представлял себе, что предмет, который я видел, когда его только начали восстанавливать, примет такой вид, когда будет готов. В последнее время я видел множество картин, построек, зарисовок и тому подобного, да и сам занимался сходными делами, поэтому я мог как-то судить о таких вещах. Но если бы я не знал, что рама и станина стола сделаны заново, я никогда бы об этом не догадался, настолько они подходили к доске по форме, по всей манере, даже по краскам дерева. Целостное произведение представало глазам во всем своем блеске, во всей своей чистоте и ясности. Краски разных сортов дерева в орнаменте из листьев, плодов и музыкальных инструментов выступали из-под слоя канифоли мощно и ярко. Даже диспропорции в инкрустированных инструментах, например, между лентой, скрипкой и барабаном, не понравившиеся мне при первом посещении столярной мастерской, показались мне теперь наивными, в них была теперь для меня какая-то привлекательность, они делали доску приятнее, чем если бы в ней совсем не было ошибок или чем если бы ее изготовили по новым художественным понятиям. Я спросил Ойстаха, где будет стоять этот стол. Ойстах не мог сказать мне это. Неизвестно, останется ли стол в доме или его куда-то отправят. Пока он останется здесь для того, чтобы вся дополнительная сушка проходила в той постепенной последовательности, в какой, чтобы не причинить ей вреда, сушат всякую новоизготовленную мебель. Большинство новоизготовленных или восстановленных вещей ставятся с такой целью в чертежной комнате, если там находится для них место. Поглядев на стол еще некоторое время, я перешел к другим предметам.
Навестил я и садовника с женой, жителей хутора, садовых работников, домашних слуг и кое-каких соседей, которых мы раньше не раз посещали и с которыми я был ближе знаком.
Хотя я, следуя совету и приглашению моего гостеприимца, и решил в этом году отложить всякую работу, по крайней мере работу по той специальности, какую я сам себе выберу, и прожить часть лета в доме роз, отдаваясь минутным своим настроениям, мне не хватало воли решительно ничего не делать — это было бы для меня величайшей мукой — и все подчинять своему удовольствию и случаю. Мой гостеприимец уступил мне те же две комнаты, которые я всегда занимал до тех пор, и радовался, что я, следуя его совету, направляю свой взгляд еще куда-то, а не только в одну сторону, на свою работу, и приду наконец к более общему восприятию мира, чем тот, в плену которого до сих пор находился. Я привез с собой много книг и бумаг, при мне были все принадлежности для живописи, но на всякий случай я захватил и несколько приборов для измерений, и еще кое-что в этом роде.
Если пойти от дома роз через холм с высокой вишней на север, выходишь на луг, где течет ручей, у которого мой гостеприимец разводит ольху, дающую прекрасную древесину и применяемую среди прочих пород дерева для его столярных изделий. Мы часто ходили к этому ручью и бродили по его берегам. Он вытекал из рощи, где мой гостеприимец велел соорудить несколько водоотводов, чтобы не затоплялся луг и не разливался ручей. В глубине рощи находится довольно большой пруд, в сущности маленькое озеро, поскольку он не был устроен искусственно, а возник большей частью сам собой. Прибавили только какие-то мелочи, чтобы не заболачивались его края и не было разливов у его стока. Вода этого лесного озерца так прозрачна, что даже на большой глубине видны все лежащие на дне камни. Только кажутся они зеленовато-синими, как то получается во всех водах, текущих с наших известковых гор или вблизи от них. Вокруг этого озерца ветки настолько густы, что не видно ни камней, ни даже кромки берега и кажется, что ветки торчат из воды. Часть деревьев здесь — хвойные, они вносят свою суровость в веселье, которого полны ветки, листва и вершины деревьев лиственных, преобладающих в роще. Преимущественно это ольха, клен, бук, береза и ясень, между стволами — гуща побегов. Ручей в ольшанике моего гостеприимца обязан своим существованием этому озеру. Но поскольку живет оно родниками, вытекающий из него ручей часто высыхает настолько, что его можно перейти по торчащим камням, не замочив ног. На выходе ручья из озера построена будочка, чтобы желающие искупаться в озере могли в ней раздеться. Дно, покрытое прекрасной галькой, опускается так отлого, что можно пройти довольно далеко, не теряя под ногами опоры и наслаждаясь струящейся водой. Очень удобно это место и для обучения плаванию, потому что, доставая до дна в любой точке, можно упражняться вольнее. Дальше начинается область тех, кто уже вполне владеет своими руками и их движениями. Летом Густав чуть ли не через день ходил с Ойстахом или еще с кем-нибудь, а иногда и со мной плавать на это озеро. Это занятие, как и другие телодвижения и упражнения, назначенные ему в доме роз, доставляло Густаву, кажется, много радости. Мой гостеприимец придавал телесным упражнениям большую важность, считая их необходимыми для развития и для здоровья. Он очень хвалил за эти упражнения греков и римлян, высоко чтя оба народа. Совершенно ясно, говаривал он, что подобно тому, как болезнь тела изменяет дух, делает его иным, чем при здоровом теле, сильное и хорошо развитое тело есть основа всякого мужества и трудолюбия. Большая часть успехов древних римлян в истории, их прежних удач объясняется их уходом за своим телом, их вниманием к его развитию. В нынешних школах слишком пренебрегают этим уходом, а он нам тем более необходим, что скученность в душных и жарких помещениях и так-то приносит беды, неведомые пребыванию на свежем воздухе. Поэтому и умственные способности нынешних учеников не развиваются как то следовало бы и как то происходит, хоть и в ущерб их благовоспитанности, у детей, бродящих по лесам и полям. Отчасти отсюда наша бесцветность и вялость. Теперь, имея много свободного времени, я очень прилежно ходил с Густавом в рощицу и, будучи весьма искусен в плавании, служил Густаву образцом, подражая которому тот приобрел такую ловкость и выносливость, какой без меня не достиг бы.
Густав вообще все более ко мне привязывался. Вероятно, прежде всего, как я и раньше думал, сказалось то обстоятельство, что по возрасту я отстоял от него не так далеко. Прибавилось, верно, и то, что, выросши, в сущности, в большом одиночестве, я гораздо дольше, чем прочие мои сверстники, сохранял черты детства. Наконец, повлиять могло и то, что благодаря своему безделью я находил теперь гораздо больше точек соприкосновения с Густавом, чем это бывало в прежние мои приезды в дом роз.
В Асперхофе я писал теперь больше писем, чем раньше, читал поэтов, наблюдал окружавшее меня, часто совершал далекие прогулки. Но этот образ жизни мне вскоре наскучил, и я стал искать чего-то, что заняло бы меня глубже. Поэты, самое благородное из того, с чем я встречался теперь, снова толкнули меня к живописи. Я привел в порядок свои принадлежности для рисования и краски и стал опять упражняться в пейзажной живописи. Я писал то клок неба, то облако, то дерево или группы деревьев, отдаленные горы, холмистые поля и тому подобное. Не делая исключения и для человеческого облика, я пытался изображать его части. Я пытался перенести на холст лица садовника Симона и его супруги. Они были этому очень рады, и я отдал им портреты в их комнату, заказав предварительно подходящие рамы и успев до прибытия таковых снять с обеих голов копии для собственной папки. Я писал руки и бюсты разных обитателей дома и хутора. Попросить моего гостеприимца, или Густава, или Ойстаха послужить предметом моих художеств я не осмеливался, потому что успехи мои были еще весьма незначительны.
Из всех наибольшее участие в этих делах принимал Густав. Если в прошлом году он писал со мной мебель, то нынче он тоже взялся за пейзажи. Ни его приемный отец, ни его учитель рисования ничего против того не имели, поскольку на эти занятия уходило только его свободное время, поскольку его телесные упражнения от них не страдали и поскольку от этого еще более укреплялся союз между ним и мною, на что мой гостеприимец взирал, видимо, одобрительно, ведь, в конце концов, у юноши не было никого, на кого бы он мог обратить чувство дружества, столь часто пробуждающееся в его возрасте и исподволь облюбовывающее себе определенный предмет. У Ойстаха он видел обычно только рисунки зданий и мебели, да и Роланд привозил из своих поездок лишь подобные вещи. Хотя на пейзажах, висевших в коллекции его приемного отца, Густав мог видеть зеленые деревья, белые облака, синие горы, он не задумывался об их возникновении, для него эти картины просто существовали, как существуют дом, поле на холме, гора, далекая башня церкви, и ему в голову не приходило, что и он способен творить подобные вещи. На прогулках он говорил о форме того или иного дерева, об округлости той или иной горы и рассказывал мне, что ему часто снится, как он рисует.
Юношу отпускали со мной и на изрядные расстояния от дома роз. Работы его распределялись при этом так, чтобы их можно было прервать без особого ущерба для них. Зато он становился гораздо здоровее и закаленнее. Нередко мы отлучались на несколько дней, и Густав очень любил те вечерние часы, когда мы, после легкого ужина в каком-нибудь трактире, уходили в свою комнату и он мог поглядеть в окно на незнакомую местность, разложить на столе свои дорожные вещи и вытянуться затем на гостиничной кровати. Мы взбирались на высокие горы, ходили мимо отвесных скал, следовали за течением журчащих ручьев и переправлялись через озера. Густав стал сильным, и это было отчетливо видно, когда мы возвращались из какого-нибудь горного похода — а в горы мы ходили почти всегда, — когда щеки его бывали чуть ли не черны от загара, локоны падали на смуглый лоб, а большие глаза ярко светились. Не знаю, что привлекало меня к этому юноше, по уму еще, в сущности, мальчику, которого мне приходилось учить самым простым, самым обыденным вещам, особенно связанным с нашими походами, который сам не мог предложить ничего, что как-то обогащало бы и возвышало меня. Причиною был, верно, тот образец совершеннейшей доброты и чистоты, какой я в нем с каждым днем все явственнее видел, все глубже любил и чтил.
Сходил я несколько раз и на Лаутерское озеро. Я начал в прошлом году измерять его глубину в разных местах, чтобы составить карту, где окружающие озеро горы продолжались и под поверхностью воды и были изображены в этом случае лишь более темным цветом. Это занятие снова меня увлекло, и я стал опять целенаправленно делать замеры, чтобы еще лучше исследовать впадину озера и получить как можно более точную карту. Густав не раз сопровождал меня и работал наравне с людьми, которых я нанял, чтобы управлять судном, бросать лоты, водружать блоки для шнуров с грузилом и делать все прочее, в чем будет необходимость.
Особенно радовало меня то, что постепенно я научился все лучше и лучше передавать тонкости человеческого лица, в особенности — что прежде давалось мне с великим трудом — румянец, когда он заливал щеки красивой девушки, эти мягкие, вроде бы одинаковые, но всегда разные округлости. Приятнее всего мне были попытки передать на холсте миловидность, скромность и плутоватость сельских девушек и девушек гор.
Как-то вечером, когда молнии вспыхивали почти по всему горизонту, я, возвратившись из сада в дом, застал дверь, которая вела в коридор аммонитного мрамора, к широкой мраморной лестнице и мраморному залу, открытой. Оказавшийся поблизости работник сказал мне, что через эту дверь, вероятно, прошел хозяин, что тот, видимо, находится в каменном зале, куда любит ходить при грозовом небе, и что дверь осталась открытой, наверное, для того, чтобы Густав тоже поднялся туда, когда придет. Я заглянул в мраморный коридор, увидел стоящие за порогом пары войлочных башмаков и решил тоже подняться в каменный зал, проведать моего гостеприимца. Надев подходящие башмаки, я пошел по коридору аммонитного мрамора. Я вышел к мраморной лестнице и стал медленно подниматься по ней. Сегодня она не была застлана ковром, а представала во всем своем блеске и сияла еще более, когда сквозь стеклянный потолок ее освещали, пробегая по небу, молнии. Так я дошел до середины лестницы, где на прерывавшей ее площадке, как в зале, стоит статуя из белого мрамора. Было еще так светло, что все предметы видны были во всей ясности линий и четкости теней. Я посмотрел на статую, и она показалась мне сегодня совсем другой. Девичья фигура такой красоты, какую только может вообразить художник и представить себе только очень глубокая душа, стояла передо мной на низком пьедестале, казавшемся скорее ступенькой, на которую она поднялась, чтобы оглядеться вокруг. Я не в силах был пойти дальше и устремил глаза на статую. Мне увиделось в ней что-то языческое. Голова покоилась на шее так, словно расцвела на ней. Шея была немного, но заметно наклонена вперед, и на ней лежал тот особенный свет, который бывает только на мраморе, а проникал этот свет через толстое стекло потолка. Негладко причесанные волосы, припадая к шее, прорезали ее летучими тенями, делавшими этот свет еще прелестнее. Лоб был чистый, и понятно, что сотворить такое можно только из мрамора. Я не знал, что человеческий лоб так прекрасен. Он казался мне полным невинности и в то же время престолом высоких дум. Ясные щеки под ним были спокойны и строги, а рот вылеплен так тонко, словно он вот-вот скажет какие-то умные слова или споет какую-то прекрасную песню, и притом он был исполнен доброты. Завершавший это лицо подбородок вносил в него какую-то спокойную меру. Неподвижность фигуры была вызвана, казалось, только суровым, полным значения небом, которое, озаряясь далекими молниями, простиралось над стеклянною кровлей и призывало смотреть на него. Благородные тени, как легкие дуновения, усиливали мягкий блеск груди, а дальше, до самых щиколоток, ниспадали одежды. Я представил себе Навсикаю — как та стоит у дверей золотого зала и говорит Одиссею: «Чужеземец, вспомни обо мне, когда придешь в свою землю». Одна рука была опущена и держала пальцами палочку, другая была отчасти скрыта одеждой, которую немного приподнимала. Платье было скорее оболочкой из прекрасных складок, чем скроенной одеждой. Оно говорило о чистой, целостной форме и было так достоверно материально, что казалось возможным сложить его и спрятать в ларь. Простая стена серого аммонитного мрамора выделяла белую статую еще резче и давала ей простор. Когда вспыхивала молния, по ней пробегал вниз розоватый свет, а потом прежний цвет опять возвращался к ней. Хорошо, подумалось мне, что эту статую не поставили в какой-нибудь комнате, где есть окна, через которые видны обыденные предметы и вливается беспорядочный свет, а установили в помещении, принадлежащем только ей, получающем свет только сверху, где она, как храмом, объята сумраком. Хорошо также, что это помещение не служит для повседневных нужд, и очень кстати, что окружающие стены облицованы замечательным камнем. У меня было такое чувство, будто я стою перед молчащим живым существом, и жутковатое ощущение, что девушка вот-вот шевельнется. Я глядел на статую и несколько раз видел, как красноватые молнии сменяются на ней сероватой белизной. После долгой задержки я пошел дальше. Если бы можно было в войлочных башмаках ступать еще легче, чем то само собой получается, я так бы и сделал. Медленно и бесшумно шагал я по блестящим ступеням к каменному залу. Дверь его была полуотворена. Я вошел.
Мой гостеприимец и в самом деле был здесь. Он шагал по лощеным плитам в легких башмаках с подошвами еще более мягкими, чем войлок.
Увидев меня, он подошел ко мне.
— Я заметил, что дверь в мраморный коридор открыта, — объяснил я, — мне сказали, что вы, вероятно, здесь, наверху, вот я и поднялся, чтобы вас увидеть.
— И правильно поступили, — ответил он.
— Почему вы не сказали мне, — продолжал я, — что статуя на вашей мраморной лестнице так прекрасна?
— А кто вам теперь это сказал? — спросил он.
— Я сам это увидел, — отвечал я.
— Ну, в таком случае вы будете знать это еще тверже и еще больше уверитесь в этом, — возразил он, — чем если бы услышали от кого-то подобное утверждение.
— А я и верю, что эта статуя очень хороша, — поправился я.
— Разделяю вашу веру, что это произведение весьма значительное, — сказал он.
— Так почему же вы никогда не говорили мне об этом? — спросил я.
— Потому что полагал, что через какое-то время вы сами его рассмотрите и найдете прекрасным, — отвечал он.
— Если бы вы мне раньше это сказали, я бы знал это раньше, — возразил я.
— Сказать кому-то, что что-то прекрасно, — отвечал он, — не значит сделать прекрасное его достоянием. Во многих случаях он может просто поверить. Но это, конечно, обедняет того, кто и так-то, без побуждения извне, обрел бы прекрасное. В вас я предполагал такую способность и потому ждал вас с большим удовольствием.
— Но что же вы думали обо мне все это время, когда я видел эту статую и молчал о ней? — спросил я.
— Я думал, что вы правдивы, — сказал он, — и уважал вас больше, чем тех, кто говорит о произведении без убежденности, или тех, кто хвалит его потому, что его хвалят другие.
— Где же вы добыли эту великолепную статую? — спросил я.
— Она из Греции, — отвечал он, — и история у нее странная. Много лет она стояла в дощатой будке близ Кум, в Италии. Нижняя ее часть была заслонена досками, потому что место, где она стояла, частично открытое, частично под крышей, служило для игры в мяч, и мячи нередко попадали в будку со статуей. Поэтому на уровне ее груди сделали наклонный навес, с которого легко скатывались мячи и над которым верх статуи выглядел как бюст. На этой площадке, частью у дощатых построек, частью у каменных стен, ее ограничивавших, были и другие изваяния, маленький Геркулес, несколько голов, старинный бык фута в три высотой. Площадка эта использовалась и для танцев, и в местах, где не было стен, замыкалась вьющимися растениями и виноградом или оставалась неогороженной, открывая, поверх миртов, лавров, дубов, синие горы и ясное небо этой страны. Крытыми были лишь какие-то части этой площадки, особенно в тех местах, где стояли скульптуры. Крыши над ними напоминали изящные дощечки, которые итальянские девушки носят на голове. Вообще же кровлей служил шатер неба. Счастливый случай привел меня в Кумы и на эту площадку, где как раз веселился молодой народ. Вечером, когда все разошлись по домам, я осмотрел стены, представлявшие собой остатки старинных художественных построек, и изваяния, сплошь гипсовые, какими так часто бывают в Италии копии древних, благородных произведений. Бюст девушки — за который я принял эту статую — был мне незнаком. Но он мне очень понравился. Когда я восхитился местоположением этой площадки, хозяйка ее, истинная древнеримская сивилла, сказала, что скоро здесь будет еще прекраснее. Ее сын, заработавший деньги торговлей, превратит эту площадку в зал с колоннами, поставит столики, и знатные иностранцы будут приходить сюда развлекаться. Скульптуры уберут, потому что они неодинаковой величины и потому что люди и животные стоят вперемежку, сын уже заказал изготовить из гипса прекраснейшие фигуры, все одинакового размера. Она подвела меня к девушке и через щель в досках показала мне, что та изваяна во весь рост и, стало быть, намного выше других фигур. Поэтому к верхнему краю прикрывающих ее досок приладили деревянный крашеный цоколь, над которым верхняя часть туловища возвышается наподобие бюста. Так достигнута сообразность этой вещи с другими. Я спросил, когда прибудет ее сын и когда начнется перестраивание. Когда она мне это сказала, я удалился. К названному старухой сроку я снова пришел на эту площадку. Здесь я застал сына вдовы — таковою она была, — когда строительство уже началось. Старые, прелестные фрагменты стен были частично снесены, а кирпичи сложены, чтобы использовать их в новой постройке. Вьющиеся растения и лозы выкорчевали, кусты перед площадкой уничтожили, а место их выровняли, чтобы там устроить газон. На южной стороне уже сооружали цоколи для кирпичных колонн. Статуя девушки, с которой сняли облачение из досок, лежала в сарае, где хранились главным образом строительные инструменты. Рядом с нею лежали Геркулес, бык и головы, которые, как я теперь увидел, изображали древних римлян. И та часть статуи девушки, которой я прежде не видел, мне тоже чрезвычайно понравилась, существенных повреждений в ней не было, и я выторговал ее, поскольку вещи эти были сложены в сарай для продажи. Но продавец сказал, что ни одной скульптуры из собрания он в отдельности не отдаст, и мне пришлось купить быка, Геркулеса и головы. Цена была назначена немалая, поскольку другая сторона знала достоинства статуи и ссылалась на них. Но я подчинился. Потратился я и на перевозку этих вещей. Быка, Геркулеса и головы я за бесценок продал в Италии, а фигуру девушки, хорошенько упаковав ее, чтобы не пострадал гипс, отправил в то место, где тогда жил. Не помню сейчас его названия, это был маленький городок у гор. Я уже тогда обратил внимание на то, что за перевозку запросили очень высокую плату и жаловались на тяжесть статуи, но счел это итальянской хитростью, попыткой выжать из меня, иностранца, побольше денег. Но когда я вернулся в Германию и гипсовая фигура, упаковка и доставка которой были доверены мною хорошо знакомому экспедитору, прибыла в Асперхоф, я сам убедился, что груз этот необычайно тяжел. Поскольку обшивка из досок, в которой находилась статуя, не могла быть такой тяжелой, мы с Ойстахом, жившим уже тогда в Асперхофе, решили, что фигура немного отсырела и, наверное, пострадала от сырости. Мы поставили статую в сарай, заранее, по моему приказу сколоченный у входа в сад, чтобы где-то ее поместить и очистить от множества грязных пятен, которыми она покрылась на своем прежнем месте. Когда с нее сняли доски и все прочие оболочки, мы увидели, что наше опасение не подтвердилось. Статуя была суха, насколько вообще может быть сухим гипс. С помощью разных приспособлений мы постепенно поставили статую поближе к стеклянной стене сарая на поворотный круг, чтобы удобнее было осматривать и очищать ее. Установив ее на круге и убедившись, что стоит она прочно, мы приступили к осмотру. Ойстах был восхищен ее красотой и обратил мое внимание на многое, что ускользнуло от меня и на площадке для танцев и игры в мяч близ Кум, и позднее, в сарае. Впрочем, статуя была теперь в гораздо более выгодном положении, потому что через чистые стекла на нее падал ясный свет, отчетливо показывая все ее изгибы и выпуклости. Убедившись, что дом обогатился благородным произведением искусства, мы решили тотчас же приступить к очистке его. Мы договорились, что там, где грязь только слегка покрывает поверхность и поддается чистой воде и кисти, будут и применяться только вода и кисть. В крайнем случае придется что-то замазать и загладить. При более существенных загрязнениях решено было применять нож и напильник, соблюдая, однако, при этом величайшую осторожность: лучше оставить какое-нибудь небольшое загрязнение, чем явным образом что-то исказить. Ойстах произвел в моем присутствии несколько опытов, и я одобрил его действия. Сразу же приступили к делу, и работа пошла. Однажды Ойстах подошел ко мне и сказал, что должен обратить мое внимание на одно странное обстоятельство. На спине фигуры он наткнулся ножичком на материал, в котором нет пустотности гипса, нож поскользнулся и как бы звякнул. Если бы это не было невероятно, он сказал бы, что материал этот — мрамор. Я спустился с Ойстахом в сарай. Он показал мне это место. Это было место, которым статуя часто, когда ее клали, касалась земли, поэтому, а также из-за всяческих перевозок оно вытерлось, видимо, больше, чем прочие. Я провел ножичком по этому месту, он звякнул, и мне показалась, что передо мной мрамор. Поскольку место, над которым производили такие опыты, было слишком на виду, чтобы продолжить их и, чего доброго, что-то испортить, мы решили сделать новую попытку на менее заметном месте. В левой пятке не хватало небольшого кусочка, там все равно нужно было добавить гипс, и мы решили воспользоваться этим для дальнейших исследований. Мы повернули на круге статую таким образом, чтобы свет падал на поврежденную пятку. Оказалось, что рядом с небольшим углублением остался еще кусочек гипса, который отвалится при малейшем прикосновении. Мы поскоблили ножом, кусочек отскочил, и обнажился материал, который не был гипсом. Глаз говорил, что это мрамор. Я принес увеличительное стекло, мы направили зеркалом луч на это место, я посмотрел на него через стекло, и передо мной засверкали кристаллики белого мрамора. Ойстах тоже взглянул туда через линзу, мы исследовали это место и другими способами, и выяснилось, что открывшаяся поверхность — мрамор. Чтобы окончательно доказать невероятное или опровергнуть свое заключение, мы стали исследовать и другие места. Начав с мест, и так уже немного поврежденных, мы постепенно переходили к другим. Под конец мы перестали соблюдать все предосторожности так же строго, как старались вначале, и пришли к выводу, что во многих местах под гипсом не что иное, как белый мрамор. Естественно было заключить, что также и в тех местах, которых мы не обследовали, под гипсом — мрамор. Не последней причиной нашего предположения был большой вес статуи. По какому случаю или с какой странной целью покрыли мраморную статую гипсом, объяснить мы не могли. Вероятнее всего, думалось нам, это сделал когда-то ее владелец, чтобы чужеземный враг, угрожавший его городу и находившимся в нем произведениям искусства, не похитил изваяния из материала, якобы не имеющего никакой ценности. Но оттого, что враг все-таки похитил статую или из-за какой-то другой помехи покрытия так и не сняли, и благородная сердцевина немыслимо долгие годы прозябала в дурной оболочке. Удалять гипс мы начали с макушки. Вначале, особенно вчерне, ножом, под конец больше кисточками и водой. От головы мы продвигались вниз, и решительно везде оказывался мрамор. Защищенный гипсом от повреждений последующих времен, мрамор не впитал в себя ни мутных соков земли, ни иной грязи и был чище любого другого древнего мрамора, который я видел, он был такой белизны, словно статую высекли совсем недавно. Когда весь гипс сняли, поверхность, все-таки еще шершавую из-за оставшихся на ней частиц покрытия, терли мягкими шерстяными тряпками до тех пор, пока мрамор не заблестел и игра света и теней не показала тончайших и нежнейших изгибов. Статуя стала теперь еще прекраснее, чем была в гипсовой оболочке, и мы с Ойстахом преисполнились восхищения. Мы быстро распознали, что это не произведение нового времени, а создание древнего народа Греции. Я видел столько изваяний языческой древности и среди них столько прославленных, что способен был отличить их от произведений средневековья и нового времени. Все рисунки со скульптур древности, какие удавалось добыть, были собраны у меня в Асперхофе, поэтому я мог теперь сравнивать, да и Ойстах, видевший не так много подлинников, тоже мог составить суждение. Лишь после очень долгих и очень тщательных исследований мы утвердились в мысли, что наша статуя — из времен Древней Греции. В ходе этих исследований, для вящей верности которых мы даже предприняли кое-какие поездки, мы настолько хорошо изучили признаки старых и новых скульптур, что пришли к убеждению, что можем с первого взгляда отличить друг от друга лучшие произведения разных эпох. Плохое, впрочем, труднее отнести к какому-то времени. Примечательно, что ничего не стоящих произведений древности вообще до нас не дошло. То ли они вовсе не возникали, то ли какая-то ценившая искусство эпоха тотчас их устраняла. Во время этих исследований мы многое узнали о древнем искусстве. Но кем и в какое время создана наша статуя, выяснить мы не смогли. Ясно было только, что принадлежит она не строгой эпохе, а более поздней, более мягкой. Но прежде чем я извлек статую из сарая, где она стояла, и прежде даже, чем подумал о месте, куда поставлю ее, произошло нечто другое. Я поехал в Италию и посетил близ Кум продавца моей статуи. Он почти закончил переделку своей площадки. Она превратилась в новомодный, окруженный зеленой лужайкой павильон, где пили сладкое красное вино, где стояли фигуры из гипса и откуда открывался прекрасный вид. Я рассказал хозяину о сделанном мною открытии и предложил ему самому определить теперь цену статуи, для чего он может либо сам осмотреть ее в Германии, либо поручить это кому-нибудь. То и другое он отверг и сразу запросил изрядную сумму, соответствовавшую будто бы ценности таких предметов, цены на которые в разные времена сильно менялись. Вступив уже к тому времени во владение немалым имуществом, оставшимся мне по наследству, я выразил готовность заплатить эту сумму, но пожелал больше узнать о происхождении статуи и удостовериться в праве на нее моего предшественника при столь изменившихся обстоятельствах. Мои разыскания не привели ни к чему сверх того, что статуя уже не один человеческий век принадлежит семье, у которой я купил ее, что когда-то здесь находились остатки старого здания, что здание это постепенно снесли, что бассейн, низкие колонны ограды и другие вещи из белого камня пережгли на известь и что из остатков этого здания и с помощью этой извести построены окрестные дома. В развалинах было много статуй, и многие уже давно проданы. Белую девушку с палкой когда-то обшили досками, по поводу нее возник спор из-за оплаты, и в местной управе мне позволили снять и заверили копию с документа, обязывавшего к платежу деда теперешнего владельца. Составив у нотариуса договор о покупке мраморной статуи и получив его копию, я внес запрошенную сумму и уехал домой. Здесь мы посовещались, куда поставить статую, которую я мог теперь с полном правом назвать своей. Найти место было нетрудно. Я и раньше уже устроил площадку на мраморной лестнице, чтобы, во-первых, прервать лестницу и тем придать ей изящество, а во-вторых, чтобы установить здесь когда-нибудь статую для вящего украшения. Когда мы путем замеров убедились, что статуя не слишком высока для этого места, был изготовлен небольшой пьедестал, на котором она теперь стоит, и было построено приспособление, с помощью которого ее и водрузили сюда. Мы теперь часто стояли перед статуей и рассматривали ее. Впечатление не только не ослабевало, но становилось все сильнее и глубже, и из всех произведений искусства, какие у меня есть, это мое самое любимое. Тем-то и замечательны памятники искусства ясного мира Древней Греции, не только дошедшие до нас памятники изобразительного искусства, но и памятники поэзии, что своей простотою и чистотой они наполняют душу и с течением лет не покидают ее, а еще более обогащают своим спокойствием и величием, а своей неброскостью и законченностью вызывают все большее восхищение. В новые же времена, напротив, беспокойная погоня за эффектами отнюдь не пленит душу, а отталкивает ее как нечто ложное. Многие приходили смотреть эту статую — друзья, знатоки древнего искусства, — и результат бывал всегда один и тот же: искреннее признание высоких достоинств. Мы, Ойстах и я, благодаря этому сильно продвинулись в вопросах древнего искусства, и от древнего искусства мы оба как раз и пришли к пониманию искусства средневекового. Перейдя от неподражаемой чистоты, ясности, разнообразия и завершенности древних изваяний к произведениям средневековья, изобилующим в этом отношении большими ошибками, мы увидели здесь некий внутренний мир, некий дух безыскусственности, веры, искренности, трогающий нас своим лепетом так же, как тот, древний, волнует нас совершенством, с которым он себя выразил. О времени создания нашей статуи мы и теперь не можем сказать ничего определенного, как и о том, попала ли она в Рим в толпе статуй, стоявших прежде в Элладе, или изготовлена в Риме каким-то греком, а также о том, как оказалась она в имении какого-то римлянина во времена, когда греческое искусство распространялось по Италии без достаточного его понимания, и о том, как перешла она к совсем другому, далекому поколению.
После этих слов он умолк, и я взглянул на него. Во время его речи мы ходили по залу. Я понял, почему он приходит в этот зал при вечерней грозе. Через светлые окна открывается вид на всю южную сторону неба, видны здесь также части его западной и восточной стороны. На горизонте видна вся цепь здешних Альп. Когда там собираются грозовые тучи — а их стены или горы всего красивей, когда они висят над грядами далеких гор или плывут над их гребнями, — перед ним разворачивается панорама грозы. Суровость стоящих стеной туч усугубляется суровостью мраморных стен, и отсутствие в зале какой-либо мебели усиливает ощущение величественной пустынности. Когда сгущаются сумерки, на поверхности мрамора отражаются молнии, и пока мы ходили взад-вперед, чистый, холодный мрамор несколько раз вспыхивал пламенем, и только деревянные двери темнели в огне или показывали мрачное свое строение.
Я спросил своего гостеприимца, давно ли у него эта статуя.
— Число лет не очень велико, — отвечал он, — но точно назвать его не могу, потому что не помню его. Я загляну в свои книги и завтра скажу вам, сколько времени она стоит в моем доме.
— Вы, наверное, позволите мне, — сказал я, — почаще рассматривать статую, чтобы постепенно запомнить ее и лучше понять, почему она так прекрасна и какие именно ее особенности производят на нас такое впечатление.
— Осматривайте ее, когда пожелаете, — ответствовал он, — я охотно дам вам ключ от двери мраморного коридора, а можете и спускаться из коридора гостей по мраморной лестнице, только не забывайте надевать войлочные башмаки. Теперь я рад, что мраморный коридор и лестница сделаны так, как они сделаны. Я и прежде уже думал, что на лестнице надо поставить статую белого мрамора, что свет на нее должен падать сверху, а стены вокруг нее и пол должны быть темноватыми. Чистый белый свет — а в светлом сумраке лестницы он кажется совершенно чистым — очень ясно выделяется на фоне более темного. Что же касается признаков, по которым вы хотите постичь красоту, вы их не найдете. В этом-то и состоит суть лучших произведений древнего искусства и, думаю, суть всякого искусства вообще, что нельзя выделить какие-то части или намерения, о которых можно было бы сказать, что это всего прекраснее, нет, прекрасно целое, о целом хочется сказать, что оно прекрасней всего. Части же только естественны. В этом и заключена великая сила воздействия таких произведений на здравый ум, сила, воздействие которой на человека не ослабевает, когда он стареет, а, напротив, усиливается, и потому и сведущему в искусстве, и ничего в нем не смыслящему, если только вообще душа его открыта прекрасному, так легко распознать такие произведения искусства. Подкреплю это свое утверждение одним примером, весьма примечательным. Как-то я оказался в зале, где были выставлены древние скульптуры, среди них высеченный из мрамора юноша — откинувшийся на сиденье и спящий. В зал приходили селяне, одежда которых позволяла заключить, что жили они в очень отдаленной части страны. На них были длинные сюртуки, на их башмаках с пряжками лежала пыль пути, пройденного, возможно, только сегодня утром. Оказавшись возле юноши, они осторожно подошли к нему вплотную на цыпочках. Нечасто, наверное, выпадало на долю мрамора такое непосредственное и глубокое признание. А кто в плену какого-то одного направления и воспринимает лишь ту красоту, которую являет оно, кто привык к отдельным прелестям новейших произведений, тому очень трудно понять такие произведения древности, они обычно кажутся ему пустыми и скучными. Вы тоже, собственно, подходили под этот случай. Хоть и не будучи пленником нового искусства, передающего лишь какие-то определенные стороны, вы все же слишком долго двигались в одном направлении, слишком усердно рисовали отдельные предметы, особенно связанные с вашими научными устремлениями, чтобы ваш глаз к тому не привык, а ваша душа к тому не склонилась, не стала менее способна принять с такой же любовью что-то другое, лежащее в другом направлении, вернее, ни к какому направлению не относящееся или принадлежащее всем направлениям. Я не сомневался, что вы придете к этой всеобщности, потому что в вас есть прекрасные силы, еще не направленные на ложный путь и стремящиеся к свершениям. Но я не думал, что это произойдет так скоро, ибо в вас было еще слишком сильно весьма похвальное на определенной ступени стремление к частностям. Я полагал, что какое-нибудь большое общечеловеческое чувство, которое вас охватит, приведет вас на ту позицию, на какой я вас теперь вижу.
На эти последние слова моего гостеприимца я долго не мог ничего ответить. Мы молча ходили по залу, и тишина усугублялась тем, что наша мягкая обувь не производила ни малейшего шума на блестящем полу. В зеркальных плоскостях вокруг нас и под нами вздрагивали молнии, гром словно бы вкатывался в открытые окна, и тучи выстраивались то горами, то руинами, то воздушными полосами на широком просторе за окнами зала.
Наконец я сказал, что вспомнил, как отец часто говорил, что в прекрасных произведениях искусства покой должен быть в движении.
— Это распространенный тезис изобразительного искусства, — возразил мой гостеприимец, — однако можно обойтись и без него. Под движением обычно подразумевают его возможность. Движения изобразительное искусство, о котором мы, собственно, сейчас и говорим, воспроизвести не может. Воспроизводя, как правило, живые существа: людей, животных, растения — ведь даже пейзаж, с его подвижными облаками и убранством растительности, для художника дышит, несмотря на застывшие в неподвижности горы, иначе он для него мертв, — искусство должно изображать эти предметы так, чтобы зрителю казалось, что в следующий миг они зашевелятся. Приведу снова пример из древности. Все материи, в которые одеты люди, принимают, в зависимости от движений людей, разные формы. Один мой друг узнал некоего старого известного и превосходного актера, увидев как-то лишь часть его сюртука. Если формы материй, проявляющиеся главным образом в складках, воспроизводят действительность, а не произвольно подогнаны на манекене к традиционным законам красоты, то в этих скульптурах есть, во-первых, определенная самобытность и единичность, отчего предмет воспринимается чувственно, а во-вторых, скульптура выражает тогда не только его сиюминутное состояние, но и непосредственно предшествующее, образы которого еще не улетучились, и в то же время намекает на то, которое вот-вот последует. Вот почему так наглядно передают одежды движение, а с ним и живость. Вот почему древние, любившие ваять с натуры, воспроизводили одежду так искусно, что возникла поговорка: они изображают не только то, что есть, но и то, что было до этого и будет затем. Поэтому они передают не только главное в одежде, но и мелочи, притом с такой тонкостью и точностью, что забываешь о материале скульптора и видишь лишь материал одежды, который так и хочется сложить, скомкать в руке. А многие новые мастера, напротив, укладывают материю так называемыми благородными складками, воспроизводят их в бронзе или мраморе, тщательно избегая при этом слишком мелких подробностей, чтобы не нарушить спокойствия, и добиваются того, что зритель видит большие, благородные массы складок, но в каждой складке царит материал скульптуры, а не одежды, это мраморные и бронзовые складки, и душа зрителя остывает, и он думает, что в такой одежде человек не сдвинется с места, потому что бронзовые складки мешают ему. Так же как с одеждой, обстоит дело и с телом, оно представляет собой одежду души, а ведь только душа может быть предметом, который через образ и подобие тела изображает художник. Древние и тут следовали за природой, и если они совершали ошибки, которые с точки зрения строгого и привередливого естествоиспытателя заслуживали бы порицания, то с точки зрения искусства — а для него вещественность не так важна — это не грех. Зато все извилины частей тела до мелочей отделаны так, переданы так точно, так тщательно, что видны и теперешнее, и непосредственно предыдущее состояние, что части тела, как я уже сказал это об одежде, создают впечатление движения, кажутся живыми. Части тела, как и одежду, многие новые мастера изображают крупно, обобщенно, чураются разработки, боятся мелочности, а от этого мышцы получаются какими-то гладкими, застывшими, негибкими, как стекло, и пошевелиться фигура не может. Сказанное способно дать некоторое понятие о том, что в искусстве подразумевается под движением. Подразумеваемое же под покоем состоит, пожалуй, прежде всего в том, что всякий изображаемый искусством предмет пребывает, строго говоря, в покое. Катящаяся повозка, скачущая лошадь, обрушивающийся водопад, летящая туча, даже дрожащая молния представляют собой в изображении нечто застывшее, неподвижное, и только средствами, на которые я уже намекнул, художник способен передать движение через подвижность, через обман зрения, одновременно поднимая предмет за пределы непосредственно изображенного и придавая ему несравненно большее значение. Но изображенное движение не должно быть нарочитым, тогда эти средства не помогут, художник потерпит неудачу и будет смешон. Например, лошадей, падающих со скалы в пропасть, не следует писать висящими в воздухе, а то получится скорее рассудочная картинка, чем произведение искусства, способное вызвать восторг. Поэтому писать водопад с его постоянно меняющимся видом куда менее опасно, чем писать выливающуюся из сосуда жидкость, когда воображение терзается мыслью, что сосуд не делается пустым. Парящий высоко в небе коршун на картине величествен, а падающий на свою добычу прямо перед нашими глазами может быть весьма неприятен. Поднимающийся по горам туман красив, а дым из только что выстрелившей пушки раздражает нас тем, что так и не рассеивается. Понятно, что твердых границ возможного при передаче движения нет и что большие таланты могут идти в этом смысле гораздо дальше, чем маленькие. Очень часто, например, случалось мне видеть изображения едущих повозок. Лошади, судя по положению их ног, находятся обычно в движении, а спицы колес явно пребывают в полном покое. Большой художник изобразит нам туман мелькающих спиц и привнесет, прибавит еще что-нибудь, чтобы мы увидели повозку действительно едущей. Помимо разобранного мною сейчас понятия материального покоя, гораздо чаще, пожалуй, под покоем подразумевается тот художественный покой, без которого произведение искусства, будь то картина, поэтическое сочинение или музыка, перестает быть произведением искусства. Это всесторонняя согласованность всех частей, их слитность в едином целом, рождаемая той рассудительностью, которая обязана присутствовать и в высочайшем восторге художника, той способностью подняться над произведением, обозреть его, внести в него, несмотря на бушующие в нем страсти, некий порядок, которая делает творчество человека похожим на творчество Бога и создаст так восхищающие нас меру и лад. Движение возбуждает, покой наполняет душу, и в ней возникает та завершенность, которую мы называем красотой. Нет сомнения, что другие представляют себе при этих словах нечто иное, что это иное может быть не хуже или лучше моего — обычно в такие расхожие слова каждый вкладывает свой собственный смысл. Хорошо, что, как правило, творческая сила действует не по таким предписаниям, а попадает в точку потому, что она — сила, и попадает тем верней, чем больше совершенствуется на своем самобытном, соответствующем ее природе пути. Для понимания искусства, для тех, кто созерцает и обсуждает его творения, толкование таковых, облекание их сути в слова — дело очень полезное, только не нужно превращать слова в главный предмет и не нужно настаивать на вкладываемом в них смысле до такой степени, чтобы проклинать все, что идет с этим смыслом вразрез. Иначе следовало бы больше всего порицать величайшего и единственного художника, Бога, который сотворил такое несметное множество форм и чьи труды и в самом деле вызывают нарекания людей недалеких, полагающих, что они бы сделали все иначе.
При этих словах в зал вошел Густав. Сумрак уже сильно сгустился, но дождь все не шел.
— Вот он еще на той ступени, на которой вы были прежде, — сказал мой гостеприимец, указывая на подошедшего к нему Густава.
— Что ты имеешь в виду, отец? — спросил мальчик.
— Мы говорим об искусстве, — отвечал мой гостеприимец, — и я говорю, что ты еще не в состоянии познавать произведения искусства и судить о них так, как наш гость.
— Ну, я и сам так считаю, — сказал Густав, — потому-то он отчасти и мой учитель, и если в знании искусства он берет пример с тебя, Ойстаха и матери, то я буду брать пример с него.
— Это хорошо, — сказал мой гостеприимец, — но это не совсем то, о чем мы говорили, и к сути дела не имеет отношения.
С этими словами, как бы предотвращая дальнейшие вопросы, он подошел к окну, а мы последовали за ним.
Полюбовавшись все более великолепной картиной темневшего над равнинами неба, мы уже в переходивших во мрак сумерках спустились по мраморной лестнице в столовую, поскольку уже наступил час ужина.
Гроза, разразившаяся ночью и наполнившая одну ее часть громыханьем грома, а другую только дождем, сменилась сверкающим, ясным утром.
В этот день первым делом я пошел к мраморной статуе. Вчера, когда мы спускались по лестнице, я видел ее неясно и лишь поверхностно освещенной молнией. На лестнице было уже слишком темно. Сегодня, в спокойном и ясном свете дня, падавшем на лестницу через стеклянную крышу, статуя казалась простой и строгой. Я не думал, что она так высока. Я стал напротив нее и долго ее рассматривал. Мой гостеприимец был прав, я не находил никаких отдельных красот в новейшем значении слова, я даже вспомнил на лестнице, что при мне часто говорили о какой-нибудь книге, о каком-нибудь спектакле или картине, что в них много красот, и тут перед статуей мне стало ясно, как несправедливо такое суждение, или, если оно справедливо, как бедно произведение, если в нем есть только красоты, пусть даже в изобилии, но не само оно — красота. Ибо в великом произведении красот нет, их тем меньше, чем произведение целостнее и единичнее. Только теперь я понял, что когда говорят, что у такого-то мужчины, такой-то женщины красивый голос, красивые глаза, красивый рот, то тем самым и говорят, что прочее не так красиво. Иначе не стали бы выделять что-то одно. То, что применимо к живому человеку, неприменимо к произведению искусства, где все части должны быть одинаково хороши и ни одна не должна выделяться, иначе оно как произведение искусства не чисто и, строго говоря, произведением искусства не является. Несмотря на то или, вернее, именно потому, что я никаких отдельных красот в статуе не нашел, она, как мне стало ясно теперь, снова произвела на меня чрезвычайное впечатление, какое часто возникало у меня от красивых вещей, даже от поэтических сочинений, оно было, если так можно выразиться, более общего свойства, таинственнее, загадочнее, глубже, сильнее. Но и причина его была где-то дальше и выше, и мне стало понятно, какая это высокая вещь — красота, насколько ее труднее постичь и выразить, чем отдельные человеческие радости, и я увидел, что заключена она в великом духе и оттуда нисходит на людей, порождая и создавая великое. Я почувствовал, что в эти дни продвинулся далеко вперед.
Впоследствии я говорил о статуе и с Ойстахом. Он очень обрадовался тому, что я нашел ее такой прекрасной, и сказал, что ему давно уже хотелось поговорить со мной об этом произведении, но это было невозможно, потому что сам я о статуе не заговаривал, а от диалога толк бывает только тогда, когда предметом увлечены обе стороны. Теперь мы вместе осматривали скульптуру и обращали внимание друг друга на свойства, которые нам открывались. Особенно многое о создании, о пропорциях, о закономерностях мраморной статуи и о тайнах ее воздействия мог рассказать Ойстах, — хотя эта скульптура в своей простоте, в своей все более поражавшей меня естественности как бы ускользала от всякого разбора подробностей. Я жадно слушал, чувствуя верность его замечаний, хотя не всегда понимал его так хорошо, как моего гостеприимца, потому что Ойстах не умел говорить так ясно и просто, как тот. Я продвигался в познании этой статуи, и у меня было такое чувство, будто после его слов она каждый раз приближалась ко мне все больше.
Ойстах добыл множество рисунков со статуй и других резных или как-то иначе изваянных средневековых скульптур. Мы сравнивали эти изваяния с древнегреческими. Пользовался он для сравнения также подлинными фигурками ангелочков, святых и других особ, имевшимися в доме роз или поблизости. Тут я воочию увидел, как верно то, что говорил мой гостеприимец о греческом и средневековом искусстве. В греческих произведениях было что-то юношеское и в то же время мужественно-зрелое, в них наряду с великолепной естественностью были мера и осмотрительность. В средневековых скульптурах чувствовался добрый, простой, бесхитростный нрав, с искренней верой искавший средств выразить себя, не вполне с этими средствами справлявшийся, не знавший того и все же достигавший такого воздействия, которое и сейчас властвует над нами и нас изумляет. Это говорит душа, это она восхищает нас своей чистотой и строгостью, тогда как позднейшие времена — их Ойстах тоже представил множеством рисунков со скульптур — создавали, при всей их разумности и просвещенности, при всем их знании художественных средств, лишь холодные фигуры в неправдоподобно развевающихся одеждах и неестественных позах, совершенно лишенные пыла и страсти, потому что их не было у художника, фигуры без всякого проблеска души, потому что художник работал не душой, а неким расчетом, потрафляя господствующим взглядам на искусство ваяния и возмещая нехватку чувства неспокойностью и суматошностью своего творения. Что касается естественности, то тут, по-моему, средневековье к совершенству не стремилось. Рядом с какой-нибудь великолепной, безупречной в своей простоте и реальности головой можно увидеть прямо-таки немыслимые формы и сочленения. Художник этого не видел, он выражал своим произведением состояние своего духа, никаких других целей у него не было, и к цельности чувственного восприятия он не стремился, ибо это, во всяком случае в его художестве, его не заботило и никакого недостатка он не замечал. Поэтому и у нас возникает впечатление искренности, хотя мы, в отличие от средневекового творца, замечаем пластические недостатки произведения. И это — лишнее свидетельство превосходного качества тогдашних работ. Чудесные дни провел я с Ойстахом за этими сравнениями и наблюдениями.
Довелось мне вернуться и к картинам старинных, давно прошедших времен. В ранней юности у меня было отвращение к старинной живописи. Мне казалось, что в ней царят темнота и мрачность, не идущие ни в какое сравнение с той веселой прелестью красок, которая представала в новых картинах и виделась мне в природе. Это мнение я, правда, отверг, когда сам стал писать и увидел, что ни в природе, ни даже в человеческом лице нет таких резких красок, какие есть в этюднике, но что зато природа обладает такой силой света и теней, которой я-то уж никакими своими красками передать не способен. Тем не менее я еще не понимал в должной мере того, что совершило искусство живописи в прежние времена. Хотя в чем-то отдельном я продвигался и у меня открывались глаза на многие достоинства старинных картин, я все-таки слишком ограничивался в своих усилиях областью природы, чтобы проявлять живой интерес к чему-то, что сотворено не природой. Поэтому растения, мотыльки, деревья, камни, воды, даже человеческие лица представлялись мне предметами, достойными копирования кистью. Старинные же картины казались мне не копиями, а как бы данностями, драгоценными предметами, где присутствуют вещи, какие принято воспроизводить на картинах. Этот взгляд был полезен для меня тем, что, пытаясь писать творения природы, я не сбивался на подражание какому-нибудь мастеру и в моих работах, при всем их несовершенстве, было что-то очень подлинное и достоверное. Но это же шло мне и во вред: я не учился у старинных мастеров обращению с красками и линиями, а должен был до всего додумываться сам и во многом своей цели не достигал. Хотя позднее я стал больше смотреть средневековую живопись и зимой проводил даже много времени в картинных галереях нашего города, прежнее состояние более или менее бессознательно преобладало, и искусство кисти не нашло у меня той увлеченности, которой оно заслуживало. Разбирая теперь с Ойстахом зарисовки произведений средневековья, рассматривая с ним творения Древней Греции, открывшиеся мне как чудо, сравнивая эти работы с менее старинными работами наших предков и вникая в их различия и связи, я стал и картины моего гостеприимца смотреть иначе, чем смотрел их и другие картины до этой поры. Я не только часто ходил в его картинную и подолгу там оставался, но и спросил каталог картин, чтобы постепенно узнать собранных здесь мастеров, и попросил разрешения ставить по своему желанию ту или иную картину на мольберт, чтобы изучить ее так, как мне хотелось, и часто по нескольку дней рассматривал одну-единственную картину. Какое новое царство открылось моему взору! Если поэты открыли мне мир души, то и здесь тоже был целый мир, это снова был мир души, снова тот же, что и в поэтическом искусстве, мир воспарившей души, но насколько другими средствами он здесь создавался и достигался! Какая сила, какое изящество, какая полнота, какая нежность, как по примеру творца создавалось похожее, такое же, но человеческое творение! Я постигал отношения старинной живописи — у моего друга картины были почти сплошь старинные — с природой. Я увидел, что старинные мастера подражали природе точнее и преданнее, чем новые, что в изучении свойств природы они проявляли несказанное усердие и терпение, большее, может быть, чем я находил в себе, и большее, может быть, чем у многих нынешних ревнителей искусства. Уверенно судить я не мог, потому что слишком мало произведений своего времени я знал и рассматривал так, как рассматривал теперь старые картины, но мне казалось, что глубже проникнуть в сущность природы вряд ли возможно. Я не понимал, как мог я так долго не видеть этого в той мере, в какой я должен был это видеть. Но хотя древние, которыми я теперь занимался, были очень верны действительности, очень внимательны к ней, они никогда не заходили так далеко, как то делал я в своих зарисовках естествоведческих объектов, стараясь передать все их подробности как можно полнее. Это, как я понял, пошло бы во вред искусству, и вместо того, чтобы создавать спокойное общее впечатление, оно погрязло бы в сплошных подробностях. Мастера, представленные в коллекции моего гостеприимца, умели передавать подробности обобщенно и при том простыми средствами, подчас каким-нибудь одним мазком, так что казалось, что различаешь каждую черточку, а присмотревшись, ты понимал, что это лишь следствие широкого и общего взгляда. А такой широкий взгляд обеспечивал им и широту впечатления, которой не добивается тот, кто воспроизводит мельчайшие части в мельчайших подробностях. Я только теперь увидел, какие прекрасные представители рода человеческого живут на холсте, как благородны их части тела, как разнообразны — лучезарны, сильны, умны, мягки — их лица, как аристократичны, даже если это рубище нищего, их одежды и как точно выбрано их окружение. Я увидел, что краски лица и других частей тела — это светящийся свет человеческого существа, а не красящее вещество, которым невежда придает своим портретам противную красноту или белизну, что густота теней такова, какова она и в природе, а окружение пишется еще темнее, чем достигается сила, приближающаяся к той, какую мироздание дает через настоящий солнечный свет, написать который не в силах никто, потому что нельзя окунуть кисть в свет, та сила, что так восхищала меня теперь в старинных картинах. Из природы внечеловеческой я видел светящиеся облака, ясные небеса, пышные, рвущиеся вверх деревья, раскинувшиеся равнины, оцепеневшие скалы, далекие горы, светлые, бегущие ручьи, зеркальные озера и зеленые пастбища, я видел строгие здания, видел так называемую тихую жизнь — в растениях, цветах, плодах, животных, зверьках. Я восхищался умением и умом, с каким все это обдумано и выполнено. Я узнавал, как писали наши предки пейзажи и животных. Меня поражала нежная эмаль, покрывая которой свои картины, художник придавал им прозрачность, поражала мощь, с какою другой художник клал непрозрачные краски и создавал из них гору, чтобы та, ловя и отражая свет, тем самым заставляла и этот свет писать картину, краски для которой на палитре не было. Я узнавал, как художник накладывал на прозрачные краски более густые и плотные, как другой кладет краску на краску широкой кистью, передавая ею переходы и ею же нанося контур. Почему старинные картины мрачноваты, мне было понятно: краски темнеют от масла, а лак постепенно приобретает коричневый цвет. Избегать того и другого осмотрительные мастера умели лучше, чем торопливые, и у моего гостеприимца были картины, которые светились роскошеством красок, сохраняя при этом достоинство и отличаясь насыщенностью цвета, а не красками. Поскольку я уже много занимался красками, я часто подолгу задерживался у какой-нибудь картины, чтобы выяснить, как она написана и каким образом разработана ее тема. У Матильды, в комнатке с розами, куда мой гостеприимец привел меня, чтобы посмотреть живопись и там, висели четыре маленькие картины, две Тициана, одна — Доминикино и одна Гвидо Рени. Все были почти одинакового размера и в одинаковых рамах. Они были самыми лучшими в собрании моего гостеприимца. Чем больше ты их рассматривал, тем больше пленяли они душу. Я, пожалуй, слишком часто просил моего гостеприимца показывать мне эти четыре картинки, и он не уставал отпирать мне женские покои, водить меня в комнату Матильды, оставлять меня с картинами и говорить со мною о них. Иной раз для наилучшего освещения он снимал их и ставил на стол или на кресло. Замечательные дни провел я тогда в доме моего друга. Душа моя пребывала в приподнятом, возвышенном и возвышающем настроении.
Однажды я спросил его, как достались ему эти картины.
— Они попали в дом постепенно, в ходе собирательства и, бывало, по воле случая, — отвечал он. — Много картин я унаследовал от дяди, но они были не самые лучшие, как теперь у меня, и часть их я продал, чтобы купить другие, хоть и в меньшем числе, но получше. Я уже говорил вам, что был в Италии. Я трижды ездил в эту страну. Кое-что я нашел там. Я постоянно искал картины, какие-то покупал, какие-то перепродавал, покупал новые, и так они все время менялись, пока не установилось теперешнее положение. А теперь я уже ничего не продаю и не меняю, даже попадись мне что-то из ряда вон выходящее, чего я не мог бы приобрести, не отдав чего-то из прежнего. В старости так привязываешься к привычным вещам, что не можешь расстаться с ними, даже если они приходят в негодность, обветшали, поблекли. Я и от старой-то одежды отказываюсь неохотно, а уж если бы пришлось разлучиться с одной из картин, которые так давно меня окружают, не избежать бы мне большой боли. Пускай же они остаются как есть и там, где висят, пока я не умру. В самой мысли, что мой преемник оставит картины на месте и будет почтителен к ним, есть для меня что-то очень приятное, хотя она нелепа и я гоню ее. Ведь жизнь состоит из стремлений и устремлений, а потому из перемен, и перемены неизбежны и здесь. Я давно уже ничего не покупал, кроме одного милого маленького пейзажа Рейсдала, который висит у двери в картинную и на который вы так любите смотреть. Я купил бы только что-нибудь очень ценное, окажись это мне по силам. Какой-нибудь картины, которая мне очень нравилась и которую я хотел заполучить, мне приходилось ждать долгие годы либо из-за упрямства владельца, связывавшего с продажей картины, хоть он и желал сбыть ее, невыполнимые условия, либо оттого, что тот никак не мог расстаться с картиной, хотя обращался с ней дурно и губил ее. Порой мне приходилось покупать плохие картины, привлекавшие глаз красочностью или другими качествами, для того чтобы иметь запас для обмена. Ведь есть люди, которым картины доставляют радость, которые не отдают старых, значительных картин, если у них таковые есть, но не распознают их и причиняют им вред плохим обращением с ними. Они предпочитают картину более им приятную и больше им нравящуюся, даже если она менее ценна, и готовы меняться. Обмен для них радость, а когда я объяснял им, что их картина дороже моей, и после точной оценки возмещал эту разницу деньгами, удовольствие их возрастало еще более, ибо они все-таки сомневались в том, что я прав и не переоцениваю старинную картину из какого-то пристрастия к ней, ведь их глаза говорили им, что разница не так велика. Таким образом я приобрел кое-какие славные вещи, не попирая своего чувства справедливости, как то часто случается при купле-продаже картин. Святую Марию с ребенком, которая вам так нравится и которую я назвал бы, пожалуй, украшением моего собрания, Роланд нашел на каком-то чердаке. Он полез туда вместе с хозяином дома, чтобы купить старое железо, среди которого находились средневековые шпоры и шпага. Картина была без рамы и даже не свернута, а сложена как платок и лежала в пыли. Роланд не мог разобрать, представляет ли она ценность, и купил ее за небольшие деньги. Какой-то солдат прислал ее когда-то из Италии. Он просто воспользовался холстом для упаковки и уложил в него белье и старую одежду, чтобы дома их починили ему. Поэтому в тех местах, где холст был сложен, образовались трещины, а на трещинах не осталось краски: она отскочила, когда картину силой согнули. К тому же, поскольку полотно оказалось, по-видимому, слишком велико для обертки, от него отрезали полоску-другую. Порезы ясно о себе заявляли, потому что другие края были очень ветхие и еще хранили следы гвоздей, прикреплявших некогда холст к подрамнику. Из-за передряг, в которые попадала картина, краска сошла не только на сгибах, но и в других местах, обнажив там не только грунтовку, но и расползшиеся нити старого полотна. В таком виде и попала в Асперхоф эта картина. Мы прежде всего развернули ее и промыли чистой водой, а потом нам пришлось придавить четыре ее угла гирями, чтобы расправить ее и рассмотреть. Так она и лежала перед нами на полу комнаты. Мы узнали, что это работа итальянского живописца, узнали также, что работа старинная. Но какого художника или хотя бы какого времени, по состоянию картины определить никак нельзя было. Сохранившиеся в целости части позволяли, однако, полагать, что полотно представляет немалую ценность. Мы решили изготовить доску, на которую можно было бы наклеить картину. Обычно такие доски мы делаем из двух лежащих друг на друге кусков дубового дерева, волокна которых расположены перпендикулярно друг к другу, и решетки, благодаря чему дерево не коробится и не перекашивается. Когда доска была готова и замазка на ней совсем высохла, на нее наклеили полотно. Там, где края картины были обрезаны, мы сделали деревянную плоскость больше и оклеили эти ее незаполненные места подходящим холстом, чтобы придать картине приблизительно тот формат, который она имела первоначально и который делал ее приятней для глаза. Затем пошло очищение картины от остатков лака и от налипшей на нее грязи. Лак легко снимается обычными средствами, но не так легко было удалить вековую грязь, не рискуя повредить краски. Очищенная, поставленная на мольберт, картина явила нам теперь гораздо большую красоту, чем та, в какой она предстала нам после первой, поверхностной промывки. Но трещины и плешины еще искажали ее настолько, что и теперь оценить ее по достоинству нельзя было, даже будь у нас значительно больше опыта. Роланд и Ойстах приступили к реставрации. Нет ничего труднее, и ничто так не портило и не обесценивало картин, как их восстановление. Думаю, мы пошли довольно верным путем. Первоначальная краска ни в коем случае не покрывалась новой. К счастью, картину ни разу не реставрировали и не закрашивали, так что налицо была либо только первоначальная краска, либо не было вообще никакой. В плешины краска, на которую указывало их окаймление, вводилась наподобие шпаклевки и заполняла ямку. Краски мы брали как можно более сухие и растирали их настолько мелко, насколько этого можно было добиться скольжением камня по камню. Если после просушки опять все-таки появлялось углубление, оно снова заполнялось тою же краской, и так продолжалось до тех пор, пока впадина не исчезала. Оставшиеся бугорки счищались ножичком. На грязь, удалить которую не удавалось, тоже накладывалась краска соответственно с окаймлением. Если из-за масла, в ней содержащегося, или по каким-либо другим привходящим причинам краска через некоторое время темнела и выделялась на картине пятном, на это место концом тонкой кисти наносили как бы пунктиром очень сухую краску, пока оно не переставало отличаться от окружающего. Иногда эта процедура повторялась несколько раз. Наконец уже нельзя было невооруженным глазом различить места, где находилась новая краска. Только увеличительное стекло показывало еще такую штопку. На эти процедуры у нас уходили годы, главным образом из-за других работ, которые приходилось делать в перерывах, но и оттого, что сама наша метода требовала перерывов, чтобы могли высохнуть краски или чтобы дать им время показать, какие перемены с ними неизбежно произойдут. Но зато, глядя на готовое полотно, нельзя было заметить, что не все его части старые, на нем были тонкие трещины старинных картин, и оно являло всю чистоту и ясность кисти, когда-то его создавшей. Когда при восстановлении старых картин на них наносят слой краски и тем определяют их колорит, этот слой нередко закрывает прорезанные временем трещинки, не только показывая, что картина была восстановлена, но и покрывая краски некоей пеленой, делающей их мутными и непрозрачными. Такие картины производят часто мрачное, неприятное и тягостное впечатление. Многие, наверное, назовут наш восстановительный труд пустым и ненужным, тем более что он требует столько времени и стольких усилий. Но нам он доставлял большую, искреннюю радость. Вы, конечно, его не осудите, ведь вы проявляете такой интерес к произведениям искусства. Когда перед нами постепенно возникало создание старинного мастера, нас воодушевляло не только чувство некоего сотворения, но и более высокое чувство воскрешения вещи, которая иначе пропала бы и которой мы сами сотворить не могли бы. Когда какие-то части картины были уже готовы, оказалось, что краски ее чище и ярче, чем мы думали, и что картина обладает большей ценностью, чем мы поначалу предполагали. Пока она была в трещинах и плешинах, пока на ней оставались пятна грязи, которых мы не могли удалить, они оказывали влияние на уцелевшие и даже на очень хорошо сохранившиеся места, придавая всему какой-то неприятный оттенок. Но когда несообразные места были на довольно большой площади закрыты соответствующими красками и новая краска, вместо того чтобы противоречить старой, поддержала ее, проявились такая чистота, такой блеск, такая прозрачность и даже такой огонь, что мы диву дались. Ведь если картина сильно повреждена, нельзя судить о последовательности переходов, пока не видишь все полностью. Правда, среди неисправленных и несообразных мест особый перелив красок выделялся еще заметнее, но можно было предвидеть, что, только когда вся картина будет готова, ее колорит произведет впечатление действительно художественное. Во время работы я употребил много сил на то, чтобы выяснить происхождение картины, всю ее историю. Однако я ничего не добился. Солдат, приславший холст из Италии, давно умер, и в живых не осталось вообще никого, кто был близок к этому событию, ибо произошло оно гораздо раньше, чем я полагал. Дед последнего владельца картины часто рассказывал, что слышал, будто какой-то солдат из их рода прислал когда-то домой из Италии завернутыми в образ Богородицы свои чулки и рубахи. Правдивость этого рассказа подтверждалась тем, что поврежденная икона Богоматери нашлась потом на чердаке дома. Не удалось мне узнать также, какие обстоятельства привели того немецкого солдата в Италию. А уж о том, чтобы выяснить, из какой местности Италии прислана картина, не могло быть и речи. Когда через много времени, после долгих трудов со множеством перерывов, картина предстала наконец перед нами готовой, в красивой, под старину, золоченой раме, для нас это был своего рода праздник. Вызвали Роланда, поскольку незадолго до окончания работ он куда-то уехал, поручив брату их завершить. Приглашено было много соседей, один любитель и знаток старинного искусства, уведомленный мною об этом событии, прибыл даже, можно сказать, издалека, чтобы посмотреть восстановленную картину, явились и другие, хотя и без приглашения, случайно прослышав о наших делах и зная, что в Асперхофе они нежеланными гостями не будут. Неверно говорят, что красивая женщина без украшений красивее, чем в них, точно так же неверно, что нет нужды в раме, чтобы судить о картине. Для нашей иконы Богоматери я заказал раму по зарисовкам средневековых образцов и, бывая по делам в городе, проверял, как идет ее изготовление. Она прибыла в Асперхоф гораздо раньше, чем картина была готова, и дожидалась этого упакованной, в ящике. Пока картина не была готова, мы ни разу не пытались вставить ее в раму, чтобы не ослабить впечатления. Когда дело касается новых картин, рама, правда, как раз и показывает, что нужно еще что-то прибавить и изменить, и многое в таких картинах доделывается лишь после того, как их увидели в раме. Не то со старыми, восстановленными картинами, особенно если их восстанавливают по нашему способу. В этом случае имеющееся указывает путь работы, нельзя писать иначе, чем пишешь, и насыщенность, яркость и блеск красок тут обусловлены тем, что уже есть на холсте. Как будет потом картина выглядеть в раме, не зависит от воли восстанавливающего, и если в раме она выигрывает или проигрывает, то это дело первоначального ее творца, работу которого нельзя перестраивать. Когда наша дева Мария, еще даже не отлакированная, взглянула на нас из стариннообразной, очень подходящей ей рамы, мы увидели, какую прелесть и силу передал старинный мастер в своей картине. Хотя рама была вся в рельефах цветов, орнаментов и даже частей человеческого тела и давала сильные отблески, картина не казалась неспокойной, она подчиняла себе раму, превращала ее богатство в милое разнообразие, а сама излучала силу и красовалась достойным себя убранством. Все присутствующие тихо ахнули, и я порадовался, что не ошибся, когда, полагаясь на мощь картины, заказал для нее такую богатую раму. Мы долго стояли перед картиной, любуясь красками обнаженных частей, одеяния и фона, красками, которые в сочетании с простотой и величавостью линий при соразмерном распределении площади создавали исполненную такого достоинства, такой святости цельность, что нельзя было не впасть в глубокую, поистине благоговейную задумчивость. Заговорив лишь спустя некоторое время, мы стали обсуждать то и се и, что естественно, осмелились высказать свои предположения насчет авторства. Называли Гвидо Рени, называли Тициана, называли школу Рафаэля. На все находились причины, а итог был таков, каким он и поныне остался, — что нам неизвестно, чья это картина. Роланд был чрезвычайно доволен, что и в испорченном полотне угадал прекрасное произведение и сделал такую удачную покупку. Тогда он был еще очень молод, далеко не так опытен, как теперь, и потому не был вполне уверен, что поступил правильно. По Ойстаху было видно, что у него, как говорится, душа радуется. Завершился день угощением для гостей. Впоследствии мы нашли для картины место, где она больше всего выигрывала. Наградой Роланду послужило одно произведение, о котором он давно мечтал, а Ойстах, я прекрасно это видел, нашел величайшее удовлетворение в том, что стал ближе к нашим художественным кругам. Человеку, у которого было куплено это полотно, я дал еще некую сумму, далеко превзошедшую его ожидание: ведь он никогда не восстановил бы картину, а без Роланда и не продал бы, и она бы все больше ветшала, пока наконец не погибла. Позднее я не раз стаивал перед нею и любовался. Я смотрел на лицо и на руки матери, на частью голого, частью пристойно закутанного прекрасными пеленами младенца. Примета Италии часто состоит в том, что младенец не на руках у матери, а стоит перед нею на каком-нибудь высоком предмете, изящно склонившись к ней, и она слегка обнимает его. Художник нашел таким образом не только возможность написать тело ребенка в гораздо более красивой позе, чем если бы мать держала его у груди, но и достиг значительно большего — возможности показать божественное дитя во всей его силе и свободе, словно мы уже чтим мощь будущих его деяний. То, что южные народы пишут Спасителя в младенчестве исполненным такой чувственной красоты, меня всегда восхищало, и если на моей картине святое дитя выглядит скорее как некая могучая, дивно красивая плоть юга, меня это не смущает, ведь и у великолепного Рафаэля младенцы Иисусы и Иоанны выглядят тоже именно так, а впечатление производят огромное. То, что мать, у которой такой красивый рот, возводит глаза к небу, мне не очень нравится. Тут, по-моему, есть какое-то преувеличение, художник вкладывает в действие, которое он заставляет произвести перед нами свою героиню, значительность, которой мы в самой ее фигуре не видим. Кто действует более простыми средствами, добивается большего. Если бы он смог вложить святость и величие не в возведенные к небу глаза, а в саму фигуру, глаза же просто смотрели бы вперед, получилось бы лучше. У Рафаэля мадонны смотрят вперед спокойно и строго, и они становятся небесными царицами, тогда как множество других — всего лишь молящиеся девушки. Из этого я и заключаю, что картина наша — не из школы Рафаэля, как ни напоминает эту школу прелестная фигура ребенка. Висит картина теперь не там, где была вначале. Все картины мы не раз перевешивали, и есть своя радость в том, чтобы пробовать, не будет ли при ином расположении общее впечатление лучше. Серьезно обсуждали мы также и не раз пробовали, какой цвет дать стенам, чтобы картины выделялись на них как можно лучше. Остановились мы на том красновато-коричневом колере, который вы застали в картинной. Я теперь ничего больше менять не буду. Теперешнее расположение картин стало мне привычным и милым, и во избежание неприятного впечатления ничего другого видеть я не хочу. Здесь моя радость, здесь цветок моей старости. Приобретение картин не всегда, как вы можете заключить из сказанного, дававшееся так легко, как то было в случае с девой Марией, представляет собой особую линию в моей жизни, и с линией этой связано много и радостных, и грустных воспоминаний. Мы вступали в разные отношения, знакомились с разными людьми, отдали много времени восстановлению картин, раскрытию обманов, познанию всяких красот, а также чертежам и наброскам рам, ибо все картины мы постепенно вставили в новые, сделанные по нашим наброскам рамы, и теперь эти произведения окружают меня как старые, достопочтенные друзья, каковыми они с каждым днем все больше становятся, украшая и одаривая счастьем остаток моих дней.
Рассказ моего гостеприимца вызвал у меня, разумеется, еще больший интерес к его картинам.
Теперь я обратил внимание и на гравюры моего гостеприимца. Поскольку они не были ни в рамах, ни под стеклом, а лежали в больших ящиках стола в читальной комнате, рассматривать их оказалось гораздо удобнее, чем картины. Сначала я вынимал папки одну за другой и смотрел все гравюры подряд. Но потом я перешел к более упорядоченному осмотру. Если мой гостеприимец не выпускал книги из дому, но позволял своим гостям брать нужное к себе в комнату, то так же он поступал и с гравюрами, только в комнату он всегда отдавал сразу целую папку, а не какие-то отдельные листы. Делал он это для их цельности и сохранности. Поскольку мне не хотелось часами сидеть без перерыва в читальной комнате, разглядывая гравюры, мой гостеприимец позволил мне брать папки в мое жилье, и я мог рассматривать их содержимое не спеша, прерывая это занятие другими, мог, продержав у себя папку сколько угодно времени, заменить ее другою. Позднее, просмотрев все папки и взяв на заметку работы, особенно мне понравившиеся или одобренные моим гостеприимцем и Ойстахом, я при случае открывал лишь какую-то одну, чтобы взглянуть на какое-то одно милое мне творение гравировального резца. Я заносил в свою записную книжку и те гравюры, которые и сам купил бы, если бы они еще были в продаже. Узнав, таким образом, и научившись различать манеру разных мастеров и разных времен, я снова, как то было с живописью, пришел к выводу, что и у этого искусства, за редкими исключениями, прошлое прекрасней, чем настоящее, на примере гравюр мне стало это даже еще яснее, чем на примере живописи, поскольку у моего друга были и старые гравюры, и новые, а новых полотен в его картинной висело очень мало, так что сравнивать было труднее, да и хуже помнил я новые картины, которые видел в городе и на которые смотрел тогда, наверное, другими глазами. Все лучше понимая тонкости, мастерство, красоту, уверенность исполнения, я решил, поскольку приобретать гравюры мне было гораздо легче, чем живопись, купить первым делом листы, которые показались мне превосходными, и положить тем самым начало коллекции. На разглядывание и запоминание гравюр у меня ушло довольно много времени. Ойстах часто бывал со мной, мы говорили с ним о гравюрах, и с каждым днем этот человек вырастал в моих глазах все более и более.
В те дни я часто захаживал также в столярную и другие мастерские и смотрел, над чем там трудятся.
Тут я заметил, что мой гостеприимец еще ничего не заказал сделать из привезенного мною мрамора, камня и в самом деле необыкновенной красоты, которую я сумел как следует оценить, доставившего большую радость и ему самому. Да и вообще не видно было в доме роз этого мрамора. Раньше он хранился в складском помещении, где часто находились и мои камни. Теперь его там не было. Перетащили ли его, во избежание повреждений, в другое, более надежное место или куда-то отправили, чтобы пустить в работу? Последнее нельзя было представить себе, ибо все вещи из дерева и камня делались у моего гостеприимца в его же доме, для чего не только имелись всяческие приспособления и инструменты, но и всегда можно было привлечь недостающую рабочую силу.
Однажды я поехал в Лаутерскую долину и пробыл там некоторое время. Отправился я туда не для обычных своих занятий, а чтобы посмотреть, как идет работа с моим мрамором. Близ гостиницы «У кленов» — часах в двух пути от нее — находилась мастерская, где пилили и шлифовали мрамор и делали из него разные вещи. Место это называлось Ротмоор[6], почему — выяснить я не мог: везде был камень и журчала вода, а болота на много миль кругом не было и следа; но так уж называлось это место. Там находилось несколько моих глыб мрамора, из них должны были изготовить кое-что для отца. Самая большая глыба была почти розовая, из нее нужно было высечь бассейн для сада. Питая слабость к растениям, я заимствовал его форму у растительного царства. Это был лист, очень похожий на лист вороньего глаза, а в нем блестящий черный шар. Лист я вылепил с натуры из воска, только зубцов сделал меньше, а глубину увеличил. Один очень искусный в лепке рабочий воспроизвел мой лист в гипсе, значительно увеличив его, а уж гипсовый лист должен был послужить моделью для мраморного бассейна. На дне его, как и на листе вороньего глаза, должен был лежать шар, а из поднимающегося над листом стебля в него должна была тонкой струею литься вода. Сам лист следовало высечь из розового мрамора, ствол и стебель — из другого, более темного. Я хотел посмотреть в Ротмооре, как продвигается работа, и пытался путем обсуждений добиться большей легкости и чистоты. Из другого мрамора заказаны были другие предметы. Прежде всего мостовая вокруг вороньего глаза. С листа вода должна была стекать на эту мостовую, а в ней предполагалось сделать покатое углубление для дальнейшего стока. Мостовая была задумана бледно-желтоватого цвета, я набрал для этого изрядное количество камней. Для беседки в саду я задумал сделать доску для столика. Еще были заказаны маленькие консоли, несколько карнизов и пресс-папье. Вещи эти находились в работе. Задатком ее успеха было гнездо, где лежали два яйца, мрамор которых почти не отличался по цвету от яиц чибиса.
Я был очень доволен работами в том состоянии, в каком они тогда находились. Камень для бассейна был вытесан не только в общих чертах, вчерне был готов и лист, так что можно было приступить к обтачиванию и шлифовке. Два человека трудились исключительно над этим предметом. В гипсовой модели я велел кое-что изменить. Она показалась мне недостаточно легкой, не передающей как следует нежности мира растений. Я сходил в горы, поискал ростки вороньего глаза и принес их вместе с их землею в горшках, чтобы они не так скоро увяли и могли служить образцами подольше. На этих растениях я пытался показать, чего еще не хватало в модели. Я объяснял, где какая-то часть листа должна лечь мягче, какая-то его кромка изогнуться нежнее, чтобы изваяние, когда оно будет готово, не производило впечатления чего-то искусственного, а казалось поистине выросшим. Поскольку при объяснении я старался не обижать человека, изготовившего гипсовую модель, и облекать все в форму скорее некоего совещания, с моим мнением очень охотно соглашались, и поскольку первые попытки увенчались успехом и бассейн, приобретя большее сходство с листом, стал и явно красивее, работу продолжили с увлечением, стараясь как можно точнее передать признаки живого листа, и наконец с радостью увидели перед собой произведение гораздо более благородное и совершенное. В этом опыте нашли даже некий залог будущих работ и почерпнули надежду подняться в более высокие и веселые сферы. Мастер говорил со мною об этом не обинуясь. Прежде изготовляли предметы по традиционным образцам и рисункам, затем рассылали их и получали за это плату, обычно причитающуюся за подобный товар, так что мастерская могла существовать, но не процветала, не благоденствовала. Никому и в голову не приходило, что к растениям можно обратиться как к моделям. Теперь, направив на них внимание, люди увидели, что горы полным-полны вещей, которые могут им указать, как нужно делать и как нужно облагораживать свою работу.
Я оставался в мастерской, пока гипсовый лист не был совершенно готов и пока я не успокоился насчет того, какими инструментами произведут измерение, чтобы все пропорции модели были повторены в мраморе.
Попросив ускорить работу, чтобы как можно скорее доставить бассейн в отцовский сад, и пообещав наведаться этим летом в мастерскую еще раз, я отправился назад, в дом роз.
Во время своего пешего похода через горы я взошел на обледеневший кар, сел на каменную глыбу и чуть ли не всю вторую половину дня смотрел в глубокой задумчивости на расстилавшиеся передо мною окрестности.
В доме роз я снова занялся осмотром картин. Я взял даже увеличительное стекло и разглядывал, как писали разные старинные мастера, кто брал тупую, жесткую кисть, кто — длинную, мягкую, работали ли они широкой кистью или острой, много ли накладывали первых мазков или сразу пускали в ход тяжелые, непрозрачные краски, доводили ли до конца каждый отдельный участок или сначала делали общий набросок и затем завершали все по частям.
Мой гостеприимец был очень опытен в этих делах и оказывал мне помощь.
Из поэтов я занялся теперь Кальдероном. Я уже мог читать его по-испански и погрузился в его мир с великим интересом.
Мы не раз посещали Ингхоф. Мы музицировали там, играли в разные игры, ходили по самым красивым окрестностям, смотрели все, что было примечательного в саду, на хуторе, в доме.
К цветению роз Матильда с Наталией приехали в Асперхоф. Мы знали день их приезда и ждали их. Когда они вышли из экипажа, когда Матильда и мой гостеприимец обменялись приветствиями, когда матерью было сказано несколько слов Густаву, она обратилась ко мне и с самым любезным, самым милым видом выразила и радость, что застала меня здесь, что я, как она знает, уже довольно давно живу рядом с ее другом и ее сыном, и надежду, что я все это прекрасное время года проведу в Асперхофе.
Я отвечал, что решил жить все нынешнее лето только в свое удовольствие и что я очень благодарен за предоставленную мне возможность находиться в этом доме, где все так способствует развитию ума и души молодого человека.
Наталия стояла передо мною, когда шел этот разговор. Мне показалось, что в этом году она стала еще совершеннее, она была необыкновенно хороша, лучше всех женщин, которых я когда-либо видел.
Она не сказала мне ни слова, только взглянула на меня. Я не нашелся, что сказать ей в знак приветствия. Я молча поклонился, и она ответила таким же поклоном.
Затем мы вошли в дом.
Дни потекли, как в прошлые годы. Мы постоянно стали говорить о картинах, мы говорили о мраморной статуе, стоявшей на здешней прекрасной лестнице, мы часто ходили в картинную и смотрели то одно, то другое, мы стаивали в сумраке лестницы, на которую мягко лился свет сверху, и любовались великолепными пропорциями находившегося там изваяния. Я увидел, что Матильда знает толк в искусстве и любит его всей душой. Наталия, как я заметил, тоже не была чужда искусству, и оно для нее кое-что значило. Я понял теперь, что прежде, когда я меньше обращал внимания на живопись и прочие произведения искусства и они еще не занимали большого места в моей душе, меня щадили и не заводили при мне разговоров об имевшихся в доме произведениях, чтобы не втягивать меня в сферу, находившуюся за пределами моих душевных сил. Вспомнил я теперь также, что и отец никогда не заговаривал со мной о своих картинах по собственному почину и распространялся о них лишь постольку, поскольку я сам заводил этот разговор и задавал тот или иной вопрос. Все они, стало быть, избегали предмета, мне еще незнакомого, ожидая, что мои мысли, может быть, к нему обратятся. Меня это соображение несколько устыдило, и я показался себе по сравнению со всеми, о ком сейчас думал, невеждой и недотепой. Но из того, что они всегда были ко мне так добры и так ласковы, я заключил, что они не осуждали меня и не сомневались в будущем моем интересе к тому, что им уже было дорого. Мысль эта отчасти меня успокоила. Особенно же доволен был я тем, что в беседы об изобразительном искусстве они теперь вступали с какой-то радостью, что, стало быть, теперешние мои высказывания на этот счет не казались им вздорными и им было приятно встречаться со мной на поприще, столь важном для них.
Однажды, когда розы уже отцвели, я невольно оказался свидетелем, если можно так выразиться, слов, сказанных Матильдою моему гостеприимцу и явно предназначенных только ему. Я рисовал в одной из комнат первого этажа решетку окна. На первом этаже дома были сплошь чугунные решетки на окнах. Но это были не те решетки из длинных прутьев, какие ставят на иных домах и на тюрьмах, они были слегка изогнутые, с выпуклостями вверху и внизу, сбегавшимися посредине, словно бы к замковому камню, в прекрасную розу. Роза эта, необыкновенно тонкой работы, была своему образцу вернее, чем то мне когда-либо случалось видеть в изделии из чугуна. Да и вся решетка отличалась изяществом рисунка, и на ее прутьях были, помимо розы, и другие славные орнаменты. Дело шло уже к вечеру, когда я сидел в комнате первого этажа, окна которой глядели на розы, и пытался сделать пока общий набросок решетки, слишком закрытой снаружи этими розами. Отдельные украшения, расположенные в основном снаружи, я хотел зарисовать оттуда позднее. Пока я был погружен в работу, за окном стемнело, словно листву перед ним покрыла тень. Присмотревшись, я увидел, что перед окном кто-то стоит, но кто, я не мог различить из-за густоты вьющихся растений. В эту минуту через открытое окно ясно донесся голос Матильды:
— Как отцвели эти розы, так отцвело и наше счастье.
Ей ответил голос моего гостеприимца:
— Оно не отцвело, а только видоизменилось.
Я встал и отошел от окна в середину комнаты, чтобы не слышать продолжения разговора. А подумав, что будет неловко, если мой гостеприимец и Матильда позднее узнают, что, когда они разговаривали под окном, я находился как раз в той комнате, которой это окно принадлежало, я и вовсе покинул ее и ушел в сад. Увидев через некоторое время, что мой гостеприимец, Матильда, Наталия и Густав подходят к высокой вишне, я вернулся в комнату и убрал оттуда свои рисовальные принадлежности, потому что тем временем совсем уж стемнело и рисовать больше нельзя было.
Когда розы отцвели окончательно, мы решили пожить немного в Штерненхофе. Когда мы подъезжали к нему по холму, я заметил, что стены в лесах, а когда мы приблизились, увидел, что находившиеся на лесах рабочие были заняты тем, что соскабливали побелку с широких наружных камней и чистили их. В отдаленной части дома прежде проделали опыт, который оправдал себя и показал, что без побелки дом будет красивее.
В Штерненхофе со мной обходились так же приветливо, как в прежние времена, и даже, если мое чутье меня не обманывало и если можно уловить такие маленькие различия, еще приветливее. Матильда сама показывала мне все, что, по ее мнению, могло как-то интересовать меня, и при этом объясняла мне все, что нуждалось, на ее взгляд, в объяснении. В этот свой приезд я узнал также, что Матильда купила замок у одного аристократа, который редко бывал в нем и сильно его запустил. Еще раньше замок принадлежал какой-то его родственнице, чьим дедом был куплен. А еще раньше владельцы часто менялись, и поместье оказалось в большом упадке. Матильда начала с того, что за обоюдно приемлемую мзду навсегда освободила от повинностей и сделала неограниченными хозяевами своей земли вассалов замка, которые прежде должны были платить десятину и другие оброки. Второе ее нововведение состояло в том, что хозяйством замка она начала управлять сама и обосновалась в нем с челядью и семьей. Она навела порядок на хуторе и, наняв деятельных людей, привела поля, луга и леса в лучшее состояние. Прекрасные ряды плодовых деревьев, прорезавшие луга и так понравившиеся мне уже в первый приезд, были посажены ею самой, и если можно было где-нибудь получить хорошие плодовые деревья, пусть даже довольно взрослые, она не жалела ни времени, ни труда, чтобы доставить их и пересадить на свою землю. Поскольку соседи стали постепенно подражать ей в этом, вся здешняя местность приобрела тот своеобразный, приятный вид, которым она отличалась от окрестных земель.
Картины, висевшие в покоях Матильды и Наталии, в общем, по-моему, не имели той ценности, что асперхофские, но иные из них были, на мой теперешний взгляд, написаны с величайшим искусством. Я сказал свое мнение моему гостеприимцу, он его подтвердил и показал мне картины Тициана, Гвидо Рени, Паоло Веронезе, Ван Дейка и Гольбейна. Средних или уж вовсе плохих картин, вроде тех, какие — они вдруг вставали у меня перед глазами — мне случалось в прежние годы видеть в иных собраниях, ни в покоях Матильды, ни в Асперхофе не было. Мы и здесь, как в доме роз, часто говорили о живописи, и прекрасней всего были мгновения, когда какую-нибудь картину ставили на мольберт, когда завешивали окна, свет от которых мог помешать, когда картина получала наилучшее освещение и мы все перед ней собирались.
Матильда и мой гостеприимец обычно сидели. Ойстах и я стояли, рядом с нами — Наталия, а нередко и Густав, который в таких случаях бывал очень скромен и внимателен. Говорил о картине главным образом мой гостеприимец, но порой и Густав, а Матильда вставляла какие-то дельные замечания или просто выражала свое мнение. Повторяли, быть может, не раз уже говорившиеся слова, показывали друг другу то, что не раз уже видели, обращали внимание на вещи, которые и так уже знали. Так повторяли испытанное уже наслаждение и вживались в произведение искусства. Я редко участвовал в разговоре, разве что задавал вопросы и просил что-нибудь мне объяснить. Наталия стояла рядом и никогда ничего не говорила.
К нимфе фонтана, что была в саду под стеной плюща, я тоже часто ходил. Раньше я восхищался дивным мрамором, какого дотоле вообще не встречал. Теперь и сама статуя казалась мне замечательным изваянием. Я сравнивал ее с той, что стояла на лестнице в доме моего гостеприимца. Хотя за той было, на мой взгляд, превосходство величия, достоинства и строгости, в нимфе я находил прелестную мягкость и ясность, в ней было, как то и подобает богине источника, что-то успокаивающее, умиротворяющее, и была в то же время та чистота, та, я сказал бы, отчужденность, какой нет в живописи, но которая так явственна в мраморе. Теперь это ощущение отчужденности стало у меня отчетливее, и я понял, что оно возникало у меня и прежде, когда я смотрел на мраморные скульптуры. Оказывала свое действие — и причиной тому мои геологические занятия — еще одна особенность этого изваяния: прекрасный, почти без пятен мрамор. Он принадлежал к той породе, у которой края просвечивают, а белизна чуть ли не сверкает, напоминая снежную пыль или колотый сахар. В этой чистоте было для меня что-то возвышенное. Только там, где из кувшина, который держала нимфа, лилась вода, мрамор был с прозеленью, и ступенька, на которую опиралась опущенная нога, тоже была зеленая и немного запачкана сыростью, туда проникавшей. Мрамор купленной моим другом статуи был превосходный, вполне возможно, паросский. Но он уже приобрел цвет старого мрамора, а нимфа была как новая, словно мрамор этот — из Каррары. Я решил, и мои друзья подтвердили мою догадку, что скульптура эта — новейшего времени, но автора ее, как и автора статуи, стоявшей на лестнице, никто назвать не мог.
Я любил сидеть в саду возле нимфы. Сбоку от нее, в нише, находилась скамеечка из белого мрамора, и оттуда было очень удобно смотреть на скульптуру. Мрамор окутывал сумрак, и в сумраке казалось, что мрамор светится. Здесь можно было также смотреть, как тихо льется вода из кувшина, как она кружится в бассейне и каплями стекает на землю, как вспыхивает иногда молниями.
Для жилья мне отвели то же помещение, что я занимал в первые два приезда в этот замок. Оно было снабжено всеми мыслимыми удобствами, в большей части которых я не нуждался, привыкши в своей дорожной жизни управляться с внешними делами простейшим образом.
Когда мы расставались со Штерненхофом, Матильда попрощалась со мной так же любезно и мило, как меня приняла.
На обратном пути мы побывали у нескольких помещиков, пользовавшихся в округе большим уважением, и посмотрели, какие новшества ввели они в своих владениях и что хотели распространить на благо страны. Мой гостеприимец взял домой саженцы лоз, отборные семена и зарисовки новых приспособлений.
Перед возвращением восвояси я еще раз сходил в Ротмоор посмотреть, насколько продвинулись работы из моего мрамора. Некоторые небольшие вещи были уже готовы. Бассейн и крупные работы оставили на будущий год. Я одобрил это решение, ибо мне было важнее, чтобы дело было сделано хорошо, чем чтобы все закончить быстрее. Готовые вещи я упаковал, чтобы взять их домой.
Вернувшись в дом роз, я нашел там письмо от Роланда, который сообщал результаты своих поисков дополнений к облицовке отцовских пилястров. Найти их не было никакой надежды. Нигде в горах не попадалось ничего сколько-нибудь похожего на описанные панели, и вообще там, куда Роланд совершал свои походы уже не один год, никаких обшивок и облицовок не было и в помине, разве что они очень хорошо спрятаны, и надеяться, стало быть, приходится только на случай, ведь случайно же я нашел и то, что доставил отцу. Что же касается панелей, о которых идет речь, то можно быть почти уверенным, что они уничтожены. Присланные ему, Роланду, размеры досок, находящихся у моего отца, точно соответствуют одному из покоев каменного дома в Лаутерской долине, откуда, как с самого начала и предполагалось, взяты эти вещи, а покой этот сейчас в запустении. В нем есть два пилястра, которые, видимо, и были обшиты сохранившимися панелями. Промежуточная же облицовка уничтожена точно так же, как многое в том маленьком замке. Ведь иначе она нашлась бы либо в самом здании, либо где-то поблизости, а она не нашлась, или же она очень хорошо спрятана, а то бы поиски, ведущиеся уже два года и всем известные, побудили бы людей продать эти вещи за хорошую цену. Надо, стало быть, смириться с мыслью, что найти ничего нельзя, а если что-то все же найдется, то это нежданная милость судьбы. Мы с моим гостеприимцем согласились, что примерно такого результата и ждали.
Когда осень вступила в свои права, я отправился в обратный путь, домой. Для приезда я выбрал ясное воскресное утро, зная, что в этот день отец будет дома и я смогу провести послеполуденные часы в полном кругу своих родных. Прибыл я не как обычно, на судне, а пошел вдоль гор на восток, а потом взял коляску и поехал на север, в наш город. Отца я застал очень бодрым, он, казалось, помолодел на несколько лет. Глаза его блестели, словно ему выпала большая радость. Да и остальные показались мне очень довольными и веселыми.
После обеда отец повел меня в стеклянный домик и показал, что панели уже на пилястрах. Это было чудесное зрелище, я не думал, что резьба примет такой хороший вид. Она была полностью очищена и слабо покрыта лаком.
— Видишь, — сказал отец, — как красиво все вышло. Панели подошли так, словно они сделаны для этих пилястров. Так оно почти и есть: если не панели для пилястров, то уж пилястры сделаны для панелей. Но гораздо важнее то, что эта резная работа подходит ко всему домику так, словно она с самого начала была для него предназначена — и это-то радует меня больше всего. Потому я и не огорчаюсь, как ты, что остальные части облицовки найти не удалось. Мне же пришлось бы опять перестраивать домик, если бы они обнаружились: ведь вряд ли они подошли бы сюда, а если каким-то чудом обнаружится дополнение, там видно будет, что делать. Заметь, мы постарались заполнить пробелы и придать всему естественную связь.
Так оно и было. Над панелями на пилястрах установили зеркала, рамы которых продолжали орнаменты обшивки и соединяли их с орнаментами оконных коробок и переплетов. Карнизы и панели под окнами были сделаны так, чтобы создать между резными узорами спокойные плоскости. Я высказал отцу свое восхищение тем, чего здесь добились.
— Нам помогал очень хороший наставник, — ответил он, — благодаря его совету нам удалось изменить и кое-что в уже начатой нами работе. Иначе не получилось бы так, как получилось. Присядь к нам, и я тебе все расскажу.
Он сидел с матерью на сплетенной из тонкого тростника скамейке, мы с сестрой сели напротив них в кресла.
— Твой гостеприимец, — начал он, — разыскал нас и, когда ты две недели отсутствовал, прислал сюда свои строительные чертежи и зарисовки многих других предметов, чтобы я их посмотрел. Он позволил мне также скопировать рисунки, которые особенно мне понравятся, для своих надобностей, только просил предварительно прислать ему все, обозначив те, с каких хочу снять копии, чтобы он потом при случае предоставил их мне для этой цели. Я отказался от его предложения, попросив сделать только беглые зарисовки отдельных орнаментов и брусьев, поскольку это могло пригодиться для будущих моих затей. Но самую большую пользу извлекли мы — мой работник и я — из того, что вообще все это увидели. Мы узнали новые вещи, узнали, что существует нечто лучшее, чем то, что есть у нас самих, благодаря чему наметили необходимые в домике работы и выполнили их гораздо лучше, чем то сделали бы в ином случае. Рисунки зданий, мебели и других вещей, присланные твоим гостеприимцем, так хороши, что равных им найдется, наверное, немного. В молодые годы, в своих поездках и странствиях, я видел очень красивые здания, а кое-где и более чем красивые. Но таких совершенно ясных и чистых рисунков зданий я в жизни не видел. Я испытал при виде этих вещей великую радость. Тот, кто владеет таким замечательным собранием прекраснейших и при том самых разнообразных предметов, тот уже не затеет ничего незначительного, пустого, ничтожного. Если он разбирается в этих вещах, если проникается их духом, он может создавать только высокое и чистое. Это редкая милость судьбы, когда у человека есть досуг, средства и помощники, чтобы задумывать такие произведения. Листая эти коллекции и погружаясь в созерцание того, что мне особенно нравилось, я переживал прекраснейшие мгновения. Быть может, когда-нибудь еще выпадет счастье воспользоваться предложением этого человека и сотворить что-нибудь, что сильно скрасит мои последние дни. Значит, тебе нравится то, чем мы дополнили наши панели?
— Очень, отец, — отвечал я. — Но сейчас я хочу сказать о другом. Я не могу прийти в себя от удивления, что мой гостеприимец прислал сюда свои рисунки, которые он любит не менее, чем свои книги, а те он не выпускает из дому. Я так рад этому событию, что не нахожу подходящих слов. Отец, в последнее время моя зоркость так усилилась, что мне это и самому непонятно, мне нужно о многом с тобой поговорить. А моего гостеприимца я должен горячо поблагодарить, когда его увижу. Послав эти рисунки, он оказал мне самую большую милость, какую мог оказать.
— Тогда попрошу тебя пойти со мной и кое-что посмотреть, — сказал отец.
Он повел меня в свой кабинет. Мать и сестра пошли с нами. У пилястра, украшенного длинным, в старинной оправе зеркалом, стоял стол с музыкальными инструментами, который я видел в доме роз во время его реставрации, а в начале этого лета уже совсем готовым. Я не мог вымолвить ни слова от удивления. Поняв мои чувства, отец сказал:
— Стол этот — моя собственность. Он был прислан мне этим летом с просьбой, чтобы я поставил его среди других своих вещей на память о человеке, для которого величайшая радость — доставить удовольствие другому охотнику до таких же вещей.
— Я должен сейчас же поехать к своему другу! — воскликнул я.
— Благодарность ему я уже послал, — сказал отец, — но если ты съездишь туда и выразишь ее устно, я буду рад еще больше.
Сестра прямо-таки запрыгала по комнате, восклицая:
— Так я и думала, я знала, что он так поступит! Какая радость, какая радость! Ты скоро поедешь?
— Завтра на рассвете, — ответил я. — Сегодня же надобно заказать лошадей.
— Время осеннее, а ты только что приехал, сын, — сказала мать. — Но я тебя не задерживаю. Стол и еще более образ мыслей того, кто прислал его, одарили твоего отца счастьем. Это, должно быть, и в самом деле чудесные люди.
— Таких, как они, нет на земле! — воскликнул я.
Не мешкая, послал я на почту слугу, чтобы заказать двух лошадей на четыре часа утра. Потом мы еще поговорили о столе. Отец рассуждал об его свойствах, объяснял нам всякие особенности, и обстоятельно доказывал, почему стол должен стоять именно на том месте, где он стоит. Ничего не сказав об отцовских картинах, которым я заранее очень радовался и о которых хотел поговорить с отцом, и не вдаваясь в подробности нынешней своей летней поездки, я провел остаток дня в нетерпеливом ожидании утра. Я лишь отвечал на какие-то вопросы отца и слушал, когда он снова заговаривал о том, что было для него событием этого лета. Перед отходом ко сну мы попрощались, и я удалился в свою комнату.
В три часа утра легкий кожаный чемодан был уложен, а полчаса спустя я был одет вполне по-дорожному. В столовой, где для меня уже был приготовлен завтрак, меня ждали мать и сестра. Отец, сказали они, еще дремлет. Завтрак был съеден, лошади стояли у подъезда, мать попрощалась со мной, сестра проводила меня до коляски, и она покатила в еще густую тьму.
Я никогда не ездил на почтовых, считая это расточительством. Теперь, когда я изменил своему правилу, езда казалась мне все-таки недостаточно быстрой, а задержка на каждой станции, где мне давали новых лошадей и новую коляску, нескончаемой.
Я не спросил отца о письме, сопровождавшем стол или рисунки, и не осведомился, каким способом были доставлены эти вещи. Отец тоже не упомянул об этом. Я решил остаться верным своему решению и не задавать никаких вопросов на сей счет.
После суток езды, прерывавшейся только для приема пищи, я к полудню второго дня подъехал к дому роз. Я остановился у ограды, отдал свой чемодан слуге, который не удивился мне, привыкши к моим отъездам и приездам, отослал карету и лошадей на последнюю станцию, где было их место, вошел в дом и справился о моем друге.
Он у себя в кабинете, сказали мне.
Я велел доложить о себе, и был принят.
Когда я вошел, он, улыбаясь, поднялся навстречу мне. Я сказал, что он, кажется, знает, почему я приехал.
— Пожалуй, я это представляю себе, — ответил он.
— Тогда вы не удивитесь, — сказал я, — что, уже попрощавшись до будущего года, я срочно еще раз приехал в ваш дом. Вы доставили моему отцу двойную радость. Вы мне ничего не говорили, отец тоже ничего не писал мне — затем, наверное, чтобы сделать мое впечатление, когда я сам все увижу, еще сильнее. Я был бы бесчестным человеком, если бы не приехал и не поблагодарил вас за то ликование, которое объяло мою душу. Не знаю, чем заслужил я то, что вы сделали. Не знаю, что связывает вас с моим отцом, отчего вы сделали ему такой драгоценный подарок и, посылая рисунки, думали о нем с такой любовью. Благодарю вас за это тысячу раз и от всего сердца. Я благодарил вас в душе за все радушие, которое нашел в вашем доме, благодарил и вслух. Но это — самое дорогое, что я получил от вас, и я полон величайшей благодарности вам, которую смог бы выразить лучше всего, если бы и мне было дано сделать что-то для вас.
— Такой случай, может быть, еще и представится, — отвечал он, — но лучшее, что может сделать человек для другого человека, — это ведь всегда то, что он для него значит. Приятнее всего мне то, что я не ошибся, что вашего отца посланное мною порадовало, а радость отца доставила радость и вам. А все остальное очень просто и естественно. Вы рассказывали мне о старинных вещах, которые есть у вашего отца и которые доставляют ему удовольствие, говорили о его картинах, отвезли ему резные доски, для которых он перестроил маленький выступ своего дома, Вы не жалели труда, чтобы найти дополнения к тем доскам, даже советовались со мною по этому поводу, и вас огорчало опасение, что, несмотря на все усилия, вы ничего не найдете. Тогда я подумал, что, может быть, какой-нибудь своей вещью смогу доставить вашему отцу удовольствие, и, обсудив это с Ойстахом, я послал известный вам стол. Пересылание рисунков было тоже вполне последовательно. В прошлом году вы и здесь, и в Штерненхофе с великим усердием зарисовывали мебель, чтобы дать отцу хотя бы общее представление о том, что здесь есть. Сама собой напрашивалась мысль послать ему рисунки, где мебель эта представлена гораздо шире, полнее и гораздо более благородными образцами, хотя они составляют собрание всего лишь одного человека и сильно уступают иным коллекциям прекрасных вещей. У нас здесь много старинной мебели, мы можем без чего-то и обойтись, да и кое-что уже отдали, и нам приятно дать что-то человеку, который этому рад, знает в этом толк и умеет это беречь и хранить.
— Мне было бы очень больно, — сказал я, — если бы у вас мелькнула мысль, что своими действиями я добивался такого результата.
— Так я не думал, мой юный друг, — отвечал он, — а то бы я не послал вам этих вещей. Но уже на исходе двенадцатый час. Пойдемте в столовую. Мы, правда, не знали о вашем приезде. Но уж что-нибудь да найдется, чтобы и вам не страдать от голода, и нам не остаться внакладе.
С этими словами мы пошли в столовую.
После обеда Густав повел меня в свою комнату, как всегда очень опрятную и сейчас приятно согретую несильным огнем. Мне нужен был некоторый отдых, и умеренное тепло освежило мои члены.
Во второй половине дня мой гостеприимец сказал мне:
— Никогда не было такой прекрасной поздней осени, как нынче, ни одной такой не значится в моих метеорологических записях, с тех пор как я здесь живу, и по всем приметам это состояние продлится еще немало дней. И нигде такие ясные дни поздней осени не бывают прекраснее, чем на нашей северной возвышенности. Внизу нередко лежит утренний туман, каждое утро над долиной реки он стелется полосами, а на вершины гор взирает безоблачное небо, и ясное солнце, взойдя над ними, не покидает их целый день. А потому и в это время года на возвышенности относительно тепло, и если на низменности холодный и сырой ветер уже стряхнул листья с плодовых деревьев, то здесь наверху березовые рощи, терновники, буки еще красуются своим золотым и багровым нарядом. После полудня и вся низменность видна отчетливее, чем когда-либо летом. Поэтому мы решили предпринять еще в этом году поездку в горы, как я это делал в прежние времена. Расстояния там не так велики, и если появятся признаки, что погода изменится, мы можем в любое время отправиться домой и без особых хлопот вернуться в Асперхоф. Завтра прибудут Матильда и Наталия, они едут с нами, Ойстах тоже будет сопровождать нас. Не хотите ли вы тоже поехать вместе с нами и насладиться несколькими днями чудесной поры? Если, когда мы вернемся в мой дом, будет идти снег или дождь, вы сможете ведь поехать домой в почтовой карете, и тогда ненастье вам не страшно.
— Оно мне и вообще не страшно, — возразил я, — потому что я закален, а при том чувстве, какое я к вам питаю, для меня нет ничего приятнее, чем путешествие в вашем обществе. Но дома об этом намерении не знают и, вероятно, ждут меня уже вскорости.
— Вы можете известить их письмом, — сказал он.
— Могу, — ответствовал я. — Хотя я сразу по приезде после многомесячного отсутствия уехал снова, хотя они ждут меня уже в ближайшие дни, они согласятся, что вполне естественно задержаться в обществе человека, к которому я отправился по подобной причине. Они огорчились бы гораздо больше, если бы при таких обстоятельствах я вернулся домой, чем если бы немного побыл у вас.
— Я обратился к вам с вопросом и предложением, — отвечал мой гостеприимец, — действуйте по своему усмотрению. Как вы поступите, так, наверное, и следует поступить.
— Я сейчас же напишу письмо.
— Прекрасно, а я тут же отправлю его на почту.
Я пошел к себе в комнаты и написал письмо отцу. Я. наверное, поступил так, как следовало. Отцу, матери и сестре трудно было бы простить меня, если бы я с радостью не отправился в короткую поездку с человеком, который так облагодетельствовал наш дом.
Покончив с письмом, я снес его вниз, и работник, который обычно был на посылках, уже ждал его, чтобы наряду с другими поручениями доставить его в то место, где была почта.
Утром следующего дня приехали Матильда и Наталия. Причина, по которой я, уже простившись, опять явился в дом роз, всех, казалось, обрадовала. Они смотрели на меня еще приветливее. Даже Наталия, так меня избегавшая, стала другой. Несколько раз, когда я отворачивался, я чувствовал на себе ее взгляд, который она, однако, стоило мне обернуться, тотчас же отводила. Густав прильнул ко мне всей душой и этого не скрывал. Я уже знал, что он питает ко мне большую приязнь, и отвечал на нее искренней взаимностью.
Во второй половине дня приготовления к поездке были закончены, а на следующее утро, еще до восхода солнца, мы выехали. С Матильдой поехали Наталия и служанка, с моим гостеприимцем — Ойстах, Густав и я. С Роландом мы должны были встретиться где-то в дороге, он намеревался проехать с нами часть пути, и на этот случай предполагалось пересадить Густава в коляску матери. Своеобразие нашей возвышенности сделало своеобразным и способ путешествия. На многие пологие горы решили подниматься и соответственно спускаться с них. Это должно было порой собирать воедино, а порой разъединять всю нашу компанию. Чем-то поэтому можно было наслаждаться сообща, чем-то врозь, но потом обмениваться впечатлениями.
Солнце еще не достигло зенита, а мы уже поднялись на плато, отделяющее низменность от возвышенности, и приближались к истинной цели нашего путешествия.
Мой гостеприимец был прав. В мягком, ласковом свете послеполуденного солнца, казавшегося здесь чуть ли не более теплым, чем в долинах низменности, мы ехали к чудесным местам. Даже побочные обстоятельства сложились так, чтобы сделать нашу поездку приятной. Песчаные дороги Нагорья, и вообще очень хорошо построенные, оказались к тому же совершенно сухими и при том не пыльными, чего нельзя сказать о дорогах низменности, размокших уже от ежеутренних туманов и из-за тяжелой почвы на долгих отрезках, сырых, холодных и грязных. Мы удобно катились вперед, кругом было ясно, прозрачно, спокойно. Желтая соломенная дорожная шляпа Наталии то возникала перед нами, то исчезала, когда ее коляска то въезжала на пригорок, то по ту его сторону съезжала с него. Солнце стояло в безоблачном небе, но уже низко на юге, словно прощаясь с нами на этот год. Последняя мощь его лучей еще озаряла скалы и пестрые кусты, которыми они заросли. Урожай был уже собран, и поля на холмах и склонах лежали голые, неухоженные, светились только зеленые полоски озимых. Скот, избавленный от летнего плена маленьких пастбищ, бродил по лугам, щипля вновь подросшую траву, и даже по посевам. Рощицы, венчавшие бесчисленные холмы, еще сияли в эту позднюю пору желто-золотым или багряным убором необлетевшей листвы, а через темную зелень карабкающихся в горы сосен тянулись вверх пестрые полосы. А все это смягчала и наполняла очарованием какая-то тихая синева. Над лощинами и ложбинами синий цвет был особенно прекрасен и нежен. В этой дымке светились далекие колокольни и белели точки домов. Над низменностью утренний туман рассеялся, вместе с высокогорьем, гранича с ним с южной его стороны, она была видна целиком и тянулась каймой вдоль холмов, по которым мы ехали, словно какая-то далекая, воздушная, безмолвная сказка. Никаких признаков человеческой деятельности там не было видно: ни границ полей, ни тем более жилья; синеву иногда прорезала лишь блестящая лента реки. Невозможно передать, как мне все это нравилось, нравилось гораздо больше, чем раньше, потому что впервые я разглядывал эту страну с моим гостеприимцем. Я окунал всю свою душу в эту прелестную осеннюю дымку, которая все окутывала, погружал душу в глубокие расселины, мимо которых мы проезжали, отрешенно отдавал ее покою и тишине, которые царили вокруг.
Однажды, когда мы взобрались на длинную гору, дорога по которой проходила с одной стороны мимо небольших скал, кустов и лугов, а с другой открывала вид на пропасть и за нею горы, луга, поля и далекие полосы леса, когда коляски уехали вперед, а все общество медленно шло за ними, то и дело останавливаясь и обмениваясь впечатлениями, я оказался рядом с Наталией, которая, после того как мы помолчали, спросила меня, занимаюсь ли я еще испанским.
Я отвечал, что учить его начал недавно, но с тех пор всегда продвигался в нем и наконец осмелился приняться за Кальдерона.
Она сказала, что мать рекомендовала ей заняться испанским. Это ей нравится, она в меру сил будет продолжать эти занятия, и в содержании испанских книг, особенно же в пустынности, о которой поют баллады, в тропах, по которым гонят мулов, в пропастях и горах она находит сходство с краем, по которому мы путешествуем. Потому и нравится ей испанский язык, что ей нравится этот край. Если бы это зависело от нее, она охотней всего жила бы в этих горах.
— Мне тоже нравится этот край, — отвечал я, — нравится больше, чем я полагал прежде. Когда я был здесь впервые, он меня отнюдь не очаровал, быстрыми сменами своих видов и все же большим их сходством он скорее оттолкнул меня, чем привлек. Когда я позднее объезжал большую его часть с нашим гостеприимцем, все было иначе, я полюбил эти открывающиеся глазам дали и эту ограниченность, эту узость и это великолепие, эту простоту и это разнообразие. Они взволновали меня, хотя я привык и привязался к совсем другим картинам, картинам высокогорья. А сегодня мне нравится все, что нас окружает, нравится так, что я не нахожу слов.
— Знаете, так всегда бывает, — отвечала она. — Когда я была здесь с отцом впервые, правда, еще в детском возрасте, эти беспрестанные подъемы и спуски были мне так неприятны, что я жаждала вернуться в наш город и на его равнины. Много времени спустя я проезжала по этим местам с матерью, а потом неоднократно в той же, кроме вас, компании, что и сегодня, и каждый раз этот край, его виды, даже его жители, делались мне милее. Замечательно и то, что в таких путешествиях можно сочетать езду с пешим ходом. Когда, как мы сейчас, покидаешь коляску и долго шагаешь в гору или с горы, край узнаешь лучше, чем если все время едешь. Он подступает к нам ближе. Кусты у дороги, каменные стены, которыми здесь любят ограждать поля, березовые рощицы с их подлеском, луга, сбегающие в пропасти, и вершины деревьев, выглядывающие из пропастей, видишь прямо перед собой. На равнине быстро пролетаешь мимо. Вот как раз такая пропасть, о каких я говорила.
Мы остановились и заглянули вниз. Помолчали. Наконец я спросил ее, откуда она знает, что я учу испанский язык.
— Нам сказал это наш гостеприимец, — ответила она. — Он сказал также, что вы читаете Кальдерона.
После этих слов мы пошли дальше. Остальное общество, находившееся впереди нас, в ходе разговора остановилось, и мы нагнали его. Разговоры стали более общими, затрагивая большей частью предметы, которые были видны либо в непосредственной близости, либо совсем вдали.
Поскольку после захода солнца сразу стало очень прохладно, а целью нашей поездки было не делать большие переходы, а наслаждаться тем, что подарят время и путь, то, как только солнце ушло за опушки, мы остановились на ночлег. Заранее было рассчитано так, что мы к этому времени прибудем в большое селение. Из гостиницы мы еще вышли на воздух. Как быстро изменилась картина! Солнце, все оживлявшее и окрашивавшее, скрылось, все померкло, стало заметно холодней, по низинам лугов очень скоро поползли нити тумана, дальнее высокогорье резко вырисовывалось в ясном воздухе, а низменность расплывалась, подернувшись дымкой. На западе небо над темными лесами было светло-желтым, к нему из жилищ поднимались столбы дыма, и скоро засияли звезды, тонкий серп месяца взошел над зубцами леса и скрылся за ними.
Мы пошли в натопленную для нас комнату, поужинали, еще немного посидели, поговорили и разошлись по спальням.
На следующий день на лугах и полях сверкал иней. Нити тумана исчезли, все было видно отчетливо, все сверкало, только низина была сплошь в клубах тумана, за которыми ясно вырисовывалось высокогорье со своими свежими и солнечными снегами.
Сразу после восхода солнца мы поехали дальше, и его ласковые лучи вскоре дали о себе знать. Мы их почувствовали, иней сошел, и местность приняла тот же вид, что и вчера.
Мы посетили церковь, где по распоряжению моего гостеприимца шла починка старинных резных изделий. Но как раз теперь мало что можно было увидеть. Часть предметов ушла в дом роз, другая часть была сорвана с мест и ждала упаковки. Церковь была маленькая и очень старая, построенная в самую раннюю пору готического искусства. Среди архитектурных зарисовок Ойстаха был и рисунок с нее. Все осмотрев, мы поехали дальше.
Во второй половине дня к нам присоединился Роланд. Он ждал нас в гостинице, где предполагалось задать корм нашим лошадям.
Поскольку мы ненадолго там задержались, а позднее шли некоторое время пешком, мне раз-другой представился случай заметить, что взгляд Роланда бывает прикован к Наталии.
В альбоме, который он с собою носил, у него были зарисовки, а замечания и предложения он записывал в книжечку. Кое с чем из этого он, насколько позволяла дорога, познакомил меня и обещал вечером, когда мы прибудем на постоялый двор, показать мне еще кое-что.
Во второй половине следующего дня мы приехали в Керберг и осмотрели тамошнюю церковь с прекрасным резным алтарем. Теперь он понравился мне гораздо больше, чем когда я его увидел в первый раз в обществе моего гостеприимца и Ойстаха. Я не понимал, как мог я так безучастно стоять перед этим выдающимся произведением. А оно показалось мне выдающимся, несмотря на недочеты, которые, как я теперь видел, можно найти в любом произведении старонемецкого искусства, но которых в статуе, стоявшей у моего друга на лестнице, я не нашел. Мы долго пробыли в церкви, и я пробыл бы в ней еще дольше. От спокойствия, строгости, достоинства и детскости этого произведения душа моя прониклась благоговением, чуть ли не трепетала, а простота целого при большом богатстве подробностей успокаивала глаз и мысль. Мы говорили об алтаре, и из разговора мне стало ясно, что прежде и перед этим произведением оба моих спутника считались с моим невежеством, и я поблагодарил их в душе. Я положил себе сделать когда-нибудь точную зарисовку этой резной работы и показать ее отцу.
Я высказался в том смысле, что когда-то в искусстве были красота и величие, а теперь, кажется, все изменилось.
— В искусстве много раз начинали сначала, — сказал мой гостеприимец. — Рассматривая произведения, дошедшие до нас от древности, от времен египетских, ассирийского, мидийского, персидского царств, царств Индии, Малой Азии, Греции, Рима — многое извлекается из земли на свет лишь теперь, многое еще лишь будет открыто, кто знает, не таит ли ценностей даже Америка, — рассматривая эти произведения и читая лучшее из написанного о развитии искусства, видишь, что в своих попытках сотворить нечто подобное божественному творению — а в этом и состоит искусство, оно берет большие или меньшие части творения и подражает им, — люди всегда оставались в начальной стадии, они в некотором роде обезьянничают, как дети. Кому удавалось точно воссоздать хотя бы травинку, каких миллионы на каждом лугу, кто воспроизвел камень, облако, воду, гору, красивую ловкость животных, великолепие человеческого тела так, чтобы это не было бледной тенью подлинника, а уж кто мог изобразить бесконечность духа, которая заключена уже в конечности отдельных вещей, в буре, грозе, в плодородии земли с ее ветрами, стаями облаков, в самом земном шаре, а затем и в бесконечности космоса? Или кто мог хотя бы только постичь этот дух? Одни народы достигли большей тонкости и глубины, другие стремились к крупному и широкому, третьи воспринимали чистой и целомудренной душой общие очертания, четвертые были простодушны и бесхитростны. Искусство не что-то одно из этого, искусство — это все вместе, и то, что было, и то, что еще будет. Мы подобны детям и в том, что, вылепив с отдаленным лишь сходством дом, церковь, гору, они радуются этому больше, чем видя воочию несравненно более красивый дом, более красивую церковь или более красивую гору. В душе мы испытываем более глубокое и более сладостное чувство, когда видим созданные искусством цветы, пейзаж или человека, чем когда эти предметы перед нами на самом деле. Детей восхищает дух ребенка, сумевший так преуспеть в подражании, а нас восхищает в искусстве то, что дух человека, предмет нашей любви и нашего почтения, как бы наяву, хотя и с ошибками, сотворил нечто по примеру Того, кого мы стремимся постичь разумом, кого не можем вовлечь в ограниченный круг нашей любви и перед кем мы трепещем в благочестивом смирении тем сильнее, чем ближе его узнаем. Поэтому искусство — область религии, и поэтому оно у всех народов переживало лучшие свои дни на службе религии. Как далеко может оно зайти в своем следовании образцу, никому не дано знать. Если были уже прекрасные почины, как, например, в Греции, если они сменилась упадком, то нельзя сказать, что искусство погибло. Будут другие почины, они создадут совсем другое, хотя в основе их всегда будет одно и то же — божественное. И никто не может сказать, что будет через десять тысяч, через сто тысяч, через миллионы или сотни триллионов лет, потому что никто не знает замысла Творца относительно рода человеческого. Поэтому же в искусстве ничто не бывает совсем безобразно, пока перед нами произведение искусства, то есть пока оно не отрицает божественного, а стремится его выразить, и поэтому же в искусстве не бывает ничего настолько прекрасного, чтобы это нельзя было превзойти, ведь иначе оно само и было бы уже божественным, а не попыткой человека выразить божественное. По этой же причине не все произведения самых лучших времен одинаково прекрасны, а самых темных и грубых — одинаково безобразны. Что было бы с искусством, если бы подняться к божественному, на большую, на малую ли ступень, было так легко, что это удавалось бы многим без внутреннего величия и без собранности этого величия в некоем зримом знаке? Божественное не было бы тогда таким великим, а искусство так не восхищало бы нас. В том-то и величие искусства, что есть бесчисленные воспарения к божественному, которые не находят выражения в искусстве, — смирение, верность долгу, молитва, чистота помыслов, — но тоже радуют нас и даже доставляют нам величайшую радость, хотя она и не становится эстетическим переживанием. Она может быть чем-то более высоким, может — и это выше всего перед лицом бесконечности — стать поклонением, поэтому она серьезней и строже, чем эстетическое переживание, но в ней нет его обаятельной прелести. Поэтому искусство возможно лишь при некотором ограничении, состоящем в том, что приближение к божественному остается в плену чувств и выражается именно в чувствах. Поэтому искусство есть только у человека, и оно будет у него до тех пор, пока он существует, как бы ни менялись формы искусства. Достойно было бы высочайшего желания, чтобы после завершения человеческого бытия некий дух собрал и обозрел все, от его возникновения до его гибели, искусство рода людского.
Матильда ответила на это с улыбкой:
— Это было бы в большом объеме то самое, что ты сейчас делаешь в малом, и для этого понадобилось вечное время и бесконечное пространство.
— Кто знает, как обстоит дело с этими вещами, — возразил мой гостеприимец, — тут, как и везде, надо держаться правила: смириться, уповать, ждать.
Ойстах открыл папку, где у него хранились рисунок алтаря и рисунки частей церкви, самой церкви и предметов, в ней находившихся.
Мы сравнивали рисунок с алтарем, было немало замечаний, что-то похвалили, что-то предложили поправить.
Осмотрели мы также церковь, осмотрели части ее, осмотрели надгробные памятники, в том числе большой красный камень, на котором был изображен человек с высоким, красивым лбом, основатель церкви и алтаря.
В этот день мы остались в Керберге. Мы поднялись на гору, где стоял старый замок, осмотрели его и совсем уже осенний сад. Мы ходили по местам, по которым ходили встарь могущественные и богатые люди, здесь жившие, и среди них тот, чьим деянием осталась церковь в долине.
— О том, что сделали все эти люди, — заметил мой гостеприимец, — сказано, вероятно, отчасти в тех бумагах и пергаментах, что лежат в замках и домах этого края, а то и в далеких городах. Кое-кто знает часть этих дел, но большинству они совершенно неизвестны, и те, кто ходит по следам, протоптанным предками, часто не знают, кто были эти предки. Недурно было бы, открыв повсеместно архивы, составить истории отдельных семей и краев, истории, которые ближе нашим сердцам и понятнее нам, чем великие истории великих царств. Этим путем, правда, идут, но, может быть, в недостаточной мере и не так, как нужно бы.
От Керберга мы на следующий день повернули к более возвышенным частям края, гуще и шире заросшим лесом, чем те, которые мы уже объехали, и оттуда сквозь утренний сумрак на нас глядели широкие и раскидистые хребты в темной хвое и багрянце буков.
Мой гостеприимец был прав. Дни стояли один другого прекраснее. Ни клочка тумана не было на земле, по которой мы ехали, ни облачка в небе над нами. Каждый день нас ласково сопровождало солнце и, заходя, словно бы обещало так же ласково светить завтра.
Роланд пробыл с нами три дня, а потом покинул нас, предварительно уложив в коляску моего гостеприимца рисунки и другие бумаги. Он хотел до наступления плохой погоды еще побыть в этом краю, а потом вернуться в дом роз.
Все было славно и мило в этой поездке, разговоры были приятные, задушевные, и каждая вещь: маленькая ли старая церковь, где когда-то молились верующие, развалины ли стен на горе, где когда-то жили могущественные владыки, одинокое ли дерево на пригорке, освещенный ли солнцем домик у дороги, — все приобретало какую-то особую, мягкую прелесть, какой-то смысл.
На восьмой день мы снова повернули свои коляски к югу, а на девятый прибыли в Асперхоф.
Перед тем как тронуться домой, я еще раз посмотрел кое-что из прекрасных картин моего гостеприимца, запечатлел в своей душе некоторые необыкновенные книги, поглядел на любимые лица людей, меня окружавших, и бросил не один взгляд на готовую к умиранию землю.
Мое сердце было возбуждено, и в мыслях у меня вырастал вопрос, исчерпывают ли, завершают ли жизнь такие дела, как искусство, поэзия, наука, или есть еще что-то, что охватывает жизнь и наполняет ее гораздо большим счастьем.
3. Открытия
Из дома роз я выехал при очень плохой погоде, сменившей ветром, дождем и снегом светлые, солнечные дни, проведенные нами в горах. Лошади моего гостеприимца доставили меня на ближайшую почту, где мне уже было заказано место в карете, идущей в сторону моего дома. Матильда и Наталия уехали за два дня до меня, ибо по небу уже было видно, что ласковых дней в этом году не приходится ждать. Роланд, закончив свое путешествие, приехал в Асперхоф. Все указывало на бурную перемену воздушного пространства. Не знаю, почему я так долго не уезжал. Мне ведь было все равно, плохая погода или хорошая. За время своих странствий я привык к любой погоде, тем более была она мне безразлична, если я сидел в совершенно закрытой карете и мчался но благоустроенной главной дороге.
На третий день после отъезда из дома роз я прибыл к своим родным. Второй приезд в этом году.
Узнав из моего письма о моей задержке, они сочли причину ее вполне основательной и, как я верно предполагал, были бы недовольны мною, если бы я поступил иначе. Я рассказал им все, что случилось после моего скоропалительного отъезда из дому. Поскольку при первом приезде сразу возникла причина для нового отъезда, то лишь теперь я мог постепенно рассказать, что происходило со мной прошедшим летом. Отец очень часто возвращался к рисункам, присланным ему моим гостеприимцем, и из его речей было ясно, как ценит он мастерство человека, создавшего эти рисунки, и какого он высокого мнения о том, по чьему распоряжению они были сделаны. Он снова подвел меня к столу для музыкальных инструментов, еще раз показал мне, почему поставил его именно там, и снова спросил меня, согласен ли я с таким выбором места. Сначала вопрос этот меня удивил, потому что вообще он не имел привычки советоваться со мною в подобных делах. На мой взгляд, стол был поставлен в комнате древностей у оконного косяка в подходящем окружении очень удачно и показывал свои качества в наилучшем свете. Поэтому я повторил полное свое одобрение места, высказанное уже перед моим отъездом. Позднее, однако, мне стало совершенно ясно, что только радость по поводу этого стола заставила отца повторить свой вопрос о выборе места и снова вернуться к столу. Радость, которую я в первый свой приезд увидел во всем облике отца, казалось, и теперь еще озаряла его. Даже мать и сестра казались мне более довольными, чем в другие времена, у меня было даже такое ощущение, что все любят меня больше, чем когда-либо, так добры, так приветливы, так ласковы они были. Не передать словами, как окрыляет душу чувство, что тебя любят твои родные.
Я рассказал отцу о мраморной статуе на лестнице дома моего гостеприимца и попытался описать ему это произведение. Он очень внимательно взглянул на меня, мне даже казалось иногда, что он смотрит на меня чуть ли не изумленно. Он о многом расспрашивал и заставлял меня говорить о статуе снова и снова. Она явно очень интересовала его. Я рассказал ему также о фонтанной статуе в Штерненхофе и сравнил ее со статуей в доме роз, стараясь подчеркнуть различие между ними, я отдавал решительное предпочтение асперхофской, хотя она была древняя, а та — не далее чем прошлого века и хотя мрамор штерненхофской был ослепительно чист, а мрамор асперхофской уже выдавал ее почтенный возраст. Отец и тут расспрашивал меня о всяких различиях, и я видел, что он все понял и во все вник. Затем я рассказал ему о картинах моего гостеприимца, назвал художников, чьи работы там были, и постарался описать картины, особенно мне запомнившиеся. Отец и тут задавал множество вопросов, заставляя меня распространяться об этом предмете подробнее, чем я собирался.
На второй день после моего приезда, когда мы снова поговорили об этих вещах, отец взял меня за руку и повел в свою картинную. Я по приезде нарочно туда не ходил, отложив это на более спокойное время. Первые два дня я провел в разговорах с родителями и вручал вещи, которые привез им и сестре. Среди этих вещей были и маленькие предметы из мрамора, уже к тому времени изготовленные в Ротмооре. Остальное время ушло на распаковку и уборку вещей, а также на кое-какие приветственные визиты. Когда мы вошли в картинную и дошли до ее середины, отец отпустил мою руку, но ничего не сказал. Я был ошеломлен. Здешние картины, весьма немногочисленные — их было гораздо меньше, чем у моего гостеприимца и даже в Штерненхофе, — показались мне необыкновенно прекрасными, совершенными, составляющими единое целое творениями, они предстали мне, если можно было доверять первому впечатлению, в том же высоком и прекрасном единстве, как в доме моего гостеприимца. Среди них, как я вскоре обнаружил, не было ни одной картины нового или новейшего времени, все они восходили ко временам более старым, по меньшей мере, как мне виделось, к шестнадцатому веку. Глубокое, ни на что не похожее чувство вошло в мою душу. Вот что такое большая, неописуемая любовь отца. Он обладал этими драгоценными вещами, его сердце было привязано к ним, а сын его проходил мимо, не обращая на них внимания, но отец не отнял у сына ни частицы своей приязни, он приносил себя ему в жертву, он приносил ему в жертву, можно сказать, свою жизнь, он заботился о нем и даже не пытался доказать ему, как эти вещи прекрасны. Я узнал, до какой степени и в этом отношении щадили меня.
— Да это же великолепные картины! — воскликнул я растроганно.
— Думаю, что они не ничтожны, — ответил он с волнением в голосе.
Затем мы подошли ближе, чтобы их рассмотреть. Картины были действительно сплошь старые, среди них не было ни особенно крупноразмерных, ни противохудожественно маленьких. Я обронил замечание, что у него нет новых картин.
— Так уж получилось, — сказал он, — кое-что из полотен, здесь находящихся, я получил в наследство от своего деда, который тоже был охотник до таких вещей, а прочее приобретал сам. Средневековое искусство, пожалуй, выше, чем новое. Оно богаче, чем новое, прекрасными произведениями, и поэтому безупречную старинную картину приобрести легче, чем новую. Кто любит картины нашего времени, тот безупречно прекрасных не продает, потому-то их и трудно добыть. Картины же начинающих или тех, кто в искусстве не силен, можно легко купить во многих местах и у самих художников, и у торговцев, как то, вероятно, было и в прежние времена. Но к таким картинам меня никогда не тянуло, поэтому здесь и оказались только старинные. Тогда трудилось могучее, сильное поколение. Потом пришло время хилое, порченое. Оно полагало, что добьется большего, изображая людей богатых и напыщенных, кладя резкие краски и не заботясь о глубине теней. Оно постепенно стало пренебрегать старым, обрекая его на гибель, а многое невежественная жестокость и уничтожала, особенно в эпохи бурь и смут. Потом опять стали больше ценить старое — всеобщим пренебрежение к нему никогда не было. Пытались даже подражать ему, не только и не столько в живописи, сколько в архитектуре. Но сравняться с образцами ни в цельности замысла, ни в исполнении не удавалось, как ни хороши и ни верны были новые частности. Мало-помалу дело поправилось, это проявилось в том, что опять стали ценить старинные здания, — я еще помню время, когда путешественники и писатели объявляли готический стиль варварским и устаревшим, — что извлекли на свет старые картины, стали даже собирать старинную мебель, а в покрое одежды частично пустили в ход старые формы и линии. Надо бы и дальше идти этим путем к лучшему, а не просто опять превращать старинное в моду, которой дух чужд и нужна лишь перемена. Ты еще, может быть, доживешь до нового подъема, ведь всегда подъем сменялся упадком, а упадок подъемом. Если наметившееся, кажется, теперь познание старины, не только нашей, но и более прекрасной, греческой, будет продолжаться и не захиреет, мы дойдем и до того, что сумеем создавать и собственные произведения, в которых будет царить строгая муза красоты, а не страсть, не умысел, не внешняя прелесть или просто сумбурная порывистость, произведения не подражательные и не такие, где передан только старинный стиль. Когда мы этого достигнем, то, наверное, и общество наше поднимется на такую ступень, что могучее воздействие на внешний мир будут оказывать не только части нашего народа, а и весь народ, спокойно и сильно влияя на жизнь других народов собственной жизнью. Я всегда думаю, что счастлив тот, кто услышит жаворонков этой весны. Но он не почувствует новизны так, как тот, кто видел иное, ведь не чувствует невиновный своей невиновности, не кичится же честный человек своей честностью, а порочные времена не знают своей порочности.
Когда отец так говорил, я думал о моем гостеприимце, который испытывает подобные чувства и высказывает подобные мысли. Но ведь не диво, что люди сходных устремлений сходны также умом и приходят к схожим мыслям, особенно при не слишком большой разнице в возрасте. Затем мы стали рассматривать отдельные полотна. У моего отца были картины Тициана, Гвидо Рени, Паоло Веронезе, Аннибале Карраччи, Доминикино, Сальватора Роза, Никола Пуссена, Клода Лоррена, Альбрехта Дюрера, обоих Гольбейнов, Лукаса Кранаха, Ван Дейка, Рембрандта, Остаде, Поттера, Ван-дер-Неера, Вауэрмана и Якоба Рейсдала. Мы переходили от картины к картине, рассматривали каждую, иные ставили на мольберт и говорили о каждой. Сердце мое было полно радости. Все яснее становилось мне теперь то, что я при первом взгляде только предположил, — что картины, собранные отцом, сплошь превосходны и что они к тому же по своим достоинствам очень подходят друг к другу, отчего все вместе производило впечатление какой-то изысканности. Я уже настолько научился судить, чтобы понимать. что сильно заблуждаться я не могу. Я поделился этими соображениями с отцом, и он подтвердил, что у него собраны не только хорошие художники, но, судя но его опыту, приобретенному за долгие годы посещения картинных галерей и чтения трудов об искусстве, еще и лучшие из их работ. Я все глубже погружался в картины и на иные никак не мог наглядеться. Головка девушки, которую я когда-то выбрал как образец для рисунка, принадлежала кисти Ганса Гольбейна-младшего. Она была такая нежная, такая милая, что теперь снова очаровала меня так же, наверное, как тогда: иначе ведь я не взял бы ее за образец. Какими средствами пользовался тут художник, распознать было невозможно. Такой простой, такой естественный колорит, почти никакого блеска, никаких броских красок, такие скупые, бесхитростные линии, и при этом такая прелесть, чистота, скромность, что глаз нельзя оторвать. Светлые волосы, зачесанные назад, были написаны чуть ли не походя, и все-таки вряд ли могло быть что-либо прекраснее этих светлых прядей. Отец позволил мне дважды поставить этот портрет на мольберт.
Когда мы кончили смотреть картины, отец вынул из шкафа в комнате древностей плоскую шкатулку, поставил ее на стол близ окна и подозвал меня поглядеть на его камеи.
Я подошел.
Тут мое изумление было едва ли не больше, чем при виде картин. Я увидел на камнях фигуры вроде той, что стояла на лестнице в доме моего гостеприимца.
— Это все античные работы, — сказал отец.
Здесь были разные камни, разного достоинства и разной величины. Камней, имеющих по своей природе и по нынешним нашим понятиям большую ценность, таких, как сапфир или рубин, среди них не было. Камни были не столь дорогие, но какие тоже носят для украшения, и при случае, как я отчетливо вспомнил, носила наша мать. Был тут оникс с барельефом в виде группы людей. На старинном сиденье сидел мужчина. Одежды на нем почти не было. Руки его очень спокойно лежали по бокам, тонкое лицо было чуть-чуть приподнято. Это был еще очень молодой мужчина. По обе стороны от него, менее рельефно, стояли женщины, девушки, юноши, над головой сидящего какая-то богиня держала венок. Отец сказал, что это его самая лучшая и самая большая камея, а сидящий мужчина, вероятно, Август. Во всяком случае, профиль его на камне совпадал с профилем Августа, который можно увидеть на хорошо сохранившихся монетах этого императора. Фигура, пропорции, осанка сидящего, фигуры девушек, женщин и юношей, их одежды, их позы, полные спокойствия и простоты, четкость и достоверность в каждой частице тела и одежды произвели на меня то же впечатление серьезности, глубины, какого-то неведомого волшебства, что и статуя моего гостеприимца, когда я поднялся к ней прошлым летом во время грозы. На других камнях были изображены воины в шлемах, лица либо красивые, молодые, либо старые, с почтенными бородами. Мужчин среднего возраста не было среди них вовсе. Женские головы можно было тоже увидеть на некоторых камеях. На иных фигуры были изображены во весь рост: Гермес с крылышками у ступней, шагающий юноша, юноша, с размаху бросающий камень. Фигуры эти были так точны и верны, что их не посрамило бы и увеличительное стекло. Камней с изображением чего-либо другого, кроме людей, у отца не было вообще. Я вспомнил, что видел где-то — где именно, запамятовал — вырезанных на камнях жуков.
— Я предпочитал камни с изображениями людей, — сказал отец, когда я сделал замечание на этот счет, — потому что мне казалось, что они имеют к человеку более близкое отношение. Я недостаточно богат, чтобы завести большую коллекцию камней всякого рода, какие вообще можно купить, поэтому я ограничился изображениями людей, а из них — такими, приобретение которых не повлияло бы на мой домашний уклад. Ведь в этой области есть произведения искусства, сто́ящие целое состояние, на доход с которого могла бы жить небольшая семья с умеренными потребностями.
Воины в шлемах носили этот головной убор так, как то обычно можно увидеть на старинных монетах и как я не раз видел на рисунках с барельефов, украшавших греческие или римские здания. Такой простоты в манере носить шлем при всей его драгоценности я никогда не замечал на рисунках, относившихся к позднейшим эпохам, особенно к средним векам. В выражениях лиц было что-то неведомое нам, теперь уже вовсе исчезнувшее и указывавшее на далекую древность. Черты лиц были большей частью просты, порой даже непонятно просты, и все же красивы, красивее и человечнее — так мне, по крайней мере, казалось, — чем те, что видишь теперь. Лбы. носы, губы были строже, безыскуснее и казались более близкими человеческой первооснове. Это замечалось даже в изображениях старцев и даже в тех случаях, когда можно было предположить, что барельеф изображает действительно существовавшего человека. Такая внешность не могла быть плодом воображения художника, ибо камеи принадлежали разным эпохам и разным мастерам, она была, следовательно, свойственна этому прошлому. Женские головы были тоже красивы, порой поразительно красивы. Но было в них и что-то своеобразное, далекое от наших привычных представлений, то ли в манере причесывать и носить волосы, то ли в переходе от лба к носу, то ли в затылке, шее, начале груди или плеч, коль скоро эти части попадали в изображение, то ли во всей этой далекой от нас совокупности. В общем же головы эти были выразительнее и более напоминали о мужественности, чем головы наших нынешних женщин. От этого они казались очаровательнее и внушали благоговение. В выделке этих барельефов была такая чистота, такая отточенность и последовательность, что ни разу, даже по мельчайшему поводу, не возникало и мысли, что в них чего-то недостает, напротив, они казались созданными самой природой, а по сравнению с ними работы более поздних времен — первыми детскими упражнениями. У художников этих было, значит, некое великое и простое понимание красоты, они почерпнули его из красоты, их окружавшей, и своим пониманием ее сделали это прекрасное еще прекраснее. Как ни нравились мне картины отца, как ни нравились картины моего гостеприимца, но мраморная статуя гостеприимца вызывала у меня более серьезные и высокие чувства, чем его картины, а отцовские камеи — более высокие и серьезные чувства, чем картины отца. И отец это, должно быть, почувствовал. Через некоторое время, когда мы нагляделись на камни, — иные из них я в задумчивости брал в руки по нескольку раз, — он сказал:
— То, что создали греки в скульптуре, — это самое прекрасное, что существует на свете, никакое искусство позднейших времен не может быть сопоставлено с этим в его простоте, верности и величии, разве что музыка, где у нас в самом деле есть отдельные пассажи, а быть может, и целые произведения, которые можно ставить рядом с величественной простотой древности. Но это создали люди, чья жизнь тоже текла просто и на старинный лад, назову только Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта. Очень жаль, что от греческой живописи ничего не осталось, кроме частей того, что в этом искусстве всегда считалось второстепенным, кроме настенной живописи и украшений зданий. Коль скоро греческая поэзия есть высшее, что существует в этой области искусства, коль скоро их архитектура считается образцом прекрасной простоты, коль скоро их историки и ораторы не имеют равных себе, то следует полагать, что их живопись тоже была подобного рода. В сочинениях, дошедших до наших дней, они говорят о своих постройках, о своей философии, историографии, поэзии, скульптуре не более восторженно, чем о своей живописи, а порой кажется, что они даже предпочитают ее, так что она была, наверное, самого высокого свойства. Нельзя же предположить, что писатели, выражающие, в конце концов, свое время и свой народ, пусть и высокопарно, обладали такими тонкими знаниями и таким тонким чутьем в других искусствах, а недостатков живописи не замечали. Вероятно, мы наслаждались и восхищались бы строгостью и завершенностью в их живописи так же, как в их статуях. Можем ли мы чему-то научиться у них для своей живописи, я не знаю, как не знаю, многому ли мы научились у их ваятелей. Эти камни были много лет моей отрадой. В мрачные часы, когда заботы и сомнения отнимали у жизни ее аромат и сулили только уныние, я не раз приходил к этой коллекции, глядел на эти фигуры и, переносясь в другое время и другой мир, становился другим человеком.
Я посмотрел на отца. Хотя и прежде у меня бывали поводы испытывать к нему глубокое уважение, хотя я и раньше открывал в нем еще более замечательные, чем предполагал, черты, я никогда не мог оценить его так, как оценил сейчас. Заваленный делами самого скучного рода или, может быть, ушедший в эти дела по собственной воле — ведь он вел их с такой аккуратностью, такой добросовестностью, с таким терпением и интересом, что впору было дивиться, — скромно исполняя свои будничные обязанности, он, о котором многие, наверное, думали только, что он держит дома для развлечения какие-то старые книги, картины и мебель, создал себе мир, еще более, может быть, глубокий и одинокий, чем я мог представить себе, и совершенствовал этот мир без каких-либо притязаний. Благоговея перед ним, я спросил его, читал ли он писателей, о которых говорил, по-гречески.
— Как же еще мне читать их, чтобы их любить, — отвечал он. — У древнего дохристианского мира были настолько иные, чем у нас, воззрения, — великое переселение народов было таким переломом в истории, что творения существовавших прежде народов вообще непереводимы, потому что наши языки, ни плотью своей, ни духом, не годятся для этих древних воззрений. Читая их поэтические и исторические труды на их языке, постепенно становишься их современником и усваиваешь их манеру судить обо всем, что иначе никак невозможно. Ведь в школах мы учим латынь и греческий, и если в послешкольное время еще немного постараться и почитать древние сочинения, все удается без большого труда и оказывается легче, чем учить, например, французский, итальянский или английский, как то делает теперь большинство.
— Но ты ведь учил и эти языки, — сказал я.
— Как учат их и другие и как того требовало мое положение.
— Я доселе не знал, что ты читаешь книги на древних языках, — сказал я, — более того, что ты погружаешься в поэзию, историю и философию народов, сочинения которых читаешь. Ты же знаешь, мы никогда не осмеливались подсматривать, какие книги ты читал.
Глубокое уважение к отцу, который, не делая шума, был чем-то большим, чем думалось сыну, и терпеливо ждал, придет ли к нему сын своими путями, было не единственным плодом этого дня. Я прекрасно чувствовал, что и отец меня уважал теперь больше и радовался, что сын сблизился с ним и по части искусства. Что мы сходились в некоторых научных вопросах, я знал, поскольку в последнее время мы иногда говорили на темы истории, поэзии и прочие, но я не знал, в какой мере и какими путями пришел отец к этим вещам. Сегодня мне кое-что открылось, а я совершенно не знал, получил ли отец какое-то систематическое образование и не следствие ли такого образования то, что он позволил мне идти именно моим путем, который мне самому казался порой рискованным. Теперь мне еще пуще хотелось, чтобы отец встретился с моим гостеприимцем и поговорил с ним о предметах, подобных тем, о которых говорил сегодня со мной. Я ведь не мог входить в подробности, да и не знал, насколько он прав в своих суждениях о древнегреческой скульптуре, поэзии, живописи и о новой музыке. Однако отец продолжал так спокойно заниматься своим делом, так вникал во все мелочи своей работы, так заботился о ее равномерном ходе, что вряд ли решился бы на поездку.
К концу нашего разговора появились мать и Клотильда. Лицо матери посветлело, когда она увидела, что мы стоим у камей, увидела, что отец показывает их мне и объясняет, и поняла, что у отца в душе радость и что сближение, которого она ждала, в самом деле произошло.
Мы еще несколько раз ходили то в картинную, то в комнату древностей, где на столе все еще стоял ящик с камеями, и говорили о разном.
— Эти произведения искусства, — сказал отец, когда он запер камеи и мы вышли из комнаты, — могут стать вашей собственностью. Если вы дорожите ими и любите их, они будут после нашей смерти разделены между вами, как я их, полагаю, справедливо распределил. Если я умру раньше матери, они, как памятник нашего мирного дома, останутся в том положении, в котором находятся теперь и будут переданы вам лишь тогда, когда и мать за мною последует. Если Клотильда захочет уступить тебе свою долю, то уже определена сумма, которую ты за это ей выплатишь, и наоборот. Если же у вас после нашей смерти такой любви к этим картинам и камеям не будет, чтобы хранить их в полном составе, то уже определено, что по вашему заявлению они за немалую мзду перейдут в некое место, где останутся в своей совокупности. Думаю, однако, что эта привязанность в нашем доме останется.
Мы ничего не ответили на эту речь, потому что она касалась предмета, который, сколь отдаленным он ни представлялся нам, вызывал у нас боль.
После этих открытий я еще усерднее занялся произведениями изобразительного искусства. Я подробнейше, до мельчайших деталей, изучал картины отца, очень часто надолго уединяясь для этого в картинной, посещал и изучал все доступные мне коллекции живописи, осматривал все скульптурные произведения, славившиеся в нашем городе, стараясь хорошенько узнать все их особенности, читал, наконец, знаменитые труды об искусстве и сравнивал собственные мысли и чувства с найденным в книгах. Я говорил об этих предметах с отцом, мы все больше сближались, мои чувства становились все глубже, и я отдавался им целиком. Теперь я восхищался нашим главным собором в большей мере, чем когда-либо прежде, и подолгу, бывало, стоял перед этим колоссом. Даже построения математики, когда я, случалось, снова занимался этой наукой, казались мне порой изящными и красивыми, особенно при соприкосновении с некоторыми французскими математиками. Я продолжал писать красивые головы и не прекращал рисовать и писать пейзажи, как то мы с сестрой начали в прошлом году. Я просматривал с нею рисунки, сделанные ею прошлым летом в мое отсутствие, и так же, как мой гостеприимец, Ойстах и отец объясняли мне недостатки моих этюдов, я объяснял Клотильде ее недостатки.
С тех пор как я познакомился с Матильдой, но особенно теперь, после того как я часто бывал в ее обществе, а поздней осенью съездил с нею и прочими в горы, я стал внимателен к лицам стареющих женщин. Большая несправедливость — сознаю, что и я поступал так, и по молодости многие, конечно, так поступают — сразу отметать, считая, что и нечего на них смотреть, лица женщин и девушек, как только те достигли определенного возраста. Теперь я стал думать иначе. Большая красота и молодость привлекают наше внимание и доставляют нам удовольствие. Но почему нам не вглядеться умственным взором в лицо, на котором лежат следы прожитых лет? Разве нет в нем истории, часто неведомой, исполненной красоты или боли, истории, оставившей на его чертах такой отсвет, что мы растроганно читаем ее или о ней догадываемся? Молодость указывает на будущее, старость рассказывает о прошлом. Разве у прошлого нет права на наше участие? Когда я увидел Матильду в первый раз, мне запомнился образ увядающей розы, которым воспользовался применительно к ней мой гостеприимец, запомнился потому, что я нашел его очень точным. И часто позднее, когда я смотрел на Матильду, образ этот вновь возникал в моих мыслях, рождая череду новых образов. Однажды мне подумалось, что Матильда — это олицетворенное прошлое, и позднее так думал я часто. Ее лицо было когда-то, наверное, очень красиво, может быть даже, так же красиво, как теперь лицо Наталии, ныне оно совсем другое. Но оно тихо говорит о каком-то прошлом, и у нас такое чувство, будто мы слышим Матильду, и нам хочется слушать ее, потому что она кажется нам такой привлекательной. Должно быть, у нее были какие-то привязанности, наверное, она испытала какие-то радости и потеряла какие-то блага, познала боль и горе. Но она пожертвовала всем Богу и старалась помириться с собой, она была добра к людям, и теперь глубоко счастлива при каких-то неисполнившихся желаниях и каких-то малых и больших заботах, заставлявших ее задумываться. Когда кто-то при мне сказал, что у княгини, на чьих приемах мне доводилось бывать, лицо таких приятных тонов, что лишь Рембрандту было бы под силу ее написать, я не только стал внимательнее к очень красивой в старости княгине, но и начал пристальнее присматриваться к Матильде и лучше узнал, что такое красота со следами прожитых лет. Я стал приглядываться к пожилым мужчинам и женщинам, стараясь проникнуть в смысл их лиц. При этом мне вспомнились головы стариков на отцовских камеях. Я часто рассматривал эти камеи, благо доступ к ним был мне открыт, и сравнивал высеченные на них головы с теми, что видел вживе. Никакому, однако, сравнению они не поддавались, в них сказывалось различие людских поколений. Лицо княгини казалось мне теперь намного красивее, чем в прежние времена, но желания написать его у меня не возникало, а уж выражать такое желание тем паче. Во многих лицах, к которым я теперь присматривался, я находил, правда, что-то такое, что мне не нравилось: то зависть, то какую-то жадность, то просто мертвость или бездуховность, то еще что-нибудь; в таких случаях я быстро прекращал свои наблюдения и никакого желания писать увиденное не испытывал. Ближе узнав Густава и подружившись с ним, я присматривался и к головам юношей как к возможным моделям для портретов. Хотя лицо Густава тоже не походило на красивые и простые лица отцовских камей, особенно благородно и выразительно выглядывавшие из шлемов, оно было к ним все-таки ближе, чем все другие, какие мне доводилось видеть теперь, и было вообще так красиво, как редко бывает красива голова мальчика, только что вступившего в возраст юноши. Если лица юношей нашего города очень часто выдавали избалованность, если в них мелькали порой какая-то изнеженность, что-то вызывающее, еще не соответствующее ни силам, ни возрасту, то лицо Густава было прямо-таки полно здоровья, оно было таким простым, словно не выражало ни желаний, ни забот, ни страдания, ни волнений, и при этом было таким мягким и добрым, что, если бы не огонь в глазах, его можно было бы принять за девичье.
Я рисовал и писал красками головы теперь не так, как еще недавно. Если раньше, особенно в начале этих моих занятий, я стремился только к возможно более точному воспроизведению внешних линий и, сумев хотя бы приблизительно передать краски, считал, что достиг цели, то теперь я обращал внимание на выражение, на как бы, если можно употребить это слово, душу, которую изображают краски и линии. С тех пор как я полюбил мраморную статую в доме моего гостеприимца и вник в картины, которые нашел в доме роз и в отцовском доме, все было иначе, чем прежде, я искал и ловил нечто скрытое внутри, нечто лежащее вне пределов линий и красок, нечто большее, чем они, хотя именно они должны это передать. Нарисовать, а тем более написать голову так, как мне того хотелось теперь, было гораздо труднее, чем на прежний мой лад, тут и сравнения быть не могло. Но иначе нельзя было, если ты вообще хотел это делать; чтобы сотворить поэтическое произведение, нужно было творить. Я ставил перед собой меньшую задачу, я старался набросать черты на скромной площади, довольствуясь намеками в рисунке и красках, как только начинало проглядывать нечто скрытое внутри, и не пытаясь сделать из начатого законченную картину, ибо такие мои попытки часто убивали внутреннее содержание и лишали портрет души. Судьей моим стал отец, и теперь это был строгий судья, тогда как раньше он просто одобрял все мои начинания. То, чем я занялся теперь, говаривал он, — это художество, а прежние мои работы были удовольствием. Часто, когда у меня что-то не получалось, я обращался к отцовским картинам, пытаясь доискаться, каким образом художник добился нужного выражения. Отец говорил, что это и есть исторический путь искусства, который можно проследить, посещая крупные собрания картин, где отсутствие больших пробелов позволяет сравнивать одни произведения с другими. Это, помимо пристального наблюдения над природою и любви к ней, есть также путь, которым растет, которым, при разных своих началах в разных эпохах и странах, росло искусство, прежде чем оно приходило в упадок или уничтожалось, чтобы начать сначала и попытаться снова подняться. Где властвует чистое высокомерие, которое презирает все, что было, и признает только себя, там искусству, как и всему на свете — конец, и впереди одна пустота.
Кроме уроков рисования, я продолжал с сестрой упражняться в испанском языке и в игре на цитре. Она и вообще с детства немного подражала мне во всем, что я делал, а мне всегда доставляло удовольствие руководить ею. Так оно отчасти и оставалось.
Возобновились и продолжались уроки, которые давал мне мой друг, сын ювелира, учивший меня разбираться в драгоценных камнях. Поскольку мы и помимо того иной раз дружески с ним беседовали, я, хотя мне всегда трудно говорить кому-либо что-либо по поводу его собственного занятия, как-то собрался с духом и поделился с ним своими мыслями насчет огранки драгоценных камней: я полагаю, мол, что не следует подавлять камень оправой, но не следует и оставлять его без какой-либо оправы, кроме той, что необходима, чтобы прикрепить камень к одежде; нужен поэтому некий средний путь, позволяющий увеличить красоту камня красотой обработки и сделать материал, и сам по себе уже драгоценный, истинной драгоценностью, то есть произведением искусства. Я сослался при этом на формы, которые создало искусство средневековья и от которых можно отправляться и впредь.
— Ты в общем совершенно прав, — отвечал мой друг, — мы все чувствуем это более или менее ясно, исключая тех, кому ничего не важно и все безразлично, кроме того, что ведет прямо к наживе. Поэтому делались и делаются попытки одухотворить оправу. Они удаются больше или меньше в зависимости от того, кто делает наброски — большие или небольшие художники. Но в этом-то и корень всех трудностей. Во-первых, те, кто обрабатывает драгоценные камни и жемчуг, бывают очень редко художниками, стать таковыми им нелегко, потому что нужная для этого подготовка требует слишком много времени и сил. Если они таковыми становятся, то они уж и остаются художниками, создают произведения искусства и не обрабатывают драгоценных камней, ибо это причинило бы вред их душе и доходам. А если обращаться к художникам за набросками, то тут другая беда: художник плохо знает драгоценные камни и не может подобрать соответствующую их природе оправу, а к тому же больших художников трудно привлечь подобной работой, если это не какие-то особые любители. Да и если они берутся за нее, оправа обходится очень дорого. Вот и остается довольствоваться посредственными художниками, которые поставляют и посредственные наброски. У нас в лавке нет никаких заблуждений на этот счет. Время от времени мы пытаемся выставить на продажу настоящее произведение искусства из жемчуга и драгоценных камней и ждем покупателя-знатока. Ведь людей, которым нужны драгоценные камни, гораздо больше, чем тех, кто ищет произведения искусства. Поставлять такие произведения в большом количестве мешает нам немногочисленность хороших набросков и недостаток покупателей, ведь продажа драгоценностей — это в конце концов наш заработок. А поскольку у наших обычных клиентов все же достаточно вкуса, чтобы неблагородная оправа их оскорбила, мы избрали самый естественный путь — делать оправу из благородного материала, но простейшей формы, так что видна только красота камня и жемчуга, а якорь, на котором она держится, скрыт. Что касается твоей мысли о средневековых оправах, то она не нова: мы уже пробовали делать такие, и подобного рода вещи барон фон Ризах уже заказывал по готовым рисункам.
Мне все было очень понятно, и больше я речи об этом не заводил. Отныне я еще внимательнее и подробнее рассматривал работы, которые мой друг заказывал в разных мастерских города. Большинство их было очень красиво, красивее, думаю, чем можно увидеть где-либо. Тем не менее я утверждал, что если бы вообще художественный вкус был выше и тоньше, то люди, выкладывающие большие деньги за украшения, отдали бы такие же или, может быть, еще большие деньги за то, чтобы получить в виде драгоценностей настоящие произведения искусства. На это мой друг возразил, что как ни был бы высок, как широко ни распространился бы художественный вкус, число покупающих украшения только как украшения все равно оставалось бы больше числа тех, кто заказывает в виде драгоценностей подлинные произведения искусства, которые он-то и считает вершиной своего ремесла. К тому же иных людей, обладающих художественным вкусом, настолько покоряет красота камней, что им, кроме этой единственной красоты, уже ничего не нужно. В последнем мой друг был особенно прав: чем больше я сам рассматривал камни, чем больше имел с ними дела, тем сильнее становилась их власть надо мной, и я понимал людей, которые заводят коллекции просто драгоценных камней без оправ и наслаждаются ими. Есть какое-то волшебство в тонком бархатистом блеске драгоценных камней. Я предпочитал окрашенные, цветные, и как ни сверкали алмазы, меня больше волновало простое, богатое, глубокое сияние цветных.
Свои занятия, оставленные на лето, я возобновил. Я корил себя за то, что так запустил их, жил такой беспорядочной жизнью. Я делал то, что привык делать зимой, и продолжал прежние свои работы. Регулярность этих занятий вскоре оказала на меня благотворное действие: все больное, что я носил в себе, несмотря на радость, которую доставляли мне воспоминания из области искусства и науки, отступило назад и померкло благодаря твердой, серьезной, строгой занятости, которую приносил с собой каждый день и которая делила его на уроки и сроки.
Бывал я так же, как и прошлой зимой, в привычных компаниях, посещал музыкальные вечера и художественные выставки.
Чтобы все это совместить, нужно было точно распределять время, и я должен был им верно пользоваться. К этому я, правда, привык с детства, я очень рано вставал и успевал многое из дневного урока сделать при лампе к тому часу, когда в доме начиналось утро и все собирались к завтраку. К тому же я не нуждался в длительном сне и урывал часок-другой у наступающей ночи. Деятельность давала мне силы, а если у меня случался душевный подъем, придавала ему ясность и прочность.
Одним из первых моих походов после возвращения был визит к княгине. Она сама лишь несколько дней назад вернулась в город из своего любимого сельского пристанища и еще не вполне освоилась. Приняла она меня, как всегда, очень приветливо и расспросила о моих летних занятиях. Многого сообщить я ей не мог и кроме измерений, предпринятых мною на Лаутерском озере, упомянул свои увлечения по части искусства и свою любовь к литературе. Об особых отношениях с моим гостеприимцем я упомянул лишь в общих чертах, считая нескромным без приглашения посвящать старую, почтенную женщину со множеством любопытных знакомств в подробности моей жизни. Княгиня и не вдавалась в них, выказав тем больший интерес к искусству и писателям. Она спрашивала меня, что я читал, как это воспринял и что я об этом думаю. Она оказалась знакомой со всеми названными мною сочинениями, но греческие, о которых я рассказал ей, читала лишь в переводе. Она в общем коснулась всего, а кое на чем остановилась особо. Наши мнения порой совпадали, а порой расходились, и она всегда старалась обосновать свой взгляд, что мне, во всяком случае, давало каждый раз какую-то новую точку зрения. В разговоре об искусстве она потребовала, чтобы я показал ей если уж не все, то хотя бы некоторые рисунки и картины по своему выбору. Я сказал, что все — это будет, пожалуй, чересчур, тем более что на первых порах я делал только естествоведческие зарисовки и сам не могу определить ту границу, где естествоведческие рисунки переходят в разряд художественных произведений. Я выберу из всех периодов что-нибудь и принесу ей. Определили, когда я приду к ней в полуденные часы.
Я пришел в назначенный день, в доме никого не было, кроме чтицы, и велено было никого не принимать, ведь рисунки не предназначались для еще чьих-то глаз. Просмотрев все листы, она все одобрила, особенно привлекли ее внимание естествоведческие зарисовки растений, потому что она много занималась ботаникой и все еще, особенно живя в деревне, отдавала время этой науке. Она радовалась точности зарисовок и совершенно верно определила, какие из них более всего соответствовали оригиналу. После этих зарисовок ей больше всего понравились рисунки голов. В моих пейзажных этюдах она, наверное, заметила односторонность, ибо, конечно, хорошо знала разные ландшафты, проводя каждое лето по нескольку недель в каком-нибудь прекрасном уголке нашей страны. Однако в этом смысле она не высказалась. По поводу голов она сказала, что таким способом можно создать целое собрание портретов замечательных людей. Я ответил, что такой целью не задавался, да и нелегко мне судить, кто человек замечательный. Просто я понял, рисуя долгое время предметы природы, что человеческое лицо — достойнейший предмет для рисунков, и попытался передать его в них. Сначала я по неведению почти всегда следовал при этом тем же направлением, что и в зарисовках природы, а потом мне открылось нечто высшее, нечто выходящее за эти пределы, нечто такое, что только и делает человечными лица и что я теперь и стремлюсь схватить, не зная, удается ли мне это или нет.
Она спросила меня о моих научных изысканиях, которые я последовательно описал, и выказала желание узнать что-то взаимосвязанное. Величайший интерес вызвала у нее история возникновения и длящегося и поныне развития нашей земли. Я возразил, что мы еще недостаточно сведущи в этом и что я-то уж никак не принадлежу к тем, кто дал богатую пищу для новых выводов, хотя стараюсь открыть как можно больше для себя и при случае для других. Если она хочет узнать об этом и о том, что сделано другими, не углубляясь в имеющиеся ученые труды и не превращая этот предмет в самоцель, то подходящие время и случай, несомненно, представятся. Она была явно довольна и отпустила меня с милой добротой, так ей свойственной.
С тех пор мои отношения с ней стали другими. После того как я один раз побывал у нее дома среди дня, такое случалось часто, либо когда мы собирались смотреть картины или рисунки, для чего не хватило бы света вечерних ламп, либо когда она приглашала меня на беседы, которые потом обычно шли между нею, ее компаньонкой и мною, — редко присутствовали кто-либо из ее сыновей, или внучка, или кто-то из ее близких родственников, — предметом же этих бесед бывали чаще всего история земли или что-либо относящееся к естествознанию. Порою я и сам заходил к ней ненадолго, чтобы справиться о ее здоровье. Другой вид применительно ко мне приняли и вечера. Поскольку мы как-то говорили о поэтических произведениях, которыми я занимался в последнее время, и поскольку принадлежали они как раз прошлому, не имевшему ничего общего с нынешними поделками, каковыми княгиня в теперешние ее годы не занималась, а времена, когда она принимала такие вещи к сведению, давно миновали, было решено выбирать то или иное сочинение и наслаждаться им вместе. Происходило это по вечерам, и мне часто приходилось исполнять роль чтеца, особенно если общество бывало немногочисленное, что в вечера, когда читали вслух, случалось часто. Эта роль досталась мне из-за некоторых испанских баллад. Княгиня, компаньонка и еще один участник чтений плохо понимали испанский язык, но баллады решено было читать по-испански. Читать поручили мне, и с помощью вставных объяснений и разговоров на нашем родном языке мы в конце концов как-то понимали эти баллады. После этого мне приходилось читать и по-немецки, и нередко спрашивали мое мнение о прочитанном и требовали, чтобы я что-то объяснил. Такое случалось особенно часто, когда мы решились подступиться к страницам Сервантеса и Кальдерона. На других языках, особенно на итальянском Данте и Тассо, очень любила читать компаньонка княгини. Древних греков — мы взяли только «Илиаду», «Одиссею» и кое-что из Эсхила — читал я один в немецких переводах. Очень много говорили при этом об общественной жизни древней Греции, о домашнем укладе, о государстве греков, о свойствах и особенностях их страны и морей. Для таких занятий этой зимой меня приглашали к княгине гораздо чаще, чем то бывало раньше. Весна и обычное время отъездов в деревню наступили для нас слишком рано, мы договорились о том, чем займемся будущей зимой, и княгиня простилась со мной с расположением и приязнью.
В нашем семейном кругу участились теперь разговоры между отцом и мною об искусстве и книгах. Он рассказал мне, как полюбил книги и стал собирать картины. При этом он заговорил о своей молодости и, будучи в более радостном и взволнованном настроении, чем обычно, подробнейше рассказал о том, как прожил ее. Он описал мне, как ему самому приходилось добывать себе средства, чтобы чему-то научиться, и как его старший брат, человек, видимо, очень способный, хоть и оказывал ему помощь, но очень малую, вынужденный сам заботиться о себе, да и старше-то он был лишь на год. По совету разумных людей отец начал читать и в годы учения проводил свободные дни в своей каморке за книгами. Освободившись от учения и бывая по делам службы то в нашем городе, то в первых торговых городах Европы, он знакомился с художниками, посещал их мастерские, собирал знания о живописи и ходил с этими знаниями в знаменитые картинные галереи крупнейших городов. Тут оказалось, что ему дважды приходилось начинать учиться сначала. В Риме, куда он направился из Триеста, чтобы вольно пожить там полгода, ему стало ясно, что он ничего не знает. Не пав духом, он начал все снова, и от Рима-то и пошла его любовь к старинным картинам. Его брат учился в государственных учебных заведениях, и, очень любя брата, отец перенял у него любовь к древним языкам. В годы службы у отца было больше свободного времени, чем когда он учился, и он пользовался им для своих склонностей. С одним старым аббатом, который, уйдя с должности настоятеля монастыря, наслаждался в нашем городе в зимнее время, как он выражался, достойным досугом, отец читал древних поэтов и историков. Аббат, великий охотник до античной литературы, открыл у отца склонность к таким вещам и помогал ему своими знаниями. В комнате аббата отцу не раз приходилось читать вслух так называемых классиков. Познакомился с ним отец у своего патрона, в чьем доме в честь аббата, который был когда-то учителем этого патрона, один или два раза в году устраивали праздник. Патрон, последний работодатель отца, был, как я узнал, человек чести, он не только предоставлял своим служащим возможность чему-то научиться, посылая их в поездки, где они могли завести деловых друзей, завязать знакомства, связи и тому подобное, но и оставлял им время, чтобы они, если у них не было средств для больших предприятий, могли начать с малого и перейти в конце концов к самостоятельности. Так и отец, начав с небольших сбережений, постепенно расширял дело и наконец, когда оно под покровительством хозяина наладилось, стал при его поддержке самостоятельным коммерсантом. Откладывая то, что он мог употребить на развлечения, отец покупал то книги, то произведения искусства, то совершал путешествия с образовательной целью. Связи его умножались, становясь все полезнее, и тогда-то он познакомился с моей матерью и добился ее руки. Она принесла в дом немалое приданое, и так, общими силами, была заложена основа, позволявшая нам, детям, не только свободно и независимо жить с родителями в их собственном доме, но и рассчитывать на подспорье в будущем, а самому отцу окружить себя тем, что тешило ему сердце и наряду с любовью супруги и благополучием детей могло послужить наградою его старости. Успев обвенчать последнего своего ученика, престарелый аббат вскоре умер. Отец с молодой женой трижды навестил своих старых родителей, которые жили далеко в лесистом краю, на небольшой доход с поля, и вскорости умерли. Благородный патрон отца еще крестил нас, а потом, отойдя от дел, поселился у своей единственной дочери, вышедшей замуж за одного уважаемого помещика, и умер у нее на руках. Так все обстоятельства изменились. Свой родной дом в лесу с небольшим полем отец и его брат подарили одной из сестер, та умерла бездетной, и поскольку ни он, ни брат не могли вести это хозяйство, дом достался дальнему родственнику. Брат отца умер до нашего совершеннолетия, так же как дед и бабка с материнской стороны, и так как у матери не было ни сестер, ни братьев, мы остались одни, без каких-либо родственников с обеих сторон. Любовь, оставшуюся у отца после смерти его родных, память о которых, особенно о брате, он бережно хранил, отец, по его словам, перенес на мать и на нас; его дом — это теперь единственное его достояние, и нам, сестре и мне, надо любить и держаться друг друга, особенно когда мы останемся одни, а он и мать почиют на кладбище.
В этом призыве к любви не было нужды. Нам с сестрой казалось невозможным любить друг друга сильнее, чем мы любили, только родителей любили мы еще больше, всякий намек на то, что они некогда нас покинут, огорчал нас донельзя, и куда мы обратим любовь, которая тогда нам останется, мы знали отлично: никуда больше, она сама собой пребудет над могильным холмом родителей до конца наших дней.
Другие события, происходившие хоть и в нашей семье тоже, но не только в ней, а и вообще в свете, были мне не так приятны, как в прежние времена, скорее они были мне даже противны и казались потерей времени. Состояли они почти сплошь, как и в прошлые годы, из вечеров, где велись беседы, или из сборищ с музыкой или даже танцами. В последних я не участвовал, и сестра, разделявшая, как я давно заметил, все мои склонности, тоже принимала в них мало участия и убегала в такие вечера ко мне. С людьми, особенно молодыми, бывавшими у нас в таких случаях, я был, однако, тогда уже хорошо знаком, и если раньше я испытывал какую-то робость, какой-то даже трепет перед ними, то теперь этого не было и в помине. Благодаря размышлениям и опыту я понял, что то, перед чем я особенно робел, их уверенность и изысканность — это такая штука, которой можно научиться, если часто бываешь на подобных сборищах, много там говоришь и стараешься выйти на передний план. А что научитьси этой штуке нетрудно, я судил по тому, что ею владели люди, о чьих умственных способностях я не был высокого мнения. Опыт общения приобретал я, однако, не только в высших слоях, но и в низших, во втором случае, правда, не в городе, а среди жителей гор и земледельцев. В высших слоях, в частности, в доме княгини, я встречал молодых людей, которые не имели этих манер, так меня подавлявших, а держались просто и скромно, были вежливы и предупредительны и напоминали мне выражение «хорошо воспитанный молодой человек», которое я часто слышал, но неверно понимал в юности. В низших слоях мне встречались люди, не напускавшие на себя никакой чинности при вышестоящих, а спокойно высказывавшие свое мнение и спокойно выслушивавшие другую сторону. Такие люди казались мне и лучше воспитанными, чем те, кто знает всяческие манеры поведения и выставляет их напоказ. Прекрасным примером служил мой гостеприимец, который держался еще проще, чем те, о ком я сказал, что встречал их у княгини, его слова и дела всегда вызывали уважение. Даже его одежда, сначала поражавшая, ко всему подходила. Также и Ойстах, и уж, конечно, Густав обладали решительными преимуществами перед моими светскими знакомыми. Поскольку я узнал их как нельзя лучше и почтения к ним уже не испытывал, никакой пользы мне от их общества не было, и я считал, что это время можно употребить лучше. Но и такого рода опыт отец мой, по-видимому, считал полезным. Общение мое ограничивалось молодыми мужчинами. О девушках я судить не мог, потому что говорил с ними очень мало и ни одна, разумеется, не нарушала моего одиночества. Среди старших, как мужчин, так и женщин, мне часто встречались люди, внушавшие мне уважение. Но старшим, как и девушкам, я себя не навязывал. Среди тех, к кому я был больше привязан, первое место занимал сын ювелира, я был ему действительно настоящим другом. Мы проводили вместе много времени помимо занятий наукой о драгоценностях, обсуждая разные вещи, в частности какие-то разделы ценимых обоими нами книг. Его родители были людьми очень милыми и тонкими. Молодой Брепорн тоже был мне весьма приятен. Он все еще вспоминал о прекрасной Тарона, немало огорчаясь, что она отправилась в далекие путешествия и потому ее нет в городе и он не может показать мне ее. В развлечениях, которые устраивали молодые мужчины в своем кругу, я участвовал донельзя редко. А если я вообще гораздо меньше, чем многие молодые люди, общался с моими сверстниками и не проводил с ними, как то водится в нашем городе, целые дни, то объяснялось это тем, что у меня было много дел и не оставалось времени на другое. Более всего любил я бывать только среди своих родных.
После этой зимы я довольно поздно отправился весной на лоно природы. Как ни радостно было последнее лето, как ни взбодрило оно меня, в глубине души у меня оставался какой-то неприятный осадок, это было, вероятно, не что иное, как сознание, что я не продвинулся в своей профессии и занимался чем придется без всякого плана. Теперь я хотел наверстать упущенное и посвятить большую часть лета упорной и напряженной деятельности. Я взял с собой все инструменты и книги, которые нужны были мне для продолжения моих работ. Свободные часы, которые останутся при точном распределении времени, я хотел отдать своим любимым делам.
Я остановился в трактире «У кленов» и пригласил туда людей, услугами которых собирался воспользоваться, если они согласятся последовать за мною в отдаленную часть гор, куда звали меня нынче мои работы. Старый Каспар готов был отправиться со мной, двое других тоже, и этого мне было достаточно. Я справился о своем учителе игры на цитре, он куда-то исчез, прямо-таки пропал без вести. Никто о нем ничего не знал. Я сходил в Ротмоор, посмотреть, как движутся работы с мрамором. Они были в этом году закончены, и я мог осенью отправить сделанное домой. Затем я покинул на все лето трактир, где прожил столько времени, сколько нужно было для подготовки к походу в ту часть гор, которую я намеревался исследовать. Уходил я оттуда с грустным чувством.
В месте, где горы широко разветвлены и запутаны, но все же далеко не так красивы, как там, откуда я прибыл, я поселился как бы в самом их центре. Мне не хватало веселого, сверкавшего окнами трактира «У кленов», не хватало всей долины, где я чувствовал себя почти как дома. Я снял комнату в доме, стоявшем у скрещения трех долин и потому очень удобном для меня своим расположением. Черный ельник глядел на мое окно, шагал мимо влажных лугов и других открытых мест вдоль ручьев, бежавших из трех долин, в их днища и поднимался на горы. Куполов гор, а тем более снежных вершин над темными елями из-за узости долины не было видно. По этой причине, наверное, и дом, и хижины, во множестве разбросанные по лесным склонам и у ручьев, назывались «танном»[7]. К каменным, поросшим мохом стенам моего дома примыкал запущенный садик, в котором, кроме лука-резанца, кажется, ничего не росло. На дороге земля была черная, и такая же чернота въелась в траву, ибо единственным перевозочным средством, часто подъезжавшим к этому трактиру и здесь, для отдыха людей и лошадей, задерживавшимся, были повозки с углем. По всему здешнему, огромному на поверку лесному массиву были разбросаны выжигальники, и целые вереницы черных повозок и черных возниц тянулись по угрюмой дороге, чтобы доставить уголь на равнины, откуда он доходил даже в наш город. Предоставить мне могли только одну-единственную комнату с маленькими окнами и железными крестовинами на них. В комнате были стол, два стула, кровать и расписной ларь, куда я сложил платье и прочие свои вещи. Для моих больших ящиков выгородили место в сарае. Когда мы бывали в доме. Каспар и другие спали на сеновале. Большую часть своего багажа я оставил в чемоданах, повесив на гвозди в стенах лишь самое необходимое, разложил на столе свои письменные принадлежности, научные книги и поэтические сочинения, застелил кровать привезенными из дому постельными принадлежностями, поставил в угол свои альпенштоки и таким образом устроился. Солнце, заглядывавшее перед полуднем в одно из моих окон, касалось пополудни другого, чтобы скоро позолотить верхушки елей и скрыться. Я уже бывал в подобных пристанищах, привык к ним, прижился, быстро познакомился с хозяином, хозяйкой и их деятельной дочерью, простыми, добродушными, недалекими людьми. Еще заходили в трактир то какой-нибудь горный охотник, то какой-нибудь редкий путник или торговец-разносчик. Большинство постояльцев составляли, кроме возниц-угольщиков, дровосеки, обычно рассеянные по большим лесам, а по субботам и перед большими праздниками выходившие оттуда, чтобы навестить семьи. Нередко они задерживались в трактире для своего ублажения. Главным занятием всех жителей танна была рубка леса, а главным их богатством были коровы и козы, которых каждый день выгоняли пастись в леса, а молодняк все лето держали в горах, в лесу и на вырубках.
Из этого дома мы и начинали свои походы. Наш молоток исследовал длинные лесные полосы, и люди сносили в танн, как свидетельства разного состава взрастивших эти леса почв, самые разнообразные камни. Хотя ни скал, ни тем более льда из нашего трактира не было видно, они тем не менее существовали. Поскольку здесь, в самой гуще гор, ближе к их сердцевине, все было грандиознее, то и лес тоже шел здесь гуще, мощнее, и лишь после долгих часов пути в темной тени влажных елей и сосен их плотность наконец уменьшалась, их строй редел, все чаще попадались мертвые и сломанные стволы, все больше появлялось сухого камня, и когда следовали открытые места с короткой травой, гравием или низкорослым лесом, глазам открывались сумеречные стены гигантских размеров, а в них были сверкающие белые поля или виднелась в расселинах скал какая-нибудь, сплошь в белом покрове, гора. Мир леса сменялся теперь еще более необъятным миром камня. Наша цель часто выводила нас из окружения лесов на простор гор. Когда все составные части каменной гряды были изучены, все воды, которые стекают с нее в долины, исследованы, все камешки в ручьях осмотрены и записаны, когда ничего нового никакие самые тщательные поиски уже не давали, мы предприняли попытку обследовать саму цепь и обойти ее звенья, насколько это допустит природа. Наш план приводил нас в самые дикие и далекие пропасти, мы поднимались на самые отвесные гребни, где вдруг перед нами взлетал вспугнутый коршун или какая-нибудь незнакомая птица и торчал одинокий сук. которого веками не видел человеческий глаз. Мы взбирались на светлые вершины, которые клали огромную толщу окружавших наш дом лесов и поля окрестных селений маленькой картинкой к нашим ногам. Мои люди все больше входили во вкус. Если человеку вообще присуще стремление побеждать и покорять природу, что видно по тому, как дети всегда что-то строят, а того чаще рушат, а взрослые не только делают землю, как говорит певец Ахиллеса, «пищеродящей», но и всячески преобразуют ее для своего удовольствия, то житель гор старается укротить свои любимые горы, старается взобраться на них, одолеть их, влезть даже туда, куда никакая другая более важная цель его не зовет. Рассказы о таких победах скрашивают жизнь горцам. У моих людей поднималось настроение, когда мы молотком и зубилом высекали в гладкой стене ступени, пробивали в ней отверстия, вгоняли в них заранее заготовленные костыли для подвесных лестниц и добирались туда, куда, казалось, невозможно добраться. Мы часто по многу дней не спускались в свой трактир.
Я тоже старался взобраться на вершину какой-нибудь высокой горы, когда сами мои занятия того требовали. Я стоял на скале, возвышавшейся над льдом и снегом, стоял над зиявшей в фирне трещиной, через которую пришлось перепрыгнуть или перелезть по стремянке, стоял порой на крохотной плоскости последнего камня, выше которого ничего не было, и смотрел на столпотворение гор вокруг меня и подо мною, либо еще более высоких, вздымавшихся белыми отрогами в небо и меня побеждавших, либо отделенных от меня воздухом на одном со мной уровне, либо оседавших, спускавшихся, мельчавших, я видел курившиеся полоски долин, озера внизу, как плиточки, видел земли, лежавшие передо мной, как бледная географическая карта, видел край, где словно в пыльном тумане, скрывался город, где жили все, кто мне дорог, отец, мать и сестра, я смотрел на высоты, казавшиеся отсюда синеватыми барашками облаков, высоты, где должны были находиться Асперхоф и Штерненхоф, где стоял дом моего любимого гостеприимца, где жила добрая, ясная Матильда, где был Ойстах, где пребывал жизнерадостный, пылкий Густав и где глядели на мир глаза Наталии. Все передо мною молчало, словно мир вымер, словно то, что жило, двигалось, шевелилось, было сном. Не видно было даже какого-нибудь дымка, и поскольку мы для таких восхождений всегда выбирали ясные дни, небо обычно было безоблачным, его темно-синяя тьма казалась бескрайней пустыней, оно было более бескрайним, чем видится нам снизу, из заполненных всякими мелкими предметами мест. Когда мы спускались, когда Каспар, вытаскивая за нами костыли из камней, укладывал их в свой заплечный мешок, когда мы убирали стремянку или, не пользуясь ею, перепрыгивали через трещину в фирне, в строгих чертах Каспара и в лицах других наших спутников что-то менялось, из чего я заключал, что место, где мы стояли, произвело на них некое впечатление.
Часы и дни, которые я урывал для своей работы, потому что нуждался в покое или из-за неблагоприятной погоды, посвящались зарисовкам пейзажей, а глубина ночи, прежде чем смыкались глаза, озарялась великими словами кого-нибудь, кто давно умер и оставил нам их в своей книге, а когда свеча гасла, эти слова уносились со мною в то загадочное для нас царство, что предвещает еще более непостижимое для нас состояние.
Как и в недавнем прошлом, я и теперь не довольствовался сбором научного материала и простой регистрацией найденного, из чего возникала общая картина местности, — хотя и теперь делал это весьма усердно, — а всегда доискивался до причин, по которым что-либо возникало, и задавался вопросом, как именно. Я развивал эти мысли и записывал, что мне приходило на ум. Может быть, когда-нибудь в будущем что-нибудь из этого выйдет.
К началу цветения роз я сделал в своих занятиях перерыв, чтобы посетить Асперхоф.
Я расплатился со своими людьми, пообещав воспользоваться их услугами в будущем, и отпустил их, прибавив к вознаграждению небольшие деньги на обратный путь. В трактире я тщательно упаковал свое добро, погасил долги, сказал, что приеду снова, попросил бережно хранить оставленное и в одноконной горной коляске уехал по укромной дороге, которая шла от шумящего возле трактира ручья вверх, к лесу. Доехав до шоссе, я отправил своего возницу назад и продолжил свое путешествие в почтовой карете. Путь от последней почты до дома своего друга я прошел пешком. По прибытии я позаботился о доставке моего багажа.
Явился я позже, чем, собственно, намеревался. В глубокой уединенности танна, в его прохладе я ошибся относительно происходившего в мире. На более открытой местности стояли теплая весна и очень теплое раннее лето, чего я в горах не ощущал. Поэтому во всех садах, мимо которых я шел, розы уже радостно и пышно цвели. Когда я поднимался на холм, безупречные кроны возвышались во всем своем совершенстве над темной крышей дома моего гостеприимца и над обеими створками садовой ограды. Занавески на окнах, частью приоткрытые, частью закрытые из-за жары, приветливо звали меня, а переливы птичьего пения и чьи-то одиночные возгласы приветствовали меня как старого знакомца.
Зная устройство ворот, я нажал на рычаг, створка отворилась, и я вошел в сад.
Мой гостеприимец был на пчельнике, я узнал это от садовника, который был первым, кого я увидел. Он что-то поправлял на грядке герани близ входа. Я повернул к пчельнику. Мой гостеприимец стоял у домика и ждал вылета молодого роя. Он сказал мне это, когда я подошел поздороваться. Встреча была почти такой же волнующей, как встреча отца и сына, так выросла уже моя любовь к нему, да и он, видимо, уже привязался ко мне.
Поскольку он не мог, казалось, отказаться от своего намерения, я сказал, что пойду поздороваюсь с другими, и он это одобрил. Он сообщил мне, что Матильда и Наталия сейчас в Асперхофе.
Я пошел к дому. Густав уже узнал, что я здесь, он сбежал с лестницы и бросился ко мне. Приветствия, вопросы, ответы, упреки за то, что я явился так поздно и не приехал на несколько дней весной. Густав сказал, что у него есть что рассказать мне, что он все мне расскажет и что мне следует остаться здесь на довольно долгое время.
Он провел меня к своей матери. Она сидела за столом среди кустов и читала. Увидев меня, она встала и пошла мне навстречу. Она протянула мне руку, которую я хотел, как то принято было в нашем городе, поцеловать. Она этого не допустила. Я, впрочем, и прежде замечал, что она не позволяет целовать себе руку. Она сказала, что очень мне рада, что ждала меня уже раньше и что я должен уделить своим здешним друзьям побольше времени. С этими словами мы вернулись к столу, где лежала ее книга, и она усадила меня. Я сел на один из стоявших здесь стульев. Густав остался стоять возле нас. Лицо ее было такое веселое и приветливое, каким я, подумалось мне, его никогда не видел. Но, может быть, оно всегда было таким, просто в моей памяти оно отступило немного назад. В самом деле, каждый раз, когда я видел Матильду после долгой разлуки, она казалась мне, хотя была стареющей женщиной, все милей и прелестнее. Среди указывавших на череду лет морщинок и черточек, жила красота, которая трогала сердце и внушала доверие. И еще больше, чем эта красота, как я теперь, изучив столько лиц, чтобы их рисовать, понял, проглядывала в чертах Матильды, покоряя всех, кто к ней приближался, доброта и цельность ее души. Ее чистый лоб окаймляла белая оборка чепца, и такие же полоски белели у тонких кистей ее рук. На столе стоял горшок с темной, почти фиолетовой розой. Откинувшись к спинке плетеного стула, на котором она сидела, Матильда сложила руки на коленях и сказала:
— Мы устроим в Штерненхофе небольшой праздник. Вы знаете, что мы начали счищать краску, которой когда-то покрыли большую площадь каменных стен нашего дома, ибо наш друг считает, что она портит вид дома, который стал бы гораздо красивее, если бы виден был чистый камень. В этом году весь фасад дома готов, сейчас снимают леса, и когда уберут все следы на земле перед домом, утрамбуют песок, очистят лужайку, смоют с зелени известь, мы все поедем туда и посмотрим, пошло ли это дому на пользу, как мы того ждали. Приедут и другие люди, прибудут, наверное, и некоторые соседи, а поскольку вы принадлежите к числу наших асперхофских друзей и ваше мнение нам важно, прошу вас присоединиться к нашему обществу.
— Мое мнение вряд ли существенно, — отвечал я, — и если оно хоть чего-то стоит, если я приобрел какие-то знания и какое-то чувство красоты, то лишь благодаря хозяину этого дома, так ласково меня принявшему и вырастившему во мне многое, что иначе никогда бы не дало себя знать. Я, стало быть, мало что прибавлю к оценке штерненхофской затеи, мое мнение наверняка совпадет с мнением моего гостеприимца и Ойстаха. Но поскольку вы так любезно меня приглашаете, а я рад побывать в вашем доме, я с удовольствием принимаю это приглашение, при условии, что срок назначен не слишком поздний, потому что я хочу еще этим летом вернуться на место моей теперешней деятельности и кое-что сделать.
— Срок этот очень близок, — отвечала она, — да и давно уже так принято, что после цветения роз, на которое меня всегда приглашают в этот дом, наши здешние друзья едут на некоторое время в Штерненхоф. Так будет и нынче. Пока здесь эти цветы распускаются, увядают и опадают, наш штерненхофский управляющий приведет все в полный порядок, все приберет, он известит нас письмом, и мы определим день встречи. От мнения подавляющего большинства будет зависеть, тратиться ли на очистку других частей дома, сохранить ли его теперешний вид, когда одна сторона очищена, а остальные покрыты краской, что, конечно, не так красиво, как если окрашено все, или же снова закрасить очищенное. Вы несправедливы в такой низкой оценке вашего собственного суждения. Если вблизи нашего друга что-то в вас расцвело раньше, то это вполне естественно. Ведь все в нас, людях, выращивается другими людьми, и в том и состоит привилегия людей значительных, что они и в других тоже гораздо раньше развивают все то значительное, что, вероятно, и так проявилось бы в тех позднее. Сколь несомненна ваша предрасположенность к высокому и великому, видно хотя бы из того, что вы по собственному побуждению выбрали научные занятия, до которых наши молодые люди обычно в вашем возрасте не охотники, а что ваше сердце было открыто красоте, явствует из того, что уже вскоре вы начали зарисовывать предметы вашей науки, чего тот, у кого художественных способностей нет, делать не станет, он ограничится знаниями, а вы стали затем рисовать и другое — человеческие головы, пейзажи — и обратились к поэтам. Но что и день, когда вы взошли на этот холм, несчастливым не был, показывает то, что вы любите владельца этого дома, а возможность кого-то любить — это для того, кто наделен таким чувством, великая награда.
Густав не отрывал ласкового взгляда от матери, пока она говорила.
А я сказал:
— Он необыкновенный, совершенно замечательный человек.
Она ничего не ответила на эти слова и помолчала. Потом опять заговорила.
— Я поставила эту розу себе на стол — компаньонкой при чтении. Нравится вам цветок?
— Очень, — отвечал я, — как и вообще все розы, выращиваемые в этом доме.
— Это новая порода, — сказала она, — я получила письмо из Англии от одной приятельницы, где она особо упоминала розу, которую видела в Кью, и приводила ее название. Не найдя этого названия в перечне наших роз, я подумала, что, верно, такой породы у нашего друга нет. Я написала приятельнице, не может ли она раздобыть мне саженцы. С помощью одного нашего общего знакомого она заполучила такое растение и, хорошенько упаковав его в горшок, прислала мне из Англии этой весной. Я ухаживала за ним, и когда стали набухать почки, привезла его нашему другу. Здесь розы открылись полностью, и мы увидели — особенно он, который наперечет знает все признаки, — что такого цветка в коллекции этого дома еще не было. Ойстах зарисовал его для памяти, чтобы сравнить с теми, какие появятся в будущем. Мой друг заказал в Англии привои на следующую весну, а это растение останется пока для лучшего ухода за ним в горшке.
Во время ее речи ветки возле тропинки, которая выходила из кустов на поляну, зашевелились, и на тропинке показалась Наталия. Она была разгорячена и несла в руке букет полевых цветов. Она, видимо, не знала, что к матери кто-то пришел, ибо очень испугалась, и мне показалось даже, что на ее раскрасневшемся лице проступила бледность, которая тут же сменилась еще более ярким румянцем. Я тоже почти испугался и поднялся.
Она остановилась у куста, и я произнес:
— Очень рад, фрейлейн, видеть вас в полном благополучии.
— Я тоже рада вашему благополучию, — ответила она.
— Дитя мое, ты очень разгорячена, — сказала мать. — Ты, наверное, была далеко, скоро уже полдень, а в это время ходить так далеко тебе не следовало бы. Присядь на это кресло, но сядь на солнце, чтобы не охладиться слишком быстро.
Наталия еще немного постояла, затем послушно подвинула одно из стоявших кругом кресел на самое солнце и села. Когда она выходила из кустов, круглая шляпа с небольшим козырьком, какие Матильда и она обычно носили на прогулках вблизи дома роз и Штерненхофа, была у нее в руке, но сейчас, когда солнце светило ей в темя, она надела ее. Букет полевых цветов она положила на стол и принялась вытаскивать отдельные растения, как бы складывая из них новый букет.
— Где же ты была? — спросила мать.
— Я побывала у нескольких розариев в саду, — отвечала Наталия, — обошла кусты возле карликовых деревьев и под большими деревьями, затем поднялась к вишне и оттуда вышла в поля. Там взошли посевы и цветут цветы между колосьями и в траве. Я прошла по тропке между хлебами, дошла до полевого привала, посидела там немного, затем ходила по хлебному холму, без дороги, межами, собрала эти цветы, а потом вернулась в сад.
— И долго ли ты пробыла на той горе и все ли время собирала цветы? — спросила Матильда.
— Не знаю, долго ли я была на горе, но думаю, что недолго, — ответила Наталия. — Я не только собирала цветы, но смотрела на горы, глядела на небо, на округу, на этот сад и на этот дом.
— Дитя мое, — сказала Матильда, — это не беда, если ты ходишь в окрестности дома, но не следует ходить по холму на жарком солнце, которое в полдень, правда, не жарче всего, но достаточно жарко, а холм совершенно открыт ему, там нет ни деревца — кроме как у полевого привала, — ни кустика, которые давали бы тень. И ты не знаешь, как долго находилась на жаре, ведь погружаясь в созерцание или собирая цветы, ты не замечаешь времени за этим занятием.
— Я не погружалась в собирание цветов, — отвечала Наталия, — я просто срывала их невзначай, когда они попадались. Солнце не причиняет мне такого вреда, как ты думаешь, милая матушка, я чувствую себя очень хорошо и очень свободно, тепло в теле скорее дает мне силы, чем угнетает меня.
— И шляпу ты тоже несла на руке, — сказала мать.
— Да, — отвечала Наталия, — но ты знаешь, что у меня густые волосы, на которые солнечное тепло действует благотворнее, чем жара от шляпы, и когда голова открыта, ветерок приятно обдувает лоб и волосы.
Я рассматривал Наталию, когда она говорила. Только теперь я понял, почему она меня всегда так поражала, понял, повидав отцовские камеи. Мне показалось, что Наталия очень похожа на одно из увиденных там лиц. Лоб, нос, рот, глаза, щеки — во всем было нечто такое же, что и в женщинах на камеях, во всем была та свобода, та высокая простота, та нежность и в то же время сила, которые указывают на совершенное тело, но и на недюжинную волю и недюжинную душу. Я взглянул на Густава, все еще стоявшего у стола, думая, что, может быть, обнаружу и в нем что-то подобное. Он еще не так развился, чтобы его внешность выражала его натуру, черты его еще слишком округлы и мягки. Но мне показалось, что через несколько лет у него будет такой же вид, как у юношей в шлемах на отцовских камеях, и он будет еще больше похож на Наталию. Взглянул я и на Матильду. Но ее черты были уже смягчены возрастом. Тем не менее я подумал, что еще недавно, наверное, она походила на пожилых женщин камей. Наталия, стало быть, была отпрыском ушедшего поколения. Иного, более самобытного, чем нынешнее. Я долго смотрел на девушку, которая, говоря, то поднимала глаза к нам, то снова опускала их на свои цветы. Голова ее казалась такой античной, пользуясь древнеримским прилагательным, которое отец применял к своим камеям, отчасти, может быть, — во всяком случае, Наталии это шло, — благодаря стройной шее и совсем простому, строгому платью. На ее шее не было ни финтифлюшек из материи, ни ожерелья, ни еще каких-нибудь украшений — что делает лишь прелестные лица еще прелестнее, — шею окаймляло только неброского покроя, скромно облегавшее девушку платье.
Мать ласково глядела на дочь, пока та говорила, а затем сказала:
— Молодости все на благо, ей все на пользу, она, видно, и чувствует, что ей нужно, как старость чувствует, в чем нуждается она — в покое и тишине, — и недаром говорит наш друг, что надо прислушиваться к природе. Поэтому гуляй себе так, как тебе кажется нужным, Наталия, ты ведь ничего дурного не сделаешь, как не делала, не пренебрежешь правилами, о которых мы тебе говорили, не углубишься в свои мысли настолько, чтобы забыть о своем теле.
— О нет, матушка, — отвечала Наталия. — Но позволь мне гулять, такое у меня желание. Я умерю его, насколько смогу. Я сделаю это ради тебя, матушка, чтобы ты не беспокоилась. Мне хочется ходить по холмистым полям, по долине, по лесу, осматривать окрестности. Потом на душе бывает так хорошо, так спокойно.
Что Наталия все же разгорячилась, бродя на солнце перед самым полуднем, показывало ее лицо. Оно сохраняло румянец, сменивший недолгую бледность, и утратило его лишь в малой мере, пока она сидела за столом, что продолжалось все же довольно долго. Румянец этот тихо горел на ее щеках, украшая и как бы озаряя ее.
Продолжая разбирать цветы, она перекладывала один за другим из большего букета в меньший, отчего меньший стал большим, а больший все уменьшался. Она не удаляла ни одного цветка, не отбрасывала даже случайных травинок, она старалась не столько отобрать какие-то цветы, сколько придать старому букету новый, более красивый вид. Так оно и получилось: старый букет наконец исчез, а на столе лежал один новый.
Книга Матильды все время оставалась перед ней на столе, хотя она больше в нее не заглядывала. Она спросила меня о последнем моем местопребывании и о моих последних работах. Я рассказал ей о том и о другом.
Густав тем временем тоже сел в кресло возле меня и внимательно слушал.
Когда солнце достигло зенита и прямо-таки залило наш стол, появилась Арабелла и позвала нас обедать.
Один из работавших в саду отнес горшок с цветком в дом. Матильда взяла книгу и рабочую корзиночку, стоявшую перед ней на столе, Наталия взяла свой букет, снова повесила на руку шляпу, и мы пошли к дому. Женщины шли впереди, мы с Густавом держались сзади.
Неудивительно, что мне пришлось оправдываться перед моим гостеприимцем, перед Ойстахом, перед Густавом и даже перед домочадцами, оттого что я в этом году явился так поздно: меня ведь всегда принимали здесь так приветливо, почти привыкнув к тому, что я каждое лето приезжаю в дом роз, да и для меня эти приезды стали привычкой.
Мы с моим гостеприимцем говорили о делах, которыми я занимался в течение нынешнего лета, а он в первые дни показывал мне все, что изменилось в доме роз в мое отсутствие.
Я увидел, что цветение роз продлится уже не так долго, потому что я явился не к самому его началу, а несколько позже.
Картины снова давали мне приятные ощущения, а статуя на лестнице делалась мне все ближе, с тех пор как я увидел резные камни и знал, что нечто подобное существует и в жизни. Я часто бродил по окрестностям с Густавом или один.
Как-то за полдень мы сидели в комнате, окна которой выходили на розы. Матильда довольно благодушно говорила о разных житейских предметах, о явлениях природы — как нужно принимать их и как они сменяют друг друга в течение года. Тут я впервые заметил, как заботливо и красиво убрана эта комната. Висевшие в ней четыре картины одинаковой величины и в одинаковых рамах были, несмотря на их малый размер, великолепнее и замечательнее всего, что имелось в собрании дома роз. Я ведь уже научился судить настолько, чтобы при той большой разнице, которая тут видна была, это понять. Но я навел и моего гостеприимца на эту тему, и он согласился с моим наблюдением, хотя в очень сдержанных выражениях — из-за присутствия Матильды. После того как беседа приняла такой оборот, мы осмотрели картины, обращая внимание на их тонкость, приятность и возвышенность.
И нынче, как обычно в пору роз, приезжали гости. Но я выходил на люди реже, чем в прежние годы.
Наталия и впрямь, как я теперь сам заметил, гуляла этим летом в саду и в окрестностях больше, чем раньше, она уходила гораздо дальше и чаще ходила одна. Она не только часто уходила в поля за высокой вишней и там бродила, но опускалась прямо с холма к дороге или ходила на хутор, или вдоль холмов, или по дороге на Ингхоф. Возвратившись, она сидела, откинувшись назад, в своем кресле и смотрела на то, что делалось перед ней или вокруг нее.
Однажды, проделав и сам большой путь, я вечером, возвращаясь в дом роз, свернув от Ольхового ручья на более короткую дорогу, пройдя по траве между полями, поднявшись на пригорок и приближаясь к полевому привалу, увидел, что там, на скамеечке перед ясенем, кто-то сидит. Не очень-то задумываясь об этом, я продолжал идти своей дорогой, которая вела прямо туда. Даже подойдя ближе, я не мог узнать, кто это, потому что сидевший был не только повернут ко мне спиною, но и заслонен стволом дерева. Лицо сидевшего было обращено к югу. Он не шевелился и не оборачивался. Так я подошел к нему почти вплотную. Должно быть, он услышал мои шаги по траве или шорох задетых мною колосьев, ибо вдруг обернулся, чтобы меня увидеть, и передо мною оказалась Наталия. Не более двух шагов отделяли нас друг от друга. Скамеечка стояла между нами. Ствол дерева был теперь немного в стороне. Мы оба испугались. Я-то думать не думал, что на скамеечке может сидеть Наталия, а она испугалась, наверное, потому, что внезапно услыхала шаги у себя за спиной, хотя никакой дороги здесь не было, и потому, что, обернувшись, увидела перед собою какого-то мужчину. Я предположил, что она не сразу узнала меня.
Несколько мгновений мы молча стояли друг перед другом, затем я сказал:
— Это вы, фрейлейн, никак не думал, что найду вас сидящей под ясенем.
— Я устала, — отвечала она, — и села на скамеечку передохнуть. Да и время сейчас, наверное, более позднее, чем я обычно возвращаюсь домой.
— Если вы устали, — сказал я, — то я не хочу, чтобы вы из-за меня стояли, прошу вас, сядьте, а я как можно скорее пройду через поля и сад и пришлю к вам сюда Густава, чтобы он проводил вас домой.
— В этом нет нужды, — возразила она, — ведь еще не вечер, и даже будь уже вечер, какая-либо опасность здесь едва ли грозит. Я уже ходила одна гораздо дальше и возвращалась одна домой, и ни моя мать, ни наш гостеприимец, не беспокоились из-за этого. Сегодня я дошла до межевого холма у красного креста и оттуда вернулась сюда, к скамейке.
— Да это больше часа пути, — сказал я.
— Не знаю, как долго я шла, — отвечала она, — я шла между полями, где стоят обильнейшие хлеба, проходила между кустов на межах, мимо стоящих среди хлебов деревьев и вышла к красному кресту, который высится среди нив.
— Если я иду очень быстро, — сказал я, — я дохожу до красного креста за час.
— Я, как сказала, не считала времени, — ответила она, — я дошла отсюда до креста и от креста вернулась сюда.
Во время этих слов я вышел из неудобного места в траве за скамеечкой на открытую площадку перед деревом. Наталия сделала легкое движение и снова села на скамейку.
— После такого похода вам, конечно, нужно отдохнуть, — сказал я.
— Но вовсе не поэтому, — отвечала она, — я направилась к этой скамейке. Как я ни устала, я вполне могла бы одолеть путь через поля и сад к дому, да и гораздо больший. Но к физическому желанию прибавилось еще одно.
— А именно?
— Это очень славное место, глазам здесь просторно, я могу предаваться своим мыслям, не прерывая их, что было бы невозможно, если бы я вернулась к своим близким.
— И поэтому вы отдыхаете здесь.
— Поэтому я отдыхаю здесь.
— Вам с детства хотелось ходить по полям в одиночестве?
— Не помню о таком желании, — отвечала она, — да и вообще есть в моем детстве полосы, которых я точно не помню, а коль скоро моя память такого желания не сохранила, то и подходящего случая, наверное, не было, хотя я и вправду очень любила в детстве быстрые движения.
— А теперь ваше пристрастие часто влечет вас на воздух? — спросил я.
— Я люблю бродить там, где мне просторно, — отвечала она, — я хожу по полям и пышным нивам, взбираюсь на отлогие холмы, прохожу мимо покрытых сочной листвой деревьев и дохожу до такого места, где передо мной открывается незнакомый край, над которым словно бы другое небо с какими-то другими облаками. На ходу я предаюсь своим мечтам. Небо, облака на нем, хлеба, деревья, кусты, трава, цветы мне не мешают. Когда я изрядно устаю и отдыхаю где-нибудь на скамеечке, как вот здесь, или в кресле у нас в саду или просто на стуле у нас в комнате, я думаю, что не стану больше ходить так далеко…
— Где же вы побывали? — спросила она, осекшись и помолчав.
— После обеда я поднялся от Ольхового ручья к пруду, — отвечал я, — затем через рощу на прямоугольный холм, откуда открываются окрестности Ландега и видна башня тамошней приходской церкви. От холма я пошел верхом и дошел до шалашей. Удалившись от Асперхофа на добрых два часа пути, я повернул назад. На эту дорогу у меня ушло много времени, ведь я часто останавливался и рассматривал то одно, то другое, поэтому возвращался я более коротким путем. Я шел тропками и разными приходскими дорожками через поля, пока опять не спустился к Озерному лесу и Ольховому ручью между Дернхофом и Амбахом. Там я уже знал межи, которые вели кратчайшим путем к полевому привалу. Там нет дорог, я шел по траве, и вот вышел к вам.
— В таком случае вы, наверное, очень устали, — сказала она и подвинулась на скамеечке, чтобы освободить мне место.
Я не знал, как мне поступить, но все-таки сел рядом с нею.
— Не взяли ли вы с собой какую-нибудь книжку, чтобы почитать здесь, на скамейке, — спросил я, — не собирали ли вы цветы?
— Я не брала с собой книг и не собирала цветов, — отвечала она, — я не могу читать ни на ходу, ни сидя в открытом поле на скамейке или на камне.
В самом деле, я не видел ничего рядом с нею, у нее не было ни корзиночки, ни еще чего-либо, что носят обычно женщины, чтобы что-то туда класть. Она праздно сидела на скамеечке, а ее соломенная шляпа, которую она сняла, лежала рядом с нею на траве.
— Цветы я собираю, — продолжала она через несколько мгновений, — тогда, когда они случайно попадаются по пути. Здесь вокруг больше всего маков, но они не годятся для букетов, потому что у них быстро опадают лепестки, есть еще васильки, гвоздики, колокольчики и другие. А иногда я и вовсе не собираю цветов, как бы много их ни было передо мною.
Мне было странно, что я сижу наедине с Наталией под ясенем полевого привала. Носки ее ног лежали в пыли находившегося перед нами голого места, и этой же пыли касался подол ее платья. В кроне ясеня не дрожал ни один листок, ибо воздух был неподвижен. Далеко перед нами, уходя вниз, далеко справа от нас и слева, как и сзади, простирались зеленые, созревающие хлеба. Из их ближайшей к нам кромки на нас глядели красные маки и синие васильки. Солнце закатывалось, и в том месте, куда оно уходило, небо сияло, почти сверкало над нивами, не было ни облачка, и горы вырисовывались на юге чисто и резко.
— А у красного креста вы немного передохнули? — спросил я вскоре.
— У красного креста я не отдыхала, — отвечала она, — там нельзя отдыхать, он стоит почти сплошь в колосьях, я оперлась на ствол и смотрела на окрестности, на поля, на плодовые деревья и на дома, людей, а потом повернула и пошла назад к этой скамеечке.
— Когда небо ясно и светит солнце, эти дали прекрасны, — сказал я.
— Прекрасны, — ответила она, — горы с серебряными зубцами тянутся цепью, леса расстилаются, поля несут свои дары людям, а среди всего этого дом, где есть мать, брат и отечески заботливый друг. Но я хожу на этот холм и в облачные дни, и в такие, когда ничего ясно не видно. Самое лучшее в прогулке — что ты одна, совсем одна, наедине с собой. Не испытываете ли и вы того же в ваших походах и каким видится вам мир, который вы исследуете?
— В разные поры это бывало по-разному, — отвечал я. — Некогда мир был таким же ясным, как и прекрасным, я старался многое узнать, многое зарисовывал и записывал. Потом все стало труднее, решать научные задачи оказалось не так легко, они усложнялись и подводили ко все новым вопросам. Затем наступила другая пора, мне стало казаться, что наука — это еще не конец, что неважно, знаешь ли ты что-то в отдельности или нет, мир засиял как бы внутренней красотой, которую хочется охватить сразу, не раздробленной на части, я восхищался ею, любил ее, старался привлечь ее к себе и мечтал о чем-то неведомом и великом, таящемся в ней.
После этих слов она некоторое время молчала, а потом спросила:
— И этим летом вы тоже еще раз вернетесь в то место, которое вы теперь выбрали для своей работы?
— Вернусь, — ответил я.
— А зиму проведете у ваших родных? — спросила она затем.
— Как и все предыдущие зимы, я проживу ее в доме моих родителей, — сказал я.
— А вы будете зимой в Штерненхофе? — спросил я через некоторое время.
— Раньше мы иногда проводили зиму в городе, — отвечала она, — но уже несколько раз оставались в Штерненхофе, а два раза совершали поездки.
— Кроме Клотильды, у вас нет другой сестры? — спросила она, после того как мы снова немного помолчали.
— Другой нет, — отвечал я, — нас, детей, только двое, и счастье иметь брата неведомо мне.
— А мне не выпало счастье иметь сестру, — ответила она.
Солнце уже зашло, смеркалось, а мы все сидели. Наконец она встала и потянулась к лежавшей в траве шляпе. Я поднял ее и подал ей. Она надела шляпу и приготовилась идти. Я предложил ей руку. Она взяла меня под руку, но так легко, что я не чувствовал ее руки. Мы пошли не верхом к той калитке в саду, что неподалеку от вишни, а по тропинке в хлебах, что спускается от полевого привала к хутору. Больше мы совсем не говорили. Я чувствовал, как колышется ее платье рядом со мной, чувствовал ее шаг. Доносилось неслышное днем журчанье ручейка, вечернее небо пылало золотом над нами, над холмами хлебов, над деревьями, иные из которых казались уже почти черными. Мы дошли до хутора. Оттуда мы пошли лугом, ведущим к дому моего гостеприимца, и свернули по тропинке к садовой калитке, что была с той стороны близ пчельника. Пройдя через калитку в сад, пройдя мимо пчельника, между цветочными грядками, между окаймлявшими дорогу кустами и, наконец, под деревьями, мы вошли в дом. Мы прошли в столовую, где остальные были уже в сборе.
Здесь Наталия отпустила мою руку. Нас не спрашивали, откуда мы пришли и как мы встретились. Приступили к ужину, время которого уже подошло. За едой мы с Наталией почти не говорили.
После того как мы распрощались в столовой и каждый ушел в свою комнату, я погасил у себя свет, сел в одно из мягких кресел и стал смотреть на блики, которые бросала на пол моей комнаты взошедшая между тем луна. Я очень поздно улегся, но не читал, как то привык делать каждую ночь, а лежал на своем ложе и долго не мог уснуть.
В последовавшие за тем вечером дни мне казалось, что Наталия меня избегает. Ночами я иногда слышал цитры, играли очень хорошо, что я мог теперь оценить лучше, чем раньше. Но я об этом не заговаривал и тем более не говорил о том, что и сам я не так уж теперь неопытен в игре на цитре. Свой инструмент я никогда не привозил в дом роз. Наконец настало время отправляться в Штерненхоф. Матильда и Наталия уехали туда в сопровождении своей служанки раньше, чтобы все приготовить к приему гостей. Мы должны были отправиться позднее.
В промежутке между отъездом Матильды и нашим мой гостеприимец обратился ко мне с просьбою. Она состояла в том, чтобы я будущей зимой сделал ему точную зарисовку панелей, которые привез отцу из долины Лаутера и которыми тот облицевал пилястры стеклянного домика. Рисунок мой гостеприимец просил меня привезти на следующее лето. Я очень обрадовался, что могу оказать услугу человеку, к которому был так привязан и которому был стольким обязан, и обещал, что сделаю рисунок настолько точно и хорошо, насколько это позволят мои силы.
В один из последовавших дней мой гостеприимец, Роланд, Густав и я отбыли в Штерненхоф.
4. Праздник
Праздником в том смысле, в каком это слово обычно употребляется, предполагавшееся в Штерненхофе не было, просто многих пригласили вместе приехать в гости, и приглашения эти не были особыми и торжественными, а делались невзначай. Вообще-то в Штерненхоф, как и в Асперхоф, каждому другу и знакомому вольно было приехать погостить в любое время.
Когда мы на второй день после нашего отъезда, сделав небольшой крюк, прибыли в Штерненхоф, там собралось уже много людей. Чужие слуги, порою одетые странно, как то всегда кажется, когда собирается много семей, расхаживали вокруг замка и по дороге между хутором и замком. Часть экипажей и лошадей поместили на хуторе. Мы въехали в ворота, и наша коляска остановилась во дворе. Когда мы подъезжали к холму, приближаясь к замку, я успел уже взглянуть на его переднюю стену, где теперь, после отмывки, камни были обнажены, и сразу составил свое мнение. Новый облик замка нравился мне гораздо больше, чем прежний, о котором теперь не хотелось и вспоминать. Мои спутники, когда мы подъезжали, не высказывались, и я тоже, конечно, ничего не говорил. Во дворе появились слуги, чтобы взять нашу кладь и разместить коляску и лошадей. Дворецкий подвел нас к большой лестнице и проводил в гостиную. Это была одна из тех комнат, что тянутся анфиладой и обставлены новой мебелью, изготовленной в Асперхофе. Двери всех этих комнат были отворены. Матильда сидела у стола, а рядом с ней какая-то пожилая женщина. Множество других женщин и девушек, а также пожилых и молодых мужчин сидели кругом в разных местах. На самом незаметном месте сидела Наталия. Матильда и Наталия были одеты, как обычно одеваются женщины и девушки из высших сословий, но я не мог не заметить, что их одежды были сшиты и украшены гораздо проще, чем у других женщин, а сочетались гораздо лучше и выглядели благороднее, чем то обычно бывает. Мне виделся в них дух моего гостеприимца, и при мысли о высших кругах нашего города, в которые я был вхож, мне показалось также, что это как раз тот аристократический костюм, к которому другие стремились. Матильда встала и любезно поклонилась нам. Так же поступили и остальные, и мы тоже поклонились Матильде и остальным. Затем все снова сели, а дворецкий и двое слуг позаботились о том, чтобы усадить нас. Я сел на очень незаметное место. Обычай представлять друг другу гостей, как то почти везде делается, в доме роз и в Штерненхофе соблюдается, по-видимому, не так строго. Я уже не раз наблюдал, что обходились без этого, особенно когда собиралось много людей. В данном случае тоже обошлись без этого. Каждому предоставили самому осведомиться об особе, его интересующей, вернее, предпочли положиться на волю случая, чем при появлении каждого нового гостя повторять ему перечень присутствующих. К тому же большинство здесь, кажется, знали друг друга. Меня, наверное, не принимали в расчет, потому что, когда в Асперхоф приезжали посторонние лица, я никогда не спрашивал, кто они. Густав держался здесь тоже почти как чужой. Очень учтиво поклонившись матери, сделав с нами общий поклон другим и улыбнувшись Наталии, он скромно сел в отдалении и стал внимательно слушать. Мой гостеприимец и Ойстах, как и Роланд, были в общепринятой для визитов одежде, я также. В черных костюмах эти мужчины казались мне более незнакомыми и чуть ли не менее значительными, чем в своем обычном домашнем виде. Мой гостеприимец вскоре уже беседовал с разными гостями. Говорили везде об общих и обыкновенных предметах, и разговоры шли то между отдельными, то между многими лицами. Я говорил мало, и почти исключительно лишь тогда, когда ко мне обращались и о чем-то спрашивали меня. Я смотрел на все сборище, или на кого-то в отдельности, или на Наталию. Роланд подвинул ко мне свой стул и завязал разговор о вещах, обоих нас занимавших. Сделал он это, наверное, потому, что ему было среди людей так же одиноко, как мне.
Когда покончили с предвечерним чаем, за которым, собственно, и были все в сборе, когда большинство уже поднялись и толпились группами, было предложено выйти в сад и там прогуляться. Предложение это пришлось всем по душе. Матильда поднялась, а с нею пожилые женщины. Более молодые и так уже стояли. Красивый старик, вероятно супруг пожилой дамы, сидевшей рядом с Матильдой, предложил руку хозяйке, чтобы помочь ей сойти с лестницы, так же поступил мой гостеприимец с той пожилой дамой. Таким образом возникло еще несколько пар, остальные пошли вперемежку. Я постоял, пропуская людей, чтобы не лезть вперед. Наталия прошла мимо меня с какой-то красивой девушкой, беседуя с нею на ходу. С Роландом и Густавом я сошел с лестницы последним. В саду все было так, как то при большом стечении гостей всегда бывает в подобных случаях. Медленно двигались вперед, останавливались, рассматривали то одно, то другое, обсуждали, шли дальше, разделялись на группы, снова соединялись. Я не обращал на разговоры никакого внимания. Наталия, видел я, шла с той же девушкой, с которой прошла в гостиной мимо меня, потом к ним присоединились другие. Я видел, как она мелькала среди них в своем светло-коричневом шелковом платье, потом терял ее из виду, потом видел опять. Затем ее совсем закрывали кусты. Молодые люди, которых я застал в этом обществе, шли то со старшей его частью, то с младшей. Роланд и Густав присоединились ко мне, и если Густав спрашивал, каково там, где я теперь работаю, высоки ли горы, широки ли долины, так же ли приятно там, как на Лаутерском озере, собираюсь ли я продвигаться еще дальше и в какие горы я тогда выйду, то Роланд говорил о присутствующих, называя мне иных и сообщая об их обстоятельствах. Благодаря своим поездкам по стране, посещениям церквей, часовен, обветшавших замков и всяких замечательных мест, он узнавал больше, чем мог бы узнать кто-либо другой, а благодаря живому нраву и хорошей памяти, он любил собирать сведения и способен был их хранить. Пожилая женщина, которую я, когда мы вошли в гостиную, увидел сидящей рядом с Матильдой, была владелицей большого поместья в нескольких часах езды от Штерненхофа. Фамилия ее была Тильбург, как и название ее замка. Она окружила себя всяческими удобствами и всяческой роскошью. Ее оранжереи были самыми великолепными в стране, ее сад содержал все, что тогда слыло превосходным, и ухаживали за ним два садовника, один старший садовник и множество их помощников, в ее комнатах были мебель и ткани из всех столиц мира, а ее экипажи считались самыми удобными и изящными в своем роде. В комнатах ее было множество картин, книг, журналов и безделушек. Она любила навещать соседей и принимать гостей. Зимой она редко бывает в своем замке и всегда лишь короткое время, она любит путешествовать, и особенно часто ездит в южные места, откуда привозит всякие достопримечательности. Она была единственной дочерью и наследницей своих родителей, ее брат умер еще в ранней юности. Мужчина с приветливым лицом, который вел Матильду из зала, был супругом помещицы Тильбург. Он тоже был сыном богатых родителей, и благодаря этому союзу соединились два больших состояния. Он не очень-то разделял пристрастия своей супруги, но и не противился им. Страстей у него не было, человек простой, он охотно доставлял радости своей супруге, которую очень любил, и сопровождал ее в поездках наполовину для собственного удовольствия, наполовину же для того, чтобы разделить удовольствие жены. Однако владениями их он всегда управлял очень благоразумно. Тильбург — его наследство. Один из молодых людей, находившихся в гостиной, стройный, с живыми глазами — их сын, единственное дитя этих дворян, он получил хорошее воспитание, и неизвестно, не желают ли в Тильбурге более нежных отношений со Штерненхофом.
При этих словах Густав слегка повернулся к Роланду, посмотрел на него, но ничего не сказал.
Я вспомнил Тильбург, который очень хорошо знал, хотя никогда там не бывал. Я часто проходил поблизости, и мне не нравились четыре круглые башни в четырех углах замка, окрашенные недавно в светлый цвет той же краской, какую в Штерненхофе сейчас как раз удаляют: они очень резко выделялись на зеленом фоне близких деревьев и синем — далеких гор и неба, делая таковое чуть ли не темным.
— Маленький человечек с седыми волосами, который сидел возле среднего окна и часто вставал, — продолжал Роланд, — владелец Хасберга. Его отец, купивший это имение, предназначал его другому, младшему сыну, поскольку к старшему переходило по наследству родовое имение Вайсбах. Однако младший сын и отец умерли, и старшему достались и Вайсбах, и Хасберг. Передав через некоторое время родовое имение сыну, он удалился в Хасберг. Он из тех, кто всегда что-то придумывает и строит. В Вайсбахе он уже много настроил. В Хасберге он завел образцовое хозяйство, улучшил плодородие полей и лугов, красиво огородил их живыми изгородями, завел отборный скот, развел на защищенных местах хмель, и хмелеводство, распространившись среди соседей, стало источником их благосостояния. Он отгородил плотиной луга в пойме реки Рит, укрепил стенками берега Мельничного ручья, построил мочильню для льна, выстроил новые хлевы, амбары, сушильни, мосты, дорожки, беседки и все время перестраивает замок внутри. В течение всего дня он наблюдает за работами и отдает распоряжения, ночами рисует и чертит, и если где-нибудь в округе держат совет насчет прокладки дороги, составления какой-нибудь сметы или какой-нибудь постройки, всегда зовут его, и он с готовностью отправляется в путь за собственный счет. Даже в правительстве края его слово имеет вес. Дама в пепельно-сером платье — его супруга, а те две девушки, что недавно вместе с Наталией подходили к дубам, — его дочки. Жена и дочери уговаривают его поменьше хлопотать, ведь он уже стар, а он говорит: «Это последняя моя постройка». Но думаю, что какой-нибудь план какого-нибудь строительства он будет составлять и на своем смертном одре. Наш друг высокого мнения о нем в этих делах.
Свернув за куст и подходя к стоящим у стены плюща дубам, мы снова увидели перед собой группу людей. Роланд, который был сегодня в ударе, сказал:
— Человек в изящном черном костюме, перед которым идет его супруга в коричневом платье, — барон фон Вахтен, чей сын тоже здесь, это тот человек среднего роста, что в гостиной так долго стоял возле углового окна, у этого молодого человека много приятных свойств, но он наведывается в Штерненхоф слишком часто, чтобы то можно было объяснить простой случайностью. Барон хорошо управляет своими владениями, у него нет особых пристрастий, он все содержит в надлежащем порядке и становится все богаче. Поскольку сын у него один, а дочерей нет, будущая супруга его сына будет женщиной очень уважаемой и очень богатой. Зимою эта семья часто живет в городе. Имения их лежат немного вразброс. Торндорф с прекрасными лугами и большим лесосадом, вы ведь, наверное, знаете.
— Знаю, — ответил я.
— В Рандеке у него есть разваливающийся замок, — продолжал Роланд, — с чудесными дверями шестнадцатого, наверное, века. Управляющий не хочет расставаться с дверями, и они постепенно разваливаются. Они зарисованы в наших альбомах и очень украсили бы покои, построенные и обставленные в стиле того времени. Даже на столы или другие вещи, если уж не удалось бы использовать их как двери, они куда как сгодились бы. В рандекской часовне, сильно развалившейся, я зарисовал также замечательные консоли. Летом барон живет большей частью в Вальштейне, довольно далеко в тех горах, откуда течет Эльм.
— Я знаю эту усадьбу, — отвечал я, — и в общем знаю эту семью.
— Фамилия вон того, с белоснежными волосами, — Зандунг, — продолжал Роланд, — он разводит племенных овец, а один из тех двоих, что идут рядом с ним, — владелец так называемого Горного дворца, Бергхофа, человек уважаемый, другой — ландегский окружной голова. Нет только ингхофских, а вообще-то здесь хорошо представлены окрестные жители. Разъезжая по своему пристрастию по округе, я делю их на группы по их пристрастиям, и по этим пристрастиям можно было бы нарисовать карту края, подобно тому как вы рисуете красками горы, чтобы показать разные породы камней.
Когда мы снова свернули вплотную к правой стороне плюща, к нам по одной из боковых дорожек вышла Матильда с госпожой фон Тильбург. Она остановилась перед нами и сказала мне:
— Вы не уделили моей фонтанной нимфе должного внимания. Вы чрезмерно предпочитаете статую на лестнице у нашего друга. Она того, конечно, заслуживает, однако присмотритесь получше к здешней и признайте, что и она хороша.
— Я это уже признал, — отвечал я, — и если мое ничтожное мнение что-то значит, то ее нельзя не одобрить.
— Мы все и так побываем в гроте, — сказала Матильда. С этими словами она вместе со своей спутницей пошла но главной дорожке к стене плюща, и мы последовали за ними. Остальные подошли с разных сторон, и мы направились к мраморной статуе у фонтана.
Одни вошли внутрь, другие толпились у входа, и предметом разговоров была статуя. Она тем временем пребывала в своей всегдашней позе, а вода струилась тихо и непрерывно. О скульптуре говорились лишь самые общие слова. Мне было странно видеть нарядных людей в разноцветной одежде стоящими перед чистым, белым, нежным мрамором. Роланд и я ничего не говорили.
Покинув статую, все медленно прошли мимо стены плюща и поднялись по ступенькам к месту свободного обзора. Пробыв там некоторое время, пошли назад к липам. Осмотрев липы и красивую площадку под ними, шествие направилось назад, к замку. Ойстаха я почти все время не видел.
Одновременно с нами к замку подкатили экипажи с ингхеймскими и еще некоторыми гостями. После приветствий и после того, как новоприбывшие освободились от лишней дорожной одежды, общество, как то всегда бывает в подобных случаях, разделилось на группы, одни беседовали, стоя перед домом, другие ходили по песочным дорожкам лужайки, третьи направились к хутору. Когда за деревьями, которые стройными рядами окаймляли поля с западной стороны замка, запылала, поблекла и сменилась тусклой желтизной вечерняя заря, все собрались опять. Одни вернулись с прогулок, другие оторвались от бесед, третьи — от всяких осмотров, и все направились в столовую. Там начался один из тех вечеров, которые особенно приятны в деревне, где люди живут гораздо оторваннее от равных себе. Мне не раз случалось наблюдать это, пребывая летом всегда вдали от города. Поскольку людей одинаковых с тобой взглядов и мнений в деревне видишь куда реже, чем в городе, поскольку здесь не нужно так тесниться, как в городе, где каждая семья добывает необходимое для себя и для ближайшей родни место дорогою ценой, поскольку в деревне съестные припасы обычно поступают из первых рук, да и требования в этом отношении не строги, люди в деревне намного гостеприимнее, чем в городе, и встречи в одной комнате и за одним столом проходят там гораздо веселее, непринужденнее, да и теплее, потому что люди рады снова увидеться, потому что им хочется расспросить обо всем, что произошло в разных местах, откуда они съехались, поделиться собственными новостями и обменяться мнениями.
Стол был уже накрыт, дворецкий указал всем их места, которые во избежание недоразумений были еще обозначены написанными его рукою табличками, и гости стали усаживаться. Дворецкий позаботился о том, чтобы хорошо знакомые люди оказались поближе друг к другу. Однако гости с непринужденностью, свойственной здешним краям и старым знакомым, не разбирали табличек и садились вместе вопреки предписаниям. С потолка свисала мягко горевшая лампа, а кроме того, стол освещался расставленными на нем яркими свечами. Матильда села посредине, направляя свою спокойную приветливость на всех, кто был поблизости, и стараясь дотянуться своей внимательностью даже до самых отдаленных мест. Знакомые и старшие гости сидели ближе к ней, молодые — дальше. Юлия, дочь Ингхейма, девушка с веселыми карими глазами, сидела почти напротив меня, ее сестра, голубоглазая Аполлония, чуть ниже. На них были очень изящные платья, а вот их ожерелья могли быть, на мой взгляд, поменьше. Возле них сидели молодые люди Тильбург и Вахтен. Наталия сидела между Ойстахом и Роландом. Было ли так назначено или таков был их собственный выбор, я не знал. Подали легкий ужин, который оживили веселые разговоры. Говорили о местных делах, развлекали друг друга рассказами о мелких происшествиях, делились впечатлениями, почерпнутыми в своем кругу, говорили о новых в этом краю книгах и обсуждали их, рассказывали о своих последних любительских приобретениях, о поездках, сделанных и намеченных на будущее. Заходила речь и об истории края, об управлении им, об улучшениях, которые надо произвести, и о богатствах, которые еще лежат втуне. Даже наука и искусство не были обойдены. Веселились, шутили, и все, казалось, были очень довольны, что собрались в таком кругу, где возникало что-то новое и можно было вспомнить старое.
Через несколько быстро пролетевших часов гости поднялись, были зажжены свечи в проходе к разным спальням, и все постепенно отправились на покой.
На следующее утро, после завтрака, когда солнце, поднявшись, уже высушило траву, гости вышли на воздух, чтобы оценить работы, произведенные на передней стороне дома. Пошли все. Даже прислуга стояла в сторонке поблизости, словно зная, что происходит — а она это, вероятно, и знала, — и словно ей предстояло в этом участвовать. Отойдя на сотню-другую шагов от передней стороны дома, обернулись, остановились в траве и стали осматривать очищенную от краски стену. Затем широкой дугой обошли угол дома, чтобы взглянуть и на ту стену, где еще была краска. Осмотрев то и другое, заняли позицию, откуда видны были обе стены.
Постепенно стали слышны мнения. Спрашивали сначала старших и почетных гостей. Почти все они высказывались неопределенно и осторожно. В обеих возможностях есть свои хорошие стороны, в обеих найдутся свои недочеты, все зависит от вкуса и пристрастия. Когда разговор стал общим, некоторые мнения обозначились уже четче. Одни говорили, что это нечто особенное и редкостное — оставить камни в стене голыми. Если не страшны расходы, то следует сделать так по всему замку, тогда получится что-то очень своеобразное. Другие считали, что, мол, везде люди сами красят стены снаружи, окрашенный в светлый цвет дом ласкает глаз, что вот ведь и прежние владельцы этого дома так поступили, чтобы его вид больше отвечал новому вкусу. Третьи возражали на это, что мысли людей изменчивы, что сначала большие четырехугольные камни, составляющие наружную часть этих стен, оставили голыми, а позднее закрасили, а теперь пришло время, когда возвращаются к старому и чтут старину, и, стало быть, камни можно опять обнажить. Мой гостеприимец выслушивал эти мнения и отвечал неопределенными, несводимыми к какому-то одному взгляду словами, потому что все говорившееся шло примерно по одному и тому же кругу. Матильда говорила лишь пустяки, а Ойстах и Роланд помалкивали. При пылкости последнего это меня удивило больше всего. Из этого я заключил, что мои друзья либо уже составили себе какое-то мнение, либо еще хотят составить его. Закончившийся сейчас осмотр показался мне поэтому чем-то ординарным, несущественным, добрососедской вежливостью, возможностью собраться, повидаться, поговорить, как то делают и по другим поводам.
Обнажить камень казалось мне естественной необходимостью. Как я уже замечал, когда имеешь дело с памятниками, — и чем они больше и величавее, тем это виднее, — материал не безразличен, и смешивать его ни с чем чужеродным нельзя. Триумфальная арка, даже если над нею есть крыша, должна быть мраморной, а не кирпичной или деревянной, и уж ни в коем случае не из чугуна или картона. Статуя может быть мраморной, металлической или деревянной, хуже — из грубых камней, но никак не из разных составных частей. В наших новых домах, предназначенных лишь для того, чтобы служить людям кровом, нет ничего от памятников, будь то памятник процветания семьи или памятник уединенно-уютной жизни родового гнезда. Поэтому их строят ячейками из кирпича и облицовывают, подобно тому как лакируют мебель или расписывают стены под камень. Даже в домах, построенных в наших горах из одного дерева как жилье для семьи, есть монументальность, еще больше ее в замках из твердого камня, в арках, пилястрах, мостах, а еще больше в каменных церквах. Из этого для меня само собой вытекало, что те, кто выстроил этот замок так, чтобы внешние стороны стен состояли из плотно пригнанных друг к другу четырехугольных некрашеных камней, были правы, а те, кто эти камни закрасил, — не правы, а те, кто их заново обнажает, — правы опять-таки. Я видел, что поверхность всех камней обновлена острыми молотками, потому что иначе нельзя было начисто удалить известковый раствор. Это делало, правда, серые камни более светлыми, чем старые цоколи и консоли, которых не красили, но и обновленные камни снова потемнеют со временем.
Поговорив, но не вынеся настоящего приговора, гости вернулись в дом, и наблюдавшие за ними слуги разошлись тоже, как если бы дело было сделано.
В доме гости разбрелись, одни удалились в свои комнаты, другие вышли на воздух.
В своей спальне, под которую мне отвели ту же комнату, где я жил прежде, я надел более легкую шляпу и более удобный сюртук и тоже вышел в сад. В полном одиночестве я пошел темным проходом между кустами, и мне было приятно, что я был один. Я выбирал глухие, неудобные и запущенные дорожки, чтобы никого не встречать и чтобы никто не присоединялся ко мне. На них и правда не было ни души, и видел я только птичек, смело там бегавших и склевывавших с земли корм. Я обошел площадку с липой и вышел за нею из кустов. Оттуда я пошел в обход к стене плюща, собираясь войти в грот с нимфой, если в нем никого не будет. Приблизившись к гроту и заглянув в него наискось, я увидел, что на мраморной скамейке сбоку от нимфы сидит Наталия. Она сидела на дальнем конце скамейки. Ее светло-серое шелковое платье мерцало в темной полости. Одна рука лежала у нее на коленях, другой она опиралась на спинку скамейки, спрятав в ладонь лоб. Я остановился, не зная, как поступить. Что входить в грот не следовало, было мне ясно, но малейшее мое движение могло вызвать шорох и помешать ей. Однако без всякого шороха с моей стороны она подняла глаза и увидела меня. Она встала, вышла из грота, быстро зашагала в сторону стены плюща и углубилась в кусты. Я видел исчезающее мерцание ее платья. Немного постояв, я вошел в грот. Я сел на ту же мраморную скамейку, на которой сидела она, и стал смотреть на струю воды, на одинокую алавастровую чашу, стоявшую возле бассейна, на спокойный, блестящий мрамор. Я сидел очень долго. Услыхав приближающиеся голоса и предположив, что гости хотят посмотреть фонтанную статую, я встал, вышел из грота, ушел в кусты и теми же дорожками, по которым пришел, направился назад в замок.
Полдень еще раз соединил всех гостей за обедом. Многие из них решили сразу же затем уехать, чтобы засветло добраться до дома. Произнесли веселую застольную речь в честь красот замка и поблагодарили хозяйку за сердечный прием. Ответом на эту речь было пожелание благополучия гостям и скорой новой встречи. Ясное летнее солнце озаряло комнату, а цветы сада украшали ее.
После обеда многие гости уехали, а во второй половине дня разъехались все.
Мы, которым предстоял путь в Асперхоф, решили отправиться завтра утром.
За ужином зашел разговор о затее с наружными стенами. Я видел, что оставшиеся были одного мнения. Говорил мой гостеприимец, говорили Ойстах и Роланд. Все они держались моего взгляда. Меня тоже попросили высказаться. Я искренне выразил свое мнение. Такого суждения все, вероятно, и ждали. О средствах на покрытие предстоявших расходов мой гостеприимец говорил с Матильдой особо. Из-за того, что камни приходилось зачищать острыми молотками, издержки оказались больше, чем предполагалось вначале. Мой гостеприимец посоветовал поэтому растянуть работу на более долгие сроки, чтобы сделать расходы менее ощутимыми и, поскольку создавать прекрасное — удовольствие, тем самым и продлить удовольствие. Это предложение было одобрено, и все радовались, что дом примет более благородный и достойный облик и в таком виде его можно спокойно передать будущим владельцам.
На заре следующего дня мой гостеприимец, Ойстах, Роланд, Густав и я отправились в дом роз.
Когда я, вспоминая последние дни, что-то сказал о сельской жизни и ее прелестях, мой гостеприимец заметил:
— Светская жизнь в городах, если она заключается в том, что всегда пребываешь в обществе чужих людей, либо ходя к ним в гости вместе с другими, либо принимая их у себя, — такая светская жизнь неплодотворна. Это такое же однообразие, как жизнь в местах, близких к большим городам. Людям хочется какого-то другого однообразия. Ведь всякая жизнь и всякое проявление какой-то местности — это однообразие, и оно прекращается с переходом к другому однообразию. Но есть однообразие такое величественное, что оно наполняет всю душу и охватывает своей простотой всю вселенную. Только избранным дано прийти к нему и подчинить ему свою жизнь.
— В мировой истории подобное, пожалуй, случается, — сказал я.
— В мировой истории это случается, — ответил он, — когда каким-нибудь большим делом, наполняющим его жизнь, человек придает этой жизни простую форму, освободившись от всего мелкого — в науке ли, где перед человеком открыто великолепное поле побед, или в ясности и спокойствии мировоззрения, сводящих в конечном счете все к нескольким долгим, но простым основным линиям. Однако и здесь есть меры и степени, как во всех других делах жизни.
— Из двух главных эпох, выпавших на долю человеческому роду, — отвечал я, — так называемой античной и нынешней, греко-римская дает, пожалуй, больше подтверждений сказанному.
— Вообще-то мы не знаем, какие были эпохи в истории, — возразил он. — Греки и римляне нашему времени ближе всего, мы произошли от них, а потому и знаем о них больше всего. Кто знает, сколько существовало народов и сколько неведомых исторических источников еще скрыто. Если бы когда-нибудь открылись целые ряды таких эпох, как Греция и Рим, можно было бы скорее что-то сказать по поводу нашего вопроса. А может быть, такие ряды были, но забылись, и может быть, пройденные дали мировой истории вообще забываются, когда появляются и спешат вперед новые дали? Кто через десять тысяч лет вспомнит греков и римлян? Возникнут совершенно другие представления, у людей появятся совершенно другие слова, из которых они будут строить совершенно другие фразы, и мы бы совершенно не поняли их, как не поняли бы, например, сказанного за десять тысяч лет до нас, даже если бы знали язык, на котором это сказали. Что такое, стало быть, всякая слава? Но если вернуться к нашему предмету, отвлечься от египтян, ассирийцев, индийцев, мидян, евреев, персов, сведения о которых до нас дошли, и сравнить нас только с греко-римским миром, то в нем было, пожалуй, действительно больше простого величия жизни, чем в нашем. Я не знаю, я никак не могу решить, чему я присудил бы награду — делам Цезаря или его сочинениям. То и другое так ясно, так сильно, так твердо, что у нас вряд ли найдется что-либо подобное.
— Но ведь и действовали и думали встарь, я думаю, в менее сложных условиях, чем наши, — сказал я.
— У них не было такой широкой арены, как у нас, — отвечал он, — хотя арена действий во времена Цезаря — Британия, Галлия, Италия, Азия, Африка — или Александра — Греция и Восток — была не так уж мала. Их внешние условия были поэтому легче. Но внутренние, при обилии участвующих лиц, большинство из которых имело вес в делах государственных, были едва ли легкими, не так-то просто было завоевать эти души, управлять ими своим словом, видом и делом, и сила, для этого необходимая, как раз и придавала человеку ту твердость, которой мы так часто в нем восхищаемся. Наша эпоха совсем другая. Она последовала за крушением той и кажется мне переходной, которую сменит эпоха, далеко превосходящая греческую и римскую древность. Мы трудимся над особой гирей мировых часов, не очень-то известной древним, чей ум был направлен преимущественно на дела государственные, на вопросы права, а порой и на искусство, — мы трудимся над естественными науками. Мы сейчас и не подозреваем, как повлияет труд над этой гирей на преобразование мира и жизни. У нас правила этих наук либо составляют еще мертвый капитал книг и аудиторий, либо применяются только в ремеслах, торговле, строительстве дорог и подобных делах, мы еще слишком захвачены бурлением этого начала, чтобы судить о его плодах, мы находимся еще в самом начале начала. Каково будет, когда мы сможем распространять по всей земле новости с быстротой молнии, когда сами сможем попадать в разные места земли с большой скоростью и за короткое время и с той же скоростью доставлять тяжелые грузы? Не станут ли благодаря легкости обмена богатства земли общими, так что все будет доступно всем? Сейчас какой-нибудь провинциальный городок и его окрестности могут со всем, что у них есть, что они представляют собой и что они знают, отгородиться от мира. Но скоро будет не так: их захватит всеобщая связь. Тогда, чтобы соответствовать требованиям этой взаимосвязанности, самый малый должен будет знать и уметь гораздо больше, чем он знает и умеет теперь. Государства, которые разумом и образованием первыми приобретут это знание, превзойдут богатством, силой и блеском другие и даже поставят само их существование под вопрос. Но как преобразуется через знание и сам дух? Это воздействие гораздо важнее всего прочего. Борьба в этом направлении будет идти дальше, она началась, когда возникли новые человеческие обстоятельства, то бурление, о котором я сказал, станет еще сильнее, но как долго оно продлится, какие возникнут беды, сказать я не могу. И все-таки просветление последует, засилие материи станет для духа, который в конце концов победит, просто пригодной для него силой, и когда он завоюет людей, наступит эпоха величия, какой еще не знала история. Я думаю, что так человечество будет тысячелетиями подниматься со ступени на ступень. До чего это дойдет, что будет, чем это кончится, земному разуму невдомек. Одно только для меня несомненно: придут другие времена и другие формы жизни, как ни стройна первооснова человеческого духа и тела.
Мы углубились в подробности этой темы и, обсуждая ее во время езды, пытались предугадать возможные последствия. Особенно упоминались те области естествознания, которые наиболее продвинулись и приобретали влияние, например, химия и некоторые другие. Роланд был решительно за нововведения, даже если они все перевернут, мой гостеприимец и Ойстах желали, чтобы то новое, которое должно остаться, потому что оно хорошо, — ибо далеко не все новое хорошо, — вводилось и утверждалось лишь мало-помалу, без потрясений. Переход длится так дольше, но зато он спокойнее, и последствия его прочнее.
После обеда разговор зашел о фонтанной нимфе в Штерненхофе, и мой гостеприимец рассказал мне, как она была приобретена. Один дальний родственник Матильды получил вдобавок к своему большому состоянию еще и немалое наследство. Он занялся коллекционированием. Он собирал монеты, печати, кельтские и римские древности, музыкальные инструменты, тюльпаны и георгины, книги, картины и статуи. В саду возле дома, стоявшего на возвышении, у него была большая площадка, которую он замостил, и оттуда в нескольких направлениях спускались в сад искусственные каменные лестницы. На парапете этой площадки и на обрамлениях лестниц были установлены статуи. Одним из величайших его удовольствий было расхаживать по площадке. Он часто это и делал, когда солнце налило вовсю и камни площадки обжигали подошвы. Статуи были у него, кроме того, на лестницах дома и в комнатах. Нимфа, принадлежащая теперь Матильде, находилась у него в павильоне для фонтана в саду. Он получил ее в наследство от двоюродного деда, во времена юности которого она, говорят, была изготовлена одним итальянским скульптором для какого-то князя, чья внезапная смерть определила ей другого владельца. Так по стечению обстоятельств попала она наконец к двоюродному деду, который был со скульптором как-то связан. Говорят, что с этой статуи и началась любовь родственника Матильды к коллекционированию. Когда он умер, в его завещании было велено продать все художественные произведения знатокам или любителям искусства, но не торговцам, а деньги, вырученные за них и за другие его вещи, распределить, исходя из оценочной стоимости последних, между дальними родственниками, поскольку ни детей, ни близких родственников у него не было. Но поскольку нимфа была самым лучшим художественным произведением, каким он владел, поскольку Матильда всегда восхищалась этим изваянием, поскольку она уже была владелицей Штерненхофа и уже собрала там прекрасные картины, ей было нетрудно назвать себя любительницей искусства и купить эту скульптуру. Матильду предпочли кому-либо постороннему, потому что таким образом произведение искусства как бы оставалось в семье, да и внесла Матильда в общее наследство большую сумму, чем то сделал бы кто-либо со стороны. Она доставила милое ей произведение в Штерненхоф и установила его в одной из зал. Лишь долгое время спустя, усилиями Ойстаха и моего гостеприимца, были построены между уже стоявшими там дубами стена плюща и грот у источника, и таким образом нимфа нашла более достойное и более эффектное место, ведь для зала она была великовата, да и поза и занятие к залу не подходили. Кувшин, из которого лилась вода, уже был, бассейн и скамейку сделали заново, алавастровую чашу Матильда прибавила из своего достояния.
В дом роз мы прибыли вечером. На следующий день я попросил у моего гостеприимца разрешения скопировать имевшуюся у него зарисовку кербергского алтаря и отвезти этот рисунок в подарок отцу. Он разрешил очень охотно. По предложению, сделанному по дороге в горы, зарисовка была исправлена Роландом и передана мне в улучшенном виде.
Я заперся у себя в комнате и много дней прилежно трудился от восхода до захода солнца, пока не закончил рисунок. Хорошенько упаковав его, я вернул моему гостеприимцу оригинал.
Больше я не задерживался в Асперхофе и поспешил в танн. Там я поднимался в горы, очень напряженно работал, очень много играл на цитре и читал свои книги.
Однажды, на исходе лета, я все это прекратил. Я упаковал ящики, уложил инструменты и относившиеся к моей работе бумаги в коробки и чемоданы, отпустил почти всех людей, снабдил ящики надписями, распорядился об их отправке и пошел в Лаутерскую долину. Там я нанял только старого Каспара и одного из молодых мужчин, особенно мне понравившегося, и решил довести до конца измерения на Лаутерском озере.
Я поселился в приозерном трактире, привел в порядок необходимые для моей цели приборы, заказал новые, каких у меня не было, и приступил к делу. Работал я довольно прилежно. Все светлое время суток мы проводили на воде. Ночами — кроме нескольких часов сна — я сидел над бумагами: делал расчеты, писал, даже чертил. Я повторил некоторые из произведенных прежде замеров, чтобы убедиться в постоянстве или изменчивости уровня воды и состояния дна. Поскольку совершенно одинаковый уровень воды вообще невозможен, я сводил свои замеры к среднему уровню и задавался вопросом, насколько ниже этого уровня определенные места дна. Этот средний уровень, определявшийся по состоянию большей части года, и показывали мои чертежи как уровень воды. Им я и руководствовался при повторных замерах. На больших расстояниях от берега дно с начала моих замеров не изменилось, а если и изменилось, то не настолько, чтобы это могли отметить наши измерительные приборы. У тех или близ тех берегов, где преобладали большие глубины и спокойно высились крутые стены, по которым дождевая вода стекала разве что узкими струйками или мелкими ручейками, изменений тоже не было. Зато на мелководье у отлогих берегов, где дождевая вода намывает гальку и прочее, изменения уже были. Но больше всего изменений было там, где к воде подходило ущелье, откуда в озеро втекал горный ручей, который оставлял тем большие горы гальки, чем дальше он начинался и чем сильнее набухал при дожде. Повторив эти старые замеры, мы приступили к новым, необходимым для полноты знаний, которые я поставил себе целью. Прилежно продолжались и зарисовки образований вне воды, береговых.
Дважды работа прерывалась. Я ходил в Ротмоор, смотреть, как продвигается изготовление заказанных мною вещей из мрамора и хорошо ли их делают. Успехи заслуживали похвал. Сказали — и я сам находил это возможным, — что уже этим летом все будет готово. Но по поводу качества у меня были замечания. Просьбами, уговорами, обещаниями я добивался, чтобы мои пожелания выполнялись самым точным и тщательным образом.
Когда шли дожди и тучи повисали на горах, закрывая и горы, и очертания озера, я сидел дома и карандашом и красками переносил на главный свой лист то, что зарисовал на воздухе на множестве отдельных листков. Так приближалось мое предприятие к своему завершению.
Наконец работы на воздухе были закончены, и оставалось только внести в чертеж множество данных, разбросанных по моим бумагам и мною еще не учтенных, а также сравнить для проверки зарисовки на отдельных листках с главным чертежом и таковой где нужно дополнить. В разных местах надобно было также нанести краски.
После долгих усилий и множества трудностей, которые мне пришлось преодолевать для достижения большей точности, в один прекрасный день работа была готова, и весь эскиз предстал моим глазам в своей грустной мрачности полным такой красоты, какой я и сам не ожидал. Я рассматривал некоторое время свой рисунок, когда рядом не было никого, кто мог бы разделить со мной это зрелище, затем свернул лист на валике, тщательно уложил его в чемодан, простился с озером и со всеми обитателями приозерного трактира и направился к дому «У кленов» в Лаутерской долине.
Там я и поселился. Теперь я ежедневно ходил в Ротмоор, оставался там весь день и, возвращаясь лишь к вечеру, приходил в дом в сумерках. В Ротмооре я наблюдал за работами над моими мраморами: как их резали, опиливали, протирали, шлифовали, лощили. Я также указывал, как действовать в том или ином случае и как достичь большей завершенности, а главное — большей точности.
Отцовский бассейн постепенно принимал готовый вид, и мелкие предметы, мною заказанные, тоже были закончены. Солнце светило в сарай, и бассейн блестел довольно красиво и чисто. Я велел соорудить ящики из толстых балок. В них с помощью воротов, рычагов и веревок я и уложил для отправки части бассейна. Нужно было особым образом приспособить телеги, чтобы доставить эти ящики к реке. Наконец эти приспособления сделали. После погрузки телеги отправились в путь. Я сопровождал их до реки, не отлучаясь ни на минуту, чтобы предотвратить всякие дорожные неприятности. У реки ящики погрузили на судно и повезли дальше. От пристани перед нашим городом их опять-таки на мощных телегах доставили в наш сад.
Этой же осенью решили закончить водопроводные работы. Благодаря моим письмам с указаниями размеров отец уже подготовился к установке бассейна. Наняли еще больше рабочих и пригласили знатока водостроительства для руководства. Я целыми днями был на месте работ и участвовал в них. Отец тоже всячески выкраивал время, чтобы присутствовать там и присматривать. Были проложены трубы, подсоединен стояк, над ним построен, снабжен железной опорой и припаян стебель, а на нем укреплен лист. Вынули пробку, запирающую впадающий в лист стебель, и чистая струя хлынула на лежавшую на листе ягоду, наполнила бассейн, скатилась на желтоватый мрамор пола и растеклась по его желобам. Краски очень хорошо сочетались: темный стебель оттенял розоватость листа, а желтизна пола придавала розовому цвету красоту и нежный блеск. На открытие фонтана было приглашено много гостей, и они, как и отец, мать и сестра, радовались этой удаче.
В качестве ответного дара отец протянул мне «Песнь о Нибелунгах» в прекрасном переплете с барельефами с обеих его сторон.
Решено было соорудить на зиму домик из досок, чтобы хорошенько защитить водопровод от холодов. На весну строились планы — как разбить сад вокруг бассейна, чтобы все выглядело достойнее и красивее. К приходу лучшего времени года надеялись закончить наброски и приступить к работам.
Кроме бассейна, я привез и другие мраморные предметы, изготовленные в Ротмооре. Среди них были колонны и карнизы, предназначавшиеся для того места в конце сада, откуда открывался вид на горы и на окрестности: там отец собирался возвести что-то, что было бы достойно этого вида и делало бы его еще приятнее. Мне представлялась красивая, с широкими плоскостями, на которые можно будет облокачиваться и класть предметы, и с сиденьями для отдыха ограда площадки. Еще лучше было бы установить возле этой ограды стол. Кроме того, я привез чаши для любого применения, кольца для занавесок, доски для столов, украшения для пилястров, разного цвета камни, которыми можно было прижимать бумаги, и много другого в этом же роде.
Я показал отцу зарисовку кербергского алтаря, сказав, что сделал ее специально для него и теперь отдаю ему. Он был очень рад и поблагодарил меня за подарок. Алтарь этот, правда, не был для него новостью, он видел его прежде, до восстановления, а рисунок восстановленного алтаря находился среди рисунков, присланных моим гостеприимцем в прошлом году. Тем не менее ему было очень приятно получить эту зарисовку и рассматривать ее на досуге. Он обратил мое внимание на множество обстоятельств, обнаруженных им после нескольких осмотров. Прежде всего он заметил, что алтарь гораздо богаче и разнообразнее, чем когда он видел его воочию много лет назад в еще неисправленном виде. Затем он обратил мое внимание на то, что в этом произведении уже есть округлости, что башенки образованы витыми пирамидальными столбиками и что человеческие фигуры уже основательно проработаны, а все это указывает на то, что произведение относится не к эпохе строгой готической архитектуры, а к более поздней, когда тот стиль уже менялся. Отец показал мне также, что части орнамента были в ходе времени переставлены с положенных им мест на другие, что бюсты находятся не там, где следовало бы, и что какие-то человеческие фигуры, по-видимому, пропали. Достав из шкафа книги с рисунками, он с их помощью доказал мне справедливость своих утверждений. Я сказал отцу, что мой гостеприимец и Ойстах того же мнения, что и он, но что проделанные работы не были восстановлением алтаря в строгом смысле, что целью их было прежде всего сохранить материал, а дальнейшие изменения и крупные дополнения отложить на будущее, если вообще для этого найдутся средства и возможности. Сделаны были только такие дополнения, при которых форма предмета не вызывает сомнений.
Отцовские книги усилили мое внимание к теме, изложенной в них, и, взяв их с его разрешения в свою квартиру, я принялся их просматривать. Они вызвали у меня желание поближе познакомиться с архитектурой и с ее историей с самого начала, и я, по совету отца и других, купил все нужные для этого книги.
5. Союз
Зима прошла как обычно. Я приводил в порядок привезенные вещи и наверстывал письменные дела, запущенные летом из-за работы на воздухе и других потерь времени. Общение с родными в тесном кругу дома было для меня самым любимым занятием, доставляло мне больше всего удовольствия и радости. Отец выказывал мне с каждым днем все больше уважения. Выказать в большей мере любовь он не мог бы, ибо всегда доказывал ее как нельзя лучше. Но если раньше, при нежнейшей заботе о моем благополучии, при хлопотах обо всем, что мне нужно было для жизни и для образования, отец предоставлял мне самостоятельность, был всегда любезен и мил, никогда не направлял меня в какие-то другие, возможно более удобные для него стороны, то теперь, хотя все это оставалось как прежде, он чаще расспрашивал меня о моих устремлениях и вникал в связанные с этим обстоятельства, советовался со мной, узнавал мое мнение по поводу своих коллекций или каких-нибудь домашних дел и соответственно поступал, говорил со мною о произведениях поэтов, историков, художников чаще, чем то бывало в прежние времена. Он проводил в моем обществе много времени у своих картин, книг и других вещей и любил собирать нас в стеклянном домике, который продувался согретым воздухом, уютно обтекавшим старинное оружие, старинные резные изделия и обшивку пилястров. Отец говорил о разных предметах и явно радовался возможности провести вечер в узком кругу семьи. Мне казалось, что в последнее время он не только раньше возвращался домой из конторы, но и вообще проводил в стенах дома больше времени, чем в прежние годы. Мать очень радовалась бодрому настроению отца, она интересовалась его замыслами и делала все, что могла сделать сама для их осуществления. Казалось, она любила нас, детей, больше, чем в прошлые времена. Клотильда все более сближалась со мною, она была как бы моим братом, а я — ее другом, советчиком, собеседником. Казалось, у нее не было никаких других чувств, кроме любви к нашему дому. Мы продолжали упражняться в испанском языке, в игре на цитре, в рисовании и живописи. Кроме того, она радела о домашнем хозяйстве, угождая матери и стараясь снискать ее похвалу. Если что-либо в этом роде, требовавшее большой тщательности и сноровки, Клотильде особенно удавалось, она испытывала большее удовлетворение, чем если бы получила награду в каком-нибудь трудном и важном соревновании перед какой-то уважаемой публикой.
На приемах, которые с меньшим или большим числом гостей, только реже, чем в прежние годы, устраивались в нашем доме, разговоров велось теперь больше, чем когда мы были моложе. Обсуждались серьезные вещи, государственные дела, общественные события, заставлявшие говорить о себе. Беседовали также о своих занятиях, пристрастиях или на такие обычные темы дня, как театр или обстоятельства ближайшего окружения. Не пренебрегали и известными развлечениями, музыкой, танцами, пением песен. Молодые люди заводили новые знакомства, старики поддерживал и давние.
Я навещал своих друзей, беседовал с ними, рассказывал им в общих чертах, чем занимаюсь. Они вводили меня в круг своих впечатлений и обращали мое внимание на те или иные личности.
Я продолжал писать красками, изучал драгоценные камни и бывал в театрах.
С большим удовольствием читал я книги об архитектуре, тут открывалось мне новое поприще, сулившее большие успехи в своем дальнейшем развитии.
Вечера у княгини приобретали для меня все большую важность. Постепенно сложилось сообщество, члены которого часто и охотно собирались в комнате княгини. Обсуждали самые занимательные предметы, не боясь касаться вопросов самоновейшей философии. Разбирались в этих вещах, как могли, облекали своеобразные выражения так называемых специалистов в обычные слова, прибегая просто к здравому смыслу. То, что удавалось таким путем сообща извлечь, становилось твоим достоянием, и если общество считало это ценным, ты и хранил это как ценность. Если же казалось, что налицо тут только слова, из которых нельзя извлечь никакого определенного смысла, то вопрос оставляли и не возвращались к нему. Занятия литературой и испанским языком продолжались вовсю.
В очень ясные дни, когда солнце заливало комнаты, я работал в стеклянном домике над зарисовками обшивки пилястров для моего гостеприимца. Я старался зарисовать их как можно лучше, чтобы угодить или даже доставить удовольствие человеку, которому был стольким обязан и которого так уважал. Я хотел сначала набросать рисунки, а по ним уже написать картины маслом. Рисунки я сделал на светло-коричневой бумаге, сгустил тени черным, передал световые пятна более светлым коричневым цветом, а самые яркие блики — белым. Изготовив таким способом рисунки и путем всяческих сравнений и измерений убедившись, что они во всех соответствиях правильны, я приложил к ним масштаб, в каком они выполнены. Затем приступил к изготовлению картин. Они были немного меньших размеров, чем наброски, но точно повторяли все их пропорции. Писал я всегда в одни и те же предполуденные часы, чтобы вполне верно передать отблески, световые пятна и тени, а также общую цветовую гамму. В отношении красок тут подтвердился мой прежний опыт. На покрытые пленкой лака резные изделия окружающие предметы оказывали определенное влияние: мечи, боевые палицы, темно-красные драпировки, плоскости стен, пола, оконные занавески и потолок отражаются в них какими-то удлиненными, нечеткими контурами. Вскоре я заметил, что если все это передавать красками, то изображаемые предметы хоть и выигрывают в богатстве и прелести, но утрачивают понятность, коль скоро не написана заодно и сама комната со всем своим содержимым, что дало бы необходимое объяснение. Поскольку сделать это я не мог, да и не ставил себе такой цели, я убрал из комнаты все случайное и броское и писал резные панели такими, какими они представали мне в оставшемся окружении, чтобы, с одной стороны, быть правдивым, а с другой — опусти я все и всяческие воздействия окружения — не заменять их чем-то просто неуместным, не отнимать у своего предмета жизнь, ибо, будучи отрешен от всякого окружения, он лишился бы места для своего бытия, а значит, и бытия вообще. Каков истинный здешний цвет резных панелей, определится само собой всей совокупностью и будет явствовать из нее. Я не жалел труда, стараясь выполнить эту работу с той точностью, какая только была возможна при моих силах и знаниях. Я подбирал краски до тех пор, я до тех пор искал надлежащего оттенка и нужного блеска, пока картина, поставленная рядом с предметом, не делалась неотличимой от него издали. Рисунок картины не мог быть неверен, потому что он точно воспроизводил первоначальный набросок, который я составил по математическим правилам. Сочтя свою работу законченной, я показал ее отцу, и тот, за исключением отмеченных им маленьких недочетов, одобрил ее. Недочеты я, к его удовольствию, устранил. Затем все было уложено в удобные ящики и приготовлено к перевозке.
Шли уже чуть ли не предвесенние дни, а я только еще кончал этот труд. Объяснялось это главным образом тем, что более поздними, более светлыми днями зимы я мог пользоваться больше, чем более ранними, хмурыми.
Весной я снова отправился в путь.
Сначала я навестил моего гостеприимца, я привез ему ящики с зарисовками панелей и вручил ему и набросок, и картину резных украшений. Он вызвал Ойстаха в комнату, где все это было разложено. Оба очень благоприятно отозвались об этой работе, благоприятнее, чем о любой другой, какую я им когда-либо показывал. Меня это очень радовало. Ойстах сказал, что очень хорошо различимы подлинные краски и те, что возникли от посторонних воздействий, причем по последним можно догадываться о характере окружающих предметов. Они поставили картину в нужном отдалении и одобрительно ее рассматривали. Особенно признательно говорил Ойстах о правильности и полезности наброска.
После короткого посещения дома роз я отправился в ельники, но и там пробыл недолго и углубился в горы, чтобы найти опорное место для новых своих работ. Найдя таковое, я направился в Лаутерскую долину, а там в трактир «У кленов», чтобы подрядить Каспара и других своих прошлогодних помощников и на нынешний год. Когда подряд, к взаимному, полагаю, удовлетворению, состоялся, я задержался в трактире еще на несколько дней, отчасти для того, чтобы мои люди могли подготовиться к отъезду, отчасти же для того, чтобы, воспользовавшись случаем, опять насладиться полюбившимся мне домом, полюбившейся долиной и ее окрестностями. Я не раз ходил в Ротмоор, чтобы посмотреть там, что происходит с изделиями из мрамора. Мне показалось, что за год дело сильно продвинулось. Я договорился там также о работах, которые можно было бы для меня сделать, если бы я нашел нужный для этого мрамор. Попытки напасть на след дополнений к отцовским панелям, купленным мною в этих местах, оказались и нынче, как прежде, напрасными.
В Лаутерской долине случилось одно событие, очень меня взбодрившее. Объявился мой учитель игры на цитре, который на какое-то время совсем пропал без вести. Он выразил большую радость по поводу нашей встречи и сказал, что хочет последовать за мною в Карграт, то есть в чашу хребта, теперешнее опорное место моих работ, деревушку на травянистых, без деревьев и без кустов, холмах, почти у вечного льда, с бедными жителями и еще, может быть, более бедным, скромным священником. Мой знакомец сказал, что будет за плату выполнять работы, которые я ему поручу, а в свободное время мы будем играть на цитре. У него еще не было ученика, упражнения с которым доставляли бы ему столько радости. Я решил рискнуть, и мы договорились о взаимных условиях.
Когда все было готово, мы отправились из трактира «У кленов» в Карграт. Я шел со своими людьми глухими, быстрее ведущими к цели горными тропами. Только один раз наш путь проходил по отрезку торной дороги, и там я нанял две легких повозки. В Карграте я нашел маленькую комнатку. Для моих людей был приведен в порядок амбар, а для хранения моей утвари специально сколотили крохотный домик. Мы были теперь вблизи самых больших высот. В мое крошечное окошко глядели три снежные вершины Ступенчатых Голов, за ними высилась отвесная, довольно стройная, ослепительно белая игла острия Кара, а рядом, на Зимми, тянулись блестящие, как драгоценные камни, поля наста или льда. Очень острую башню деревенской церкви овевал резкий, почти жесткий горный воздух, спускавшийся на наши головы и лица, далеко за чашей лежали другие горы и гуще населенные края.
Игра моего вновь обретенного учителя меня действительно очень радовала. За время, что я не видел его, я почти забыл уже, как замечательно он играет. Все, что я с тех пор слышал, бледнело и меркло перед его игрой, к которой я должен применить выражение «дивное диво». Кажется, что этот музыкальный инструмент овладевает и завладевает им самим. Играя, он становится другим человеком, он проникает в собственные глубины и в глубины других людей, причем в добрые. На этих горных вершинах прекрасная его игра была, пожалуй, еще прекраснее, еще более трогательна и одинока.
Если в прошлом году нас замыкали леса и кручи, оставляя обзор лишь в редких местах, то нынче мы почти всегда находились на открытых высотах, и только в виде исключения бывали заперты кручами или лесами. Самым частым свидетелем наших усилий был лед.
Когда календарь сказал, что розы, наверное, уже отцветают, я решил навестить моих друзей. Я все приготовил в Карграте к своему отсутствию и возвращению и отправился в путь.
Когда я прибыл в Асперхоф, садовник и слуги сказали, что Матильда, Наталия, мой гостеприимец, Ойстах, Роланд и Густав уехали в Штерненхоф. Розы уже отцвели, и меня вообще-то никто не ждал. Мой гостеприимец сказал, что поскольку я весною сообщил, что обоснуюсь нынче у самого льда, то вряд ли я захочу пускаться оттуда в дальний путь, но осенью, вероятно, сокращу свою работу и загляну ненадолго к своим друзьям. Но если я все-таки появлюсь, людям велено было сказать, что меня просят приехать в Штерненхоф.
И вот на следующий день я нанял на почте легкую коляску и направился в Штерненхоф.
Подъехав к его окрестностям, я увидел на изгородях и в садах еще цветущие розы, хотя в Асперхофе ни на решетке, ни в саду их вовсе не было, если не считать отдельных увядших и сморщенных цветков, которые забыли срезать. Да и на подъеме к замку, на кустах, окаймлявших кое-где газон, — в Штерненхофе специально не разводили роз, а сажали их только с декоративной целью — еще были готовые вот-вот раскрыться почки. Объясняется это, возможно, тем, что Штерненхоф расположен ближе к горам и выше, чем дом моего друга.
Во дворе слуги приняли у меня мою кладь и лошадей и направили меня к большой лестнице. Когда обо мне доложили, я был отведен в комнату Матильды, где застал ее одну. Она прошла навстречу мне почти к самой двери и приняла меня с обычной своей искренней сердечностью и приветливостью. Она подвела меня к столу, стоявшему возле украшенного цветами окна, где любила сиживать, и указала на стул напротив себя. Когда мы сели, она сказала:
— Я очень рада, что вы приехали, мы уж думали, что нынче вы не пуститесь в этот далекий путь.
— Где меня так любезно принимают, — отвечал я, — и где ко мне так добры, туда я всегда рад держать путь, и я проделываю его ежегодно, хотя он и далек и хотя мне приходится прерывать свои занятия.
— А сейчас вы застали в доме только меня и Наталию, — отвечала она. — Увидев, что розы отцвели, а вы так и не появились, мужчины решили, что вы этим летом вообще не приедете, и отправились в небольшую поездку. Густав тоже участвует в ней, ведь он так любит поездки. Они посетят одну церквушку в уединенной горной долине, зарисовку этой церквушки привез Роланд. Церковку на рисунке нашли очень красивой, и к ней-то они и отправились под предводительством Роланда. Куда они поедут, когда осмотрят ее, я не знаю, но знаю, что они отлучились лишь на несколько дней и вернутся в Штерненхоф. Дождитесь их здесь, они будут рады увидеть вас, а я позабочусь, чтобы вам было здесь как можно удобнее.
— К удобствам я не привык, — возразил я, — и не очень-то их ценю. Мне только не хочется нарушать ваше одинокое теперь домашнее житье. Самое важное, что можно мне дать, я уже получил — любезный прием.
— Хотя любезный прием, конечно, важнее всего и хотя к удобствам вы равнодушны, — отвечала она, — любезная мина при приеме гостя — это, как она ни дорога, еще не все, любезность должна проявиться и в деле, и во исполнение нашего долга, который приятен нам, позвольте нам предоставить гостю елико возможный уют, а уж воспользуется он им или нет — это его дело.
— Того, что вы считаете долгом, я не оспариваю, — ответил я, — не подвергаю сомнению, только мне хочется, чтобы это требовало как можно меньше самопожертвования.
— Оно будет невелико, — сказала Матильда, — нужно только некоторое внимание к исполнительности людей, а уж его-то вы мне позволите проявить.
С этими словами она дернула шнурок звонка и велела вошедшему слуге позвать дворецкого.
Когда тот явился, она приказала ему в очень простых и коротких словах как можно лучше устроить меня в доме на долгий срок. Когда дворецкий уже уходил, она поручила ему еще тотчас сказать барышне, кто приехал, позднее она и сама сообщит ей об этом, а ужинать мы будем вместе в столовой.
Дворецкий удалился, и Матильда сказала, что теперь главное сделано и остается лишь выслушать доклад о том, как именно исполнено приказание.
Мы заговорили о другом. Матильда спросила меня о моих делах и об общем характере моих нынешних летних занятий.
Я отвечал, что мое физическое состояние по-прежнему благополучно. Меня с детства приучали к простой жизни, и это, при длительном пребывании на воздухе, дало мне прочное и доброе здоровье. Духовное же мое состояние зависит от моих занятий. Я стараюсь направлять таковые по своему усмотрению, и если они регулярны и сулят, на мой взгляд, успех, то они дают мне спокойствие и самообладание. Но в последние годы они, если иметь в виду мое главное направление, почти всегда были одни и те же, менялась только арена. Побочные направления, правда, становились другими, и так, наверное, будет продолжаться всю жизнь.
Затем я спросил, как поживают все наши друзья.
Матильда ответила, что все обстоит вполне удовлетворительно. Мой гостеприимец продолжает жить своей простой жизнью, он старается, чтобы его клочок земли как можно лучше выполнял тот долг, который возлагает на каждое земельное владение его же сохранность, он делает соседям и прочим людям много добра, делает без шума, стараясь пуще всего, чтобы все происходило тихо, он украшает свою жизнь искусством, наукой и другими вещами, относящимися наполовину к этой области и чуть ли не на половину к любительству, он старается наконец-то наполнить свою жизнь тем спокойствием преклонения перед высшей силой, которое правит всем сущим. То, что еще нужно для счастья, доброжелательность людей — она встречает его сама собой. Ойстах и довольно самостоятельный Роланд отчасти вплелись в эту ткань дел, отчасти подчиняются собственным побуждениям и обстоятельствам. Густав еще только устремляется вверх по лестнице своей юности, и она думает, что его стремление верно. Если это так, он достигнет последней ступени на любой вершине этой жизни, куда ему будет суждено забрести. Что касается, наконец, ее самой и Наталии, то женская жизнь — всегда жизнь зависимая, всегда только дополнение, и в этом состоят ее покой и твердость. Они обе потеряли ту опору в семье, которую могла бы дать им для твердости сама природа, они неуверенно живут в своем имении, должны многое черпать из себя, как мужчина, и женскими своими правами пользуются лишь в отсвете жизни друзей, с которой они связаны ходом лет. Так обстоят дела, так они по своей природе и продолжаются, так будут идти и впредь.
Этот рассказ Матильды вызвал у меня почти грусть. Она рассеялась, когда речь пошла о том, что случилось за это лето. Матильда рассказала мне о цветении роз, о гостях той поры, о жизни в Штерненхофе и о видах на урожай. Я немного описал ей теперешнее свое местопребывание, объяснил, чего добиваюсь и какими путями и средствами мы пытаемся это выполнить.
Поговорив так некоторое время, я откланялся и пошел в свою комнату.
Мне отвели и приготовили то же помещение, которое я занимал каждый раз, когда приезжал в Штерненхоф. Туда отвел меня из прихожей Матильды слуга. Комната имела почти такой же вид, как тогда, когда я был жильцом этого дома. Даже книги, которые каждый раз, чтобы занять меня, приносил дворецкий, забыты не были. После того как я некоторое время пробыл один, вошел дворецкий и спросил меня, все ли в моем жилье в должном порядке или у меня есть какие-то желания. После того как я заверил его, что лучшего и желать нельзя, и поблагодарил его за труды и заботливость, он удалился.
Немного отдохнув, я походил по комнатам, поглядел то из одного, то из другого окна на знакомые предметы, на близкие поля и далекие горы, а затем переоделся к ужину.
Ужинать меня вскоре и позвали, поскольку в замок я прибыл уже на исходе дня.
Я направился в столовую и застал там Матильду и Наталию. Матильда была одета иначе, чем когда я пришел в ее комнату по приезде. О Наталии я этого не знал, но, поскольку на ней было такое же платье, как на Матильде, я предположил, да и мог не сомневаться, что ей сообщили о моем появлении. Мы очень просто поздоровались и сели за стол.
Мне было очень странно и непривычно сидеть наедине с Матильдой и Наталией в их доме за ужином.
Разговоры шли об обыкновенных вещах.
Вскоре после еды я ушел в свое жилье, чтобы не обременять женщин.
Там я некоторое время занимался вынутыми из чемодана бумагами и книгами, потом задумался, замечтался и наконец улегся.
Следующий день начался с одинокой утренней прогулки, затем мы вместе позавтракали, затем вышли в сад, затем я занимался картинами в комнатах. Вторая половина дня была использована для похода к хутору и в поля, а вечер прошел как предыдущий.
С Наталией я держался теперь, когда она одна с матерью жила в замке, даже отчужденнее, чем то бывало в многолюдном обществе.
В этот день мы мало говорили друг с другом, и только о самых обыкновенных вещах.
Второй день прошел так же, как первый. Я снова смотрел картины, побывал в комнате со старинной мебелью, обозрел коридоры, покои и рисунки на верхнем этаже.
На третий день моего пребывания в Штерненхофе, прочтя после полудня несколько строк старика Гомера, я собрался покинуть свое помещение и выйти в сад. Я положил том Гомера на стол, прошел в переднюю, запер за собой дверь своей квартиры и по маленькой лестнице в задней части дома спустился в сад. Стоял очень ясный день, на небе не было ни облачка, солнце лило теплый свет на цветы, тишину не нарушали ни шум садовых работ, ни даже пенье птиц. Я слышал только, как постукивали молотками и соскабливали краску с дома рабочие на лесах близ того места, откуда я вышел. Я прошел мимо кустов и запоздалых цветов в тень, которая была мне видна на песчаной дорожке, окаймленной довольно высокой живою изгородью. Дорожка привела меня к липам, а от них я прошел под навесом из листьев к стене плюща. Я пошел вдоль нее и вошел в грот с фонтаном. Я подходил к нему с левой стороны стены, откуда при приближении прекрасно видна нимфа, но зато не видна скамеечка, стоящая в гроте напротив нимфы. Войдя, я увидел, что на этой скамеечке сидит Наталия. Она очень испугалась и встала. Я тоже испугался, однако заглянул ей в лицо. В нем боролись румянец и бледность, а глаза ее были направлены на меня.
Я сказал:
— Фрейлейн, поверьте, я подошел к гроту от навеса из листьев, по левую сторону этой стены, и не мог видеть вас, иначе бы я не вошел сюда и не стал мешать вам.
Ничего не ответив, она все еще смотрела на меня.
Я заговорил снова:
— Раз уж я вас побеспокоил, хотя и против собственной воли, простите меня великодушно, и я тотчас удалюсь.
— Ах, нет, — сказала она.
Заколебавшись и не поняв значения ее слов, я спросил:
— Вы сердитесь на меня, Наталия?
— Нет, я не сержусь на вас, — отвечала она, снова направив на меня потупленный было взгляд.
— Вы пришли сюда, чтобы побыть одной, — сказал я, — поэтому я должен покинуть вас.
— Если вы не избегаете меня намеренно, вы вовсе не должны меня покидать, — ответила она.
— Если это не мой долг — вас покинуть, — возразил я, — то вы должны снова занять свое место, с которого я спугнул вас. Сделайте это, Наталия, сядьте, как вы сидели.
Она опустилась на скамейку поближе к выходу и оперлась на мраморную спинку.
Таким образом я очутился между нею и статуей. Находя это неподобающим, я немного отошел в глубь грота. Однако теперь я оказался перед пустой частью скамейки, и поскольку это тоже показалось мне скорее неприличествующим, чем приличествующим, я сел на другой конец скамейки и сказал:
— Вы любите это место больше, чем прочие?
— Я люблю его, — отвечала она, — потому что оно закрытое и потому что статуя эта красива. Разве и вы не любите его?
— Я люблю эту статую тем больше, чем дольше знаю ее, — отвечал я.
— Вы раньше часто сюда ходили? — спросила она.
— Когда я, по доброте вашей матушки, делал зарисовки штерненхофской мебели и жил здесь почти один, я часто заходил в этот грот, — ответил я. — И позднее тоже, когда приезжал сюда по любезному приглашению, я не упускал случая побывать на этом месте.
— Я вас видела здесь, — сказала она.
— Здесь все устроено так, чтобы давать пищу душе и уму, — отвечал я, — зеленая стена плюща образует покойное ограждение, оба эти дуба стоят, как стражи, а белизна камня мягко оттеняет темноту листьев и сада.
— Все это возникло постепенно, как говорит мать, — сказала Наталия, — вырастили плющ, затем, сделав его стену выше и шире, довели ее до самих дубов. Даже в самом гроте все выглядело когда-то иначе. Скамейки не было. Но поскольку этот мрамор люди очень часто рассматривали, стоя перед ним или просто в гроте поблизости от него, поскольку мать тоже любила подолгу его рассматривать, она велела вытесать из такого же материала эту скамью и снабдить ее затейливой, в языческом стиле спинкой — отчасти для соответствия статуе, отчасти же для того, чтобы скульптуру можно было спокойно и отдохновенно рассматривать. Со временем появилась и алавастровая чаша.
— Людей притягивают такие произведения, — ответил я, — и охотники смотреть всегда найдутся.
— Я видела эту фигуру с детства и привыкла к ней, — сказала Наталия. — Не находите ли вы, что и сам камень очень красив?
— Я нахожу его необыкновенно красивым, — отвечал я.
— Всегда, когда я на него долго смотрю, — сказала она, — мне кажется, что он очень глубок, что в него можно проникнуть и что он прозрачен, а это не так. Он являет глазу чистую поверхность, которая так нежна, что почти не оказывает сопротивления и глаз может зацепиться лишь за сверкающие точки мельчайших зерен.
— Камень и вправду прозрачен, — отвечал я, — нужен только тонкий слой, чтобы смотреть сквозь него. Мир кажется почти золотым, если смотреть на него сквозь камень. Когда много слоев лежат друг на друге, они извне кажутся белыми, так и снег, который состоит сплошь из прозрачных ледяных иголочек, тоже становится белым, когда миллионы таких иголок лежат друг на друге.
— Значит, мое ощущение не было неверно, — сказала она.
— Да, — ответил я, — оно вас не обманывало.
— Если оценивать драгоценные камни не по их стоимости, — сказала она, — а по их благородству, то мрамор надо отнести к драгоценным камням.
— Его надо, его несомненно надо отнести к таковым, — отвечал я, — хотя просто как материал мрамор ценится не столь высоко, сколь камни, которые нужно искать, ибо они встречаются лишь в виде мелких кусочков, он так благороден, так прекрасен, что спросом пользуется не только белый, а и всяких других цветов, что из него делают самые разные вещи и что величайшие произведения изобразительного искусства выполняются в чистейшем белом мраморе.
— Это-то всегда и волновало меня, когда я сидела здесь и смотрела, — сказала она, — что твердый камень передает мягкость и округлость изваянного и что для изображения самого прекрасного в мире берется материал, не имеющий никаких недостатков. Это я даже всегда замечаю в статуе, стоящей на лестнице у нашего друга: она еще прекраснее, внушает еще больше почтения, чем вот эта скульптура, хотя за долгие годы ее материал утратил первоначальную чистоту.
— Неспроста, разумеется, — отвечал я, — мастера благороднейших и даже иных древнейших народов прибегали к этому материалу, создавая божественные и человеческие образы, тогда как украшения в виде орнаментов из листьев, карнизов, колонн, фигур животных и даже изображения низших людей и богов изготовляли из цветного мрамора, из песчаника, из дерева, из глины, золота или серебра. Дерево, земля, мягкий камень, иные металлы были бы материалом более доступным и более удобным для обработки, а люди выкапывали из земли белый мрамор и ваяли из него. Но и в веществе других драгоценных камней, из которых делают всякую всячину, камеи, фигурки, цветы, узоры, и тех, наконец, которые считаются особенно драгоценными и применяются для украшения человеческого тела и священных предметов, есть что-то притягательное, притягивающее к себе человеческую душу, ценными их делает не просто их редкость или их блеск.
— Вы старались познакомиться и с драгоценными камнями? — спросила она.
— Один мой друг многие из них показал мне и многое объяснил, — ответил я.
— Они и правда очень занимательны для людей, — сказала она.
— Есть в них что-то глубокое и волнующее, — отвечал я, — в их естестве как бы скрыт некий обращенный к нам дух — например, в спокойствии изумруда, с отливом которого никакой зеленый цвет, встречающийся в природе, несходен, подобное увидишь разве что на перьях колибри или на надкрыльях жуков, например, в насыщенности рубина, который глядит на нас своим розовато-бархатным взором, словно аристократ среди цветных камней, например, в загадке опала, который непостижим, или, например, в мощи алмаза, способного преломлять свет и со скоростью молнии преображать свой цвет и свое сияние так, как их ни снежинки, ни брызги водопада преобразить не способны. Все подделки под благородные камни — это лишь тело без духа, лишь бессодержательный, холодный, жесткий блеск вместо богатой глубины и тепла.
— Вы не сказали о жемчуге.
— Это не драгоценный камень, но употребляется с ним заодно. По внешнему своему виду жемчуг, пожалуй, скромнее скромного, но ничто не украшает человеческую красоту лучше, чем жемчуг с его таким мягким шелковым блеском. Даже на мужском платье, где он что-то скрепляет, узел ли галстука или складку манишки, он кажется мне украшением наиболее пристойным и строгим.
— А драгоценные камни как украшение вы любите? — спросила она.
— Если камни берутся самые красивые в своем роде, — отвечал я, — если их оправа соответствует законам искусства и если оправа эта служит на своем месте какой-то цели, то есть кажется нужной, — тогда, пожалуй, нет более нарядного украшения человеческого тела, чем драгоценные камни.
После этих слов мы помолчали, и я смог немного поглядеть на Наталию. На ней было неяркое светло-серое шелковое платье, какие она вообще любила носить. Платье, как то всегда у нее бывало, доходило до шеи и до запястий. Украшений на ней не было решительно никаких, а ведь ей так бы пошли драгоценные камни. Серег, которые носили тогда женщины и девушки, я ни на Матильде ни разу не видел, ни на Наталии.
В молчании мы, словно сговорившись, смотрели на струившуюся воду.
Наконец она сказала:
— Мы говорили о приятности этого места и перешли от благородного камня мрамора к драгоценным камням. Но следовало бы упомянуть еще об одной вещи, особенно отличающей это место.
— О какой же?
— О воде. Мало того, что эта вода утоляет жажду лучше, чем иная известная мне вода, в игре ее струй именно в этом месте и благодаря этим приспособлениям есть что-то успокаивающее и что-то примечательное.
— Я испытываю такое же чувство, — отвечал я, — не раз наблюдал я на этом месте прекрасный блеск и тенистую темноту этого живого, летучего вещества, которое, как и воздух, гораздо удивительнее, чем то замечают люди.
— Я тоже нахожу удивительными воду и воздух, — сказала она, — люди обращают на них так мало внимания потому, что окружены ими повсюду. Вода кажется мне кипучей жизнью земного вещества, а воздух — это его могучее дыхание.
— Как верно вы говорите, — сказал я. — Были на свете люди, очень почитавшие воду. Как почитали море греки, какие исполинские сооружения строили римляне, чтобы наслаждаться хорошей водой! Они, правда, обращали внимание только на физическую сторону дела и, в отличие от греков, любовавшихся красотой своего моря, не смотрели на красоту воды, стараясь лишь как можно лучше снабдить себя этим бесценным для здоровья сокровищем. Да и есть ли что-либо, кроме воздуха, что входило бы в наше естество с большим благородством, чем вода? Не должно ли соединяться с нами лишь самое чистое и самое благородное? Не должно ли так быть именно в губительных для здоровья городах, а там только и роют скважины и пьют воду из них. Бывая в горах, в долинах, на равнинах, в большом городе, я в жару, в жажде, в движении познал драгоценный хрусталь воды и ее различия. Как освежает родник в горах и даже в холмах, особенно когда бьет чистейшей струей из чистого гранита, и как, кроме того, прекрасен родник, Наталия!
То ли Наталия и прежде испытывала жажду, которая и повернула разговор к воде, то ли наш разговор вызвал у нее легкую жажду, — девушка встала, взяла алавастровую чашу, наполнила ее под мягкой струей, приложила к своим красивым губам, отпила, выплеснула остаток в бассейн, поставила пустую чашу на место и села рядом со мной на скамейку.
У меня было немного тяжело на душе, и я сказал:
— Хотя мы любовались красотой этого места, хотя мы охотно говорили о нем и о других вещах, на которые оно нас навело, что-то в нем причиняет мне боль.
— Что же может причинять вам боль в этом месте? — спросила она.
— Наталия, — отвечал я, — год назад вы намеренно избежали встречи со мной у этого грота. Вы сидели на этой же скамейке, а я стоял в саду, и вы поспешно вышли отсюда и скрылись в кустах.
Она повернула ко мне лицо, посмотрела на меня своими темными глазами и сказала:
— Вы вспоминаете об этом и это причиняет вам боль?
— Сейчас мне больно вспоминать об этом, а тогда это причинило мне боль.
— Но ведь и вы избегали меня, — сказала она.
— Я держался поодаль, чтобы не казалось, что я навязываюсь вам, — возразил я.
— Разве я для вас что-то значила? — спросила она.
— Наталия, — отвечал я, — у меня есть сестра, которую я люблю как нельзя более, я знаком со многими девушками в нашем городе и в деревнях, но ни одну, даже мою сестру, я не чту так высоко, как вас, ни одна из них не занимает моих мыслей, ни одна не заполняет всю мою душу, как вы.
При этих словах на глазах у нее выступили слезы и полились по щекам.
Я обомлел, я взглянул на нее и сказал:
— Если эти прекрасные капли заменяют слова, Наталия, они говорят, что и вы немного ко мне расположены?
— Как к самой себе, — отвечала она.
— Возможно ли? Я никак этого не ожидал.
— Я тоже не ожидала этого от вас, — возразила она.
— Вы могли бы это знать, — сказал я. — Вы так добры, так чисты, так просты. Такою вы мне представали. Вы были мне понятны, как синева неба, а душа ваша казалась мне такой же глубокой, как его синева. Я знал вас много лет, вы всегда были значительны рядом с вашей великолепной матерью и вашим достопочтенным другом, вы бывали сегодня такой же, как вчера, а завтра такою же, как сегодня, и я впустил вас в свою душу, к тем, кого я люблю, к отцу, матери, сестре… нет, Наталия, еще глубже, глубже…
При этих словах она посмотрела на меня очень ласково, ее слезы полились еще сильнее, и она протянула мне руку.
Я схватил ее руку и, не в силах ничего сказать, только смотрел на Наталию.
Через много мгновений я отпустил ее руку и сказал:
— Наталия, мне непонятно, как это может быть, что вы расположены ко мне, ко мне, который ничего собою не представляет и ничем не замечателен.
— Вы не знаете, кто вы, — отвечала она. — Случилось так, как должно было случиться. Мы проводили много времени в городе, живя там часто целую зиму, мы путешествовали, видели разные страны и города, мы были в Лондоне, Париже и Риме. Я познакомилась со многими молодыми людьми. Среди них были люди дельные и значительные. Я видела, что иные не безразличны ко мне. Это меня пугало, и если кто красноречивым ли взглядом или еще как-нибудь давал мне это понять, у меня возникал страх, и я старалась держаться подальше. Мы вернулись на родину. И вот однажды летом вы приехали в Асперхоф, и я увидела вас. На следующее лето вы приехали снова. Вы ни на что не притязали, я видела, как вы любите предметы этого мира, как вникаете в них и заботитесь о них в своих науках… видела, как вы почитаете мою мать, уважаете нашего друга, почти любите мальчика Густава, с какой почтительностью всегда говорите о своем отце, о своей матери и сестре, и тогда… тогда…
— И тогда, Наталия?
— И тогда я полюбила вас, потому что вы так просты, так добры и все же так серьезны.
— А я люблю вас больше, чем мог бы полюбить кого-либо или что-либо в этом мире.
— Из-за вас я часто страдала, бродя по полям.
— Я ведь этого не знал. Наталия, а потому должен был скрывать свои мысли, таить от всех, от отца, от матери, и даже от самого себя. Я продолжал делать то, что считал своим долгом, ходил в горы, исследовал их строение, собирал камни, измерял озера, провел по совету вашего друга одно лето в Асперхофе без всяких занятий, потом снова отправился в дикие места и доходил до границы льда. Я только все горячее любил вашу мать, вашего друга и вашего брата. Но, находясь на вершинах гор. Наталия, я видел ваш образ в распахнутом надо мною безоблачном небе, глядя на твердые, неподвижные скалы, я видел ваш образ в окутывавшем их тумане, когда я взирал с высоты на селения людей, ваш образ наполнял стоявшую над миром тишину, а когда я вглядывался дома в черты своих близких, он маячил передо мною и здесь.
— И вот все разрешилось.
— Разрешилось, моя милая, милая Наталия.
— Мой дорогой друг!
С этими словами мы снова подали друг другу руки и потом посидели молча.
Как все изменилось вокруг меня за несколько мгновений, как приняли вещи совсем им не свойственный облик! В глазах Наталии стояло сияние, какого я за все время, что знал ее, ни разу не видел. Неустанно текущая вода, алавастровая чаша, мрамор — все преобразилось. Белые блики статуи, пятна света, чудесно вспыхивающие в тени, были другими. Вода текла, журчала, струилась, всплескивала по-другому. Блестевшая на солнце зелень приветливо заглядывала в грот как-то по-новому, и даже стук молотков, сбивавших краску со стен, слышался в гроте совсем не так, как слышался он, когда я вышел из дому.
После продолжительного молчания Наталия сказала:
— А о вечере в Придворном театре вы ни разу не заговаривали.
— О каком вечере, Наталия?
— Когда давали «Короля Лира».
— Уж не вы ли были той девушкой в ложе?
— Это была я.
— Нет, вы цветете, как роза, а та девушка была бледна, как белая лилия.
— Должно быть, я побледнела от боли. Я была очень ребячлива, и мне было тогда отрадно прочесть единственно в ваших глазах среди всех окружавших ложу сочувствие моему впечатлению. От вашего сочувствия это впечатление, правда, усилилось, усилилось прямо-таки непомерно. Но это было хорошо. Я никогда не бывала на представлении, которое меня так взволновало бы. Я сочла это счастливой случайностью, что при выходе из театра ваши глаза, которые наполнились слезами при виде страданий старого короля, оказались так близко. Мне подумалось, что я должна отблагодарить вас взглядом за то, что вы были заодно со мною и не оставили меня в одиночестве. Вы заметили это?
— Я это заметил и подумал, что взгляд девушки доброжелателен и означает, наверное, общность нашего впечатления от спектакля.
— И значит, вы меня потом не узнали?
— Нет, Наталия.
— А я вас сразу узнала, как только увидела в Асперхофе.
— Мне приятно, что это ваши глаза тогда поблагодарили меня. Та благодарность глубоко запала мне в душу. Да и как могло быть иначе, ведь ваши глаза — для меня милее и прекраснее всего на свете.
— В душе я тогда уже поставила вас выше всех прочих, хотя вы были незнакомцем и я могла полагать, что останетесь им для меня на всю жизнь.
— Наталия, то, что сегодня со мною случилось, — это поворот в моей жизни, такое великое событие, что я и представить себе не могу. Я должен во всем разобраться и свыкнуться с мыслью о будущем.
— Это счастье свалилось на нас с неба без нашей заслуги, потому что оно больше, чем любая заслуга.
— Примем же его с благодарностью.
— И сохраним навеки.
— Как хорошо, Наталия, что я не мог впустить в свою душу строки Гомера, которые сегодня пополудни читал, что я отложил книгу, вышел в сад и что судьба направила мои шаги к мраморному фонтану.
— Если наши души склонились друг к другу, хотя мы оба не знали этого, то все равно они сошлись бы когда-то и где-то, это я теперь знаю наверняка.
— Но скажите, почему вы избегали меня, Наталия?
— Я не избегала вас, я не могла говорить с вами, как того хотелось моей душе, и не могла держаться так, словно вы мне чужой. Однако ваше присутствие было мне очень приятно. Но почему и вы сторонились меня?
— Со мной происходило то же самое. Оттого что вы были так далеки от меня, я не мог приблизиться. Ваше присутствие преображало все, что меня окружало, но неясное будущее счастье казалось мне недостижимым.
— Но вот и сбылось то, что готовилось.
— Да, сбылось.
После короткого молчания я продолжал:
— Вы сказали, Наталия, что мы должны навеки сохранить счастье, свалившееся на нас с неба. И правда, должны. Заключим же союз в том, что будем любить друг друга всю жизнь и будем верны ему, что бы ни случилось и чего бы ни принесло будущее, суждено ли нам вместе наслаждаться солнцем и небом или каждый будет смотреть на них в одиночку, только с болью думая о другом.
— Да, мой друг, любовь, неизменная любовь на всю жизнь, и верность, каким бы неблагосклонным ни оказалось будущее.
— О Наталия, какая радость бурлит в моем сердце! Я не представлял себе, как сладостно обладать вами, которая казалась мне недостижимой.
— Я тоже не думала, что вы отворотите свое сердце от важных вещей, которыми вы были поглощены, и обратите его ко мне.
— О моя любимая, моя дорогая, вечно принадлежащая мне Наталия!
— Мой единственный, мой несравненный друг!
Не в силах совладать со своими чувствами, я привлек ее к себе и склонил лицо к ее лицу. Она повернула ко мне голову и ласково подставила свои красивые губы моему поцелую.
— Навеки лишь твой, — сказал я.
— Навеки лишь твоя, — сказала она тихо.
Уже когда я прижался губами к милым губам, мне показалось, что она дрожит и что у нее снова полились слезы.
Повернувшись и заглянув ей в лицо, я увидел слезы в ее глазах.
Я почувствовал, что и у меня навернулись на глаза слезы, которые я уже не смог сдержать. Я снова привлек Наталию к себе, приблизил ее лицо к своей груди, припал щекой к ее прекрасным волосам, положил руку ей на голову и мягко прижал ее к сердцу. Она не шевелилась, и я чувствовал, что она плачет. Когда эта поза снова нарушилась, когда она заглянула мне в лицо, я еще раз горячо поцеловал ее в губы в знак вечного союза и безграничной любви. Она обвила мою шею руками и ответила на мой поцелуй тоже в знак единения и любви.
У меня в этот миг было такое чувство, что Наталия прониклась моей верностью и любовью, что ее жизнь слилась с моей жизнью. Я поклялся себе всем, что есть во мне великого, доброго, прекрасного и сильного, украсить ее будущее и сделать ее настолько счастливой, насколько это в моей власти и достижимо.
Мы сидели молча рядом, не в силах говорить, и лишь пожимали друг другу руки в подтверждение заключенного союза и нашего глубокого согласия.
По прошествии некоторого времени Наталия сказала:
— Друг мой, мы уверились в прочности и нерушимости нашей привязанности, и привязанность эта действительно не пройдет. Но что будет теперь и как образуется все другое, это зависит от наших родных, от моей матери и ваших родителей.
— Они посмотрят на наше счастье доброжелательно.
— Я тоже надеюсь на это. Но будь у меня полное право определять свои поступки самой, ни единой долькой своей жизни я не распорядилась бы так, чтобы это не понравилось моей матери. Это не было бы для меня счастьем. Я буду вести себя так до тех пор, пока мы вместе на этом свете. Вы, наверное, тоже?
— Я тоже — потому что люблю своих родителей и потому что мне в радость лишь то, что радость для них.
— И еще одного человека нужно спросить.
— Кого?
— Нашего благородного друга. Он так добр, так мудр, так бескорыстен. Он поддерживал нас, когда мы не знали, как быть, он помогал нам, когда мы в этом нуждались, а теперь он стал Густаву вторым отцом.
— Да, Наталия, его, конечно, нужно спросить. Но что, если кто-то из них скажет «нет»?
— Если кто-то из них скажет «нет» и мы не сможем его переубедить, то так оно и будет, и тогда мы будем любить друг друга до смерти и будем верны друг другу на этом и на том свете. Но видеться нам тогда больше нельзя.
— Если мы предоставили им решать нашу судьбу, так, наверное, и должно быть. Но этого, конечно, конечно же, не будет.
— Я твердо верю, что этого не будет.
— Мой отец обрадуется, когда я ему скажу, кто вы, он вас полюбит, когда увидит, моя мать будет вам второй матерью, а Клотильда привяжется к вам всей душой.
— Я чту ваших родителей и люблю Клотильду еще с тех пор, как услыхала ваши рассказы о них. Со своей матерью я поговорю сегодня же, я не смогла бы прожить ночь с этой тайной. Когда вы поедете к родителям, скажите им, что произошло, и пришлите мне сюда извещение.
— Да. Наталия.
— Вы отсюда снова отправитесь в горы?
— Я собирался так поступить. Но случилось нечто более важное, и я должен поехать к родителем тотчас. Лишь ненадолго, совсем наскоро заеду на свою теперешнюю стоянку, чтобы отменить работы, отпустить людей и привести все в порядок.
— Так нужно, наверное.
— Ответ моих родителей доставит не извещение, его доставлю я сам.
— Это еще приятнее. Разговор с нашим другом произойдет, наверное, здесь.
— Наталия, тогда у вас будет сестра в лице Клотильды, а у меня брат в лице Густава.
— Вы же всегда его любили. Все так прекрасно, что даже слишком прекрасно.
Затем мы говорили о возвращении мужчин, о том, что скажут они и как воспримет наш гостеприимец этот быстрый поворот событий.
Наконец, когда наши души несколько успокоились, мы поднялись, чтобы пойти в дом. Я предложил Наталии руку, которую она приняла. Я провел ее вдоль стены плюща, провел через красивый проход в саду, и мы вышли на открытое место с широким обзором.
Немного пройдя вперед, мы увидели Матильду, которая шла за оградой сада в сторону хутора. Калитка, ведущая из сада к хутору, находилась близко и была отворена.
— Я пойду за матерью и поговорю с ней сейчас же, — сказала Наталия.
— Если вы считаете, что так лучше, сделайте это, — ответил я.
— Да, так и сделаю, друг мой. Прощайте.
— Прощайте.
Она освободилась от меня, мы подали друг другу руки, пожали их, и Наталия повернула к калитке.
Я смотрел ей вслед, она еще раз обернулась ко мне, затем вышла через калитку, и ее серое шелковое платье исчезло за живой изгородью. Я вошел в дом и направился в свое жилье.
Там лежала книга со стихами Гомера, которые сегодня потеряли власть над моим сердцем, — лежала так, как я оставил ее на столе. Что произошло тем временем? Я прижал к сердцу прекраснейшую деву на свете. Но что это значит? Самая благородная, самая горячая, самая возвышенная душа принадлежит мне, привязана ко мне любовью. Ужели я это заслужил, ужели могу заслужить?
Я сел и стал смотреть на спокойное и ясное небо за окном.
В этот день я больше не покидал дома. К вечеру я вышел в коридор в северной части дома и выглянул в сад. На открытом месте, где зеленый лужок прорезает белая тропинка, прохаживались Матильда с Наталией.
Я вернулся в свою комнату.
В сумерках меня позвали ужинать.
Когда Матильда и Наталия вошли в столовую, Матильда с мягкой улыбкой и всегдашней своей приветливостью пригласила меня сесть рядом с ней.
ТОМ ТРЕТИЙ
1. Последствия
Мы собрались на ужин в той же комнате, где и всегда во время моего пребывания в замке проходили наши утренние, полуденные и вечерние трапезы, стол был покрыт белоснежной, тонкого полотна скатертью, вытканной, словно серебром по серебру, более красивыми и более старинными, чем теперь принято, узорами, слуга в белых перчатках стоял сзади нас, дворецкий ходил по комнате, у стены стоял шкап с отделениями, где находились различные, необходимые во всякой столовой предметы, — но сегодня все было для меня волшебно. На Матильде было фиолетовое шелковое платье с более темными полосками, плечи ее окутывала черная кружевная шаль. Каждый раз, когда в доме бывал гость, она переодевалась перед трапезой, делала это она до сих пор и ради меня и не преминула переодеться и в этот вечер. С милым и приветливым выражением тонкого лица, которое от темного шелка казалось еще тоньше, еще прекраснее, она опустилась в кресло между нами. Наталия была справа, я — слева. Наталия не успела переменить платье, на ней было то же светло-серое шелковое платье, что и днем, которое стало мне так дорого. Я почти не решался взглянуть на нее, и она тоже направляла свои большие, прекрасные, невыразимо благородные глаза чаще всего на мать. Была произнесена молитва, которую Матильда всегда совершала сидя и тихо, со сложенными руками, а потому и другие тоже творили ее сидя и тихо. Затем, по заведенному в доме обычаю, открылась двустворчатая дверь, вошел слуга с супницей, поставил ее на стол, дворецкий снял с нее крышку и сказал, как всегда: «Желаю приятно кушать».
Матильда протянула руку в темном шелковом рукаве, взяла серебряный половник и разлила, как то неукоснительно делала, суп по тарелкам, которые подавал ей слуга. Убедившись, что все в порядке, дворецкий по своему обыкновению покинул комнату. Ужин проходил так же, как ежедневно. Матильда любезно и весело говорила о том о сем, не забыв упомянуть об отсутствующих друзьях и сказать об удовольствии, которое всем доставит их возвращение. Она говорила об урожае, о нынешнем благодатном лете, о том, как все на свете всегда улаживается. Когда время ужина истекло, она поднялась, и все приготовились разойтись по комнатам. С той же мягкостью и добротой, с какой она приветствовала меня перед ужином, Матильда теперь попрощалась, мы пожелали друг другу доброго отдыха и разошлись.
Придя к себе в комнату, я ночью этого дня, который стал самым знаменательным во всей моей прошедшей до сих пор жизни, подошел к окну и взглянул на небо. На нем не было ни луны, ни облаков, но в тихой ночи горело такое множество звезд, словно небо целиком заполнено ими и они касаются друг друга своими остриями. Торжественность этого зрелища взволновала меня больше, и я проникся этой красотой неба глубже, чем когда-либо, хотя всегда взирал на нее с большим вниманием. Мне надо было сначала разобраться в этом новом мире. Я долго созерцал усеянный звездами свод с очень глубокими чувствами. Такими глубокими они не были никогда в моей жизни. Передо мной простиралась далекая, незнакомая страна. Я подошел к лампе, горевшей у меня на столе, и заслонил ее непрозрачным щитком, чтобы она освещала только глубину комнаты и не затмевала звездное небо. Затем я опять подошел к окну и остался перед ним. Время текло, и ночное празднество продолжалось. Как странно, подумал я, что как раз в то время, когда малые, хотя и многообразнейшие красоты земли исчезают и в далеком тихом сиянии открывается безмерная красота мироздания, человеку и большинству других живых существ назначено погружаться в сон! Оттого ли это, что только на короткие мгновения и только в загадочное время снов дозволено нам взирать на огромность, о которой мы догадываемся и которую когда-нибудь, может быть, нам доведется увидеть поближе? Может быть, здесь, на земле, нам ничего большего, чем догадка, и не будет дано? Или большинству людей позволено взирать на звездное небо в короткие бессонные мгновения лишь для того, чтобы его великолепие не стало привычным и не потеряло величия? Но ведь я не раз бывал всю ночь напролет один в пути, созвездия тихо двигались в небе, я не спускал с них глаз, одни склонялись к непроглядно-черным то ли лесам, то ли горизонтам, другие всходили на востоке, так это и шло, расположение звезд менялось исподволь, их улыбка светилась до тех пор, пока небо не светлело от приближения солнца, не загоралась на востоке заря и звезды не потухали, как сгоревшие подмостки для фейерверка. Разве тогда мои воспаленные ночным бдением глаза не находили это исчезнувшее тихое величие более высоким, чем белый день, который все делает ясным? Кто знает, как тут обстоит дело. Каково тем существам, которым назначена только ночь и неведом день? Тем большим чудесным цветам дальних стран, что открывают глаза, когда солнце заходит, и чей обычно белый наряд вяло повисает, когда оно снова встает? Или животным, для которых ночь — это их день? Я был полон благоговения перед бесконечностью.
Погруженный перед сном в свои мечты, я лег, погасив свечу и нарочно не задернув занавеску, чтобы видеть в окне звезды.
На следующее утро я собрался с мыслями, чтобы осознать, что произошло и какие важные обязанности я возложил на себя. Я оделся, чтобы выйти из дому и освежить лицо и тело прохладным утренним воздухом.
Покинув свою комнату, я направился к коридору, проходящему вдоль дома в южной его части. Окна этого коридора смотрят на двор, а его двери ведут в выходящие на юг комнаты Матильды и Наталии. Двери эти, когда-то, видимо, предназначенные служить гостям, были теперь большею частью заперты, потому что комнаты сообщались внутри. Я выбрал этот коридор потому, что на западной стороне замка он ведет к лестничке, кончающейся внизу дверцей, которая утром обычно бывала открыта и через которую можно было пройти прямо в поля широкой сухой дорогой, что позволяло уйти вдаль незаметнее, чем через главный выход замка. Я полагал, что не помешаю обитательницам примыкающих к коридору комнат, потому что каменный пол этого коридора был во всю его длину застелен мягким ковром, приглушавшим шаги. Кроме того, солнце поднялось уже так высоко, что можно было предполагать, что все в замке давно на ногах.
В конце коридора, приближаясь к лестнице, я увидел открытой одну из дверей, которая, как я полагал, вела в комнаты женщин. Потому ли она была открыта, что собирались выйти, или потому, что в нее сейчас вошли? Или открытой ее оставила в спешке служанка, или на то была какая-то другая причина? Я помедлил, прежде чем пройти мимо этой двери. Но зная, что она ведет только в переднюю, и будучи уже так близко от лестницы, которая вывела бы меня из дому, я решился пройти мимо, ускорив шаг. Я последовал дальше, еще осторожнее ступая на мягкий ковер. Дойдя до двери, я заглянул внутрь. Мое предположение подтвердилось, дверь вела в переднюю. Она была маленькая и обставлена самой простой мебелью. Но заглянуть я смог не только в переднюю, но и в следующую комнату, соединявшуюся с ней большой стеклянной дверью, к тому же еще полуоткрытой. А в этой комнате стояла Наталия. За нею у стены высились благородные средневековые шкафы. Она стояла почти в середине комнаты у стола, на котором лежали две цитры и с которого ниспадала старинная узорная скатерть. Наталия была полностью одета для выхода, не хватало только шляпы на голове. Ее красивые волосы были собраны на затылке и скреплены лентой или чем-то подобным. Платье было закрытое и застегивалось без каких-либо дополнительных украшений. Снова из светло-серой шелковой материи, но с очень тонкими ярко-красными полосками, оно обтягивало бедра, а дальше спускалось к ногам пышными складками. Рукава были узкие, доходили до запястий, и на них, как и выше локтей, чередовались поперечные полосы, замыкавшиеся, словно браслеты. Наталия стояла совершенно прямо, даже немного откинувшись. Левая ее рука была вытянута и опиралась ладонью на вертикально стоявшую на столике книгу. Правая рука легко лежала на левом предплечье. Ее несказанно прекрасное лицо пребывало в покое, как если бы глаза, прикрытые сейчас веками, были опущены и она о чем-то задумалась. В чертах ее была такая чистая, такая тонкая одухотворенность, какой я и в ней — а уж в ней-то всегда являла себя глубокая душа — прежде не видел. Я понял, что выражала ее фигура, я как бы слышал ее мысленный возглас: «Свершилось!» Она не слышала моих шагов, потому что пол коридора покрывал ковер, и не видела меня, потому что лицо ее было обращено к югу. Я недолго наблюдал ее задумчивость и, тихо пройдя мимо, спустился вниз. Меня, словно море, охватило блаженство, когда я увидел, что Наталия окрылена тем же чувством, что я, чувством, что нужно объять умом это нежданное счастье, понять этот дар судьбы, уразуметь, какой новый, неизмеримо важный поворот сделала жизнь. Мне не верилось, что существо, в котором воплощалось самое прекрасное из всего, что я знал, существо, которое можно было назвать и гордым, ибо до сих пор оно отворачивалось от всякого сближения, что это существо погрузилось в такую задумчивость из-за меня. Я подумал, что, пока жив, проживи я хоть до предельного возраста или дольше того, буду любить ее, живую ли, мертвую ли, каждой каплею своей крови, всем своим сердцем, и всегда, во все времена, буду беречь ее в глубинах своей души. Самым сладостным показалось мне ощущение способности любить ее не только в этой жизни, но и в тысячах жизней после тысяч смертей. Сколько всего я видел на свете, сколько получал радостей, сколько вещей находил приятными — и все это теперь — ничто, а высшее счастье — это возможность назвать чистую, глубокую, прекрасную человеческую душу совсем-совсем своей.
Пройдя через дверцу, оказавшуюся незапертой, я пошел по дороге, проходящей с этой стороны мимо замка и ведущей в поля. Она широка, засыпана мелким песком и потому, благодаря своей сухости, особенно хороша для утренних моционов. Проложена она прежним владельцем замка, и Матильда улучшила ее. От калитки она идет в обе стороны, на север и на юг, образуя таким образом касательную линию к замку. Роланд в шутку всегда и называл ее касательной. Фруктовые деревья, густо теперь окаймляющие ее, Матильда большей частью пересадила сюда уже взрослыми. Прежде вся эта дорога представляла собой аллею из тополей. Но поскольку шла она совершенно прямо и была обсажена совершенно прямыми деревьями, ее нашли очень некрасивой и неподходящей для приятных прогулок. Посоветовавшись со своими друзьями, Матильда постепенно убрала тополя, очень к тому же вредные для полей. Они были срублены, а корни их выкорчеваны. При замене их фруктовыми деревьями умышленно не сажали последних во всех тех местах, где стояли тополя, чтобы из тополиной аллеи не получилась опять аллея плодовых деревьев, что было бы, правда, не так некрасиво, как было раньше, но все-таки не очень красиво. Благодаря этим пробелам в посадке дорога, прямизну которой совсем устранить было бы трудно, да и менять без какого-то нового общего замысла не следовало — слишком она была своеобычна, — приобрела нужное разнообразие. На север от замка она идет через луга и поля мимо кустов, затем поднимается к лесу и в него проникает. На юг она идет через поля, там она окаймлена особенно красивыми яблонями и, плавно поднимаясь на горбик пашни, открывает оттуда прекрасный вид на горы.
Я пошел на юг, как то вообще люблю делать в начале прогулки, чтобы удобнее было глядеть вперед, где все освещено, и любоваться блеском и оттенками облаков. Небо, как и вчера, было совершенно ясно, солнце, светя с востока, слизывало капли, висевшие на травинках и на листьях деревьев. Утренняя свежесть еще не исчезла, хотя солнце делалось все ощутимее. Я смотрел на мир новыми глазами, казалось, все вокруг помолодело и нужно постепенно привыкнуть к новому виду вещей. Я поднялся на холмик и взглянул на длинную гряду гор. На меня взирали их синие острия и направляли свой тонкий блеск десятки снежных полей. Видел я и вершины гребня, где работал в последний раз. Мне казалось, что прошло много лет с тех пор, как я был в тех снежных котловинах и ледяных полях. Я стоял и отдавался ласковому воздуху, блеску солнца, сиянию мира. Обычно, отправляясь бродить по окрестностям, я совал в карман какую-нибудь книгу, а сегодня я этого не сделал. У меня не было теперь никакой охоты читать. Вскоре я снова зашагал мимо деревьев, на которых уже висели, на каждом своего сорта, яблоки, уже принимавшие свойственную им окраску. Я дошел по взгорью пашни до начала легкого спуска, после которого дорога кончается в долине на границе чужого поместья или, вернее, переходит в другую дорогу, обладающую свойствами всех бесчисленных пешеходных дорог нашей страны, благоустраивать, улучшать или украшать каковые никто не думает. Спускаться, однако, я не стал, потому что не хотел идти к долине, где обзор ограничен.
Я обернулся и увидел перед собой замок, который приобрел для меня теперь такое значение. Окна его блестели на солнце, южная его стена, очищенная от краски, мягко серела, темная крыша выделялась на синем небе севера, из нескольких ее труб поднимался дымок.
Я медленно пошел краем поля мимо фруктовых деревьев назад и дошел до места, где дорога плавно спускается к замку.
Здесь я увидел, что навстречу мне движется какая-то фигура, которую прежде, вероятно, закрывали от меня вершины деревьев. Это оказалась Наталия. Увидев друг друга, мы оба пошли быстрее, чтобы встретиться раньше. Когда мы сошлись, она приветливо взглянула на меня своими большими темными глазами и протянула мне руку. Я горячо пожал ее и приветствовал Наталию от всей души.
— Замечательно, — сказала она, — что мы одновременно идем дорогой, которой я сегодня один раз уже хотела пойти, а сейчас и в самом деле иду.
— Как вы провели ночь, Наталия? — спросил я.
— Я очень долго не засыпала, — отвечала она, — но потом все-таки сон пришел, очень легкий, мимолетный. Я вскоре проснулась и встала. Утром я хотела выйти на эту дорогу и пройти по ней через горку, но на мне было платье, которое не годилось для прогулок вне дома. Мне пришлось переодеваться, и теперь я вышла, чтобы насладиться утренним воздухом.
Я действительно заметил, что на ней было уже не светло-серое платье с тонкими темно-красными полосками, а более простое и более короткое тускло-коричневое. То платье, конечно, не годилось для утренней прогулки, потому что ниспадало пышными складками почти до земли. На голове у нее была теперь легкая соломенная шляпа, которую она всегда носила, бродя в полях. Я спросил, полагает ли она, что до завтрака у нее хватит времени пройти за горку и вернуться в замок.
— Времени наверное хватит, — отвечала она, — иначе бы я не пошла, потому что не хочу нарушать заведенный порядок.
— В таком случае позвольте мне проводить вас, — сказал я.
— Мне это будет очень приятно, — ответила она.
Я пошел рядом с ней, назад по дороге, по которой пришел. Мне очень хотелось предложить ей руку, но я не отваживался. Мы медленно пошли по песчаной дорожке, минуя, один за другим, стволы и тени, которые отбрасывали на дорогу деревья, и блики солнца, падавшие на нее между ними, оставались у нас за спиной. Сначала мы ничего не говорили, но затем Наталия спросила:
— А вы провели ночь спокойно, благополучно?
— Спал я очень мало, но мне это не было неприятно, — отвечал я. — Окна моего жилища, которое так любезно отвела мне ваша матушка, выходят на открытое место, большая часть звездного неба была мне видна. Я очень долго наблюдал звезды. Утром я рано встал и, полагая, что никому в доме не помешаю, вышел наружу, чтобы насладиться этим ласковым воздухом.
— Ни с чем не сравнимая услада — дышать чистым воздухом благодатного лета, — заметила она.
— Это самая возвышающая пища, какую даровало нам небо, — отвечал я. — Я ощущаю это, когда стою на какой-нибудь высокой горе, а кругом — воздушный простор, как необъятное море. Но сладостен не только воздух лета, сладостен и воздух зимы, сладостен всякий воздух, если он чист и в нем нет частиц, противных нашему естеству.
— В тихие зимние дни я часто хожу с матерью как раз по этой дороге, по которой мы сейчас идем. Она широка и хорошо раскатана, потому что жители Ольховой долины и окрестных домов зимой сворачивают со своего проходящего ниже тракта на поля и тогда раскатывают нашу прогулочную дорогу на всем ее протяжении. Тут бывает довольно красиво, когда на ветвях деревьев лежит снег или когда их стволы и ветки покрыты тонкой сеткой инея. Часто кажется даже, что воздух наполнен инеем. Тогда все окутано какой-то пленкой и ближайшие предметы видны как бы сквозь дымку. А другой раз небо так ясно, что все различаешь очень отчетливо. Оно синеет над равниной, которая сияет на солнце, а если подняться на самую высокую точку в полях, то видна вся гряда гор. Зимою здесь очень тихо, потому что люди стараются как можно больше сидеть дома, потому что певчие птицы улетели, потому что звери ушли в глубь лесов и потому что не слышно даже ни стука копыт, ни шума колес, и только однозвучный звон колокольчика, который здесь надевают на лошадей, говорит, что в этой зимней тишине кто-то куда-то едет. Мы идем по чистой дороге, мать направляет разговор на разные предметы, и цель нашего похода обычно — то место, где дорога начинает спускаться в долину. В городе у вас нет таких прекрасных зимних прогулок, какие нам дарует деревня.
— Да, Наталия, их у нас нет. От зимы как таковой нам достается только холод, ведь и снег из города убирают, — отвечал я, — и не только зимой, летом тоже у города нет ничего, что могло бы хоть отдаленно сравниться со свободою и простором открытой местности. В городе есть радение об искусстве и науке, бурная светская жизнь и управление человеческим родом, и этого-то в городе ищут. Но часть наук и искусств можно пестовать и в деревне, а можно ли передать деревне и большие, чем в настоящее время, области общего руководства людьми, я не знаю, поскольку слишком мало в этом осведомлен. Я давно уже ношусь с мыслью отправиться в горы как-нибудь зимой и провести там некоторое время, чтобы приобрести опыт. Очень любопытно и заманчиво то, что сообщают нам книги, написанные людьми, которые посещали зимой высокогорные области и даже взбирались на вершины крупнейших гор.
— Если это не опасно для здоровья и жизни, вам следует это сделать, — отвечала она. — Такова, видно, привилегия мужчин — отваживаться на большое и этого добиваться. Побывав зимой в больших городах и поглядев там на жизнь разных людей, мы возвращались в Штерненхоф с удовольствием. Мы здесь подолгу наслаждались всеми временами года и знаем все их перемены на вольном воздухе. Мы связаны с друзьями, чье общество нас облагораживает, возвышает, и мы совершаем небольшие поездки к ним. Мы взяли в свою уединенность некоторые плоды искусства, а в какой-то мере, насколько это подобает женщинам, и науки.
— Штерненхоф — благородное и достопочтенное место, — отвечал я, — он собрал прекрасную часть человеческого и не должен принимать то, что в людях отталкивает. Но понадобилось и совпадение множества обстоятельств, чтобы получилось то, что получилось.
— Мать тоже так говорит, — согласилась она, — и говорит, что должна быть очень благодарна Провидению за то, что оно так поддерживало и направляло ее усилия, ибо иначе мало что вышло бы.
За этим разговором мы постепенно достигли высшей точки дороги. Дальше она шла вниз. Мы на минутку остановились.
— Скажите мне, — начала Наталия снова, — где же находится этот кар, на котором вы пробыли часть лета? Отсюда его, наверное, можно увидеть.
— Разумеется, можно, — отвечал я, — он находится почти на крайнем западе той части гряды, которая отсюда видна. Если вы от тех снежных полей, которые находятся правее той синеватой вершины, что видна как раз над дубом на границе вашего пшеничного поля, — они похожи на два одинаковых треугольника, направленных остриями вверх, — возьмете еще правое, то увидите в сером сумраке гор светлые, почти горизонтальные полосы, это и есть ледяные поля кара.
— Вижу их очень ясно, — сказала она, — вижу и зубцы, торчащие надо льдом. И на этом-то льду вы были?
— На его границах со всех сторон, — ответил я, — и на нем самом.
— Оттуда, наверное, вам отчетливо были видны здешние места, — сказала она.
— Горы кара, которые нам отсюда видны, — возразил я, — так громадны, что мы можем различить и отдельные их части. Но участки здешней местности так малы, что ее членения оттуда не видно. Окрестность кажется сверху просто плоскостью, подернутой дымкой. С помощью подзорной трубы я мог отыскать отдельные знакомые места, и я выискивал очертания холмов и лесов Штерненхофа.
— Назовите же мне какие-нибудь зубцы, которые отсюда видны.
— Самый высокий, который вы видите надо льдом, — это Каргратшпитце, — отвечал я, — правее Гломшпитце, затем Этерн и Крумхорн. Левее только два — Ашкогель и Зента.
— Вижу их, — сказала она, — вижу.
— Дальше к склонам гор спускаются зубцы поменьше, они никак не названы, и их отсюда не видно.
Постояв еще некоторое время, посмотрев на горы и поговорив, мы повернулись и пошли к замку.
— Странно все-таки, — сказала Наталия, — что в этих горах нет белого мрамора, хотя в них так много сортов цветного.
— Вы несправедливы к нашим горам, — отвечал я, — в них есть залежи белого мрамора, откуда его и вырубают для всякой надобности, и в их разветвлениях таится, возможно, благороднейший и чистейший белый мрамор.
— Хотелось бы мне заказать вещи из подобного мрамора, — сказала она.
— Вы можете так поступить, — ответил я, — нет материала более для этого подходящего.
— Но мне по силам было бы заказать лишь небольшие вещицы, украшения и тому подобное, — сказала она, — если бы мне удалось раздобыть подходящие обломки и если бы мои друзья помогли мне советом.
— Вы можете их раздобыть, — отвечал я, — и я мог бы помочь вам в этом, если хотите.
— Мне это будет очень приятно, — сказала она, — в доме нашего друга есть изделия из цветного мрамора, да и вы заказали славные вещи из этого мрамора для ваших родителей.
— Да, я всегда стараюсь заполучить хорошие обломки, чтобы при случае использовать их для поделок, — ответил я.
— Мое пристрастие к белому мрамору, — сказала она, — идет от богатых, прекрасных, великолепных изделий из него, которые я видела в Италии. Особенно незабываемы для меня Флоренция и Рим. Эти произведения вызывают у нас восторг, и все-таки, помнила я всегда, они задуманы и сотворены человеком. Во время ваших походов вам тоже, наверное, встречались предметы, глубоко трогающие душу.
— Творения искусства привлекают к себе взгляд, и по праву, — отвечал я, — они вселяют в нас восторг и любовь. Естественные вещи сотворены другою рукой, и если смотреть на них правильно, они тоже вызывают величайшее изумление.
— Так я всегда и чувствовала, — сказала она.
— На своем жизненном пути я много лет созерцал творения природы, — отвечал я, — и в меру своих возможностей знакомился с творениями искусства. Душу мою восхищали и те и другие.
За этими разговорами мы постепенно приближались к замку, и вот подошли к дверце.
Остановившись возле нее, Наталия сказала:
— Я вчера долго говорила с матерью. С ее стороны нет возражений против нашего союза.
Ее тонкие черты покрыл легкий румянец, когда она произнесла эти слова. Она хотела тотчас проскользнуть в дверцу, но я задержал ее и сказал:
— Фрейлейн, я поступил бы неверно, если бы что-нибудь от вас утаил. Я вас уже один раз видел сегодня, до того как мы встретились. Когда я утром проходил по коридору мимо ваших комнат, двери в переднюю и в одну из комнат были открыты, и я увидел, как вы там стояли у покрытого старинной скатертью столика, опершись ладонью на книгу.
— Я думала о своей новой доле, — сказала она.
— Я знал это, — отвечал я, — и пусть силы небесные сделают ее счастливой, как того хотят ваши доброжелатели.
Я протянул ей обе ладони, она приняла их, и мы пожали друг другу руки.
Затем она прошла в дверцу и поднялась по лестнице.
Я немного подождал.
Когда она прошла наверх и затворила за собой дверь, я тоже поднялся по лестнице.
Все в это утро сияло в Наталии, казалось мне, сильнее, чем когда-либо прежде, и я вернулся в свою комнату в душевном подъеме.
Там я переоделся, насколько то требовалось, чтобы устранить следы утренней прогулки и принять пристойный вид, и, поскольку уже приближался час завтрака, прошел в столовую.
Я оказался там один. Стол был уже накрыт, и все было готово для трапезы. Через некоторое время в столовую вошли вместе Матильда и Наталия. Наталия переоделась, на ней было теперь более нарядное платье, чем во время нашей прогулки, потому что она, как и Матильда, всегда в честь гостей принаряжалась к столу. По обыкновению спокойно и весело, но, пожалуй, еще приветливее, чем обычно, Матильда поздоровалась со мной и указала мне место. Мы сели. Мы завтракали, как к тому привыкли за много дней. На столе находились те же предметы, и все происходило так же, как всегда. Хотя в комнату входила только одна служанка, а в промежутках мы были одни и Матильда, по своему обыкновению, сама совершала за столом необходимые при таком завтраке действия, речь об особых наших обстоятельствах все же не заходила. Содержание разговора составляли обычные темы, какие всегда можно найти в обычные дни. Говорили об искусстве, о прекрасной погоде этого времени года, о пребывании в Асперхофе в пору цветения роз. Затем мы встали и разошлись.
И весь день об отношениях, в которые я вступил с Наталией, так и не заговаривали. До полудня мы были еще вместе в саду. Матильда показала мне кое-какие изменения, ею произведенные. Некоторые живые изгороди, слишком вытянутые в линейку, еще оставшиеся в дальней части сада, были устранены и заменены более легкими и приятными насаждениями. Были разбиты грядки для цветов, и многие растения, которых недавно еще не знали, очень любимые моим гостеприимцем и порой необычайно красивые, были собраны в одну группу. Матильда сообщала их названия, Наталия внимательно слушала. Во второй половине дня совершили прогулку. Сначала посетили рабочих, снимавших краску с каменной облицовки дома, и некоторое время понаблюдали за их усилиями. Матильда задавала всяческие вопросы и вдавалась в связанные с этим делом подробности. Затем мы описали большую дугу, обойдя горки, господствующие над частью долины, где находился замок. Мы прошли опушкой леска, с которой видны были замок, сад и службы, и наконец северным рукавом той дороги, по южной части которой я утром гулял с Наталией, вернулись в замок.
К вечеру прикатила коляска с путешественниками. Мой гостеприимец вышел первым, за ним, почти разом, остальные, более молодые люди. Меня все приветствовали и побранили за то, что я приехал так поздно. Затем мы немного поговорили в общей гостиной, прежде чем разошлись по отведенным каждому комнатам.
Мой гостеприимец спросил меня, где я обосновался в этом году и какие части гор исходил. Я ответил, что уже говорил ему в общих чертах о своем намерении пройти к леднику и что станом своим избрал Карграт, деревушку с тем же названием, какое носит и этот горный массив. Оттуда я и ходил в походы. Я назвал ему отдельные направления, потому что он очень хорошо знал расположение ледяных полей. Ойстах говорил о прекрасных картинах природы тех мест, что они посетили. Роланд сказал, чтобы я как-нибудь посмотрел Кламскую церковь, где они побывали. Ойстах покажет мне свою зарисовку, чтобы дать мне хотя бы какое-то представление о ней. Густав просто приветствовал меня с приязнью и любовью, как то всегда делал. Когда мой гостеприимец невзначай спросил, надолго ли я останусь в обществе моих друзей, я ответил, что мне, может быть, очень скоро придется уехать из-за одного важного дела.
После этого общего разговора приехавшие отправились в свои комнаты, чтобы удалить следы путешествия, снять пыльную одежду, вообще освежиться, разложить привезенные вещи. Увиделись мы только за ужином. Он прошел так же весело и приятно, как всегда. На следующее утро мой гостеприимец вышел после завтрака с Матильдой прогуляться в саду, затем пришел ко мне в комнату и сказал:
— Вы правы, и это очень хорошо с вашей стороны, что вы хотите сообщить своим родителям и родным то, что так приятно вашим здешним друзьям.
Я ничего не ответил, покраснел и очень почтительно поклонился. Утром же я объявил, что мне нужно как можно скорее уехать. Мне дали лошадей до ближайшей почты, и, уложив свой небольшой багаж, я решил еще до полудня отправиться в путь. С этим согласились. Я попрощался. Ясные, веселые глаза моего гостеприимца провожали меня, когда я уходил от него. Матильда была мягко-благосклонна, Наталия стояла в углублении окна, я подошел к ней и тихо сказал:
— Прощайте, милая, милая Наталия.
— Милый, дорогой друг, прощайте, — ответила она так же тихо, и мы подали друг другу руки.
Через мгновение я простился и с остальными, которые, зная, что я уезжаю, собрались в общей гостиной. Я пожал руки Ойстаху и Роланду и расцеловался с Густавом: эта более теплая форма приветствия и прощания вошла у нас с ним в привычку уже довольно давно, и сегодня она оказалась для меня особенно важной.
Затем я сошел с лестницы и сел в коляску.
Лошади Матильды доставили меня на ближайшую почту. Оттуда я отправил их назад и поехал в сторону Карграта на других. Я не давал себе передышки. Прибыв на место, я объявил своим людям, что возникшие обстоятельства не позволяют продолжать нынешние работы. Я уволил их, вручив им, однако, такое вознаграждение, какое они получили бы, если бы служили мне весь условленный срок. Они были этим довольны. Егерь, научивший меня игре на цитре, уехал еще до моего приезда. Куда он направился, никто не имел понятия. Важнейшим для меня делом на моем рабочем месте было уладить отношения с рабочими. Перед своим отъездом в Асперхоф я сказал, что скоро вернусь, дал им задание на время моего отсутствия и посулил новую работу после моего возвращения. Теперь пришлось это изменить. Затем я оставил в Карграте свои вещи в надежном месте и тотчас уехал снова. Я не отпускал лошадей, взятых в Карграт в последнем большом селении, и уехал теперь на них. На первой же станции я потребовал особых для себя, почтовых, и направился к родителям.
Мое неожиданное прибытие вызвало чуть ли не удивление. Все произошло так стремительно, что письмо, которым я извещал родителей о своем скором приезде, не могло, вероятно, прийти к ним раньше, чем я сам. Поэтому они не понимали, почему я без предварительного оповещения приехал летом, а не, как предполагалось, осенью. В ответ на их вопрос я сказал, что есть причина для моего неожиданного возвращения и причина отнюдь не неприятная, что выехал я так поспешно от нетерпения и не мог известить о своем приезде заранее. Они успокоились и, по своему обыкновению, не стали выспрашивать у меня мою причину.
На следующее утро, прежде чем отец отправился в город, я пошел к нему в библиотеку и сказал ему, что давно уже питаю симпатию к Наталии, дочери приятельницы моего гостеприимца, что я скрывал это влечение и намеревался, если оно будет безнадежно, подавить его, никому не проронив об этом ни слова. Но вот оказалось, что и Наталия не считала меня недостойным своего участия, я ничего об этом не знал, пока случай — мы говорили о других, очень далеких вещах — не обнаружил нашего обоим неведомого взаиморасположения. И мы заключили договор, что будем хранить до конца своих дней и никому больше не подарим это влечение. Наталия пожелала, и я всей душой с нею согласен, сообщить о случившемся нашим близким, чтобы радоваться своему счастью с их изволения или, если одна из сторон откажет нам в нем, по-прежнему беречь эту привязанность, но личное друг с другом общение прекратить. Поскольку у близких Наталии нет возражений, я приехал сказать об этом родителям, говорю сначала ему, а позже сообщу матери.
— Сын мой, — отвечал он, — ты совершеннолетний, ты вправе заключать договоры и заключил сейчас очень важный. Хорошо зная тебя и узнав тебя с некоторых пор значительно лучше, я не сомневаюсь, что ты выбрал предмет, который, хотя и ему, разумеется, как всем людям, свойственны недостатки, обладает высокими достоинствами. Вероятно, он обладает ими в большей мере, чем большинство нынешних людей. В этом мнении утверждают меня и еще некоторые обстоятельства. Ваше влечение возникло не вдруг, а исподволь, ты хотел преодолеть это чувство, ты ничего не говорил, ты мало рассказывал нам о Наталии, стало быть, не какое-то опрометчивое, порывистое желание движет тобою, а основанное на уважении влечение. С Наталией дело обстоит, вероятно, так же, потому что, как ты сказал, ответное влечение было у нее еще до того, как ты услышал о нем. Далее, у твоего гостеприимца твое развитие так продвинулось, ты узнал от него столько замечательных мелочей, что он, видимо, отличается большой добротой и образованностью, которые распространяются на его окружение. У меня возражений нет.
Хотя я полагал, что отец не станет чинить препятствий заключенному мною союзу, во время этого разговора я был в стеснении и напряжении, и вид отца тоже выдавал глубокую его взволнованность. Теперь, когда он все сказал, сердце мое наполнилось радостью, которая, должно быть, и выразилась в моих глазах и у меня на лице. Отец ласково посмотрел на меня и сказал:
— С матерью тебе будет не так легко говорить об этом предмете, я заменю тебя и расскажу ей о заключенном тобою союзе, чтобы избавить тебя от долгих речей. Пусть пройдет утро, после обеда я приглашу мать в эту комнату, а потом и Клотильда узнает при случае о твоем шаге.
Мы покинули библиотеку. Отец, как каждое утро, стал собираться в город, в свою контору. Собравшись, он попрощался с матерью и ушел. Предполуденные часы протекали так, как обычно проходит время после моего приезда. Не спросив меня о причине моего неожиданного возвращения, мать и Клотильда занялись своими делами. Когда прошел обед, отец отвел мать в библиотеку и пробыл там с нею некоторое время. Когда он вышел оттуда ко мне и Клотильде, мать ласково посмотрела на меня, но ничего не сказала.
Они снова сели к нам, и мы еще немного посидели за столом.
Поднявшись, мы пошли в сад, которого я уже долгие годы летом не видел. Разбросанные там и сям розы не были похожи на розы моего гостеприимца, но штерненхофским не уступали. Сад, который всегда был мне в детстве так мил и приятен, показался мне сейчас маленьким и неказистым, хотя его цветы, как раз в это время еще цветшие, его фруктовые деревья, его овощи, виноградные лозы и персиковые решетки были отнюдь не худшими в городе. Видна была только разница между городским садом и садом в богатом поместье. Мне показали все, что считали важным, и обратили мое внимание на все изменения. Все радовались, что я хоть раз появился здесь в начале жаркого времени года, ведь обычно я приезжал лишь к холодам, когда падали листья и сад терял свой убор. Под вечер отец снова ушел в город. Мы остались в саду. В минуту, когда сестра была занята подвязыванием лозы, а я наедине с матерью стоял у мраморного фонтана с вороньим глазом, где струилась дивная, светлая вода, мать сказала:
— Желаю, чтобы счастье и благословение неба сопровождали тебя на том очень важном пути, на который ты встал, сын мой. Хотя ты выбирал и осмотрительно, хотя все условия для удачи и налицо, шаг этот остается серьезным и важным. Еще предстоит сойтись и сжиться друг с другом.
— Дай нам Бог, чтобы было так, как мы того осмеливаемся ожидать, — отвечал я, — я и не хотел составлять себе счастье, не спросив родителей и без того, чтобы их желание совпадало с моим. Сначала нужно было увериться во взаимности влечений. Когда это выяснилось, следовало узнать мнение близких и испросить у них разрешения, и потому-то я здесь.
— Отец говорит, — ответила она, — что все идет правильно, что дорога выровняется и что те вещи, которые в каждом союзе, а значит, и в этом поначалу не ладятся, сгладятся в данном случае скорее, чем во всяком другом. Но даже если бы он этого не сказал, я все равно знала бы это. Ты находился среди превосходных людей, но ты и так не сделал бы недостойного выбора, а если ты сделал выбор, значит, твоя душа добра и вскоре сольется с сердцем женщины, а твоя жизнь станет и ее жизнью. Не всем, не многим союзам этого рода суждено счастье. Я знаю большую часть города, да и достаточно насмотрелась на жизнь. Ты видел, в сущности, только наш брак. Пусть же и твой будет таким же счастливым, как мой с твоим достопочтенным отцом.
Я не ответил, мои глаза увлажнились.
— Клотильде будет теперь одиноко, — продолжала мать, — у нее нет других привязанностей, кроме нашего дома, кроме отца, матери и тебя.
— Матушка, — отвечал я, — когда ты увидишь Наталию, когда узнаешь, как она проста и справедлива, как устремлены ее помыслы к предметам возвышенным и значительным, как она естественна со всеми нами и насколько она лучше, чем я, ты будешь говорить уже не об одиночестве, а о союзе: у Клотильды станет одной привязанностью больше, чем теперь, и у тебя с отцом тоже. Но и Матильда, мой гостеприимец и весь круг этих людей тоже сблизятся с вами, и вы сблизитесь с ними, и то, что до сих пор было разделено, соединится.
— Я так это и представляла себе, сын мой, — ответила мать, — и думаю, что так оно и будет, но Клотильде придется изменить характер своей привязанности к тебе, и пусть бы все это прошло безболезненно.
К концу этих слов появилась и Клотильда. Она принесла мне розу и весело сказала, что дарит мне ее только затем, чтобы хоть как-то заменить все те розы, которых я не увижу в этом году в Асперхофе из-за своей поездки домой.
Только при этих словах я заметил, что в отцовском саду розы цвели, а в расположенном выше и открытом более резкому воздуху Асперхофе уже увяли. Я сказал об этом. Причину установили быстро. Асперхофские розы были весь день на солнце, да и уход за ними, и почва были там, наверное, лучше, а здесь, отчасти из-за деревьев, которые при недостатке места пришлось посадить теснее, отчасти из-за стен ближайших и более отдаленных домов, было много тени.
Я взял эту розу и сказал, что Клотильда сослужила бы моему гостеприимцу дурную службу, если бы сорвала розу в его саду.
— Там бы я на это не осмелилась, — отвечала она. Мы постояли у мраморного фонтана. Клотильда показала мне, что сделали по указанию отца весной, чтобы улучшить сток воды и украсить фонтан. Я увидел, как прекрасно и целесообразно он все устроил и сколь многому я могу у него поучиться. Я заранее порадовался недалекому уже времени, когда отец встретится с моим гостеприимцем.
Когда мы уходили от фонтана, Клотильда отвела меня к площадке, откуда открывался вид на окрестности и которую решили снабдить парапетом. Парапет был частично готов. Каменная его кладка была покрыта привезенными мною плитами, а по бокам облицована мрамором, который добыл отец. Мои карнизы и консоли тоже пошли в дело. Но я видел, что мрамора нужно еще много, и обещал, что постараюсь, чтобы весь парапет был облицован однородными плитами.
— Видишь, мы и вдалеке думаем о тебе и хотим сделать тебе что-то приятное, — сказала Клотильда.
— Я никогда в этом не сомневался, — отвечал я, — и тоже думаю о вас, как то доказывают мои письма.
— Остался бы ты здесь как-нибудь на все лето, — сказала она.
— Кто знает, что будет, — ответил я.
Когда стало смеркаться, из города вернулся отец, и мы сели ужинать в оружейном домике. Поскольку дни стояли очень долгие и полная темнота наступала довольно поздно, в домике со стеклянными стенками мы не сидели при уютном свете лампы так долго, как осенью, когда я возвращался к своим после летних работ. К тому же в этот теплый вечер многие из окошек были отворены, на сквозняке шелестел плющ, и пламя в лампе неприятно мигало. Мы разошлись и отправились на покой.
На следующий день, ранним утром, Клотильда пришла ко мне. Когда я на ее стук открыл дверь и она вошла, по лицу ее было видно, что мать говорила с ней о моих делах. Она посмотрела на меня, подошла ко мне, бросилась мне на шею и залилась слезами. Я дал ей поплакать, а потом ласково спросил:
— Клотильда, что с тобой?
— Мне хорошо и больно, — ответила она, и я отвел ее к дивану, на который опустился с ней рядом.
— Ты, стало быть, все знаешь?
— Все знаю. Почему ты не сказал это мне раньше?
— Я же должен был прежде поговорить с родителями, а кроме того, Клотильда, как раз перед тобой у меня было меньше всего храбрости.
— А почему ты ничего не говорил в прошлые годы?
— Потому что нечего было говорить. Только теперь у нас произошло объяснение, и я поспешил сюда открыться своим родным. Когда это чувство принадлежало только мне и будущее было неведомо, я не мог говорить, потому что мне казалось, что это не по-мужски, и потому что чувствам, от которых, может быть, вскоре придется совсем отказаться, нельзя давать волю словами.
— Я всегда об этом догадывалась, — сказала Клотильда, — и всегда желала тебе высшего счастья. Наверное, она очень добра, очень мила, очень верна. Хочу лишь одного — чтобы она любила тебя так же, как я.
— Клотильда, — отвечал я, — ты увидишь ее, познакомишься с ней, полюбишь ее. И если она любит меня любовью не сестринской, не врожденной, то любит другой любовью, которая тоже будет умножать мое счастье, твое счастье, счастье наших родителей.
— Когда ты о ней рассказывал, хотя ты говорил мало, и именно оттого, что ты говорил мало, — продолжала Клотильда, — я часто думала, что тут могла бы возникнуть близость, что очень желательно, чтобы ты завоевал ее симпатию, что из этого мог бы выйти лучший союз, чем через соединение с какой-либо девушкой из нашего города или какой-то другой.
— И так оно и вышло.
— Почему ты не писал ее портретов? — спросила Клотильда.
— Потому что просить ее об этом мне было так же трудно или еще труднее, чем тебя, или мать, или отца. Я не решался на это, — отвечал я.
— Будь же доволен и счастлив до глубокой старости и никогда ни в самой малой степени не жалей о том, что сделал этот шаг, — сказала она.
— Думаю, что не пожалею, и от души благодарю тебя, моя дорогая, моя любимая Клотильда, за твои пожелания, — ответил я.
Вытерев слезы платком, она как бы собралась с мыслями и ласково посмотрела на меня.
— Кто теперь будет со мной рисовать, читать испанские книги, играть на цитре, кому расскажу все, что у меня на душе? — сказала она через несколько мгновений.
— Мне. Клотильда, — отвечал я. — Всем, чем я был прежде, я и останусь. Читать, рисовать, играть на цитре ты будешь с Наталией. И доверяться ты будешь ей, и устраивать вместе с нею все, что до сих нор устраивала вместе со мной. Как только ты познакомишься с нею, ты поймешь, что я сказал правду.
— Очень хочу поскорее увидеть ее, — сказала Клотильда.
— Ты увидишь ее скоро, — отвечал я, — теперь завяжется связь нашей семьи с людьми, у которых я так часто бывал. Я и сам хочу, чтобы ты увидела ее как можно скорее.
— Но до того ты должен побольше рассказать мне о ней и, если возможно, привезти ее портрет, — сказала Клотильда.
— Расскажу, — отвечал я, — теперь, когда все сказано, мне будет очень приятно дать волю словам, с тобою мне будет легче говорить об этом союзе, чем с нею самой. Смогу ли я привезти или прислать тебе ее портрет, не знаю. При возможности я это сделаю. Но возможно это только в том случае, если ее портрет существует и мне дадут его или рисунок с него. Тогда пусть он останется у тебя до тех пор, пока ты не встретишься с нею самой и мы не начнем жить в дружеском союзе. Но наконец, Клотильда…
— Наконец?
— Наконец придет ведь и время, когда ты уйдешь от нас, не душою, но частью твоих привязанностей, то есть когда и ты заключишь некий важный союз.
— Никогда, никогда я не сделаю этого, — воскликнула она с жаром, — я злилась бы на него, на того, кто увел бы мою душу отсюда. Я люблю только отца, мать и тебя. Я люблю этот тихий дом и всех, кто по праву бывает в нем, я люблю то, что он содержит в себе, обстановку, которая постепенно в нем складывается, я буду любить Наталию и ее близких, но никогда не полюблю чужого человека, который захочет отнять меня от вас.
— Но он отнимет тебя от нас, Клотильда, — сказал я, — и все-таки ты останешься здесь, он будет вправе бывать здесь, он будет той обстановкой, которая постепенно складывается в доме, и, может быть, тебе не придется покидать отца с матерью, но наверняка никто не принудит тебя меньше любить их или меня.
— Нет, нет, не говори мне об этих вещах, — возразила она, — это мучит меня и омрачает мне душу, которую я с полным участием несла к тебе в этот утренний час.
— Ну, так не будем больше говорить об этом, Клотильда, — сказал я, — успокойся и оставайся со мной.
— Я и остаюсь, — ответила она, — давай поговорим дружески. — Она смахнула с глаз последний след слез, села рядом со мною еще прямее, и мы заговорили. Она снова расспрашивала меня о Наталии, как та выглядит, что делает, как относится к своей матери, к своему брату и моему гостеприимцу. Я рассказал, как впервые увидел Наталию, как бывал в Штерненхофе, как она приезжала в Асперхоф, когда в мою душу закралось какое-то смутное чувство, как оно там росло, как я боролся с ним, что происходило потом и как вышло, что мы нашли наконец слова, которые нам нужно было друг другу сказать.
Рассказывал я охотно, рассказывать становилось все легче, и чем больше выливалось у меня слов, тем сладостнее становилось у меня на сердце. Никогда я не думал, что смогу с кем-либо говорить о самом своем сокровенном. Но душа Клотильды была единственным ларцом, которому я мог доверить свою драгоценность.
Сидели мы долго, Клотильда снова и снова расспрашивала меня о новом и старом. Затем в мою комнату вошла мать. Застав нас за задушевной беседой, она присела к стоявшему передо мной и Клотильдой столу и вскоре сказала, что пришла позвать нас завтракать. Нигде не найдя Клотильды, она подумала, что в это утро та, наверное, у меня.
— Любимые мои дети, — продолжала она, — сохраняйте вашу любовь, не отдаляйтесь друг от друга душой, оставайтесь во всех обстоятельствах так же привязаны друг к другу, как привязаны теперь и как вы привязаны к своим родителям. Тогда вы обретете одно из самых прекрасных в жизни сокровищ, которым так часто пренебрегают. В своем единении вы будете сильны нравственно, составите радость отца и станете утешением моей старости.
Мы ничего не ответили на эту речь, потому что ее содержание было для нас вполне естественно, и вслед за матерью вышли из комнаты.
Отец уже ждал нас в столовой, и поскольку причина моего неожиданного возвращения была теперь всем известна, мы открыто обсуждали случившееся. Родители ожидали от нового союза самого лучшего и обрадовались согласию между мной и сестрой. Я должен был, как то уже было с Клотильдой, подробнее рассказать им о Наталии — какая она. чем занимается, к чему склонна по своему образованию и как прошла ее юность. Пришлось мне также добавить всякие подробности о Матильде и Штерненхофе, а также об Асперхофе и моем гостеприимце, чтобы дополнить представление моих родных о тамошних обстоятельствах. Я оказал им также, что тут замешана сама судьба, ибо именно Наталия оказалась той самой девушкой, которая некогда на спектакле «Короля Лира» так волновалась в соседней со мною ложе, той самой, которая внушила мне большую симпатию и как бы в благодарность за то, что я разделял боль от этой трагедии, бросила на меня при выходе приветливый взгляд. И выяснилось это только недавно.
Отец сказал, что семьи, которые долгое время были словно бы связаны незримыми узами, узами умственного развития его сына, имевшего общение с обеими сторонами, сблизятся и в действительности, познакомятся и вступят в союз.
Мать заметила, что отцу, который, чем старше он становится, тем крепче приковывает себя к своей конторе с непонятным упорством, пришло самое время — причем это не только его общественный, но и семейный долг — оторваться наконец от дел, отправиться в поездку и заняться в ней вещами только приятными и веселыми.
— Не только я отправлюсь в поездку, — отвечал отец, — но и ты, и Клотильда. Мы посетим людей, которые так любезно принимали моего сына. Но и им придется совершить поездку, ибо и они приедут к нам в город и поживут в этих комнатах. Но когда состоятся эти поездки, сейчас еще нельзя сказать. Во всяком случае сначала наш сын должен снова поехать туда один и сообщить о согласии своей семьи. От его усмотрения и главным образом от советов его старшего друга будет зависеть, как пойдут дела дальше. Поездка же сына должна состояться тотчас. Этого требует новое обязательство, которое он взял на себя. А мы подождем, какие вести он пришлет нам из Штерненхофа или какое мнение передаст сам.
— Поехать, отец мой, — сказал я, — я хочу как можно скорее, лучше всего завтра же или, если это нужно отложить, послезавтра.
— Не будет поздно поехать и послезавтра, поскольку кое-что придется еще обсудить, может быть, — ответил отец.
Клотильда выразила свою радость по поводу того, что все наконец куда-то поедут.
— А у нашего славного отца чаще теперь будет повод, — сказала мать, — отправляться на лоно природы, дышать чистым воздухом, смотреть на горы, леса и поля.
— Когда-нибудь, дорогая моя Тереза, я закончу свою бухгалтерию, — ответил отец, — и отойду от дел. Пусть они перейдут в другие руки или совсем прекратятся. Тогда придет пора снять или построить дом с видом на горы, леса и поля, чтобы жить летом там, а зимою здесь, а то и провести иную зиму на лоне природы.
— Ты часто так говорил, — ответила мать, — но из этого ничего не вышло.
— Выйдет, если случится подходящее время и место, — возразил отец.
— Если это еще пойдет на пользу твоему здоровью и душевному состоянию, — сказала мать, — я буду благословлять каждую зиму, которую мы проведем где-нибудь в деревне.
— Произойдет много чего, о чем мы сейчас еще не думаем, — ответил отец.
Мы встали из-за стола, и каждый занялся своими делами.
В первой половине дня мать снова позвала меня к себе и спросила, как я собираюсь устраиваться, где я хочу жить с Наталией. В доме довольно места, только нужно все благоустроить. Нужно навести порядок и во многом другом, особенно в моем гардеробе, который следовало бы теперь обновить. Матери хотелось узнать мое мнение, чтобы все начать и сделать вовремя. Я сказал, что о таких вещах и в самом деле не думал, что время на это еще есть и что прежде всего надо посоветоваться с отцом.
Она согласилась с этим.
Когда мы после обеда спросили отца, он разделил мое мнение, что сейчас еще рано думать о таких вещах. Еще успеется все устроить. А пока нужно обсудить и обдумать другое. Когда придет час, матери скажут, чтобы она приняла все нужные меры.
Она согласилась с этим.
Во второй половине дня, находясь в городе, я заглянул в дом княгини и узнал, что она сейчас как раз на месте. Она собирается отправиться в Риву, чтобы провести там несколько недель на берегах синего озера Гарда. Сейчас она занята подготовкой к этой поездке. Я спросил, когда можно будет поговорить с нею, и был приглашен к двенадцати часам следующего дня.
К этому времени я взял папку с некоторыми своими работами и явился к княгине. После любезного приветствия она выразила свое удивление тем, что я сейчас здесь. Я выразил такое же удивление по ее поводу. Она назвала причиной предстоящую поездку, а я сказал, что мою летнюю жизнь прервали и привели меня в город неожиданные обстоятельства.
Она спросила меня о моих работах за время моего отсутствия.
Я рассказал ей о них. Когда я говорил о ледниковых полях, она проявила особенный интерес, потому что знала эти горы по прежним временам. Я должен был подробно описать и показать ей, где мы были и что делали. Я извлек из папки и разложил перед нею сделанные мною в красках зарисовки ледовых полей, их кромок, изгибов, их сползания и их зачатков вверху. Она требовала объяснения мельчайших подробностей этих рисунков. Я пообещал ей также в следующий раз показать и подробнейше объяснить свою карту дна Лаутерского озера. Это, сказала она, ей тем более любопытно, что сейчас она сама едет на одно из самых замечательных озер южного склона Альп. Затем она спросила о других моих усилиях на поприще изобразительного искусства, и я отвечал, что, кроме зарисовок ледника — а это почти все работы научного характера, — ничего нынче не успел сделать, ни по части пейзажей, ни по части человеческих голов.
— Если вы хотите зарисовать очень красивое, юное лицо, — сказала княгиня, — изыщите возможность зарисовать молодую Тарона. Я стара, многое видела, насмотрелась на множество лиц, но более благородных, привлекательных и приятных черт, чем эти, почти не встречала.
Я залился краской при этих словах.
Она направила на меня свои ясные, милые глаза, очень тонко улыбнулась и сказала:
— Может быть, вы уже кого-нибудь находите красивее?
Я ничего не ответил, да она как бы и не ждала ответа. О Наталии я не мог ей сказать, поскольку до огласки дело еще не дошло.
Мы умолкли, я вскоре откланялся, она любезно подала мне руку, которую я поцеловал, и пригласила меня поскорее вернуться с гор на зиму, ибо и она очень скоро вернется в город.
Я отвечал, что определить это время сейчас никак не могу. На следующее утро я стоял в своей комнате, готовый отправиться в путь. Коляска была заказана на дом. Я не мог отказать себе в том, чтобы в особой коляске добраться до Штерненхофа как можно скорее. Отец, мать и сестра собрались в столовой, чтобы проститься со мною. Я тоже направился туда, и мы легко позавтракали. Затем я попрощался.
— Благослови тебя Бог, сын мой, — сказала мать. — Благослови тебя Бог на твоем пути, это важный, решающий путь, таким ты еще не ходил. Если моя молитва и мои пожелания имеют какую-то силу, ты не пожалеешь о нем.
Она поцеловала меня в губы и осенила мне лоб крестом.
Отец сказал:
— С ранней юности ты видел, что я не вмешиваюсь в твои дела. Действуй самостоятельно и бери на себя последствия. Если ты, как ты это сделал теперь, спросишь меня о чем-нибудь, я всегда тебе помогу, насколько то позволяет мой опыт. Но в этом важном деле я хочу дать тебе один совет, вернее, не дать совет, а обратить твое внимание на одно обстоятельство, о котором в заботах этих дней ты, может быть, не подумал. Прежде чем заключать серьезный союз, тебе нужно как-то укрепиться, окрепнуть умом и душой. Поездка в важнейшие города Европы и к самым значительным ее народам — отличное для этого средство. Ты можешь это сделать, твое имущественное положение сильно улучшилось, и я, наверное, кое-что прибавлю, да и вообще мне нужно с тобой рассчитаться.
От волнения я не мог говорить. Я только взял руку отца и поблагодарил его молча.
Клотильда попрощалась со мной со слезами и, когда я прижал ее к себе, тихо сказала:
— Отправляйся с Богом, все, что ты сделаешь, будет правильно, потому что ты добр и потому что умен.
Я высказал надежду, что скоро вернусь, и сошел с лестницы.
Мое путешествие прошло очень быстро, потому что везде были уже заказаны лошади, потому что я нигде не спал и на еду тратил кратчайшее время.
Когда я в Штерненхофе вошел в комнату Матильды, она поднялась мне навстречу и сказала:
— Я рада вам, все так, как я думала, иначе вы бы приехали не ко мне, а к нашему другу.
— Мои родные чтут вас, чтут нашего друга и верят в наше счастье и наше будущее, — ответил я.
— Я рад вам, Наталия, — сказал я, когда ее позвали и она вошла в комнату, — я привез вам дружеские приветы от моих близких.
— Я рада вам, — отвечала она, — я твердо надеялась, что так будет и что ваше отсутствие окажется столь коротким.
— Да и я надеялся на то же, — ответил я, — но теперь все ясно, и можно совсем успокоиться.
Мы остались у Матильды и некоторое время поговорили втроем. На следующий день я поехал к моему гостеприимцу. Матильда дала мне коляску и лошадей.
Когда я вошел в столярную мастерскую, где в час моего приезда находился мой гостеприимец, тот подал мне руку и сказал:
— Я уже оповещен о вашем возвращении: из Штерненхофа мне написали сразу же по вашем туда прибытии.
Мы пошли в дом, и мне открыли обычное мое помещение. Вскоре ко мне поднялся Густав, который никак не мог нарадоваться на то, что все вышло так, как вышло. Мой гостеприимец рассказал ему о том, что произошло, только сегодня. Густав без утайки сказал, что это ему гораздо, гораздо милее, чем если бы его сестру увез из дому Тильберг, который, кажется, всегда стремился к тому.
2. Доверие
Я остался на некоторое время у моего гостеприимца, отчасти потому, что он сам этого потребовал, отчасти же чтобы обрести спокойствие, которое у меня прежде всегда было и в котором я нуждался, чтобы уяснить и обдумать свои стремления.
Люди смотрели на меня вопросительно или удивленно. Возможно, до них дошел слух о том, в какую связь я вступил с лицами, являющимися друзьями дома и часто в нем гостящими. Но я не замечал ни малейших признаков недоброжелательного отношения к себе или неодобрения этой связи. Напротив, люди были чуть ли не приветливее и услужливее, чем прежде. Я пришел в павильон. Садовник Симон встретил меня с какой-то почтительностью и позвал свою супругу Клару, чтобы сказать ей, что я здесь, и попросить ее поклониться мне. Никогда еще он так не поступал. Только после того, как такое приветствие состоялось, Симон повел меня в сад, как он коротко называл свои теплицы. Он снова показал мне свои растения, объяснил, что приобретено, что прижилось лучше и что осталось в хорошем состоянии. Он рассказал мне также, какие понесены потери, как прекрасно развивались растения, затем погибшие, и по каким причинам они погибли. Ему и в голову не приходило, что мои мысли могут быть в другом месте. Как и однажды прежде, он не догадался, что я думаю о чем-то другом, когда он с таким же удовольствием и так же обстоятельно описывал мне свои растения. Особенно усердствовал он в описании достоинств и красоты розы, которую владелица Штерненхофа выписала для хозяина дома из Англии. Он повел меня к ней и показал мне всю ее прелесть. Затем я должен был пойти с ним в дом кактусов, где он тотчас указал мне на cereus peruvianus, который попал в Асперхоф благодаря, как он выразился, моей доброте. Теперь этот кактус тянется в своем стеклянном ящике прямо вверх, что далось ценой всяческих усилий и ухищрений. Желтоватая ингхофская окраска перешла в дымчатую сине-зеленую, свидетельствующую о добром здоровье растения. Если так пойдет дальше, то дом этот порадуется, может быть, еще и сказочным белым цветам этой белой колонны. Затем садовник повел меня к нескольким видам кактусов, которые как раз цвели. Поблизости лежала довольно большая собирательная линза, позволявшая рассматривать цветы, а также шипы и строение кактусов при полном свете солнца. Садовник попросил меня воспользоваться линзой. Она нисколько не искажала красок, и отклонение от сферической формы было в ней предельно мало. И вообще она оказалась превосходной. Садовник сообщил мне, что хозяин заказал это увеличительное стекло специально для рассматривания кактусов, велев для него изготовить оправу из прекрасной слоновой кости и выстланный бархатом футляр. Не далее как сегодня хозяин побывал в доме кактусов и рассматривал через стекло лепестки и шипы. Воспользовавшись стеклом, я заглядывал то в желтые, то в белые, то в розовые чашечки, окруженные шелковистыми лепестками. Я и так знал, что краски этих цветов особенно хороши, они сияют прекраснее, чем тончайший шелк и большинство других цветов, но садовник Симон не уставал их показывать мне, упоминая и о прекрасной зеленой, розовой или темно-бурой сумрачной глубине чашечек, откуда густыми пучками тянутся вверх тычинки, изящнее которых ни у каких других цветов нет. Вообще кактусы, за исключением некоторых паразитических растений и немногих отдельных видов, — самые прекрасные на свете цветы. Садовник обратил также мое внимание на одно обстоятельство, ранее мне неизвестное или, во всяком случае, не встречавшееся — что у некоторых маммилярий, то есть шаровых кактусов, цветы всегда вырастают из новых глазков и чаще с короткими стеблями, а у других поднимаются на более или менее высокой ножке из прошлогодних или еще более старых глазков. Он сказал, что это, конечно, когда-нибудь послужит причиной нового разделения данного вида. Садовник показал мне это различие на имевшихся экземплярах, и я убедился в нем. Садовник сказал, что это не случайно и что он наблюдает это явление уже тридцать лет. Когда он был молод, известны были считанные экземпляры данного вида, теперь знание о нем значительно выросло, после того как люди признали красоту кактусов и путешественники стали присылать их из Америки, как тот, например, из немецких земель, который объехал почти весь мир. Только неразумие, поверхностность или близорукость может назвать эти растения безобразными, ведь нет ничего более правильного, разнообразного и при этом прелестного, чем они, нужно только сначала хорошенько рассмотреть и сравнить их, а потом посмотреть на них еще немножко, чтобы противники этих растений сделались горячими их поклонниками — разве что кто-то вообще не любит растений, но таких людей, наверное, и на свете нет. Когда я покинул дом кактусов, садовник проводил меня до границы теплиц, и супруга его тоже вышла за дверь их жилья, чтобы попрощаться со мною.
На цветнике и на участке овощей работники останавливались передо мной и учтиво здоровались, снимая шляпу.
Ойстах был, как обычно, мил и любезен. Но от него исходило еще больше тепла, чем в прежние времена. Одобрение со стороны именно этого человека радовало меня необычайно. Он показал мне все, что находилось в работе и что за последнее время добавилось к уже имевшимся вещам, чертежам и сведениям. Он сказал, что мой гостеприимец вскоре посетит одну довольно отдаленную церковь, которую восстанавливают за его счет, и что он хочет пригласить меня поехать с ним. Среди всех вещей и материалов я не увидел очень красивого мрамора, подаренного мною моему гостеприимцу, и вообще не знал, делается ли из него что-либо. Никто об этом не говорил, а я и не спрашивал. Я только наблюдал порой за работами, которые шли в столярной мастерской.
Роланда, как обычно летом, не было в Асперхофе. С Ойстахом я осмотрел также картины моего гостеприимца, его гравюры на меди, его резные изделия и его мебель. Мы говорили об этих вещах, и я старался лучше понять их ценность и значительность. Побывал я также в библиотеке, в мраморном зале и на известной лестнице. Как величественна, благородна и чиста была стоявшая на ней статуя по сравнению с нимфою в гроте штерненхофского сада, которую я так полюбил в последнее время! Я упросил своего друга отпереть мне комнаты, где живут, когда гостят в Асперхофе, Матильда и Наталия. Дольше, чем в других, я пробыл в той последней комнате с потайной дверью, которую назвал розой. Меня овевали спокойствие и ясность, воплощенные во всей стати Матильды, являвшие себя в красках и формах комнаты, чувствовавшиеся в несравненных картинах, висевших здесь.
Сходили мы и на хутор. Люди встретили меня там почтительно, показали мне все помещения, объяснили, что в них находится, над чем там трудятся, для чего они служат и что изменилось за последнее время. Управляющий хутором особенно радовался новой, улучшенной им самим породе жеребят и выводку всех заведенных моим гостеприимцем пород кур. Когда мы удалялись от хутора и нам навстречу неслось из сада многоголосое пенье птиц, я, оглянувшись, увидел, что в подворотне собралась и глядела нам вслед группа девушек в синих передниках.
Хотя я и понял, что стал предметом внимания, никто не обронил и слова, которое намекнуло бы на причину этого внимания.
Густав, вначале выразивший мне свою радость, что все вышло так, как вышло, и что никто из тех, кто желал этого, его сестру не увел, теперь о данном предмете не заговаривал и только еще больше, если это было возможно, прикипел ко мне душой. Наконец и мой гостеприимец сказал мне о поездке в церковь, о которой говорил Ойстах, и пригласил меня тоже поехать. Я принял это приглашение.
Мы выехали из Асперхофа утром — мой гостеприимец, Ойстах, Густав и я. Густава, как сказал мне мой гостеприимец, он берет с собой в каждую небольшую поездку. Когда при длительных путешествиях этого нельзя сделать, мальчика отвозят к матери в Штерненхоф. К церкви мы приехали лишь на второй день. Роланд, которого уведомили о нашем приезде, ждал нас там. Церковь была построена по старонемецкому образцу. Она появилась, как уверяли мои друзья, в четырнадцатом веке. Община была невелика и не особенно состоятельна. Последние столетия нанесли этой церкви большой урон. Окна замуровали — где целиком, где частично, из колонных ниш удалили каменные статуи и поставили на их место деревянные, позолоченные и раскрашенные. А поскольку последние оказались больше, чем их предшественницы, место для них часто выламывали, а прежние навесы с их орнаментами отбивали. Внутри всю церковь тоже расписали пестрыми красками. Когда с годами там снова все обветшало и нужно было безотлагательно приступить к восстановительным работам, оказалось, что средства для этого найти будет трудно. В общине пошли чуть ли не раздоры из-за необходимого объема работ. В прежние времена явно существовали богатые и могущественные благотворители, которые эту церковь строили и берегли. Поблизости еще стояли развалины замков, где жили эти состоятельные семьи. Теперь церковь, как величественный памятник того времени, одиноко стоит на холме, ее обступают несколько построенных в новое время домов, а вокруг разбросаны по холмистой местности дворы общины. Владельцы разваливающихся замков живут в далеких отсюда местах и, принадлежа к совсем другим семьям, либо никогда не питали любви к одинокой церкви, либо потеряли ее. Священник, простой, благочестивый человек, хоть и не обладавший глубокими знаниями по части искусства, но привыкший за много лет к виду своей церкви и очень хотевший, когда она стала разваливаться, снова увидеть ее в как можно лучшем состоянии, устремился к этой цели всеми путями, какие только ни приходили ему на ум. Он собирал пожертвования. Таким путем он и напал на моего гостеприимца. Тот проявил участие к церкви, имевшейся среди его рисунков, сам съездил туда и осмотрел ее. Он обещал, что если его план восстановления церкви одобрят и примут, то возьмет на себя все расходы сверх уже накопленных средств и закончит работу в определенное число лет. План этот был распространен и одобрен всеми, от кого это дело зависело, после того как священник, еще даже не видев плана, горячо поблагодарил за него и стал ратовать за его принятие. Затем приступили к его исполнению, каковым мой гостеприимец и был сейчас занят. Каменную кладку в окнах выломали осторожно, чтобы не повредить орнаментов, похороненных в цементном растворе и кирпичах, а затем размурованные окна застеклили по образцу еще уцелевших. Деревянные статуи святых из церкви убрали, а ниши привели в их первоначальный вид. Все старинные стройные фигуры святых, какие можно было найти под церковной крышей в других помещениях, были, если в них чего-то не хватало, дополнены и поставлены на их предполагаемые места. Ниши, для которых не нашлось статуй, оставили пустыми. Сочли, что это лучше, чем ставить в них деревянные статуи, не подходившие к архитектуре церкви. Конечно, всего целесообразнее было бы изготовить новые статуи, но это в план восстановления не входило, потому что превышало средства, какими располагал мой гостеприимец для своего предприятия. Однако все ниши, и пустые тоже, были, если в них оказывались какие-то повреждения, приведены в хорошее состояние. Восстановлены были и консольные крыши над ними со своими орнаментами. Был составлен план внутренней окраски церкви, по которому некаменным ее частям следовало придать какой-то неопределенный цвет, чтобы они больше походили на некрашеный материал. Ребра свода, камень которых не был покрыт краской, как и все другое из камня, оставили в неприкосновенности, чтобы впечатление производило само вещество поверхности. Там, где со стремянок нельзя было дотянуться кистями, уже возвели леса. Конечно, исправить в церкви следовало бы и многое другое. Закрыли обшивкой старинный клирос и выложили совершенно новые стены для хоров, прибавили часовенку новейшего стиля, а часть стены бокового нефа разобрали, чтобы сделать углубление для нового придела. Все эти ошибки из-за недостатка средств исправить нельзя было. Главный алтарь старинно-немецкого стиля сохранился. Роланд сказал, что это счастье, что в прошлом веке уже не было столько денег, сколько в пору строительства этой церкви, а то бы, конечно, убрали первоначальный алтарь и заменили его сооружением в отвратительном вкусе прошлого века. Мой гостеприимец осмотрел все, что тут делалось, и стал советоваться с Ойстахом и Роландом, призвав и меня, держаться ли во всем принятого плана или, затратив умеренную сумму, прибавить к первоначальной наметке что-то, в чем церковь нуждается и что способствовало бы ее украшению. Мои спутники очень скоро пришли к согласию, поскольку стремились они к одному и тому же и их знания по этой части подводили их к одинаковому результату. Я мало что мог сказать, хотя меня и спрашивали, ибо, с одной стороны, был слишком мало знаком с имевшейся основой, а с другой, мое знание деталей искусства, о котором тут шла речь, никак не могло сравниться с познаниями моих друзей. Священник принял нас очень приветливо и хотел приютить всех нас в своем маленьком доме. Мой гостеприимец это отверг, и мы как-то устроились на постоялом дворе. Но изъявлять моему гостеприимцу свою почтительность и благодарность этот скромный священник не уставал. Явилась также делегация нескольких членов общины, чтобы, как они сказали, засвидетельствовать свое почтение и выразить свою благодарность. И правда, глядя на стройные, благородные очертания этой церкви, одиноко стоящей на своем холме в отдаленной части страны, где ее никто не стал бы искать, видя сделанные уже улучшения, вернувшие ее изящным формам подобающее им достоинство, нельзя было не порадоваться, что чистый, синий воздух снова овевает это чистое, простое здание, как овевал его тогда, когда оно, по замыслу давно умершего мастера, вышло из рук рабочих людей. И в самом деле, нельзя было не проникнуться благодарностью от того, что есть на свете такой человек, как мой гостеприимец, который из любви к прекрасным вещам и, надо, пожалуй, прибавить, из любви к человечеству жертвует частью своего дохода, своего времени и своих сил, чтобы спасти что-то благородное от гибели, показать людям нечто благообразное и высокое, чтобы они, если у них есть на то способность и воля, могли вознестись душой.
Но всего этого члены общины не знали, они благодарили лишь потому, что считали это своим долгом.
После того как мой гостеприимец одобрил сделанное и вместе с Ойстахом. истинным производителем работ, отдал дальнейшие распоряжения, а Роланд пообещал моему гостеприимцу часто наведываться сюда и докладывать, как движется дело, мы приготовились разъехаться. Роланд хотел вернуться в близлежащие горы, откуда он и явился к церкви, а мы собирались отправиться в Асперхоф. Роланд отбыл первым. Заехав поблизости к владельцу стекольного завода, весьма влиятельному здесь человеку, мы направились к дому моего друга.
По дороге у нас зашел разговор об образовании, о том, как хорошо, что родятся люди, распространяющие среди своих собратьев этот мягкий свет, который приводит их ко все большей ясности; и как хорошо, что есть люди, способные вобрать в себя красоту и приобщить к ней других, особенно если они еще, как мой гостеприимец, посещают прекрасное, сохраняют его и, не жалея сил и трудов, стараются восстановить его там, где оно понесло урон. Способности и стремление к этому — свойства совершенно особые.
— Мы уже один раз говорили о чем-то подобном, — сказал мой гостеприимец, — опыт моей жизни показал мне, что люди рождаются с совершенно определенными задатками для совершенно определенных вещей. Задатки эти различаются только величиной, способностью выразиться и возможностью оказать какое-то сильное воздействие. Бог словно бы хочет установить этим путем необходимое на земле разнообразие дел. Я всегда поражался, наблюдая, как у людей, которым назначено совершить в каком-то направлении необычайное, их дар проникает в мельчайшие дольки облюбованного предмета, а в чем-то другом они остаются по-детски невежественны. Некто, несмотря на всю свою ученость, несмотря на весь свой обиход, несмотря на свое многолетнее ежедневное соприкосновение с изысканными произведениями искусства, не говоривший по поводу искусства ничего, кроме вздора, был государственным деятелем, который проникал в мельчайшие тонкости своего предмета, угадывал мысли народов и намерения людей и правительств, с которыми имел дело, и заставлял все служить своим целям, вследствие чего другим казалось чудом ума то, что было как бы законом природы. В молодости я знал человека, который так умно, что мы диву давались, вникал в глубины произведения, им разбираемого, и высказывал такие мысли, что мы не понимали, как это могло прийти в голову человеку, и он же не угадывал мнений и намерений совершенно обыкновенных людей, причем как раз таких, чей уровень был гораздо ниже, и не видел политических закономерностей, то ли по природной слепоте к таким вещам, то ли оттого, что не замечал их, целиком отдаваясь своим интересам. Я мог бы привести еще много примеров: прирожденного полководца на судебном процессе об имуществе или деятеля науки, взявшегося создать войско. Точно так же Бог наделил многих безудержным стремлением к прекрасному, как к какому-то солнцу. Но всегда есть лишь определенное число таких, чья предрасположенность получает особенно действенное выражение. Их не может быть много, и наряду с ними родятся те, у кого определенная направленность не дает себя знать, кто делает обыденные дела и чья предрасположенность в том и состоит, что у них нет никакой особой предрасположенности к какому-то особому предмету. Этих должно быть великое множество, чтобы мир не рухнул, чтобы не развалилась материальная сторона жизни, чтобы все было в действии. Но очень часто, к сожалению, бывает необходимо, чтобы предрасположенность и предмет ее приложения друг другу соответствовали, а это случается не так часто.
— Разве предрасположенность не может искать предмета по себе и разве она не ищет его? — спросил Ойстах.
— Если она очень сильна и ярко выражена, она его ищет, — возразил мой гостеприимец, — но иногда в этих поисках гибнет.
— Это печально, и в таком случае она не выполняет своего назначения, — ответил Ойстах.
— Не думаю, что она совсем не выполняет своего назначения, — сказал мой гостеприимец, — поиски и то, чему она в ходе этих поисков способствует и что родит в себе и в других, — это и было ее назначением. Надо ведь подниматься на разные, то есть разные по высоте и по-разному устроенные ступени. Если бы каждая предрасположенность шла к своему предмету слепо, если бы она схватывала его и исчерпывала, погибал бы куда более прекрасный и богатый цветок — свобода души, которая может приложить свою предрасположенность к какому-то предмету или от него удалиться, которая может увидеть свой рай, отвернуться от него и потом горевать о том, что она от него отвернулась, а может и войти наконец в этот рай и испытывать счастье оттого, что вошла в него.
— Поскольку искусство, — сказал я, — оказывает на людей сильнейшее воздействие, как то мне случалось, хотя и с недавних лишь пор, наблюдать на себе самом, я часто задавался вопросом, представляет ли себе художник, затевая свое произведение, своих ближних и задумывается ли, как добиться, чтобы оно оказало на них то воздействие, какого он хочет.
— У меня нет сомнений, что это не так, — возразил мой гостеприимец. — Коль скоро человек вообще не знает своей врожденной предрасположенности, даже если она очень значительна, коль скоро он должен совершить разные поступки, прежде чем его узнает его окружение или он сам узнает себя, коль скоро, наконец, он волен отдаться своей предрасположенности или от нее отвернуться, то он, конечно, не в состоянии рассчитывать воздействие этой предрасположенности так, чтобы она достигала какой-то определенной точки. Нет, чем больше эта сила, тем подвластнее, думаю, ее воздействие собственным ее законам, и великое в человеке стремится к своей цели, не сознавая внешних обстоятельств, и достигает тем большего эффекта, чем глубже и непоколебимее это стремление. Божественное падает, кажется, только с неба. Были люди, которые рассчитывали, какое воздействие должно оказать на ближних их изделие, и часто оно действительно оказывало большое воздействие, но не художественное и не глубокое. Они достигали чего-то другого, чего-то случайного и внешнего, чего потомки не разделяли, не понимая, как могло это оказывать какое-то воздействие на их предков. Такие люди создавали бренные произведения и не были художниками, а создания истинного искусства — это чистые цветы человечности, и потому ими будут восхищаться всегда, пока люди не утратили самого драгоценного в себе — человечности.
— Однажды в городе задались вопросом, — сказал я, — должен ли художник, зная, что хотя задуманное им произведение и будет непревзойденном шедевром, но его не поймет ни современность, ни будущее, создавать такое произведение или нет. Одни считали, что, создавая его, он совершает великое дело, что он создает его для себя, что он сам себе — современность и будущее. Другие говорили, что, если он что-то творит, зная, что этого не поймет современность, он и то глуп, а уж если знает, что этого не поймет и будущее, то и вовсе.
— Такой случай вряд ли возможен, — отвечал мой гостеприимец, — художник творит свой труд, как цветет цветок, а он цветет, даже если находится в пустыне и никто его не увидит. Истинный художник вообще не задается вопросом, поймут ли его творение или нет. Когда он творит, ему ясно видится нечто прекрасное, с чего бы ему взять, что чистый, незамутненный взгляд этого не увидит? Разве красное не для всех красное? Разве, находя что-то прекрасным, даже простой человек не считает это прекрасным для всех? Как же художнику не считать истинно прекрасного прекрасным для посвященных? Как же тогда получилось бы, что человек создает замечательное произведение, которое не волнует его современников? Он удивляется, потому что был другой веры. Самые великие — это те, что идут впереди своего народа и находятся на такой высоте чувств и мыслей, к которой они еще должны подвести мир своими произведениями. Спустя десятки лет начинают думать и чувствовать, как эти художники, и не могут взять в толк, как они могли быть не поняты. Но так думать и чувствовать научились только благодаря этим художникам. Так и получается, что как раз самые великие — это и самые наивные. Если бы случай, о котором шла речь, был возможен, если бы существовал истинный художник, который в то же время знал бы, что задуманного им произведения никогда не поймут, он все равно создавал бы его, а если он не станет этого делать, то он никакой не художник, а человек, привязанный к вещам, лежащим вне пределов искусства. Здесь же корень того трогательного, многими порицаемого феномена, что человек, которому открыты возможности обильно и вкусно питаться, даже достичь благосостояния, предпочитает жить в бедности, в нужде, в лишениях, голоде и нищете, но не прекращает усилий в искусстве, которые не приносят ему внешнего успеха, а часто и в самом деле никаких художественных ценностей не создает. И умирает он в богадельне или нищим, или в доме, где его держат из милости.
Мы были того же мнения. Ойстах и подавно, потому что он смотрел на все, что относилось к искусству, как на высшее в земной жизни, и само стремление к искусству считал чем-то высоким, часто повторяя, что хорошее хорошо тем, что оно хорошо. Я согласился с моим гостеприимцем, потому что его слова убедили меня, а Густав, у которого опыта еще не было, поверил им, наверное, потому, что для него правдою было все, что говорил его приемный отец.
От стремления, в известной мере являющегося своей самоцелью, от погружения человека в какой-то предмет, которому, хотя никакого внешнего успеха таковой не сулит, одержимый им жертвует всем прочим, мы перешли вообще к разным пристрастиям человека, которые наполняют его, охватывают всю его жизнь или ее часть.
После того как мы обсудили большее, чем я когда-либо предполагал, число вещей, к которым человек способен так относиться, мой гостеприимец сделал следующее замечание:
— Если исключить вещи, которые связаны с удовлетворением телесного или животного начала в человеке, вещи, длительное влечение к которым, отметающее все остальное, мы называем страстью, так что нет ничего ошибочнее, чем говорить о благородных страстях, если предметами высокого стремления называть только самое благородное в человеке, то всякое стремление к таким предметам можно, наверное, по праву назвать одним именем — любовь. Любить как абсолютную ценность и с абсолютной привязанностью можно только божественное или, собственно, только Бога. Но поскольку Бог для наших земных чувств слишком недосягаем, любовь к нему может быть только поклонением, и для любви к нему на земле он дал нам части божественного в разных формах, к которым мы можем склоняться. Таковы любовь родителей к детям, любовь отца к матери, матери к отцу, любовь братьев и сестер, любовь жениха к невесте, невесты к жениху, любовь друга к другу, любовь к отечеству, к искусству, к науке, к природе и, наконец, наподобие ручейков, ответвляющихся от большого потока, занятия отдельными, как бы мелкими предметами, которыми человек тешится, как дитя, на закате жизни — уход за цветами, разведение каких-то растений, какого-то вида животных и так далее, то, что мы называем любительством. Кого покинули большие предметы любви, или у кого их не было никогда, или, наконец, у кого нет никаких любительских слабостей, тот, впору сказать, не живет и не молится Богу, а только существует. Таков, по-моему, смысл того, это мы именуем стремлением великих сил к великим целям, и этим оно оправдывается.
Время, — сказал он после паузы, — когда строились церкви, подобные той, которую мы сейчас посетили, было в этом отношении гораздо крупнее, чем наше, его стремление шло выше и состояло в том, чтобы славить Бога в своих храмах, а мы теперь заботимся главным образом о материальной стороне, о производстве и применении материала, а это стремление правомерно не само по себе, а лишь относительно, постольку поскольку в нем заложена высшая мысль. Стремление наших старинных предшественников было более высоким в особенности и потому, что оно всегда сопровождалось успехами, созданием подлинно прекрасного. Те храмы вызывали восхищение у своей эпохи, они строились столетиями, которые, стало быть, любили их, да и сейчас, в своей незавершенности или в развалинах, они вызывают восхищение у вновь пробуждающейся эпохи, уже стряхнувшей с себя помрачение, но еще не прорвавшейся к всесторонней деятельности. Даже стремление наших непосредственных предшественников, которые, по своим представлениям о красоте, построили очень много церквей, но еще больше церквей исказили бесчисленными пристройками, установкой алтарей, переделками и оставили нам множество таких памятников, — даже оно все-таки выше, чем наше, поскольку тоже было направлено на строительство домов божьих, на создание прекрасного и церковного, хотя в существе прекрасного отошло от образцов прежних веков. Если наша эпоха и переходит опять, как то кажется, от материального к высшему, то прекрасного мы в своих постройках сразу не создадим. Сначала мы будем только подражать признанному прекрасным наследию старины, затем, из-за упрямства непосредственных исполнителей работ, возникнет много нелепого, пока постепенно не увеличится число людей с ясным взглядом на предмет, не придут к общему и обоснованному мнению и из старой архитектуры не вырастет новая, сообразная времени.
— В церкви, которую мы сейчас видели, — сказал я, — есть, по-моему, такая самобытная красота, что непонятно, как могли не заметить ее и прибавить множество мелочей, которые сами по себе, быть может, и хороши, но наверняка сюда не подходят.
— Были в нашем отечестве суровые времена, — возразил мой гостеприимец, — когда все силы уходили на распри и разорение, а более глубокие стороны человеческой души истреблялись. Когда эти времена прошли, представление о прекрасном пропало, на смену ему пришла мода, признававшая прекрасной только себя самое и потому выставлявшая себя напоказ везде, к месту или не к месту. Так и очутились римские и коринфские карнизы между старонемецкими колоннами.
— Но и среди старонемецких церквей, судя по тем, которые я видел, эта, где мы сейчас побывали, — одна из самых красивых и благородных, — сказал я.
— Она мала, — отвечал мой гостеприимец, — но превосходит иные большие. Она высится стройно, как колос, и походит на колосья еще и тем, что ее своды изгибаются так же естественно и легко, как колышущиеся колосья. Розетки в арках окон, орнаменты на возглавьях колонн, на ребрах сводов, розетка шпиля так же легки, как колосья нивы.
— Оттого-то у меня снова, как уже не раз бывало, — сказал я, — мелькнула мысль, что оправы драгоценных камней для большей их красоты надо делать в стиле памятников старонемецкой архитектуры.
— Если вы хотите сказать, — возразил мой гостеприимец, — что оправщикам драгоценных камней следует работать в стиле старинных архитекторов, придававших величавому и прекрасному очарование и легкость, то, пожалуй, вы правы. Но если вы полагаете, что формы средневековых построек можно, лишь уменьшив масштаб, сразу использовать для ювелирных изделий, то, пожалуй, вы ошибаетесь.
— Я так полагал, — сказал я.
— Мы однажды уже говорили об этом предмете, — отвечал он, — и я сам тогда указывал на старинное искусство как на основу для ювелирных изделий. Имел я в виду, однако, не только строительное, но и всякое другое искусство, будь то мебель, церковные сюжеты, светские материи, живопись, скульптура, резьба по дереву и так далее. Имел я также в виду не непосредственное подражание формам, а познание духа, который живет в этих формах, наполнение души этим духом и уж тогда творчество с этим знанием и этой наполненностью. Есть и другое, материальное препятствие, мешающее переносить архитектурные формы на ювелирные изделия. Постройки, в которых особенно ярко выражалось чувство красоты, были всегда предметами более или менее строгими: это церкви, дворцы, мосты, а в древности колонны и арки. В средние века это преимущественно церкви. Остановимся, стало быть, на них. Для воплощения строгости и величественности церкви не безразличен материал, из которого она строится. Камень выбрали как материал, из которого состоит самое великолепное и мощное из всего, что высится на земле, — горы. Он придает им особую величавость там, где он не покрыт лесом или травою, а обнажен. Оттого же он придает мощь и церкви. Он должен при этом производить впечатление своей простой поверхностью, его нельзя расписывать или красить. Ближайшее по красоте к горам — лес. После камня мощи больше всего в дереве. Поэтому величественной и художественно ценной можно представить себе и церковь из дерева, если оно не расписано и не закрашено. Железная церковь или, тем более, из серебра произвела бы лишь отвратительное впечатление грубой пышности, а от церкви из бумаги, если допустить, что ее стенам удалось бы придать неподвластность погоде, а ее украшениям, путем прессования или еще как-либо, прекрасные формы, душа отвернулась бы с презрением и омерзением. С материалом связана и форма. Камень строг, он высится, не сгибается, не хочет быть мягким, тонким, извилистым. Я говорю о строительном камне, не о мраморе. Поэтому формы воздвигнутой из него церкви просты и мощны, а все изгибы выполнены с чувством меры и благородства и не перегружают стен и других частей здания. В эпоху, когда изгибы начали преобладать, кончилась строгая красота церквей и воцарилась замысловатость. Для оправ наших драгоценностей мы берем металл, преимущественно золото. Но у металла совсем другие свойства, чем у камня. Металл тяжелее, поэтому, чтобы он не действовал на нас давяще, его не следует применять большими долями, а нужно делить на малые части. При этом из всех материалов металл обладает наибольшей гибкостью и растяжимостью, поэтому мы ждем и требуем от него самых смелых изгибов и плетений. Вот почему фигуры, особенно орнаменты из золота не могут быть точно такими же, как из камня, если хочешь, чтобы и те и другие были красивы. Но по внутреннему духу одного можно довольно хорошо узнать внутренний дух другого, а из этого может выйти нечто замечательное.
Никаких существенных возражений против такого мнения у меня не нашлось. Ойстах развил его еще подробнее примерами, взятыми им из известных каменных церковных построек. Он показал, как одна общеизвестная легкая каменная церковь, если ее построить, к примеру, из золота, сразу станет тяжелой, грузной и неуклюжей и как нужно постепенно изменить каменную конструкцию, чтобы она стала пригодной для золота и оказалась при этом живою и самобытной. Он обещал мне показать, когда мы приедем домой, рисунки на эту тему. Я увидел, как много размышляли мои друзья об этом предмете и как они действительно вникли в него.
— Но не только внешность нашей церкви очень красива, — продолжал мой гостеприимец, — фигуры святых на алтаре и в нишах тоже красивее, чем то мы видим обычно в церквах этой эпохи. Если я сказал, что греческие изваяния обладают большей чувственной красотой, чем средневековые, то тут встречаются исключения. Есть и прелестные средневековые статуи, и те, где не искажены формы и где видна чувственность, большею частью теплее греческих. В этой маленькой церкви подобное тоже есть, потому я и взялся за ее восстановление с такой охотой, потому и сожалею, что моих средств не хватит завершить его целиком, потому и затеял поиски недостающих в нишах фигур, чтобы как можно полнее населить ими церковь, хотя у меня и мелькала мысль, что не все-то, быть может, фигуры были готовы и не все-то места ими заполнены. Когда-нибудь, может быть, возникнет какая-то более высокая и более общая сила, которая воссоздаст и эту, и еще более важные церкви во всей их чистоте.
На второй день мы прибыли в Асперхоф, и я сказал, что долго здесь пробыть не смогу. Мой гостеприимец ответил, что через несколько дней он поедет в Штерненхоф, что приглашает меня сопровождать его и что до этого я могу пожить у него.
Я заметил, что, хотя несколько дней не составляют для меня существенной разницы, мне все-таки хотелось бы поскорее вернуться к родителям.
Так наступил вечер накануне отъезда в Штерненхоф, и мой гостеприимец, улучив минуту, сказал:
— Вы теперь вступаете в тесную связь с близким мне человеком. Справедливость требует, чтобы вы знали все об обстоятельствах в Штерненхофе и о том, в каких отношениях с этим человеком нахожусь я. Я вам все изложу. А чтобы вы восприняли мое сообщение с еще большим спокойствием и с ясностью, я расскажу вам это, когда вы снова приедете в Асперхоф. Но сначала вы отправитесь к родителям, как вы сказали, чтобы доложить им, как вас приняли и как обстоит дело. Когда вы, как только вам вздумается, в любое время, снова приедете ко мне, вы будете желанным гостем, и вам будет оказан радушный прием.
На следующее утро мы с Густавом сели вместе с моим гостеприимцем в коляску и поехали в Штерненхоф.
Нас приняли приветливо и весело, как всегда, даже еще приветливее и веселей, чем обычно. Комнаты, которые мы всегда занимали, были приготовлены для нас как для членов семьи. Наталия, с милым выражением лица стоявшая рядом с матерью, взглянула на их старого друга и на меня. Я почтительно поздоровался с матерью и почти так же почтительно с дочерью. Густав был несколько более робок, чем обычно, и посматривал то на меня, то на Наталию. Мы обменялись обычными приветствиями и другими ничего не значащими словами. Затем разошлись по своим комнатам.
В тот же день и на следующий мой гостеприимец проверил разные хозяйственные частности, обсудил их с Матильдой, посетил даже довольно отдаленные места и сделал от имени Матильды какие-то распоряжения. Осмотрел он также работы по удалению краски с наружных стен замка. Он сам взбирался на леса, чтобы удостовериться в тщательности очистки камней. Он проверял объем выполненной за обычные сроки работы и дал задания на будущее. При большей части этих занятий мы все присутствовали. Со мною обращались превосходно. Матильда была мягка, спокойна и доброжелательна, как всегда. Не присмотревшись, нельзя было заметить разницы между ее обычной и теперешней манерой держать себя. Она всегда была добра и потому добрее быть не могла. Но какую-то разницу я все-таки чувствовал. Она говорила со мной так же открыто, как прежде, но все же теперь это было иначе. Она часто спрашивала мое мнение, когда дело касалось замка, сада, полей, хозяйства, так, словно я имел какие-то права на них и был чуть ли не их владельцем. Спрашивала, конечно, не затем, чтобы поточнее узнать мое мнение — ведь мой гостеприимец давал ей наилучшие советы на этот счет, — а потому, что я был одним из ее близких. Но этих вопросов она не выделяла, не подчеркивала, как то сделал бы тот, кто задавал бы их намеренно, нет, она чувствовала наше родство и держалась соответственно. Мне такое обращение было очень по душе. Мой гостеприимец, пожалуй, не изменился, ведь цельность и замкнутость всегда были его натурой, но и в нем, казалось, стало больше тепла. Густав сбросил с себя первоначальную робость. Хотя он и теперь еще ни слова не говорил — другие тоже этого не делали, а он был слишком хорошо воспитан, чтобы составить тут исключение, как ни был он юн, — он иногда вдруг подходил ко мне и пожимал мне плечо или руку. Только с Наталией стало все по-другому. Мы были, пожалуй, застенчивей и отчужденней, чем до той вспышки чувств в гроте с фонтаном. Мне доводилось вести ее под руку, нам доводилось беседовать друг с другом, но когда это случалось, мы говорили о безразличных вещах, весьма далеких от наших теперешних отношений. И все-таки я испытывал невыразимое счастье, когда шел с нею рядом. Все — облака, звезды, деревья, поля — сияло, и даже фигуры матери и ее старого друга преображались. Что с Наталией происходило то же самое, я знал и без ее слов.
Когда мы проходили мимо ворот амбара на хуторе или мимо какой-нибудь другой двери, или мимо поля, или вообще мимо какого-нибудь места, где шла работа, люди сходились, глядели нам вслед, бросали на нас такие же многозначительные взгляды, как на меня в Асперхофе. Мне было ясно, что и здесь знали, в каких отношениях нахожусь я с дочерью хозяйки. Я мог бы понять это и по большей почтительности слуг, если бы мне и так уже не было это ясно. Но и здесь, как и в Асперхофе, я замечал какую-то приветливость, что-то похожее на радость в лицах людей. Значит, и здесь они были довольны тем, что готовилось. Меня это глубоко радовало; ибо на какой бы ступени развития люди ни находились, я в общении со многими людьми не раз убеждался, что низшие часто очень верно судят о высших и, особенно когда заключаются союзы, будь то дружба или брак, зорко видят, кто подходит друг другу, а кто не подходит. То, что я, на их взгляд, стало быть, подходил Наталии, наполняло меня стойкой и глубокой радостью. Что думала Наталия об этих знаках со стороны людей, я не знал.
Когда так прошли три дня, когда мы вместе побывали в разных местах замка, сада, полей и лесов, когда мы провели немало часов в комнате картин и комнате со старинной мебелью и всем там насладились, когда, наконец, все, что нужно было обсудить и уладить по части имения, было Матильдою и моим гостеприимцем обсуждено и улажено, отъезд назначили на следующий же день. Наше прощание походило на нашу встречу, подали коляску, и мы поехали в ту сторону, откуда приехали четыре дня назад.
Я доехал с моим гостеприимцем только до почтовой дороги, а по ней до первой почты. Там мы расстались. Затем он направился в Асперхоф проселочными дорогами, потому что из-за меня сделал крюк, а я поехал на почтовых по направлению к Карграту. Я решил совсем прекратить на время дела в Карграте и, стало быть, увезти оттуда еще остававшиеся там мои вещи. Прибыв в это селеньице, я все там привел в порядок, велел упаковать свое добро и отправил его в город. Я попрощался со священником, своим новым знакомцем, попрощался со своими хозяевами и другими людьми, с которыми был знаком, сказал, что не знаю, когда вернусь в Карграт, чтобы продолжить работу, прерванную из-за неожиданных обстоятельств, и снова отправился в путь.
Я заехал в Лаутерскую долину. По направлению к моей родине это был небольшой крюк, а мне хотелось снова увидеть долину, которую я успел полюбить. Но была у меня тут и особая цель. Хотя я не очень надеялся, что оставленное мною там поручение — нет ли где-нибудь дополнений к отцовским панелям — принесет какой-то успех, мне не хотелось ехать домой, ничего на этот счет не узнав. Желанных дополнений, правда, не нашлось, да и никаких следов их не обнаружилось. но зато я повидал кое-кого, с кем подружился в прежние дни. Увидел я и предметы, приятно окружавшие меня в прошлые годы, и поговорил с несколькими людьми, доставив этим удовольствие себе и своим собеседникам.
Сходил я и в Ротмоор. Там работы продвинулись и шли быстрее, чем то было в мое последнее посещение. Из многих мест поступали заказы, даже из нашего города, где прославилась чаша вороньего глаза, пришло несколько писем. Порою в эту отдаленную местность приезжали и чужеземцы, делали покупки, оставляли задания. Увидев, таким образом, что дела здесь пошли лучше, и осмотрев работы, я заказал еще кое-что, отчасти потому, что у меня оставалось еще несколько глыб прекрасного мрамора, отчасти же потому, что в отцовском саду еще не хватало предметов для парапета и для других мест. Люди приняли меня весьма приветливо, они показали мне, что сейчас делается, какие усовершенствования выполнены и какие намечены. Они не преминули упомянуть, что я всегда был расположен к их маленькому предприятию и дал для его усовершенствования немало толчков и указаний. Я выразил свою радость по поводу всего этого и пообещал, что, оказавшись поблизости, всегда буду с удовольствием заезжать в Ротмоор.
После этой короткой остановки в Лаутерской долине и Ротмооре я продолжил свою поездку к родителям без дальнейших задержек.
3. Сообщение
Дома меня еще не ждали, потому что я написал им, что съезжу с моим гостеприимцем посмотреть одну старинную церковь. Они полагали также, что я еще раз побываю в своем пристанище в горах, а на обратном пути задержусь в Штерненхофе. Они, однако, ошиблись, ибо, хотя я и был в обоих этих местах, задерживался я там очень недолго, мне не терпелось рассказать родным, как обстоят мои дела. Когда я это сделал, они разволновались гораздо меньше, чем я ожидал. Они были рады, но сказали, что знали, что так и будет, они уже несколько лет чувствовали, куда идет дело. Ни в доме роз, ни в Штерненхофе ко мне, по их мнению, не были бы так радушно-добры, если бы там не любили меня и даже не считали того, что случилось теперь, чем-то приятным: нельзя же было не видеть определенных примет. Как ни мил был мне такой взгляд — ведь он выражал отношение ко мне моих родных, — я не мог не думать, что так смотрят на вещи только мои близкие, потому что они мои близкие, и что потому-то они и считают меня достойным того, что я получил. Мне виделось это иначе, потому что я знал Наталию и ее окружение и способен был ее оценить. Я мог смотреть на случившееся со мной только как на счастье, дарованное мне милостивой судьбой, стать достойным которого я должен стараться.
Отец сказал, что все обстоит хорошо, мать, грустная и радостная, то и дело повторяла, что ничего не подготовлено для такого важного события; сестра смотрела на меня задумчиво и испытующе.
Я попросил родителей помочь мне во всем, что нужно сделать в теперешних обстоятельствах, и высказал желание предпринять по совету отца большое путешествие.
— Сделать нужно многое, — сказал отец. — Прежде всего, думаю, ждут от твоих родителей какого-то шага к сближению. Ведь родственникам невесты неудобно представляться первыми родственникам жениха. Кроме того, твой гостеприимец оказал мне любезность, за которую я его еще не отблагодарил. Далее, твой гостеприимец должен сообщить тебе то, что он сочтет нужным. И наконец, тебе в самом деле следует, как ты и сам хочешь, совершить большое путешествие, чтобы хотя бы в общем узнать людей и мир. Что предпримут твои свойственники, это их дело, и мы должны ждать этого. Наша задача теперь — сделать все, что от нас требуется, таким образом, чтобы не выскакивать вперед и не допустить ничего, что походило бы на пренебрежение к тому, что предоставляет нам этот союз. Я думаю, что самый естественный порядок таков. Прежде всего ты должен выслушать сообщения твоего друга, потому что они прежде всего были предложены тебе без всяких условий. Затем я с твоей матерью поеду к матери твоей невесты и заодно навещу твоего гостеприимца. Наконец, ты скажешь о своем желании отправиться в образовательное путешествие. Но поскольку твой гостеприимец сам сказал, что тебе нужно успокоиться, прежде чем он сделает свои сообщения, и поскольку, с другой стороны, торопиться некрасиво, тебе не следует ехать к нему тотчас же и просить его говорить, лучше навестить его позднее, пусть пройдет какое-то время, быть может, зимой. Тогда он увидит, с одной стороны, что ты не назойлив, а с другой, поскольку ты приедешь в необычное время года, что тебе очень хочется ускорить дело. А чтобы тебе вернее успокоиться, предлагаю тебе сопровождать меня в небольшой поездке по моим родным местам, в которую мы вскоре сможем отправиться. Приехав зимой к твоему гостеприимцу, ты сможешь передать ему привет от нас и сказать, что мы явимся в начале лучшего времени года и будем просить для тебя руки дочери его приятельницы.
Все были совершенно согласны с этим предложением. Особенно обрадовалась мать, услыхав, что отец по собственному почину наметил поездку, о направлении которой она и не догадывалась.
— Мне же нужно поупражняться, — сказал отец, — если я собираюсь весной отправиться в поездку в Нагорье и к самим горам, которая приведет нас и в Розенхоф, и бог знает куда еще, ведь когда домоседом овладевает охота к странствиям, он, бывает, не может остановиться и носится с места на место.
А я на это ответил:
— Поскольку Клотильда никогда не видела гор, поскольку она в этом отношении отстала более всех, поскольку я всегда обещал ей свозить ее в горы и поскольку исполнение этого обещания из-за моих путешествий все время откладывалось, предлагаю ей, когда я вернусь из нашей с отцом поездки, провести со мной часть осени в горах. Дни осени, даже поздней осени в горах обычно очень хороши, и в ясном воздухе все вокруг видно дальше, чем в душном, предгрозовом тумане июня или июля.
Клотильда приняла это предложение с радостью, и я обещал ей в оставшиеся до моего отъезда с отцом дни объяснить ей, какая одежда и прочие вещи нужны для путешествия в горы, чтобы она приготовила все это в мое отсутствие.
— Если перед разговором с моим другом мне нужно успокоиться, — прибавил я, — то обе поездки могут оказаться наилучшим для этого средством.
Отец и мать были очень довольны моим предложением. Мать сказала, что примет участие в приготовлениях Клотильды и особенно проследит за тем, чтобы под рукой было все нужное для защиты здоровья.
Я отвечал, что это очень хорошо, но что я и сам приму в поездке все меры, чтобы здоровье Клотильды не пострадало.
На следующий же день мы стали обсуждать, какие вещи нужны Клотильде для этой поездки. Она стала деятельно приобретать их. Я составил список необходимых предметов, который постепенно дополнял. По истечении некоторого времени он показался мне полным настолько, что вряд ли я мог что-либо забыть.
Между тем приближался день, когда я должен был поехать с отцом. Ранним утром этого дня мы сели в легкую дорожную карету, которой отец всегда пользовался для дальних поездок. Она долго уже стояла в каретнике. За несколько дней до отъезда ее по указанию матери осмотрели знатоки дела, чтобы узнать, нет ли в ней скрытых поломок, которые наделали бы нам бед. Лишь получив единодушно отрицательный ответ, мать успокоилась. У нас были почтовые лошади, мы меняли их в надлежащих местах, где задерживались столько, сколько нам хотелось. Каждый вечер мы останавливались засветло, договаривались о ночлеге и делали перед ужином прогулку. В эти дни, проводя с отцом больше часов подряд, чем когда-либо прежде, я и говорил с ним больше, чем в любое другое время. Мы беседовали об искусстве: он рассказывал мне о своих картинах, посвящал в неизвестные мне прежде обстоятельства их приобретения, разбирал их художественные достоинства, переходил к своим камням и кое-что объяснял мне; мы рассуждали о книгах, хорошо знакомых обоим, разбирали их поэтические или научные достоинства и напоминали друг другу какие-то части их содержания; говорили мы и о злободневных событиях и о положении нашего государства. Наконец он рассказывал мне о своем купеческом деле, знакомил меня с его основами и положениями. Он показывал мне места, через которые мы проезжали, рассказывал о семьях, живших в той или иной местности. Так приехали мы на четвертый день к месту своего назначения. Край этот был мне совсем незнаком, потому что мои странствия ни разу не приводили меня сюда.
По опушке леса, образующего северную границу нашей страны, шла долина, когда-то бывшая лесом, а теперь испещренная рассеянными домами, одинокими полями, лугами, скалами, ущельями и ручьями. Один из домов, наполовину деревянный, наполовину каменный, был домом, где родился мой отец. Дом стоял на краю рощицы, оставшейся от большого леса, который покрывал некогда всю местность. С запада он был защищен от ветра группой очень высоких, тесно стоящих буков, с востока — скалой, с севера — большой полосой леса, а с юга выходил на обширные луга и поля, обильные не хлебами, а кормовыми травами, отчего самым большим богатством здесь были стада. Мы приехали на местный постоялый двор, выгрузили свою кладь, заказали себе жилье на несколько дней, а затем навестили очень дальних родственников, которые жили теперь в доме отцовских предков. Дело было в полдень. Когда мы назвали себя, нас приняли очень радушно и потребовали, чтобы мы велели привезти сюда наши вещи и жили у них. Лишь после настойчивых уверений отца, что мы только причиним им неудобство и не приобретем никаких удобств сами, они уступили, потребовав, однако, чтобы мы остались у них на предстоявший обед, на что мы согласились.
Когда мы уселись в большой гостиной, отец указал мне на просторный кленовый стол, за которым когда-то ели он и его братья и сестры. Стол постарел, но отец сказал, что он стоит все в том же углу, где на него, как когда-то, падают отблески двух окон и лучи солнца. Показал мне отец и бывшую свою спальную комнату рядом с гостиной. Затем мы вышли, он показал мне лестницу, выходившую на обегавшие двор мостки, и родник, все еще наполнявший светлой водой гранитную бадью, которую велел соорудить еще его прадед, показал мне конюшню, амбар, а за ним лесную дорогу, по которой он, еще полудитя, с посохом в руке, покинул родину, чтобы искать счастья на чужбине. Мы вышли даже за усадьбу и обошли ее. Отец часто останавливался и вспоминал, какие плоды росли здесь в разных местах во времена, когда он с табличкой, на которой были напечатаны красные и черные буквы, ходил в тот стоявший у дороги на расстоянии четверти часа деревянный, обсаженный буками дом, что представлял собою школу для всех детишек долины. Отец сказал, что все здесь осталось таким же, как было в его детстве, те же ограды, те же полевые тропинки, те же канавки и ручейки. Он сказал, что у него такое ощущение, будто на лугу цветут даже те же цветы арники, которые он видел в детстве, а когда он подвел меня к скалистому бугру на краю поля, ветки малины торчали так же, так же обвивали камни колючие лозы ежевики, а листья земляники были так же пышны, как тогда, когда он собирал все эти ягоды в детстве. От бугра мы вернулись к дому, где разделили простой обед с нашими родственниками. Затем мы осмотрели все угодья с теперешним их владельцем. Отец говорил, что вот здесь пахал, боронил и копал землю его отец, вон там косили сено его мать с сестрою, служанкою и поденщиками, вон там уходили к лесу коровы и козы, как они уходят сейчас, а вид у его близких был такой же, как у нынешних здешних жителей.
Вернувшись, мы попрощались, отец поблагодарил за угощение и сказал, что к вечеру придет еще раз.
В нашей комнате на постоялом дворе отец открыл чемодан и извлек из него всякую всячину, предназначенную в подарок обитателям дома, где мы обедали. Отец не говорил мне заранее, каких жильцов мы застанем в доме его отца, да и сам, наверное, этого точно не знал. Я, стало быть, подарками не запасся. Отец, однако, позаботился и на этот счет, он дал мне много всего, особенно тканей, безделушек и мелких вещиц, чтобы раздать это в доме, когда мы придем туда вечером. Он не хотел сразу являться с подарками, считая, хотя жильцы дома были всего-навсего обычными жителями долины, неприличным входить к ним нагруженным дарами, как бы говоря: «Полагаю, что для вас это важнее всего». А теперь он стал им чем-то обязан и мог отблагодарить за прием.
Когда мы раздали подарки, за что снискали радостную благодарность тех, кто их получил, — а это, не считая работника и двух служанок, были супружеская чета средних лет, два их сына, дочь и старуха-бабушка, — стало уже совсем темно, и мы вернулись в свое пристанище.
Мы пробыли в этом краю еще четыре дня. Отец посетил со мною много мест, которые когда-то любил, маленькое озеро, утес, с которого открывался прекрасный вид, сад при каком-то стоявшем невдалеке похожем на замок здании, деревянную школу и прежде всего находившуюся в получасе ходьбы приходскую церковь, которую огибало кладбище, где покоились его отец и мать. Память их чтила белая мраморная плита, установленная отцом и его братом. Кроме того, почти во всякое время дня отец бродил по полям и лесам. На пятый день мы отправились восвояси.
До этого, рано утром, мы еще зашли к родственникам. Они, как то принято в таких случаях у сельских жителей, были одеты наряднее, чем обычно, и ждали нас. Мы тепло простились. Я обещал, что, поскольку и так привык странствовать и бываю в разных краях, побываю здесь снова и буду захаживать в этот маленький дом. Отец сказал, что, может быть, приедет еще, а может быть, и нет, как уж сложится в его возрасте. На все воля Господня. Родственники проводили нас на постоялый двор и оставались с нами до того, как мы сели в карету. По их словам при прощании и по их изъявлениям благодарности я понял, что отец дал им и какую-то сумму денег. Они очень долго глядели нам вслед.
Вечером третьего после отъезда дня мы снова были у себя дома в родном городе.
Мать была очень довольна тем, что одиннадцать дней на свежем воздухе оказали на отца такое благотворное действие. Его щеки, сказала она, не только разрумянились, но и пополнели, а взгляд его стал гораздо яснее, чем если бы был все время прикован к бумагам в конторе.
— Это лишь первоначальное воздействие перемены на физическое состояние, — сказал отец, — со временем кровь, мышцы и нервы привыкают к свежему воздуху и движению, первая перестает так краснеть, а последние опять напрягаются. Но, конечно, пребывание на свежем воздухе и должная подвижность, не отягощенные к тому же заботами, гораздо благоприятнее для здоровья, чем постоянное сидение в комнатах и неотвязные мысли о будущем. Когда-нибудь — кто знает, как скоро, — мы испытаем и это счастье и порадуемся ему от всей души.
— Мы будем рады, если ты его испытаешь, — ответила мать, — ты более всех в нем нуждаешься. Мы-то можем гулять в нашем саду и в окрестностях города, а ты всегда сидишь в мрачной комнате. Но коль скоро ты так часто это говорил, то когда-нибудь это все-таки, наверное, сбудется.
— Сбудется, мать, — отвечал отец, — сбудется.
Мать попросила нас подтвердить, что у отца никогда не было такого здорового и бодрого вида, как после этой короткой поездки.
Мы признали это.
Но теперь надо было подумать о другой поездке, таким уж оказалось нынешнее лето, и мне с Клотильдой пора было отправиться в горы. Осень уже пришла, как я мог заметить по буковым листьям возле дома, где родился отец, которые уже краснели перед тем, как опасть. Время терять больше нельзя было.
Клотильда свои приготовления закончила, а мне и готовиться не нужно было, потому что я всегда был наготове, так что мы могли начать назначенную поездку без промедления.
Мать очень просила меня заботиться о сестре, отец сказал, чтобы мы с умом наслаждались досугом, и с восходом ясного осеннего солнца мы выехали из ворот нашего дома.
Мне не хотелось навязывать сестре, отправившейся в первую свою большую поездку, соприкосновение в общественном экипаже с чужими людьми, чьи нрав и манеры наперед не известны; поэтому я предпочел ехать на почтовых до тех пор, пока это покажется мне возможным, а затем определять способ дальнейшего нашего передвижения в горы по обстоятельствам. Такой способ путешествия имел и то преимущество, что я мог останавливаться, где пожелаю, и объяснять, что нужно, сестре, не считаясь ни с чьим присутствием в роли свидетеля. Да и в разговорах брата и сестры о родных, о доме и прочем мы могли не стеснять себя. Так мы проехали двое суток. Я часто давал ей передохнуть, поскольку она не привыкла к непрерывной езде, и заканчивал дневной урок пути задолго до вечера. Горы мы видели все время, они тянулись на расстоянии нескольких миль от нашей дороги, но здесь они были не столь значительны. Мне было очень приятно знать, что рядом сидит сестра, видеть ее прекрасное лицо и слышать ее дыхание. Ее сестринская речь, свежесть, с какой она вбирала в свою совершенно ясную душу все новое, были благотворны для меня несказанно.
Всю первую половину третьего дня она отдыхала. На послеполуденное время я нанял карету, и с почтовой дороги мы свернули прямо к горам. Мы ехали в приятном и веселом настроении, беседуя о том и о сем. Когда в ясном, с молочно-зеленоватым отливом воздухе к нам подступали синие горы, взгляд ее светился все радостнее, и весь ее интерес был обращен к местности, в которую мы въезжали. Как у отца, разрумянились после этой трехдневной поездки ее нежные щеки, и в глазах ее появился блеск. Так добрались мы наконец до места, которое я определил для ночлега. Рядом, неся свои горные воды, шумела зеленая Афель, и шум этот еще более усиливала косо пересекавшая русло плотина. Уже поднимались отлогие лесистые склоны, а над темной кромкой совсем уж высокого букового леса виднелась красная вершина озаренной закатом горы, которую уже испещряли полосы снега.
На следующий день я нанял маленькую горскую коляску из тех, что наиболее удобны для езды по тамошним, не почтовым дорогам, лошади этих повозок привыкли к горам и к особенностям горных дорог и потому весьма надежны. Мы разместили кое-как свои вещи и поехали навстречу зеленой Афели, забираясь все глубже в горы. Я называл каждую высокую гору, обращал внимание на формы, старался объяснить краски, освещение, тени. Лиственные леса уже везде начинали багроветь и желтеть, что придавало всем очертаниям приятную мягкость.
Достаточно углубившись в горы, я изменил направление и поехал вдоль их гряды. По прошествии двух дней, на третий, уже за полдень, в глубине долины блеснуло Лаутерское озеро. Мы обогнули широкую лесистую гору, и таких проблесков становилось все больше. Наконец под ветками елок, буков и кленов мы увидели большую часть водного зеркала. Мы стали спускаться в своей колясочке по узкой дороге и часа через два оказались на берегу озера, откуда могли пересчитать все камни в его мелких заливах. Объехав по берегу небольшой участок озера, мы подъехали к тамошнему трактиру. Здесь я расплатился с нашим возницей и остановился на несколько дней. Клотильде досталась та комната, которую я занимал, когда делал замеры озера. Я удовлетворился клетушкой поблизости. Люди восхищались красивой и, как они выражались, благородной девушкой, и я заметно вырос в глазах местных жителей, оттого что у меня такая сестра. Все, кто умел грести, имел опыт с ледовыми крюками и альпенштоком, приходили и предлагали свои услуги. Я говорил, что позову их, когда они понадобятся, и что мы тогда будем очень рады их обществу.
Сначала я немного помог Клотильде устроиться в ее комнате. Я показал и назвал ей наиболее примечательные места, которые были видны из ее окон. Я показал ей, в каких направлениях плавал по озеру, чтобы измерить его глубину, и как нам приходилось бросать якорь то в одном, то в другом месте. Она приготовила краски и рисовальные принадлежности, чтобы попытаться после непосредственного наблюдения из ее комнатки перенести на бумагу что-то из здешних видов.
Следующие дни мы провели в прогулках по окрестностям нашего пристанища, чтобы Клотильда немного вжилась в эти пейзажи. Предсказанная хорошая погода наступила и прочно установилась, и наслаждаться этими прогулками мы могли тем беспрепятственнее, что и состояние нашего здоровья было превосходно, и материнские, а отчасти и мои опасения за Клотильду оказались напрасными. Мы послали письма домой.
Вскоре я стал выводить Клотильду на озеро. Я выводил ее в разные его части, либо красивые сами по себе, либо такие, откуда открывался какой-нибудь замечательный вид. Я помогал ей всем опытом, приобретенным мною в многочисленных походах в горы. Она все глубоко усваивала, и моя помощь избавила ее от всяких окольных путей, которые тот, кто приходит в горы впервые, должен проделать, прежде чем ему откроется их громадность и величавость. В поездках по озеру нам помогали два молодых лодочника, которые постоянно сопровождали меня при моих замерах. Ходили мы и к горам. Я заказал для Клотильды мягкую внутри, но твердую снаружи обувь, которая хорошо защищала ноги от грубой осыпи. На голове у сестры была удобная шляпа с полями, а в руке — специально для нее сделанный альпеншток. Взобравшись на какую-нибудь высоту, мы наслаждались открывавшимся оттуда видом. Наглядевшись, Клотильда пыталась что-то зарисовать или написать красками, но результат бывал еще посредственнее, чем у меня, потому что у нее было меньше необходимого опыта.
По прошествии недели с лишним мы с Клотильдой, на такой же повозке, какая была у нас в горах дотоле, поехали в Лаутерскую долину и в дом «У кленов». Там мы нашли лучшее, чем в приозерном трактире, пристанище, получив две соседние просторные и приятные комнаты, окна которых выходили на стоявшие перед домом клены и через их желтые листья глядели на синеватые вершины на юге. Я показал сестру хозяйке, показал ее старому Каспару, который тотчас же прибыл, узнав о моем приезде, показал и прочим, которые тоже явились во множестве. Ликование было здесь еще больше, чем в приозерном трактире, всех радовало, что в горы явилась такая девушка и что она — моя сестра. Люди предлагали ей свои услуги и приближались к ней с некоторой робостью. Клотильда рассматривала всех этих людей, которых я представлял ей как своих проводников и помощников в работе, она говорила с ними и слушала их рассказы. Она все более вникала в нрав этих людей. Я спросил о своем учителе игры на цитре, потому что собирался показать Клотильде этого человека и хотел, чтобы она услышала его необыкновенную игру собственными ушами. Для этого мы взяли в свой багаж обе наши цитры. Но мне поведали, что с тех пор, как я рассказал, что он ушел с моих работ, о нем ни в ближайших, ни в дальних долинах никто ничего не слышал. Поэтому я сказал Клотильде, что послушать ей удастся только обыкновенных местных музыкантов, каких она уже слыхивала и которые занимали ее больше, чем городские умельцы и чем я, представляющий собою, наверное, нечто среднее между умельцем и музыкантом-горцем. Мы устроились в своих комнатах и зажили примерно такою же жизнью, какою жили у озера. Я сводил Клотильду в Эхерскую долину, к мастеру, изготовившему наши цитры. У него все еще была третья цитра, совершенно такая же, как обе наши. Он сказал, что ее хвалили приходившие покупатели, но это были местные жители, у которых не было денег на такой инструмент. Другие, имеющие средства, главным образом путешественники, предпочитают цитры с пышными украшениями, хотя они и дороже, и не берут тех, достоинств которых оценить неспособны. Он поиграл немного на ней, играл он с большим умением; но в той буйной и мягкой манере, в какой играл мой бродячий егерь и которая так идет именно этому инструменту, ни этот мастер, ни кто-либо, кого мне доводилось слышать, играть не умел. Я сказал старику, что эта девушка — моя сестра и что у нее тоже есть одна из тех трех цитр, которые он назвал лучшими из сделанных им за всю жизнь. Он очень обрадовался этому, дал Клотильде связку струн и сказал:
— Это лучшие мои цитры, и, наверное, останутся лучшими.
Мы побывали в долинах и некоторых горах вокруг дома «У кленов», и Каспар или еще кто-нибудь служил нам проводником и носильщиком.
Сводил я Клотильду и в тот домик, где купил для отца резные панели, сводил ее в каменный замок, где они первоначально, видимо, находились, сводил и в Ротмоор, где она могла взглянуть на работы из мрамора.
В доме «У кленов» мы пробыли дольше, чем в приозерном, и все здесь были приветливее, доверчивее и любезнее, чем там. Хозяйка не уставала предлагать моей сестре всяческие услуги. К концу нашего пребывания здесь наступили прохладные и дождливые дни. Мы проводили их тихо в веселой уютности дома. Но по состоянию листвы на деревьях, по виду осенних растений на горных лугах, по поведению животных и состоянию их шерсти я заключал, что длительная пора холода и ненастья еще не пришла и еще наступят теплые и ясные дни. И поэтому, когда опять разгулялось, я покинул с Клотильдой дом «У кленов» и отправился в Карграт.
В своих предположениях я не ошибся. После двух пасмурных и прохладных дней, проведенных нами в езде, над заснеженными вершинами снова заиграл очень ясный, с утра, правда, холодный, но быстро потеплевший день, за которым последовала череда ясных и теплых дней, убравших снег и с вершин, и со льда глетчеров и обнаживших лед на всем протяжении, на каком он вообще виден был этим летом. На второй из этих ясных дней мы достигли Карграта. Путешествие длилось так долго потому, что мы делали короткие дневные поездки и ехали по горам довольно медленно. Мы поселились в убогом бедном жилье, которое величественные и пустынные окрестности делали еще более убогим. На второй день по приезде, поскольку все было подготовлено, Клотильда последовала за мною на лед Зимми. С нами были проводники, носильщики съестных припасов и прочего, что могло пригодиться в таком путешествии, в том числе и носилок. В первый день мы дошли до привала у кара. Там мы остановились на ночлег в деревянном домике, срубленном для тех, кто совершает восхождение на гребень кара, развели огонь из принесенных нами дров и приготовили себе ужин. На заре следующего дня мы двинулись дальше и в предполуденном сиянии дошли до выпуклости глетчера. О восхождении на гребень кара, естественно, нечего было и думать. Мы осмотрели все, что удавалось осмотреть, и, озябнув, отправились в обратный путь. На привале снова перекусили, а потом спустились совсем. Когда мы вернулись, Клотильда почти без сил прижалась ко мне.
На следующий день я показал Клотильде свои многочисленные зарисовки глетчеров, их обрамлений, выпуклостей, трещин, нагромождений и тому подобного, чтобы она могла сравнить только что увиденное с рисунками. Я на многое обратил ее внимание, многое напомнил ей и, пользуясь удобнейшим поводом, упомянул и о том, как отстает изображение от действительности. В следующие два дня мы посетили еще разные места, откуда можно было рассматривать льды и снега этих гор. Показал я Клотильде и отвесную стену с водопадом. Тут я стал думать о нашем возвращении к родителям. По мере того как шло время, пребывание в этих высоких местах, особенно для привыкшей к городу девушки, становилось все менее полезным. Поэтому я предложил Клотильде добираться до нашей родины по равнине. Она с этим согласилась. В ближайшем большом селении заказали экипаж, который должен был довезти нас до ближайшей почты. Попрощавшись с нашей хозяйкой и ее мужем, а также с нашими носильщиками и проводниками, которые получили еще маленькие подарки, простившись со священником, который порой навещал нас и обращал наше внимание на входившие в его маленькое поле зрения красоты, мы поехали вниз от Карграта в одноупряжной повозке по узкой дороге. Последним, что мы увидели в этом маленьком селении, были покрытая гонтом стена усадьбы священника и гонтом же покрытая стена узкой стороны церкви. Я сказал Клотильде, что такие покрытия необходимы, чтобы защитить кладку от сильных на этих высотах дождей и снегопадов. Мы смогли только мельком взглянуть на оба эти здания, затем их заслонила от нас гора. Мы очень быстро катились вниз, кругом зияли дикие пропасти, и наконец мы въехали в лес, который спускался к низинам, тянулся по ним и был уже уютнее и теплее. Под качанье и скрип нашей повозки мы спускались все ниже и ниже, колеи лесовозных путей впадали в нашу дорогу, которая становилась все тверже и шире, и порой мы ехали уже удобно и ровно.
Когда мы достигли селения, где находилась ближайшая почта, я расплатился с возницей, отправил его назад и взял почтовых лошадей. Мы поехали прямым, кратчайшим путем к более плоским местам, чтобы выехать на тракт, который вел на нашу родину. Горы за нашей спиной становились все ниже и ниже, мягкое осеннее солнце, их освещавшее, окрашивало их во все более синие тона, взгорья, встречавшиеся нам теперь, непрестанно уменьшались, и наконец мы въехали в край полезных человеку земель. Там мы выехали на большое шоссе. До сих пор мы двигались на север, теперь мы переменили направление и поехали на восток. Наши экипажи тоже стали лучше.
Когда мы проехали по этому шоссе весь день, я велел остановиться в одном селении, решив задержаться в нем. Вечер и ночь мы отдыхали. На другой день, около полудня, я повел сестру на какой-то довольно высокий холм. Стоял прекрасный осенний день, дымка, легко окутывавшая с утра холм и низину, сменилась полной ясностью. С помощью винтов я укрепил свою подзорную трубу на стволе дуба и направил ее. Затем велел Клотильде взглянуть и спросил, что она видит.
— Высокую темную крышу, — сказала она, — на которой торчат широкие и мощные дымовые трубы. Под крышей тоже темная каменная стена, а в ней большие окна на сообразных расстояниях. Здание кажется четырехугольным.
— А что ты видишь дальше, Клотильда, если направишь трубу на окружение здания? — спросил я.
— Деревья за домом наподобие сада, — отвечала она. — Стены этого здания такие же светлые, как у наших домов. Еще я вижу поля, на них снова деревья, кое-где дома, наконец, похожие на облака вершины, напоминающие горы, которые мы покинули.
— Это они и есть, — ответил я.
— Уж не?.. — спросила она, отвернувшись от подзорной трубы и взглянув на меня.
— Да, Клотильда, это здание — Штерненхоф, — отвечал я.
— Где живет Наталия? — спросила она.
— Где живет Наталия, где пребывает благородная Матильда, где гостят превосходные люди, куда обращены мои мысли и чувства, где царят славные предметы искусства и где вокруг простирается милый край, — ответил я.
— Это Штерненхоф! — сказала Клотильда, опять заглянула в подзорную трубу и долго смотрела в нее.
— Я с радостью вел тебя на этот холм, Клотильда, — сказал я, — чтобы показать тебе место, где тепло моему сердцу и находится глубокая часть моей души.
— Ах, милый, дорогой брат, — отвечала она, — как часто устремляются мои мысли к этому месту и как часто пребывает моя душа в этих еще неведомых мне стенах!
— Но ты понимаешь, — сказал я, — что сейчас мы не можем отправиться туда и что все должно идти своим естественным ходом?
— Понимаю, — ответила она.
— Ты увидишь их, прижмешь к сердцу и полюбишь, — сказал я.
Клотильда снова заглянула в трубу, она очень долго смотрела в нее, все подробно разглядывая. Я направлял ее взгляд на то, что казалось мне важным, все объяснял, рассказывал о замке и его обитателях.
Тем временем наступил полдень, мы сняли подзорную трубу и медленно пошли к своему пристанищу.
— Нельзя ли увидеть отсюда и дом роз? — спросила она на ходу.
— Отсюда — нет, — возразил я, — отсюда не видно даже самой высокой горы окрестностей дома роз, потому что их закрывает Коронный лес, который ты видишь на севере. Едучи дальше, мы поднимемся на холм, откуда я смогу показать тебе возвышенность, на которой находится этот дом, а в подзорную трубу ты сможешь увидеть и его.
Мы вернулись в свое пристанище и на следующий день поехали дальше. Когда мы доехали до моста, откуда была видна возвышенность Асперхофа, я велел остановиться, мы вышли, я показал Клотильде холм, на котором стоит дом моего гостеприимца, и направил подзорную трубу так, чтобы она увидела дом. Но мы были на таком большом расстоянии от Асперхофа, что даже в подзорную трубу дом виден был только как какая-то белая звездочка. Затем мы двинулись дальше.
Когда за этим днем прошел третий, мы к вечеру въехали в ворота родительского дома в предместье нашего города.
— Матушка, — воскликнул я, когда она и отец, знавший о нашем приезде и потому оставшийся дома, вышли нам навстречу, — я возвращаю тебе ее здоровой и цветущей.
Действительно, Клотильда, как и отец во время его небольшой поездки, благодаря воздуху и движению стала сильнее, бодрее, румянее, чем когда-либо была в городе.
Спрыгнув с экипажа в объятия матери, она приветствовала ее, а затем и отца с великой радостью: ведь она впервые покинула родителей и была долгое время довольно далеко от них. Ее повели к лестнице, а затем в ее комнату. Там она принялась рассказывать, рассказывала она охотно и часто прерывала себя, раскрывая привезенный багаж и доставая оттуда различные вещи, купленные ею в подарок или на память в разных местах или собранные в пути. Я тоже пошел с ней в ее комнату, и, пробыв у нее довольно долго, мы удалились и предоставили ей необходимый покой.
Теперь у Клотильды наступила пора какой-то оглушенности. Она не переставала описывать, рассказывать, листала рисунки или рисовала сама, стараясь восстановить в памяти увиденное.
Но и для меня это путешествие прошло не без пользы. То, что я сказал, наполовину в шутку, наполовину всерьез — что эта поездка успокоит меня, — сбылось. Клотильда, смотревшая на вещи, давно мне знакомые, новыми глазами, вбиравшая в себя все с такой свежестью, ясностью и глубиной, направила мои мысли на себя, дала мне самому что-то свежее, самобытное, наделила меня радостью по поводу ее радости, благодаря чему я мог увереннее размышлять о своих делах и лучше в них разобраться.
Я не договаривался с Наталией о переписке, я об этом не думал, она, наверное, тоже. Наш союз казался мне таким высоким, что он, по-моему, только проиграл бы, если бы мы писали друг другу письма. Мы должны были быть твердо уверены в любви другого, не смели унижать себя нетерпением, должны были ждать, как все пойдет. Поэтому я мог жить с чувством блаженства вдали от Наталии, мог радоваться, что все обстоит так, как обстоит, мог ждать, что предпримут мои родители и близкие Наталии.
Стараясь помочь Клотильде, которая хотела передать красками увиденные ею горы, небо, озера и леса, я показывал ей, в чем она ошибается и как это сделать лучше. Мы знали теперь, что ту нежную силу, которая предстает нам в материи гор, изобразить невозможно и что искусство больших мастеров состоит лишь в наилучшем приближении. Помочь я старался ей и в ее усилиях подражать той манере игры на цитре, которую она узнала в горах, и воспроизводить услышанные там звуки. Нам обоим не удавалось сравняться с нашими образцами, но мы радовались хотя бы своим попыткам. Дважды или трижды я навещал друзей.
Так пришла зима. Уже решив по совету отца навестить моего гостеприимца зимой, я заодно решил побывать зимой и в горах, взойти, если удастся, на какую-нибудь высокую гору и на ледник. Я выбрал для этого январь, как наиболее устойчивый и обычно самый ясный месяц зимы. В самом его начале я выехал из родительского дома и по слепящему снегу, которым все было покрыто вокруг, поехал на санях в места, где жили мои друзья. Погода уже десять дней держалась в меру холодная, снега было обилие, сани летели по дороге, словно по воздуху. Как и прежде я ездил только в открытых повозках, так и теперь, запасшись добрыми шубами, я ехал в открытых санях, радуясь и мягкому покрову, который меня укутывал, и тому, в который было облечено все кругом, радуясь молчащим лесам, одетым инеем, радуясь неподвижно распростершим свои белые решетки плодовым деревьям, радуясь домам, над которыми уютно поднимались дымы, радуясь бесчисленным звездам, которые на холодном и темном небе сверкали ночами ярче, чем когда-либо летом. Я собирался побывать сначала в горах, а потом у моего гостеприимца.
Я доехал почти до Лаутерской долины. Когда пришлось покидать тракт, я нанял одноконные сани, потому что боковые дороги, по которым зимой ездят всегда на одной лошади, для пароконного экипажа слишком узки, и направился к долине и к трактиру «У кленов». Клены простирали в зимний воздух огромные, фантастической формы, оголенные, в волосках веточек руки, многооконный трактир, окрашенный в коричневый цвет, казался в сочетании с лежавшим на его крыше и вокруг него снегом еще более коричневым, чем обычно, а сосновые столы перед домом были разобраны и убраны для сохранности. Хозяйка встретила меня с удивлением и радостью, что я приехал в такое время года, и от души пообещала, что моя комната будет такой теплой и уютной, словно ветра нет и в помине, и такой светлой, словно солнце, если оно вообще светит, светит исключительно в мои окна. Я велел отнести свои вещи в комнату, и веселый огонь вскоре уже запылал в печке, которую, что почти не встречается в горах, топили в комнате же. Хозяйка устроила это так потому, что из сеней подойти к печке было трудно. Немного согревшись и разобрав главные свои вещи, я спустился в главную гостиную. Там были разные люди, случайно заехавшие сюда по дороге или искавшие легкого подкрепления и беседы. Благодаря множеству очень близко друг к другу расположенных окон здесь было такое обилие света, что солнечные лучи зимнего дня играли вокруг столов, а это было тем приятнее, что от горевших в большой печи поленьев комната наполнялась уютным теплом. Я справился о старом Каспаре, он был здоров, и по моей просьбе послали за ним. Я сказал, что хочу подняться от Лаутерского озера к ледяным полям Эхерских гор. Сначала, мол, я собирался посмотреть лед Зимми у верхушки кара, но пробираться к гребню кара зимой очень неприятно, и хотя Эхерские горы несколько ниже, чем Зимми, они все-таки красивее и оправлены несравненно более статными скалами. Все отговаривали меня от этой затеи, зимой туда не пройти, а холод в горах такой, что вынести его невозможно. Я сначала возражал на это, говоря, что именно зимой, по их собственным словам, на Эхерских горах никто не был и, следовательно, ничего не известно точно.
— Но можно представить себе, — отвечали мне.
— Опыт еще лучше, — сказал я.
Тем временем явился старый Каспар. Присутствующие сразу все ему рассказали, и он тоже стал решительно меня отговаривать от этой затеи. Я сказал, что многие естествоиспытатели уже бывали зимою в высоких горах, более высоких, чем Эхерские, ночевали там, а порою и жили по нескольку суток. Мне возражали, что то были другие горы, а в этих такого никак не может быть. Наконец только один старый Каспар согласился сопровождать меня, если уж мне так этого хочется. Но погоду для этого мы должны, полагал он, тщательно выбрать. Я отвечал, что у меня есть приборы, показывающие, когда можно ждать хорошей погоды, что я к тому же немного разбираюсь в небесных приметах и что мне самому не хотелось бы попасть высоко в горах в метель или в длительный туман. Все другие, кто вообще охотно помогал мне в моих горных работах и кого я тоже велел позвать в трактир, наотрез отказались идти со мною в горы зимой. Каспару я сказал, чтобы он готовился. У меня, мол, с собою много разных вещей, из которых он может отобрать то, что ему следует, по его мнению, взять в дорогу. День, когда мы спустимся к озеру, я назову ему позже. Под оживленные разговоры присутствующих об этом предмете я вернулся в свою комнату и провел в ней вечер. Я знал, что теперь они будут говорить об этом до глубокой ночи и что в ближайшие дни моя затея будет для всей долины служить темой бесед. Так никто и не вызвался сопровождать меня и Каспара. Время до начала нашего предприятия я проводил в походах по окрестностям. Я глядел на полные покоя и великолепия леса, на вершины, покрытые огромными массами снега, на стену ледника, с которой свисали тяжелые, иные толщиной с дерево, сосульки, порой с треском ломавшиеся и со звоном падавшие в снег, я поднимался на горы и вглядывался в тихий, словно бы сгустившийся зимний воздух, в белый простор, разрезанный темными лесами, скалами и голубизной далеких горных цепей.
К середине января, когда погода обычно всего устойчивей, появились признаки того, что надолго воцарятся ясные дни. Мягкий ветерок прошлых дней утих, с неба сошла серая пелена, размытые и перистые облака сменились густой синевой. Восточный ветер усиливал холод, снег искрился, а по вечерам в низинах появлялась голубоватая дымка, обещавшая ясное утро и новое похолодание. Мои приборы показывали высокое атмосферное давление и большую сухость.
Я сказал старому Каспару, что теперь мы отправимся. Мы взяли нужное, на наш взгляд, количество альпенштоков, ледовых крюков, кружков для палок, одеял, лопату, топор, кухонную посуду и запас съестного на много дней. С такой кладью мы двинулись к озеру. Там мы разделили свои вещи на два удобных груза, чтобы каждому было как можно легче идти, и дождались следующего утра.
На рассвете мы отправились в путь; в высоких сапогах, специально для этой цели мною заказанных, мы шагали по глубокому снегу дорог, что вели к нужным нам высотам. По этим дорогам, однако, ходили только летом, сейчас и следа их не было видно, и находили их мы только благодаря тому, что очень хорошо знали местность. Мы шли много часов по этому глубокому снегу, затем начались леса, где снега было меньше и продвигаться было легче. На осыпях и косых стенах, потом последовавших, снега было тоже меньше, чем в низине, и идти там зимой было легче, чем показалось мне летом, поскольку неровности, маленькие острые скалы и камни сглаживал снежный покров. Одолев первое предгорье и выйдя на Эхерское плато, откуда снова можно было увидеть темневшее далеко внизу среди белых снегов синее озеро, мы сделали небольшую остановку. Поверхность Эхерских гор, или плато, как еще их называют, вовсе, однако, не представляет собой ровной плоскости. Ровной она кажется лишь по сравнению с ее крутыми спусками к озеру. Она состоит из большого числа соседствующих и следующих друг за другом вершин разной формы и высоты, разделенных глубокими впадинами, то поднимающихся остриями, то покато-широких. Последние покрыты короткой травой, а кое-где карликовыми соснами и густо утыканы скалами. Здесь продвигаться труднее всего. Даже летом трудно сохранять нужное направление, потому что все здесь одинаково, а протоптанной тропы, разумеется, нет — тем более зимой, когда все засыпано и искажено снегом и даже чем-то выделяющиеся очертания принимают непривычный и неузнаваемый вид. В этом краю много пастушьих хижин, летом здесь наверху пасутся стада, но они, при всей своей многочисленности, так разбросаны по местности, что порой месяцами не встречают друг друга. Мы хотели засветло миновать эти места и решили, чтобы не сбиться с нужного направления, поддерживать друг друга своим знанием здешних скал и холмов, поочередно называя и описывая важнейшие из них. На верхнем конце плато, где снова начинаются большие скалы и заблудиться труднее, стоит среди глыб известняка хижина, называемая Козий Выпас, которая была целью сегодняшнего перехода. На краю подъема и в начале плоскогорья, где мы находились, мы устроили привал. Здесь есть один большой камень, почти черный. Примечателен он не столько самим цветом, сколько тем, что благодаря этому цвету, своей величине и своей странной форме он виден издалека и может послужить знаком для тех, кто спускается по плоскогорью от Козьего Выпаса, и успокоить их относительно правильности пройденного пути. Поскольку многим, кто бывает на плато, — пастухам, альпинистам, охотникам — камень этот служит местом сбора, от него идет уже заметно вытоптанная тропа, и при спуске к озеру трудно сбиться с пути. К тому же образуемый этой скалой навес с западной ее стороны хорошо защищает от дождя и сильных западных ветров. Подойдя к скале, мы не обнаружили вокруг никаких следов человека, до самых ее стен лежал нетронутый снег, и от этого она казалась еще более черной. Но на камешках, лежавших под ее навесом, куда снег не попадал, мы нашли место, чтобы присесть, и с готовностью воспользовались этим приглашением, потому что успели уже устать. Каспар распаковал узлы с одеждой и достал две легкие, но теплые шубы и другие меховые вещи, которые я взял для защиты от охлаждения во время отдыха наших разгоряченных ходьбою тел и ног. Облачившись в меха, мы стали подкрепляться едой и питьем. Для этого было достаточно немного вина и хлеба. Покончив с трапезой, я взглянул на термометр, который сразу по нашем прибытии сюда повесил в открытом месте на свой альпеншток, и показал своему спутнику Каспару, что здесь наверху теплее, чем было вчера в это же время суток в долине озера. Солнце очень сильно светило на снег, не было ни малейшего ветерка, на зеленовато-голубоватом небе висело несколько очень тонких белых полосок. С выступа скалы, откуда открывался вид на озеро, можно было довольно легко заметить, что внизу стелется не только более плотный, но и более холодный слой воздуха: хотя озеро вырисовывалось очень четко, по белым или белокрапчатым его берегам тянулась тонкая, с голубоватым отливом дымка, показывавшая, что наш верхний, более теплый слой воздуха граничит там с более холодным, уже стоящим над озером, отчего и образуется эта туманность. Я только взглянул еще на измерители влажности воздуха и атмосферного давления, а потом Каспар собрал наши одеяла и шубы, я — свои приборы, и мы пошли дальше.
С большой осторожностью определяли мы нужное нам направление. В каждом месте, дававшем широкий обзор, мы останавливались, стараясь представить себе характер окружающей местности и определить точку, где мы находимся. Я вдобавок прибегал еще к помощи магнитной иглы. В низинах и впадинах между отдельными взгорьями приходилось пользоваться снегоупорными кружками. Далеко за полдень нам навстречу поднялись самые высокие и темные зубцы Эхерских гор. Когда солнце отстояло от линии горизонта всего лишь на собственную ширину, мы пришли на Козий Выпас. Здесь нам открылась картина на диво. Тут есть место, откуда уже не видно ни озера, ни его окрестностей, но зато на западе хорошо различимы просвет Лаутерской долины и особенно Эхерская долина, где живет мастер, сделавший цитры мне и Клотильде. На эти дали мне хотелось поглядеть, перед тем как мы пойдем в хижину. Но долин мне увидеть не довелось. Влияние соседства верхнего, теплого, и нижнего, холодного, слоев воздуха, которое я заметил уже у черного камня, стало еще сильнее, и у ног моих расстилалось беловато-серое море тумана. Оно казалось огромным, а я над ним как бы висел в воздухе. Над морем торчали кое-где черные рифы скал, оно уходило вдаль, над краем его тянулась темно-синяя полоса далеких гор, а выше поднималось совершенно чистое, густо-золотое небо, на котором стояло яркое, почти ослепительное закатное солнце. Это было непередаваемо величественно. Каспар, стоявший рядом со мною, сказал:
— Глубокоуважаемый сударь, зима, однако, тоже куда как хороша.
— Да, Каспар, — сказал я, — хороша, очень хороша.
Мы постояли, пока не зашло солнце. Небо на мгновение вспыхнуло еще ярче, потом все стало меркнуть и наконец растаяло в полной бесцветности. Только могучие взгорья на юге, где лежал лед, на который мы хотели взойти, еще тлели в неверном свете, а над ними уже загорались звезды. Почти в темноте и почти без дороги мы пошли к хижине, чтобы приготовиться в ней к ночевке. Хижина, как всегда зимою, когда она пустует, не была заперта. Дверь закрывал деревянный засов, который отодвигался очень легко. Мы вошли, вставили в свой фонарик свечу и зажгли свет. Найдя комнату пастушек, мы расположились в ней. На топчанах было сено для спанья, посреди комнаты стоял грубый дощатый стол, по стене шла лавка, а у стола стояла подвижная скамейка. Мы собирались приготовить себе здесь настоящую горячую пищу. Но, к нашему разочарованию, нигде не оказалось ни малейшего запаса дров. На этот случай у меня был с собой винный спирт, позволявший поджарить несколько кусков мяса на мелкой сковороде. Но чтобы согреться, мы предпочли сжечь часть скамейки и возместить хозяину ущерб. Каспар взялся за топор, и вскоре в очаге весело пылал огонь. Был приготовлен ужин, какой мы часто готовили во время наших работ в горах, мы устроили постели на топчанах из сена, одеял и шуб, и после того, как я взглянул на свои измерительные приборы, повешенные на вольном воздухе перед хижиной, мы улеглись. Даже сейчас, поздно вечером, при ясном звездном небе, в хижине было не так холодно, как я предполагал.
Еще затемно мы встали, зажгли свет, полностью оделись, привели в порядок свои вещи, приготовили завтрак, поели и отправились в путь. Верхушка гор чернела на юге, она была нам ясно видна в бледном воздухе над скалой, еще закрывавшей от нас наши ледяные поля. День снова был совсем ясный. Хотя еще не рассвело, мы могли не бояться, что собьемся с дороги, потому что нам нужно было долго идти вверх между скалами, ограничивавшими наше направление с обеих сторон и не позволявшими нам от него отклоняться. В этих впадинах скопился снег, и мы шагали в мутном свете с надетыми на палки кружками. После часа с лишним ходьбы мы вышли на высоту, откуда опять открывается окрестность и тянутся на восток широкие поля. Поднявшись довольно высоко, они огибают на юге скалу и затем открывают вид на ледник, которой был нашей целью. Он спускается мощной громадой с юга к северу, и южная граница его — верхушка Эхерских гор. На полях, куда мы взошли, было уже совсем светло. Однако гор, которые мы должны были увидеть за ними вдали под собой на востоке, не было видно, только по краю покрытых снегом полей уходила куда-то в бесконечность какая-то полоса чуть иного цвета, чем снег, это был туман. Он еще более усилился со вчерашнего дня и омывал нашу высоту как остров. Каспар испугался было. Но я обратил его внимание на то, что небо над нами совершенно ясное, что этот туман очень отличен от того, что с началом дождей или снегопада сначала окутывает верхушки гор тучами, а потом садится все ниже, часто до середины горы, и так страшен путникам; наш туман — не высотный, а низовой, он не покрывает верхушки гор, где заблудиться так страшно, и рассеется, когда солнце поднимется выше. В худшем случае, если он и останется, это будет только горизонтальный слой, не выше уровня черного камня. А путь оттуда вниз нам хорошо знаком, стоит лишь найти наши собственные следы, и можно будет спускаться по ним. Каспар, хорошо знавший жизнь гор, согласился с моими доводами и успокоился.
Пока мы так стояли и говорили, туман на востоке стал в одном месте рассеиваться, снежные поля окрасились в более красивый и приятный цвет, чем свинцово-серый, в какой они до сих пор были окрашены, и в просвете тумана засияла какая-то точка, которая становилась все больше и наконец выросла до размеров тарелки; темно-багровая, она загоралась, как ярчайший рубин. Это солнце, преодолев более низкие горы, прожигало туман. Все краснее становился снег, все четче делались на нем зеленоватые тени; высокие скалы, справа от нас, на западе, тоже чувствовали приближение дневного светила и багровели. Кроме огромного, темного, совершенно ясного неба над нами, больше ничего не было видно, и на всем этом первозданном просторе было лишь два человека, которые со стороны могли бы показаться крошечными. Туман засветился по краю, как расплавленный металл, небо посветлело, и солнце брызнуло из своей пелены сверкающей медью. Блики вдруг вспыхнули на снегу у наших ног и шмыгнули в скалы. День заиграл.
Мы обвязались веревкой и соединились довольно длинной связкой, чтобы — нам предстояло теперь идти по очень косой плоскости, — если один поскользнется, другой его удержал. Летом эта плоскость была покрыта множеством мелких острых камней, поэтому идти по ней было гораздо легче. Зимою же было неизвестно, что под ногами, и на снегу можно было поскользнуться. Без помощи снегоупорных кружков, которые здесь, делая нас неуклюжими, могли стать опасны, мы с большой осторожностью благополучно прошли, развязали веревки, обогнули затем после нескольких часов ходьбы скалы и вышли на ледник и на вечный снег.
На льду, когда мы шли по нему хорошо нам знакомыми направлениями, почти никаких перемен по сравнению с летом не обнаружилось. Поскольку и летом дожди в долине либо вообще не задевают этих высот, либо падают на снег, то и сейчас на леднике было как летом, и мы шагали вперед по знакомым местам. Там, где в ледяных глыбах были трещины и разломы, сверху их покрывал снег, а с боков они выделялись на белом зеленоватым или голубоватым отливом, еще выше, где выпуклость ледника была голой, сейчас лежал снег. Единственная разница состояла в том, что теперь не было ни одной широкой или длинной, обнаженной полосы льда, которая являла бы свой зеленоватый цвет, как то порою случается летом. Мы пробыли некоторое время на льду и там же пообедали вином и хлебом. А под нами между тем произошла перемена. Туман постепенно рассеялся. Часть за частью показывались дальние и близкие горы, опять исчезали, опять показывались, и наконец все сияло на солнце в мягкой, без единого пятнышка тумана, синеве или сверкало золотом или тускло мерцало вдалеке серебром в глубокой тишине и неподвижности. Солнце стояло на небе в одиночестве, которого не нарушало ни одно облачко. Холод и здесь был невелик, меньше, чем то я наблюдал в долине, и не намного больше, чем в летнее время на этих высотах.
Пробыв немалое время на льду, мы тронулись в обратный путь и легко достигли обычного выхода из ледника, откуда начинается спуск через горы. Мы нашли собственные следы, очень ясно различимые на снегу, потому что и зверь забирается сюда редко, и пошли дальше по ним. Счастливо миновав наклон, мы вышли к вечеру на Козий Выпас. Было уже слишком темно, чтобы увидеть еще что-либо из окрестностей. Мы подкрепились в хижине горячим ужином, согрелись остатками скамейки и освежились сном. Следующее утро было опять ясное, в долинах снова лежал туман. Поскольку и ночь оказалась совершенно безветренная, насчет обратного пути через плоскогорье нам можно было не беспокоиться. Наши следы совершенно не стерлись, и мы могли довериться им. Даже там, где мы останавливались, чтобы посоветоваться, и в сторонке втыкали в снег альпеншток, след был отчетливо виден. Мы вышли к черному камню раньше, чем думали. Там мы опять пообедали и во все более рассеивающемся тумане, который здесь, однако, не составлял существенного препятствия, стали спускаться по крутому склону с гор. У их подножья термометр показал действительно более высокую температуру, чем та, которую мы наблюдали в горах. За полдень мы снова уже были в приозерном трактире.
На следующий день мы пошли в трактир «У кленов» в Лаутерской долине. Все окружили нас, желая узнать наши впечатления. Они удивлялись, что наше предприятие оказалось таким простым, но особенно что холод, который и летом-то так резко отличается от тепла долин, зимою, оказывается, не столь ужасен. Каспар стал важным лицом.
А я был до краев наполнен тем, что увидел и нашел наверху. Глубокое волнение, которое теперь всегда жило в моем сердце и побудило меня подняться зимой в горы, не обмануло меня. Высокое чувство вошло в мою душу, почти такое же высокое, как моя любовь к Наталии. Любовь мою это чувство еще более возвышало и облагораживало, и с благоговением перед Господом, сотворившим столько прекрасного и сделавшим нас такими счастливыми, я уснул, когда снова лег в свою постель в уютной комнате трактира «У кленов».
Я не жалел, что прошел освящение этим предприятием, прежде чем отправиться к своему гостеприимцу с зимним визитом.
В Лаутерской долине я задержался ровно настолько, чтобы полюбоваться самыми выдающимися местами в зимнем убранстве и распорядиться, чтобы скамейку, сожженную нами на Козьем Выпасе, возместили владельцу. Затем я направился на санях в сторону Асперхофа. Каспар очень тепло простился со мною, благодаря этому предприятию мы сдружились с ним еще больше, чем прежде. Согревание верхних слоев воздуха, предвещавшее южный ветер, дало себя знать в полную меру на высотах, хотя в низине было еще холодно, тучи окутали горы, пошли над округой и пролились дождем, который падал ледышками и бил мне в щеки, когда я подъезжал к Асперхофу.
Лошадей и сани отогнали на хутор, и я пошел к своему гостеприимцу. Он сидел в своем кабинете и разбирал лежавшие перед ним большою стопою листы пергамента. Я поздоровался и был принят им, как всегда, приветливо.
Я сказал, что после последнего своего приезда в Асперхоф почти все время путешествовал. Сначала я навестил Каспара, где надо было кое-что уладить, затем побывал у родителей, потом ездил с отцом на его родину, затем с сестрой, для ее удовольствия, на некоторое время в горы, а когда наступила зима, побывал на эхерских ледниках, и вот я здесь.
— Вы, как всегда, желанный гость, — сказал он. — Оставайтесь у нас, сколько пожелаете, и смотрите на наш дом как на родительский.
— Спасибо, спасибо, большое вам спасибо, — отвечал я.
Он дернул веревку звонка, лежавшего у его ног, и в комнату поднялась старая Катарина. Он приказал ей протопить мою комнату, чтобы я поскорее мог воспользоваться ею.
— Уже сделано, — отвечала она. — Увидев, что подъезжает молодой барин, я сразу велела Людмиле затопить, огонь уже горит, нужно только надеть наволочки и вытереть пыль. Придется вам чуть-чуть потерпеть.
— Превосходно, — сказал мой гостеприимец, — позаботься только, чтобы все было удобно.
— Уж постараюсь, — ответила Катарина и покинула комнату.
— Пока ваше жилье приводят в порядок, — сказал он, — вы можете сходить со мной к Ойстаху и посмотреть, над чем там сейчас работают. Заодно можно постучать к Густаву и сказать ему, что вы приехали.
Я принял это предложение. Он надел какое-то подобие пальто поверх своей одежды, которая почти не отличалась от летней, и мы вышли из комнаты. Сначала мы направились к Густаву, и я поздоровался с ним. Он бросился мне на грудь, и его приемный отец сказал ему, что он может пойти с нами в столярную мастерскую. Густав не надел никакой верхней одежды, а только сменил домашний сюртук на несколько более теплый и приготовился последовать за нами. Мы спустились по общей лестнице, и когда мы были уже внизу, я заметил, что и сегодня, в неприветливый зимний день, мой гостеприимец ходит с непокрытой головой. На Густаве была очень легкая шапочка. Мы пошли по песчаной площадке к кустам. Льдинки, заиндевевшие и бесформенные, смешивались с седыми волосами моего друга и отскакивали от его хоть и не легкого, но не приспособленного к зимним холодам пальто. Деревья в саду, стоявшие близко от нас, стонали от ветра, все сильнее дувшего с высот в низины и становившегося час от часу неистовее. Так прошли мы к столярной. Сегодня, как и в первый мой приход, из мастерской поднимался дымок, но, в отличие от того раза, он не вздымался ввысь стройной воздушной колонной, а, подхваченный ветром, разрывался и разлетался в разные стороны. Не было и зеленых крон, мимо которых он тогда поднимался, только голые ветки качались на ветру над домом вверх-вниз. На крыше лежал снег. Никаких звуков из дома из-за свистевшего снаружи ветра слышно не было.
Когда мы вошли, к нам подошел Ойстах и поздоровался со мною еще приветливее и теплее, чем то делал всегда. Я заметил, что в мастерской трудится на два рабочих больше, чем то бывало обычно. Появилось, стало быть, много работы или какая-то спешная. После ветра на дворе в доме нам было приятно, тепло и уютно. Ойстах проводил нас через мастерскую в свою комнатку. Я сказал ему, что приехал, чтобы побыть часть зимы в Асперхофе, которого я еще ни разу не видел зимою, проводя зимы обычно в городе, где из-за множества домов и всяческих мер против зимы сущность ее искажается.
— У нас вы сможете увидеть зиму во всей полноте, — сказал Ойстах, — и она всегда очень красива, даже тогда, когда она изменяет своему ладу, напуская теплые ветры, синие тучи и потоки дождя на бесснежную местность. У нас, однако, она не забывается настолько, чтобы, как то случается в южных странах, превратиться в карикатуру лета, принося теплые дни и всякую зелень. Тогда ее, пожалуй, выдержать было бы трудно.
Я рассказал ему о своем походе на эхерский ледник, добавив, что я тоже провел уже немало ясных и ненастных зимних дней на лоне природы, вдали от большого города.
Затем он показал мне рисунки, добавившиеся к прежним, а также чертежи, наброски и прочие планы изделий, которые сейчас были в работе. Среди рисунков было уже несколько сделанных с предметов, принадлежавших кламской церкви, а среди планов многие касались улучшений, намеченных моим гостеприимцем в той церкви, которую я вместе с ним посетил.
Вскоре мы прошли и в мастерскую и осмотрели вещи, находившиеся в работе. Большей частью это были предметы, предназначавшиеся все для той же церкви. Затем я увидел скрепление тонких дубовых и сосновых досок, похожее на фон резных работ на отцовских панелях, увидел я и карнизы, которые тоже подошли бы к панелям. Из мебели в работе был шкаф, который должен был состоять из самых разных, в том числе и редчайших пород дерева, обычно не применяемых для столярных изделий. Мне показалось, что он задуман очень большим, но его назначения и его формы, о которых на основании сделанного еще ничего нельзя было заключить, угадать я не мог. Я не стал спрашивать об этом, а мне ничего не сказали на этот счет.
Пробыв некоторое время в столярной и поговорив и о других предметах, кроме тех, что в ней находились или были связаны с ней, мы ушли оттуда, и мой друг с Густавом проводили меня сначала в дом, а потом и в мои комнаты. В них было уже тепло, судя по звукам, в печи пылал огонь, все было подметено и вычищено, на окнах белели свежие занавески, на кровати и на той мебели, где это полагалось, — чехлы, и все мои дорожные вещи, которые я привез на санях, находились уже в моем жилье. Сказав, чтобы я привел себя в порядок и устраивался, мой гостеприимец вместе с Густавом покинул меня.
Распаковав привезенные с собой вещи, я распределил их так, что обе отведенные мне комнаты приняли довольно уютный для зимы вид, чему способствовало и царившее здесь тепло. Я этого и хотел, независимо от того, долго ли проживу в этих комнатах, что зависело от обстоятельств, предвидеть которые я не мог. В особенности свои книги, письменные принадлежности и приспособления для рисования я разместил так, чтобы это как можно лучше, насколько я мог теперь судить, отвечало моим желаниям. Покончив со всем этим, я переоделся, сменил дорожную одежду на более удобную и домашнюю.
Затем я совершил прогулку. Я поднялся через сад своей обычной дорогой к высокой вишне. По хорошо утоптанной в снегу тропинке я заключил, что здесь часто ходят и что сад этот зимой не заброшен, как то бывает со многими садами, и чего не терпят также мои родители, которые дружны с ним и зимою. Даже боковые дорожки были утоптаны, а кое-где видно было, что после сильного снегопада пускали в ход и лопату. Нежнейшие деревца и другие растения были укутаны соломой, все, чему полагалось находиться за стеклом, было хорошенько закрыто и зашпаклевано, все грядки и помещения, занесенные снегом, были как бы обрамлены и размечены окружавшими их дорожками. Ветви деревьев были освобождены от инея, мелкие снежинки на них не задерживались, и они казались особенно темными, чуть ли не черными среди окружавшего их снега. Они качались на ветру и шумели там, где могучие части большого дерева составляли густую, как бы сплошную массу. На голых ветках еще яснее и чаще видны были прикрепленные к деревьям ящички для гнезд. Но пернатых жильцов не было ни видно, ни слышно. Не было ли их здесь вообще, было ли их мало, делала ли их незаметными буря или они скрывались в каких-то укрытиях, в своих домиках? В ветках высокой вишни ветер бушевал вовсю. Я встал под это дерево возле скамьи у его ствола и посмотрел на юг. Темная решетка деревьев лежала подо мной как черная беспорядочная ткань на снегу, дальше был виден дом с его белой крышей, а еще дальше ничего нельзя было разглядеть. Мелькали лишь бледные просветы или темные пятна в зависимости от того, смотрел ли ты на снежные поля или на леса, но ясно ничего нельзя было разглядеть, и длинными полосами, как бы туманными нитями, из которых ткалась ткань, падал снег с неба.
От вишни я не мог выйти на простор, ибо калитка была заперта. Поэтому я повернулся и пошел к дому другой дорогой.
В тот же день я узнал, что здесь Роланд. Мой гостеприимец зашел за мной, чтобы проводить меня к нему. Ему приготовили в доме хорошую комнату. Там он как раз сейчас писал маслом какой-то пейзаж. Когда мы вошли, он стоял у мольберта, находившегося хотя и посередине комнаты, но дальше от окна, чем то обычно бывает. Второе окно было завешено. На Роланде была полотняная накидка, а в руке он держал палитру и палочку. Увидев нас, он положил то и другое на стоявший рядом с ним столик и шагнул нам навстречу. Мой гостеприимец сказал, что это он привел меня сюда, надеясь, что Роланд не будет против.
— Я очень рад такому гостю, — сказал тот, — но в моей картине, наверное, много недостатков.
— Кто это знает? — сказал мой гостеприимец.
— Я сам вижу, — отвечал Роланд, — и у других, сведущих в этом деле, тоже, наверно, найдется немало замечаний.
С этими словами мы подошли к картине.
Ничего подобного я не видел. Не то чтобы я нашел картину такой уж прекрасной, об этом еще нельзя было судить, поскольку многое пребывало еще в самом начальном состоянии, а кое-что показалось мне вообще непреодолимым. Но по замыслу и по мысли картина показалась мне замечательной. Она была очень велика, больше обычного формата пейзажей и в несвернутом виде ее просто нельзя было бы вынести из комнаты, где она создавалась. Изображены на ней были не горы, не потоки, не равнины, не леса, не морская гладь с красивыми кораблями, а застывшие скалы, высившиеся не в каком-то порядке, а как попало, торчавшие в земле глыбами косо и вразнобой, напоминая норманнов, осевших на не принадлежавших им островах. Но земля здесь не походила на землю тех островов, нет, ее не покрывали издревле знаменитые поля или темные плодоносные деревья, она лежала в трещинах, вздыбленная, без дерева, без кустика, в сухих травинках, в белеющих морщинах с бесчисленными камнями кварца, с россыпями окатышей под иссушающим солнцем. Такова была земля Роланда, так покрывала она огромную площадь очень большими и простыми частями, а над нею, отбрасывая тени, в одиночку и скопом, переливались облака на жарком, глубоком, южном небе.
Мы постояли перед картиной, разглядывая ее. Роланд стоял за нами, и случайно обернувшись, я увидел, что он смотрит на свое полотно горящими глазами. Мы говорили мало, почти молчали.
— Он поставил себе задачей изобразить предмет, которого не видел, — сказал мой гостеприимец, — он представляет его себе только в воображении. Посмотрим, насколько это удастся. Такие или, вернее, подобные вещи мне случалось видеть только далеко на юге.
— Я не имел в виду чего-то определенного, — отвечал Роланд, — а только передавал какие-то свои видения. К тому же мне хотелось писать масляными красками, которые всегда больше привлекали меня, чем мои акварельные, и лучше передают величественность и пламенность.
Присмотревшись к его принадлежностям, я заметил, что у его кистей необыкновенно длинные черенки, и работает он, стало быть, стоя поодаль, что, наверное, и необходимо при такой большой площади полотна и что я заключил и по манере письма. Кисти у него были довольно толстые, и еще я увидел длинные, тонкие палочки, к концам которых были прикреплены угли, которыми он, вероятно, делал наброски. Краски на палитре были в больших количествах.
— Хозяин этого дома так добр, — сказал Роланд, — что позволяет мне орудовать здесь, хотя мне надлежало бы делать нужные нам сейчас зарисовки и работать над чертежами изготовляемых здесь в данное время вещей.
— Все устроится, — ответил мой гостеприимец, — вы уже сделали чертежи, которые мне нравятся. Работайте по своему благоусмотрению. Ваша душа не даст вам сбиться с пути.
Чтобы не мешать больше стоявшему перед своим полотном Роланду, вокруг которого все в комнате было направлено на эту работу, тем более что зимние дни и так-то коротки, мы удалились.
Когда мы шли по коридору, мой гостеприимец сказал:
— Ему надо бы попутешествовать.
С наступлением темноты мы собрались в кабинете моего гостеприимца у натопленной печи. Пришли Ойстах, Роланд, Густав и я. Говорили о разных вещах, но больше всего об искусстве и о предметах, которые как раз находились в работе. Многого Густав, возможно, не понимал, да и говорил он очень мало. Но разговор этот, наверное, способствовал его развитию, и даже непонятное, вероятно, рождало смутные догадки, которые куда-то вели или могли в будущем обрести какую-то твердую форму. Я прекрасно знал это по опыту собственной юности и даже по своему нынешнему.
Вернувшись к себе в спальню, я нашел довольно приятным, что в печи горели поленья из принадлежавшего моему гостеприимцу букового леса, который был частью Алицкого. Я еще почитал и кое-что записал.
На следующее утро шел дождь. Он лил ручьями из синеватых, однообразных туч, мчавшихся по небу. Ветер набрал такую силу, что выл вокруг всего дома. Поскольку дул он с юго-запада, дождь бил в мои окна и заливал стекла. Но дом был построен очень хорошо, и потому единственным следствием дождя и ветра было чувство надежной защищенности в комнате. Нельзя также отрицать, что буря, когда она достигает определенной силы, несет в себе что-то величественное и способна укрепить дух. Первые утренние часы я провел при свете лампы в тепле за письмом к отцу и матери, где сообщал, что побывал на эхерском льду, что при подъеме и спуске соблюдал всяческую осторожность, что никаких несчастных случаев у нас не было и что со вчерашнего дня я нахожусь у своего друга в доме роз. Для Клотильды я приложил отдельный листок, где, основываясь на частичном знании гор, приобретенном ею во время нашего совместного путешествия, дал ей небольшое описание зимнего высокогорья. Когда стало светлее и подошел час завтрака, я спустился в столовую. Здесь я узнал, что зимою Ойстах и Роланд, чье вчерашнее присутствие на ужине я счел случайным, обычно едят с моим гостеприимцем и Густавом. Так полагалось и летом, но поскольку в это время года в столярной мастерской встают и приступают к работе задолго до восхода солнца, часы приема пищи невольно меняются, и Ойстах сам попросил предоставить ему выбор времени и рода его еды, а Роланд в это время года и так обычно не бывает дома. Я никогда не бывал среди зимы в доме роз, а потому и не мог знать об этом обычае. Итак, мой гостеприимец, Ойстах, Роланд, Густав и я сидели за завтраком. Разговор шел главным образом о погоде, которая так вдруг забушевала, обсуждалось, как это произошло, чем это объясняется, говорилось, что это дело естественное, что каждый дом должен быть подготовлен к таким зимним дням и что такие события надо переносить терпеливо, даже уметь находить в них некую приятную перемену. После завтрака все принялись за свою работу. Мой гостеприимец ушел к себе в комнату, чтобы продолжить там начатый им уже разбор пергаментов, Ойстах ушел в столярную мастерскую. Роланд, для которого, несмотря на пасмурный день, света наконец стало достаточно, чтобы взяться за кисть, отправился к своей картине. Густав продолжил свои учебные занятия, а я снова пошел в свою комнату.
Там я некоторое время почитал, сделал кое-какие записи, и хотя буря не только не унялась, а разыгралась к полудню еще пуще, я решил по своей привычке выйти на воздух. Я выбрал подходящую обувь, надел клеенчатый плащ с клеенчатым капюшоном, который нахлобучил на голову, и спустился по людской лестнице. Я направился к решетчатым воротам на песчаной площадке перед домом. Там я был защищен от прямого юго-западного ветра, он доносил только очень крупные для зимнего дождя капли, с шумом падавшие на мой капюшон, мне в лицо, в глаза и на руки. Я немного постоял на площадке, глядя на розы у стены дома. Некоторые стволы были защищены соломой, у некоторых земля над корнями была частично прикрыта одеялами, другие были крепко привязаны, но везде я видел, что никаких чрезвычайных защитных мер не принимали, а все было предохранено только от повреждений извне. Розы мог засыпать снег, следы которого я еще видел, их мог поливать дождь, но ни одного ствола ветер не мог выдернуть, ни одной ветки сломать не мог. Вся стена была и в остальном совершенно сохранна, хлеставший в нее дождь не мог причинить ей никакого вреда. От песчаной площадки я спустился по холму. Снег уже почувствовал силу дождя, который был довольно теплым. Мягкость и пушистость исчезли, появилась какая-то ледяная гладкость, повсюду виднелись как бы обглоданные льдинки. Вода текла по прорытым ею бороздам снега, и в местах, где ее не проглатывали дыры проталин, сбегала на траву. Я шагал, не обращая внимания на дорогу, по водянистому снегу. В самом низу долины я повернул на восток. Я пошел дальше, и, шагая лугами, отдавался тому, что видел. Это было чудесное зрелище: ветер, не в силах уже поднять снег, смывал его дождем, отдельные места уже обнажились, покров сползал как бы полосами, а хмурые тучи неслись над блеклыми полями, ничуть не заботясь о роде людском и делах человеческих.
Наконец, в глубине лугов, я направился к северу, к хутору. Придя туда, я узнал, что хозяин, как здесь запросто называли моего гостеприимца, тоже побывал здесь сегодня, но уже ушел. Он многое осмотрел, отдал много распоряжений. Я спросил, был ли он и сегодня без головного убора, и мне ответили утвердительно. Оглядев хутор и зайдя в разные его помещения, я по-настоящему увидел, какой здесь благоустроенный дом. Дождь падал на него, как на камень, в который он не мог проникнуть и смыть какие-то частицы которого мог только за много веков. Ни одна трещинка не пропускала воды, ни одного изъяна не было в облицовке. Внутри работы шли как каждый день. Работники очищали зерно так называемой веялкой, отбрасывали его лопатами в сторону и насыпали в мешки, чтобы отправить в амбар. Управляющий тоже был занят этим делом, отдавал распоряжения, проверял чистоту зерна. Часть работниц орудовала в стойлах, часть укладывала корм на гумне, часть пряла, а жена управляющего трудилась в молочной. Я со всеми поговорил, и все выразили радость, что я приехал даже в это время года.
От хутора я прошел через усаженное плодовыми деревьями пространство к саду. Калитка с этой стороны дома даже зимою не была заперта. Я прошел в нее и направился к жилищу садовника. Там я снял плащ, по складкам которого текла вода, и сел на чистую белую скамью перед печью. Старик и его жена приняли меня очень приветливо. Во всем их поведении было что-то очень искреннее. Давно уже у этих старых людей было какое-то родительское ко мне отношение. Жена садовника Клара поглядывала на меня как бы украдкой со стороны. Наверное, она думала о Наталии. Старый Симон спросил меня, не хочу ли я сходить в теплицу, посмотреть на растения и зимою.
Кроме желания навестить его и его супругу, такое намерение тоже у меня было, ответил я.
Он надел другой сюртук и провел меня в оранжереи, примыкавшие к его жилищу. Меня действительно очень интересовали растения, поскольку прежде я много занимался ими и мне было любопытно их состояние. Мы обошли все комнаты довольно большого нетопленого дома, а оттуда направились в отапливаемый. Я не только рассматривал, как собирался, растения, но и не торопясь любезно выслушивал рассказы моего провожатого об отдельных экземплярах, весьма подробно распространявшегося о своих любимцах. Это внимание к его речам, а также интерес к его питомцам, который я всегда выказывал ему, да и участие в приобретении cereus'a peruvianus'a, приписываемое им мне, были, вероятно, причиной определенной его привязанности ко мне. Когда мы подошли к выходу из оранжерей, находившемуся напротив его жилья, он спросил меня, не хочу ли я зайти и в дом кактусов, тогда он принесет мой плащ, потому что нам придется пересечь открытое место. Но я сказал, что в этом нет нужды, ведь он тоже пойдет туда, не прикрыв голову, да и моего гостеприимца видели сегодня на хуторе без головного убора, и мне тоже не будет вреда оттого, что я немного пройдусь под дождем без капюшона.
— Да, хозяин ко всему привык, — отвечал он.
— Я привык хоть и не ко всему, но ко многому, — возразил я, — пойдемте прямо так.
Наконец я переубедил его, и мы пошли в дом кактусов. Он показывал мне все растения этого рода, особенно peruvianus, который действительно стал роскошным экземпляром. Садовник распространялся об уходе за этими растениями зимой, сказал, что иные цветут уже в феврале, что не все выносят определенный холод и должны стоять в более теплой части дома, особенно это требуется многочисленным видам cereus'a, а затем перешел к устройству самого дома, подчеркнув с похвалой, что для тех мест, где стекла лежат одно на другом, хозяин нашел такое прекрасное скрепляющее средство, что вода на этих стыках не может проникнуть в дом и при ветре, и вредной для растений влаге путь в оранжерею закрыт. Только благодаря этому в дождливые дни и когда тает снег дом не нужно покрывать досками и затемнять его во вред растениям. Сегодня, сказал он, я и сам могу убедиться, что при таком сильном дожде и ветре ни одной капли в дом не попало. Досками этот дом вообще не покрывают. От града он защищен толстым стеклом и сеткой, на случай холодных ночей применяются циновки из соломы, а снег сметают метлой. Мне было и в самом деле любопытно, что здесь стеклянная крыша не протекает, отцу такая крыша всегда доставляла неприятности, и я решил узнать у моего гостеприимца, как это достигается, чтобы передать его опыт отцу. Когда мы на обратном пути проходили через другие теплицы, я увидел, что и здесь никаких протечек нет, и мой провожатый подтвердил это.
Посидев еще немного в квартире садовника и поговорив с его женой, я стал прощаться. За то время, что мы ходили по оранжереям, жена садовника стерла с поверхности моего плаща всю воду и вообще привела его в более удобный и приятный вид. Я поблагодарил ее, сказав, что вскоре он, вероятно, опять изомнется, дружески распрощался и отправился к себе.
Там я основательно переоделся и пошел к своему гостеприимцу. Он как раз был занят Густавом, который отчитывался о своих утренних работах. Я попросил позволения пройти в картинную или еще куда-нибудь.
— Читальная и картинная комнаты, а также комната с гравюрами протоплены, как положено, — отвечал мой гостеприимец, — а в библиотеке, мраморном зале и на лестнице довольно тепло. Ни одна комната не заперта. Располагайте ими как у себя дома.
Поблагодарив, я удалился. Зная здешний распорядок дня, я понимал, что он продолжит свои занятия с Густавом.
Сначала я пошел к мраморной лестнице. Я хотел выйти к ней сверху. Пройдя из людского коридора в верхнюю часть коридора мраморного, я надел, как здесь полагалось, стоявшие наготове войлочные башмаки и стал спускаться по гладкой, прекрасной лестнице. Дойдя до ее середины, где находится широкая площадка, я остановился: это и была цель моего похода. Я хотел поглядеть на мраморную фигуру. Даже сегодня, в свинцовом свете, замутненном к тому же текущей но стеклянному своду водой и падавшем как-то вяло, зрелище это было замечательное и возвышенное. Величественная дева, всегда спокойная и прелестная, была сегодня, в текучей пелене приглушенного света, хотя и сумрачна, но полна мягкости, и строгость дня сливалась со строгостью ее несказанно прекрасных черт. Я долго смотрел на статую. Как и при каждой новой встрече, она опять была для меня нова. Как ни запала мне в душу после недавних событий ослепительно белая фигура фонтанной нимфы в Штерненхофе, она была все же изваянием нашего времени и была для нас постижима. Здесь же представала сама древность во всей своей величавости. Что есть человек и как он возвышается, когда ему дано пребывать в таком окружении, да еще при величайшем изобилии подобного окружения?
Я снова медленно поднялся по лестнице и пошел в мраморный зал. Его громадность, его пустота, темный, если так можно выразиться, блеск, мелькавший при неверном и переменчивом свете дня на его стенах, не подавляли после встречи с изваянием древности. В этот хмурый день зал показался мне еще больше и строже, чем обычно, и мне хотелось побыть в нем, хотелось почти так же сильно, как в тот вечер, когда мой гостеприимец, при отдаленных вспышках на грозовом небе, ходил по этому залу взад и вперед. Теперь я тоже ходил по нему взад и вперед, глядел на тусклые блики от бури за окнами и снова вспоминал статую, которую только что видел.
Через некоторое время я вышел в дверь, что вела в картинную. В сумрачном блеске дня картины теряли выразительность даже тогда, когда художник применял сильнейшие средства светотени, ибо не хватало того, что только и помогает писать картины, — мощи солнечного и ясного дня. Даже подходя к картинам, которые я особенно любил, даже сев на стул перед одним Гвидо, стоявшим на подвинутом к окну и потому лучше освещенном мольберте, чтобы рассмотреть картину как следует, я не мог проникнуться чувством, которое обычно рождали во мне эти произведения. Вскоре я понял причину: она состояла в том, что гораздо более высокое чувство вызвала у меня в душе древняя статуя. Картины казались мне чуть ли не маленькими. Я пошел в библиотеку, взял из шкафа «Одиссею», направился с нею в читальную комнату, где за тонкой решеткой камина приветливо пылал веселый огонь, друг человека, дарующий ему в темноте свет, а в северные зимы тепло, и где царили чистота и порядок, и под шорох дождя за окнами стал читать с первой строки. Чужеязычные слова, когда-то принадлежавшие далекому времени, образы, которые во всей их своеобычности входили через эти слова в наше время, сливались с увиденной мною на лестнице девой. Когда появилась Навсикая, у меня возникло то же ощущение, что при нервом настоящем осмотре мраморной статуи: твердые каменные одежды стали легкими, нежными, члены пришли в движение, на лице заиграла жизнь, и статуя предстала мне Навсикаей. Воспоминание о том вечере и заставило меня прибегнуть к гомеровским строкам, после того как я поднялся по лестнице в мраморный зал и не нашел в нем утоления. Когда герои кончили пир в зале, когда позвали певца, когда прозвучали слова той песни, слава которой тогда достигала небес, когда Одиссей закутал голову, чтобы не видно было полившихся у него из глаз слез, когда, наконец, Навсикая просто и растроганно остановилась у колонн входа в зал, передо мной, улыбаясь, явился прекрасный образ Наталии. Она была Навсикаей сегодня, такая правдивая, такая простая, она не выставляла напоказ своего чувства и не скрывала его. Оба образа сливались друг с другом, и я читал и в то же время думал, то читал, то думал, а после того как очень долгое время только думал, я взял со стола лежавшую передо мной книгу, отнес ее в библиотеку, поставил на место и вернулся через мраморный зал и коридор с комнатами для гостей в свое жилище.
Труд первой половины дня был исполнен.
К обеду снова собрались те же лица, что и за завтраком. Поев простой, но полезной и здоровой пищи, приготовленной, как всегда в доме роз, превосходно, дружески и весело поговорив, мы поднялись, чтобы снова заняться своими делами, которые для каждого были значительны и важны, состояли ли они в приобретении знаний, как почти целиком у Густава, в продвижении ли в каком-то искусстве или на поприще науки или в верном устройстве собственной жизни.
На вторую половину этого дня было намечено особое дело, для которого должен был явиться и Роланд, прекратив сегодняшнюю работу над своею картиной. С предложением о продаже в дом прибыла некая коллекция гравюр на меди, и осмотр ее назначили на вторую половину дня. Мой гостеприимец пригласил и меня. Гравюры лежали в двух папках в комнате моего гостеприимца. Мы прошли по лестнице для слуг в его комнату и подвинули стол с гравюрами ближе к окну, чтобы лучше рассмотреть листы. Папки были раскрыты, и вскоре стало видно, что собиратель хранившихся в них листов не был человеком, имеющим какое-либо представление о глубине искусства, о его серьезности и о его значении для человеческой жизни. Коллекционер он был самый заурядный, сосредоточенный на количестве и разнообразии листов. Теперь он лежал в могиле, а его наследники, видимо, понятия не имели ни об отношении искусства к человеческой жизни, ни о коллекционировании вообще, отчего и предложили купить все листы моему гостеприимцу, о котором слышали, что он охотник до таких курьезных вещей. Наряду с ничего не стоящими изделиями грабштихеля в нынешней пошлой манере, какие печатают в книгах и альбомах ради денег, наряду с литографиями рисунков пером и мелом здесь были также кое-какие неплохие современные произведения и, главное, несколько ценных старинных работ. Мой гостеприимец и оба его помощника высказывали по поводу гравюр новые для меня суждения, благодаря чему я узнал о значении этого искусства больше, чем знал раньше. Поскольку оно способно передавать произведения больших мастеров всех времен, поскольку картину, которая существует в одном экземпляре и недоступна многим, находясь в недостижимо далеком от них месте, а порою, будучи чьей-то личной собственностью, недоступна и тем, кто живет рядом, оно способно размножить ее и выставить напоказ во многих местах, да и в далеком будущем, искусство это заслуживает величайшего внимания. Если оно не потрафляет какой-то процветающей в определенное время манере, а старается передать выразившуюся в картине душу художника, если оно передает не только материал картины, от нежности человеческого лица и человеческих рук до блеска шелка, гладкости металла, шероховатости скал и ковров, но даже и примененные художником краски — разными, но всегда ясными, легкими, изящными линиями, никогда не случайными, никогда не выпячивающимися, никогда не образующими просто какое-то пятно, всегда заново найденными для овладения каждым новым предметом, — тогда оно, правда, не может сравниться с живописью по непосредственному воздействию на зрителей, но может быть признанно равным ей как искусство вообще, потому что оно воздействует на большее число людей и оказывает на тех, кто не может увидеть воспроизведенных картин, тем более глубокое и полное эстетическое воздействие, чем глубже и благороднее оно само. Это я все больше понимал в общении со своим гостеприимцем, и это стало мне особенно ясно, когда рассматривали гравюры и говорили об их качестве и о средствах, путях и воздействии гравировального искусства вообще. Подробно рассмотрев лучшие листы, обстоятельно обсудив их достоинства и недостатки, решили, что ради лучших листов стоит купить всю коллекцию, если цена ее не превзойдет определенной суммы, которую можно по справедливости заплатить. Скверные листы следует затем уничтожить, потому что своим существованием они не только не оказывают хорошего действия, но и направляют чувства того, кто не видит ничего лучшего, по более грубому и ложному направлению, чем то, какое бы они приняли, если бы не знали ничего, кроме произведений самой природы. Человеческий дух, сказали собеседники, загрязняется от лжеискусства больше, чем от непричастности ко всякому искусству. Когда стало смеркаться, гравюры были уложены в папки, стол отодвинут на свое место, и мы разошлись.
Буря скорее усилилась, чем утихла, и дождь бил в окна ручьями.
Вечером мы опять собрались в кабинете моего гостеприимца, не было только Густава, потому что он еще был занят у себя в комнате своим дневным уроком. Прежде чем мы сели за ужин, мой гостеприимец записал в свои книги показания приборов, относившиеся к атмосферному давлению, влажности, теплу, электричеству и тому подобному, затем обошел весь дом, все осмотрел в нем, проверил, выполнили ли домашние порученную им работу, чем они сейчас занимаются и как повлияла на все сегодняшняя буря.
За ужином, после того как мы быстро утолили голод и весело поговорили, состоялось еще чтение вслух из одной новой тогда книги. Речь там шла большей частью о шелководстве и шелкопрядении, и особый раздел касался того, как этот промысел пришел с самого дальнего Востока в Сирию. Аравию, Египет, Византию, на Пелопоннес, на Сицилию, в Испанию, Италию и Францию. Мой гостеприимец утверждал, что своей тонкостью эти роскошные материи, состоящие из шелка и золота или серебра, своей нежностью ткани, своей мягкостью в сочетании со слабым мерцанием резко отличаются от нынешних с их жесткостью и грубым блеском, а что касается смелости, изящества и богатой фантазии узоров, то тринадцатый и четырнадцатый века гораздо предпочтительнее позднейших времен и особенно нашего. Он, мол, слишком поздно обратил внимание на эту область старины, являющую почти ветвь искусства. Замечательно было бы собрать коллекцию этих материй, но заняться этим он уже не может, потому что это потребовало бы поездок по всей Европе и даже по значительным частям Азии и Африки и было бы не по силам одному человеку. Какие-то объединения или государства могли бы создать такие коллекции для сравнения, для обучения, просто для обогащения самой истории. В богатых монастырях, в ризницах знаменитых церквей, в сокровищницах и других хранилищах королевских дворцов и больших замков можно было бы найти многое, что, будучи собрано в коллекцию, обрело бы язык и смысл. Сколько всего привезено было после крестовых походов в Европу, если даже простые рыцари возвращались с богатой добычей золота и драгоценных материй и не только на церковных празднествах, коронациях, процессиях, но и в обычной жизни появилось больше блеска, чем то было прежде. Какой отсвет должна была бросать эта область и на современную ее расцвету эпоху, когда строились те замечательные церкви, величавые остатки которых восхищают нас и поныне, какие пути открывала она к орнаментике той эпохи в каменотесном искусстве, в резьбе по слоновой кости и по дереву, более того, к зарождению расцветших позднее великих школ живописи на севере и на юге Европы, как, наверное, могла бы она навести даже на мысли о воззрениях народов, об их связях и торговых путях! Ведь это делают и монеты, печати и прочие прикладные вещи. Роланд сказал, что он хочет заняться поисками таких материй.
В тот вечер мы разошлись позднее обычного.
На следующее утро, когда я встал и рассвет уже позволил поглядеть в окно, я увидел, что все покрыто свежим снегом и он все еще падает густыми хлопьями. Ветер немного утих, должно быть, похолодало еще больше.
В тот день мы все вместе совершили довольно большую прогулку. Мы обошли сад, посмотрели, не нужно ли что-нибудь поправить, зашли в теплицы, заглянули на хутор, а вечером читали дальше книгу о шелкопрядении. Снегонад продолжался до сумерек, потом на небе показались просветы.
Как эти два, прошло еще много дней, а мой гостеприимец все не приступал к сообщениям, которые он обещал сделать. Помимо того времени, что каждый проводил у себя за своей работой, мы совершали прогулки по окрестностям, это было тем приятнее, что после ненастных дней по моем прибытии установилась ясная, тихая и холодная погода. Я много времени проводил в обществе моего гостеприимца, наблюдал за ним, когда он кормил своих птиц под окном или когда заботился о пропитании зайцев за пределами своего сада, что было вдвойне необходимо из-за глубоких навалов снега. Ездили мы и на санках, чтобы навестить соседей, что-то обсудить или просто насладиться на ходу чистым воздухом, а однажды я ездил со своим гостеприимцем к мосту, который он должен был осмотреть с работниками, чтобы построить его весной заново, — моего гостеприимца нещадно нагружали общественными обязанностями; несколько раз мы побывали в разных частях лесов, чтобы посмотреть, как идет рубка деревьев, предназначенных для строительства и для обработки в столярной мастерской, а рубить лес полагалось именно в это время года. Побывали мы еще раз и в Ингхофе, посмотрели тамошние теплицы. Управляющий и садовник с готовностью все нам показывали. Хозяин же поместья был со своей семьей в городе.
Однажды мой гостеприимец зашел в мое жилье, что он часто делал, отчасти чтобы навестить меня, отчасти чтобы посмотреть, не испытываю ли я недостатка в чем-то необходимом. Поговорив о том о сем, он сказал:
— Вы знаете, наверное, что я барон фон Ризах.
— Я долго этого не знал, — отвечал я, — но уже довольно давно знаю.
— Вы ни у кого не справлялись?
— После первой ночи, которую я провел в вашем доме, я справился у одного крестьянина, и тот ответил, что вы — асперский управляющий. В тот же день я навел справки и в большем отдалении, но ничего толком не узнал. Позднее я уже не спрашивал.
— А почему не спрашивали?
— Вы мне не назвали себя, из этого я заключил, что вы сочли ненужным сообщать мне свое имя, а из этого я вывел для себя правило не спрашивать вас, а не спрашивая вас, не смел спрашивать и других.
— Здесь во всей округе меня называют асперским хозяином, — сказал он, — потому что у нас принято называть владельца имения по имению, а не по фамилии. Название имения переходит в народе по наследству к любому хозяину, а фамилия его при перемене владельца меняется, и людям приходилось бы запоминать новое имя, для чего они слишком косны. Некоторые местные жители называют меня и асперским управляющим, как именовался мой предшественник.
— Однажды я случайно услышал ваше настоящее имя, — сказал я.
— В таком случае вы, наверное, знаете также, что я состоял на государственной службе, — ответил он.
— Знаю, — сказал я.
— Я для нее не годился, — отвечал он.
— Вы, стало быть, говорите нечто противоречащее тому, что я до сих пор слышал о вас от всех. Все дружно хвалят вашу государственную деятельность.
— Они, может быть, имеют в виду отдельные результаты, — отвечал он, — но они не знают, с каким душевным напряжением таковые дались мне. Им невдомек также, каковы были бы эти результаты, если бы их добивался другой, с такими же способностями, но с большей внутренней склонностью к государственной службе, а то и с еще большими способностями.
— Так можно сказать о любом обстоятельстве, — возразил я.
— Можно, — ответил он. — Но тогда и не надо сразу хвалить все, что не вовсе не удалось. Выслушайте меня. Государственная или вообще общественная служба в нынешнем ее развитии охватывает большое число лиц. Для этой службы закон требует определенной подготовки и определенной последовательности ступеней этой подготовки, и так оно и должно быть. Поскольку возникает надежда, что по завершении требуемой подготовки и прохождении ее ступеней ты сразу найдешь занятие на государственной службе и через определенное время продвинешься на такие высокие места, которые обеспечат семье приличные средства, большее или меньшее число юношей посвящают себя государственной деятельности. Из числа тех, кто успешно проходит предписанный путь подготовки, государство выбирает своих слуг и в целом должно выбирать из них. Нет сомнения, что и вне этого круга есть люди, способные к государственной службе, весьма, даже необыкновенно способные, но, кроме из ряда вон выходящих случаев, когда их способности по особому стечению обстоятельств выходят на свет и взаимодействуют с государством, оно не может их выбрать, потому что не знает их и потому что выбор без близкого знакомства и без той поруки, которую дает надлежащая подготовка, опасен, грозит путаницей и беспорядком в делах. И каковы бы ни были те, кто прошел годы подготовки, государство вынуждено брать их. Порой среди них много даже больших дарований, порою их меньше, а порой в общем налицо лишь посредственность. На этом свойстве человеческого материала государство и должно было построить свою службу. Существо этой службы должно было принять такую форму, чтобы дела, нужные для достижения государственных целей, двигались непрерывно и неослабно, независимо от того, лучшие или худшие работники сменяют друг друга на отдельных местах. Я мог бы привести пример и сказать, что лучшие часы — те, которые будут идти верно независимо от такой замены частей, когда плохие окажутся на месте хороших, а хорошие на месте плохих. Но такие часы вряд ли возможны. А государственная служба должна была иметь эту возможность или, после того развития, какого она достигла сегодня, перестать существовать. Ясно, что форма этой службы должна быть строгая, что нельзя, чтобы отдельное лицо исполняло ее иначе, чем то предписано, что ради сохранности целого частности приходится даже исполнять хуже, чем то следовало бы сделать только со своей точки зрения. Значит, пригодность души к государственной службе, помимо других способностей, состоит, по существу, либо в том, чтобы уметь ревностно заниматься мелочами, не зная их связи с общим и целым, либо же в том, чтобы, обладая достаточно острым умом, видеть связь мелочей с целым ради всеобщего блага и потому заниматься этими мелочами с охотой и рвением. Второе делает истинный государственный деятель, первое — так называемый хороший слуга государства. Я не был ни тем, ни другим. С самого детства, хотя я ни тогда, ни в юности этого не знал, у меня было два свойства, которые прямо-таки противоречили сказанному. Во-первых, я любил распоряжаться своими поступками. Я любил сам намечать то, что нужно сделать, и выполнять это собственными силами. Из этого выходило, что я уже в детстве, как рассказывала моя мать, предпочитал брать какое-нибудь кушанье, какую-нибудь игрушку и тому подобное, чем получать их из чьих-то рук, что я противился помощи, что в детстве и юности меня называли непослушным и упрямым, а в зрелые годы упрекали в своенравии. Но это не мешало мне воспринимать чужое, если оно подкреплялось какими-то доводами и высшими побуждениями, как свое собственное, и осуществлять его с великим воодушевлением. Однажды в жизни я сделал это вопреки своей сильнейшей склонности во имя чести и долга. Я расскажу вам об этом позднее. Из этого следует, что упрямцем в обычном смысле слова я не был, а уж в старости, когда люди вообще становятся мягче, определенно таковым не являюсь. Вторым моим свойством было то, что я всегда отделял успехи моих поступков от всего чужеродного, чтобы ясно видеть связь желаемого и достигнутого и уметь управлять своими поступками в будущем. Действие, предпринимаемое только по предписанию и для соблюдения формы, доставляло мне муки. Из этого следовало, что дела, конечная цель которых была мне чужда или неясна, я делал кое-как, а дела, даже если их цель достигалась с трудом и лишь через множество промежуточных звеньев, доводил до конца с усердием и радостью, как только мне становились ясны и близки главная цель и цели промежуточные. В первом случае я напрягал все силы лишь благодаря представлению, что цель тут хоть и неясная, но высокая, причем всегда был тороплив, отчего меня и поругивали за нетерпение. Во втором случае силы появлялись сами собой, и дело доводилось до конца с величайшим терпением, с использованием всего отпущенного срока, отчего меня опять-таки называли упрямцем. Вы, наверное, видели в этом доме вещи, по которым вам стало ясно, что я умею преследовать какие-то цели с большим терпением. Странно вообще, и в этом, наверное, больше смысла, чем полагают, что к старости дальновидность планов растет, ты думаешь о вещах, лежащих далеко за пределами всякой жизни, чего в молодости не делал, и старость сажает больше деревьев и строит больше домов, чем молодость. Видите, мне не хватает двух главных для слуги государства качеств: умения подчиняться, основного условия всякого распределения людей, и умения деятельно включаться в некое целое и усердно трудиться для целей, лежащих вне твоего поля зрения, что является не менее важным условием всякого распределения занятий. Я всегда хотел менять что-то основополагающее и улучшать устои, вместо того чтобы делать что в силах в заданных обстоятельствах, я хотел сам ставить себе цели, хотел делать всякое дело так, как оно лучше само по себе, не глядя на целое и невзирая на то, что из моих действий где-то возникнет брешь, от которой вреда будет больше, чем пользы от моего успеха. Когда я едва вышел из детского возраста, меня направили по пути, которого я не знал, как не знал и себя, и я шел по нему сколько мог, раз уж вступил на него, потому что мне было стыдно не исполнить свой долг. Если благодаря мне получилось что-то хорошее, то причина заключалась в том, что, с одной стороны, я отдавал все силы службе и ее требованиям, а с другой стороны, события того времени ставили такие задачи, при которых я мог сам составлять планы действий и сам претворять их в жизнь. Но как страдала моя душа, когда я совершал действия, противные моей натуре, я сейчас вряд ли смогу передать вам, да и тогда не был в состоянии выразить это. В то время мне всегда и неотвратимо приходило на ум такое сравнение, что существо с плавниками заставляют летать, а существо с крыльями — плавать. Поэтому в определенном возрасте я сложил с себя свои должности. Если вы спросите, нужно ли в государственной службе столь большое число людей, нельзя ли выделить часть общих дел в их нынешнем виде в особые дела, поручив их особым корпорациям или лицам, которых они главным образом и касаются, что сделало бы государственную службу обозримее и дало бы возможность выдающимся талантам больше участвовать в составлении и осуществлении планов на благо всем, то я отвечу: вопрос этот, конечно, очень важен, и правильный ответ на него имеет значение величайшее. Но именно правильный во всех его частностях ответ — одна из самых трудных задач, и я не решусь сказать о себе, что мог бы этот правильный ответ дать. Да и предмет этот слишком далек от нашего сегодняшнего разговора, и мы сможем поговорить о нем в другой раз, в какой мере мы вообще способны о нем судить. Одно несомненно: если в нынешней государственной службе и нужны перемены и если эти перемены в том смысле, на который я намекнул, произойдут, то в общих переменах, которым государство, как все человеческие дела и как сама земля, подвержено, правомерно и нынешнее его состояние, оно есть звено цепи и уступит место своим преемникам так же, как само родилось от своих предшественников. Мы уже не раз говорили о призвании, о том, как трудно узнать свои силы в такое время, когда нужно указать им нужное направление, то есть выбрать жизненный путь. В наших разговорах мы имели в виду главным образом искусство, но это же относится к любому другому жизненному занятию. Силы редко бывают так велики, чтобы они бросались в глаза и наводили родственников молодого человека на подходящий для него предмет или сами на этот предмет бросались. Кроме свойств моей души, которые я вам сейчас поведал, было у меня еще одно особое, существенность которого я понял очень поздно. С детства у меня была тяга создавать вещи, воспринимаемые чувственно. Просто связи и соотношения, а также отвлеченные понятия мало для меня значили, мой ум не вбирал их в себя. Когда я был маленьким, я складывал рядом разные вещи и давал этому скопищу название какой-нибудь местности, которое мне случалось часто слышать, или сгибал прутик, стебелек или еще что-нибудь в какую-нибудь фигуру и давал ей имя, или делал из какой-нибудь тряпочки своего двоюродного брата, свою двоюродную сестру. Даже тем отвлеченным понятиям и соотношениям, о которых я говорил, я придавал какой-то вид и таким образом запоминал их. Например, я и сейчас помню, что в детстве часто слышал слова «набор рекрутов». У нас тогда появился новый кленовый стол, доски которого скреплялись темными деревянными клиньями. Поперечный разрез этих клиньев казался на толще стола, на стыке досок, какой-то темной фигурой, и эту фигуру я называл «набор рекрутов». Эта чувственная отзывчивость. присущая, наверное, всем детям, делалась у меня, но мере того как я рос, все явственнее и сильнее. Меня радовало все, что можно было воспринять чувствами, ощутить: первая травинка, почки на кустах, цветение растений, первый иней, первые снежинки, свист ветра, шум дождя, даже молния и гром, хотя я их и боялся. Я ходил смотреть, когда плотники тесали бревна, когда строили хижину, приколачивали доску. Даже слова, дававшие чувственное представление о предмете, были мне гораздо милее тех, что давали ему лишь общее обозначение. Так, например, мне было гораздо интереснее, когда говорили: «Граф едет верхом на пегом», а не «Он едет верхом на лошади». Я рисовал красным карандашом оленей, всадников, собак, цветы, но с особым удовольствием города, составляя из них чудесные фигуры. Я делал из влажной глины дворцы, из коры — алтари и церкви. Я называю эту склонность жаждой творчества. Она есть в той или иной мере у многих. Но еще большему числу людей свойственна жажда сберечь, самое уродливое проявление которой — скупость. Даже в поздние годы эта жажда не унимается. Когда мне однажды довелось жить у нашей прекрасной реки и я в первую зиму впервые увидел ледоход, я не мог на него наглядеться, на то, как сталкиваются и трутся друг о друга более или менее круглые льдины. Даже в последующие зимы я часами стоял на берегу, наблюдая, как образуется лед, особенно ледяной покров. То, что многим так неприятно — съезжать с квартиры и переезжать на другую, — доставляло мне удовольствие. Мне было радостно складывать вещи, распаковывать их, обживать новые комнаты. В юные годы сказалась еще одна сторона этого влеченья. Я любил не просто образы, а прекрасные образы. Это было уже в детских увлечениях, красные краски, звездоподобные или замысловато сплетенные вещи привлекали меня больше других. Но свойство это тогда до моего сознания не очень-то доходило. В юности меня пленили образы, созданные в виде тел ваянием и зодчеством, в виде плоскостей, линий и красок живописью, в виде череды чувств в музыке, человечно-нравственных и житейски примечательных картин в поэзии. Я отдавался этим образам всей душой и искал похожего на них в жизни. Скалы, горы, облака, деревья, которые походили на них, я любил, а несхожие презирал. Люди и человеческие поступки, которые им соответствовали, привлекали меня, а другие отталкивали. То было, я понял это поздно, естество художника, открывшееся во мне и требовавшее своего осуществления. Стал бы я хорошим художником или средним, не знаю. Но большим, наверное, не стал бы, ибо следует полагать, что тогда талант все-таки прорвался бы и нашел свой предмет. Может быть, я ошибаюсь и в этом, и проявились тогда скорее лишь задатки для понимания искусства, чем задатки для того, чтобы его создавать. Но как бы то ни было, силы во мне бродившие, скорее мешали, чем способствовали деятельности слуги государства. Они требовали образов и были заняты образами. Но поскольку само государство — это порядок общественных связей людей, то есть не образ, а некое построение, то работа государственных деятелей направлена большей частью на связи и соотношения звеньев государства или разных государств, ее результаты — некое построение, а не образ. Если в детстве я должен был придавать отвлеченным понятиям, чтобы усвоить их, некий образ, то в зрелые годы, на государственной службе, когда речь шла о делах государственных, о требованиях других государств к нам или нашего к другим, я представлял себе государства как некое тело, некий образ и привязывал их отношения к их образам. Никогда мне также не удавалось смотреть на собственные дела нашего государства или только на его пользу как на высший закон и путеводную нить своих поступков. Благоговение перед сутью вещей было у меня так велико, что при осложнениях, спорных притязаниях и необходимости уладить какие-то дела я обращал внимание не на нашу выгоду, а только на то, чего требовала суть вещей и что соответствовало их естеству, чтобы они не переставали быть самими собой. Это мое свойство доставило мне много неприятностей, навлекло на меня высочайший выговор, но принесло мне также уважение и признание. Когда мое мнение принималось и шло в ход, то поскольку оно основывалось на сути вещей, новый порядок их приобретал прочность, предотвращая новые нелады и новое напряжение сил, оно приносило нашему государству больше пользы, чем прежние односторонние выгоды, и я получал почетные награды, похвалы и повышения. Когда в те дни тяжелого труда мне вдруг выпадала передышка и я в какой-нибудь поездке видел величественные очертания горы или гряду облаков, или голубые глаза милой деревенской девушки, или стройное тело юноши на красивом коне — или когда я просто стоял в своей комнате перед своими картинами, которых тогда уже довольно много собрал, или перед какой-нибудь небольшой статуей, в мою душу входил такой покой, такое блаженство, словно она возвращалась в свою стихию. Если во мне был художественный дар, то это был дар зодчего или скульптора, или, может быть, живописца, но не поэта, и уж никак не композитора. Первые из названных занятий привлекали меня все сильнее и сильнее, последние были от меня дальше. Если же то, что проявилось во мне, было больше любовью к искусству, чем творческой силой, то все-таки это была и способность к образам, точнее способность воспринимать образы. Если такое качество делает счастливым прежде всего его обладателя — ведь всякая сила, даже творческая, существует прежде всего ради ее обладателя, — то оно касается и других людей — ведь опять-таки всякая сила, даже самая странная, не может оставаться замкнутой в человеке, а переходит на других. Совсем неверно часто повторяемое утверждение, что каждое великое произведение искусства должно оказывать на свою эпоху большое воздействие, что произведение, которое оказывает большое воздействие, является и великим произведением искусства и что там, где оно никакого воздействия не оказывает, об искусстве нельзя и говорить. Если какая-то часть человечества, какой-то народ чист и здоров телом и духом, если его силы развиты равномерно, а не непропорционально устремлены в одну сторону, то этот народ с искренней теплотой воспримет чистое и настоящее произведение искусства, этому народу не нужно учености, а нужны лишь его простые силы, которые воспримут и взлелеют это произведение как нечто однородное с ними самими. Но если способности народа, как бы велики они ни были, устремлены в одну сторону, если, к примеру, они направлены только на чувственное наслаждение или порок, то произведения, которые могут оказать большое воздействие, должны быть направлены в сторону преимущественного приложения сил, к примеру, изображать чувственные наслаждения и порок. Чистые произведения такому народу чужды, он от них отворачивается. Так и получается, что благородные произведения искусства могут какую-то эпоху трогать и воодушевлять, а потом приходит народ, которому они уже ничего не говорят. Они закутывают свою голову и ждут, когда придут другие поколения, которые снова будут чисты душой и поднимут к ним взоры. Они улыбнутся этим людям, и те поместят их, как спасенные святыни, в свои храмы. У испорченных народов вдруг блеснет иногда, но очень редко, как одинокий луч, какое-то чистое произведение, но его не замечают, а позднее его открывает какой-нибудь исследователь человечества, как того праведника в Содоме. Но чтобы служение искусству сохранялось, в каждую эпоху появляются люди, наделенные глубоким пониманием произведений искусства, они яснее видят их части, с теплом и радостью впускают их в свою душу и через нее передают своим современникам. Если творцов называют богами, то такие люди — священнослужители этих богов. Они замедляют шаги беды, когда служение искусству приходит в упадок, а когда после тьмы должно опять стать светлее, несут светоч вперед. Если я был таким человеком, если мне было суждено черпать радость в созерцании высоких образов искусства и мироздания, которые всегда приветливо улыбались мне, и передавать свою радость, свое понимание, свое благоговение перед этими образами окружающим, то моя государственная служба была большой помехой на этом пути, и скудные поздние цветы не могли заменить жаркого лета, свежий воздух и теплое солнце которого уходили вотще. Печально, что не так-то легко выбрать путь, который для каждой жизни лучше любого другого. Я повторю то, о чем мы не раз говорили и с чем согласен ваш достопочтенный батюшка, — что человек должен ради себя выбирать такой жизненный путь, на котором его силы осуществятся полностью. Тем самым он наилучшим, по его возможностям, образом послужит миру. Тягчайший грех — выбирать жизненный путь исключительно для того, чтобы, как часто выражаются, быть полезным человечеству. Тогда надо отказываться от самого себя и в буквальном смысле зарывать свой талант в землю. Но как обстоит дело с этим выбором? Общественные наши условия стали такими, что для удовлетворения наших материальных потребностей необходимы очень большие средства. Поэтому молодых людей, прежде чем они осознают самих себя, наставляют на такие пути, которые позволяют им приобрести все нужное для удовлетворения этих потребностей. О призвании и речи тут нет. Это скверно, очень скверно, и от этого человечество все больше превращается в стадо. Где выбор еще возможен, потому что не нужно печься о так называемом куске хлеба, там следовало бы хорошенько осознать свои силы, прежде чем определять круг их приложения. Но не следует ли выбирать в юности, потому что потом будет поздно? А всегда ли можно осознать свои силы в юности? Это трудно, и те, кто в этом участвует, должны действовать как можно менее легкомысленно. Но оставим этот предмет. Я хотел сказать вам то, что сказал, прежде чем расскажу вам о своих связях с близкими вашей невесты. Я сказал вам это для того, чтобы вы могли как-то судить о положении, в каком я сейчас нахожусь. Для продолжения определим другое время.
После этих слов разговор перешел на иные предметы, а потом мы еще предприняли прогулку, и тогда к нам присоединился Густав.
4. Ретроспекция
Без какого-либо прямого или косвенного побуждения или просьбы с моей стороны мой гостеприимец не далее как через день продолжил свои сообщения. Он спросил, можно ли ему провести некоторое время у меня в комнате, и я, разумеется, ответил утвердительно. Мы сели у приятного, тихого огня, поддерживаемого большими и плотными буковыми чурбанами, он откинулся в мягком кресле и сказал:
— Мне хочется, если вы согласны, завершить сегодня свои сообщения. Я позаботился, чтобы нам не мешали. Скажите только, угодно ли вам слушать меня.
— Вы знаете, что это не только приятно мне, но это и мой долг, — ответил я.
— Сначала я должен рассказать о себе, — начал он, — это, пожалуй, совершенно необходимо. Я родился в деревне Далькрейц, в так называемом Заднем Лесу. Вы знаете, что название Задний Лес уже не означает того, о чем оно говорит. Когда-то это наименование распространялось как бы на всю местность, которая идет от нашей реки на север грядой холмов, в том числе и через земли Далькрейца. Далькрейца тогда не было, он возник, вероятно, с первыми хижинами лесорубов. Теперь по всем холмам тянутся поля, луга и пастбища, и лишь остатки прежних лесов строго глядят сверху на эти земли. Дом моего отца стоял вне того селения, рядом с некоторыми другими, но все же достаточно вольно, чтобы открывать вид на луга, поля, сады и очень красивую полоску леса на юге. Десятилетним мальчиком я знал все местные деревья и кусты и мог их назвать, знал все главные растения и камни, знал все дороги, знал, куда они вели, и побывал уже во всех соседствующих с нами селениях. Я знал всех собак в Далькрейце, знал, какого они окраса, как их зовут и чьи они. Я донельзя любил луга, поля, кусты, наш дом, и колокольный звон нашей церкви казался мне самым прелестным и милым, что может быть на земле. Мои родители жили в мире и согласии, еще была у меня сестра, участвовавшая в моих мальчишеских походах. К нашему дому, имевшему всего один этаж, по белоснежному и издалека светившемуся среди зелени, принадлежали луга, поля и рощица. Домашнее хозяйство отец поручал работникам, а сам занимался торговлей льном и холстом, заставлявшей его часто разъезжать. Еще в детстве я был определен наследником всего этого, но прежде должен был получить в учебном заведении необходимое образование. У отца после смерти его родителей, которых я мало знал, не осталось никаких родственников. У матери, которую отец привез издалека, был еще брат, но он с ней поссорился, оттого что она, выйдя из состоятельной семьи, вступила в союз, унижавший, как он выражался, ее сословие, и помирить его с ней ничто не могло. Мы ничего о нем не знали, всякие упоминания о нем избегались, и, бывало, имя его не произносилось годами. Дела моего отца, однако, шли в гору, и он был чуть ли не самым уважаемым человеком в округе. В год, на исходе которого я должен был отправиться в учебное заведение, случилось много несчастий. Градом побило поля, часть дома сгорела, а когда все это восстановили и наладили, скоропостижно умер отец. Нерадивый опекун, вероломные деловые друзья, поставившие сомнительные требования, неудачный судебный процесс, вызванный этим, привели мать в такое положение, что она должна была тревожиться о нашем будущем. Когда все наконец уладили, она ограничивалась самым необходимым. Осенью мне пришлось покинуть любимый дом, любимую долину и любимых родных. С убогим снаряжением, под присмотром одного старшего школьника, я прошел пешком довольно длинный путь до учебного заведения. Там я принадлежал к самым бедным. Но мать присылала мне то, что могла, так исправно и так вовремя, что, хоть многого у меня никогда не было, но необходимое для существования было. В училище действовал такой обычай, что мальчики старших классов давали дополнительные уроки младшим и получали за это какое-то вознаграждение. Поскольку я был одним из лучших учеников, на четвертом году моего обучения за мною уже закрепили нескольких мальчиков для уроков, и я мог уменьшить расходы матери на меня. Спустя два года я зарабатывал уже столько, что мог целиком содержать себя сам. Каждые каникулы я проводил у матери и сестры в белом доме. О вступлении в наследство речи уже не было. Я думал, что благодаря своим знаниям создам себе какое-то положение и когда-нибудь оставлю дом и землю сестре на черный день. Так подошло время, когда я должен был занять какое-то место в жизни. Тогдашняя подготовительная школа, которую я окончил, вела лишь к нескольким видам службы и делала человека скорее негодным, чем годным для прочих. Я выбрал государственную службу, потому что другие ступени, на которые я мог подниматься по моим теперешним знаниям, были мне еще меньше по душе. Мать не могла помочь мне советом. Благодаря чрезвычайной бережливости я скопил небольшую сумму денег. С нею и с тысячей материнских благословений, орошенный прощальными слезами любимой сестры, я отправился в город. Я пошел пешком через нашу долину, стараясь всякими наблюдениями подавить слезы, накатывавшиеся у меня на глаза. Когда очертания наших лесов остались позади, когда осеннее солнце озаряло уже совсем другие поля, когда моя молодость взяла свое, на душе у меня постепенно стало легче, и я уже не боялся, что каждый встречный заметит, что я вот-вот расплачусь. Решимость, внушившая мне отправиться в большой город и там искать счастья на государственной службе, заставила меня держать свой путь все быстрее и тверже и строить тысячи блестящих воздушных замков. Дойдя до того края, где наша возвышенность большими уступами спускается к реке и начинаются совсем другие пейзажи, я еще раз оглянулся, благословил матушку, которая была уже на расстоянии целого дня пути от меня, мысленно погладил красивые, с длинными ресницами веки сестры, всегда бледноватой, благословил наш белый дом с красной крышей, благословил все оставленные позади поля и леса и теперь уже и вправду с тяжелыми слезами на глазах сошел вниз на дорогу, которая тогда, проходя под высокой сенью листвы, была одним из переходов, связывавших более суровое Нагорье с приречной низменностью. Сделав три шага, я уже не мог видеть очертаний моей родины, ее оконечность — это было все, что различали мои глаза и что меня еще долго сопровождало. Передо мною открывались совсем другие картины. Мне казалось, что я должен повернуть, чтобы снова увидеть оставшееся позади. Но я этого не сделал, стыдясь самого себя, я быстро шагал по дороге, спускаясь все ниже. Да мне и нельзя было медлить, если я хотел засветло добраться до реки, где на следующее утро должен был сесть на судно. Осеннее вечернее солнце играло в ветвях, слышались крики синиц, таких же, как те, что все еще резвились в моей родной горной рощице, мне встречались то возница, то пеший путник, я шел дальше с тяжестью на сердце, и когда зашло солнце, услыхал шум реки, которая стала мне теперь так важна, и увидел ее золотой вечерний блеск.
Я забываюсь, — прервал себя мой гостеприимец, — и рассказываю вам вещи не столь важные. Но есть воспоминания, которые, каких бы незначительных для других предметов они ни касались, приобретают для их хранителя в старости такую яркость, словно в них таится вся красота прошлого.
— Прошу вас, — возразил я, — продолжайте и не лишайте меня картин, оставшихся вам от прежних времен, они лучше западают в душу и легче соединяют то, что нужно соединить, чем если передавать лишь плоские тени живой жизни. Да и мое время, если только ваше не отмерено строже, не такое препятствие, чтобы вы что-либо опускали в своем рассказе.
— Мое время, — отвечал он, — отмерено либо так, чтобы я только и делал, что размышлял о своем близком конце, либо так, чтобы я распоряжался им как хочу. Ведь какие еще исключительные дела могут быть у такого старого человека? Но те несколько часов, что ему еще отпущены, он может разве что приводить в порядок цветы, как пожелает. Ничем другим я, собственно, и не занимаюсь в этом имении. Да и то, что я хочу сказать, не совсем неважно для вас, как то выяснится впоследствии. Поэтому я продолжу, как уж получится.
Ночь я спокойно проспал, а утро застало меня на одном из тех неказистых суденышек, которые тогда ходили вниз по нашей реке со всякими грузами, а также брали пассажиров. Несколько молодых людей, искавших такого же, как я, или подобного занятия, стояли на палубе и даже не раз брались за весла, потому что на стрежне наше судно несло, и городок, где мы ночевали, уходил, проглядывая сквозь утренний туман, все дальше назад. Песни и речи, доносившиеся из толпы моих спутников, оказывали на меня свое воздействие, и я становился сильнее и решительнее.
Когда вечером второго дня нашего плавания за береговыми кустами выглянула высокая, стройная, словно бы воздушно-голубая башня города, жителем которого и я должен был стать, когда раздались выкрики и показался знак, который через час с небольшим уже будет достигнут, сердце мое забилось в груди опять беспокойнее. Эта примета прошедших веков, думал я, видевшая столько больших и великих судеб, будет теперь взирать и на твою маленькую, как бы она ни сложилась, — хорошо или плохо, а когда та в конце концов истечет, будет глядеть на другие судьбы. Мы ускорили ход, потому что все с надеждою налегли на весла, наиболее решительные запели, и не прошло и часа, как наше судно причалило к каменной оправе реки, откуда видны были очень высокие дома. Один ученик постарше, который провел в городе уже два года и теперь возвращался с каникул, прожитых у родителей, предложил мне показать постоялый двор для пристанища, а завтра помочь мне подыскать комнатку для жилья. Я благодарно принял его предложение. Под аркой постоялого двора, куда он меня привел, он попрощался, пообещав зайти за мной завтра чуть свет. Он сдержал слово, я еще не успел одеться, как он уже стоял в моей комнате, и прежде чем солнце достигло зенита, мои вещи были размещены в найденной нами и снятой для меня комнатушке. Он попрощался и отправился к хорошо знакомому ему обществу. Позднее я редко видел его, потому что свела нас только поездка, и его поприще было совсем иным, чем мое. Когда я вышел из своей клетушки посмотреть город, меня снова охватил очень большой страх. Эти дебри стен и крыш, эти немыслимые толпы людей, друг другу сплошь незнакомых и куда-то спешащих, невозможность, пройдя несколько улиц, разобраться, где я нахожусь, и необходимость, чтобы добраться домой, спрашивать дорогу на каждом шагу — все это действовало на меня удручающе: ведь я до сих пор всегда жил в семье и бывал в местах, где знал каждый дом и каждого человека. Я пошел к директору правоведческого училища для зачисления на подготовку к государственной службе. Благодаря моему отличному аттестату он принял меня очень хорошо и призвал не поддаваться соблазнам большого города в ущерб прилежанию. Бог мой, при таких моих скудных средствах большой город был для меня просто лесом, деревья которого не имели ко мне никакого отношения, своей чуждостью он скорее побуждал меня к прилежанию, чем отвлекал. В день начала занятий я, зная уже кое-какие нужные мне пути, пошел в это высшее училище. Там кипела большая толпа. Здесь учили всем предметам, и на все предметы находились ученики. Большинство их казались очень способными, образованными и расторопными, так что я, уповая на свои лишь малые силы, снова усомнился в том, что поспею здесь за другими. Я направился в назначенную мне аудиторию и сел на одно из средних мест. Урок начался и кончился, как начинались и кончались теперь они во множестве. В них и во всем городе все еще было для меня что-то необычное. Милее всего мне было сидеть в своей комнатке, думать о своем прошлом и писать очень длинные письма матушке.
Когда прошло некоторое время, в душе моей прибавилось мужества и сил. Наш учитель, почтенный советник юридической палаты, учил методом опроса. Я усердно записывал его лекции в свои тетради. Когда уже большое число моих соучеников было опрошено и наконец настал мой черед, я увидел, что многим, превосходившим меня одеждой и манерами, я в нашем предмете не уступаю, а многих и обогнал. Это постепенно научило меня ценить чуждые мне дотоле условия города, и они становились мне все ближе и ближе. Некоторых учеников я знал и прежде, ибо они перешли сюда из того же учебного заведения, что и я, с другими познакомился здесь. Когда моя наличность, которую я распределял очень строго, заметно пошла на убыль, один мой соученик, мой сосед по скамье, слышавший от меня, что я прежде давал уроки, предложил мне позаниматься с двумя его маленькими сестрами. Ежедневно встречаясь, мы с ним подружились и были друг к другу расположены. Услыхав дома, что для девочек ищут учителя, он поэтому предложил меня и сказал мне об этом. Родители пожелали со мной познакомиться, он отвел меня к ним, и я был принят. Успехом увенчались и шаги, предпринятые мною по своему усмотрению, чтобы зарабатывать уроками. Успех был, правда, незначителен, на особый я и не рассчитывал, но успех был. Так исполнилось то, к чему я стремился, переселившись в большой город. Я жил теперь без забот, стал в доме своего друга, куда меня часто приглашали, как бы своим человеком и мог со всем усердием посвятить себя изучению своего предмета.
В первые каникулы я навестил мать и сестру. В моем чемодане были самые лучшие аттестации, и я мог рассказать им и о прочих своих немалых успехах. В совсем другом настроении, чем год назад, покинул я в конце каникул материнский дом и отправился в город.
После второго года я не мог уже поехать к своим родным. Я стал известен в городе, моя метода занятий с детьми нравилась многим семьям, на меня появился спрос, мне повысили жалованье. Зарабатывая поэтому больше, я всегда что-то откладывал про запас и, радуясь такому ходу дел, нашел в себе достаточно сил, чтобы наряду со своим предметом заниматься еще своими любимыми науками — математикой и естествознанием. Одна только была помеха — что семьи, где я давал уроки, не хотели, чтобы я прерывал занятия какой-то поездкой. Требование это можно было понять, я переписывался с родными еще оживленнее прежнего и договорился с ними, что навещу их не раньше чем по окончании учения, но тогда проведу у них несколько месяцев. Этим были довольны и те, у кого я служил.
Город, такой жуткий для меня поначалу, делался мне все милее. Я привык к тому, что вижу на улицах и площадях чужих людей и лишь редко встречаю среди них знакомых. Это казалось мне теперь чем-то очень светским и если прежде угнетало мне душу, то теперь закаляло ее. Хорошее влияние оказали на меня большие научные и художественные сокровища города. Я посещал хранилища книг и картин, любил ходить в театр и слушал хорошую музыку. Во мне всегда жило устремление к наукам, и теперь, при благоприятных обстоятельствах, я мог давать ему волю. Все нужное мне, чего я не мог по своим средствам приобрести, я находил в хранилищах. Поскольку я так называемым удовольствиям не предавался, находя удовольствие в своем устремлении, времени мне хватало, а поскольку я был здоров и крепок, доставало и сил. Весьма радовали меня некоторые прекрасные здания, особенно церкви, а также статуи и картины. Я проводил порой целые дни, тщательно разглядывая мельчайшие их подробности. Познакомился я и с некоторыми семьями, где меня принимали, и постепенно круг моих знакомств становился шире.
На втором году моего учения вышла замуж моя сестра. Ее молодого супруга я знал и раньше. Это был очень хороший человек, без страстей, без дурных привычек, даже домовитый и деятельный, с приятной внешностью, но ничего более собою не представлял. Этот брак не доставил мне ни радости, ни огорчения. Я так любил сестру, что мне всегда казалось, что в мужья ей годится только человек замечательнейший. Это, пожалуй, был не тот случай. Мать писала мне, что мой шурин очень почитает свою супругу, что он долго и упорно ухаживал за ней и наконец покорил ее сердце. Они, писала мать, живут в нашем доме, и там же он тихо и прилежно ведет свое небольшое торговое дело, которым они кормятся. Я написал ответное письмо, где пожелал новобрачным удачи и счастья и попросил зятя любить, беречь и уважать свою супругу, полагая, что она того заслуживает. Ответ все это обещал, да и на последующих письмах лежала печать тихого домашнего мира.
Так подошло время, когда я завершил годы учения последними экзаменами. Я уже собрал вещи в дорогу, чтобы, как договорились, увидеть родных после долгой разлуки, когда пришло письмо, написанное рукою сестры, со множеством следов слез и с сообщением о смерти нашей матери. Она заболела некоторое время назад, болезнь не сочли опасной и, зная, что я готовлюсь к последним экзаменам, мне о ней, чтобы не беспокоить меня, не стали сообщать. Так тянулось десять дней, состояние матери быстро ухудшалось, и не успели они опомниться, как больная скончалась. Я тотчас собрал все нужное для поездки и написал несколько строк одному из друзей, прося его оповестить моих знакомых об обстоятельствах, ему изложенных, и извинить меня за то, что уезжаю не попрощавшись. Затем я пошел на почту и заказал место в карете. Спустя два часа я уже сидел в ней, и хотя мы ехали и ночью и днем, хотя на последней станции, где ответвлялась дорога на мою родину, я нанял сам лошадей и, меняя их, продолжил путь без перерывов, прибыл я все-таки слишком поздно, чтобы еще раз увидеть бренные останки матери. Она уже покоилась в могиле. Только в ее платьях, ее мебели, в шитье, лежавшем на ее столике, я увидел следы ее существования. Я бросился на диван, заливаясь слезами. Это была первая большая утрата в моей жизни. Когда умер отец, я был слишком мал, чтобы по-настоящему ее ощущать, хотя первая боль была тогда несказанно сильна и я думал, что не переживу ее, она против моей воли день ото дня уменьшалась, пока не стала как бы тенью, а по прошествии нескольких лет я уже не мог и представить себе отца. Теперь было иначе. Я привык смотреть на мать как на образец величайшей семейной чистоты, как на образец терпения, кротости, порядка и постоянства. Так стала она центром наших мыслей, и мне и в голову не приходило, что когда-нибудь может быть по-другому. Только теперь я понял, как мы любили ее. Ее, которая ничего не требовала, никогда не заботилась о себе, которая все молча отдавала другим, которая любую превратность судьбы принимала как предначертание неба и в спокойном уповании доверила своих детей будущему, — ее не было больше. Сердце ее спало под покрывалом земли, спало, может быть, так же смиренно, как некогда под белым покрывалом в ее комнате. Сестра была как тень, она хотела утешить меня, а я не знал, не нуждается ли она в утешении еще больше, чем я. Супруг сестры пребывал в каком-то смирении, он молчал и занимался привычными делами. Через некоторое время я попросил показать мне свежую могилу. Я выплакал там свою душу и помолился за мать царю небесному. Вернувшись домой, я обошел все покои, где она в последнее время жила, особенно задержался в ее собственной комнатушке, в которой все оставили так, как было, когда она заболела. Зять и сестра предложили мне, даже попросили меня пожить немного у них. Я согласился. В задней части дома, которую я всегда больше всего любил, еще до болезни матери, преимущественно ее руками, для меня была приготовлена комната. В этой комнате я и поселился, распаковав там свой чемодан. Два ее окна выходили в сад, белые занавески были повешены еще матерью, а простыня предупредительно разглажена ее пальцами. Я не решался дотронуться до чего-либо, боясь что-то разрушить. Долго я просидел в этой комнате неподвижно. Затем я опять обошел весь дом. Он показался мне совсем не тем, где прошли дни моего детства. Он показался мне очень большим и чужим. Квартиры, где устроились сестра и ее супруг, прежде не было, зато исчезла комната отца и матери, остававшаяся в прежнем виде и после его смерти, не нашел я и нашей детской, которую, когда я приезжал на каникулы, всегда заставал такой же, как прежде. Весь дом был переустроен. Придя на чердак, я увидел, что поврежденные места крыши исправлены, заменена черепица, а на кромках, где раньше лежали круглые черепичины, щели были на новый манер заделаны цементным раствором. Все это причинило мне боль, хотя все было естественно и в другое время я вряд ли обратил бы на это внимание. Но теперь душа моя была взволнована болью, и мне казалось, будто вместе с матерью вытолкнуто из дома все старое.
Я тихо зажил в своей комнате, читал, писал, ежедневно ходил на могилу матери, бродил по полям и рощам, держась подальше от людей, потому что они всегда говорили о моей утрате и бередили словами мою рану. В доме тоже было очень тихо. У молодоженов детей еще не было, мой зять, человек простого и мирного нрава, большею частью находился вне дома, сестра управлялась с домашними делами с помощью одной-единственной служанки, и когда наступали сумерки, выходившая на улицу дверь запиралась на железный засов, открытой оставалась только дверь в сад, но и ее перед отходом ко сну сестра запирала собственноручно. Семейное счастье супругов казалось прочным, это смягчало мою боль, и я простил зятя за то, что он не такой человек, чтобы большим талантом и парением души вознести сестру к небесному счастью.
Так прошло несколько недель. Перед отъездом я сходил еще в судебную управу, отказался там в пользу сестры от всяких притязаний на родительское наследство и переписал свои права на сестру. Так супруги были обеспечены на всю жизнь, какую дарует им небо. Моим наследством было образование, и я надеялся, что приобретенными знаниями и теми, которые еще приобрету, сумею заработать себе на жизнь. Затем, сопровожденный благодарностью и самыми теплыми пожеланиями сестры и зятя, я снова уехал в город.
Там я стал теперь жить очень уединенно. Денег у меня было скоплено столько, что я должен был отдавать преподаванию лишь малую часть своего времени. Остальное время я употреблял для себя, занявшись естествознанием, историей и политическими науками. Настоящей своей специальности я уделял как-то меньше внимания. Науки и искусство, от наслаждения которыми я никогда не отказывался, целиком заполняли мою душу. На людях я бывал теперь меньше, чем когда-либо. Необходимость отдавать все время обучению специальности, а кроме того зарабатывать на жизнь уже в прежние годы приучили меня к одиночеству, и так я продолжал жить и теперь.
Однако длилось это недолго. Уже через полгода после того, как я покинул могилу матери, от зятя пришло известие, что к могилам отца и матери в нашем семейном склепе прибавилась третья — могила моей сестры. После смерти матери она так и не собралась с силами, и неожиданная простуда унесла ее жизнь. Зять писал мне, как я видел, в искреннем горе, что теперь он совсем один, что все ему уже не в радость, что он собирается жить в одиночестве, что, хотя покойница назначила его своим наследником, он рад будет поделиться со мною, детей у него нет, единственная его радость лежит в могиле, до имущества ему теперь нет дела, а тот небольшой кусок хлеба, который нужен для его простой жизни, он найдет себе на то время, которое ему осталось прожить до того, как он последует за Корнелией. Поскольку он очень любил мою сестру, поскольку ее письма ко мне всегда повествовали об их счастье, я отдал ему наше небольшое имущество, написав ему, что не имею никаких притязаний и что он может безраздельно владеть этим наследством. Он поблагодарил меня, но я увидел по его письму, что особой радости от моего подарка он не испытывает.
Я теперь уединился еще более, и жизнь моя была очень грустна. Я много рисовал, порой лепил что-нибудь из глины и даже пытался изобразить кое-что красками. Через некоторое время я получил от друзей предложение пожить в одной образованной и состоятельной семье репетитором мальчика на очень выгодных условиях, среди которых было и то, что я не буду связан, а смогу отлучаться, а порою и совершать небольшие поездки. В том запустении, в каком я тогда пребывал, будущая жизнь в семье была для меня довольно заманчива, и я принял это предложение с условием, что буду волен в любую минуту порвать эти отношения. Условие это было принято, и через три дня я поехал в поместье пригласившей меня семьи. Оно представляло собою приятный дом вблизи больших молочных ферм, принадлежавших одному графу. Дом этот находился почти в двух днях пути от города. Он был очень просторный, стоял на солнечном месте, был окружен славными лужайками и имел при себе большой сад, где выращивались овощи, фрукты и цветы. Хозяином дома был человек, живший на изрядную ренту, не состоявший ни на какой службе и никакой другой деятельностью для заработка не занимавшийся. Так мне описали его, прибавив, что человек он очень хороший, с которым поладит любой, что у него замечательная, заботливая жена и что, кроме мальчика, в семье есть еще девочка-подросток. Преимущественно эти обстоятельства и побудили меня согласиться. Мое имя, сказали мне, названо этой семье в одном доме, с которым она была очень тесно связана и где меня всячески рекомендовали. На последнюю почтовую станцию за мною прислали коляску. Был прекрасный послеполуденный час, когда я въезжал в Гейнбах, так называлось это имение. Мы остановились под высокой аркой ворот, двое слуг спустились по лестнице, чтобы взять мои вещи и показать мне мою комнату. Когда я еще вынимал из коляски какие-то книги и другие мелочи, спустился и хозяин дома, любезно со мной поздоровался и сам провел меня в мое жилье, состоявшее из двух приятных комнат. Он сказал, чтобы я здесь устраивался, заботясь лишь о своем удобстве, что одному из слуг велено исполнять мои приказания и чтобы я, когда буду готов и если пожелаю поговорить с его супругой еще сегодня, вызвал звонком слугу, который и отведет меня к ней. Затем он покинул меня, учтиво попрощавшись. Человек этот мне очень понравился, я снял запылившуюся одежду, умылся, разложил в комнате лишь самое необходимое, оделся, как полагается для визита, и велел спросить хозяйку дома, можно ли мне явиться к ней. Она прислала утвердительный ответ. Меня провели по коридору, увешанному картинами, мы вошли в переднюю, а оттуда — в комнату хозяйки. Это была большая комната с тремя окнами, к ней примыкала еще одна, очень милая. В первой стояла изящного вида мебель, висели картины, а послеполуденное солнце смягчали легкие занавески. Женщина сидела за большим столом, у ног ее играл мальчик, а сбоку, за маленьким столиком, сидела девочка с книгой. Казалось, она читала вслух. Женщина поднялась мне навстречу. Она была очень красива, еще довольно молода, и, что меня больше всего поразило, у нее были очень красивые каштановые волосы, но очень темные, большие черные глаза. Я немного испугался, сам не знаю почему. С любезностью, внушившей мне доверие, она пригласила меня сесть, а когда я это сделал, назвала свои имя и фамилию, прямо-таки сердечно приветствовала меня и сказала, что очень давно мечтает увидеть меня в своем доме.
— Альфред, — позвала она, — подойди и поцелуй руку этому господину.
Мальчик, игравший дотоле рядом с нею, встал, подошел ко мне, поцеловал мне руку и сказал:
— Я тебе рад!
— И я тебе рад, — ответил я и пожал ручку мальчика. У него было розовое лицо и каштановые, как у матери, волосы, но глаза синие, какие я, кажется, видел у его отца.
— Это ребенок, ради которого мне так хотелось залучить вас в наш дом, — сказала женщина. — Давать ему уроки вам не очень-то придется, для этого есть приходящие учителя, но мы просим вас пожить у нас, чтобы вы уделяли внимание мальчику, чтобы, кроме связи с отцом, у него была связь и с молодым человеком, что могло бы оказать на него влияние. Воспитание — это, пожалуй, и есть связь, молодому, даже такому маленькому, не следует быть связанным только с матерью или с мальчиками же, обучение дается легче, чем воспитание. Для первого достаточно что-то знать и уметь это сообщить, чтобы воспитывать, нужно что-то собой представлять. И если человек что-то собой представляет, он, думается мне, легко и воспитывает. О вас рассказала мне моя приятельница, Адела, супруга купца, чей магазин находится напротив портала собора. Если вы сочтете нужным и обучать мальчика чему-либо, то как и в какой мере вы будете это делать, зависит от вашего усмотрения.
На эти слова я не мог ничего ответить. Я сильно покраснел.
— Матильда, — сказала хозяйка, — поздоровайся и ты с этим господином, теперь он будет у нас жить.
Девочка, все сидевшая за раскрытой книгой, встала и приблизилась ко мне. Я удивился, что она уже такая рослая, я представлял себе, что она меньше: она сидела на низковатом стуле. Когда она подошла ко мне, я встал, мы поклонились друг другу. Матильда вернулась к своему стулу, и я тоже сел на свой. Хозяйка, наверное, позвала Матильду, чтобы я перестал краснеть. Почти так оно и случилось. Да она, верно, и не ждала от меня ответа на свою речь. Она стала теперь спрашивать меня о всяких пустяках, и я отвечал ей. Моих обстоятельств, а тем более обстоятельств в моей семье, она не касалась. После недолгой беседы она отпустила меня, сказав, чтобы я немного отдохнул с дороги, мы встретимся за ужином. Мальчик все время держал мою руку, стоя рядом со мною, и часто заглядывал мне в лицо. Освободив свою руку, я еще раз приветствовал его, поклонился его матери и вышел. Вернувшись в свои комнаты, я сел на один из красивых стульев. Теперь я знал, почему мне предоставили такие хорошие условия и как трудна моя задача. Я колебался. Поведение хозяйки мне очень понравилось, поэтому я колебался еще больше. Посидев на своем стуле, я поднялся, и мне подумалось, что нужно посетить и хозяина дома. Я позвонил и велел вошедшему слуге отвести меня к хозяину. Слуга ответил, что хозяин отправился в лес и вернется лишь вечером. Он распорядился передать мне, чтобы я распаковывал свой багаж, отдыхал и не возлагал на себя в отношении его никаких обязательств, остальное можно будет обсудить завтра. Поэтому я снял с себя костюм, надетый для визита к хозяйке, переоделся и разместил свои вещи в комнатах. За этим занятием постепенно и прошел остаток дня. Когда я кончил разбирать свои вещи, уже смеркалось. Только я умылся и переоделся к ужину, как мой слуга сказал, что хозяин уже вернулся и хочет зайти ко мне. Я дал согласие, хозяин вошел и спросил, все ли в моем жилье подготовлено как следует и нет ли в чем-либо недостатка. Я ответил, что все превосходит мои ожидания и поэтому еще какие-либо требования были бы величайшей нескромностью. Он пожелал, чтобы мой приезд в его дом был к добру, чтобы мое пребывание в нем было приятно и чтобы мне не пришлось когда-либо покинуть его с раскаянием и болью. Затем он пригласил меня к ужину. Мы пошли в очень веселую столовую, где за простыми разговорами поужинали простой пищей. Присутствовали хозяин, хозяйка, двое детей и я.
На следующее утро я попросил узнать, могу ли я навестить хозяина. Меня пригласили зайти, и я надел тот же костюм для визитов, что и вчера, отправляясь к хозяйке. Хозяин сидел за бумагами, он поднялся при моем появлении, подошел ко мне, учтивейше поздоровался со мною и присел к столу. Он был уже полностью и очень изящно одет. Когда мы сели, он сказал:
— Еще раз добро пожаловать в мой дом. Вас так рекомендовали нам, что мы счастливы, что вы приехали, согласились пожить у нас и позволите моему любимому сыну, которому я желаю счастливого будущего, наслаждаться вашим обществом. Я надеюсь, вы через некоторое время увидите, что мы ваши друзья, и, возможно, тоже одарите нас своей дружбой. Устраивайте свои занятия, как вам угодно, беритесь за то, чего требует ваша будущая профессия, и чувствуйте себя во всем, как у себя дома. Здесь вам придется, наверное, привыкнуть к простоте. У нас и здесь, и в городе гости редки, да и мы сами нечасто бываем в гостях. Воспитанием Матильды жена занимается сама. С воспитательницами нам не везло. Поэтому мы перестали искать компаньонку для Матильды. Она обычно при матери, иногда видится с девочками своего возраста и нередко участвует в разговорах и прогулках двух старших девочек, очень хороших и милых. Вообще же она занята своим образованием и проводит время в учении. Как обстоит дело с мальчиком, вы сами увидите. Нам сказали, что в городе вы жили очень уединенно, поэтому мы надеемся, что у нас вам не будет недоставать общества. Я занимаюсь кое-какими научными делами, и если для вас разговор об этом, при совпадении наших предметов, не лишен приятности, то смотрите на меня как на старшего брата, причем не только в этих, но и в прочих делах.
— Я очень пристыжен вашей добротой, — отвечал я, — лишь теперь я понял, как велика задача, стоящая передо мной в вашем доме. Не знаю, сумею ли я хотя бы в малой мере справиться с нею.
— Справиться, наверное, будет нетрудно, — возразил он.
— А если все-таки не получится? — спросил я.
— Тогда мы будем откровенны и скажем вам об этом, чтобы соответственно и поступить, — ответил он.
— Это очень облегчает мне душу, — отвечал я, — ведь таким образом недоверия никогда не возникнет. Я до сих пор жил только в двух семьях, в семье матери — ибо отец умер в самом начале моей юности — и в семье одного почтенного старого чиновника, на хлебах у которого я пребывал во время учения в гимназии. Первая семья для меня, как для любого человека, беспримерна, но и вторая тоже.
— Может быть, и наша окажется такою же, — сказал он. — А теперь вам покажут дом и все, что к нему относится, чтобы вы знали место, где вам придется какое-то время прожить. Но если вы хотите заняться чем-то другим, извольте. Доступ ко мне всегда для вас открыт, входите без доклада и без стука.
На этом наш разговор окончился, мы поднялись, попрощались, он дружески подал мне руку, и я вышел из комнаты.
Я переоделся в обычное свое платье и велел спросить, есть ли у Альфреда время сопровождать меня и показать мне что-нибудь в доме и в саду. Мне ответили, что Альфред сейчас придет и что времени у него вдосталь. Мать сама привела ко мне мальчика и еще взяла с собой слугу, который нес связку ключей и которому поручили показать мне помещения дома. Слуга был старик и, по-видимому, присматривал за другими слугами. Мать тотчас же удалилась. Я сказал несколько дружеских слов мальчику, которому было лет семь с небольшим, он ответил на мои слова непринужденно и, мне показалось, доверчиво. Затем мы пошли осматривать помещения. Дом был не старый, он не был замком, постройка, вероятно, относилась к семнадцатому веку. Он состоял из двух крыльев, расположенных под прямым углом друг к другу и замыкавших песчаную площадку. Подъезжали, однако, с противоположной стороны, отчего эта площадка, где были и клумбы, походила больше на сад и на место для детских игр, чем на подъездной путь. На площадке, у стен дома, были и полотняные навесы для защиты от солнца. Дом был двухэтажный. Вдоль каждого этажа шел широкий коридор, откуда можно было пройти в комнаты. Стены коридора были белоснежные, оштукатуренные, с окнами в красных решетках и коричневыми, вощеными дверями. Во многих местах коридора висели картины. Они были отнюдь не превосходны, но и далеко не так плохи, как обычно бывают картины, висящие в коридорах и над лестницами. Изображенные на них предметы не отличались разнообразием: пейзажи с видами окружающей местности или примечательных зданий, животные — преимущественно собаки с охотничьими принадлежностями, — кухонная посуда, интерьеры комнат и других помещений. Старик-слуга отпирал иные комнаты, которыми в данное время пользовались; вообще же в доме их было больше, чем требовалось для его теперешних жильцов. Был большой, обставленный очень красивой мебелью зал, где устраивались, когда нужно, приемы, были другие комнаты разного назначения, в том числе очень большая библиотека и комнаты для гостей. Все были прекрасно меблированы и содержались в чистоте и порядке. Когда мы осмотрели дом. Альфред сказал, что Раймунд, старик слуга, больше не нужен, сад он мне покажет и сам. Я с этим согласился, отпустил слугу и вышел с Альфредом из дому. Первый этаж, где находились кухня, людская и тому подобное, мы не осматривали. Хлевы и каретные были в стороне от дома, в отдельных зданиях. Как только мы вышли на воздух, показался очень красивый газон, пересеченный разными, искусно проложенными дорожками. На этом газоне стояли на довольно большом расстоянии друг от друга очень высокие деревья. К каждому вела дорожка, и почти под каждым стояли скамеечка или стульчик. Альфред подводил меня к деревьям и называл их. Меня порадовал этот признак хорошей памяти и наблюдательности. Он рассказал мне также, что они делали под тем или другим деревом и как играли.
Здесь были дубы, вязы, липы и несколько очень высоких груш. В таком лесочке было что-то очень милое.
— Одному мне нельзя ходить к пруду, — сказал Альфред, — потому что я нечаянно могу упасть в него, да я туда и не хожу. Но поскольку сегодня со мною ты, мы можем туда сходить. Пойдем, я взял с собой хлеб, чтобы покормить уток и рыб.
Он взял меня за руку и повел. Мы вышли через кусты к довольно большому пруду, примечательному тем, что на нем, на небольших расстояниях, стояли деревянные домики для гнездования диких уток. Их и было множество. Лето еще только начиналось, и мы увидели на воде немало матерей с почти взрослыми, но еще не научившимися летать птенцами. На берегу в разных местах были кормушки. В воде копошились неуклюжие карпы. Альфред вынул из кармана ломоть белого хлеба, раскрошил его и стал бросать крошки в воду, радуясь, когда их ловили утки, а иногда и неповоротливые карпы. Кажется, для этого он и привел меня к пруду. Когда хлеб кончился, мы пошли дальше. Он сказал:
— Если хочешь посмотреть и сад, я уж отведу тебя и туда.
— Да, хочу, — ответил я.
Он вывел меня из кустов, мы направились на противоположную сторону дома, где находился огражденный решеткой большой сад, и через калитку вошли в него. Нас приняло царство цветов, овощей, низкорослых и высоких плодовых деревьев. Вдали я увидел деревья совсем высокие и, наверное, очень благородные. Что сад понравился мне гораздо больше, чем пруд, я Альфреду не сказал, да он и не хотел это знать. Очень хорошо ухаживали здесь за цветами, которые обычно можно найти в саду. Мало того, что у них были свои, подходящие им места, они были подобраны так, чтобы составлять какое-то прекрасное целое. Овощи были, по-моему, отменных сортов, какие можно найти только в лучших магазинах города. Между ними росли маленькие плодовые деревья. В теплицах были не только цветы, но и фрукты. Очень длинный проход, обвитый сверху виноградом, привел нас в плодовый сад. Деревья стояли на хорошем расстоянии друг от друга, были ухожены, под ними росла трава, и здесь они тоже соединялись дорожками. Правая часть сада была огорожена густой лещиной. Пройдя через нее по дорожке, мы увидели с другой стороны пространную площадку с довольно большой беседкой. Она была каменная, с высокими окнами, черепичной крышей и имела форму шестигранника. Наружная сторона беседки была сплошь покрыта розами. К стене были приколочены жерди, и к тем жердям привязаны ветки роз. Розы разной высоты были связаны так, что целиком покрывали стены. Поскольку стояла пора цветения роз, а розы эти цвели необычайно пышно, казалось, что перед тобою храм из роз и в нем прорублены окна. Тут были все цвета — от темно-красного, почти фиолетового, через розовое и желтое, до белого, благоухание распространялось очень далеко. Я долго стоял перед этим цветником, и Альфред стоял рядом со мною. Кроме роз на стенах беседки, их кусты, деревца и клумбы были разбросаны по всей площадке. Размещены они были по определенному плану, это становилось ясно с первого взгляда. На всех стволах висели таблички с названиями.
— Это розарий, — сказал Альфред, — роз здесь много, но рвать их нельзя.
— Кто же сажает эти розы и кто за ними ухаживает? — спросил я.
— Отец и мать, — отвечал Альфред, — и садовник им помогает.
Я подошел ко всем клумбам, а потом обошел всю беседку. Когда я все осмотрел, мы вошли в нее. Пол здесь был мраморный, на нем лежали тонкие циновки из тростника. Посредине стоял стол, а по стенам скамеечки со сплетенными из тростника сиденьями. В беседке царила приятная прохлада, ибо окна, выходившие на солнце, были защищены жердочками. Выйдя из беседки, мы снова пошли в плодовый сад и прошли до его конца. Когда мы дошли до решетки, Альфред сказал:
— Здесь сад кончается, надо повернуть назад.
Так и поступив, мы вернулись к калитке и, пройдя через нее, направились к дому, где я отвел Альфреда к его матери.
Первый день прошел очень хорошо, так же и второй, третий, четвертый. Я обжился в своих двух комнатах, и сельская тишина в тогдашнем моем состоянии действовала на меня очень благотворно. Учение Альфреда устраивалось таким образом: граф, молочные фермы которого находились близ Гейнбаха, и один из хозяев Гейнбаха, как называли теперь Маклоден, учредили денежный фонд для учителя общины Гейнбаха с условием, что это место всегда будет занимать сведущий в определенных предметах человек, которого они предложат и который возьмет на себя обязательство давать на дому уроки детям имения Гейнбах и детям управляющего молочными фермами, за что, впрочем, будет получать особую плату. Гейнбахские школа и церковь находились в не более чем получасе ходьбы от имения. Учитель приходил каждый день и проводил некоторое время с Альфредом. С Матильдой же он занимался лишь изредка. Для Альфреда я должен был определить характер уроков, что я и сделал в согласии с учителем, который был очень скромным и довольно образованным молодым человеком. Преподавание некоторых предметов, прежде всего языка, я оставил за собой. Так дело двинулось, и так оно продолжалось.
Жизнь в Гейнбахе была действительно очень простой. Вставали с восходом солнца, собирались в столовой к завтраку, за которым следовал небольшой разговор, и расходились по своим делам. Дети готовили уроки. Матильде по некоторым предметам задавала их главным образом мать. Отец уходил в свою комнату, читал, писал или заглядывал в сад или на небольшую полоску земли, принадлежавшую к имению. Я занимался отчасти в своих комнатах работами, которые начал в городе и здесь продолжал, отчасти находился в комнате Альфреда, где наблюдал за его работой и направлял ее. В этом помогала мне мать, считавшая своим долгом оставаться с Альфредом еще больше, чем я. Полдень снова собирал нас в столовой, во второй половине дня шли учебные занятия, а остаток его проходил в разговорах или, особенно в дождливую погоду, в общем чтении вслух какой-нибудь книги.
Все, что можно было делать на воздухе, предпочитали делать на воздухе, а не в комнатах. Особенно был удобен для этого упомянутый полотняный навес, под которым мать очень любила сидеть. Часами она занималась там каким-нибудь рукоделием, а дети — своими письменными работами или книгами. Это случалось особенно по утрам, когда солнце прогревало воздух, но еще не набирало такой силы, чтобы накалить стены и сделать пребывание возле них неприятным. Пользовались также разными скамеечками на лужайке, перед которыми ставили столики, а также беседкой с розами. Иногда устраивались большие прогулки. В такие дни не бывало учебных занятий, заранее назначалось время отправления, все должны были снарядиться к этому часу, и после соответствующего боя часов мы покидали дом. Мы ходили то на какую-нибудь гору, то в какой-нибудь лес или бродили по приятным и милым местам. Иной раз нашей целью бывало какое-нибудь селение. Вокруг усадьбы, на небольшом расстоянии, располагались имения семей, с которыми поддерживали знакомство жители Гейнбаха. Часто к нашему дому подъезжали коляски, часто отправлялась к соседям наша. Дети дружно резвились, старшие собирались в кружок. Мать Альфреда, как она мне сказала, любила, когда в доме гостила какая-нибудь подруга Матильды, но сама не решалась отпускать свою дочь в гости к кому-либо, не желая с ней разлучаться. К тому же, полагала она, Матильда будет чувствовать себя плохо вдали от нее. Из искусств при взаимных посещениях отдавали дань преимущественно музыке. В ходу были пение, фортепиано и пьесы для четырех скрипок. Отец Альфреда показался мне искуснейшим скрипачом. Мы часто слушали такие концерты. Мы, не участвовавшие в них, любили также смотреть, как дети прыгают на лужайке и наслаждаются своими играми. При всем этом мать Альфреда вела обширное домашнее хозяйство. Она указывала слугам и служанкам, что нужно для дома, следила за тем, чтобы все делалось правильно и целесообразно, ведала покупками, затевала работы. Одежда хозяина, хозяйки и детей была очень красивая, но и очень простая и складная. После ужина часто довольно долго беседовали за столом, а потом расходились по своим комнатам.
Так шло время, и постепенно пришла осень. Я все больше сживался с домом и чувствовал себя с каждым днем лучше. Ко мне были очень добры. Все необходимое всегда доставлялось мне еще до того, как соответствующая потребность была ясно изложена. Доставлялось мне, однако, не только необходимое, но и то, что украшает жизнь. В мои комнаты ставили горшки с моими любимыми цветами, время от времени я находил какую-нибудь книгу, какую-нибудь принадлежность для рисования, а вернувшись после многодневной отлучки, я застал свою квартиру отделанной красками, которые я однажды очень похвалил при посещении одного соседнего замка. На прогулках отец Альфреда часто присоединялся ко мне, мы шли особняком от других, беседуя, и то, что он мне говорил, казалось мне весьма содержательным. Мать Альфреда также была не прочь поговорить со мною. Когда я бывал в комнате Альфреда, смежной с ее комнатою, она часто заходила туда и беседовала со мною или же приглашала меня к себе, усаживала и вела разговор. Я постепенно рассказал ей все свои семейные обстоятельства, она участливо слушала, вставляя порой слова, которые очень согревали мне душу. Альфред привязался ко мне в первые же дни, и эта приязнь все росла. Нрав его не был испорчен неправильным воспитанием. Физически он был очень здоров, и это влияло на его дух, благоприятно для которого было и окружение родных, где всегда соблюдались мера и спокойствие. Он учился очень старательно, притом легко и хорошо, он был послушен и правдив. Я вскоре к нему привязался. Еще до наступления зимы он пожелал жить не рядом с матерью, а рядом со мною, ведь он, мол, уже не малое дитя, постоянно нуждающееся в материнской опеке, пора ему привыкать к мужскому обществу. По моей просьбе его переселили, он получил комнату рядом со мной, и слуга, выполнявший дотоле наряду с прочими мои поручения, был приставлен теперь к нам обоим. Физически мальчик тоже развивался довольно быстро, за лето он подрос, лицо его приняло более правильные черты, а взгляд стал тверже.
Так кончилась осень, и когда по утрам на лугах уже лежал иней, мы переехали в город. Здесь многое изменилось. Мы с Альфредом опять жили рядом, но вместо неба и гор в наши окна смотрели теперь дома и стены. Я привык к этому по прежней городской жизни, а Альфред обращал на это мало внимания. Наняли больше учителей по большему числу предметов, и уроки пошли чаще, чем в деревне. Соприкасались мы теперь и с большим числом людей, и всякие влияния умножились. Но и здесь со мною обращались не хуже, чем в деревне. Я постепенно становился членом семьи, и все, что вообще относилось ко всей семье, распространялось и на меня. Мать Альфреда заботилась о моих домашних обстоятельствах, и только приобретение платья, книг и тому подобного было моим делом.
Едва повеяло весной, мы снова переехали в Гейнбах. Матильда, Альфред и я сели в одну коляску, отец и мать — в другую. Альфред не хотел отделяться от меня, и поэтому Матильде пришлось сесть напротив нас. Когда я пришел в этот дом, ей еще не было полных четырнадцати лет. Теперь она приближалась к пятнадцати. За прошедший год она сильно выросла и превратилась в настоящую девушку. Необыкновенно стройная, она была, однако, очень хорошо сложена. Ее одевали обычно в темные материи, которые ей очень шли. Когда она ходила в синем, темно-красном или фиолетовом, а вверху платье оторачивалось белой каймой, она была так прелестна, что словно бы говорила: все так, как должно быть. Ее свежие, чуть румяные щеки сделались теперь чуть более вытянуты, большие глаза были блестяще черные, а чистые каштановые волосы падали назад от покатого лба. Мать очень любила ее, почти не отпускала от себя, говорила с нею, ходила с нею гулять, сама учила ее в деревне, а в городе присутствовала на каждом уроке, который давал ей посторонний учитель. Только с Альфредом и со мною пускала она ее прошлым летом гулять в саду, по лужайке, даже бродить по окрестностям. В таких случаях я ходил с обоими детьми, спрашивал их, рассказывал им что-нибудь, выслушивал их вопросы и их рассказы. Альфред большей частью держал меня за руку, он вообще старался как-то зацепиться за меня, хотя бы какой-нибудь срезанной с куста веточкой. Матильда шла рядом с нами. Мне было наказано только следить, чтобы она не делала резких движений, не подобающих девочке и способных повредить ее здоровью, не ходила в болотистые или грязные места и не марала обуви или одежды. Ее содержали в большой чистоте. На ее платьях не должно было быть ни пятнышка, ее зубы, ее руки всегда должны были быть чисты, а ее волосы безукоризненно причесаны. Я показывал детям горы, которые были видны, и называл их, учил распознавать деревья и кусты и даже некоторые луговые растения, собирал им камешки, улиток, ракушки и рассказывал о жизни животных, даже больших и могучих, обитающих в далеких лесах или в пустынях. Альфред очень любил повадки птиц, особенно их пенье. Он радовался, узнав птицу по полету, а когда в кустах или в лесу слышал их голоса, мог определить каждого певца в отдельности. Он понемногу учил этому и Матильду и при каждом звуке спрашивал, чей это голос. Я никогда не преступал предписаний матери, и Матильда благодаря этим прогулкам все хорошела и здоровела. Если летом и осенью мать разрешала ей с нами гулять, то теперь она разрешила ей и поехать с нами. Два дня Матильда сидела напротив нас. По вечерам и утрам было еще довольно прохладно. На мне было пальто, Альфред был в застегнутой теплой кофте. Поверх темного шерстяного платья, из-под которого не видно было даже носков ее башмачков, на Матильде было пальто, закутывавшее ее до подбородка, голова ее была покрыта теплой, на плотной подкладке шляпой с такими широкими полями, что из-под них видны были только еще более румяные на мартовском воздухе щеки девушки и ее блестящие глаза. Мы обсуждали, чем займемся в ближайшие часы. Но главным содержанием наших разговоров было все, что мы встречали и замечали на своем пути или поблизости: мы называли это и говорили об этом. Так, при ясной, бодрящей мартовской погоде мы приехали в Гейнбах. На деревьях не было еще листьев, сад был пуст, да и поля еще не зеленели, кроме озимых.
Если на дворе, не считая очень приветливого голубого неба, было весьма неприютно, то в доме все было очень благоустроено. Все было начищено и подготовлено к приезду хозяев. Комнаты блестели, окна сверкали, сквозь занавески светило яркое мартовское солнце, а в каминах горел уютный огонь. К моим двум комнатам прибавили очень милую угловую клетушку и обставили мое жилье более красивой и более удобной мебелью. Я завел теперь такой порядок, что дверь из моей квартиры в комнату Альфреда всегда оставалась открытой, так что оба жилья слились в одно и я жил как бы вместе с младшим братом. Если мне надо было заняться работой, не терпящей помех, я удалялся в свою угловую клетушку.
Жизнь в сельском доме пошла снова как прошлым летом. Хотя на деревьях еще не было листьев, а луга едва зазеленели и поля лежали еще совсем голые, мы уже часто ходили гулять. Альфред и я ходили ежедневно, даже при пасмурной погоде, если только не было проливного дождя. Иной раз, когда после ясного утра землю и крыши мы еще видели белыми, а потом наступал безоблачный день и дороги подсыхали, с нами ходила Матильда, и мы водили ее на те холмы и поля, где незадолго до того слышали чудесные трели жаворонков. Эти певцы были единственными, кто уже поселился с нами в этих местах.
Постепенно белый цвет на полях и лугах исчезал, солнце светило сильнее, огонь в каминах был больше не нужен, луга зазеленели, на деревьях появились почки, а на ветках персиковых деревьев в саду отдельные цветки. Небесные певцы появлялись уже разного вида и разной окраски. Если я находил фиалку или другие весенние цветы, которых Матильда, когда она не гуляла с нами, сорвать не могла, я приносил их ей домой в виде букетика для вазы на ее столике. В благодарность за такие знаки внимания я получил от нее в свой день рождения, приходившийся на первые дни весны, вышитую ее руками небольшую круглую салфетку, предназначенную для того, чтобы ставить на нее серебряный подсвечник, который подарила мне мать Матильды.
Весна наконец вступила в полную силу. В прошлом году увидеть ее в этих местах мне не довелось, потому что я приехал позднее. И вообще из-за моей долгой жизни в городе я уже давно не видел расцвета весны в сельской глуши. Лишь иногда я выбирался на природу и проводил там какие-то весенние дни или ловил солнечные лучи. Но это разделяешь со многими выезжающими за город, и наслаждаться этим приходится в толчее и пыли. В Гейнбахе же были уединенность и тишина, голубой воздух казался безмерным, а обилие цветов прямо-таки давило деревья. Каждое утро вливалась какая-то новая пряность в открытые окна. В Гейнбахе чувствовали, как поражает и радует меня с непривычки такое богатство, и всячески старались сделать мне эту радость еще ощутимее, усилить ее. Каждый день цветы в моей комнате заменялись новорасцветшими из теплиц. Когда из земли что-нибудь пробивалось, куст ли, цветок ли, на это обращали мое внимание; большую часть времени проводили на воздухе и совершали прогулки гораздо чаще и гораздо дольше, чем обычно. Когда Матильда слышала пенье какой-то птицы или видела, как пролетали мотыльки или как открылась чашечка цветка на каком-то кусте, она рассказывала мне об этом, а порой и давала мне цветы, чтобы я поставил их у себя в комнате.
Так прошла весна и наступило лето. Если и в прошлом году жизнь в этой семье была мне приятна, то в нынешнем она стала еще приятнее. Мы все больше привыкали друг к другу, и порой мне казалось, что я вновь обрел нерушимую родину. Хозяин дома выделял меня, он часто навещал меня в моей квартире и подолгу говорил со мною, он приглашал меня к себе, показывал свои коллекции, свои работы и говорил о предметах, которые доказывали его ко мне уважение. Мать Матильды была очень ласкова, приветлива и добра. Она заботилась обо мне по-прежнему, но делала это проще, как нечто само собой разумеющееся. Мы все часто бывали в ее комнате и играли в какую-нибудь детскую игру или музицировали. Альфред с самого начала выказал мне большое доверие, доверие это все росло и стало безусловным. Он был прекрасный мальчик, открытый, ясный, простой, добродушный, живой, но никогда не загоравшийся злостью, веселый, невинный и послушный. Ему было тогда лет девять, развивался он все отраднее — и духом, и телом. Матильда все хорошела, она стала изящнее тех роз на беседке, к которым нам нравилось ходить. Я любил обоих детей несказанно. Когда Альфреду давали уроки, я при этом присутствовал, я направлял их и следил за ними, следил за его учением и всегда спрашивал выученное, чтобы он не оплошал перед учителем. Предметы, которыми я с ним занимался, я сильно умножил, стараясь преподавать их ему получше, и он и усваивал их лучше, чем прежде у других учителей. Отец и мать часто присутствовали при наших занятиях и убеждались в успехах сына. Матильду я брал на наши прогулки не только очень охотно, но и с большей радостью, чем прежде. Я говорил с ней, рассказывал ей что-нибудь, показывал попадавшиеся на нашем пути предметы, выслушивал ее вопросы, ее рассказы и отвечал на них. На скверных дорогах или в сырых местах я показывал ей лучшие пути или направления, где можно было пройти, не промочив ног. Дома я тоже принимал участие в ее занятиях. Я часто просматривал ее рисунки и давал ей советы, которым она с готовностью следовала. Она очень радовалась, когда после поправок рисунок выглядел гораздо лучше. Я присутствовал и при ее игре на фортепиано, не уставая слушать, как ее пальцы извлекают звуки из струн. Я старательно переписывал ей в тетради ноты, когда она по памяти записывала услышанную где-нибудь мелодию. Особенно это относилось к цитре, которую она, начав учиться играть на ней, очень полюбила и достигла в игре немалых успехов. Мать Матильды часто внимательно слушала, когда та извлекала из металлических струн прекрасные звуки, а мы с Альфредом вслушивались, затаив дыхание. Я читал ей и ее матери из их книг, отмечая лучшие места закладками. Еще я приносил ей цветы, лесные плоды и тому подобное, когда думал, что это доставит ей радость.
Лето кончалось, предстояла осень. Мы так много сделали, что время прошло незаметно. Для заполнения наших часов нам хватало самих себя. Когда появлялись чужие дети, когда устраивались игры и все скакали и прыгали по лужайке, Матильда стояла в стороне и безучастно глядела на это. К соседям мы ездили не столь часто, как в прошлом году, да и не испытывали такого желания.
Однажды мы втроем оказались у выхода из длинного, увитого лозами прохода в сад. Матильда и я стояли совершенно одни у самого выхода, Альфред был занят тем, что очищал запачкавшиеся таблички, висевшие на стволах деревьев, и перебирал упавшие неспелые плоды, раскладывая хорошие и плохие в разные кучки. Я сказал Матильде, что скоро кончится лето, что дни будут все быстрее укорачиваться, что скоро наступят холодные вечера, а потом эта листва пожелтеет, виноград соберут, и наконец настанет день возвращения в город.
Она спросила меня, неужели мне не хочется вернуться в город. Я сказал, что не хочется, что здесь так хорошо, а в городе, мне кажется, все будет иначе.
— Здесь в самом деле очень хорошо, — отвечала она, — здесь мы все гораздо больше вместе, а в городе появятся посторонние люди, мы будем разъединены, и будет казаться, что мы приехали в какой-то другой край. Но все-таки величайшее счастье — любить кого-нибудь.
— У меня нет больше ни отца, ни матери, ни сестер, ни братьев, — отвечал я, — поэтому я не знаю, каково это.
— Любят отца, мать, братьев, сестер, — сказала она, — и других людей.
— Матильда, неужели ты любишь и меня? — спросил я.
Я никогда не говорил ей «ты», не знаю, как вырвались у меня эти слова, казалось, их вложила мне в уста какая-то посторонняя сила. Не успел я произнести их, как она воскликнула:
— Ах, Густав, Густав, так сильно, что и сказать нельзя!
У меня ручьем хлынули слезы.
Она подбежала ко мне, прижалась мягкими губами к моему рту и обвила мне шею юными своими руками. Я тоже обнял ее и прижал эту стройную девочку к себе с такой силой, что, казалась, не смогу выпустить ее из объятий. Она задрожала в моих руках и вздохнула.
С той минуты не было для меня ничего дороже на свете, чем это милое дитя.
Когда мы оторвались друг от друга, когда она стояла передо мной, пылая невыразимым стыдом, испещренная светотенями лоз, когда от сладостного дыхания грудь ее то поднималась, то опускалась, я был околдован — передо мною стояла не девочка, а совершенная юная девушка, перед которой я не мог не благоговеть. У меня защемило сердце. Через несколько мгновений я вымолвил:
— Дорогая, дорогая Матильда!
— Мой дорогой, дорогой Густав, — ответила она.
Я протянул ей руку и сказал:
— Навсегда, Матильда.
— Навсегда, — отвечала она, взяв мою руку.
В этот миг к нам подошел Альфред. Он ничего не заметил. Мы молча пошли рядом с ним по проходу. Он рассказал нам, что названия деревьев, написанные на белых жестяных табличках, висевших на проволоке на нижней ветке каждого дерева, сильно запачканы, что все надо почистить и что отцу следовало бы распорядиться, чтобы каждый, кто моет, чистит деревья или выполняет здесь какую-нибудь другую работу, старался не забрызгать или как-нибудь не запачкать табличек. Затем Альфред сообщил нам, что нашел чудесные борсдорфские яблочки, которые благодаря укусам насекомых достигли ранней, почти полной спелости. Он сложил их у ствола дерева и попросит отца осмотреть их — нельзя ли ими воспользоваться. Было много и незрелых паданцев: перегруженные нынче плодами, деревья не выдержали их и уронили. Те из них, которые он нашел у первого ряда деревьев, он тоже сложил. Они вряд ли сгодятся на что-нибудь. Альфред уже предвкушал осень, когда все это сорвут и соберут прекрасные, синие, красные и желтовато-зеленые гроздья с обвивавших проход лоз. Ждать этого оставалось уже недолго.
Мы молча прошли с ним несколько раз по проходу взад и вперед.
Возбуждение немного унялось, и мы вернулись в дом. Но я не пошел с Матильдой к ее матери, как то обычно делал, а, отослав Альфреда в его комнату, стал бродить в кустах и все время возвращался к тому месту, откуда были видны окна, за которыми находилось самое дорогое мне существо. Мне думалось, что своим томлением я вызову ее из дому. Прошло лишь мгновение с тех пор, как мы расстались, но мне оно казалось ужасно долгим. Мне казалось, что без нее я не могу жить, казалось, что каждый миг, когда я не могу прижать к груди эту прелестную стройную девушку — потерянное сокровище. Прежде я никогда не брал за руку ни одну девушку, кроме моей сестры, и ни с одной не обменивался ни ласковым словом, ни приветливым взглядом. Это чувство застигло меня как буря. Мне казалось, что я вижу сквозь стены, как она ходит по комнате в своем длинном васильковом платье, с блестящими глазами и алым, как роза, ртом. Занавеска на окне шевелилась. Но ее не было у этого окна, за стеклом мелькнуло, казалось, румяное лицо, но это был лишь косой отсвет загорающейся вечерней зари. Я снова пробрался через кусты и прошел по увитому виноградом проходу, в сад, проход этот казался мне теперь чем-то неведомым и значительным вроде дворца из далекой восточной страны. Я прошел через кусты лещины к беседке с розами, казалось, будто вокруг нее цвели и пылали все розы, хотя там были лишь зеленые листья и вьющиеся растения. Я вернулся назад к дому и пошел на то место, откуда видно было окно Матильды. Она высунулась из окна и искала меня глазами. Увидев меня, она отпрянула. И у меня, когда я увидел это прелестное создание, было такое ощущение, будто меня ударила молния. Я снова скрылся в кустах. В том месте часть лужайки была окаймлена сиренью, в тени ее стояла скамья. К этой скамье я то и дело возвращался. Затем опять шел на лужайку и смотрел на окна. Она снова высунулась из окна. Так мы делали несчетное число раз, пока сирень не растворилась в вечерней заре, а окна не засверкали рубинами. Прекрасно было обладать общей сладостной тайной, сознавать ее и хранить ее жар в душе. Я в восторге унес ее в свое жилье.
Когда мы собрались за ужином, мать Матильды спросила меня:
— Почему вы сегодня, вернувшись из сада с детьми, не зашли ко мне?
Я не нашелся с ответом, но этого и не заметили.
Всю ночь я почти не спал. Я с радостью ждал утра, когда снова увижу ее. Мы все встретились в столовой за завтраком. Взгляд, легкий румянец всё говорили, они говорили, что мы принадлежим друг другу и это знаем. Все утро я усердно занимался с Альфредом. В полдень, когда трава и листья подсохли, мы вышли в сад. С книжкой, которую она как раз читала, Матильда вылетела из дому, бросилась к нам, и мы обменялись взглядами, в которых выразилось наше единение. Она проникновенно посмотрела на меня, и я почувствовал, как льется мое волнение из моих глаз. Мы прошли через сад и огород к увитому виноградом проходу. Мы словно бы сговорились пройти туда, Матильда и я говорили обыкновенные вещи, и в обыкновенных вещах был понятный нам смысл. Она дала мне виноградный листок, и я спрятал его у своего сердца. Я протянул ей цветок, и она приколола его к своей груди. Я вынул полоску бумаги, которой была заложена ее книжка, и оставил ее у себя. Она хотела завладеть ею, но я не отдал, она улыбнулась и оставила ее мне. Мы вошли в орешник, пересекли его и вышли к розам беседки. Она взяла несколько увядших листков и вытерла ими ветку. Я сделал то же самое с соседней веткой. Она дала мне зеленый листок розы, и я сломал тонкую веточку, что, собственно, не разрешалось, и подал ей. Она на миг отвернулась, а когда обернулась к нам снова, веточка была уже где-то спрятана у нее. Мы вошли в беседку, она стала у стола, опершись на него руками. Я тоже положил свою руку на стол, и через несколько мгновений наши пальцы встретились. Она была как пламя, и вся моя душа трепетала. Прошлым летом я часто подавал ей руку, чтобы помочь перейти трудное место, дать опору на зыбком мостке или провести ее по узкой тропке. Теперь мы боялись подавать друг другу руки, и всякое соприкосновение оказывало величайшее действие. Невозможно сказать, как это получается, что перед каким-то одним сердцем исчезают небо, звезды, солнце, вселенная, притом перед сердцем девочки, которая еще совсем ребенок. Но она была как стебель какой-то небесной лилии, волшебная, милая, непостижимая.
Мы снова вернулись в дом, и прежде, чем нас позвали обедать, мы пошли к матери. При матери мы были молчаливее и немногословнее, чем обычно. Матильда снова нашла полоску бумаги и заложила ею то место книги, откуда я вынул ее закладку. Затем она села за фортепиано и извлекла несколько звуков. Альфред рассказал матери, что мы делали в саду, сообщил, что мы сняли засохшие листья с привязанных к жердям беседки веток. Затем нас позвали обедать. Во второй половине дня прогулки не было. Родители не пошли гулять, и я не предложил этого Альфреду и Матильде. Я взял книгу одного своего любимого поэта, читал ее очень долго, и жаркие слезы часто выступали у меня на глазах. Позднее я сидел на скамейке в кустах сирени, поглядывая через ветки на комнаты Матильды. Там иногда подходила к окну эта прекрасная, как ангел, девушка. Под вечер Матильда играла в комнате матери на пианино — очень строго, донельзя волнующе и прекрасно. Затем она взяла цитру и играла на ней. Звуки так взволновали ее, что она не могла остановиться. Она все играла, и звуки становились все трогательнее, а их связь все естественнее. Мать очень хвалила ее. Отец, ездивший по делу в ближайший городок, наконец тоже пришел в комнату матери, и мы оставались в ней, пока нас не позвали ужинать. Отец взял Матильду под руку и нежно провел ее в столовую.
Началась необыкновенная пора. В моей жизни и в жизни Матильды наступил перелом. Мы не сговаривались таить наши чувства, однако мы их таили, утаивали от отца, от матери, от Альфреда и от всех прочих. Мы извещали о них друг друга только непроизвольными знаками, только словами, понятными лишь нам обоим и приходившими нам на уста как бы сами собой. Находились тысячи нитей, по которым наши души устремлялись друг к другу, и когда мы овладевали этими нитями, появлялись все новые и новые тысячи. Ветерки, травы, поздние цветы осеннего луга, плоды, крики птиц, слова книги, звуки струн, даже молчание были нашими вестниками. И чем глубже приходилось мне прятать свое чувство, тем огромнее оно становилось, чем жарче горело в душе. На прогулки мы, Матильда, Альфред и я, ходили теперь реже, чем прежде, мы, казалось, робели от волнения. Мать часто надевала летнюю шляпу и приглашала пройтись. Это бывало большое, несказанное счастье. Мир расплывался перед глазами, мы шли бок о бок, наши души соединялись, нам улыбались небо, облака, горы, мы слышали наши речи, а когда не говорили, слышали наши шаги, а когда и этого не было, когда мы стояли молча, мы знали, что обладали друг другом, и обладание это было безмерно, а когда мы приходили домой, оно, казалось, умножалось еще невыразимее. Когда мы бывали в доме, передавалась какая-нибудь книга, где были описаны наши чувства, и другой их узнавал, или выискивались красноречивые музыкальные звуки, или же ставились на окна букеты цветов, подобранные так, чтобы они говорили о нашем прошлом, таком коротком и все же таком уже долгом. Когда мы ходили по саду, когда Альфред убегал за куст, забегал вперед в увитом виноградом проходе или раньше выбегал из орешника, когда он оставлял нас одних в беседке, мы могли дотронуться друг до друга пальцами, подать друг другу руки, прижаться на миг сердцем к сердцу или жаркими губами к губам и пролепетать:
— Матильда, я твой навсегда, навеки, только твой!
— О, навеки, навеки, Густав, твоя, только твоя, только твоя.
Эти мгновения были самые блаженные.
Так наступила глубокая осень. В конце лета мы внешней жизни не замечали. Матильде и Альфреду все меньше хотелось разъезжать по соседям, да и родители ездили меньше, и посторонние навещали нас реже. Если же они все-таки приезжали, Альфред, правда, участвовал в детских играх и увеселениях, а Матильда была безучастнее, чем когда-либо. Она держалась особняком, словно ее место не здесь. В ее внешности за это короткое время тоже произошло большое изменение: она стала сильнее, ее щеки — алее, глаза ее блестели ярче. Альфред очень меня любил. Кроме сестры и родителей, он, может быть, никого не любил, как меня, и я искренне платил ему тем же.
Поздняя осень сменилась наконец началом зимы. Если мы рано выезжали из города в деревню, то и оставались в ней чуть ли не до конца года. Ожидания Альфреда сбылись. Плоды и виноград были собраны. На ветках деревьев не осталось ни листика, и по долине поплыли туманы, начались заморозки. Мы переехали в город. Там свобода Матильды была ограниченней. Ее осаждали учителя, уроки хороших манер, учение, задания, но вся ее натура стала вдохновеннее и глубже, а я казался себе богатым, гораздо богаче, чем владельцы всех этих домов, дворцов, всего этого блеска огромного города. Говорить нам случалось лишь изредка, но когда мы встречались в коридоре, когда ей удавалось сказать мне несколько слов в комнате матери, когда судьба нас случайно сводила в толпе или выдавался другой счастливый миг, тогда ее прекрасные глаза, тогда какие-нибудь несколько слов говорили мне, как сильно мы любим друг друга, как неизменна эта любовь и как владеют друг другом наши сердца. Она была замечена теперь и другими, и молодые люди не отрывали от нее глаз. Но когда ее привечали и выражали ей свое поклонение, когда ее чествовали в какой-нибудь семье, она относилась к таким вещам совершенно спокойно, никак не отзывалась на них и вся ее ангельская прелесть говорила мне — и понимал это только я, — что вся ее чудесная внешность, все тепло ее души, весь блеск ее расцвета — только мое счастье и что блаженство ее в том и состоит, чтобы делать меня счастливым. Часто, возвращаясь из дальних походов в город, я останавливался перед домом, где мы жили, и рассматривал его. Он был замечателен, он превосходил все дома города, и я с волнением глядел на стены, в которых жило существо, спустившееся с надземных высот, чтобы заполнить мою душу. Матильда видела мое обожествление, она видела его на тех же тайных путях, на каких я угадывал ее любовь, и на челе ее светилась радость, которая тоже видна была только мне. Родители Матильды начали одевать ее в лучшие, чем прежде, платья, и когда она стояла передо мной в благородных одеждах, она казалась мне более далекой и более близкой, более чужой и более родной, чем когда-либо.
Однажды, направляясь к одному приятелю, я спускался по лестнице нашего дома и встретил Матильду. Они с матерью только что подъехали к дому, та осталась в карете, а Матильда что-то вносила в дом. Она была в черном шелковом платье, шелковый плащик окутывал ее плечи, а из-под шляпы с зеленым флером выглядывало цветущее, освеженное морозом лицо. Когда мы встретились за поворотом лестницы, она вся вспыхнула. Я испугался и сказал:
— О Матильда, Матильда, небесное создание, все стремятся к тебе, что будет, что будет?!
— Густав, Густав, — отвечала она, — ты лучше всех, ты царь над ними, ты единственный, все хорошо и чудесно, и никаким силам этого не разорвать.
Я схватил ее руку, длившийся лишь мгновение поцелуй плотно сжатыми губами подкрепил эти слова. Я слышал шелест ее шелкового платья, но шел по ступеням вниз. Открыв внизу стеклянную двухстворчатую дверь, я увидел стоявшую карету. За окошком сидела мать Матильды и приветливо на меня смотрела. Я почтительно поздоровался и прошел мимо. Но к приятелю, которого собирался навестить, я не пошел.
С Альфредом я занимался все усерднее, всячески заботясь об его успехах, и тратил на него, как прежде, много и даже еще больше сил. Также и на общее его развитие я старался, как мог, влиять. Я очень много беседовал с ним, очень много гулял. Зная, видимо, что я его люблю, он все сильнее привязывался ко мне, привязывался прочно и чуть ли не исключительно ко мне. Как и в деревне, он в городе жил рядом со мною.
В самом начале весны мы, как и в прошлом году, снова поехали в Гейнбах. Опять разместились так, что Матильда, Альфред и я оказались в одной карете. Альфред снова сидел рядом со мною и прижимался ко мне. Матильда сидела напротив. И таким образом мы могли два дня беспрепятственно глядеть друг на друга глазами любви и говорить друг с другом. И хотя говорили мы о пустяках, мы слышали свои голоса, и при обыкновенных словах наши сердца трепетали. Те два дня были счастливейшими в моей жизни.
В деревне снова началась такая же жизнь, как в прошлые годы. Мы не были ничем связаны, и нам легче было изливать друг другу душу. Нам было вольнее в материнской комнате и в отцовской, мы могли ходить в сад, бродить под деревьями по лужайке, устраивать прогулки. Самым любимым местом стал для нас увитый виноградом проход. Он сделался для нас святилищем, его ветки глядели на нас как знакомцы, его листья стали нашими свидетелями, а в его сплетениях дрожали проникновенные слова и веяло дыхание неизъяснимого блаженства. Почти так же была мила нам беседка. Ее защитные стены скрывали не один взлет блаженства, она окружала нас, как тихий храм, когда мы входили в нее втроем и две души соединялись в волнении. Мы часто ходили в оба эти места. Связывавшие нас чувства становились в тысячи раз сильнее. Матильда делалась все прекраснее, все вожделеннее для других, но ее душа лишь крепче смыкалась с моею.
Я любил теперь долгие одинокие походы. Когда я уходил так далеко, что дома уже не было видно, когда я там останавливался, глядя на белые облака, которые, вероятно, стояли над домом, когда смотрел на лес, за которым находился наш дом, меня охватывало глубокое волнение. А когда я спешил домой, входил в его стены, видел ее и замечал, как она рада свиданию, сердце мое билось сильнее, ликуя от обладания таким сокровищем.
Однако постепенно появлялось что-то, подтачивавшее мое счастье. У меня возникала мысль, что мы обманываем родителей Матильды. Они не подозревали о происходящем, а мы не говорили им ни о чем. Меня все более угнетало это чувство, все большим страхом ложилось мне на душу. Это было как злосчастье древних, которое лишь возрастает, когда к нему прикасаются.
Однажды, как раз во время цветения роз, я сказал Матильде, что хочу пойти к ее матери, открыть ей все и попросить ее замолвить слово перед отцом. Матильда ответила, что это хорошо, она хочет этого, и теперь наше счастье действительно прояснится и утвердится.
И я пошел к матери Матильды, и рассказал ей все простыми словами, но срывающимся голосом.
— Я никак не ожидала этого от вас, — отвечала она, — и не могу дать вам ответа. Сначала мне надо поговорить с моим супругом. Зайдите ко мне в комнату через час, я вам отвечу.
Когда истек час, я прошел в гостиную матери Матильды. Она уже ждала меня. Она сидела за столом, за которым мы собирались так часто. Она указала мне на стул. Когда я сел, она сказала:
— Мой супруг одного со мной мнения. Мы оказали вам доверие, настолько большое, что мы уже не можем нести за него ответственность. Вы дали нам основание для такого доверия. Не будем распространяться по этому поводу. Но одно нужно сказать. Союз, который вы оба заключили, бесцелен, во всяком случае, сейчас цели не видно. Возможно, вы оба равно участвовали в заключении этого союза. Но, наверное, вы оба не думали о его последствиях, иначе нам было бы труднее простить вас. Вы отдались только своему чувству. Я это понимаю. Я только не могу объяснить себе, как я не поняла этого раньше. Я вам так… так доверяла. Но теперь выслушайте меня. Матильда еще ребенок, должно пройти еще несколько лет, чтобы она научилась тому, что нужно для ее будущего призвания, чтобы она поняла, что означает союз, который она заключила. Она порывиста, она целиком отдалась чувству, которое ей приятно и которое заполняет, наверное, всю ее душу. Оставить ли нам ее во власти этого чувства на все время, за которое она должна еще сделать эти приготовления надлежащим образом? Должно ли это чувство длиться, длиться до тех пор, пока мы не сможем сказать, что она — невеста? Если оно продлится, не принесет ли оно мучительных часов, потому что не может так быстро прийти к своему естественному завершению, не повлечет ли оно за собой сомнений, нетерпения, поспешности, негодования и боли? Не поглотит ли оно тех прекрасных, благородных, веселых, спокойных дней, которые суждены расцветающей деве до того, как она вплетет в свои волосы венец невесты? Разве не бывали ранние, направленные на далекие цели привязанности разрушительницами счастья жизни? Если вы любите Матильду, если любите ее истинной любовью сердца, захотите ли вы подвергать ее такой опасности? Не подтачивает ли глубокое томление и сильное чувство за долгие годы все силы человека? А что, если привязанность одного пойдет на убыль, а другой будет безутешен? Или если она угаснет в обоих и оставит за собой пустоту? Вы оба скажете, что у вас этого быть не может. Я знаю, что сейчас вы так чувствуете и что возможно, у вас этого быть не может. Однако я часто видела, что привязанности прекращаются и меняются, что даже самые сильные, противящиеся всем препятствиям чувства, лишившись всякого сопротивления, кроме упрямого, непрестанного, изнурительного времени, уступают этой тихой и незаметной силе. Неужели Матильда — скажу: ваша Матильда — должна быть отдана на волю этой возможности? Не заслуживает ли она той жизни, в которую она теперь вглядывается свежей душой? Больше та любовь, когда не думают о собственном блаженстве, даже о сиюминутном блаженстве предмета любви, а стремятся создать ему вместо этого спокойное, прочное и долговечное счастье. Таков, думаю, ваш и Матильды долг. Вы не можете возразить мне, что это счастье можно создать союзом, который будет заключен тотчас же. Даже будь состояние Матильды так велико, что оно могло бы составить основу семейной собственности, даже если вы согласились бы, в чем я сомневаюсь, жить хотя бы некоторое время на средства своей супруги, это ничего не дало бы, ибо Матильда, как я сказала, еще отнюдь не обладает множеством качеств, необходимых супруге и матери, ибо, по нашим представлениям о физическом благополучии наших детей, она не должна выходить замуж раньше чем через шесть-семь лет, а значит, и в этом вашем настоянии таятся для нее и для вас опасность и неуверенность, о которых я говорила. Поскольку дети в возрасте Матильды должны безоговорочно повиноваться родителям, поскольку хорошие дети, к каковым я причисляю Матильду, охотно, даже если у них болит душа, им повинуются, полагаясь на любовь и лучшее разумение родителей, я могла бы только сказать, что мой супруг и я считаем, что союз, который ее поглотил, длиться не должен и ей следует поэтому его порвать. Однако я объяснила вам причины нашего мнения, потому что уважаю вас и вижу, что вы ко мне расположены, как то доказывает ваше признание, которое, впрочем, могло быть сделано несколько раньше. Позвольте мне теперь сказать кое-что и о вас. Вы, хотя и старше Матильды, как мужчина еще так молоды, что едва ли способны оценить положение, в котором находитесь. Мы с супругом полагаем, что ваше чувство, искреннее и теплое, метнуло вас к Матильде, прелесть которой мы, как родители, не признать не можем, что это чувство предстало вам чем-то возвышенным и величественным и воодушевило вас так, что вы и не думали о каком-то препятствии, которое вам показалось бы лишь изменой Матильде. Однако ваше положение, при таком взгляде на него, нельзя признать правомочным. Вы еще молоды, вам предстоит начать карьеру. Вы должны продолжать ее или, если она не придется вам по душе, избрать другую. Не сделать никакой карьеры человек ваших способностей и ваших душевных качеств не может. Какое же долгое время понадобится, чтобы добиться необходимого вам твердого места в жизни и достичь той внешней независимости, которая, как и первое, понадобится вам для прочной семейной жизни. Как ненадежны будут ваши усилия, если вы примешаете к ним преждевременную привязанность и как опасна власть этой привязанности для вашей души! Теперь вам обоим будет больно порвать или хотя бы отложить заключенный союз, мы знаем это, мы чувствуем эту боль, нам жаль вас обоих, и мы корим себя за то, что не сумели предотвратить случившегося. Но вы оба успокоитесь, Матильда будет завершать свое образование, вы упрочитесь в своем будущем положении, и тогда можно будет поговорить опять. Даже и без этой привязанности вам недолго пришлось бы оставаться на нынешнем вашем месте. Мы очень вам благодарны. Наш Альфред, как и Матильда, прекрасно преуспели благодаря вам. Но именно поэтому совесть не позволяет нам отвлекать вас долее ради своей выгоды от вашего будущего, и мой супруг хочет с вами об этом поговорить. Подумайте о том, что я вам сказала, я не требую от вас ответа сегодня, но дайте мне его на этих днях. У меня есть еще одно желание, я знаю вас, и поэтому хочу доверить вам его. Вы обладаете очень большой властью над Матильдой, как мы видели, не представляя себе, сколь эта власть велика, примените, если мои слова произведут на вас впечатление, эту власть к ней, чтобы убедить ее в том, что я вам сказала, и успокоить бедное дитя. Если это удастся вам, поверьте мне, вы этим покажете Матильде большую любовь, вы покажете ее и нам. Приступите со всем усердием таланта и терпения, проявленным вами в нашем доме, к своим профессиональным обязанностям. Мы все очень привязались к вам, вы снова увидите эту приязнь и привязанность, вы успокоитесь, и все образуется к лучшему.
Она умолкла, положила свою красивую, приятную руку на стол и взглянула на меня.
— Вы бледны, как беленая стена, — сказала она через мгновение. На глаза у меня навернулись слезинки, и я ответил:
— Теперь я совсем один. Мой отец, моя мать, моя сестра умерли.
Больше я ничего не смог сказать, мои губы дрожали от несказанной боли.
Она встала, положила руку мне на плечо и со слезами произнесла милым своим голосом:
— Густав, сын мой! Ты ведь всегда им был, и лучшего я желать не могу. Идите теперь оба дорогой образования, и если тогда ваша созревшая натура скажет то же, что сейчас говорит ваша смятенная душа, приходите вдвоем, мы благословим вас. Но не мешайте, бередя, усиливая и, может быть, уродуя ваши нынешние горячие чувства, столь необходимому для вас развитию.
Впервые она сказала мне «ты».
Она отошла от меня и стала шагать по комнате.
— Высокочтимая госпожа, — сказал я через несколько мгновений, — нет нужды в том, чтобы я ответил вам завтра или на днях. Я могу сделать это сейчас же. Названные вами причины, наверное, очень верны, я думаю, что так все и есть, как вы говорите. Но вся моя душа восстает против этого, и как ни справедливо все сказанное, я не способен это осмыслить. Позвольте, чтобы прошло некоторое время и чтобы я еще раз обдумал то, чего сейчас не в силах обдумать. Но одно я понимаю. Ребенок не смеет ослушаться своих родителей, если не хочет порвать с ними навеки, если не хочет пренебречь ими или собою самой. Матильда не может пренебречь своими добрыми родителями, и сама она так добра, что не может отвергнуть и себя самое. Ее родители требуют, чтобы она сейчас расторгла заключенный союз, и она повинуется. Я не стану пытаться перечить родительской воле. Причины, вами названные и не способные проникнуть мне в душу, наверное, очень для вас весомы, иначе вы не излагали бы их мне с такой убедительностью, такой добротой и под конец со слезами. Вы от них не отступитесь. Мы не могли представить себе, что то, что для нас — высшее счастье, может быть бедой для родителей. Вы сказали мне это с глубочайшей убежденностью. Даже если вы ошибаетесь, даже если бы наши просьбы могли смягчить вас, то вашего радостного согласия, вашей души, вашего благословения не было бы с нашим союзом, а союз без родительской радости, союз, печальный для отца и для матери, был бы союзом с печалью, он был бы вечным жалом, и ваше строгое или озабоченное лицо было бы постоянным укором. Поэтому наш союз, как ни был бы он оправдан, кончен, он кончен до тех пор, пока родители не могут с ним согласиться. Вашу непослушную дочь я не мог бы любить так несказанно, как люблю сейчас. Послушную же я буду чтить и, как бы далеко она от меня ни была, любить всей душой до конца моих дней. Поэтому мы расторгнем союз, как бы мучительно ни было это решение… О мать, о мать моя! — позвольте назвать вас так в первый и, может быть, последний раз… боль моя так велика, что ее нельзя выразить, и я не представлял себе ее силы.
— Я вижу ее, и поэтому так велико наше горе, что мы не можем избавить наше дорогое дитя и вас, которого мы тоже любим, от душевной боли.
— Завтра я скажу Матильде, — ответил я, — что она должна послушаться отца и матери. Сегодня, высокочтимая госпожа, позвольте мне немного собраться с мыслями и уладить другие необходимые дела.
На глазах у меня опять выступили слезы.
— Соберитесь, дорогой, и сделайте то, что считаете нужным, поговорите с Матильдой или не говорите с ней, я ничего не предписываю вам. Придет время, когда вы согласитесь, что я не так несправедлива к вам, как это вам сейчас, может быть, кажется.
Я поцеловал ей руку, которую она ласково мне подала, и вышел из комнаты.
На другой день я попросил Матильду пройти со мной в сад. Пройдя через первую часть его, мы вышли увитым виноградом проходом к беседке, у которой цвели розы. На ходу мы почти не говорили, разве что сказали, как хорош тот или иной цветок, как прекрасны виноградные листья и как разгулялся день. Мы были слишком напряжены предстоявшим, Матильда тем, что я собирался сообщить ей, а я — тем, как она примет это сообщение. Вблизи беседки стояла скамейка, на которую падала тень от куста роз. Я пригласил Матильду сесть со мной на эту скамью. В первый раз мы пошли в сад совсем одни и впервые сидели рядом одни на скамейке. Это было предвестием того, что либо нам целиком принадлежит будущее, либо это последний раз, и потому нам оказано полное доверие. Я видел, что Матильда это чувствовала, ибо вся ее стать выражала напряженное ожидание. Тем не менее она ни одним словом не торопила меня начать. Мое поведение, наверное, испугало ее. Ибо, хотя ночью я несметное число раз подбирал слова, с которыми к ней обращусь, я не мог сейчас говорить, и как ни старался я овладеть своими чувствами, весь мой вид, вероятно, выражал мою боль. После того как мы некоторое время посидели, глядя на носки своих башмаков и, что удивительно, не взяв друг друга за руки, я дрожащим голосом и задыхаясь заговорил о том, что думают ее родители, что они хотят, чтобы мы хотя бы на время расторгли наш союз. Я не касался причин, приведенных ее матерью, и только сказал ей, что она должна повиноваться и что при непослушании наш союз невозможен.
Когда я закончил, она была в высшей степени изумлена.
— Прошу тебя только, повтори мне вкратце то, что ты сказал и что мы должны делать, — сказала она.
— Ты должна исполнить волю своих родителей и порвать со мной, — ответил я.
— И ты это предлагаешь и ты обещал матери добиться от меня этого? — спросила она.
— Не добиться, Матильда, — отвечал я, — мы должны повиноваться. Ибо воля родителей — закон для детей.
— Я должна повиноваться, — воскликнула она, вскочив со скамьи, — и я повинуюсь, но ты не должен повиноваться, это же не твои родители. Ты не должен был приходить сюда с поручением расторгнуть союз любви, который мы заключили. Ты должен был сказать: «Госпожа, ваша дочь послушается вас, скажите лишь ей свою волю, но я не обязан следовать вашим указаниям, я буду любить вашу дочь, пока во мне течет кровь, и всеми силами буду стремиться завладеть ею. И поскольку она послушна вам, она не будет больше говорить со мною, не будет больше смотреть на меня, я уеду отсюда подальше. Но любить я ее все-таки буду, пока длится эта жизнь и жизнь будущая, я никакой другой не подарю ни частицы своей привязанности, я никогда не отступлюсь от нее». Так должен был ты сказать, и если бы ты уехал из нашего замка, я знала бы, что ты так сказал, и миллионы цепей не могли бы оторвать меня от тебя, и я, ликуя, исполнила бы когда-нибудь то, что даровала бы тебе эта бушующая душа. Ты расторгнул наш союз, прежде чем пришел сюда, прежде чем привел меня к этой скамье, куда я по доброй воле за тобою пошла, потому что не знала, что ты сделал. Если бы сейчас пришли отец и мать и сказали: «Возьмите друг друга, обладайте друг другом навеки», все равно все было бы кончено. Ты нарушил верность, которую я мнила более твердой, чем столпы мира и звезды на небосводе.
— Матильда, — сказал я, — то, что я сейчас делаю, бесконечно труднее того, что ты требуешь.
— Трудно или нетрудно — не о том сейчас речь, — отвечала она, — речь о том, противоположности чему я не представляла себе. Густав, Густав, как мог ты это сделать?
Она отошла от меня на несколько шагов, стала на траву на колени перед цветущими у беседки розами, сложила руки и воскликнула, заливаясь слезами:
— Услышьте это, тысячи цветов, которые глядели на нас, когда он целовал эти губы, услышь это, листва винограда, слыхавшая шепот клятвы в вечной верности, я любила его так, как ни одни уста, ни один язык на свете не могут выразить. Это сердце молодо годами, но богато великодушием. Все, что в нем жило, я отдала любимому, во мне не было ни одной мысли, кроме него, всю будущую жизнь, которая могла бы длиться еще много лет, я одним духом принесла ему в жертву, я отдала бы ему всю свою кровь, каплю за каплей, я дала бы вытянуть из себя все жилы — и ликовала бы. Я думала, что он это знает, потому что думала, что и он сделал бы то же. И вот он уводит меня сюда, чтобы сказать мне то, что он сказал. Какая бы боль ни пришла извне, какая бы борьба, какое бы напряжение и страдание — я все бы вынесла, но он — он! Он сделал для меня навек невозможным принадлежать ему, потому что разрушил волшебство, которое все связывало, волшебство, сулившее нерушимую близость на будущие годы и навсегда.
Я подошел к ней, чтобы поднять ее. Я схватил ее руку. Рука ее была как огонь. Она встала, отняла руку и пошла к беседке, у которой цвели розы.
— Матильда, — сказал я, — нет речи о нарушении верности, верность не нарушена. Не путай разные вещи. Мы поступили несправедливо с родителями, скрыв от них то, что сделали, и упорно продолжая это скрывать. Они боятся за нас. Не разрушить наши чувства хотят они, а только отложить на какое-то время внешнее проявление нашего союза.
— Можешь ты какое-то время не быть самим собой? — возразила она. — Можешь заставить свое сердце какое-то время не биться? Внешнее, внутреннее — все это едино, и все это любовь. Ты никогда не любил, потому что этого не знаешь.
— Матильда, — отвечал я, — ты всегда была так добра, так благородна, чиста, прекрасна, что я навеки заключил тебя в свою душу. Сегодня ты впервые несправедлива. Моя любовь бесконечна, нерушима, и боль от того, что я должен тебя оставить, несказанна, я не знал, что на свете бывает такая боль. Больнее только быть отвергнутым тобою. Мне безразлично, кто передаст тебе волю родителей, это не имеет значения, они родители, их воля — это их воля, а самое священное в нас говорит, что родителей надо чтить, что уз между родителями и их ребенком нельзя разрывать, хотя от этого и разбиваются наши сердца. Так я чувствовал, так думал, так действовал, я хотел сказать тебе необходимое мягко и ласково, поэтому я взял и на себя эту миссию. Я думал, что никто не сможет сказать тебе эту горькую истину так мягко и ласково, как я, поэтому я и пришел. Я пришел по доброте, из сострадания. Мною руководил долг, этот долг разрывает мне сердце, а в этом разрывающемся сердце — ты.
— Да, это слова, — сказала она, рыдая все сильнее и судорожнее, — это слова, которые я так любила слушать, которые так услаждали мне душу, которые были сладостны мне уже тогда, когда ты этого еще не знал, которым я верила, как вечной истине. Ты не должен был убеждать меня разрывать нашу любовь, пусть это тысячу раз долг, но для тебя он должен был быть невозможен. Поэтому я не могу тебе верить, твоя любовь не та, какою я представляла ее себе, не та, какова моя. Если бы ты раньше сказал, что земля — не земля, а небо — не небо, я бы тебе поверила. Теперь я не знаю, верить ли мне тому, что ты говоришь. Не могу иначе и не могу ничего поделать, чтобы это знать. О Боже, как все изменилось и как непрочно то, что мне казалось вечным. Как мне вынести это?
Она спрятала лицо в розах, и ее пылавшие щеки были теперь красивее роз. Она совсем прижалась лицом к розам и плакала так, что казалось, я чувствую дрожь ее тела и от боли она вот-вот потеряет сознание. Я хотел говорить, но не мог, мне сжимало грудь и органы речи были бессильны. Я коснулся ее тела, но она отпрянула, почувствовав это. Я неподвижно стоял около нее. Я запустил руку в ветки роз и сжал их вместе с шипами до крови, отчего мне стало чуть легче.
Через некоторое время, когда ее рыданья немного унялись, она подняла лицо, вытерла слезы вынутым из кармана платком и сказала:
— Все прошло. Оставаться здесь долее нам нет причины, вернемся в дом и посмотрим, что будет дальше. Кто нас встретит, не должен увидеть, что я так плакала.
Она снова вытерла платком глаза, подавила слезы, выпрямилась, немного прибрала волосы и сказала:
— Пойдем в дом.
С этими словами она направилась к увитому виноградом проходу, а я пошел рядом с нею. Крови на моей руке она не заметила. Я больше не пытался утешать ее, видя, что в таком состоянии она этого не воспримет. Я понял также, что в гневе на меня она перенесет свою боль легче, чем если бы этого гнева не было. Мы молча вошли в дом. Там мы прошли в комнату матери. Матильда бросилась ей на грудь. Я поцеловал госпоже руку и удалился.
Всю остальную часть дня я провел за упаковкой своего имущества, чтобы покинуть этот дом завтра. Отец Матильды один раз зашел ко мне и сказал:
— Не убивайтесь чрезмерно, все еще, может быть, образуется.
В остальном же его доводы, изложенные им приветливо и ласково, были те же, что и у его супруги. Заглянула ко мне однажды и мать Матильды, грустно улыбнулась при виде моей деятельности и подала мне руку. Мои ожидания были мрачнее, чем были, казалось, ожидания этих двоих. Вера Матильды в меня была поколеблена. Когда я объявил о своем намерении уехать завтра же и мне уже не возражали, как попытались было, я позвал Альфреда и сказал ему, что я не собираюсь в большое путешествие, как он, наверное, решил, а покидаю этот дом надолго, может быть, навсегда. Возникли, мол, обстоятельства, которые делают это необходимым. Он с рыданьями бросился мне на шею, я не мог его унять и почти плакал сам. Его отвели потом к родителям, в кабинет отца, чтобы успокоить. В тот вечер его уложили в другой спальне под присмотром слуги. Когда его увели, я пошел к ее родителям и поблагодарил их за все хорошее, что выпало мне в их доме. Они также поблагодарили меня и внушили какие-то надежды. Договорились, что хозяйские лошади доставят меня до ближайшей почты. Матильда не вышла к ужину.
На следующее утро коляска была загружена. Я приготовился к дороге. Мне разрешили попрощаться с Матильдой. Но она отказалась видеть меня. Поэтому я вернулся в свое жилье, протянул руку старому Раймунду и сказал:
— Прощай, Раймунд.
— Прощайте, молодой барин, — отвечал он, — и будьте счастливы.
— Ты не знаешь, Раймунд!
— Знаю, знаю, молодой барин, — все может статься.
— Прощай.
Я сошел с лестницы, он проводил меня. Внизу у коляски стояли хозяин, хозяйка и множество слуг. Пришли люди и с хутора. Альфред, поздно уснувший, еще спал, хозяева дома простились со мной каким-то особым образом, окружающие тоже попрощались со мной, пожелали мне счастья и веселого возвращения. Я сел в коляску и уехал из Гейнбаха.
Хозяин этого дома как-то сказал мне:
— Может быть, вы когда-нибудь покинете этот дом без раскаяния и без боли.
Однако я покидал его хоть без раскаяния, но с болью.
Хозяин высказал также предположение, что и его семьи я никогда не забуду. Она и осталась для меня незабываемой.
На почте я отпустил гейнбахскую коляску, последнюю примету этого уголка земли, и заказал место в карете, идущей в город, где я так долго жил, где завершил ученье, откуда уехал в Гейнбах и где находился дом родителей Матильды. Но в городе этом я не остался.
Вблизи места, где я родился, в лесу есть куполообразная скала, с которой видно далеко вокруг. Северный ее склон пологий и порос темными елями. С юга она круто обрывается, весьма высока и испещрена ущельями, там она глядит на редкий лес, между деревьями которого пасется скот. За лесом видны луга и поля, затем высокогорье. Из города я отправился на свою родину, а оттуда на купол этой скалы. Я сидел на нем и горько плакал. Теперь я был одинок, как никогда не был одинок раньше. Я заглядывал в темные жерла пропастей и спрашивал себя, не броситься ли мне туда. Образ моей умершей матери вторгся в эти смутные, ужасные мысли и стал милым предметом моих раздумий. Я ежедневно ходил на эту скалу и часто просиживал на ней по нескольку часов. Не знаю, почему я туда стремился. В юности я часто бывал на ней, нам доставляло удовольствие бросать оттуда довольно большие камни, чтобы увидеть клубы каменной пыли, когда камень ударится о камень, услыхать его удар, услыхать стук и грохот окатышей у подножья скалы. С этого купола не видно было тех краев, где находилось жилье Матильды, не видно было даже граничивших с ними гор. Постепенно я стал бродить и по другим окрестностям моего родного дома. Зять был человек кроткий и тихий, и дома мы, бывало, за весь день обменивались всего лишь несколькими словами.
Со временем я стал подумывать об отъезде и о своих служебных занятиях, о которых так давно забыл, и, может быть, долго не вспоминал бы, поглощенный гейнбахскими делами.
Я снова вернулся в город, где оставались мои пожитки, и всерьез посвятил себя карьере, для которой, собственно, и учился в подготовительных школах. Я подал прошение о приеме на государственную службу, был зачислен и теперь очень усердно трудился в той области низших инстанций, в какой пребывал. Я жил еще уединеннее, чем когда-либо. Моего небольшого жалованья и доходов от моих сбережений хватало на мои потребности. Я жил в той части предместья, которая находилась очень далеко от дома родителей Матильды. Зимою я почти никуда не ходил, кроме как из дома на службу — а это был путь очень долгий — и со службы домой. Кормился я в небольшом трактире, лежавшем на моем пути. Друзей и товарищей я навещал редко, всякая связь с людьми была для меня отравлена. Отдыхом мне служили занятия историей, политическими науками и естествознанием. Прогулки по валу во внешней части города или ходьба по глухой части окрестностей давали мне воздух и движение. Матильду я увидел один раз. Она ехала с матерью в открытой коляске по одной из широких улиц предместья, где я никак не предполагал встретить ее. Я оглянулся, узнал ее и едва не упал. Увидела ли она меня, я не знаю. Затем я отправился на службу, к своему письменному столу. В первое время мое начальство не очень-то замечало меня. Я работал с чрезвычайным усердием, это стало лекарством для моей раны, и я охотно прибегал к этому лекарству. Пока голова моя была заполнена всякими служебными делами, в ней ничего больше не было. Мучительны бывали лишь промежутки. Науки тоже отвлекали не так надежно. Мое усердие наконец обратило на меня внимание, меня повысили. Сначала дело шло медленно, потом пошло быстрее. По истечении нескольких лет я занимал одно из почетнейших мест на государственной службе, дававшее право общения с наиболее образованной частью городских жителей, и у меня были все виды на то, чтобы подняться еще выше. В таких обстоятельствах обычно заключаются браки с девушками из лучших домов, ведущие затем к счастливой и достойной семейной жизни. Матильде было сейчас, наверное, двадцать один или двадцать два года. Никаких попыток сближения со мной со стороны ее родителей не было, и я не находил ни малейших признаков этого, сколь упорно ни ждал, что они обо мне справятся. Поэтому никаких прямых шагов к сближению с нею я делать не мог. Косвенно же я предпринял такие шаги, которые надежно убедили бы ее в неизменности моей привязанности. В ответ я получил недвусмысленные доказательства того, что Матильда презирает меня. К замужеству, для которого ввиду ее богатства и незаурядной красоты имелись самые блестящие предложения, склонить ее не удалось. С глубокой, тяжелой скорбью одел я надгробным покровом самые священные чувства моей жизни.
Не хочу докучать вам рассказом о дальнейшей моей карьере. Это сюда не относится и в основном вам, наверное, известно. Пошли войны, меня переводили с места на место, от меня требовали больших, всеобъемлющих трудов, поездок, докладов, предложений, меня посылали со всяческими миссиями, я соприкасался с самыми разными людьми, и император стал, смею сказать, моим другом. Когда меня возвели в бароны, ко мне издалека приехал мой старый дядюшка, чтобы, как он выразился, засвидетельствовать мне свое почтение. Хотя он не уделял никакого внимания моей матери, а после смерти отца чуть ли не жестоко от нее отстранился, я все-таки принял его приветливо, потому что при моей заброшенности он был как-никак единственным моим родственником. С тех пор мы переписывались. Я вступал в связь со множеством людей и познакомился с некоторыми сторонами общества. Но связи эти отчасти носили светский характер, отчасти люди стремились ко мне, надеясь через меня возвыситься, отчасти же такие встречи были совсем безынтересны. Как тяжелы мне были мои дела, как мало, по сути, я для них подходил, об этом я вам уже сказал. Постепенно я стал почти стариком. Подолгу живя в отдалении, я не знал многих обстоятельств в столице. Матильда вышла замуж в довольно позднем возрасте. Установился прочный мир, я снова постоянно жил в столице, и тут я совершил нечто, в чем буду упрекать себя до конца жизни, потому что это не соответствует чистым законам природы, хотя случается на свете тысячи и тысячи раз. Я женился без любви и привязанности. Не было отвращения, но не было и привязанности. Взаимное уважение было велико. Мне много говорили, что это мой долг — создать семью, быть окруженным в старости дорогими и близкими, которые будут любить меня, заботиться обо мне, станут моей защитой и унаследуют мое имя и мои почести. Это, мол, долг перед людьми и перед государством. На мое возражение, что у меня нет влечения ни к одному существу женского пола, мне отвечали, что влечения часто ведут к несчастным союзам, а знание друг друга и взаимное уважение строят прочное счастье. Несмотря на зрелый возраст, я все еще мало что смыслил в этих вещах. Мое юношеское увлечение, такое сильное, почти необузданное, не принесло мне счастья. Итак, я женился на девушке, не столь уже молодой, приятного вида, чистейшего нрава, испытывавшей ко мне глубокое почтение. Говорили, что я женился на богатстве, потому что дом у меня велся на широкую ногу; однако дело обстояло не так. Моя супруга принесла мне хорошее приданое, но я мог бы внести в дом еще больше. Поскольку при моей умеренной жизни мне почти ничего не было нужно, я сделал, особенно достигнув высокого чина, значительные сбережения. Их я вложил в тогдашние облигации, а поскольку те по окончании войны сильно поднялись в цене, я стал чуть ли не богачом. Мы прожили два года в этом браке, и тогда я узнал то, чего не знал до его заключения, а именно — что без привязанности в брак вступать не следует. Мы жили в согласии, в глубоком взаимном уважении к хорошим качествам другой стороны, жили во взаимодоверии и взаимовнимании, наш брак называли образцовым. Но мы жили только без несчастья. Для счастья нужно нечто большее, чем отрицательность, счастье — это воплощение очарования другой стороны, к которой радостно устремлены все наши силы. Когда через два года Юлия умерла, я искренне о ней скорбел. Но образ Матильды оставался в моей душе неизменным. Я был теперь снова один. Побудить меня к вступлению в новый брак было невозможно. Я знал теперь то, чего прежде не знал. Любовь и привязанность, думал я, — это вещь, которая прошла мимо моего сердца.
Через год после смерти Юлии умер мой дядя и сделал меня наследником своего немалого состояния.
Мои дела между тем становились с каждым днем все труднее. Если я уже в прежние времена подумывал, что государственная служба не соответствует моим качествам и что лучше бы мне уйти с нее, то по зрелом размышлении и пристальном наблюдении над собой мысль эта превращалась во все большую уверенность, и я решил сложить с себя свои должности. Мои друзья старались помешать этому, и многие, кого я знал как столпов государства и с кем в трудные времена провел немало тяжелых часов на службе, настойчиво убеждали меня не прекращать своей деятельности. Но я был непоколебим. Я подал прошение об отставке. Император принял его благожелательно и с воздачей мне почестей. У меня было намерение осесть под конец жизни на земле, отдаться там научным трудам, наслаждаться, насколько буду способен, искусством, ухаживать за своими полями и садами и делать какие-то общеполезные для своего окружения дела. Время от времени я мог бы ездить в город, чтобы навещать своих старых друзей, а порой и совершать путешествия в отдаленные страны. Я поехал к себе на родину. Зять, оказалось, умер уже четыре года назад, дом находился в чужих руках и был целиком перестроен. Вскоре я уехал оттуда. После множества неудачных попыток я нашел это место, где я живу теперь, и осел на нем. Я купил Асперхоф, построил дом на холме и постепенно придал имению тот вид, в каком вы его теперь видите. Мне понравился этот край, понравилось это прелестное место, я прикупил еще несколько лугов, лесов и полей, объехал все окрестности, полюбил свои занятия и объездил самые главные страны Европы. Так поседела моя голова, и, казалось, у меня воцарились радость и мир.
Когда я прожил здесь уже довольно много времени, мне как-то сказали, что к холму подъехала какая-то женщина и сейчас вместе с каким-то мальчиком стоит у роз, растущих у стен дома. Я вышел, увидел коляску, увидел и стоявших перед розами женщину и мальчика. Я подошел к ним. Это была Матильда. Она держала мальчика за руку. Заливаясь слезами, она смотрела на розы. Ее лицо постарело, и фигура была как у женщины в годах.
— Густав, Густав, — воскликнула она, взглянув на меня, — я не могу не говорить тебе «ты». Я приехала, чтобы попросить у тебя прощения за обиду, которую я тебе нанесла. Пусти меня ненадолго в свой дом.
— Матильда, — сказал я, — добро пожаловать на эту землю, добро пожаловать тысячу раз, и считай этот дом своим.
С этими словами я подошел к ней, взял ее руку и поцеловал ее в губы.
Она не отпустила моей руки, сильно сжав ее, и разразилась такими рыданиями, что мне подумалось, что эта все еще дорогая мне грудь разорвется.
— Матильда, — сказал я ласково, — успокойся.
— Отведи меня в дом, — сказала она тихо.
Колокольчиком, который я всегда ношу с собой, я позвал своего эконома и приказал ему разместить коляску и лошадей. Затем я взял Матильду под руку и провел ее в дом. Когда мы вошли в столовую, я сказал мальчику:
— Посиди здесь и подожди, пока я не поговорю с твоей матерью и не уйму слезы, от которых ей сейчас так больно.
Мальчик приветливо посмотрел на меня и послушался. Я провел Матильду в приемную и предложил ей сесть. Когда она опустилась на мягкие подушки, я сел напротив нее на стул. Она продолжала плакать, но слезы ее мало-помалу стихали, через некоторое время слезинки из ее глаз полились реже, и наконец она вытерла платком последние. Мы молча сидели и смотрели друг на друга. Она смотрела, наверное, на мои седые волосы, а я глядел ей в лицо. Оно уже увяло, но на щеках и около рта оставалась печать прелести и той мягкой печали, которая так трогательна в отцветших женщинах, когда за ней виден свет, видно отражение ушедшей красоты. Я узнал в этих чертах прежнее цветение юности.
— Густав, — сказала она, — вот мы и увиделись. Я не могла больше мириться с обидой, которую причинила тебе!
— Не было никакой обиды, Матильда, — сказал я.
— Да, ты всегда был добр, — отвечала она, — я это знала, поэтому и приехала. Ты и сейчас добр, это говорит твой милый взгляд, который все так же хорош, как когда-то, когда он был моим блаженством.
— О, дорогая Матильда, мне нечего тебе прощать, и тебе тоже нечего прощать мне, — ответил я. — Объясняется все тем, что ты тогда не способна была увидеть то, что было видно, а я тогда не был способен сблизиться с тобой больше, чем я должен был сблизиться. Твой мучительный гнев был любовью, и моя мучительная сдержанность тоже была любовью. В ней наша ошибка, и в ней же наша награда.
— Да, в любви, — отвечала она, — которую мы не смогли изжить, я оставалась все-таки верна тебе вопреки всему и любила только тебя одного. Многие домогались меня, я их отвергала. Меня выдали за человека доброго, но жившего рядом со мной отчужденно, я знала только тебя, цветок моей молодости, который не увядал никогда. И ты тоже любишь меня, это говорят тысячи роз у стен твоего дома, и это для меня наказание, что я приехала как раз во время их цветения.
— Не говори о наказании, Матильда, — ответил я, — и поскольку все остальное обстоит так, оставь прошлое и скажи, каково твое положение теперь. Могу ли я тебе в чем-то помочь?
— Нет, Густав, — отвечала она, — самая большая помощь в том, что ты есть на свете. Мое положение очень просто. Мои отец и мать давно умерли, супруга тоже давно нет в живых, а Альфред… ты так любил его…
— Как любил бы сына, — ответил я.
— Он тоже умер, не оставив ни жены, ни ребенка, дом в Гейнбахе и дом в городе он успел продать. Я владею имуществом семьи и живу уединенно со своими детьми. Милый Густав, я привезла с собой мальчика… Как ты узнал, что он мой сын?
— Я увидел у него твои черные глаза и твои каштановые волосы, — ответил я.
— Я привезла к тебе мальчика, — сказала она, — чтобы ты увидел, что он такой же, как твой Альфред, — почти копия, но у него нет никого, кто обходился бы с ним так, как ты с Альфредом, кто так любил бы его, как ты любил Альфреда, и кого он мог бы в ответ полюбить так, как Альфред любил тебя.
— Как зовут мальчика? — спросил я.
— Густав, как тебя, — отвечала она.
Я не смог сдержать слез.
— Матильда, — сказал я, — у меня нет ни жены, ни детей, ни родственников. Ты была единственным, что было у меня за всю жизнь, единственное, что есть у меня теперь. Оставь мне мальчика, оставь его у меня, я стану его учить и воспитывать.
— О, мой Густав, — воскликнула она с горячими слезами растроганности, — как верно было мое чувство, которое привело меня к тебе, прекраснейшему из людей, когда я была ребенком, чувство, которое не покидало меня всю жизнь.
Она встала, положила голову мне на плечо и зарыдала. Я не мог сдержать себя, у меня неудержимо полились слезы. Я обнял ее и прижал к сердцу. И я не знаю, проникал ли так когда-либо в душу горячий поцелуй юной любви и возвышал ее когда-либо так, как это запоздалое объятие старых людей, сердца которых дрожали от переполнявшей их любви. Что в человеке чисто и прекрасно, то нерушимо, и это драгоценность на все времена.
Когда мы разомкнули объятие, я подвел ее к месту, где она сидела, сел на свое и спросил:
— У тебя есть еще дети?
— Девочка, которая на много лет старше мальчика, — отвечала она, — ее я тоже привезу к тебе, у нее тоже черные глаза и каштановые волосы, как у меня. Девочку я оставлю у себя, а мальчик, если ты так добр, пусть поживет с тобой сколько захочешь. Пусть бы он стал таким же, как ты. О, я и думать не думала, что все здесь так будет!
— Матильда, успокойся, — сказал я, — я позову мальчика, мы с ним спокойно поговорим.
Так я и сделал, я привел за руку мальчика, и мы еще некоторое время говорили с ребенком и друг с другом. Затем я показал Матильде дом, сад, хутор и все прочее. К вечеру она уехала, чтобы переночевать в Рорбахе. Мальчика, как мы договорились, она пока взяла с собой, чтобы снарядить и подготовить его и, когда она сочтет удобным, привезти ко мне. С тех пор мы переписывались, а через некоторое время она привезла с Густавом, который все еще у меня, и Наталию, которая тогда только расцветала. Большего сходства между этой девочкой и Матильдой-девочкой нельзя было и вообразить, я испугался, когда увидел Наталию. Не могу сказать, похожа ли была Матильда на Наталию в нынешнем се возрасте: к тому времени я уже расстался с Матильдой.
Началось славное время. Матильда часто приезжала с Наталией навестить нас. В первые же дни я предложил ей убрать от дома розы, если они будят в ней мучительные воспоминания. Но она попросила не делать этого, розы стали для нее самым дорогим и служат украшением дому. Она стала такой мягкой и спокойной, какой вы теперь ее знаете, и этот склад ее натуры укреплялся все более, по мере того как внешние ее обстоятельства становились ровнее, а душа ее, позволю себе это сказать, осчастливилась. Наладилась дружеская связь, Густав привык ко мне, я к нему, и из привычки возникла любовь. Матильда давала советы относительно моего домашнего хозяйства, я — насчет ведения ее дел. Мы часто обсуждали воспитание Наталии и предпринимали согласованные действия. И в этой взаимопомощи крепла наша прежняя привязанность друг к другу, которая никогда не исчезала, которая превратилась в благородное, глубокое, дружеское чувство и могла теперь существовать открыто и правомерно. У меня снова появился кто-то, кого я был способен любить, а Матильда могла обратить свое сердце, всегда принадлежавшее мне, к моему благу и к моей душе совершенно открыто. Через некоторое время было объявлено о продаже Штерненхофа. Я предложил Матильде купить его. Она осмотрела это имение. Из-за соседства со мною и даже из-за тамошних лип, напоминавших ей высокие деревья на лужайке перед гейнбахским домом, она склонилась к покупке. Да и вообще Штерненхоф очень походил на дом в Гейнбахе, представлял собою очень приятное имение и давал Матильде на остаток дней твердую опору и какую-то завершенность прожитого. Таким образом, купля состоялась. В то же примерно время я устроил в своем доме квартиру для Матильды и Наталии. В Штерненхофе нужно было много поработать, прежде чем все приобрело более или менее уютный вид. И потом все время приходилось то переделывать, то перестраивать, пока дом не принял нынешнего своего вида. И даже теперь, как вы знаете, там и здесь все строят, укрепляют, украшают, и так, наверное, будет продолжаться всегда. Розы, этот знак нашей разлуки и нашего воссоединения, останутся преимущественно в Асперхофе, потому что Матильде было приятно увидеть их там. В пору цветения роз она каждый раз жила у меня. Она любила эти цветы донельзя, ухаживала за ними и радовалась, когда ей удавалось подарить мне какой-нибудь их сорт, которого у меня еще не было. Я же заказывал мебель для ее замка, доставлявшую ей большое удовольствие. Густав день ото дня становился все лучше и обещал стать мужчиной, который будет радовать своих близких. Наталия делалась не только красивой и прелестной, но и в отношениях с матерью становилась чиста и благородна, как мало кто. Она сохранила глубину чувств своей матери, но отчасти по натуре, отчасти благодаря очень тщательному воспитанию в ее жизни больше спокойствия и постоянства. Между мною и Матильдой отношения особые. Есть супружеская любовь, которая после дней пламенной, грозоподобной любви, влекущей мужчину к женщине, превращается в тихую, очень искреннюю дружбу, которая выше всяких похвал и всяких порицаний и есть, может быть, самое ясное в человеческих отношениях. Эта любовь и пришла. Она глубока, лишена страстного влечения, радуется, когда друг рядом, старается украсить и продлить его дни, она нежна и как бы неземного происхождения. Матильда участвует во всех моих усилиях, она со мною в саду, она наблюдает за цветами и овощами, она бывает на хуторе и следит за доходом, который он приносит, ходит в столярную мастерскую и смотрит, что мы там делаем, принимает участие в нашем искусстве и даже в наших научных усилиях. Я присматриваю за ее домом, слежу за делами в замке, на хуторе, на полях, вникаю в ее желания и мнения и заключил в свою душу воспитание и будущее ее детей. Так мы и живем в счастье и постоянстве, словно в бабьем лете без предшествовавшего ему настоящего лета. Мои коллекции пополняются, мои постройки принимают все более завершенный вид, я привлек к себе разных людей, я научился здесь большему, чем за всю свою жизнь, забавы идут своим чередом, и тем немногим, что мне осталось, я еще пользуюсь.
После этих слов он помолчал, и я тоже. Затем он сказал:
— Я должен был сообщить вам все это, чтобы вы знали, как я связан со штерненхофской семьей и чтобы вам было ясно, в какой круг вы теперь тоже вступаете. Дети знают эти обстоятельства в общих чертах, вникать в них подробно им не было так важно, как вам. Я не хочу, чтобы у вас были тайны от будущей вашей супруги. Вы можете сообщить Наталии то, что я вам сказал, я этого, как вы понимаете, сделать не мог. О будущем Наталии я часто говорил с Матильдой. Она должна была выйти за того, к кому глубоко привяжется. Нужно величайшее взаимное уважение. То и другое составит ее счастье, которое миновало ее мать и отеческого друга. В сопровождении старого Раймунда, нынче уже умершего, Матильда предпринимала большие поездки. Она искала в них покоя, да и нашла его. Нашла в созерцании благороднейших произведений человечества и в наблюдении за разными народами и их обычаями. Наталии это придало твердость, благородство и лоск. Она знакомилась со многими молодыми людьми, но никогда не проявляла склонности ни к кому. Вот она и потеряла то, что называют «блестящие связи». Для меня было бы тоже большой заботой выбирать среди наших молодых людей. Когда вы впервые подошли к ограде нашего дома и я увидел вас, я подумал: «Вот, может быть, и супруг для Наталии». Почему я так подумал, не знаю. Позднее я снова подумал так, но уже знал почему. Наталия увидела вас и полюбила, как вы ее. Мы заметили зарождение этой взаимной симпатии. У Наталии она сказалась вначале в душевном подъеме, позднее в немного болезненном беспокойстве. У вас она открыла душу раннему расцвету искусства и проникновению в глубочайшие сокровища науки. Мы ждали развития событий. Для большей верности и для проверки прочности ваших чувств мы нарочно две зимы не привозили Наталию в город, чтобы вас разлучить, мать снова брала ее в большие поездки и вводила в свет. Но ее чувства оставались неизменны, и развязка пришла. Мы с радостью препоручаем девушку вашей любви и вашей защите, вы сделаете ее счастливой, а она — вас, ибо вы не изменитесь и она не изменится тоже. Густав когда-нибудь получит Штерненхоф и все, что к нему относится, ибо дом этот стал так дорог Матильде, что она хочет, чтобы он остался собственностью ее семьи и будущие поколения чтили то, что вложила в него первая владелица. Густав, мы уже знаем, так и поступит и, вероятно, постарается внушить такое же настроение своим потомкам. Наталия получит от меня Асперхоф со всем, что в нем есть, а также всю мою наличность. Вы не посрамите здесь память обо мне.
При этих его словах я со слезами на глазах протянул ему руку. Он пожал ее от всей души.
— Вы можете жить в Асперхофе, или в Штерненхофе, или у ваших родителей. Везде найдется место для вас. Вы можете также делить свое местожительство между нами, и так, наверное, и будет, пока все наши обстоятельства не приспособятся к этому новому событию. Бумаги относительно передачи моего состояния Наталии вы получите после вашей свадьбы. Пока я жив, ей достанется некая часть, остальное — после моей смерти.
Как вам распорядиться тем, что отойдет к ней сейчас, лучше всех научит вас ваш отец. Он, наверное, поговорит со мною и об этом. После свадьбы Наталия получит и ту часть, которая причитается ей из наследства ее отца Тароны.
— Фамилия Наталии Тарона? — спросил я.
— Разве вы этого не знали? — спросил он в ответ.
— Я всегда слышал, как Матильду называли госпожой фон Штерненхоф, — отвечал я, — с Матильдой и Наталией я не бывал нигде, кроме Штерненхофа, Асперхофа и Ингхофа, а там обеих всегда называли по именам. Других разысканий я вообще не предпринимал.
— Матильда сделала так, чтобы ее называли по Штерненхофу, это имя ей милее. Так, наверное, и получилось, что другого вы и не слышали. Для Густава надо будет хлопотать о разрешении носить эту фамилию.
— Но госпожи Тарона, сказали мне, как раз той зимой, когда я увидел Наталию в ложе, не было в городе, — сказал я и вспомнил о Преборне, который сообщил мне об этом обстоятельстве.
— Совершенно верно, — отвечал мой гостеприимец, — мы поехали туда только на представление «Короля Лира». Я был в ложе позади Наталии, но вас не видел.
— И я вас, — ответил я.
— Наталия рассказала нам о каком-то молодом человеке, на которого она обратила внимание в театре, — отвечал он, — но лишь долгое время спустя могла она открыть нам, что это были вы.
— А не видел ли я однажды зимой, в городе, после выздоровления императора, как вы ехали в украшении всех своих наград? — спросил я.
— Вполне возможно, — ответил он, — в то время я был в городе и при дворе.
Итак, мой дорогой юный друг, — сказал он через некоторое время, — я рассказал вам о своей жизни, потому что вам предстоит стать членом нашей семьи. Я говорил с вами от всей души, а теперь кончим этот разговор.
— Я обязан поблагодарить вас, — отвечал я, — однако все услышанное для меня еще слишком ошеломительно и ново, чтобы я мог сейчас найти слова благодарности. Только одно причиняет мне чуть ли не боль: что вы с Матильдой не вступили после вашего воссоединения в более тесный союз.
Старик покраснел при этих словах, покраснел так сильно и в то же время так красиво, как я никогда еще этого не замечал за ним.
— Время ушло, — отвечал он, — такие отношения уже не были бы так прекрасны, да и Матильда тоже этого не хотела.
Он уже встал раньше, теперь он подал мне руку, сердечно пожал мою и вышел из комнаты.
Я долго стоял, пытаясь собраться с мыслями. Когда я впервые поднялся к этому дому и на другой день увидел его изнутри, мне и в голову бы не пришло, что все произойдет так, как произошло, и что все это станет моей собственностью. Еще я понял теперь, почему, говоря о своих владениях, он обычно употреблял слово «наши». Оно уже относилось к Матильде и ее детям.
Пробыв еще некоторое время у себя в комнате, я покинул ее, чтобы прогуляться на свежем воздухе и мысленно еще раз вернуться к услышанному.
5. Завершение
На следующий день, в тот час первой его половины, когда, как я знал, мой гостеприимец был менее занят, я, надлежаще одевшись, вошел в его комнату и поблагодарил за доверие, которым он меня одарил, и за уважение, которое выказал мне, сочтя меня достойным руки Наталии.
— Что касается доверия, — отвечал он, — то естественно, что никого, кто от нас далек, не посвящаешь в свои сокровенные дела. Но столь же естественно, что тот, кто в будущем станет, так сказать, частью нашей семьи, должен знать все, что этой семьи касается. Я рассказал вам самое главное, отдельные подробности, которые не всегда удается представить себе, суть дела вряд ли меняют. Что касается уважения, состоящего в том, что я считаю вас подходящим для Наталии супругом, то перед всеми мужчинами на свете у вас есть то неизмеримое преимущество, что Наталия вас любит и хочет вас и никого другого. Но несмотря на это преимущество, ни Матильда, ни я, которому тоже предоставлено тут какое-то право, не дали бы своего согласия, если бы ваша натура не внушала нам уверенности, что в данном случае может быть заключен прочный и счастливый семейный союз. Что касается уважения, которым я обязан вам независимо от этих дел, то я, по-моему, давал вам доказательства такового. Если я и думал, что вы можете стать в будущем мужем Наталии, то такая возможность была столь неопределенна, — ведь все зависело от вашего взаимного влечения, что мысль об этом никак не влияла на мое отношение к вам, да и только со временем стала дочерью моего о вас мнения.
— Вы и в самом деле дали мне столько доказательств своей доброжелательности и бережности, — отвечал я, — что я сам не знаю, чем их заслужил. Ведь никаких преимуществ во мне нет.
— Судить о причинах, рождающих уважение и привязанность, надо предоставлять другим. Ведь хотя в общем-то примерно знаешь, чего ты достиг в какой-то области, хотя сознаешь проявленную тобой добрую волю, всех оттенков своей души все же не знаешь, не знаешь, в какой мере они направлены на других, их знаешь только в их направленности на себя, а это очень разные направления. Кстати, милый мой сын, если в обществе полагается соблюдать определенные приличия и сдержанность в одежде и вообще в поведении, то в собственной семье это обременительно. Поэтому впредь приходи ко мне в своем повседневном платье. И хотя я не родственник твоей невесты, смотри на меня как на такового, к примеру, как на ее приемного отца. Все наладится, все образуется.
С этими словами он возложил руку мне на голову, посмотрел на меня, и на глазах его показались слезы. За время нашего знакомства я ни разу не видел увлажненными глаза этого старика. Поэтому я был потрясен и сказал:
— Так позвольте же и мне в этот торжественный час выразить свою благодарность за все, чем я стал в этом доме. Ибо если я что-то собой представляю, то стал я таким здесь, и исполните в этот час одну просьбу, которая для меня очень важна: позвольте мне поцеловать вашу достопочтенную руку.
— Ну, только один этот раз, — ответил он, — разве что еще один раз, когда ты с Наталией, сокровищем моей души, обойдешь аналой.
Я схватил его руку и прижался к ней губами. А он положил другую мне на затылок и прижал меня к сердцу.
— Останься еще немного в этом доме, — сказал он позднее, — а потом отправляйся к своим родителям и побудь в их обществе. Отцу ты тоже очень необходим.
— Можно мне рассказать родным то, что вы сообщили мне? — спросил я.
— Вы даже обязаны это сделать, — отвечал он, — ибо ваши родители вправе знать, в какое общество попадает их сын, заключив столь священный союз, и вправе желать, чтобы у их сына не было секретов от них. Впрочем, я и сам, пожалуй, поговорю с твоим отцом об этих и других делах.
Затем мы попрощались, и я вышел из комнаты.
Во второй половине дня я зашел к Густаву, и он получил разрешение совершить со мной большую прогулку по окрестностям, вернулись мы в сумерках, и ему пришлось наверстывать упущенное днем при свете лампы.
В разборе своих бумаг, которые я пытался привести в какой-то порядок, в общении с моим гостеприимцем, благосклонно дарившим мне свое время, в посещениях столярной мастерской, где вовсю трудился Ойстах, или его брата Роланда, который пользовался каждой светлой минутою дня для своей картины, наконец, в далеких походах по окрестностям, ибо это была первая моя зима в деревне, прошло время до середины февраля. Наконец, я простился, отправил свои вещи на почту в Рорберг и пошел вслед пешком, дождался там прибытия кареты с запада, получил в ней, когда она пришла, место и поехал на родину.
Я был, как всегда, очень радостно встречен родными и должен был рассказать им о своем зимнем путешествии в горы. Сделав это, я в первые же дни рассказал им и то, что сообщил мне мой гостеприимец. Это было им до сих пор неизвестно.
— Я часто слышал о Ризахе, — сказал отец, — и всегда его имя упоминалось с уважением. Из семьи, владевшей Гейнбахом, я поверхностно знал только Альфреда. С Тароной я был однажды отдаленно связан делами.
Юношеские отношения моего гостеприимца с Матильдой держались, видимо, в строжайшей тайне, ибо ни отец, ни кто-либо из моих знакомых ничего об этом не слышали, хотя обычно о таких делах любят поговорить. Понятно, что после моей помолвки с Наталией мои сообщения произвели на моих родственников очень большое впечатление. Помимо этого я привез отцу нечто, очень его обрадовавшее. Побывав в последние свои дни в доме роз еще и у садовника, я узнал у него способ изготовления средства, препятствующего протеканию воды между стеклами и возникающему от этого капанью. Сам садовник этого способа не знал, но он сходил к моему гостеприимцу, который мне и сообщил его. Я рассказал об этом отцу и передал ему необходимые указания.
— Это предотвратит в будущем вредное для растений проникновение зимней воды в здешнюю нашу теплицу, — сказал он, — но еще больше я рад, что смогу сразу же применить это средство в новых теплицах, что будут стоять возле сельского дома, который я собираюсь построить.
Мать усмехнулась.
— Пока готовьтесь к поездке в Штерненхоф и в дом роз, — сказал отец, — все главное произошло, теперь необходимый шаг за нами. В первые дни весны мы поедем туда, и я просватаю своего сына. Вы, женщины, любите готовиться к таким вещам, так поторопитесь же, времени у вас немного, чуть более двух месяцев. Все, что лежит на мне, я к тому времени сделаю.
Что это все одобрили, разумелось само собой, но время для подготовки сочли несколько кратким. Отец сказал, что откладывать далее никак нельзя ввиду важности отношений, в которые мы вступаем. С этим нельзя было не согласиться.
Пошли всякие работы и заказы, и каждый день был чем-то заполнен. Мать сделала приготовления и на тот случай, если молодожены будут жить в ее доме. Отец сказал ей, правда, что моему браку будет предшествовать большое путешествие, однако она возразила ему замечанием, что никакого вреда не будет, если все будет готово раньше, чем то понадобится. Он тотчас уступил ее домовитости.
К концу марта отец доставил во двор прекрасную карету. Это была карета для дальних поездок на четырех человек. Он заказал сделать ее по своему наброску.
— Мы должны почтить наших друзей, — сказал он, — мы должны почтить самих себя, и кто знает, не пригодится ли нам эта карета и впредь.
Он потребовал, чтобы все хорошенько осмотрели карету, особенно по части ее удобства для женских дорожных принадлежностей. Так и поступили, карету нельзя было не похвалить. Прочность сочеталась в ней с легкостью, и при приятной форме она была достаточно просторна для всех необходимых вещей.
— Я готов, — сказал отец, — постарайтесь не очень мешкать с приготовлениями.
Но и женщины вовремя со всем управились. Отец назначил срок отъезда на начало цветения деревьев, и в это время мы и отправились.
Теперь по дороге, по которой я столько раз ездил один или с чужими людьми, я ехал со своими родными. Лошадей мы меняли на каждой почте. Однако для удобства матери и Клотильды мы дольше задерживались на одном месте и проезжали за день малые расстояния. Сопровождали нас прекрасная погода и множество белых и с красным отливом цветов. На четвертый день поутру мы подъехали к Штерненхофу. Матильде уже сообщили о нашем приезде. Мы откинули верх кареты, и взгляды моих родных были прикованы сначала к цветущему холму, на котором стоял замок, а потом направлены на саму постройку, затем на герб со звездами над воротами, на свод подворотни и наконец все взоры устремились к Матильде и Наталии, которые нас встречали. Мы вышли из кареты. Наталия то бледнела, то заливалась румянцем. С приветствиями не стали медлить. Клотильда и Наталия бросились друг другу на шею и заплакали. Мою почтенную матушку Матильда обняла и прижала к сердцу. Затем она мило и сердечно поздоровалась с отцом, протянув ему обе руки и проникновенно посмотрев на него своими все еще красивыми глазами. Наталия тем временем схватила и поцеловала руку моей матери. Отец, видимо, хотел сказать Наталии что-то веселое или даже шутливое. Но, рассмотрев ее, он стал очень серьезен, почти робок, он поздоровался с ней чинно и очень изысканно. Вероятно, его поразила ее красота, а может быть, он вспомнил, какое впечатление произвели на меня его камеи. Клотильду Матильда тоже прижала к сердцу. На меня никто не обращал внимания. Мы, перемешавшись, поднялись по лестнице, и нас привели в гостиную Матильды. Там приветствия обрели живые слова и надлежащую форму.
— Мы так долго знали друг друга и только теперь увиделись, — сказала Матильда моим родителям, усадив их.
— Мне много лет хотелось, — отвечал мой отец, — увидеть людей, которые были так доброжелательны к моему сыну и так возвысили его душу.
— Это Наталия, милая Клотильда, — сказал я, представляя друг другу девушек, — Наталия, которую я люблю так же, как тебя.
— Нет, больше, чем меня, и так оно и должно быть, — возразила Клотильда.
— Будь моей сестрой, — сказала Наталия, — я буду любить тебя, как сестру, я буду любить тебя всем сердцем.
— Я тоже говорю тебе «ты», — отвечала Клотильда, — я люблю брата, как саму себя, и так же буду любить тебя.
Девушки снова обнялись и поцеловались.
Когда мы сели за стол, я сказал Наталии:
— А меня вы вообще не приветствуете.
— Вы же знаете, — отвечала она, ласково посмотрев на меня.
Пошел более общий разговор о том же предмете.
Обе женщины не могли наглядеться друг на друга и то и дело брали друг друга за руки.
Когда наконец перешли к другому предмету и зашла речь о поездке, об ее приятных и неприятных сторонах, отец сказал, что мы все еще в дорожной одежде, что нам нужно удалиться, и спросил, когда он будет иметь честь снова представиться Матильде.
— Не надо представляться, — отвечала она, — а просто приходите, когда пожелаете.
— Итак, через два часа, — отвечал отец.
Мы пошли в свои комнаты, и отец велел нам одеться в нарядное платье. Через два часа они с матерью, оба по-праздничному одетые, пошли к Матильде, с которой им нужно было поговорить. Матильда приняла их в большой гостиной, и отец попросил для меня руки Наталии.
Через несколько минут были приглашены туда Наталия, Клотильда и я, и Матильда сказала:
— Господин и госпожа Дрендорф попросили твоей руки для своего сына.
Наталия, стоявшая в таком парадном платье, в каком я ее до сих пор ни разу не видел, отчего она показалась мне чуть ли не незнакомой, взглянула на меня со слезами на глазах. Я подошел к ней, подвел ее к ее матери, и мы сказали несколько слов благодарности. Она ответила очень любезно. Затем мы подошли к моим родителям и поблагодарили их тоже, и те тоже ответили нам любезно. Клотильда чувствовала себя в своем праздничном наряде очень скованно, как, впрочем, и все остальные. Мой отец разрядил натянутость, подойдя к столу, на который уже поставил какой-то ящичек. Он взял этот ящичек, приблизился к Наталии и сказал:
— Дорогая невеста и будущая дочь, вот небольшой подарок, но с ним связано одно условие. Вы видите, что замок обвязан ниткой, а на этой нитке — печать. Не разрезайте нитку до вашего бракосочетания. Причину моей просьбы вы тогда увидите. Согласны ли вы любезно ее исполнить?
— Благодарю вас за вашу доброту, — отвечала Наталия, — и это условие выполню.
Она приняла ящичек из рук отца. Моя мать и Клотильда тоже преподнесли ей подарки, а Матильда и Наталия, принеся свои подарки из соседней комнаты, одарили ими мою мать, Клотильду и отца. Мы с Наталией ничего друг другу не дали. Затем мы уселись вокруг стола, и начались задушевные разговоры. Под конец Матильда сказала:
— Итак, союз, который заключили сердца наших детей, скреплен и согласием родителей. День этого соединения навеки может быть назначен по вашему желанию и нашему усмотрению. Не будем говорить об этом сейчас, а посовещаемся и придем к согласию позднее.
После этих слов мы разошлись по своим комнатам.
Торжественные наряды были теперь сняты, и началась та жизнь в гостях, какая обычно бывает в таких условиях и особенно при начале столь близких отношений. Матильда постепенно показывала отцу и матери замок, сад, хутор, поля, луга и леса. Показала она им и все покои дома: гостиную, комнату со старинной мебелью, картины и все, что только было в замке. Она ходила с ними в сад к липам, ко всем плодовым деревьям, к клумбам, в грот с нимфой фонтана, к стене плюща, ко всем садовым посадкам. Точно так же было самым доскональным образом осмотрено все, относившееся к сельскому хозяйству. Под вечер, когда солнечные лучи светили мягче на цветущую землю, совершались общие прогулки по какой-либо части окрестностей. Не раз проходили мы всю длину окружной дороги, и родителям нравился этот путь, позволявший свободно и быстро передвигаться в хмурые дни и зимой. Отец никак не мог на все нахвалиться и нарадоваться. Матильда и мать подолгу и всегда очень дружески говорили о чем-то, наверное, они обменивались мнениями насчет нашего жилья и благоустройства. Наталия и Клотильда были почти неразлучны, они сдружились, сблизились, и часто, когда мы возвращались в замок, ходили еще вдвоем по глухим дорожкам сада и тропинкам ближайших полей.
— Видишь, Клотильда, я не мог привезти тебе портрета Наталии, потому что его не было, а теперь она перед тобою сама.
— И это много приятнее, чем любой портрет, — отвечала сестра, — но портрет все-таки нужно сделать, чтобы позднее знали, какова она была в эти годы.
Восемь дней Матильда не отпускала нас из Штерненхофа, и каждый день был занят чем-нибудь приятным. На девятый день начали готовиться ко всеобщему отъезду в дом роз. Матильда и мои родители поехали в нашей карете. Наталия, Клотильда и я — в коляске Матильды.
Когда мы подъезжали к холму, отец едва сдерживал свое любопытство. Я видел, как он часто вставал в карете и озирался. Над отдаленными лесами проходили полосы дождя, солнечные блики ложились золотыми пятнами на холмы и равнины, а с высоты ласково глядел вниз дом моего гостеприимца. Хотя при нашем отъезде из города там все уже цвело, в окрестностях дома роз, несмотря на время, которое мы провели в дороге и в доме Матильды, деревья не только продолжали цвести, но были в самом цвету. Ибо места эти находились значительно выше города. Часть озимых поднялась на холме в полный рост, другая часть подрастала, а яровые только всходили, и кое-где видна была еще бурая земля.
Мой гостеприимец был оповещен Матильдой о нашем приезде. Когда мы подъехали к ограде, он стоял с Густавом, Ойстахом, Роландом, с экономкой Катариной, управляющим, садовником и другими людьми на песчаной площадке перед домом, чтобы нас встретить. Мы вышли из экипажей, и вот мой отец и мой гостеприимец подошли друг к другу. У гостеприимца были белые, как снег, волосы, у отца чуть менее седые, но оба были мужчины приятного и достопочтенного вида. Они подали друг другу руки, на секунду взглянули друг на друга и потом обменялись сердечным рукопожатием.
— Приветствую, тысячу раз приветствую вас на пороге моего дома, — сказал мой гостеприимец, — редко сюда захаживал кто-либо, кто был бы таким желанным гостем, как вы, и редко я тосковал по ком-нибудь так же, как по вам. Мы так давно связаны, и я вас уже давно любил в любви вашего сына.
— А я вас в любви вашего молодого друга, — отвечал отец, — день, который приводит меня под ваш кров, — это один из лучших моих дней. Я вхожу в дом человека, которого знаю благодаря своему сыну, хотя вижу перед собой и государственного деятеля. Я прихожу отдать долг благодарности. Вы наградили меня до того, как я сколько-нибудь этого заслужил.
— Полноте, мне самому это было приятно, — возразил мой гостеприимец, — но знаете, легко совершить ошибку, когда ты одержим страстью, особенно когда вот так встречаются два старых любителя старины. Я преминул сказать первые приветственные слова вашей глубокочтимой супруге, как то было бы моим долгом. Но, дорогая сударыня, вы, если и не совсем простите меня, то посмотрите на это все-таки как на меньший промах, чем какая-либо другая женщина, ибо вы знаете своего супруга и его отношение к своим сокровищам. Приветствую вас и если скажу, что хотел видеть вас здесь не меньше, чем вашего супруга, то скажу правду, и свидетель тому ваш сын, если вы усомнитесь в моих словах. Я рад ввести вас в свой дом, позвольте взять вашу руку. Матильда, Наталия, Генрих, сегодня вам придется быть на вторых ролях, а эта барышня, которую я знаю, наверное, как Клотильду, пусть разрешит мне полюбить и просить ее о взаимности. Густав, проводи барышню.
— Сделайте милость, разрешите сопровождать вас, — сказал Густав Клотильде.
Она ласково взглянула на юношу и сказала:
— Прошу вас сделать мне одолжение.
— Прежде чем мы отправимся, — сказал еще мой гостеприимец, — взгляните и на этих двух моих замечательных художников. Ойстаха и Роланда, живущих в моем имении, которое я назвал бы «Беззаботность», если бы оно не доставляло столько забот. Они приветствуют вас перед домом. А вот и моя Катарина, на которой держится дом, а вот управляющий, садовник и другие, которые не хотели отказать себе в радости присутствовать при вашем приезде.
Отец пожал всем руки, а мать и Клотильда учтивейше поклонились.
Затем мой гостеприимец взял под руку мою мать, отец — Матильду, я — Наталию, Густав — Клотильду, и мы прошли через решетчатые ворота в сад и в дом. Экипажи отправились на хутор. В доме нас тотчас провели в наши комнаты. Матильда и Наталия пошли в обычную свою квартиру. Для моих отца и матери было отведено помещение из трех комнат — с очень красивой обивкой стен и превосходной мебелью. Обо всех и всяческих удобствах позаботились наперед. У Клотильды была изящная, голубоватая комнатка. Из родительской квартиры я направился в обычные свои комнаты. Густав пришел ко мне сюда в первые же минуты и обнял меня с великой радостью и любовью.
— Ну, наконец все определенно и ясно, — сказал он.
— Определенно и ясно, — возразил я, — если даст Бог. Теперь ты и вправду мой дорогой любимый брат, хотя по правилам ты станешь им лишь через некоторое время.
— Можно и мне говорить тебе «ты»? — спросил он.
— Рад этому от души, — ответил я.
— Итак, ты мой любимый, дорогой брат, — сказал он.
— Навсегда, на всю нашу жизнь, что бы ни случилось, — сказал я.
— Навсегда, — отвечал он, — а теперь быстренько переоденься, чтобы не опоздать. Все соберутся для еще одного приветствия в зале для гостей на первом этаже, прежде чем пойдут обедать. Мне и самому надо привести себя в порядок.
Все было так, как сказал Густав, и всем передали приглашение. Он вышел, и я переоделся.
Мы собрались в комнате для гостей на первом этаже, где я, будучи первый раз в этом доме, сидел один, когда мой гостеприимец удалился заказать для меня обед. Тогда до меня доносилось пение птиц. Пол выкладной работы был сегодня целиком покрыт очень красивым ковром. Ойстах и Роланд были тоже приглашены на этот прием.
Когда все собрались, мой гостеприимец, одетый столь же празднично, как мы, встал и сказал:
— Я еще раз обращаюсь ко всем приехавшим с приветствием в стенах этого дома. Хотя мне и не хватает здесь иных дорогих друзей и в некотором роде соратников, еще у меня оставшихся, так уж устроено, что не всегда удается собрать вместе всех, кого любишь. Самое существенное — здесь, и собрались мы по славному поводу, который кое-кому принесет еще более прекрасный день. Вы, высокочтимая сударыня, мать молодого человека, который не раз жил под кровлей этого дома, желанная в нем гостья. Дом этот часто слышал ваше имя и имена ваших добродетелей, и хотя звуки речи часто вещали как бы совсем иное, в них бессознательно слышались и скапливались ваши свойства, рождая почтение и, позвольте сказать это старику, любовь. Вы, мой благородный друг, — позвольте мне назвать вас так, — убеленный сединами, как и я, но достославнее благодаря почтению ваших детей, а потому и других людей, вы со своей супругою незримо обитали в этом доме и чтите его, присутствуя ныне в нем во плоти. Вы, Клотильда, прибыли сюда со своими родителями и находитесь как бы в своих владениях. К тебе, Матильда, обращаюсь я лишь теперь, обратившись прежде к другим, кто не столь часто переступал порог этого дома, как ты. Ты принесла нам сегодня нечто, что будет всем мило и дорого. Поэтому ты желанна здесь не менее, чем была желанна всегда. Добро пожаловать, Наталия, привет вам, Генрих, Ойстах, Роланд, Густав, свидетели нынешного события.
Моя мать на это ответила:
— Я всегда думала, что мы будем сердечно приняты в этом доме, так оно и случилось, благодарю вас за это от всей души.
— Я благодарю тоже, и пусть оправдается доброе мнение о нас, — сказал отец.
Клотильда только поклонилась. Матильда сказала:
— Спасибо тебе за твое приветствие, Густав, и если ты говоришь, что я принесла нечто доброе и милое всем, то сообщу, что Генрих Дрендорф и Наталия обручились девять дней назад в Штерненхофе, мы приехали к тебе, чтобы получить твое одобрение этого шага. Ты всегда обращался с Наталией, как родной отец. Кем она стала, она стала главным образом благодаря тебе. Поэтому ее никак не мог бы осчастливить союз, не получивший полного твоего благословения.
— Наталия — добрая, прекрасная девушка, — отвечал мой гостеприимец, — благодаря своей натуре и своему воспитанию она стала тем, что она есть. Может быть, в этом есть и небольшая моя доля, ведь все незлые люди, нас окружающие, вносят в нашу душу что-то хорошее. Ты знаешь, что заключенный союз я полностью одобряю и желаю ему всякого счастья. Но коль скоро ты назвала меня отцом Наталии, позволь мне и поступить как отцу. Наталия, как моя наследница, получит Асперхоф со всеми его угодьями и всем, что в нем есть, она получит также, поскольку у меня нет родственников, и все мое остальное имущество. Произойдет это таким образом, что в день своего бракосочетания она получит часть всего состояния, а также грамоты, дающие ей право на остальное, что перейдет к ней в день моей смерти. В этих грамотах, которым она соблаговолит последовать, будут указаны и некоторые подарки друзьям и слугам. Поскольку я отец, я и дам приданое своей любимой дочери, а от матери она может принять только подарки. И вы должны согласиться с одним моим упрямым желанием, сопротивление которому причинило бы мне большую боль. Свадьба должна быть отпразднована в Асперхофе. Сюда много лет назад впервые пришел жених, здесь я с ним познакомился, здесь, может быть, и родилась эта привязанность, и, наконец, здесь живет отец, как меня сейчас назвали. Ко дню свадьбы для молодоженов будет в Асперхофе готова квартира, но им не предъявляется требование воспользоваться ею. Пусть они по своему выбору устраиваются либо в Асперхофе, либо в Штерненхофе, либо в городе, либо живут попеременно, где им захочется.
В продолжение всей этой речи Матильда достойно и чинно сидела на своем месте, да и вообще в этом собрании царила глубокая серьезность. Матильда старалась владеть собою, но из глаз ее полились слезы, а губы задрожали. Она встала и хотела что-то сказать, но говорить не смогла и только протянула Ризаху руку. Тот обошел стол — ибо их разделял его угол, — мягко усадил Матильду на место, тихо поцеловал в лоб и погладил ее гладко расчесанные на пробор над изящным лбом волосы.
Когда Ризах вернулся на свое место, мой отец снова произнес речь.
— Здесь есть еще один отец, который тоже хочет сказать несколько слов и поставить кое-какие условия. Прежде всего, барон фон Ризах, примите мою живейшую благодарность за то, что вы сочли достойным одного из членов нашей семьи быть принятым в члены вашей семьи. Нашей семье оказана этим честь, и мой сын Генрих несомненно постарается приобрести все качества, необходимые для исполнения своей новой обязанности и для воплощения человеческого достоинства, без которого нельзя стать частью высшего общества. Я надеюсь, что в этом я могу поручиться за своего сына, и вы сами на это надеетесь, коль скоро доверили ему ту роль, какую он теперь играет. Мой сын внесет в новое домашнее хозяйство справедливую долю. В моем доме в городе для молодоженов всегда будет наготове подобающее жилье, и если я когда-нибудь предпочту сельскую жизнь, им найдется место и в моем новом жилище. Могут они, если пожелают, завести и собственный постоянный дом. То, что бракосочетание произойдет в Асперхофе, на мой взгляд, верно, и думаю, никто этого решения не станет оспаривать. А теперь у меня к вам, барон фон Ризах, еще одна просьба. Примите меня, старика, мою старую супругу, а также нашу дочь Клотильду, в свой семейный круг без колебаний. Мы люди мещанского сословия и, как таковые, жили просто. Но в любых обстоятельствах мы старались сохранить свою честь и доброе имя.
— Я знаю вас уже давно, — отвечал Ризах, — хотя и не лично, и уже давно уважаю вас. Еще глубже стал я уважать и любить вас, когда познакомился с вашим сыном. Как рад я вступить с вами в более тесные отношения, об этом может рассказать вам ваш сын, и будущее это покажет. Что касается мещанского звания, то и я принадлежал к этому сословию. Преходящие действия, которые называли заслугами, отторгли меня на некоторое время от этого сословия, но через свою приемную дочь я снова возвращаюсь к нему, единственно мне подобающему. Достопочтенный обладатель постоянной деятельности и устроенной семейной жизни, если вы сочтете меня, не имеющего ни того, ни другого, достойным этого, то прижмитесь к моему сердцу, и будем друзьями на все оставшиеся нам дни.
Оба встали со своих мест, встретились на середине пути друг к другу, обнялись и некоторое время не размыкали объятия. Как это всех потрясло, показали воцарившаяся мертвая тишина и влажные у многих глаза.
Когда Ризах покинул Матильду, моя мать подошла к ней, села с ней рядом и взяла обе ее руки. Женщины поцеловались и долго полуобнимали друг друга.
Я и Наталия подошли теперь к Ризаху и сказали, что мы глубоко благодарны ему за всю его любовь и доброту и что единственное наше стремление — становиться все более достойными его доброго мнения.
— Вы милые, приятные и честные, — сказал он, — и все будет хорошо.
Мы вернулись на свои места, и Ойстах, Клотильда, Роланд, Густав и сами родители пожелали нам всякого счастья и благополучия.
Затем разговор перешел к более простым и обыкновенным вещам. Все чаще вставали и перемешивались. На моей матери были сегодня в виде украшения некоторые из самых красивых камей, подаренных ей отцом. Мой гостеприимец часто на них поглядывал. Наконец он и Ойстах не удержались от искушения, подошли к матери, стали изумленно рассматривать камеи и говорить о них. Позднее подошел и Роланд. У отца блестели глаза от радости.
Поговорив еще немного, разошлись и стали готовиться к прогулке, которая должна была состояться еще до полудня. Собраться договорились на песчаной площадке перед домом.
Мы переоделись и вышли к месту сбора.
Отец, которому, вероятно, было очень любопытно увидеть все в этом доме, присоединился к Ризаху. Они стояли перед розами, и мой гостеприимец все объяснял отцу. Матильда шла рядом с моей матерью, Клотильда и Наталия держали друг друга под руку, мы же с Густавом, а временами и Ойстах с Роландом держались поблизости от стариков. С площадки мы пошли в сад, чтобы мои родные увидели сначала его. Мой гостеприимец исполнял для отца роль вожатого и объяснял ему все. Когда моя мать и Клотильда проявляли интерес к увиденному, им все объясняли их спутницы.
— Я вижу, однако, здесь бабочек, — сказал мой отец, когда мы углубились в сад.
— Это немыслимо и невозможно, чтобы мои птицы склевали все личинки, — отвечал мой гостеприимец, — они мешают только непомерному их распространению. Кое-что всегда остается и дает пищу на следующий год. К тому же бабочки прилетают и издалека. Да они были бы и лучшим украшением сада, если бы их гусеницы не были так вредны для наших человеческих потребностей.
— А разве птицы тоже не причиняют вреда плодовым деревьям? — спросил отец.
— Да, причиняют, — ответил мой гостеприимец, — особенно вишням и другим видам мягких плодов. Но по сравнению с пользою, которую приносят мне птицы, вред от них очень невелик, пусть и они получат свою долю от изобилия, которое они мне создают. К тому же, поскольку, кроме естественной пищи, они получают от меня дополнительный корм, а порою и лакомства, опасность налетов на мой сад значительно уменьшается.
Мы обошли весь сад. Каждая клумба, каждый в отдельности примечательный цветок, каждое дерево, каждая грядка, липовая аллея, пчельник, теплицы — все было подробно осмотрено. День почти совсем разгулялся, и везде во множестве благоухали цветы. Мы поднялись до высокой вишни и оглянулись оттуда на сад. Отец был счастлив все это видеть и наблюдать. Мать, по-видимому, не уделяла столько внимания окружающему, как отец, она, видимо, говорила с Матильдой о благополучии и неблагополучии и о будущем детей. Да и предметом разговоров между Клотильдой и Наталией вряд ли был главным образом сад. Вероятно, они коснулись других вещей.
От высокой вишни пришлось вернуться в дом, потому что время, остававшееся до обеда, уже истекало. На минутку все разошлись по своим комнатам и потом собрались в столовой.
Вторая половина дня была отдана осмотру хутора, лугов и полей. От высокой вишни мы пошли к засеянному холму, а по нему к полевому привалу. Мы прошли в точности тем путем, каким я прошел со своим гостеприимцем в тот вечер, когда я впервые попал в Асперхоф. На полевом привале мы немного огляделись. Ясень как раз покрылся первыми листочками и старался распустить их. Мы не могли сесть, потому что скамеечка была для этого слишком мала. От полевого привала мы пошли на хутор. Мы двинулись той дорогой, по которой я однажды шел наедине с Наталией. После осмотра хутора, где мой гостеприимец показывал отцу все до мелочей и объяснял ему, как выглядело все раньше, что из этого стало и что еще будет, мы пошли хуторскими лугами, полями на склоне холма дома роз, затем обошли холм, наконец, поднялись к рощице у пруда, а оттуда вернулись вдоль ручья в ольшанике, так что снова вышли к высокой вишне, откуда и пошли домой. Тем временем наступил вечер. Все вызывало у моего отца восхищение.
Следующий день был отдан осмотру внутренних помещений дома, сокровищ искусства и всего, что в нем находилось. Мой гостеприимец провел моего отца сначала по всем комнатам первого этажа, затем по мраморной лестнице к мраморной статуе. Мы все, кроме Ойстаха и Роланда, сопровождали их. У мраморной статуи мы простояли очень долго. Оттуда мы прошли в мраморный зал, где мой гостеприимец назвал моему отцу все сорта мрамора и места, где они встречаются. Затем мы постепенно обошли покои моего гостеприимца, комнаты с картинами, книгами, гравюрами, читальный зал, угловую комнату с кормушками для птиц и, наконец, гостиную и жилую комнату Матильды. Осмотрели мы и тот покой Ризаха, где стоял мольберт с почти готовой картиной. Закончили посещением столярной мастерской, осмотром ее устройства и всего, что находилось тогда в работе. Если вчера мой отец был полон восхищения, то сегодня он был прямо-таки вне себя. Мраморная статуя привела его в такой восторг, что он сказал, что от всех его путешествий в памяти у него не осталось ни одного произведения древности, которое было бы лучше этой статуи. Она осматривалась со всех сторон снова и снова, обсуждалась каждая подробность и все в целом. Ничего хотя бы отдаленно подобного, сказал отец, у него нет, разве что на некоторые из его старинных камей можно еще смотреть рядом с этой фигурой. Мраморный зал понравился ему чрезвычайно, и мысль построить такое помещение показалась ему очень счастливой. Он славил терпение моего гостеприимца в поисках мрамора и хвалил тех, кто придумал сочетание, давшее такую чистоту и такое великолепие. Старинная мебель, картины, книги, гравюры занимали моего отца живейшим образом, он все досконально осматривал и говорил о многом и как любитель, и как знаток. Мой гостеприимец легко находил с ним общий язык, их мнения часто совпадали и часто дополняли друг друга, насколько вообще можно изложить свое мнение в обществе, где приходится высказываться коротко. Мать от души радовалась радости отца. Так наконец исполнилось то, чего она так часто желала — чтобы отец посетил дом моего гостеприимца, и исполнилось это так приятно, как она, конечно, и думать не смела. Картину Роланда отец рассматривал очень внимательно, он нашел ее весьма значительной, обсуждал с Ризахом разные ее частности и сказал, что, судя по этому произведению, у Роланда могут быть большие надежды на будущее. Вполне понятно, что моему гостеприимцу доставило огромное удовольствие, что плоды его трудов снискали такое признание у человека, чьи слова свидетельствовали о его праве судить о них. Оба старика все больше сближались, подчас немного забывая об остальном обществе. В столярной мастерской, где вожатым был Ойстах, мы просмотрели не только все чертежи и планы, нет, все устройство и методы работы, а равно и все инструменты подверглись пристальному рассмотрению. Отец был в полном восхищении. На осмотр всего этого ушел целый день.
Назавтра поехали в Алицкий лес, мой гостеприимец хотел показать моим родителям принадлежавшие к Асперхофу лесные угодья.
Следующие дни объединяли общество уже меньше. Все разбредались, устремляясь к более притягательному для себя. Ко мне и к Наталии то и дело приходили все обитатели дома роз и хутора, чтобы пожелать счастья и благополучия нашему союзу. После состоявшейся помолвки они знали о нем твердо, но и раньше, видя, что происходит, обо всем догадывались. Мой отец снова рассматривал подробно все, что видел в общих чертах, он сновал туда и сюда и часто проводил время с хозяином дома. Женщины были заняты делами домоводства и много времени проводили с Катариной. Мы, молодые люди, бродили по саду, осматривая разные его места, и совершали прогулки. Не раз мы бывали у четы садовников, сиживали у них за столом, тщательно осматривали теплицы, слушали объяснения садовника о его питомцах. Однажды мы все побывали и в Ингхофе, а на следующий день обитатели Ингхофа приехали к нам. Рорбергский священник и многие уважаемые жители округи прибывали из близких или дальних мест, чтобы поздравить нас с событием, о котором они узнали. Даже крестьяне, жившие по соседству и знавшие меня и Наталию, являлись с тою же целью.
Мы провели в Асперхофе двенадцать дней, а потом наша карета была уложена кладью, и мы отправились назад, в свой родной город.
Приехав домой, мы тотчас стали готовить комнаты, чтобы подобающе встретить ответный визит, если он состоится. Я тем временем снаряжался и для другого, что должно было предшествовать соединению с Наталией, — для большого путешествия. Готовясь, я старался не упустить ничего существенного. Необходимость проделать такую поездку, чтобы, усвоив многое, чего я не знал, не слишком отставать от Наталии, была мне ясна, и столь же ясно было мне, что это путешествие я должен проделать один, а уж потом смогу путешествовать вместе с Наталией. Я собирался отправиться в путь сразу после того, как нам нанесут ответный визит.
Визит этот состоялся через три недели со дня нашего возвращения в город. О нем нас заранее оповестило письмо. Матильда, Ризах, Наталия и Густав приехали в прекрасной карете. Их провели в уже приготовленные для них комнаты. Переодевшись, они собрались для приветствия в нашей гостиной. Прием в нашем доме был таким же сердечным и радушным, каким всегда бывал только в Штерненхофе и в доме моего гостеприимца. Все лица сияли радостью, а все речи укрепляли начавшееся знакомство и крепнувшую дружбу. Приятное чувство распространялось даже на слуг. По отдельным их словам и веселым лицам можно было понять, как нравится им красавица-невеста. Все приятное, что могли предложить наш дом и наш город гостям, было им предоставлено. Как и в обоих поместьях, здесь тоже было показано все, что содержалось в доме. Гостей провели по комнатам, где они осматривали картины, книги, старинные ларцы и камеи. Они побывали в стеклянном угловом домике и во всех уголках сада. По поводу картин отца мой гостеприимец высказался в том смысле, что в целом они гораздо ценнее, чем его собрание, хотя и у него есть несколько вещей, сопоставимых с лучшими полотнами отцовской коллекции. Отца порадовало это суждение, и он сказал, что думал примерно так же. Камеи, сказал мой гостеприимец, превосходны, и ничего сравнимого с ними у него нет, кроме разве что мраморной статуи.
— Так оно и есть, и это самое лучшее в обеих коллекциях, — ответил отец.
Резные работы в стеклянном домике были знакомы моему гостеприимцу по моим рисункам. Однако он подробнейше их осмотрел и, учитывая время их создания, очень расхвалил. Мой мраморный листок вороньего глаза в саду был тоже сочтен вполне достойным признания. Моего отца эта высокая оценка его сокровищ со стороны такого человека, как Ризах, очень взбодрила, и, думаю, с тех пор, как он собрал все эти вещи, у него не было более приятных часов, чем время, когда у него гостил Ризах. Даже тот миг, когда у меня впервые открылись глаза на эти ценности, он вряд ли предпочел бы этому времени. У меня тогда было только чувство, а теперь у Ризаха было суждение.
Для развлечения вне дома мы дважды побывали в театре, три раза все вместе в музеях искусства и несколько раз выезжали за город.
Во время сих сборищ обсуждалось и время бракосочетания. Мне предстояло предпринять намеченное путешествие, а по возвращении проволочек уже не должно было быть. День будет тогда назначен. После такого договора состоялось прощание. Прощание на сей раз было очень тяжелым, потому что расставались надолго и возможны были всякие несчастные случаи в мое отсутствие. Но мы были стойки, стесняясь даже перед такими милыми свидетелями показать свою боль, и обещали переписываться.
Распростившись с гостями, мы разослали некоторым дружившим с нами семьям письма о моей помолвке. К княгине, чтобы сообщить ей об этом обстоятельстве, сходил я сам. Она сердечно улыбнулась и сказала, что прекрасно заметила, как сильно я однажды покраснел, когда она упомянула фамилию Тарона.
Я ответил, что покраснел тогда только потому, что она коснулась некоего моего влечения, в то время я еще не знал, что фамилия Наталии Тарона. Я сообщил ей также о своем путешествии, она очень похвалила это решение и рассказала мне об особенностях разных столиц, в которых она побывала в прежние годы. Она упомянула также кое-что относительно внешнего облика разных стран, будучи большой ценительницей красот природы. Она как раз собиралась снова отправиться на озеро Гарда, которое уже не раз посещала. Это и было причиною тому, что она еще так долго оставалась весною в городе. Она попросила меня снова заглянуть к ней по возвращении. Я это пообещал.
Долее мое путешествие уже не откладывалось. Я простился с родными и в один прекрасный день выехал из городских ворот.
Сначала я проехал через Швейцарию в Италию — в Венецию, во Флоренцию, в Рим, Неаполь, Сиракузы, Палермо, на Мальту. С Мальты я отбыл в Испанию, которую со множеством отклонений проехал с юга на север. Я побывал в Гибралтаре, Гренаде, Севилье, Кордове, Толедо, Мадриде и многих других городах поменьше. Из Испании я отправился во Францию. оттуда в Англию, Ирландию и Шотландию, оттуда — через Нидерланды и Германию — вернулся на родину. Я отсутствовал два года без полутора месяцев. Когда я возвратился, опять стояла весна. Могучий мир Альп, огнедышащих гор Неаполя и Сицилии, снежных гор южной Испании. Пиреней и туманных гор Шотландии произвели на меня сильное воздействие. Море, самое, может быть, великолепное, что есть на земле, запало мне в душу. Вокруг меня было бесконечно много прелестного и замечательного. Я видел различные народы, научился их понимать на их родине и часто проникался любовью к ним. Я видел разные типы людей с их надеждами, желаниями и потребностями, я видел суету движения, я подолгу задерживался в крупных городах, занятый их художественными ценностями, книжными сокровищами, уличным движением, общественной и научной жизнью и дорогими письмами, приходившими с родины и посылаемыми туда.
На обратном пути я оказался близ Асперхофа и Штерненхофа раньше, чем у себя на родине. Поэтому оба эти дома я навестил. Все были благополучны, здоровы и нашли, что я очень загорел. Здесь узнал я и об одной перемене, происшедшей с моим отцом, о которой мне не писали, чтобы не тревожить меня. Все его намеки на то, что он уйдет на покой, что он, не успеем оглянуться, окажется в деревне, что произойдет многое, о чем мы пока не думаем, что неизвестно, не понадобится ли нам чаще наша карета, исполнились. Он отошел от своего торгового дела и купил в очень приятном месте между Асперхофом и Штерненхофом как раз продававшееся тогда имение Густерхоф, которое сейчас переустраивал для себя. Я не стал тратить время на поездку в это имение, которое знал с внешней стороны, потому что не хотел длить разлуку с Наталией, которую снова обретал как драгоценность. После задушевной встречи и прощания я отправился к родителям, я ехал днем и ночью, чтобы прибыть поскорее. Они знали о моем приезде и встретили меня радостно. Я сразу же устроился в своей квартире. Мне было странно и отрадно видеть отца всегда занятым теперь планами, набросками, чертежами. За мое отсутствие он пять раз побывал в Густерхофе и, пользуясь случаем, часто ездил в гости к Матильде или Ризаху. Дважды его сопровождали мать и Клотильда. За эти два года он сильно помолодел. Жители Штерненхофа и Асперхофа также побывали зимою в гостях у моих родителей. Узы завязывались самым приятным и милым образом.
В первый же день моего появления в родительском доме мать провела меня в комнаты, приготовленные для меня и Наталии на случай, если мы захотим пожить в городе. Я и не думал, что в доме так много места, настолько просторна была эта квартира. Убранство ее было так красиво и в то же время так благородно, что я порадовался. По этому поводу я заговорил о дне свадьбы, и мать ответила, что, по мнению отца, теперь нет причин медлить, и заявление должно исходить от нас, как со стороны жениха, я попросил ускорить это дело, и уже на следующий день наши письма ушли в Штерненхоф и к Ризаху. Вскоре пришел ответ, и день был назначен согласно нашему предложению. Местом сбора был Асперхоф.
Верный своему обещанию, я нанес теперь визит княгине. Однако она уже уехала в свою сельскую резиденцию. Поэтому я написал ей несколько слов о своем возвращении и указал день бракосочетания. Вскоре пришел ответ от нее с пакетиком, содержавшим, как она писала, памятный подарок мне на свадьбу. Она не может мне вручить его, поскольку уже несколько недель нездорова и потому ей и пришлось так рано уехать в деревню. Подарок приготовлен уже давно. Я раскрыл пакетик. В нем была одна, но очень большая и очень красивая жемчужина. Оправы не было почти никакой. Были только булавка и золотая пластинка для прикрепления к одежде. Я был чрезвычайно рад отношению ко мне благородной княгини, удачности и продуманности ее подарка. Ибо в моих глазах жемчужина — та, кого я, как дар, собирался прижать к своей груди. Я написал проникновенное благодарственное письмо.
Наша подготовка скоро закончилась, и мы отправились в путь.
— Последние приготовления мы сможем ведь сделать в моем деревенском доме, — сказал отец с веселой улыбкой.
Мы поехали в Густерхоф. Нас приняла маленькая, но с любовью устроенная квартира, которую отец велел оборудовать здесь для таких случаев. Это было чудесное чувство — находиться в собственном, принадлежащем нам сельском доме. Более всего был проникнут таким чувством, пожалуй, отец, и мать радовалась этому донельзя. Мы пробыли здесь, завершая свои приготовления, столько времени, что смогли прибыть в Асперхоф за два дня до бракосочетания. Матильда и Наталия уже ждали нас. Мы сердечно приветствовали друг друга. Все было в некотором напряжении подготовки. Мне удавалось видеть Наталию порою лишь по нескольку минут. Клотильда тотчас же присоединялась к нам. Приходили и уходили послания. Прибывали гости и свидетели торжественного акта. Я тоже был в некотором стеснении.
Во второй половине первого дня я встретил в липовой аллее Матильду, моего гостеприимца и Густава. Я присоединился к ним. Густав вскоре покинул нас.
— Мы как раз говорили о том, что моему сыну придется вскоре уехать отсюда и посмотреть мир, — сказала Матильда. — Не нашли ли и вы после своего путешествия, что Густав изменился?
— Он стал настоящим юношей, — отвечал я, — во время своего путешествия я не видел никого, кто был бы похож на него. Он был очень крепким мальчиком и стал таким же юношей, но, мне кажется, мягче, нежнее. Даже в его глазах, еще более блестящих, чем прежде, мне увиделась какая-то девичья томность.
— Я рад, что вы тоже это заметили, — сказал мой гостеприимец, — так оно и есть, и это очень хорошо, хотя и опасно. Как раз у очень крепких юношей, в чьем сердце нет ничего злого, наступает в определенные годы какая-то томность, чуть ли не более прелестная, чем у расцветающих девушек. Это не слабость, а как раз избыток силы, особенно очаровательный, когда он виден в темных, с мягким блеском глазах и, словно драгоценность, светится в невинных ресницах. Но и удары судьбы такие юноши переносят с мужеством, достойным мученического венца, и когда отечество требует жертв, они просто и с готовностью приносят свою молодую жизнь на его алтарь. Но им легко впасть в ложный восторг, обмануться, а когда такие юношеские глаза встретятся в надлежащее время с надлежащими девичьими, вспыхивает внезапно самая горячая, но порой и самая несчастная любовь, потому что этот искренний юноша почти неистребимо хранит ее в своем сердце. Когда пройдут нынешние торжества, мы еще поговорим, что нужно было бы предпринять.
— Я ведь вижу и хорошее, и опасное, — сказала Матильда. Вскоре мы пошли назад в дом.
— Он должен испытать суровость жизни, она его закалит, — сказал по дороге мой гостеприимец.
Наконец наступил день свадьбы. Бракосочетание должно было состояться в Рорбергской церкви, в приход которой входил и Асперхоф. Собраться решили в мраморном зале, где пол устлали для этой цели тонким зеленым сукном. Таким же сукном были застланы и все лестницы. Я оделся у себя в комнате, помолился Богу, и один из моих свидетелей отвел меня в мраморный зал. Из наших близких там были пока только мужчины. Присутствовали свидетели и большинство гостей. Ризах был в мундире, при всех своих регалиях. Тут отворилась дверь из коридора, и вошла Наталия со своей и моей матерями, с Клотильдой и другими женщинами и девушками. Она была великолепно одета и словно бы усыпана драгоценными камнями, но очень бледна. Драгоценные камни были в средневековых оправах, я это заметил. Но я был не в том настроении, чтобы хоть на миг на этом сосредоточиться. я пошел ей навстречу и приветствовал ее нежным пожатием руки. Наталия вся дрожала.
Мой гостеприимец сказал моим родителям:
— Любимой темой разговоров вашего сына были до сих пор его родители и его сестра. Если он такой хороший сын, то будет и хорошим мужем.
— Прекрасные качества, сулящие славное будущее, — сказал отец, — он заимствовал у вас, мы хорошо это видели и потому любили его все больше. Вы его воспитали и облагородили.
— Отвечу так же, как и по поводу Наталии, — возразил мой гостеприимец, — развитие получила его сущность, а всякое общение с людьми, выпадавшее ему на долю, прежде всего с вами, тому помогало.
Я хотел что-то сказать, но от волнения не смог произнести ни слова.
Густав, стоявший близ женщин, посмотрел на меня, а я на него. Он тоже был очень бледен.
Тем временем постепенно собрались все, кто должен был присутствовать при бракосочетании, наступил час отъезда, и дворецкий доложил, что все готово.
Матильда перекрестила Наталии лоб, рот и грудь, и та припала губами к руке матери. Затем девушки подхватили фату, которая серебристым туманом спускалась с головы Наталии к ее ногам, окутали невесту фатой, и та, окруженная подругами и сопровождаемая женщинами, спустилась по лестнице, где стояла мраморная статуя. Мы последовали за ними. Со мною были мои свидетели, Ризах и отец. Первую часть ряда экипажей заняли женщины, невеста и девушки, последнюю — мужчины и я. Мы сели, кортеж тронулся. Пришло много народу поглядеть на него. В толпе я увидел моего учителя игры на цитре, помахавшего мне зеленой шляпой с пером, жители хутора и слуги в большинстве ушли вперед и ждали нас в церкви. Кое-кто находился и в экипажах. Кортеж медленно съехал с холма.
В церкви нас поджидал рорбергский священник, мы подошли к алтарю, и бракосочетание было совершено.
Обратно мы ехали с Наталией в одном экипаже наедине. Она ничего не говорила, фата была откинута, и слезы текли из ее глаз капля за каплей.
Когда мы вернулись в мраморный зал, на длинном столе, который здесь сегодня поставили и окружили множеством стульев, Ризах и мой отец разложили документы, относившиеся к нашему браку и нашему имущественному положению. А я тем временем взял Наталию за руку и провел через картинную и читальную комнаты в библиотеку, где мы оказались одни. Там я стал перед нею и распростер руки. Она бросилась мне на грудь. Мы оба обнялись и оба заплакали почти громко.
— Моя дорогая, моя единственная Наталия! — сказал я.
— О мой любимый, мой милый муж, — отвечала она. — Это сердце отныне твое, будь снисходителен к его недостаткам и слабостям.
— О моя дорогая жена, — ответил я, — я буду вечно чтить и любить тебя, как чту и люблю сегодня, будь терпелива со мною.
— О Генрих, ты ведь такой хороший, — отвечала она.
— Наталия, я постараюсь ради тебя избавиться от всех недостатков, — сказал я, — а до того буду каждый из них скрывать так, чтобы он не ранил тебя.
— А я буду стараться не обижать тебя, — отвечала она.
— Все будет хорошо, — сказал я.
— Все будет хорошо, как сказал наш второй отец, — отвечала она.
Я подвел ее к окну, и мы стояли там, держась за руки. Светило весеннее солнце, и рядом с алмазами сверкали капли, упавшие на ее прекрасное платье.
— Наталия, ты счастлива? — спросил я через некоторое время.
— Очень, — отвечала она, — и хочу, чтобы и ты был счастлив.
— Ты мое сокровище, высшее мое благо на этом свете, — отвечал я, — мне все еще кажется сном, что я добился его, и я буду хранить его, пока жив.
Я поцеловал ее в губы, которые она мне протянула. На ее нежных щеках снова появился румянец.
В эту минуту мы услышали шаги в соседней комнате, и вошли искавшие нас Матильда, моя мать, мой отец и Клотильда.
— Матушка, дорогая матушка, — сказал я Матильде, идя всем навстречу. Я схватил руку Матильды и попытался поцеловать ее. Матильда никогда никому не позволяла целовать себе руку. Сейчас она позволила это мне, мягко сказав:
— Только один-единственный раз.
Затем она поцеловала меня в лоб и сказала:
— Будь счастлив, сын мой, как ты того заслуживаешь и как этого хочет та, что сегодня отдала тебе половину своей жизни.
Ризах сказал мне:
— Сын мой, теперь я буду говорить тебе «ты», и ты тоже должен быть со мною на «ты», как и со своим первым отцом, — сын мой, после того, что сегодня произошло, первый твой долг — создать благородную, чистую, налаженную семейную жизнь. Перед тобою пример твоих родителей, будь таким, как они. Семья — это то, что необходимо в наши времена, еще необходимее, чем искусство и наука, чем транспорт, торговля, подъем, прогресс или как там называется все, что кажется таким желанным. Семья — основа искусства, науки, человеческого прогресса, государства. Если браки не становятся семейным счастьем, то напрасны твои высочайшие достижения в науке и искусстве, ты даришь их поколению нравственно опустившемуся, которому твои дары, в общем-то, не нужны и которое в конце концов перестает создавать такие ценности. Если ты стал на почву семьи — многие не вступают в брак и все же творят великое, — но если уж ты стал на почву семьи, ты человек лишь тогда, когда стоишь на ней чисто и целиком. Тогда трудись и на поприще искусства или науки, и если ты сотворишь что-то необыкновенное и великое, ты по праву прославишься, тогда будь полезен и своим соседям в делах общественных и следуй зову государства, если это понадобится. Тогда твоя жизнь будет на пользу тебе и всем временам. Следуй лишь зову своей души, как до сих пор, и все будет хорошо.
Я протянул ему руку, он прижал меня к себе и поцеловал в губы. Наталия была тем временем в объятиях моей матери, моего отца и Клотильды.
— Он останется, конечно, таким же, как сейчас, — сказала Наталия, выражая, вероятно, свое желание на будущее.
— Нет, мое дорогое дитя, — сказала моя мать, — он не останется таким же, сейчас ты этого еще не знаешь: он станет чем-то большим и ты тоже. Любовь будет другой, с годами она совсем другая. Но с каждым годом она все больше, и если ты говоришь: «Сейчас мы любим друг друга сильнее всего», то вскоре это будет не так, и когда перед тобой вместо цветущего юноши будет увядший старик, ты будешь любить его иначе, чем любила юношу. Но будешь любить его несказанно больше, будешь любить его вернее, серьезнее и неразрывнее.
Мой отец отвернулся и провел рукой по глазам.
Моя мать еще раз поцеловала Наталию и сказала:
— Милая моя, славная, дорогая дочь.
Наталия ответила поцелуем и бросилась на шею моей матери.
— Дети, теперь нам нужно пойти к остальным, — сказал Ризах.
Мы пошли в зал. Там Ризах вручил документы Наталии. Она передала их мне. Мой отец также вручил мне документы. Все присутствующие пожелали нам счастья, прежде всех Густав, которого я последнее время совсем не видел. Он бросился на шею сестре и мне. В его красивых глазах блестели слезы. Затем нас поздравили Ойстах, Роланд, ингхофские жители, рорбергский священник, который напомнил мне нашу первую встречу в этом доме в тот грозовой вечер, и все другие.
Ризах сказал, что теперь каждому дается в распоряжение два часа, а потом всем нужно собраться в мраморном зале для небольшой трапезы.
Те же девушки, что при бракосочетании, проводили Наталию в покои ее матери, чтобы она сняла там подвенечное платье. Я пошел в свою комнату, переоделся и запер документы, не взглянув на них. Спустя довольно долгое время я пошел в переднюю квартиры Матильды и, спросив, готова ли уже Наталия, передал, что прошу ее немного прогуляться со мною по саду. Она появилась в красивом, но очень простом шелковом платье и спустилась со мною по лестнице. Она подала мне руку, и мы прошлись под высокими липами и по другим дорожкам сада.
По истечении двух часов позвонили к трапезе. Все направились в зал, и были рассажены там по своим местам. Еда была, как обычно у Ризаха, простая, но превосходная. Для знатоков и любителей были поданы очень благородные вина. В этом зале никогда прежде не ели, и прелесть мрамора, заметил мой гостеприимец, должна отражаться лишь в прелести благороднейшего вина. Произносились здравицы и даже заздравные стихи.
— Хорошо ли я поступил, Натта, — сказал мой бывший гостеприимец, — найдя тебе подходящего мужа? Ты всегда думала, что я не разбираюсь в таких вещах, но я распознал его с первого взгляда. Не только любовь быстра, как электричество, но и деловой взгляд.
— Но мы же, отец, — сказала Наталия, покраснев, — никогда не спорили об этом предмете, и я не отказывала тебе в такой способности.
— Так ты, конечно, и представляла это себе, — отвечал он, — но судил я все-таки верно: он всегда был очень скромен, никогда ничего не выведывал и не выпытывал и будет, конечно, нежным мужем.
— А ты, Генрих, — сказал он через некоторое время, — этим не гордись. Не обязан ли ты всем в конце концов мне? Однажды, когда ты впервые был в этом доме, ты сказал в столярной мастерской, что дороги очень различны и что неизвестно, не прекрасна ли была та дорога, которая из-за грозы привела тебя сюда наверх ко мне, на это я ответил, что ты сказал очень верные слова и поймешь это лишь позднее, когда повзрослеешь, ибо в твоем возрасте, подумал я тогда, ты еще только присматриваешься к разным дорогам, как и я присматривался к своим. Но кто бы тогда подумал, что мои слова получат тот смысл, который они имеют сегодня? А все оттого, что ты упорно утверждал, что будет гроза и не верил моим возражениям.
— Значит, отец, так было суждено, и само провидение привело меня к моему счастью, — сказал я.
— Старуха, что жила в темном городском доме по соседству с нами и захаживала к нам в гости, — сказал мой отец, — предрекла тебе, Генрих, великое будущее, а сейчас ты, как сам говоришь, только счастлив.
— Остальное еще приложится, — воскликнули несколько голосов.
— У твоей супруги, вдобавок к другим ее добродетелям, я открыл, — продолжал отец, — одно хорошее свойство: она нелюбопытна. Или ты, милая моя дочь, уже открыла шкатулку, которую я тебе дал?
— Нет, отец, я ждала твоего знака, — отвечала Наталия.
— Так вели принести шкатулку, — ответил мой отец. Так и поступили. Нить с печатью была разрезана, шкатулка открыта, и в ней на белом бархате оказалось украшение из изумрудов. Раздался возглас всеобщего изумления. Не только сами по себе камни, хотя и не крупнейшие в своем роде, были очень красивы, но и оправа, не подавляя собою камней, была так легка и прекрасна, что все в целом сливалось в единое произведение, которое казалось настоящим созданием искусства. Даже Ойстах и Роланд выразили свое восхищение, а уж Ризах и вовсе. Они уверяли, что не видели работы, равной этой.
— Твой друг, Генрих, сотворил это украшение, — сказал мой отец, — мы выбрали изумруды, потому что они были у него очень красивые и в нужном количестве, потому что из всех цветных камней изумруды мягче всего оттеняют шею и лицо женщины и потому что ты так любишь изумруды густого и чистого цвета. А эти все густо-чисты. Мы старались оправить камни по твоим принципам. Было сделано много набросков, отобрано, отвергнуто и отобрано снова. Лучший, пожалуй, рисовальщик нашего города составил наконец то, что вы видите. Затем работали чуть ли не круглыми сутками, чтобы закончить все в срок. Открывать шкатулку не следовало затем, чтобы моя дочь не надела украшение в день своей свадьбы лишь в угоду мне, отложив в сторону то более красивое и более драгоценное, что у нее есть.
— Более красивого у нее нет, — возразил Ризах, — то, что сегодня было на ней, мы свободно составили по рисункам средневековых вещей и заказали тоже другу Генриха. Матильда, вели принести то украшение, чтобы нам их сравнить.
Матильда подала Наталии ключик, и та сама принесла ящичек, где лежало то украшение. Оно было составлено из алмазов и рубинов. Оно казалось таким нежным, чистым и благородным, как раскрашенная средневековая книжная заставка. Истинное волшебство было в этой проникновенности водяного блеска и розоватой красноты замысловатых фигур, которые можно было заимствовать только из идей наших предков. И все же, по единодушному мнению, изумрудное украшение не уступало этому. Современный художник оказался на высоте.
— Ни в нашем городе, а может быть, и нигде вокруг нет никого, кто мог бы так рисовать, — сказал мой отец, — он следует не вкусу эпохи, а сути вещей, и душа его так глубока, что создает высочайшую строгость и высочайшую красоту. Часто от его изделий веяло духом Нибелунгов или историей Оттонов. Не будь этот человек так скромен и не занимайся он вместо заказов, от которых у него отбоя нет, большими картинами, сейчас не было бы равных ему и его можно было бы сопоставить лишь с величайшими мастерами прошлого.
— Украшение в футляре, — сказал чей-то голос, — это ведь как картина без рамы или, вернее, как рама без картины.
— Да, это верно, — сказал Ризах, — о каждой вещи можно судить только когда она на своем месте, и поскольку мой друг выступил как мой соперник, то следовало бы… Натта, ты мое послушое дитя?
— Да, отец, и рада этому, — отвечала она.
Она встала, удалилась и вернулась переодетой так, чтобы можно было надеть эти драгоценные украшения. Начала она с алмазов и рубинов. Как прелестна была Наталия! Подтвердились слова, что украшения — это рама. Утром, в плену томительных и глубоких чувств, я не обратил внимания на это украшение. Теперь я увидел прекрасные черты как бы в сияющем ореоле. Оказавшись средоточием всех взглядов, молодая женщина покраснела, и ее румянец только и дал душу рубинам и вобрал ее в себя из них. Восторг был всеобщий. Затем Наталия надела украшение с изумрудами. Но и оно оказалось совершенным. Темная глубина камня придавала Наталии строгость, особую красоту. Если в алмазном украшении была какая-то скромность, то в изумрудном было что-то героическое. Ни одному из них не отдали пальмы первенства. Ризах и мой отец сами были с этим согласны. Наталия сняла с себя украшение, оба были уложены в свои футляры. Наталия унесла их и вскоре вернулась в прежнем своем платье.
С изумрудным дело обстояло особо. От него в футляре остались серьги, в алмазное украшение серьги не входили. Матильда и Наталия не носили серег, потому что, по их мнению, украшение должно служить телу. Если же телу наносят рану, чтобы повесить украшение, тело становится слугой украшения.
Когда все еще говорили о камнях, об их назначении и о том, что на теле они выглядят совсем иначе, чем в футляре, Ойстах сказал нечто, показавшееся мне очень верным.
— В чем внутреннее назначение драгоценных камней, — сказал он, — никому, по-моему, знать не дано. У человека они лучше всего украшают тело, и прежде всего обнаженные его части, но также одежду и все, с чем он еще соприкасается: королевские короны, оружие. Просто на мебели, как бы хороша она ни была, камни кажутся мертвыми, а на животных — униженными.
Долго еще говорили об этом предмете, разъясняя его примерами.
— Поскольку наше состязание окончилось сегодня вничью, — сказал Ризах моему отцу, — посмотрим, кто с меньшими затратами превратит свое имение в большое произведение искусства: ты свой Дренхоф или, если ты предпочитаешь называть его так, Густерхоф, или я свой Асперхоф.
— Ты уже опередил меня, — возразил мой отец, — и у тебя есть хорошие чертежники, а я только начинаю, и мой чертежник вряд ли будет делать для меня еще какие-то чертежи.
— Если в Асперхофе у нас не будет работы, мы поработаем в Дренхофе, — сказал Ойстах.
— Да если и будет, — возразил Ризах, — я хочу дать противнику оружие.
День постепенно подходил к вечеру. Трапеза давно кончилась, и, как то часто бывает, за столом продолжали беседовать.
Я уже давно обратил внимание на поведение садовника Симона. Как и главные слуги дома и хутора, он был приглашен к столу. Другие обедали на хуторе. Утром я подарил ему на память об этом дне серебряную табакерку с моим именем на крышке. Эту табакерку он держал при себе на столе и беспокойно к ней прикладывался. Не раз он перешептывался с женою, сидевшей рядом с ним, часто уходил и возвращался. Вот он и вернулся в зал после одной из таких отлучек. Он не сел и, казалось, боролся с собой. Наконец он подошел ко мне и сказал:
— Всякое добро вознаграждается, и вас ждет сегодня еще большая радость.
Я посмотрел на него недоумевающе.
— Вы спасли cereus peruvianus, — продолжал он, — во всяком случае, он был на волосок от гибели, а вы стали причиной тому, что он попал в этот дом, и сегодня он расцветет. Я старался задержать его холодом, даже опасаясь, что он сбросит почку, чтобы он расцвел не ранее, чем сегодня. Все вышло хорошо. Наша почка вот-вот распустится. Она может раскрыться через несколько минут. Если общество соизволит оказать честь оранжерее…
Тотчас все встали из-за стола и приготовились отправиться к теплицам. Симон убрал все вокруг peruvianus'a, высившегося в особом стеклянном домике, и освободил место для обзора. Цветок, когда мы вошли, уже распустился. Большой, белый, великолепный нездешний цветок. Все в один голос похвалили его.
— У скольких людей есть peruvianus'ы, — сказал Симон, — ведь это не такая уж редкость, и стволы у них бывают очень могучие, а мало кто доводит его до цветения. В Европе мало кто видел этот цветок. Сейчас он раскрывается, а завтра на рассвете его уже не будет. Он ценен своим присутствием. Мне посчастливилось заставить его расцвести — и как раз сегодня… это счастье, доставляющее истинную радость.
Мы долго стояли, ожидая, чтобы цветок полностью распустился.
— В отличие от обычных растений цветов у перувиануса бывает немного, — сказал Симон затем, — а всегда только один, позднее — опять один лишь.
Мой гостеприимец искренне радовался цветку, Матильда — тоже. Мы с Наталией поблагодарили Симона особенно за такое внимание и сказали, что никогда не забудем этого сюрприза. У старика стояли в глазах слезы. Он поместил вокруг цветка лампы, чтобы зажечь их с наступлением сумерек, если кто-нибудь захочет посмотреть на цветок ночью. При дальнейшем рассматривании цветок нравился нам все больше и больше. Мало что в нашем саду могло сравниться с ним по редкости, благородству и красоте. Наконец мы ушли, и кое-кто пообещал зайти в течение вечера снова.
Когда на обратном пути мы проходили мимо куста, что у липовой аллеи, у самой дороги раздались звуки цитры. Ризах, который вел мою мать, остановился, остановились также отец с Матильдой, а затем и все другие, кто был поблизости. Я с Наталией приблизился к кусту, сразу узнав игру моего учителя. Он сыграл одну из своих мелодий, остановился, заиграл снова, опять остановился и так далее. Это были мелодии его собственного сочинения или, может быть, только что пришедшие ему на ум. Он играл в полную свою силу, со всем своим мастерством, которым я так часто восхищался, даже, пожалуй, еще лучше, чем когда-либо. Казалось, ничего на свете он не любил так, как свою цитру. Все, кто был поблизости, слушали неподвижно, никто даже не решился похлопать в знак одобрения. Только Матильда однажды взглянула на Наталию, и так значительно, словно хотела сказать: такого мы не слышали, и так нам не сыграть. Цитра была живым существом, говорившим на чужом для всех и все же понятном всем языке. Когда наконец звуки, кажется, умолкли совсем, я подошел с Наталией к кустам, и мы увидели там моего учителя с лежавшей перед ним на столике цитрой. Он был одет в серый суконный, очень поношенный костюм, а его зеленая шляпа лежала на столе рядом с цитрой.
— Иозеф, ты снова в этих местах? — спросил я.
— Не так чтобы, — отвечал он. — Я пришел, чтобы хорошенько поиграть на вашей свадьбе.
— Ты хорошо сделал, так не сыграть никому, — сказал я, — и за это я хочу доставить тебе самую большую для тебя радость. Нет лучших рук, чем твои, для того, что я хочу тебе дать. Равное должно быть вместе. Я и так уже должен отблагодарить тебя за твое усердное обучение и за то, что ты ходил со мной в горы.
— За то вы мне заплатили, а сегодня это была моя добрая воля.
— Подожди здесь несколько дней, и ты получишь то, что я сейчас имею в виду, — сказал я.
— С удовольствием подожду, — отвечал он.
— Ты будешь хорошо устроен, — сказал я.
Тем временем подошли все остальные и осыпали музыканта похвалами. Ризах пригласил его побыть в своем доме. Он сыграл еще несколько мелодий, чуть ли не забыв, что его кто-то слушает, разыгрался и наконец остановился, не обращая, как всегда, никакого внимания на стоявших вокруг. Затем мы удалились.
Тотчас позвав дворецкого, я сказал ему, чтобы он подыскал кого-нибудь, кто готов немедленно отправиться в Эхерскую долину. Дворецкий пообещал это сделать. Я написал несколько строк мастеру, изготовлявшему цитры, приложил нужные деньги, пообещав прислать еще, если понадобится, и попросил, чтобы он передал с доставившим письмо посланцем, как следует упаковав ее в ящик, третью цитру, точно такую же, как моя и сестрина. Посланец явился, я отдал ему письмо и необходимые указания, и тот пообещал воспользоваться сегодняшней ночью и вернуться в кратчайший срок. Я был уверен, что цитра не исчезнет в последний момент, если она вообще еще на месте.
Тем временем наступил поздний вечер. С Наталией и Клотильдой я еще раз сходил к cereus'у peruvianus'y, который при свете ламп был еще красивее. Симон, кажется, собирался бодрствовать возле него. Все время входили и выходили люди. Мы еще раз услышали игру Иозефа. Он играл в большой нижней комнате, мы вошли туда, перед ним стояло хорошее вино, присланное ему Ризахом. Все обитатели дома собрались возле него. Мы долго слушали, и Клотильда теперь поняла, почему я в горах так старался, чтобы она послушала этого музыканта.
Часть гостей покинула дом еще в тот же день, другая собиралась сделать это завтра чуть свет, а некоторые хотели побыть здесь еще.
В течение следующего утра, когда число гостей сильно уменьшилось, появились еще некоторые подарки. Ризах повел нас в складское помещение рядом со столярной мастерской. Там освободили место, где стояло несколько предметов под покрывалами. Ризах открыл первый из них, это оказался стол искусной резной работы с доской из мрамора, который я когда-то привез моему гостеприимцу и о судьбе которого ничего в дальнейшем не знал.
— Доска красивее тысячи других, — сказал Ризах, — поэтому я дарю подарок своего некогда друга своему ныне сыну. Не надо благодарить, пока не осмотрим все.
Затем сняли покрывало с большого, высокого шкафа.
— Шутка Ойстаха тебе в подарок, мой сын, — сказал Ризах. Шкаф был выкладной работы, из всех сортов дерева, водящихся в нашей стране. Ойстах придумал, как их составить вместе. Вещь была очаровательна. В зимний свой приезд в Асперхоф я видел, как шла работа над этим шкафом. Я тогда нашел подбор пород дерева странным, да и не догадывался о назначении шкафа. Он предназначался для моего кабинета, для моих альбомов.
Наконец сняли покрывала еще с нескольких предметов. Это были дополнения к отцовским панелям. Ясно это было с первого взгляда и вызвало радость. Но нельзя было решить, подлинники это или подделки. Ризах все объяснил. Это были подделки. Для того и потребовали от меня зарисовок отцовских панелей. Роланд тщетно искал подлинники. Он снял мерки по оставшимся частям и искал место, где эти размеры подошли бы. В отдаленной части деревянных построек при каменном доме он наконец нашел доски, точно соответствующие его меркам. Доски эти частью сгнили, частью треснули и были в изъянах от сорванных с них резных орнаментов. Роланд был почти уверен, что нехватавшее пропало. Поэтому и было предпринято воспроизведение. В тот же свой зимний приезд я видел и доски для этих резных узоров. Отец мой нашел работу на диво прекрасной.
— Она и длилась долго, дорогой друг, — сказал Ризах, — но мы сделали ее для тебя вовремя, панели точно подойдут или их легко можно будет подогнать к твоему стеклянному домику, разве что ты пожелаешь перенести эти панели в Дренхоф.
— Так оно и будет, друг мой, — сказал отец.
Теперь настал черед благодарностей и изъявления радости. Дарители отвергали всякие благодарности. Решили в ближайшем будущем отправить все предметы по месту назначения.
В этот и в следующие дни нас постепенно покинули все посторонние, и тут-то и началась чудесная жизнь среди сплошь близких людей. Ризах устроил для меня и Наталии прекрасную квартиру. Она была невелика, но изящна. За два года моего отсутствия ее стены облицевали заново и приобрели для нее новую мебель. Но мы решили постоянно жить пока в Штерненхофе, до тех пор, пока нашу квартиру там не займет Густав, чтобы Матильда не оставалась в одиночестве. При этом я намеревался часто приезжать в Асперхоф, чтобы посоветоваться или поработать с Ризахом, часто намеревались приезжать и другие, мы собирались также часто встречаться в Густерхофе, Штерненхофе, а временами жить и в городе. С Наталией я собирался отправиться в большое путешествие. На случай, если я отлучусь по каким-либо делам, каждый дом притязал на право приютить Наталию.
Наш игрок на цитре играл нам часто и подолгу. На пятый день прибыла цитра. Я подал ее ему, и он, узнав ее, прямо-таки побледнел от радости. Лучшего подарка для него нельзя было и придумать. Он не расстанется с ним, а любой другой вполне может и просадить. Прочие не были уверены в том, что он не просадит ее. Когда он настроил цитру и заиграл, мы увидели, как она хороша. Он просто не переставал играть. Ризах заказал ему, помимо ящика, еще и водонепроницаемый кожаный футляр. Через несколько дней музыкант простился с нами и удалился.
Мы все съездили в трактир «У кленов», и я представил Каспара и всех прочих моих знакомцев Ризаху, Матильде, моим родителям и Наталии. В доме этом мы прожили шесть дней. Оттуда мы отправились в Штерненхоф. Краска была уже отовсюду снята, и дом стоял в своем первоначальном чистом виде. И здесь нам отвели квартиру, приготовленную за время моего отсутствия. В здешнем просторном здании она оказалась гораздо больше, чем асперхофская. Она была приспособлена для полного домашнего хозяйства.
Из Штерненхофа мы поехали в город. Здесь мы побывали со всеми необходимыми визитами в кругах моих родителей и Матильды. Ризах представил своим друзьям свою приемную дочь с ее супругом и ее матерью. Я узнал, что моя женитьба на Наталии Тарона наделала шуму. Я узнал, что особенно некоторые из моих друзей — таковыми, во всяком случае, они именовали себя, — говорили, что понять это нельзя. Привязанность Наталии ко мне была мне всегда подарком и потому непонятна. Но когда так высказались они, я понял, что ничего непонятного тут нет. Я навестил своего друга ювелира, который действительно оказался другом. Он искренне радовался моему счастью. Я ввел его в наши семьи. Со всеми их частями он был знаком уже давно. Я от души поблагодарил его за великолепные оправы алмазов и рубинов, а также изумрудного украшения. Он был очень счастлив оценкой Ризаха и моего отца.
— Будь у нас много таких заказчиков, как эти двое, дорогой друг, — сказал он, — наше занятие вскоре подошло бы к границам искусства, даже слилось бы с ним. Мы трудились бы радостно, и наши заказчики поняли бы, что духовный труд тоже имеет такую же цену, как камни и золото.
Я купил у него очень ценные, искусно украшенные часы — ответный дар Ойстаху за его шкаф для альбомов. Для Роланда я заказал кольцо с рубином, чтобы он носил его на память обо мне и в знак благодарности за его усилия в поисках и восстановлении панелей.
— Он и вообще мой соперник, — сказал я, — он часто подолгу и со значением смотрел на Наталию.
— Причина тому очень невинная, — возразил мой гостеприимец, — у Роланда есть возлюбленная с такими же глазами и волосами, как у Наталии. Он часто говорил нам об этом. Девушка эта — дочь лесничего в горах и очень привязана к Роланду. И поскольку бедняга часто лишен возможности видеть ее, он в утешение себе смотрел на Наталию. Этому молодому человеку приходится нелегко, я желаю ему блага. Он может стать выдающимся художником, но и несчастным человеком, если огонь, рвущийся в нем к искусству, устремится на душу этого молодого человека. Но я надеюсь, что мне удастся все уравновесить.
Когда все необходимое в городе было сделано, мы пустились в обратный путь — а именно в Асперхоф. Приближалась пора цветения роз, и в этом году ее надлежало отметить соединившимися семьями как память о прошлом, но и в первый раз вместе и с особой торжественностью как знак на будущее. Моей матери предстояло увидеть, какой мощью могут обладать обилие и разнообразие, даже если эти обилие и разнообразие созданы одними лишь розами. После цветения роз, все, прерванное бракосочетанием, должно было войти в обычную свою колею.
Когда мы приехали в Асперхоф, я обрел некоторый покой. Рассматривая документы, переданные мне Ризахом и отцом, я очень удивлялся. Те и другие сулили нам гораздо больше, чем мы лишь смутно предполагали. Ризах хотел, чтобы до его смерти дом содержался так же, как раньше, он хотел, как он говорил, наслаждаться своим бабьим летом до самого конца. Наши советы и наша помощь в домоводстве доставят ему радость. Он отписал нам значительную часть своих наличных денег. И поскольку в Асперхофе часто будут бывать обе семьи, к документам были приложены планы, по которым на красивом месте между домом роз и хутором, у самого поля, следовало построить новый дом, приступив к строительству тотчас. Но и переходившее к нам от моего отца не уступало всем дарам Ризаха и сильно превосходило мои ожидания. Когда мы выразили свою благодарность, а я и свое удивление, отец сказал:
— Можешь быть совершенно спокоен: я не ущемлю ни себя, ни Клотильду. У меня были и свои тайные радости и страсти. Их дает презренный мещанский промысел, когда он ведется по-мещански и без затей. Что неказисто, в том тоже есть своя гордость и свое величие. Но теперь я хочу проститься со страстью к конторским делам, постепенно у меня появившейся, и отдаться забавам помельче, чтобы и у меня тоже было бабье лето, как у твоего Ризаха.
Прожив некоторое время в доме роз, мы с Наталией как-то подошли к нашему новому отцу и попросили его, чтобы он принял от нас одно обещание, чем нас очень обрадовал бы.
— Какое же? — спросил он.
— Что мы, если ты покинешь нас на этом свете раньше, чем мы тебя, ничего не меняли ни в доме роз, ни в имении, чтобы жила и осталась нам в наследство дорогая память о тебе.
— Это слишком много, — отвечал он, — вы обещаете нечто, не зная, сколь оно велико. Таких уз я не хочу накладывать на вашу волю, они могут иметь самые скверные последствия. Если вы хотите всячески чтить память обо мне, делайте это и передайте ее своим потомкам, а остальное меняйте, как вам захочется и как понадобится. Мы еще вместе при моей жизни кое-что изменим, улучшим, построим. Я хочу еще испытать радость, а переделывать и творить с вами мне милее, чем одному.
— Но Ольховый ручей должен остаться памятником этой прекрасной местности.
— Составьте грамоту, чтобы его берегли в нынешнем виде из поколения в поколение, пока его берега не заболотятся.
Ризах поцеловал Наталию, как он любил, в лоб, а мне протянул руку.
Когда после необыкновенно пышного цветения, поразившего моих родителей, никогда ничего подобного не видевших, розы увяли, мы распрощались, совместная жизнь, так долго продолжавшаяся, кончилась, и дни потекли по обычному своему руслу. Мои родители с Клотильдой отправились в Густерхоф, где хотели оставаться до зимы, а я с Наталией переселился в нашу постоянную штерненхофскую квартиру. Нам предстояло стать здесь настоящей семьей. Матильда собиралась жить и вести хозяйство вместе с нами. Управлять имением должен был я. Я принял эту обязанность, попросив Матильду оказывать мне посильную помощь. Она это пообещала.
Так время вступило в свои права, и потекла, неделя за неделей, простая, размеренная жизнь.
Некоторое разнообразие пришло лишь осенью. Двоюродные братья из дома, где родился отец, гостили у моих родителей в Густерхофе. Мы съездили туда к ним. Щедро одарив родственников, отец отправил их в своей карете на родину.
В начале зимы Роланд закончил свою картину. Из-за больших размеров ее пришлось свернуть, а золоченую раму разобрать, чтобы выставить картину на мольберте в мраморном зале. Мы поехали в Асперхоф. Все долго рассматривали и обсуждали картину. Роланд был в приподнятом настроении, окрылен. Ибо каково бы ни было мнение окружающих, как бы они ни хвалили сделанное, указывая, впрочем, на места, которые следовало улучшить, в душе он чувствовал, что когда-нибудь создаст что-то еще более высокое, совсем большое. Ризах предоставил ему средства для поездки, и Роланд стал готовиться к скорому отъезду в Рим. Густаву предстояло провести зиму в Асперхофе. Весною он должен был наконец отправиться посмотреть мир.
Так устанавливались и налаживались самые разные связи.
Как-то давно, когда я навестил ее в Штерненхофе, Матильда сказала мне, что жизнь женщин ограниченна и зависима, что она и Наталия потеряли поддержку родственников, что им приходится многое черпать из себя, как мужчинам, и жить в отсвете своих друзей. Таково их положение, оно по природе своей сохраняется и ждет дальнейшего своего развития. Я запомнил эти слова, они глубоко запали мне в душу.
Часть этого развития, думал я теперь, состоялась, вторая наступит с устройством Густава. Во мне женщины снова нашли опору, установилась некая основа их жизни. Через меня у них завязались связи с моими родными, и даже отношения с Ризахом приобрели какую-то закругленность и прочность. Завершение семейным связям даст впоследствии Густав.
Что касается меня, то после совместной поездки в горную часть страны я задался вопросом, охватывают ли целиком жизнь общение с милыми друзьями, искусство, поэзия, наука, или есть еще что-то, что ее охватывает и наполняет гораздо большим счастьем. Это большее счастье, счастье, кажется, неисчерпаемое, пришло ко мне совсем с другой стороны, чем я тогда полагал. Преуспею ли я в науке, от которой я не хотел отступаться, сподобит ли меня Бог оказаться среди светил, этого я не знаю. Но одно несомненно, чистая семейная жизнь, какой хочется Ризаху, основана; она — порукой тому наша привязанность и наши сердца — будет длиться с неубывающей полнотой, я буду управлять своим имуществом, буду делать другие полезные дела, и всякие, даже научные устремления обретают теперь простоту, опору и смысл.