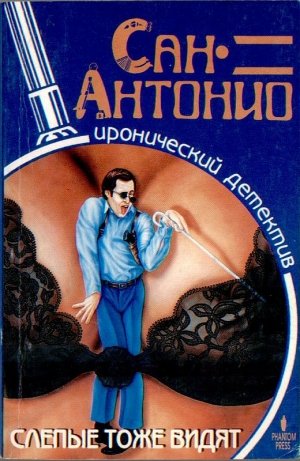
Глава (так сказать) первая
— Как ты находишь мои бедра? — спрашивает Франческа.
— Запросто, — отвечаю я, — они у тебя такие объемные, что не промахнешься!
Франческа лежит на постели в полном изнеможении, одурев от ласк, с открытым клювиком, как выбившийся из сил птенец. Услышав ответ, она встает, взгляд ее меняется, становясь ядовитым, а рот вытягивается как ствол базуки, готовый запустить ругательство.
— Осел! — произносит она смачно.
— Почему осел! — протестую я. — Я отвешиваю тебе лучший из лучших комплиментов, а ты вдруг обижаешься. Меня это удивляет. Что за муха тебя укусила?
Она выскакивает из кровати и начинает вертеться у зеркала, покрытого ржавыми пятнами.
— И совсем у меня не толстая задница! — уверенно заявляет она, подтягивая вверх килограммов пятнадцать мясистого окорока, без которого ей все равно осталось бы на что сесть.
— Я не говорю, что она толстая! — поправляюсь я. — Она величественная! Согласись — это нюанс! Она у тебя, я бы сказал, возвышенная! Да что я говорю, Франческа! Продукт высшего качества! Самая что ни на есть волнующая и трогательная! Центр притяжения Парижа и его окрестностей! Нежное и теплое убежище! Законченный монумент! Народное достояние! На все времена! Пантеон секса! Тауэр сладострастия! Место массового паломничества! Иерусалим! Увидеть и умереть! По сравнению с ней Венеция — ничто! Твоя попка вызывает аппетит. Она зовет! Она манит! Это путешествие из ранга великих географических открытий! Оно воспето в веках! Мир, поделенный на полушария: восточное и западное! Ее величество! Обожаю! Я подложу твою попку себе под голову! Буду спать, как на перине! Как в спальном мешке! Она станет моим местом жительства! Это цель моей жизни! Мой культ! Моя религия…
— Хватит надо мной издеваться! — обрывает меня уже весьма нежно обладательница всех вышеперечисленных достоинств. (Стоит сказать, что я встретил ее в полдень в пивной Рено, и к трем часам мы уже вполне пресытились послеобеденным отдыхом, проведенным в меблированных комнатах заведения на улице Вдохов и Выдохов (бывшей Охов и Вздохов).
— Я не издеваюсь над тобой, а тащусь от тебя! Я втрескался в тебя с первого взгляда. Русалка моя! Ты соблазнила меня, похитила! Каждая складочка твоей кожи просто создана для любви. Я твой раб! Я погиб! Но чтобы у меня не осталось и капли сомнения, сейчас проведу очередную инспекцию…
Like it, take it! Если нравится — возьми, как говорят англичане!
Я снова беру ее (Франческу) в свои руки и веду на пуховую перину, видавшую виды (и похуже). Честно говоря, этой девушке не хватает фантазии, или поэзии, если хотите. Вам вряд ли удастся вылепить из нее законченное изваяние сладострастия, хотя в целом она очень недурна. Вполне приличная самочка для неприхотливой любви. А вы хотите тигрицу за те деньги, что она просит? Не обладая, прямо скажем, высоким интеллектом, Франческа умеет в самые острые психологические моменты поддерживать обмен репликами в рамках подражания различным природным звукам. Впрочем, усиливая их иногда до неузнаваемости. Она владеет классической техникой, требующей некоторого обогащения. Виртуозности нет и в помине. Короче говоря, типичный продукт для времяпрепровождения в послеобеденные часы, когда в Париже идет дождь, других занятий нет, а на Елисейских полях не крутят ни одного достойного внимания фильма.
Я начинаю разогревать ее, как греют остывший за ночь мотор, готовя к следующему сражению, на этот раз более продолжительному, чем первое. Любовные утехи как сырный десерт. Сортов много, и с каждой порцией вкус становится все более выраженным. Начинаешь с сортов спокойных и мягких, а потом потихоньку приближаешься ко все более пикантному и соленому. И под конец у мадам растопыриваются пальцы на конечностях, а у меня самого жжет в глотке и выпучиваются глаза.
Большинство людей, я имею в виду современных, проходят мимо удовольствий только потому, что не умеют шевелить мозгами. Некоторые думают: для того чтобы схватить себя за ногу, нужно нагнуться, но существуют ситуации, когда проще поднести ногу к рукам. Из этого можно заключить, что наслаждение — вопрос гибкости. Человек проворный ровно в одиннадцать с половиной раз лучше удовлетворит даму, чем недотепа, если верить статистическим данным опроса, проведенного гинекологом хозяйки бакалейного магазина в нашем доме. Излишний вес, как он говорит, приводит к застою и увяданию. Согласно статье, которую я недавно прочитал в «Монде», начиная с того момента, когда ты видишь не больше двух сантиметров своего полового органа, ты теряешь чувствительность. Я знаю одного хмыря, бывшего бабника и ходока на все сто, который теперь так растолстел, что вынужден пользоваться щипцами для вылавливания огурцов из банки и зеркалом, чтобы узреть свое хозяйство. Можете себе представить мучения этого господина. Когда ему случается тряхнуть стариной, он управляет собой с помощью целой системы зеркал и удочки. Настраивать себя на секс в таких условиях — все равно что топить крейсер противника торпедой, пущенной с подлодки во время глубоководного погружения. Нужно пускаться в математические расчеты, строить схемы, графики. Да еще учитывать состояние здоровья…
Словом, как в цирке после антракта, я начинаю второе отделение программы. Проявляя максимум гибкости и грациозности. В стиле марокканских акробатов. Э-э, хоп! Хоп! И-и, хоп, ля-ля! Со свистом! И отвагой! Но с большой точностью. Это, братцы, необходимо! Небольшая ошибка — и можно повредить себе шест, поскольку он сейчас испытывает напряжение на изгиб. Как изображение на знаке, предупреждающем о скользкой дороге. Он как сложный перископ. Ух, как это опасно! Давление на сгибах огромно, может сломаться как сосулька, и в руке останется фитюлька длиной со свисток. Так что потом подчиненные не будут знать, как вас называть, — мадам или месье полицейский.
— А моя грудь, скажи, мой бюст, как ты его находишь? — беспокоится сексапильная партнерша.
— На ощупь, дорогая, если ты ко мне спиной. Можно сказать, что ты несешь впереди себя целый кафедральный собор. Воздушный шар, когда на него смотрит тот, у кого спьяну двоится в глазах. Вроде братьев Монгольфье, если у каждого по шару. Я их пожираю, я с них скатываюсь. Они грандиозны, как два Монблана в свете луны. И аппетитны, как меню ресторана «Золотой лев» — это в горах Швейцарии самая высокая точка, где есть ресторан французской кухни. Когда их видишь, перехватывает дыхание, голубка моя. Они дразнят. Они опьяняют. Нет ничего более обалденного, чем твоя грудь, дорогая. Закат солнца в Венеции — чепуха! Они могут дать благословенную тень уставшим путникам пустыни вместе с верблюдами! Животворящий источник! Символ вскармливания человечества! Предмет зависти Ромула и Рема. Я верю в нее больше, чем в голлизм. Я расту и поднимаюсь во весь рост.
Франческа дует губы, выскальзывает из кровати и седлает фаянсового коня, скромное изделие сантехнической фирмы «Жакоб Делафон».
— Я признаю, что ты хорош в постели и внимательный партнер, — вздыхает моя очаровательная подружка, включая воду, — но ты все время насмехаешься надо мной во время пауз.
— Как же ты можешь такое говорить, о скромная девочка! Ведь именно твой шарм заставляет меня быть таким разговорчивым. Ода твоему крупу и серенада твоему бюсту — это словесная секреция, подчеркивающая эякуляцию. Не забудь, что сексуальное наслаждение достигается и звуковым восприятием. Некоторые люди, более или менее в возрасте, заменяют свои гениталии языком…
Я вновь впадаю в лирическое настроение, как вдруг мы слышим стук в дверь. Я вздрагиваю, и мой словесный фонтан резко иссякает.
Ведь в нашу дверь никто не имеет права стучать, поскольку она ведет в номер гостиницы, которая в дневное время служит прибежищем для жаждущих любовных утех. Можно стучать в операционные, дубасить в резиденцию президента республики, колотить по крышке гроба, разносить в куски люк барокамеры, барабанить в дверь исповедальни, королевского сортира, но никак нельзя стучать в комнату, где скрываются от всего мира те, кто занимается любовью днем, ибо эта любовь самая настоящая, самая полная, самая насыщенная. Любовью лучше всего заниматься в послеобеденное время, друзья мои. Запомните это! Согласно статистике в одиннадцати случаях из десяти супружеские измены возникают по той простой причине, что супруги сношаются только по вечерам. И делают они это, находясь в сумрачном состоянии души, уставшие от повседневных забот, отягощенные вечными проблемами, сгущающимися в их котелке к ночи. И они вынуждены делать это через силу, что в конце концов становится невыносимым проклятьем! Акт происходит как бы на самом финише, когда силы после целого дня всевозможных перипетий на работе и дома оставляют их. Но они идут на это, поскольку ложатся в одну постель. Они, собственно, и поженились ради этого и вынуждены исполнять свой супружеский долг! Долг тереться друг о друга, не имея желания. Долг лезть друг на друга, поскольку брак в принципе призывает к этому. Последствия данной друг другу клятвы. А значит, нужно вывешивать флаг верности и чести — иначе куда ж их обоих занесет, женатых? Во что бы то ни стало необходимо оправдывать надпись на привинченной к двери медной табличке. И вот очень быстро настает тот день, когда проклятая усталость берет свое. И мы украдкой бросаем друг другу «спокойной ночи» и погружаемся в сон, каждый со своей стороны супружеской кровати, и прячем голову под крыло. И — начинаются послеобеденные любовные утехи с другими партнерами. С теми, кого мы находим несравненными по отношению (и сношению) к собственным супругам. То есть живем членораздельно! С этими другими мы укрываемся в таинстве чужих спален и совершаем то, что в обывательском понятии происходит только ночью. Эта искусственная ночь всегда бывает сладострастной, поскольку она распутна по собственной воле. И мы предаемся играм прелюбодеяния, хотя с детства нам вдалбливают в голову, что такая любовь греховна, а потому наказуема. Вот тут уж мы оттягиваемся на всю катушку, со свистом, так как запретный плод, как известно, сладок! Мы держим форму и жар плоти. И необходимо их сохранять, хотя бы исходя из того простого соображения, что этот грех весьма полезен для здоровья. Вот откуда возникают все эти черные мысли, когда я слышу настойчивый стук в нашу дверь.
— В чем дело? — спрашиваю я резко.
Ух, как я зол!
Вы думаете, чего я жду в качестве ответа? Естественно, голоса горничной (польки в тапочках, как обычно), спрашивающей, «скоро ли освободится?» или «вы нас звали?».
Но тембр голоса за дверью явно мужской. Гортанный. Густой. Такие голоса формируются с детства на юге, где горы и люди живут за высокими заборами. Зычный голос. Настойчивый.
— Это бррригадиррр Смешон, господин комиссаррр!
Во мне (и у меня) все падает.
Но какого черта ему тут надо? И, собственно, как его сюда занесло?
Я никому не мешал, нежно снял эту девчушку, разложил на мягкой постели, тихо взобрался на нее и, прошу заметить, не звал при этом никого на помощь… И вот пожалуйста…
Я натягиваю на задницу слипы и приоткрываю дверь.
Бригадир Смешон приветствует меня по всем правилам субординации, не обращая внимания на мой вид. Шутки в сторону, никаких улыбок и фамильярностей, когда речь идет об обращении к старшему по званию, даже если тот в трусах. Бригадир из тех, кто всегда на службе, даже на кухне или в постели со своей женой. Его лицо состоит из широких горизонтальных черт, расположенных одна над другой. Линия усов, линия черных как угли глаз, затем полоса широких бровей, и вплотную над ними линия козырька фуражки. В конторе он исполняет функции постоянного дежурного. Он глуп, но бдителен, как сторожевой пес. Бессмысленно пытаться попасть к шефу, если тот не хочет вас видеть. Смешон всегда начеку и в жизни вас не пропустит. Он неожиданно свалится вам на голову из ниоткуда и, выставив вперед верхние зубы, докучливо замордует вас вопросами.
— Прррошу прррощения, что помешал, господин комиссаррр, но господин диррректоррр пррросит вас явиться к нему немедленно. Вам необходимо пррриехать к нему во Фррранцузский банк. Он ждет вас!
Служака прикладывает руку к козырьку и делает «кррругом», даже не бросив взгляд в комнату, где Франческа мигом бросила вертеться перед зеркалом.
— Э, Смешон! — зову я.
Он оборачивается.
— Господин комиссаррр?
— А как так получилось… я имею в виду… Как вы меня здесь нашли?
Он пожимает плечами.
— Это не я, — заверяет Смешон, — это господин диррректоррр.
(Я только сейчас заметил, что у меня Смешон произносит кое-где слово «директор» с четырьмя «р». Это не из подхалимства перед начальством, а по невнимательности. Прошу впредь считать, что там всего три «р»: «Р Р Р»).
Меня охватывает ярость.
Ага, значит, Старик следит за мной в эти часы. Хорош сюрприз, нечего сказать! Теперь я буду держать ухо востро и разобью рожу первому же легавому, пристроившемуся у меня на хвосте.
В гневе я возвращаюсь в комнату, захлопнув дверь ударом ноги.
Франческа смотрит на меня несколько иначе.
— Кроме шуток, ты комиссар? — мурлычет она.
— Да вроде того, — огрызаюсь я, натягивая шмотки.
— Полицейский?
— Нет, народный!
Она грустно улыбается.
— Насколько я поняла, мы разбегаемся?
— Наслаждениям и радостям рано или поздно приходит конец, красавица моя. К сожалению, мне не удалось произнести заключительную часть своей речи, но тем не менее ты могла получить общее впечатление о моей личности. Надеюсь, ты не очень разочарована и я останусь в числе твоих близких…
Сказав это, я начинаю завязывать галстук.
— Эй! — зовет меня настойчивая партнерша. — Я хотела бы спросить тебя еще кое о чем…
— Тебе нужны деньги на такси?
— За кого ты меня принимаешь? Мне только хотелось бы знать…
Она проводит рукой по своим стриженым волосам таким нежным и соблазнительным движением, каким обычно поправляют волосы девушки-стриптизерши.
— Как ты находишь мою стрижку?
Я смотрю на копну упаковочной соломы неопределенного цвета, которую она пытается пригладить растопыренными пальцами, как граблями.
Неутихшая досада заставляет слететь с моего языка гадость.
— Избыточной, — говорю я. — Если бы тебя и еще семнадцать твоих подруг обрить наголо и разложить на лугу, то получилась бы площадка для игры в гольф.
Я быстро целую ее в голову, больше похожую на одуванчик, и убегаю.
Глава (как говорится) вторая
Когда я выхожу из пристанища алкоголиков и любовников на улице Вдохов и Выдохов (бывшей Охов и Вздохов), дождя больше нет.
Выхожу, как осел, один. Как это говорится? После соития всякий зверь грустен? Не знаю, может быть, но в моем случае он спешит.
Спешит и бросает свою партнершу.
Кроме того, зверю пора вновь обрести свои мысли, свои сигареты и свою независимость. Следует еще сказать, что женщине после соития нужно намного больше времени, чем мужчине, чтобы вернуться в обычное эмоциональное состояние. У мужчины все быстрее. Как телескопическая антенна: вытянулась — убралась. Уж не говоря о том, что мужчине одеться — раз плюнуть.
Размышляя об этом и досадуя, что не выполнил с Франческой и половины обычной программы, я выскакиваю из гостиницы. Собственно, это даже не гостиница, а меблированные комнаты… если считать мебелью видавшую (как я уже говорил) виды кровать, видавший еще больше стул и фаянсовый предмет, ослепший от этих видов.
Я останавливаюсь и оглядываю улицу. Замечаю малого на противоположном тротуаре, старательно делающего вид, что читает газету. Повторяю, что он лишь делает вид, поскольку у него в руках «Нация», а ее приобретают для чего угодно, только не для чтения.
Кроме этого типа, на улице никого, если не считать двух канареек в клетке консьержки (я имею в виду металлическую птичью клетку, а не конуру консьержки).
Я пересекаю улицу, чтобы разглядеть физиономию малого. Ему на вид примерно сорок семь лет и три месяца, а лицо более серое, чем газета, с выцветшими понурыми глазами чахоточного спелеолога, вылезшего на поверхность после полугода скитаний в пещерах.
— Ну что, коллега, — спрашиваю я у него, — следим, значит, за своими товарищами?
Он смотрит на меня с видом невинного ребенка.
— Месье, — бормочет он удивленно, — я не понимаю…
— Да ладно, не извиняйся, брат, — перебиваю я, — все ведь не могут быть с мозгами Эйнштейна.
И, сомкнув концы параболы, — как говорил один знакомый вышибала, влюбленный в геометрию (еще можно сказать «согнув в бараний рог», но это из классических романов, не хочу заимствовать), — я провожу классическую серию из трех ударов, состоящую из прямого правой в нос, левого крюка в челюсть и мощного пинка коленкой в сокровенное. Раньше говорили: удар ниже кошелька. Но то было во времена сборщиков налогов. Теперь на пояс чего только не вешают, но получающему удар от этого не легче. Потому что он ошеломляет, потому что становится больно. Я бы сказал — очень больно! «Националист» быстро убеждается в этом и отключается прямо посреди улицы, подложив под ухо тротуар вместо подушки.
— Что это с ним? — спрашивает малый в синем комбинезоне, вышедший из ворот гаража рядом.
— Да просто набрался парень, — небрежно говорю я. — Ему везде мерещатся горы, а от высоты кружится голова. Если у вас есть ведро воды под рукой, то можете окатить его, как сторожевого пса, который только и знает, что целыми днями дрыхнет на коврике у двери.
Затем я поворачиваюсь, прыгаю в машину и срываюсь с места.
Банк Франции! Впервые шеф назначает мне свидание в подобном заведении!
Швейцар в форме швейцара Банка Франции встречает меня и торжественно ведет по широким светлым коридорам, устланным мягкими, толщиной с ладонь, коврами, до массивной двери, похожей на футляр от Картье. (Кстати сказать, я им уже столько раз делал рекламу, но они не собираются платить. Похоже, ребята в Картье не очень богаты. Ох, когда я вспоминаю, сколько фирм предлагали мне мешки денег за одно лишь упоминание о них в своих книгах, а я посылал их к… Дурака свалял, клянусь!)
Швейцар нажимает известную только ему кнопку. Над дверью вспыхивает еле заметная лампочка, и меня, как самого дорогого гостя, вводят в кабинет. Между прочим, как я заметил, начиная с определенной ступени в иерархии бюро или просто комната становятся кабинетами. Этот кабинет принадлежит почетному заместителю управляющего Банка Франции.
Здесь собралось четыре человека. Они сидят за широким столом красного дерева, который мог бы быть прямоугольным, если бы ему не отпилили углы, придав форму овала. Один из присутствующих — господин очень маленького роста с седыми вьющимися волосами, ниспадающими на плечи. Второй — большого роста, с плешью, через которую тщательно проложены четырнадцать чудом уцелевших волосков. Третий — негр-альбинос, при виде которого представляешь себе негатив с изображением негра-неальбиноса. Ну и наконец, мой почтенный шеф. Все с очень серьезными физиономиями, накрахмалены и одеты соответственно моменту в костюмы с розетками Почетного легиона. Исключением является только негр, которого еще не успели наградить, поскольку он впервые в жизни приехал во Францию.
Этот накрахмаленный квартет устремляет на меня взгляд, одновременно радостный и озабоченный. Мой шеф единственный, кто встает мне навстречу.
— Господа, — произносит он, — позвольте представить вам моего лучшего сотрудника, комиссара Сан-Антонио.
Я склоняю голову и краснею, как девица, которая в толкотне метро случайно схватилась за некий предмет у незнакомого дяди, приняв предмет за ручку двери.
Нормально, если бы такое помпезное представление сопровождалось барабанной дробью. Но поскольку барабанщика нет, я довольствуюсь шестикратным выпучиванием глаз, по два на каждого. Шеф фамильярно берет меня под руку и представляет присутствующих.
— Господин Ла Грошфуко, почетный заместитель управляющего Банка Франции, — говорит шеф, указывая на господина с четырнадцатью уложенными поперек башки волосками. — Господин де Брилльяк, временный президент ассоциации ювелиров Франции, — переносит свой взгляд шеф на крошечного человечка с сивыми кудряшками.
И наконец, он вытягивает руку в сторону белого негра и заявляет:
— Его превосходительство господин Сезарен Спальмыбумба, министр иностранных дел республики Дуркина-Лазо, которая, как вы наверняка знаете, находится в Африке, — добавляет шеф на всякий случай, чтобы я вдруг не ляпнул чего сдуру.
Мы переходим к рукопожатиям. Я жму их сухие ладони. Такие ладони, сами знаете, у тех людей, которые в принципе ни за что не отвечают и ничего не делают, но делают это с полным сознанием своего достоинства.
Мне указывают на стул, и я кладу на него то, что всегда порядочно отбиваю, когда в периоды сумеречного состояния души катаюсь на лошади.
— Дорогой мой друг, — обращается ко мне шеф, — сейчас мы посвятим вас в одну удивительную историю…
Ла Грошфуко щелкает пальцами.
— Но вначале, — говорит он, — я настаиваю на том, чтобы комиссар Сан-Антонио принес клятву.
Босс хмурит брови.
— Господин заместитель управляющего, — возражает он, — мои сотрудники не консьержки, и их не нужно учить хранить тайны.
— Но тем не менее я предпочел бы, — настаивает тот, насупясь, как на похоронах, — поскольку дело чрезвычайной важности, и мы должны принять все меры предосторожности. Господин Сан-Антонио, — обращается он ко мне, — поклянитесь хранить полное молчание о том, что вы сейчас услышите, и ставить в известность только тех людей, с которыми вам при необходимости придется работать, взяв с них такую же клятву!
Мне немножко смешно, но я стараюсь подавить улыбку. Я поднимаю правую руку и произношу: «Клянусь!» В этом случае обычно никто не просит вас добавить «находясь в здравом уме и твердой памяти…»
Ла Грошфуко удовлетворенно кивает.
— Так, хорошо. Продолжайте, господин директор.
Шеф, не торопясь, с достоинством кашляет в кулак. Используя эту короткую паузу, черный альбинос-министр срывается с места в карьер.
— Я тебе говорить! Ты мой страна знаешь? Точь-точь Сахара… Камни! Песок! Нуазис тут — нуазис там. Есть только солнце. Я говорить свой правительство: нужно продать солнце. И я сделай туризм. Я сделай клуб «Атлантик». Лучше, чем клуб «Средиземный». Ну, ты понял? Браво!
— Его превосходительство создал палаточный городок среди песков Фиглиманджара, — встревает шеф, чтобы перехватить инициативу.
Но черный альбинос не дает себя перебить.
— Ты, — рубит он, — у тебя совсем нет волос, ты молчать! — И он продолжает: — Я сделай туризматический база вместе с наш клиент, мисье Эдгар Кру-Шенье, француз, служащий железных дорог. Была целая праздника. Пальмовый вино в его честь. Много баран. Пели «Марсельеза» на бретонском — живот надорвешь. Ну, ты понял? Браво! Мисье Кру-Шенье привез жена. Хорошая жена, добрая, красивая, много грудь — больше, чем у дочери вождя племени Лоло-Магус. Жена мисье Эдгар Кру-Шенье потеряла во время каникул свой слипы…
— Свои клипсы, — поправляет временный президент всех ювелиров Франции.
— Да. Свой эклипсы, как сказал этот дурачок, — охотно соглашается обратный негатив. — Красивый золотой эклипсы, она иметь в пакетике с сюрпризом. Очень дорогой. Все стали его искать. Мадам Кру-Шенье тоже. Искать весь район Фиглиманджара. Ну, я думать, кондор украсть. В Фиглиманджара много кондор-сорок. Как что блестит, кондор — хоп, и в карман! У нас кондор-сорок называется сорок-воровк.
— Но мадам нашла кое-что получше! — утверждает мой шеф, проводя рукой по черепной коробке, полностью вырезанной из кости.
— Это ты опять сказал, верблюд? — горячится бесцветный цветной. — Ты представляй, вместо клипы найти алмаз! Ну, ты понял? Браво!
— Алмазы? — удивленно вскрикиваю я.
— Один, — уточняет почетный заместитель управляющего Банком Франции.
— Но каких размеров! — добавляет де Брилльяк.
Мой шеф никому не позволяет ошарашить меня этой новостью. Он расставляет руки в стороны, как огромный Корковадосский Христос, о котором говорят, что он готовится нырнуть в бразильский приход Рио-де-Жанейро, как прыгун с вышки.
— Подождите, подождите, господа! — повышает он голос.
Затем поворачивается ко мне и смотрит с адской усмешкой, будто кот, обнаруживший мышь в мышеловке, в предвкушении, что сейчас она перекочует ему в пасть.
— Попробуйте угадать, сколько весит этот алмаз, дорогой мой Сан-Антонио?
Я трясу головой.
— Честное слово, даже не знаю, господин директор…
— Нет, нет, назовите вес.
Временный президент всех ювелиров, вступая в игру «угадай-ка», приводит мне для сравнения некоторые сведения. «Куллинан», самый крупный из известных алмазов, весит 3106 каратов, немногим больше 600 граммов.
— Ну хорошо, я скажу: полкило! — говорю я запальчиво.
Альбинос-альбатрос взмахивает руками как крыльями и шлепает себя по ляжкам.
— Он совсем дурак, хуже, чем ты! — говорит он де Брилльяку.
Шеф берет меня за плечи.
— Тонна! — бросает он, сверкая очами.
— Как это — тонна? — лепечет дорогой Сан-Антонио. (Кстати сказать, «дорогой» — просто эпитет, поскольку если сравнить цены моих романов и книг других моих коллег по цеху, то я более доступен.)
Все три француза передо мной дико вращают глазами, подпрыгивают и испускают нечленораздельные звуки.
— Представляете: тонна? — мычат они в унисон.
Главный специалист по побрякушкам дергает себя за растрепавшиеся космы.
— Абсолютный, ни с чем не сравнимый рекорд! — повизгивает этот плюгавый де Брилльяк (он настолько крошечный, что складывается впечатление, будто он маячит где-то в перспективе). — «Кохинор», «Флорентиец», «Великий Могол» по сравнению с ним навозные шарики. «Орлов», «Южный Крест», «Эксельсиор»? Ячменные зернышки, господин комиссар! Наш «Регент» — пустяк! Хлебная крошка! Это открытие разобьет в пух и прах все представления, поколеблет шкалу ценностей. Это сенсация двадцатого века. Ни с чем не сравнимая! Атомная бомба? Просто дым! Люди на Луне? Ерунда! В поисках своих клипсов мадам Кру-Шенье заставила содрогнуться Вселенную! И когда я думаю о том, что дорогая нам новая страна Дуркина-Лазо обратилась к Франции, чтобы вести переговоры с нами!..
Он бросается на шею бело-черному и целует его.
— О, как я счастлив! — кричит он. — Как это прекрасно, как благородно! Благодарю вас! Какой братский жест! Какой здравый поступок! Какая прозорливость! Какой…
— Какой болван! — обрывает черно-белый, отпихивая карлика и отплевываясь. — Я просил Франция хотеть большой камень. Но для интерес моя страна!
И, оценив меня, — надеюсь и предполагаю — как более стоящего собеседника, чем другие, он говорит мне:
— Я тебе сказал, индустрия моя страна — солнце. Так? Но когда приходить сезон дожди. Что мне делай, чтоб пришел турист? Показывать ему, что у меня в слип? Но ты думай, это я продам? Нет хорошо, дурак! Я предлагать Франции такой сделка: я менять свой алмаз на тот же вес статуй негров из музей Валорис. Статуй, я везде говорю: местный искусство. Все приходить смотреть и говорить, как хорошо черный местный искусство. Я покупать статуи у музея, потом продавать статуи в музей, и так без конца. И Дуркина-Лазо станет большой туризматический центр. Ну, ты понял? Браво!
— Великолепно! — подтверждаю я.
Альбинокль скашивает глаза и шепчет мне на ухо:
— И еще я говорю Франция: ты платить транспорт. И Франция говорить: да. Франция тоже дурак, ты согласен?
— Ваше превосходительство! — снова встревает шеф. — Не надо иронизировать по поводу сотрудничества, издеваться над государством, которое в любой момент готово протянуть руку помощи народам…
— Ты, кому волос нету, ты заткнись! — парирует министр, для которого отсутствие волос на голове означает признак несостоятельности.
Тра-ля-ля Банка Франции принимается с умным видом стучать по столу линейкой из раскопок Трои.
— Господа, вернемся к делу! — призывает он настолько сухо, что возникает дикое желание промочить горло.
Говорить по делу? — да я только об этом и мечтаю!
Я прекрасно вижу, что эти высокопосаженные господа явно от меня чего-то ждут, но, хоть убей, не представляю, что могло бы их заинтересовать.
— Все указывает на то, — берет слово мой шеф, — что сведения о находке просочились…
— Просочились, потому что Дуркина-Лазо был сезон много дожди, — пренебрежительно заявляет министр иностранных дел. — Ты, дурак, совсем без волос!
Босс тем не менее продолжает:
— Чета Кру-Шенье была убита, Сан-Антонио. Их тела обнаружили растерзанными в палатке. Господина подвергали зверским пыткам, и мучители не поленились запихнуть его гениталии в рот его супруге.
— Э, это не дуркинец делал! — утверждает с апломбом министр. — В моя страна, когда отрезать штырь у мужчина, класть в его рот, собственный, не жена. Священный ритуал! Я сам так делай!
— Вполне возможно, что Кру-Шенье под пыткой проговорился… Но это не спасло его от смерти, — добавляет мой важный шеф. — Нужно действовать оперативно.
— Что вы имеете в виду под «действовать оперативно», господин директор?
— Срочно привезти алмаз. Операция должна проводиться в условиях самой строжайшей секретности. Франция поместит эту драгоценную глыбу в сейф и будет держать за семью печатями. Кроме того, мы будем молчать о его существовании, иначе неизбежны потрясения…
— Вы хотите сказать — крушения! — блеет откуда-то снизу пигмей де Брилльяк. — Я содрогаюсь, когда думаю, к какой катастрофе западной экономики может привести появление этого чудовищного камня.
— Но если операция будет проведена должным образом, господа, представьте себе эру процветания, которая наступит в странах Общего рынка. Наше сальдо станет положительным, экономика выйдет из кризиса, и все благодаря рациональному откалыванию от глыбы малюсеньких кусочков. И это, смею заметить, господа, на века! — чуть не хныча, пророчествует Ла Грошфуко.
— И вы, мой дорогой Сан-Антонио, будете руководить операцией по доставке камня во Францию, — заключает мой шеф.
Он ведет меня к окну. Рядом на стене пришпилена карта Дуркина-Лазо. Босс указывает на красное пятнышко, нанесенное на карту.
— Вот место, где находится алмаз. Вы видите, оно на западной окраине центральной части Фиглиманджара. Вам придется пересечь западную часть страны, чтобы привезти камень в аэропорт Кельбошибра, столицы, находящейся на побережье Атлантики. Между Фиглиманджара и Кельбошибром располагается болотистая местность Кельмердуй. Через болото проходит дамба с дорогой. Она единственная, и вам придется ехать по ней. У вас будет эскорт из двадцати человек, наемников, в основном из Франции и Бельгии. Крепкие, проверенные в деле ребята. Они не знают, что это алмаз. Официально речь идет о породе, переправляемой во Францию на лабораторные исследования для определения целесообразности разработки месторождения этих минералов. В вашем распоряжении будут грузовик и два гусеничных бронетранспортера с установленными на них пулеметами, чтобы отразить возможное нападение на конвой. Когда вы прибудете в аэропорт, вас будет ждать специальный грузовой самолет из Франции с многочисленным, специально обученным экипажем. Они возьмут груз на борт… Через час вы вылетаете из Парижа именно этим самолетом. Возражений нет?
— Никак нет. Просто мне хотелось бы узнать две вещи, господин директор…
— Первая?
— Кто сейчас стережет алмаз?
Он понижает голос.
— Официально — батальон армии Дуркина-Лазо. А на самом деле моя команда крутых ребят, которая уже на месте.
— Вы действуете быстро!
Он улыбается загадочной улыбкой (как ему кажется).
— В нашем распоряжении всегда наготове специальный контингент прекрасно обученных людей. И они есть во всех регионах мира, Сан-Антонио. Вы, наверное, об этом знаете, как я полагаю? Так, а теперь ваш второй вопрос?
Я смотрю ему прямо в глаза.
— Думаете, господин директор, мне делает честь визит бригадира Смешона, когда я уединяюсь с девицей в номере гостиницы?
Он смеется.
Как вы считаете — это достойный ответ?
Глава (практически) третья
Когда его превосходительство Сезарен Спальмыбумба заявлял, что солнце является единственным экспортным продуктом индустрии Дуркина-Лазо, то он был ой как прав.
И продукта этого навалом.
Солнце жжет просто адски невыносимо!
Постоянный солнечный удар, как колом по кумполу!
Тот, кто выходит с непокрытой репой, сразу же получает мозги вкрутую, как нечего делать. Попытки убежать от палящего светила здесь что-то вроде национального вида спорта. Но попробуй убежать, если даже под козырьком невозможно спастись от всепроникающего ультрафиолета. Нужно навертеть на башку многослойный тюрбан, чтобы сохранить хоть какой-то мыслительный процесс. С белой полотняной кепкой на голове я сейчас страшно жалею, что не догадался купить чалму с климатической установкой. Я мечтаю попасть в самый большой магазин холодильников, чтобы запихнуть кондиционер между черепом и кепкой. Или, например, напялить кусок льда вместо головного убора. Чувствую, что в этой оранжерее скоро стану подсолнечником. Самый дефицитный продукт в Дуркина-Лазо — тень. Бойкий импортер, наводнивший местный рынок банками с консервированной тенью, я вас уверяю, моментально сделал бы себе сказочное состояние. Особенно продавай он тень не высокого качества, а так, самую завалящую, вроде тени от палисадника или решетчатой ограды. Но, конечно же, бонзы могут позволить себе оплатить настоящую тень, высшего сорта, густую, черную, прохладную, типа тени в соборе или в туннеле.
Богатые жируют всегда и везде.
И их все больше и больше, несмотря на колоссальное социализирующее болото (а может, и благодаря ему!). Толстосумы, набитые деньгами, покупают все только самое дорогое и выписывают вещи, растущие в цене, заставляя цены подскакивать еще выше. Знаю я таких. Они заказывают дорогостоящие товары, даже не задаваясь вопросом, на кой черт они им нужны. Клянусь! Они получают каталог, тут же пробегают колонки цен и останавливаются только на крупных цифрах. «Ну-ка заверните-ка мне дюжину каждого», — говорят они, тыча пальцем и не вникая, идет ли речь о «кадиллаке» или картине Ван Гога, редких книгах или икре, построенных наспех домах-крепостях или конюшнях скаковых лошадей. Все моментально скупается. Я говорю это не из зависти и не со злости. Нельзя же, в конце концов, злиться на больного, если, конечно, он вас не слишком затрахал своей болезнью. Поскольку есть такие, кто не соображает вовремя окочуриться и хочет коптить небо вечно. Они делают под себя и досаждают окружающим в течение месяцев и лет, обещая испустить дух, но только этот момент никак не настает. Они бьются в ложной агонии, закатывают глаза, бледнеют и перестают дышать. А ты каждый раз реагируешь и готов впасть в истерику от невосполнимой утраты. Но проходит день, и твой черный костюм, приготовленный на случай похорон, продолжает пылиться в объятиях нафталиновых паров. Охапки хризантем сменяют друг друга, а клиент по-прежнему верен своему посту на постели среди горы лекарств, которые, изнемогая под тяжестью затрат, продолжает скрепя сердце оплачивать фонд социального страхования.
Но я, кажется, отвлекся.
Бог свидетель, сейчас не время отвлекаться, учитывая тот факт, что дорога, идущая по дамбе, имеет всего метра три в ширину. Я задаюсь вопросом, как на такой дороге можно, например, кого-то обогнать. Или просто разъехаться. Слабый должен, наверное, подвинуться, и — нырнуть прямиком в болото, которое вообще-то смотрится не очень притягательно. Поверхность болота будто покрыта ржавчиной, а местами попадаются раздражающие глаз зеленые пятна, похожие на разлившийся мазут. Это клоака в чистом виде (если можно так выразиться). Грязь на тысячи и тысячи гектаров. Солнце постоянно кипятит это варево, как на медленном огне, а в испарениях роятся мириады назойливых насекомых.
Парень, сидящий за рулем нашего джипа, здоровый рыжий обалдуй, небритый, немытый и воняет так, что кажется, будто ты попал в стойло с тридцатью шестью козлами. Ребятам с таким потоотделением никак нельзя спускаться ниже сороковой параллели (проходящей, как известно, по Средиземному морю), иначе во всем мире будет не продохнуть. Я даже не знаю, какой запах шибает в нос сильней: от болота или от Вики (так зовут моего шофера). Если бы у меня было хоть что-нибудь подходящее, я запихнул бы в ноздри…
Между прочим, это точно: не продается ни черта, чтобы затыкать нос. Мы защищаем себя от звуков, от света, от чего угодно, но только не от запахов. В области обоняния мы работаем только в одном направлении: создаем приятные запахи. Изобретательность парфюмеров Герлена или Шанели позволит вам припудрить ваш носик, но вот как победить затхлый запах? Применить дезодорант? Неравная борьба. Битва между цветочным и ночным горшком. Единственное радикальное средство перебить вонючие запахи — нейтрализовать обоняние. А для этого нужно применить максимум смекалки. Вот, например, евнухам тоже приходится нюхать всякую мерзость, и тогда они бегут подышать в гарем. Помогает — проверено! Я больше чем уверен, что по нашей планете бродят сыновья евнухов. И мне кажется, что некоторых я узнаю…
Мы уже несколько часов едем по пыльной дороге под палящим солнцем, вдыхая смрадные запахи. И конца-края не видно…
Вики поет по-голландски, а что ему делать, если он от рождения голландец. Его голос действует на мои нервы угнетающе. Музыкальными способностями он явно никогда не выделялся, а трясучая дорога придает его голосу адское дребезжание. Так что с большим удовольствием я слушал бы даже себя, а его придушил и выбросил в болото. Мы слишком мягки со своими ближними. Уж очень мы их холим и лелеем. Христианство размягчило нас, господа. Но подождите, увидите, что будет потом… В тот день, когда папа Павел VI сольется с «Дженерал моторс», мы наконец начнем замечать, что природа вступает в свои права.
После бесконечных часов на ужасной дороге и адского долготерпения я вижу на горизонте темную полосу высоких холмов массива Фиглиманджара.
Я понимаю состояние измученной матросни из окружения Христофора Колумба, когда небритый просоленный впередсмотрящий, свесившись из бочки на мачте, заорал благим матом: «Земля!» Видеть конец кошмара — истинное вдохновение. Даже если ты знаешь, что от солнца все равно никуда не спрятаться. Горланя свою простонародную песенку о ветряных мельницах и кучах тюльпанов, Вики лихо пришпоривает, и скоро мы выбираемся из проклятого всеми богами вонючего болота Кельмердуй. Уф! Больше не могу!
Честно говоря, на первый взгляд этот алмаз не заслуживает такой тщательно спланированной операции, да еще в полной тайне. Просто кусок скалы. Камень. Даже не такой уж и большой, объемом всего-то с маленький автомобильчик (с которым плохо обошлась машина побольше). Он весь скрыт под толстой грязно-коричневой оболочкой. Отскребли лишь несколько квадратных сантиметров площади, чтобы определить природу кристалла. Затем царапину густо замазали глиной…
Несколько здоровенных, с лохматыми головами ребят бдительно охраняют камень, покуривая в тени палаток. Их старший, полковник Ла Морд’у Дар вразвалочку направляется в мою сторону. Ему недостает одного глаза, руки, обоих ушей и правил приличия. Он квадратной формы, как робот, и у него самая очаровательная коровья морда, какую я когда-либо видел.
— Так это ты тот самый хмырь, которого нам пришлось ждать? — хмуро приветствует он меня. — И что в тебе такого особенного, мальчик, кроме того, что у тебя холеные ручки бюрократа и ослепительные зубы? Ты умеешь вышивать гладью или заплетать косички девочкам?
Его компания подыхает со смеху. Они обожают дурацкие шуточки в духе своего начальника. Дух, это как сыр: он должен быть на всякий вкус (возьмем, например, мои книги). Есть нежный дух, есть сильный дух, есть соленый, а есть чесночный. Есть божественный дух, есть святой дух, а есть дух лестничной клетки и сортирный дух. А еще существует боевой дух… И теперь вы видите еще дух полковника Ла Морд’у Дара. Этот полковник, должно быть, раньше служил сержантом во французской армии.
Подобный прием может, конечно, обескуражить кого угодно, но только не Сан-Антонио.
— Ты хоть сам-то понимаешь, что выглядишь вороньим пугалом с надутыми щеками и в камзоле с галунами, купленном на барахолке у торговца тряпьем? — по-отечески мягко пеняю я ему. — Скажи, вояка, когда тебе приходится надевать очки, ты дужки на затылке скрепляешь пластырем? Уши-то ты, видать, нечаянно обрезал во время бритья с похмелюги, или кто-то пошутил, подложив тебе лезвия в фуражку?
Полковник Ла Морд’у Дар со злости корчит такую отвратительную рожу, что ее увеличенной фотографии вполне хватило бы не только, чтобы остановить наступление немцев еще на границе с Францией, но и обратить их в бегство.
Люди такого типа, как он, не теряют время на излишнюю болтовню. Чуть что не так, лезут в драку.
Я это прекрасно знаю. Поэтому уклоняюсь от удара, и очень вовремя, поскольку он своим единственным кулаком метил мне прямо в репу.
Мой точный выпад заставляет ущербного полковника плюхнуться на массивный зад. Вся операция занимает не больше двух секунд. Он, похоже, испытывает головокружение, какое бывает у людей поутру с бодуна, когда желчь застилает глаза, а вселенная вращается со скоростью циркулярной пилы.
Ла Морд’у Дар хватается за кобуру револьвера. Но только мой-то уже у меня в руке.
— Ты ведь не хочешь покинуть нас во цвете лет, пока у тебя еще цел один глаз, чтобы пялиться на девочек, и одна грабля, чтобы лазить им в лифчик? А, кукольный полковник?
Он, похоже, отказывается от дальнейших боевых действий. Его команда, моментально посерьезнев, помалкивает. Я обвожу ласковым взором всех присутствующих.
— Скажите, вы, профессиональная армия, нам ведь платят не за то, чтобы мы играли в ковбоев и индейцев. Что это за манеры сразу лезть в драку, не сказав даже «здрасьте». Я не хочу никому проблем! Я делаю свое дело, и мне вполне достаточно солнечного удара и комаров размером с грифа, чтобы развлекаться от души.
Я убираю револьвер в кобуру.
— Меня зовут Сан-Антонио, — добавляю я. — Нам предстоит выполнить тяжелую работу. Надо воспользоваться ночной прохладой, чтобы перевезти этот проклятый минерал. После той дороги, по которой я только что проехал, человеческая природа требует хорошего отдыха со сном, но я хочу вам признаться, что, несмотря на ручки бюрократа и белые зубы, моя природа требует действия.
И тут вдруг эти господа приняли меня за своего.
Все, включая Ла Морд’у Дара.
Мы решаем двигаться колонной в следующем порядке: впереди джип с одноглазым полковником, затем следует бронетранспортер с вооруженными боевиками, за ним — грузовик с алмазом, в котором еду я, и замыкает колонну второй бронетранспортер.
Вокруг черная густота ночи. Сквозь разрывы облаков виден светлый шлейф Млечного Пути. Воздух раскален, и дышать нисколько не легче, чем днем. Смрадный запах болот все так же шибает в ноздри. Шофер большого армейского грузовика — парень лет тридцати, веселый и даже симпатичный. У него широкий подбородок в форме солдатского сапога, нос, похожий на ручку горшка, и большие изогнутые брови. За рулем он сидит в одних трусах. Малый весьма общителен и рад, что мы можем немного поболтать о Франции. Он просит рассказать о Париже, предместьях, о последних новшествах на окраинах. Он хочет услышать о Монпарнасе, Дефансе, потом спрашивает, что происходит в Сарселле, Курнев… Роро (так зовут моего шофера) не может вернуться. Тому есть причины, и серьезные… Хозяин одного табачного киоска оказался слишком несговорчивым и держался за свои деньги больше, чем за свою жизнь. Мир набит подобными дураками. Роро бросился удирать, и ему повезло, поскольку он успел прыгнуть в Гавре на пароход чуть раньше, чем его приметы были разосланы полицией. Несколько часов решили его судьбу… Затем был Сенегал, Берег Слоновой Кости, ну а после уж и вовсе немыслимые страны, где хорошо платят лишь тем, у кого избыток физической силы и недостаток моральных принципов. Одно за другим (выражение, постоянно употребляемое им в разговоре). Все было бы в принципе хорошо, да только его постоянно гнетет тоска по Парижу. После нескольких лет скитаний воспоминания о доме сильно бередят ему душу. Он с грустью вспоминает о свежих хрустящих булочках, шипящих кофейных автоматах в бистро, веселом гаме парижских кафе и даже запахе автобусов. О маленьких магазинчиках на окраине, мусорщиках, радостных криках встретившихся на улице старых друзей, разговорах типа «Ну как ты, старый шакал?». У него горечь в голосе, у Роро. Он говорит, что жизнь — идиотская штука…
У меня башка раскалывается от усталости, я слышу его как в полусне. Наш грузовик трясется по ухабам разбитой донельзя дороги. И я спрашиваю себя, а что, если вдруг идущая впереди машина сломается, что делать, чтобы не застрять в пути? Я думаю об огромном камне, лежащем в кузове нашего грузовика. Природный выродок. Минеральный дегенерат. Углерод в чистом виде. Я пытаюсь вспомнить уроки химии в школе… Самое высокое сопротивление материала… Алмаз — самый твердый из всех камней. Обрабатывать его можно только с помощью другого алмаза… Ну и что дальше?
Я, должно быть, провалился в сон… И вдруг меня будит шум, глубокий, далекий… Похожий на гром. Он появился из ниоткуда, и его раскаты глухо отдаются по всему небу.
Роро продолжает болтать. Он вспоминает вечера в своем парижском предместье. Однажды на эстраде летнего кафе, украшенного цветными гирляндами, наяривали два музыканта. Количество пивных банок у их ног все увеличивалось. Один из них играл на аккордеоне и барабанах, а второй на саксофоне. Но они производили такой шум, как двадцать человек…
Длинная зеленоватая молния разрывает небо.
— Смотри-ка, похоже, погода портится! — замечаю я, показывая рукой на освещаемую фарами густую темноту.
Роро прекращает свои музыкальные воспоминания и хмурит брови. Ему это легко удается, учитывая густоту растительности над глазами.
— Странно, — бормочет он, — вообще-то сейчас не сезон дождей.
Новая молния, сумасшедшей силы и фантастического цвета, ослепляет нас. Вспышка длится невероятно долго, усиливаемая всполохами и грандиозными ответвлениями. Яркие красные и оранжевые тона, переходящие на спаде в фиолетовый… Но прежде чем она пропадает, новая вспышка и жуткий грохот сотрясают небо и землю. Затем еще одна. Совсем рядом. Все сильней и сильней! Мы ослеплены. Невозможно двигаться по дороге с этой катарактой слепящего света на глазах.
— Одно за другим, — пытается шутить Роро, — похоже на конец света!
Апокалипсис!
Что-то уж слишком быстро! Вряд ли я мог когда-нибудь себе представить, что свечение такой силы возможно, не присутствуй лично при подобном светопреставлении.
Машины останавливаются, все вылезают наружу, пытаясь скрыться от беспощадного света. Но тщетно! Солнечные очки не защищают глаза. Закрыть глаза — тоже не помогает. Молнии разят сквозь веки. Я чувствую, что волосы встают дыбом. Котелок раскалывается от невыносимых ударов по глазам. Я прижимаю ладони к лицу. Но все понапрасну! Адское свечение проникает сквозь плоть и беспощадно лупит по глазам.
Алмаз — самый крепкий материал, твержу я себе как безумный. Спотыкаясь, я бегу к заднему борту грузовика, залезаю в кузов и съеживаюсь за алмазной глыбой, пряча голову в углубление в камне. Ух, вроде получше. Я пытаюсь понять происходящее. На Землю напали марсиане? Что, правда, вы точно уверены? Тогда скажите! Честное слово, первый раз в жизни я даю вам такое право. А чем иначе объяснить этот феномен?
Я слышу, как вокруг истошно орут ребята. Это похоже на страшный, безысходный вой… Бог мой, какой кошмар! Как крики проклятых душ из ада! Вопли и брань! В них уже не страх и боль. В них — помутнение рассудка! Сумасшествие — тоже боль, друзья мои! Оно терзает плоть и дух.
Но адские мучения на этом не кончаются! Они только начинаются! Вместе с ослепляющим светом приходит страшный гром. Он накрывает. Умопомрачительный, раскалывающий все и вся грохот. Резкий, долгий, упорный, все возрастающий, он становится тоном выше, он раздирает, он проникает, он за гранью терпимого, он давит, раскалывает, дробит, крошит, уничтожает. Он становится столь всеобъемлющим, что я его больше не слышу. Ошеломляющие вспышки света уже не в счет. Звуковые волны достигают ультразвукового барьера. Он сотрясает наши мозги. Мы его средоточие, его вместилище. Он захватывает нас, живет в нас. И мы умираем в нем. Этот феномен грандиозен, как любой природный катаклизм. Он неодолим. Мы бессильны. Воля сломлена — мы беззащитны. Мы раздавлены необъяснимым страданием, заполнившим нас. Этот феномен изумителен в своем пароксизме. Мы переступаем черту вместе с ним, неумолимо уносимся к непознанному апофеозу. Мы отдаемся силе чужого духа. И то, что мы испытываем, напоминает распад на атомы…
Глава (положительно) четвертая
«Моя жизнь усеяна неудачами и ошибками, и мне доставляет огромное удовольствие их преодолевать», — как сказал мне не помню когда теперь уже забыл кто.
Почему, как только я начал приходить в себя, но еще не достиг полной ясности сознания, меня тотчас же охватывает ощущение какого-то неодолимого беспокойства?
Будто предчувствие тяжелой утраты перехватывает мне дыхание, мутит душу? Почему? Что со мной?
Я начинаю соображать. Первый вывод: я в горизонтальном положении. Второй: лежу на чем-то мягком.
И третий: перед глазами полная чернота.
Некоторое время не шевелюсь, пытаясь понять, жив ли я и куда попал?
На первый вопрос отвечаю себе просто положительно, а на второй более определенно: «Я лежу на мягком матрасе и на простынях».
«Больничная койка», — наконец говорю я себе. Поскольку ощущаю запахи, которые спутать нельзя. Они ярко выражены, но терпимы. Во всех больницах пахнет одинаково. Воняет дезинфицирующими средствами, хлоркой, болезнями, сырыми простынями, линолеумом…
Я пошире открываю веки, таращу глаза. Но темнота остается непроницаемой. Ни малейшего намека на хоть какое-то свечение, ни лампочки, ни полоски света.
Очевидно, мне наглухо замотали тыкву. Подношу руку к носу и делаю вывод, что могу его потрогать. Нет и намека на бинты. Моя рука продолжает исследование. Я ощупываю голову, затем натыкаюсь на металлические прутья в изголовье кровати. Продолжаю шарить пальцами то выше, то ниже, справа и слева и в конце концов обнаруживаю электрическую лампочку. Рука в нетерпении опускается по шнуру, и я нажимаю на выключатель. Раздается обычное «щелк-щелк», но темнота не исчезает. Потом выключатель делает «клик-клак», но это не меняет количество люксов в окружающем меня пространстве. В моем котелке начинают закипать дурные мысли. Будто кто-то помимо моей воли засунул туда огромный кипятильник.
Настоящая паника охватывает сильный в принципе организм вашего дорогого Сан-Антонио. Я решаюсь на героический шаг: сажусь на кровати. Металлическая сетка настолько гибкая, что некоторое время ходит подо мной ходуном, как двуручная пила. Словно танцует… Только мне не до танцев, любимые мои…
— Чего ты разнервничался, малыш? — слышу я рядом с собой голос.
Голос Берю! Скорее перепутаешь ванну с туалетом, но голос Берю не спутать ни с чем. Он отличается несравненной выразительностью.
Однако глухой, как из осипшего репродуктора, тембр его голоса пугает меня.
— О черт, это ты здесь, Александр-Бенуа?
— Как два да два — двадцать два, браток! — отвечает мой толстомордый друг.
— А я?
— Ты? Э-э… Ты тоже здесь, слава Богу…
— Где?
— В больнице Кельбошибра.
— И давно?
— Ну, так примерно часов сорок восемь. Как только нам сообщили, шеф велел мне приникнуть к твоему изголовью.
— Сообщили о чем, Толстяк?
— Ну… о том, что произошло, об этой ерунде?
— О какой ерунде? Что произошло?
Он прокашливается. Затем вздыхает и еще более тихим и немного надтреснутым голосом произносит:
— Ну-ка давай ложись поудобнее, парень. Не дергайся, я расскажу тебе все по порядку.
Я предчувствую плохие новости.
— Я ослеп, да?
В качестве ответа на мой вопрос он выдавливает из себя смешок.
— Нет, вы послушайте этого поганца! Совсем с ума сошел! Ослеп! И он теребит себе репу такими идиотскими мыслями! Ослеп! У тебя, парень, видать, крыша поехала! Ты спятил! Полное разжижение мозгов! Серое вещество вытекает через сливные отверстия! Ослеп! Клянусь, у тебя чердак прохудился! И я перся из Парижа, чтобы слушать подобную чушь? Ослеп, твою мать, а? А мои зенки, они что, тоже ослепли? Нет, ответь, слабоумный, мои зенки тоже ослепли?
Он горячится еще больше и заходится кашлем как задушенный.
— Хорошо, если я не ослеп, то скажи, почему я тогда ничего не вижу, а, Толстяк? Совсем ничего. Ничегошеньки! Мы что с тобой, в полной темноте?
Его огромный зад, осторожно (как ему кажется) опущенный на край моей кровати, чуть не выпихивает меня на пол.
— Послушай, Сан-А, — говорит Берю, — послушай меня… У нас друг от друга секретов нет. Рука об руку, всегда… Без вранья! Никогда! Только правду! По-честному! Ладно, я скажу тебе: нет, мы не в темноте. Солнце даже в излишке. Это реальность, вот… Я тебе объясню. Выложу ситуацию всю, как есть, на чистоту, без вранья. Скажу тебе все! Как на духу! Чего ради скрывать? Чего брехать? Но, черт возьми, ты не ослеп! Бог мой! Что за мысли? Ты совсем не слепой, у тебя сейчас просто затык: ты просто не видишь своими глазами и не будешь видеть еще некоторое время. У тебя там, как они сказали, коровьи титьки, или нет, скорее рога… Или нет, скорее северное сияние… Нет, точно не оно… Что-то типа радуги… А, вот, шкурка от радуги! Словом, у тебя кранты с оболочкой от радуги в глазах…
— Радужной оболочкой?
— Да, точно! Как я и сказал! Ты только не волнуйся, парень! Ты, главное, надейся! И не понадобится пришивать пуговицы заместо глаз! Ты понял? Словом, это не помешает тебе видеть, значит, я бы сказал…
— Знаешь, я всегда думал, что человек, лишенный зрения, называется слепым, — говорю я срывающимся голосом.
Но тут уже и Берю не выдерживает. Он обрушивает на меня потоки слез, заливающие мою койку, как тропический ливень.
— Ну вот, все, сволочь! — рыдает Толстяк. — Вытянул из меня! Теперь ему палку для слепых подавай! Собаку-поводыря! Габаритные огни! Я сам тебе вырежу из полена деревянную плошку, будешь из нее протертый суп хлебать! О боже, боже! Начнешь ходить к церкви с протянутой рукой, побираться на паперти! Подайте Христа ради, дамы-господа! Бог вернет с процентами! Ну что в башку себе забрал этот тип? Такие дурацкие мысли в его-то возрасте! Ты же не подыхаешь, слава тебе господи, Сан-А! Ты всего лишь слепой! Да, слепой…
Тут в апофеозе комедии он начинает реветь, как безутешная вдова на кладбище. Спазмы сотрясают мою койку, будто волны утлое суденышко посреди бушующего океана. Одной рукой я легонько похлопываю его по могучему туловищу, стараясь успокоить, другой щупаю свои мертвые глаза.
Потому как они и правда мертвы, мои красивые глаза с поволокой, дорогие мои обожательницы. Угасли навсегда. Я никогда больше не увижу ваших прелестей, красоточки мои. А вы, вы больше никогда не увидите, как в моих глазах вспыхивает неотвратимый огонь желания. О, проклятье! Какой удар судьбы! Мог ли я когда-нибудь думать… Придется заново учиться жить. Осваивать новую философию. И новую психологию. Существовать на ощупь…
— Ну ладно, хватит реветь, иди к чертям, Толстяк! — бормочу я. — Если меня так долго поливать слезами, то я мигом превращусь в соленую треску.
Толстяк успокаивается, выравнивает дыхание и вновь обретает дар речи.
— Послушай, кролик, — икает он, — я не позволю тебе называть себя слепым. Никогда! Never! Jamais! Запрещаю! Давай представим, что у тебя на глазах шоры. Надо применяться к обстоятельствам! И ты идешь как мул, но ты не ослеп. Кстати сказать, один большой специалист должен подвалить с минуты на минуту. Большой знаток! Если нужно будет сделать пересадку, то я готов запросто отдать тебе один свой глаз! Бери любой — на выбор! Советую взять тот, что левый, он менее красный. Это тот, которым я зажигаю девиц! А еще, насколько я знаю нашего друга Пинюша, — готов дать башку на отсечение — он с тобой тоже поделится. Согласен, это не глаз Фрэнка Синатры, и вдобавок тебе придется каждые десять секунд его протирать, но все-таки это глаз, а не задница, верно? Правда, тут получается, что они не будут подходить по цвету и выражению. Честно говоря, у него нет моей страсти в глазах. Они бесцветные и понурые, как у камбалы. Словом, как потухшие фары… Нет, они тебе не подходят… Так, погоди… Мы сейчас еще что-нибудь придумаем. Скомбинируем… Вот, у меня прекрасная мысль! Блеск! Гениальная! Как всегда! Я тебе отдам своих оба, а один мы свистнем у Пинюша. Короче, в королевстве одноглазых ты будешь королем! А, Сан-А? Королем! С двумя умными проницательными глазами!
Я протягиваю к нему руки. Мы обнимаемся.
— Ага, что это еще такое? — прерывает наши нежности незнакомый голос.
— Кто это? — спрашиваю я.
— Твоя медсестричка, — информирует меня Берю. — Умопомрачительная женщина, брат, настоящая фемина! Если бы ты видел — упал бы! Черный цветок! А формы, кожа! Знойная! Такая птичка сразу вырвет из лап любой хандры, это уж будь спок! Вся как на шарнирах. Не больше семнадцати лет. Рот кошельком, зубы — словом, тигрица! Ты с ней быстро поладишь.
Я приветствую юную персону, представленную Толстяком с таким пылом, и, подавляя похоронные чувства, возвращаюсь к своим баранам.
— Ну хорошо, а что дальше, Толстяк?
— А что дальше?
— Ребята, груз?
— Знаешь, ты все-таки отпадный малый, в своем стиле! Тебе что, больше думать не о чем? — отвечает он, если это расценивать как ответ.
— Извините, месье, как-то не сообразил.
— Они почти все погибли, Сан-А! Кто от ран, а кто от помешательства. Те, что хотели убежать, сгинули в болоте. Некоторые, что остались живы, попали в психбольницу, и теперь их держат в палате для буйных. Связаны по рукам и ногам, бедняги! Все в смирительных рубашках — быстро не развяжешься. Орут благим матом, хоть святых выноси. Особенно если вдруг солнце начинает им лупить прямо в репу…
— Ладно, а груз?
— Камень? Сперли вместе с грузовиком.
— Как?
— А так! Увели с концами… И следов не нашли ни того ни другого.
— Не может быть!
— Значит, может, если так оно и есть.
— А как располагались машины на дороге?
— Как стояли, так и стоят: друг за другом, нос к заду. Джип, бронетранспортер, потом пустое место, где был грузовик, и еще один бронетранспортер.
— Интересно, как же они смогли на узкой дороге, проходящей по узкой дамбе, подобраться к грузовику и вытащить его из колонны, не столкнув первые две машины?
— Через пустыню, наверное, — намекает Проницательный, — а может, вертолетом?
— Такой вес? Да ты спятил…
— Короче, ни грузовика, ни алмаза больше нет.
— А кто вам сообщил?
— Пастух… Крокодилий сторож. Там ферма, где разводят крокодилов, на островах посреди болота. Ночью этот парень проснулся от страшного грохота и вспышки, как от атомной бомбы. Он подумал, что настал конец света…
— Я тоже, — признаюсь я. — Я тоже, Берю, так подумал! И знаешь, — добавляю я, трогая свои глаза, — по-моему я не очень ошибся.
— Наутро пастух сообщил, что произошло. Местные власти послали туда комиссию для расследования. Она-то вас и нашла.
— А как им удалось возвратиться, если дорога была перекрыта нашими машинами и негде развернуться?
— Ехали задним ходом, как мне сказали. У них, кажется, есть молодые водители, специально обученные езде по этой дороге. Знаешь, этим ребятам еще в детстве разворачивают шею на сто восемьдесят градусов, чтобы они могли потом водить машину задним ходом, не выворачиваясь наизнанку. Как раз наоборот, когда они едут передом, им приходится туго. Поэтому у них на каждой машине по два шофера, усек? Один, чтоб ехать вперед, другой — назад.
Толстяк прочищает глотку.
— Ты будь здоров как сколочен, друг мой! Армированный скелет и башка из иридия. Ты единственный, кто выкарабкался. Можно сказать, что ты сделан не из вареной цветной капусты, а из мореного дуба!
— Да нет, — говорю я тихо, — просто я знал, что алмаз самый крепкий материал на свете. Он был причиной свалившегося на нас катаклизма, но он же меня частично и спас.
Его Величество Берю встает с моей койки, так что сетка подпрыгивает вверх с силой в двадцать раз большей, чем вытесненная жидкость, о которой что-то говорил безвременно покинувший нас товарищ Архимед. Меня чуть не выбрасывает, как из катапульты.
— Хорошо, — заявляет Толстяк, — раз уж ты пришел в себя, я, пожалуй, пойду пожру чего-нибудь, поскольку, сам понимаешь, пока я ждал, когда ты прочухаешься, у меня маковой росинки во рту не было. Через час вернусь. Я тут приметил кое-что похожее на ресторан, в двух шагах от больницы.
Он наклоняется к моему уху и шепчет:
— А за это время исследуй опытной рукой свою шикарную сестричку, чтобы немного развеяться. На тот период, что ты будешь погружен во тьму, тебе нужно натренировать пальцы. Ты понял меня, парень?
И он уходит.
Я слышу, как он с кем-то шепчется в коридоре. Подозреваю, он дает четкие инструкции моей сестре-сиделке, поскольку почти сразу же входит она и приближается к моей кровати. Прохладная рука ложится мне на лоб, гладит лицо…
— Как вы себя чувствуете?
Инстинктивно я поворачиваю голову в ее сторону. Я делаю усилие, чтобы увидеть. Но все по-прежнему в полной, кромешной, беспросветной темноте. Такой бесконечной, как синева неба или глубина Мирового океана.
Я слепой! Сан-Антонио ослеп! Мир света и красок выключился для него. На его карьере поставлен крест! Он будет неуверенно плестись через улицу, и сердобольные люди возьмут его под руку, чтобы перевести с тротуара на тротуар. Он не сможет больше водить машину. Он не сможет читать книги. Ему придется выучить азбуку для слепых… И он будет смотреть пальцами… Все ощупывать… Все угадывать…
— Спасибо, очень хорошо, — тихо произношу я. — На что я похож теперь, когда стал слепым, девочка моя?
— Вы очень красивый, — отвечает голос.
Она как живительный источник, эта малышка. Я представляю ее себе по тембру голоса… Даже прекрасней, чем мне ее описал Берю. Нежность, с которой она произнесла «вы очень красивый», прокатывается сладкой истомой по всей длине моего позвоночника. Прозрачное облако надежды словно оживляет меня. Согласен, я теперь зрячий, как фонарный столб, но зато у меня остались другие чувства, и надо учиться их использовать.
Но как, по-настоящему или?..
Сильный мужчина плюет на то, что потерял, он работает тем, что имеет.
Я беру сестричку за руку, при этом про себя отмечаю, что нашел ее руку сразу, не тыркаясь клешней в разные стороны.
Она не убирает руку.
— Идите сюда, я хочу поближе с вами познакомиться, — зову я.
Послушная, она ложится рядом со мной. Мои руки начинают ознакомительную экскурсию. Они проторяют путь, исследуют, открывают, захватывают.
— Сделай так, чтобы я забыл о своем несчастье, маленькая моя, — дышу я ей в ухо, прокладывая дорогу прямо в рай.
И вот она открывается так же широко, как двери церкви при приближении новобрачных. Входите, люди добрые, добро пожаловать! Ее кожа мягкая, гладкая, прохладная… Честное слово, она такая взрослая, эта девчушка! Я с трудом отыскиваю конечную цель и не нахожу на ней никакого покрытия. Он приврал мне, толстомордый Берю, дав ей семнадцать. Ей меньше — он ошибся лет на пять! Эти чернокожие красотки всегда обманчивы для благовоспитанных граждан, плохо информированных об их скороспелости. Что касается меня, то вы должны понять, что после страшной авантюры, в которую я попал, мне во что бы то ни стало нужно проконтролировать, если отложить глаза в сторону, работу своих жизненно важных органов. А вдруг световая и звуковая агрессия нарушила порядок в моем организме? Сгустила кровь? Иссушила плоть, лишила достоинства?
Но первое впечатление, что этого не произошло. Второе тоже.
Я рассуждаю про себя, что вообще-то известно: мужчина любит глазами, но важнее, чтобы он любил другим местом. Кроме того, в любви зрение факультативно, поскольку, как все знают, когда наступает экстаз, глаза закрываются.
Словом, об экстазе: я начинаю лирическую драму в восьми картинах, больше похожую, даже при скудном воображении, на вытряхивание карманов перед унитазом с частым спуском воды. Эту пьесу я завещаю великому режиссеру натуралистических театральных сцен Полю Клоделю для его сортирных драм. В принципе очень живые картинки.
Я не рыскаю в поисках разных путей.
Мне достаточно одного.
Просто я прокатываюсь по нему несколько раз и на разных транспортных средствах.
Не будем останавливаться на технических и технологических подробностях этих средств, поскольку издатели могут обвинить меня в стремлении искусственно увеличить количество печатных знаков. Признаем только, что аппетит приходит во время еды, а количество вкусовых вариантов, как известно, не ограничено. Если все это помножить на максимум инициативы, фантазии и сконцентрированные усилия, то дальнейшее можете представить себе сами… И позвольте на этом поставить точку. ТОЧКУ! Меня и раньше многие обвиняли, а теперь к обвинителям прибавится еще общество слепых и ассоциация против расовой сегрегации. Короче, точка!
Самое противное в больницах, что двери палат нигде не запираются на ключ. Дверь в мою палату вдруг распахивается. Мужской голос звучит как гром. Усиленный пустотой коридора, он растет и перекатывается, будто проповедь священника под сводами пустого собора.
— Что я вижу — я вижу — вижу — жу! — разносится по больнице голос, принадлежащий, как я узнаю потом, главному врачу, совершающему обычный обход больных.
Он продолжает греметь, но, войдя в палату, тем самым прекращает эффект эха.
— Это скандал! — кричит он. — Как вам не стыдно, мадам Бертран! А вы, полицейский комиссар, вы находите нормальным скакать на женщине семидесяти восьми лет?
Мужики, это похуже удара молнии, из-за которой я слетел с катушек двое суток назад. Я распадаюсь на куски, измельчаюсь, стираюсь, смыливаюсь, расклеиваюсь, растворяюсь, выпариваюсь, я пытаюсь говорить, пытаюсь сосредоточиться, пытаюсь оправдаться, краснею, бледнею, пыхчу, я прикрываюсь, прячусь, закипаю от злости, угрожаю задушить Берюрье, проклинаю, объясняю ошибку излишней доверчивостью, поношу на чем свет стоит старуху и в конце концов отправляю ее на пол коленом под зад.
Ах, Берюрье! Ах, сволочь! Подонок! Мразь! Грязный лгун! Предатель! Убью подлеца! Воспользоваться моей слепотой…
Мужской голос вновь говорит, уже спокойным тоном:
— Ну и ну, скажите на милость! Больной! У вас редкостное здоровье! Этот праздник мадам Бертран запомнит надолго! Вот что вылечит ее от экземы, поправит косоглазие, удалит усы с бородой, заставит сделать новый зубной протез! Браво! Вот это достижение! Красавец мужчина — просто блеск! Даже местные, калеки и прокаженные, не хотели ее…
И он кряхтит от смеха.
— Я доктор Кальбас, главный врач этого сарая, превращенного в госпиталь. Тридцать лет в Дуркина-Лазо, словом, бессмертный. Что касается мамаши Бертран, то она помнит еще захват и колонизацию страны. Она приехала вместе с войсками, осталась на всю жизнь, а теперь и умрет здесь. Если вообще умрет, в чем я начинаю сильно сомневаться. Ее должны были повысить в должности, но она заразила весь миротворческий контингент сифилисом. Затем ее стали мучить угрызения совести, и она принялась их лечить, всю армию. Вылечила! Хорошо, я не спрашиваю вас, как вы себя чувствуете, — сам вижу! Мы видели! К вам приехал профессор Бесикль, из фешенебельного округа Парижа. Он вас осмотрит…
— Очень рад, — шамкает другой голос, тоненький и слабенький по сравнению с луженой глоткой главврача.
Меня поднимают. Сажают.
Мне что-то водружают на голову. Потом что-то приставляют к глазам. Я догадываюсь, ощущая легкое тепло, что парижский профессор разглядывает меня с помощью лампы на лбу. Когда он говорит, изо рта летит слюна, что заставляет меня содрогаться от омерзения.
— Спокойнее! — прикрикивает он.
От него несет чем-то мерзким. Скоро я стану еще более чувствительным к запахам, поскольку обоняние будет служить мне радаром. От профессора пахнет старым ковром. Я угадываю: на нем серый костюм, жесткий воротничок, блеклый галстук, розетка почетного легионера, висящая, как увядший цветок.
Варварскими инструментами он исследует мои глаза.
— Вы различаете свет?
— Нет.
— Хорошо.
Кажется, он очень доволен, что обнаружил у меня полную слепоту. Роман о своих незрячих переживаниях я напишу, как только выучу азбуку для слепых.
Оба лекаря обмениваются короткими замечаниями. Бесикль снисходительным тоном объясняет главврачу, что, да как, да почему с моими глазами. Не знаю, присутствовали ли вы когда-нибудь при подобной беседе двух врачей. Я считаю, что это забавный спектакль. Можно сказать, что они ищут способы эпатировать друг друга, хотят найти совершенно новые, неизвестные до сего времени термины, свежеснесенные, которые его собеседник еще не знает. О, это совсем другой язык! Язык Зондских островов звучит в наших ушах значительно красивее, чем речь этих Гиппократов. А какая серьезность — это нужно видеть! Вернее, слышать! Увы! В нынешней ситуации я не могу видеть, но зато слышу, и этого достаточно. Если приложить усилия и попытаться расшифровать их высокопарную брехню, а затем перевести на нормальный человеческий язык, то получится, что у меня якобы склеротическая недостаточность сосудов радужной оболочки глаза, приводящая мой диапозитивный хрусталик к полной непроходимости, откуда стопроцентное затемнение внешней оболочки, отягощенное омертвением капсулы Тенона и кератической ахроматопсией глазного яблока по эксофтальмическому типу деструктивной патологии.
И в этом я очень сильно сомневаюсь.
Как и вы, наверное, тоже!
Мне надоедает их кривлянье, и я решаю спросить:
— Итак, ваше мнение, господин профессор?
Его ответ сражает меня прямо в сердце.
— Ууффф! — произносит он.
Все больные скажут вам, насколько вдохновляют подобные заявления их врачей. Они моментально подскакивают от радости и бросаются в будущее бодрым шагом альпийских стрелков на параде, проходящих мимо почетных трибун.
Еще одно междометие, которое очень нравится пациентам, когда оно выражает мнение медика, это «ну-у», особенно если после него следует «так», произнесенное как бы со вздохом. Поистине, врач — профессия деликатная. Ведь больному, кроме диагноза и метода лечения, нужно еще дать надежду. Хорошее емкое слово найти трудно. Фактически все практикующие врачи довольствуются словом «так!».
Это их боевой слон. Три буквы, составленные вместе, дают эффект редкого красноречия в зависимости от интонации. Заканчивая осмотр, врач распрямляется и произносит смачное «так!», что заливает солнечным светом самую сумрачную душу. Или, например, сухое задумчивое «так». Это нужно понимать так: «Ухудшения быть не должно, но полная уверенность будет только после вскрытия». Есть еще безысходное «так» в смысле «Это был хороший пациент, но он пренебрегал социальным страхованием, поэтому скопытится через пару месяцев». Следует еще выделить раздраженное «так». Клич абсолютной уверенности. Очень по-мушкетерски. «Ко мне, инфаркт, на два слова!» Или: «Между нами говоря, у вас роскошная лейкемия». И есть еще одно, произносимое мягким голосом «так-так», напоминающее вам военные фильмы и стрельбу из пулемета. Так-так… Очень мило, тихо-тихо… Пара трупов… Сожалеющая улыбка. Чуть ли не руки в стороны. Так-так. Твои дни того: так-так… Если ты любишь органную музыку, будет музыка… Оно пахнет хризантемами, это «так-так». Будто земля по крышке гроба: так-так. И ты понимаешь, что часы твоей жизни уже оттакали, в смысле оттикали. Здесь мы встречаемся с профессиональной жалостью. Гуманной стороной души лекаря, знающего, что ты отдашь концы и свидетельство о смерти на твое имя можно заполнять. И они наблюдают, с какой болью ты это переваришь. Но он поможет тебе, он сделает укол морфия. И ты протягиваешь ноги с удовольствием. Так-так, господин покойничек! Будет праздничек! Неважно, как твое имя, — ты пациент! Был — и нет пациента! Ух, они замечательные ребята, наши врачи! Клянусь, они умеют обрадовать, подбодрить.
Зарегистрировав это «ууффф!» профессора Бесикля, я все-таки решаю спросить:
— Ну, хорошо… А кроме этого?
— Вы ослепли, дорогой мои!
— Это как раз я понял, когда увидел, что больше не вижу, — криво усмехаюсь я. — Есть надежда на операцию?
— В вашем случае нет. У вас поражена грабо-невротическая система из-за отслоения сетчатки. Операция разрушит всякую надежду на выздоровление.
Мужчины — вы же знаете, каковы они: малейшая зацепка, и они хватаются за хвост самой призрачной химеры.
— Ага, значит, шанс на выздоровление все-таки есть?! — вскрикиваю я голосом тонущего, которому никак не удается утонуть.
— Хватит глупостей! Этот парень спятил, док! — гудит гнусный Берюрье. — Будто кто-то сомневается в этом деле. Твоя слепота, парень, это временное краткое явление, долго не продлится! Втолкуйте ему, док!
— Это что еще такое? — спрашивает вполголоса Бесикль.
— Его замена, — отвечает главврач.
Эта короткая презентация прошибает меня, как ток высокого напряжения. «Его замена»!
Выходит, я человек конченый, вычеркнутый из активного поголовья. И меня заменили!
Мой вопрос, с которым я все время пристаю, похоже, действует им на нервы.
— Ну хорошо, скажите, шанс есть?
Хруст суставов говорит мне, что профессор качнул головой.
— Да, есть, может быть, один из ста. Я вам честно скажу: этот шанс ничтожен.
— А ему больше и не надо, — обрывает Толстяк.
Фонтан брызг на мою физиономию указывает на то, что профессор делает укоризненное «тсс».
— Мы знаем аналогичные случаи, когда ослепший через некоторое время чудесным образом выздоравливал вследствие сильного эмоционального потрясения, поскольку, как я вам уже говорил, у вас задета грабо-невротическая система!
— Гробо-статическая! — передразнивает Берю. — Не задевай за живое!
Брошенное мне в нос вонючее облако от резкого выдоха профессора, явно страдающего несварением желудка, говорит о том, что док поперхнулся от смеха.
Но он продолжает свою лекцию, ничуть не обидевшись на выступление Берю.
— Мне известны только три случая, подобных вашему, когда наступило быстрое выздоровление. Больные самопроизвольно вылечились, и абсолютно без каких-либо последствий. Случай генерала по имени Портупье, ставшего слепым после взрыва бутылки шампанского в его штабе под Драгиньяном во время последней войны и совершенно чудесным образом вновь прозревшего в Лурде, куда он ехал окропить глаза святой водой и попал в дорожную аварию. Был случай со слесарем-сантехником, ослепшим в результате взрыва газового баллона, но уже через день он вновь обрел зрение, когда один букмекер дал ему хорошую наводку по ставкам на бегах. И третий случай, когда зрячий стал слепым из-за перенесенного шока, а затем вновь прозрел, когда упал с крыши. Сильная эмоциональная встряска, повторяю я вам, — ваша единственная надежда, месье. А пока я вам выпишу рецепт на покупку палки для слепых со скидкой. У меня есть очень хорошие предложения от торгового дома на авеню Клебер. Вы заплатите за нее только десять франков. Полагаю, вам будет абсолютно наплевать, что на ней написано: «Чинзано — любовь моя»?
На этом он прощается со мной и уходит.
И я остаюсь наконец наедине с Берю.
— Только не надо помирать раньше времени! — подбадривает меня Толстяк. — Даже если бы вообще не было случаев выздоровления, ты-то уж точно выздоровеешь, бык-производитель!
— А-а, заткнись ты! — говорю я, снова приходя в ярость. — И спасибо тебе за доставленное удовольствие с малышкой-негритоской. Ей скоро стукнет восемьдесят, твоей бабусе, и она белая, как дерьмо желтушника. У нее был сифилис, она наградила им всю армию. Не говоря уже о физических недостатках и злокачественных образованиях, о которых ты, конечно же, и не подозревал, хотя у нее это написано на роже, на спине и прочем, и вообще она как пятнистая гиена. Ты встал на нечестный путь, сукин сын. Грешно обманывать убогого.
Он конфузится, вздыхая всеми своими шестьюстами кубическими сантиметрами поршневой группы.
— Знаешь, существует только то, во что мы верим, — отвечает он мне. — Если бы этот дурак не просветил тебя, то ты бы верил и радовался. Разве не так? Хочешь, я тебе выскажу свою точку зрения? Жизнь — это такая штука: чем меньше видишь, тем лучше тебе живется. Она такая мерзкая на самом деле, Сан-А! Со всеми этими противными людишками, на которых глаза бы мои не глядели. Одни пакостнее других! Настоящий геморрой! Мне хотелось бы быть оптимистом, но не получается. Ты ведь думаешь, что я осел и ничего не вижу? Человечество — банда проходимцев! Кляузники, скандалисты, предатели, готовые на всякие гадости. Не успеешь повернуться к ним спиной, а они уже делают тебе подлость. Все время нужно осторожничать, ходить, прикрывая рукой задницу и зажимая пальцем сток, чтобы какая-нибудь сволочь не вставила тебе по самую ботву. Скоты и мерзавцы — все! Все, слышишь? Мне даже случается испытывать угрызения совести из-за того, что я живу среди этого стада скотов. Со всеми их благословениями, проклятиями, доносами, предписаниями, запрещениями. Так что не жалей о том, что ты их некоторое время не будешь видеть. Хоть отдохнешь немного, Сан-А. Черт возьми, тебе страшно повезло, просто удача свалилась на голову. Полное отключение зрения? Отлично, я согласен тебя заменить. Никогда не видеть их проклятых акульих рож — да это такое счастье, дорогие дамы и старая дева Мария в придачу! Зато ты снова изучишь мир, снимешь с него новую мерку, Сан-А! Настоящий подарок! Праздник, который всегда с тобой!
На этом он истощается и на время замолкает.
Мы сидим молча и размышляем по отдельности. Каждый о своем. Я думаю о собственном безнадежном положении.
Что он хотел сказать, чертов Берю? Что безнадежные случаи самые замечательные? Лучше бы он мне не говорил этого — у меня даже нет сил ему отвечать!
— Послушай, — шепчет вдруг мой помощник настолько тихо, что я угадываю каким-то двадцать восьмым чувством.
— Что еще?
— Я не хотел тебе сразу говорить, но не могу держать в себе. Если откладывать страшное известие о большом несчастье на потом, то получается еще хуже…
— Большое несчастье? — вздрагиваю я.
— Огромное, настолько ужасное, что тебе понадобится мешок мужества, малыш…
— Что-то с моей матерью? — вскрикиваю я.
— Да, — всхлипывает Берю, — она умерла.
Мы снова впадаем в задумчивость. На этот раз молчание напряженное. Слышно, как бьются наши мощные сердца. Но через некоторое время до нас вновь начинают долетать звуки. Со стороны родильного отделения слышны крики: мамаши рожают, извещая о снесенных малышах… Машина чихает на улице… Лает собака… Где-то надсадно хрипит радио, перекрывая пение туземцев…
Сколько времени мы сидим молча, не говоря ни слова? Дыхание Толстяка становится все более прерывистым.
— Ты что… ничего не хочешь сказать? — нарушает он наконец наше обоюдное оцепенение.
— И правда, — говорю я, — чего я все молчу? Ты меня успокоил, Толстяк.
— Как? Но я… Как ты говоришь?
— Это как раз то известие, что мне нужно было обязательно сообщить в этот момент, Берю. О смерти Фелиции! По сравнению с ее смертью моя — так, пустяк! Мысль о том, что она и правда может умереть, переворачивает мне душу.
— Но, Сан-А…
Я улыбаюсь, повернув голову на его голос.
— Не утруждай себя, старина. Если бы маман умерла, я бы это почувствовал. Ты мне подбросил эту страшную весть, чтобы я испытал сильное эмоциональное потрясение, правда? Ты принял за чистую монету заявление этого офтальмолога и надеешься возвратить мне зрение, ошарашив меня как обухом по голове подобной выдумкой?
Берю натянуто смеется.
— Жаль, что ты мне не поверил, — говорит он. — Может быть, твои глаза вновь бы увидели свет божий. Ну ладно… Но это опять же еще не все.
— Нет? — улыбаюсь я. — Глупости лезут, как из рога изобилия?
Он с шумом выпускает газы, видимо для смеха, чтобы меня еще больше подбодрить, и заявляет:
— Ладно, еще одна новость, на этот раз говорю серьезно.
— Да неужели?
— Теперь я берусь за расследование. Шеф приказал. Поэтому, пока ты вне игры, я становлюсь во главе… Значит, начну я с того, что возьму у тебя показания. А ты рассматривай себя просто как свидетеля. Понял, парень? И давай начинай прямо с самого что ни на есть начала. Валяй рассказывай. Я весь внимание…
Я делаю ему знак приблизить свою физиономию ко мне. И как только чувствую, что его щетина колет мне щеку, шепчу:
— Свидетелю плевать на всякие распоряжения! Найди мне мои шмотки, и сматываемся отсюда!
— Да никогда в жизни! Мое командировочное предписание вполне четко сформулировано. Я, Александр-Бенуа Берюрье, назначен вести расследование. А ты если и покинешь госпиталь, то только для того, чтобы ехать домой.
— Я выйду из госпиталя и буду делать то, что мне нравится, господин Берюрье. Паспорт у меня в порядке, и я свободный гражданин. И никто не убедит меня в обратном, а уж тем более не такой толстый сукин сын, от которого к тому же разит винищем. Я допускаю, что ты теперь официально возглавишь следствие. Отныне я поступаю под твое начало, Анахорет. Давай сюда мою сбрую — это все, что я могу тебе ответить. И сваливаем! Ты будешь моей палкой для слепых, собакой-поводырем, небьющейся плошкой и прочее. Будем играть в такую игру: голова — ноги. Ты будешь ногами, но я буду головой. Соглашайся, лучшего предложения не поступит! Меня вырубили, и теперь я должен отомстить. Я найду их чертов камень! Клянусь!
Берюрье — вы его знаете? Это не самая плохая лошадь в нашей конюшне. Он, наверное, даже самый лучший из ослов в своей категории. Вот только смекалка его иногда подводит, и мысль — как входит в его башку, так тут же и выходит, не успев поздороваться.
— Черт бы тебя побрал! Что ты вбил себе в голову? Ты же слепой, как слепая кишка! — кичится мой импульсивный помощник, пардон, начальник.
Но тут же начинает кряхтеть и вздыхать.
Конечно же, мне могут возразить, что я веду себя нетактично по отношению к нему.
— Между прочим, ты только что утверждал, будто я не слепой, — говорю я страдальческим голосом.
Я слышу, как открывается скрипучая металлическая дверь шкафа.
Что-то мягкое падает мне на плечо и на грудь.
— Так, вот твои шмотки… Держи трусы… рубашку! Вот твой пиджак! И еще ботинки! На тебе носки! Ты наденешь носки? Пижон! В такую жару я их не ношу. Терпеть не могу! Нужно, чтобы пальцы на ногах жили совершенно свободной жизнью, поскольку, как я помню из памятки о личной гигиене, от жары появляются мозоли.
И он продолжает болтать без умолку, подчас без видимой связи с предыдущим. В принципе понятно, что таким образом он заглушает стыд. Он чувствует, что поступил нехорошо, назвав меня слепым.
— О’кей, жокей, будем вести расследование вместе! — говорит он без всякого перехода. — Держись за мой рукав, а я буду расчищать тебе путь. Даже если на горизонте появится всего лишь кучка собачьего кала — нет проблем, я уберу. Ты доволен?
— Посмотрим, — наученный горьким опытом, осторожно говорю я.
Внезапный приход мадам Бертран может существенно осложнить ситуацию.
— Ага! Что я вижу? Он одевается! Решил слинять! — брюзжит старушка. — Вы не имеете права! Вы должны лежать, не вставая! Я не позволю! Я доложу доктору Кальбасу…
Слышен шорох одежды, шарканье ног, затем тихий стон.
— Ты, мартышка! Ты заткнешься или я тебя урою? — рявкает Берю. Затем обращается ко мне: — Так, ну все? Готово, хватай меня за руку и держись крепче. Только хочу тебя предупредить об одной-единственной вещи, друг мой: не надо давить мне на жалость! Запомни: тебе трудно оттого, что ты слепой, но я тебя веду, потому что мне так нравится!
Глава (если посчитать) пятая
Думаю, что если бы понадобилось снимать документальный фильм о короле дураков в изгнании, то можно сейчас просто повернуть камеру на меня.
Ох, судьба-индейка, мой бедный Сан-А. Неуверенные при ходьбе ноги слишком высоко задираются, левая рука отставлена в сторону, прыжки как у козла, внезапные остановки, ступни не ступают, а скорее ощупывают землю — и так без конца…
Ах, как это сложно — быть начинающим слепым. Обучение будет долгим. Полным синяков и шишек. Я буду разбивать себе рожу чаще, чем вы предполагаете — можете улыбаться в предвкушении! Я чувствую себя совершенно беззащитным, смешным. Выброшенным. Как говорил один мой друг: «Я отдал бы десять лет жизни, чтобы точно знать, проживу ли еще двадцать!» Никогда еще я не ощущал, насколько шатки наши обычные познания мира. Я как увалень-шмель на открытом пространстве. Полном опасностей, как мне кажется, и вреда в самом низком смысле этого слова.
Мне иногда снится, что я в агонии, умираю, лечу в ад. Это кошмары. И я ничего не могу поделать. Я подвластен чужой воле: все мое тело, душа. И мне уготованы страшные испытания, моральные и физические. Мороз пробирает от ужаса. Но потом вдруг мой темперамент берет верх, и я отчаянно сопротивляюсь. Я говорю себе: «Какого, собственно, черта!» И все становится на свои места. Моя броня наглухо закрыта — я опять чувствую себя в своей тарелке.
Сейчас все примерно так же. Вначале я вроде бы был в ужасе от безысходности, от страха. От беспомощности, от мысли, что могу грохнуться на каждом шагу, удариться обо что-то, разорвать одежду. Быстро приходишь к выводу, что ты выброшен обществом. Я потерян, я никому не нужен. Пот прошибает меня, рубашка липнет к спине. Сердце бьется как бешеное. Комок стоит в горле. Горе в чистом виде затопляет меня всего до последней клеточки.
— Тихо, парень! Спокойно! Осторожно, здесь камень, рули сюда…
Берю пилотирует меня как надо.
Вместо того чтобы быть ему благодарным, я начинаю брюзжать. В голове одни ругательства. Я готов поносить всю вселенную: Толстяка, солнце, мысль о божественном Провидении, вбитую мне в далеком детстве. Хочется плюнуть на всех, обозвать, оскорбить. Сказать им, что все они скоты, валятся на мою несчастную голову, что я их ненавижу. Я хочу к Фелиции. Я хочу к моей маман. Больше мне ничего не нужно! Прижаться к моей старушке, просить ее вылечить меня. Взять ее за руку, как когда-то в детстве, когда я только начинал ходить, и жизнь была полна опасностей. Я убеждаю себя, что она найдет средства избавить меня от этого проклятья. Маман всегда придумает лекарство для своего сына. Мне так это необходимо! Чтоб мне кто-то помог! Чтоб меня кто-то спас!
Он был прав, мой Александрович: нужно возвращаться во Францию. В любом случае с работой покончено. Меня ждет пенсия, награды. Тяжело ранен при исполнении трудной и опасной миссии. Ослеп при сопровождении этого проклятого камня, которым завладели какие-то гады, использовав страшное неведомое оружие.
Ярость опять охватывает меня. Ох, попались бы они мне, я бы им, слепой или нет, устроил веселую жизнь!
Но ярость вдруг трансформируется в наплыв смелости. Я снова чувствую свою стойкость и упрямство. Пока он жив, Сан-А, он будет сопротивляться, друзья мои! Он скажет свое твердое нет всему, что является беззаконным, несправедливым, даже просто пошлым.
— Что это у тебя физиономия такая злая? — осведомляется Берю.
— А ты как бы выглядел на моем месте? Небось тоже вряд ли стал бы радоваться.
— На кой черт так убиваться?
— От этого становится легче.
— А, ну тогда валяй!
Мы бредем по кривым улочкам Кельбошибра.
— Куда мы идем, шеф? — спрашиваю я, чтобы отвлечься.
— В гараж, взять амблифийную машину, которую я заказал.
— Что это за амблифийная машина?
— Черт, ты что, не знаешь? Да не придуривайся, Сан-А. Это машина, которая ходит по воде как по земле!
— Ты имеешь в виду амфибию? — ухмыляюсь я.
Берю останавливается. Я знаю его физиономию в такие моменты. Он обычно краснеет, волосы на ушах топорщатся, глаза вылезают из орбит, он пыхтит, подыскивая слова, челюсть отваливается, и он сглатывает слюну.
— Послушай, — говорит он. — Не теряй чувство реальности. Я теперь босс, парень, и не стоит подрывать мой авторитет уроками французского языка. С этого момента французскому начну учить тебя я! Видишь разницу?
— Да нет, только слышу, Толстяк, — вздыхаю я, чтобы жалостью убить в нем его зарождающееся превосходство. — Слышу, но не вижу! Черт возьми, не вижу!
Он кладет мне руку на плечо.
— Заметь, я очень редко тебе говорю, чтобы ты вел себя со мной повежливей, и то лишь когда мы с глазу на глаз.
Я ошарашиваю его еще раз:
— Что ты мне все твердишь о глазах да о глазах, черт бы тебя побрал!
Он скрипит зубами.
Мы на дамбе…
Берю останавливает мотор, и сильный запах бензина вместе с выхлопными газами и пылью накрывает нас.
— Ну и что видно? — спрашиваю я.
— А видно то, что было сообщено, брат. Джип, броневик, пустое место и снова броневик.
— Меня интересует то место, где стоял грузовик. Давай-ка осмотрим следы и все такое.
Он многозначительно кашляет.
— Брось эту манеру командовать мной, — заявляет новый шеф. — Я сам соображу, что мне делать, пока я старший на операции.
Мне кажется, что из-за жары мания величия растопила ему мозги. Продвижение по службе происходит таким образом, что одни люди стремятся взобраться вверх по телам других с остервенением белки в колесе. Они лезут по этому колесу как по лестнице. И им, сукиным детям, кажется, что вверх. Болваны, они не понимают, что движутся по кругу. А сами уже кричат вам сверху «давай!». Стоит их чуть-чуть подождать, и они в конце концов упираются носом вам в задницу, не понимая, что происходит.
И я подтруниваю над ними, сам балансируя на шатком пятачке почвы руководителя. Я им говорю, что сначала нужно хоть чему-то научиться. Что они похожи на начальников перрона на вокзале. Что их скорее можно принять за шестерку шефа или за старшего заместителя этой шестерки. Ну и всякое такое в том же духе, но менее вежливое.
Примерно то же я говорю Берюрье. Но он отмахивается от всего.
Как шеф!
Стоицизм (а вернее, упертость) — это неотъемлемая часть психологии начальника.
Когда я умолкаю, он довольствуется тем, что произносит коротко и резко:
— Ну все, что ли?
И затем холодным тоном, несмотря на температуру окружающей среды и пот, застилающий глаза:
— Первым делом надо восстановить ситуацию. Я прошу вас, господин Сан-Антонио, как свидетеля, рассказать все, как было.
«А собственно, почему нет?» — говорит во мне здравый смысл. Затем он же, подумав, добавляет: «Заткни свою гордость в… поглубже, идиот! Берюрье имеет полное право. Ему действительно поручили тебя заменить, и не надо затруднять ему работу». Как это там твердили в разные времена великие военачальники, знаменитые полководцы, получившие ко всему прочему приличное военное образование? «Кто не умеет подчиняться, тот не может командовать!» Хороших начальников находят прежде всего в среде хороших подчиненных.
— Слушаюсь, господин старший инспектор! — гаркаю я.
И в краткой форме, четко, ни больше ни меньше, но расставляя акценты там, где я лично нахожу нужным, не забывая запятых, не говоря уже о точках, я воспроизвожу точную картину событий.
Толстяк слушает меня и одновременно жует не знаю что, но то, что он жует, хрустит. Время от времени, когда я перевожу дыхание в поисках кислорода, я слышу, как он выплевывает, видимо, что-то совсем уж несъедобное, поскольку в противном случае он сожрал бы все без остатка.
Когда я умолкаю, он задает мне вопрос.
У него появился авторитарный тон, у ведущего следствие начальника. Это неповторимый тон следователя, за который нас квалифицируют как дьявольское отродье. Все из-за того, что люди не разбираются в специфике нашей профессии. Они забывают, что мы барахтаемся в среде преступлений и пороков, и требуют от нас, чтобы мы плавали в этих нечистотах, как в бассейне с чистой, прозрачной водой. Нам нужно среди подонков отыскать честных граждан, а люди думают, будто мы всех считаем вонючими отбросами. А вы знаете средство, как действовать по-другому? Если мы будем применять обратный метод и исходить из того, что все люди невиновны, то мы не придем ни к какому результату. Зубной врач, проверяя ваши зубы, подозревает каждый зуб на наличие кариеса и действует абсолютно тем же методом, что и мы. Между прочим, никто и не думает обвинять его в предвзятости. Я пишу все эти тра-ля-ля специально для удовольствия моих коллег, которые очень часто обвиняют меня в том, что я якобы в своих опусах вытираю о них ноги. Надеюсь, что это короткое отступление им понравится и они проникнутся ко мне доверием, хотя, с другой стороны, на кой черт мне их доверие, ведь его даже на память в стол не положишь…
— Хм, хм?
Ах да, я говорил, что Берюрье меня как бы допрашивает.
Он говорит следующее:
— Господин Сам-Тонио…
— Сан-Антонио, — поправляю я.
— Извините, мне всегда тяжело сразу запомнить имена свидетелей. Значит, вы утверждаете, что все началось будто бы с раскатов грома?
— Так точно, господин интроспектор.
— Старший инспектор, если у вас не запершит в глотке произнести правильно.
— Ах, извините, мне всегда было трудно сразу запомнить полицейские чины.
— Так, хорошо. Значит, вы говорите, гром?
— Совершенно справедливо: гром!
— А молнии при этом были постоянными?
— Да. Через короткое время раскаты грома и следующая вспышка.
— Вот это самое, господин Ансан-Тонио, вы можете уточнить: через какое время?
— Примерно через минуту, генеральный инспектор!
— То есть, учитывая силу молний, вы утверждаете, что это была необычная гроза? То есть громовые раскаты, на ваш взгляд, должны были следовать быстрее?
Скажите пожалуйста, теперь Берю заделался физиком. Став начальником, стал способным сразу во всех отношениях.
— Вот именно, и речи не может быть о природной грозе.
— Постарайтесь пошевелить мозговой извилиной, господин Сан-Джинтоник, и вспомнить, не слышали ли вы кроме грома еще и шум мотора?
— Прошу вас принять во внимание, господин старший импровизатор, что я ехал в грузовике между двух бронетранспортеров, и в этом случае шум моторов бывает такой, что мало не покажется.
Опять пауза. Похоже, фантазиям Берю приходит конец. Во всяком случае, он стоит и обмахивается шляпой. Слабые дуновения в обволакивающем пекле доносятся и до меня.
Теряя способность мыслить, Толстяк вздыхает.
— Короче говоря, — заявляет он, — чтобы сформулировать свою мысль до конца, я нахожу только одно объяснение: вертолет большой мощности. Вы уверены и даже в какой-то степени утверждаете, что не слышали характерного стрекотанья вертолета?
Я подгребаю вперед в поисках мускулистого плеча старшего инспектора Берюрье. Мой инстинкт, помноженный на присущую мне удачу, позволяет обнаружить его очень быстро.
Найдя искомую точку опоры, я не пытаюсь перевернуть мир, но хочу отыскать лишь здравый смысл, что в некотором роде уже неплохо.
— Господин Замечательный Выдумщик, — заявляю я, — ваши объяснения так же никчемны и беспомощны, как пи-пи котенка. Сила звука и свечения была настолько велика, что она убила людей, а я ослеп, хотя и укрывался за огромной глыбой алмаза. Как же вы допускаете, мой милый, что экипаж вертолета выдержал этот феномен? Да их бы разнесло на куски в момент этого катаклизма.
— А может, они сбросили бомбу с высоты, господин Сайта-Клаус?
— Вертолет не может подняться на достаточную высоту, чтобы избежать ударной волны!
— А если бомба была снабжена парашютом, Сайта-Моника?
— Парашют замедляет падение, но не прерывает его, господин начальник городской гауптвахты. А грохот вместе со свечением были постоянными. Ты понимаешь слово «постоянный» или надо объяснять?
— Постоянно ты стараешься меня опустить, крот зловредный! — взрывается Берю. — Твои командирские замашки еще как-то проходили, когда у тебя были гляделки, поскольку их взгляд отражал твои сумасбродные идеи. Но теперь это становится невыносимым. Говорю тебе, что эти сукины дети сбросили бомбу, а может быть, даже несколько, цепочкой…
— Цепочкой?
— Ну связкой, серией, черт тебя дери! Они подождали, пока все будут в ауте, тогда спустили крюк, подхватили грузовик и унесли.
— Могу ли я позволить себе высказать одно нижайшее замечание, господин Страшный инквизитор? Тогда я находился в кузове грузовика, а теперь нахожусь здесь.
Толстяк хлопает челюстью, чтобы хоть как-то смазать иссохшую от чудовищной жары мельницу глупостей.
— Тогда, значит, какой-то хорек слез вместе с крюком на землю и зацепил грузовик. Тебя он выкинул из кузова, видя, что от тебя остался безжизненный каркас, а для них это был бы перевес багажа…
Все, я заканчиваю игру в свидетеля. Иначе у меня вывихнутся мозги.
— Послушай, Толстяк, обследуй-ка немножко болото, и справа и слева. Вдруг этот чертов грузовик где-то там.
— Спасательная бригада уже обследовала.
— А ты сам проверь…
Он вздыхает, берет меня за бицепс горячей рукой и ведет между машин к месту, где стоял грузовик.
— Вот, мы на месте, где был твой грузовик, мой принц!
— Отлично, — благодарю я, — и что ты видишь?
— Ничего, но так же четко, как вижу сейчас тебя.
— Вода тинистая и мутная, дна не видно, так?
— Подожди, не двигайся отсюда…
И он уходит. Я остаюсь один, впервые с тех пор, как ослеп. Ощущение, будто я на льдине, быстро тающей под ногами. Я боюсь пошевелиться. Все, что меня окружает, враждебно. Слышу, как Толстяк возится в какой-то машине. Затем что-то плюхается в воду.
Встревоженный этим обстоятельством, я кричу что есть силы:
— Александр-Бенуа!
— Не обкакайся с натуги, парень, — я здесь!
— Что ты там замышляешь?
— Измеряю глубину. Тут в одном бэтээре была веревка. Я привязал к концу гаечный ключ и бросил в воду. Подожди, сейчас вытяну… Ба, нет даже и метра глубины. Чтобы спрятать здесь грузовик, нужно было его сперва расплющить мощным прессом.
— А с другой стороны?
Раздается еще один плюх.
— То же самое, — доносится голос моего «шефа» через некоторое время. — Поверь мне, Сан-А, я вижу только единственное объяснение: это был очень мощный вертолет.
— Ладно, давай посоображаем…
— Валяй соображай! — великодушно разрешает мой новый шеф.
И он вновь принимается что-то грызть. Лязг челюстей, размалывающих какой-то продукт, мешает мне думать.
— Что ты жрешь? — не выдерживаю я.
— Какой-то местный фрукт, который мне продал на улице перед больницей тип, смахивающий на туземного целителя. Похоже на орех и, как он сказал, очень повышает мужские качества. — Он хихикает: — Посмотрим!
— Берю!
— Ну!
— Я допускаю твою гипотезу о крюке.
— А что тебе остается, брат. Мысль солидная.
— Но только грузовик — не утюг, его просто так не поднимешь. Кстати, должны остаться следы. И прежде всего пятна масла. Поищи-ка на земле.
Плуто выходит на охоту. Слышно, как его супернос нюхает дорогу со звуком пылесоса. Великий сыщик отплевывается и отфыркивается.
— Ага, есть! — вскрикивает Толстяк торжествующим голосом. — Есть! Кто первый увидел, спрашивается, а? Пятно масла больше коровьей кучи! Знаешь, что я еще скажу… На поверхности болота тянется след от масла. Он уходит в сторону, направо…
— То есть в западном направлении?
— Очень может быть. Я не слишком силен в определении запада. Север, юг — еще куда ни шло, это я найду быстро. Ну еще, наверное, восток, если постараться. Но с западом я всегда путаюсь. Скажу тебе честно: здесь у меня прокол!
— Слушай, старик, — говорю я, не теряя времени на сочувствие, — если мне не изменяет память, примерно в двух километрах отсюда дамба вместе с дорогой из-за оседания почвы опускается и идет практически на уровне воды, так?
— Точно, у тебя хорошая память.
— Давай поезжай туда задним ходом, а затем спускай нашу посудину на воду. Потом мы вернемся сюда по воде и ты поведешь амфибию через болото прямо по масляному следу.
— Как это?
— Ты поведешь по масляным пятнам на воде, понял?
— Не знаю, куда это может нас привести, — произносит в задумчивости начальник экспедиции, — может быть, и будут пятна еще метров двести, а потом закончатся.
— Дурачок, они не кончатся так быстро. В картере двигателя военного грузовика много масла, а грузовичок, между прочим, не первой свежести.
— Ну хорошо, а когда они потом подняли его себе в кабину…
— Это только тебе мерещится, будто можно запихнуть пятнадцатитонный грузовик в кабину вертолета. Ты думай все-таки! Какой такой мистический летательный аппарат может оторвать от земли этакую махину?
Мой друг произносит наконец вполне уместную реплику:
— Знаешь, ребята, способные воспроизвести конец света, найдут такие средства, что ты даже не можешь себе представить, Сан-А.
Мое замешательство продолжается лишь тысячную долю секунды.
— Понятно, но сам подумай: им нужно было что? Алмаз! А старый грузовик, как ты понимаешь, им не нужен… От него надо было избавиться. Они просто утащили все вместе, поскольку у них не было свободы маневра для разгрузки и погрузки такой глыбы на узком пространстве дамбы. И грузовик теперь наверняка где-то недалеко отсюда на твердой земле… Пустой, естественно.
— Тогда зачем им нужно было разыгрывать весь этот кошмарный спектакль, ждать ночи, пока вы тут появитесь на дамбе? Глыба-то находилась на твердой земле, пока вы не поехали…
— Мне кажется, я понял.
— Месье повезло.
— Они, понятное дело, хотели захватить камень, когда тот еще лежал на своем месте. Но чтобы провести удачную на все сто процентов операцию, им нужно было действовать ночью, внезапно. Не забудь, что у нас были пулеметы. А среди дня это еще большой вопрос, кто кого, так как мы бы реагировали по-другому.
— Так, хорошо, допустим. Ну а дальше?
— Я смотрю на это дело следующим образом, — начинаю я.
Фраза заставляет меня заледенеть. Надо обязательно исправлять свою лексику. Отбросить все эти «я вижу», «на первый взгляд», «я смотрю правде в глаза» и прочее. Кошмар, ужас!
Я хочу, чтобы меня кто-нибудь пожалел.
С другой стороны, действительно так: «я вижу», как происходили события.
Организованная банда узнает о существовании этого сказочного алмаза. Бандиты получают подтверждение, пытая тех, кто его обнаружил. Но когда они об этом узнают, уже слишком поздно, чтобы банально выкрасть камень. Минерал охраняется небольшой хорошо вооруженной армией наемников.
Банда решает отступить и изыскивает другие средства: нужно организоваться, провести разведку. На все это требуется время. И когда они прибывают на место ночью, то видят, что приехал я и мы свертываем лагерь. Попробуем восстановить события, как они происходили на самом деле… Страшные раскаты грома вдалеке, с которых все началось… Дорогие мои, я могу поспорить на деревянную башку вашего старшего сына против деревянной ноги моего воевавшего дедушки, что это было началом нападения на лагерь в Фиглиманджаре, поскольку бандиты думали, что мы все еще там. Включив адские прожекторы, они убеждаются, что нас уже нет. Бросаются в погоню, следуя над дамбой, и настигают нас.
Изложенная даже такому человеку, как Берюрье с его очень слабым воображением, моя гипотеза, по крайней мере, как мне сейчас кажется, вполне логична.
И он с ней соглашается.
— Признаю, ты, похоже, попал прямо в точку, — снисходительно оценивает мои усилия незаменимый компаньон. — Наверное, так оно и было.
И, сделав это признание, он снова принимается грызть свои орехи.
Глава (предположительно) шестая
Что сказала бы ваша теща, готовя во фритюрнице картошечку фри? Она сказала бы, что удельный вес масла меньше удельного веса воды, благодаря чему масло остается на поверхности. И это очень удобно, например, чтобы засечь место, где французские подводные лодки отважились пойти на погружение, а также где плавает косяк сардин рыбоконсервной компании «Амье».
В нашем случае этот метод также безошибочен. Во всяком случае, для такого морского волка, как Берюрье, лихим маневром плюхнувшего нашу амфибию в грязную воду болота, это детская забава, и он ведет непотопляемую посудину одним пальцем левой ноги. Наш корабль шныряет от одного пятна к другому, как утка на пруду. Его нос с шумным бульканьем прокладывает себе путь в густых зарослях болотных кувшинок. На воде, испускающей умопомрачительное зловоние, солнце жжет еще более немилосердно, чем на суше. Огромные комары с голодным брюхом осаждают нас, как мухи — помойное ведро. Прошу к столу, кушать подано! Мы для них что манна небесная!
— Ты все еще видишь пятна? — спрашиваю я занудным голосом.
Толстяк отвечает невнятно, но утвердительно.
Время от времени я слышу, как он лупит себя по морде, чтобы прихлопнуть очередного кровососа.
— Если вдуматься хорошенько, — бормочет он недовольным голосом после некоторого периода напряженного молчания, — плавание в таком дерьме ни к чему нас толком не приведет. Ведь мы уже согласились, что эти сукины дети использовали какой-то летательный аппарат. С тех пор прошло два дня, а мы идем по их следу со скоростью десять километров в час, рискуя захлебнуться в этом болоте. Если кому рассказать, что мы делаем, нас точно засмеют.
В его размышлениях есть доля истины.
Как всегда, впрочем.
Александр-Бенуа Берюрье преломляет истину, как зеркало — солнечные лучи.
— Чем больше я над этим думаю, — говорю я, чтобы отвлечь его от нарастающих сомнений, — тем больше убеждаюсь, что они использовали транспортный самолет вертикального взлета.
Толстяк вздыхает.
— Знаешь, мне абсолютно наплевать, как они свистнули у вас из-под носа этот драгоценный камень: в руках унесли, на лошадях или на воздушном змее.
— Э-э, господин старший инспектор, волевые качества подводят? — хмыкаю я. — Мечтаем сбросить с себя начальственное бремя?
— В такой дыре, ты считаешь, можно долго протянуть, да? Ох, как умно, что мы дали независимость народу Дуркина-Лазо. Но черт возьми, какому правителю взбрела в голову идиотская мысль завоевать такую кошмарную страну? На что они рассчитывали? Выращивать кровососущих паразитов?
— Аппетиты территориальных завоеваний нацелены не на качество завоеванной земли, Берю, а на ее количество. В течение долгих веков человек думал, что пространство означает мощь, в то время как на самом деле это источник слабости. Счастливые народы не имеют истории колонизаторских войн, но зато у них есть хорошо набитые сейфы.
— Земля! — вскрикивает голосом потерпевшего кораблекрушение несчастный Берю, который, я думаю, не успел в полной мере прочувствовать всю глубину (неоспоримую) текста предыдущего абзаца.
— Что — земля?
— Прямо по курсу вижу остров, если ориентироваться по носу посудины, хотя, если честно, не пойму, где здесь нос, а где корма, но, наверное, корма там, где рули. Так вот, значит, получается, что остров перед нами справа. Но еще далеко. На нем деревья. Может, и невысокие, но тем не менее они отбрасывают тень… Как мы сами до сих пор копыта не отбросили?.. По мне сейчас лучше тень от дерева, чем плоды с него…
— А что с масляными пятнами?
— Их все меньше. Наверное, масло в картере заканчивается. Ну, так что делаем… а?
— Курс на остров, малыш!
— Есть — держать курс на остров! — кричит капитан. — Небольшая сиеста, когда можно вздремнуть, а то и задрыхнуть, мне бы как раз не помешала. Вперед, в живительную тень! Знаешь, когда я вернусь в Париж, я все выходные дни проведу у себя в подвале, чтобы охладить внутренности. У меня там прохладно и такая библиотека, — первый сорт! Книги, брат, — все в коже, есть все, что пожелаешь: некоторые взяты из библиотек Шато-Шалона, потом несколько томов из разных городов на Роне, ну и кое-что еще. Однажды я уже отлеживался там: после сильного гриппа доктор мне прописал покой и тишину, а Берта уехала со своим Альфредом. Тогда я прогоняю все дурные мысли и — хоп! Что ты думаешь, я делаю? Беру раскладушку — ив погреб. Ставлю жаровню, чтобы жарить сосиски, и три дня дрыхну в полное свое удовольствие… Твою мать, держись, сейчас врежемся!
И действительно, наша посудина врезается в глинистую отмель, как термометр промеж толстых ягодиц. Александр-Бенуа переключает трансмиссию, но колеса буксуют. Корабль мягко погружается. Берю дает полный газ, и я получаю несколько порций вонючей жижи прямо в физиономию. Толстяк крестит все на свете, что твой кафедральный собор в Реймсе.
— Мы в дерьме по самые уши! — удовлетворенно комментирует он. — Слава Богу, к нам идет народ.
— Что за народ?
— Местные! Наверное, туземцы. Ладно, не дергайся, сейчас попросим у них помощи! Э! Банания! — разносится колоритный бас моего друга. — На английском парле?
— Нет, но мы говорим по-французски, — отвечает такой же низкий голос.
— Не беда. Как-нибудь договоримся! — заявляет Берю. — Хватай веревку, ребята, и тяни что есть силы…
Сказано — сделано.
И вот мы на твердой земле, еще более скользкой, мерзкой и вонючей, чем под ногами ассенизатора, залезшего в выгребную яму, чтобы достать упавший туда бутерброд.
— И много их здесь? — тихо спрашиваю я у Толстяка.
— Хватает.
— Совершенно примитивное племя, я полагаю?
— Ты так думаешь? На них шмотки, что на каком лорде. Фланелевые брюки и рубашки с коротким рукавом и со значком крокодила. Но интересно другое: у каждого на спине написано его имя.
— Что, кроме шуток?
— Да я тебе сейчас прочту: Чучельник! Рационализатор! Дубильщик! Орлом! Почему орлом? На толчке, что ли?
— Да, действительно интересно… Весьма благодарны, господа, за ваши усилия, — говорю я, водя головой по кругу.
Веселое бормотание несется мне навстречу.
— Вы, очевидно, студенты университета из Кельбошибра на каникулах? — спрашиваю я, мило улыбаясь.
Аборигены начинают хихикать.
— Да нет, совсем нет, — отвечает тот же низкий голос. — Мы пастухи.
— А?
(Кстати, вы не представляете, как помогают романисту междометия типа «А!». Это дает возможность избежать повторов и максимально упрощает вопросы и всякие выкрики. Надо признать также, что «Нет?» и «Что?» тоже совершенно необходимый инструмент писателя.)
— Вы на острове, — отвечает все тот же голос, — где находится крокодилья ферма.
Кожевенный профсоюз Франции взял ее в аренду у Дуркина-Лазо для разведения этих животных, обеспечивающих кожей французскую промышленность.
— А, я понял! — ликует Берю. — Так вот почему столько одноногих в деревне!
— Да-да, так оно и есть, месье: это профессиональные калеки. Но спешу заметить, что согласно новому коллективному договору каждый из нас имеет право на получение искусственной ноги.
— А если вам откусят обе? — тревожится Берю.
— Случается и такое. Ну вот возьмите старика, который первым вас заметил. Он в рюкзаке за спиной своей жены. С ним, к сожалению, случилось такое несчастье. Если вам по недосмотру откусывают обе ноги, то вторую ногу приходится покупать за свой счет. Что вы хотите, с тех пор как мы получили независимость, требовать больше не с кого… Не желаете ли посетить нашу ферму?
— При условии, что вы будете нам еще и рассказывать, — вздыхаю я, — так как я слепой.
Парень с низким голосом, видимо, очень добрый человек, поскольку тут же берет меня под руку.
— Не беспокойтесь, я вас проведу, — обещает он.
И буквально через десять шагов принимается за работу.
— Сейчас мы находимся рядом со стадом дамских сумочек, — говорит он. — Очень красивые животные, прекрасно откормленные.
— Сумка сумке рознь! — произносит другой голос, в котором слышится снобизм аристократических кварталов Парижа.
Мой гид с жаром отвечает:
— Удивляюсь, чего он своих не метит, этот малый!
— Кто это? — спрашиваю я.
— Пастух от фирмы «Гермес», страшный задавала! Так, а теперь мы перед стадом портфелей-дипломатов. Животные с более прочной кожей. Дальше стадо для обуви, некоторые их части более гибкие и с нежной кожей. А здесь стадо портфелей, которое сторожит бывший министр от радикал-социалистов того периода, когда мы еще имели представителей во французском парламенте.
— А что там за пруд? — любопытствует Берюрье.
Наш сопровождающий теряет теплоту в голосе.
— Ух, туда не стоит даже ходить, господа! Это стадо государственных универсальных магазинов. Вымирающая порода крокодилов с жабьей кожей. На них применяют метод подкожного впрыскивания расширяющегося полиэстера. Ну вот, господа, вы и познакомились с жизнью наших островов.
— Так их несколько? — живо интересуюсь я.
— Два. Сейчас вы на острове Атор. А в двух километрах отсюда в южном направлении расположен остров Алиг, где наши коллеги пигмеи разводят ящериц.
— Как вам тут живется? — рокочет Берю.
— Великолепно.
— И комары вас не жрут?
— Не очень. Ведь мы выписываем одежду в лучших фирменных магазинах… Ну хорошо, а теперь разрешите пригласить вас ко мне отведать крокодильи яйца вкрутую. Сейчас по телевидению начнется трансляция матча между гигантами-кузнечиками Дуркина-Лазо и Умонкю, и я не хотел бы его пропустить.
— Очень мило с вашей стороны, — благодарю я. — Мы из состава следственной комиссии, которой поручено расследовать события позапрошлой ночи. Вы, должно быть, в курсе дела?
Он, похоже, подпрыгивает.
— Как же я могу не знать о кошмаре той ночи, господа? Она меня чуть не разорила!
— Чуть не разорила?
— У шести моих лучших крокодилов от страха образовалась гусиная кожа, и теперь я буду вынужден продавать ее как страусиную. Это было ужасно! Вы не можете себе представить!
— Не, — мычит Берю, — он может!
Но крокодилий плантатор, не обращая внимания, продолжает:
— Вначале мы подумали, что это буря, и очень удивились. Потрясающая буря… Слепящие вспышки разрывали небо. Из-за страшного грохота у нас из ушей пошла кровь. Безумие, господа! Апокалипсис!
Берю тихо шепчет мне на ухо, что господин перекрестился наоборот, поскольку, как вы прекрасно знаете, дуркинцы, как и все арабы, пишут справа налево.
— А кроме этих странных вещей, дорогой месье, — спрашиваю я, — вы не заметили ничего такого, что сопровождало этот феномен?
— Да, заметил, и все мои товарищи крокодильщики тоже…
— Что вы заметили?
— Снаряд огромных размеров в небе. Он не был похож на летающую тарелку, это была летающая сигара. Снизу он был освещен и передвигался бесшумно или почти бесшумно. Очень тихое, еле слышное тарахтенье, как сказал мой друг Канигу.
— Вы уверены, что это был не самолет?
— Абсолютно уверен. Это был внеземной аппарат.
Черт бы его побрал, похоже, этот парень сильно развит для крокодильего пастуха. Я делаю ему комплимент по поводу его эрудиции, и он от души смеется.
— Я самоучка, месье, — заявляет он. — Знаете, дни длинные, пока наши крокодильи стада пережидают сезон дождей. И я, чтобы как-то убить время, выписал себе всякие общественно-политические журналы и читаю их на досуге. Знаете, теперь до меня стало доходить, что в принципе хотят сказать некоторые авторы передовиц.
— Дорогой друг, — говорю я ему, — вы, я думаю, сильно заблуждаетесь относительно внеземного аппарата. Не могли бы вы нам сказать, в какую сторону направлялся этот летающий монстр?
— Он летел прямо к морю, — быстро отвечает наш любезный туземец. — Во всяком случае, в направлении нашего рыбного порта Мекуйанбар.
Я пытаюсь блеснуть своими географическими познаниями:
— Мекуйанбар — это новое название бывшего порта Фор-де-Кафе, так?
— Правильно.
— Этот город — самая засушливая точка на земле, если мне не изменяет память?
— Совершенно верно. Гидрометрические исследования показывают, что влажность в этом районе практически равна нулю, — докладывает наш ученый туземец. — Один миллиметр осадков каждые восемьсот пятьдесят три года согласно последним статистическим данным.
— А как туда попасть кратчайшим путем?
— По прямой! Повернете налево, пройдете холмы острова Алиг и увидите западную точку на горизонте в виде засечки топором. Это там!
— Сколько времени нужно, чтобы туда добраться?
— Пешком — три года, а на вашей машине — полдня.
Мы горячо благодарим этого обстоятельного человека, спрашиваем номер его почтового ящика и обещаем прислать почтовую открытку с видом Эйфелевой башни, как только приедем в Париж.
Он оказал нам совершенно неоценимую услугу.
Глава (теоретически) седьмая
Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь бывать в Мекуйанбаре.
Но скорее нет, поскольку ваши головы заняты другим. Все вы авантюристы Коста-Брава, Магелланы Лазурного берега! Первооткрыватели оборудованных туалетами пляжей и морских купален на Адриатике. Если у вас под боком не будет тенистых пальмовых аллей и ресторанов с разнообразной кухней и большим выбором напитков, вы не станете рисковать. Ваше воображение забито картинками Кодака, сограждане мои. На фотографиях, оставшихся от вашего отпуска, всегда есть ваше изображение на фоне памятника какому-нибудь мертвецу или просто скатерти в клеточку. Или вообще ничего. Я вспоминаю, как однажды, отдыхая в Санта-Крузе на Тенерифе, городе старинных построек в стиле барокко, я наблюдал за одной парой тевтонских туристов… Канарские острова, удивительное дело, — если когда-нибудь понадобится уничтожить половину населения Германии, достаточно бросить водородную бомбу на Канары в период между Рождеством и Новым годом. Короче, мои фрицы постоянно снимали друг друга фотоаппаратом. И знаете, что они выбрали в качестве фона? Белую стену! Вы слышите меня? Высокую ослепительную стену! Клянусь вам! Вот вам и фотографии на память! Великолепное путешествие по сказочным островам! Посмотришь, и есть что вспомнить! Мамаша Грета розового поросячьего цвета в штанах-бермудах и цветастой рубашке, в широкой соломенной шляпе и солнечных очках со стеклами двадцать сантиметров в диаметре… И белая, чистая, как Пресвятая Дева, стена! Похожая на экран, на фоне которого немцы делали антропометрические замеры. Показывая фотографии своим друзьям из Франкфурта, они скажут: «Мы на Тенерифе!» И все! Мы на Тенерифе! О, чучела, они останутся верными себе и еврей глупости до конца! Своему мирку! Это уж обязательно! Своей собственной грязи! Вот мы в сортире! А вот мы умерли! Мы в натуре! Кошмар! Если бы они знали, как они отвратительны! Они протухли! Они воняют! Не успели умереть, как снаружи уже покрылись чернотой, будто бы их внутренности вылезли наружу! Тошнит, а? Я бы в жизни не смог привыкнуть к таким людям. Не знаю, куда деваться, чтобы их никогда не видеть. Стать отшельником? Согласен, но с кем? Чтобы хорошо себя чувствовать одному, нужно по меньшей мере раздвоиться. А если ты совсем один, ты уже больше не один. Есть ты! Ты себе составляешь компанию. В то время как с кем-то еще ты фатально отсутствуешь, выброшен! Тот, другой, выгонит тебя и не сможет тебя заменить.
Где-то часам к пяти вечера мы приезжаем в порт Мекуйанбар.
О, удивительный город! Он невидимый!
Как уверяет Берю. Мираж наоборот. Мираж — то, что видишь, а на самом деле этого нет. А здесь ты ничего не видишь, а оно существует! Дома целиком под землей — из-за жары. И никаких признаков жизни. А как определить, где ты? Ни названий улиц, ни номеров домов, нет даже подставок для тентов. Очень мало людей на поверхности. Они медленно шествуют под белыми зонтиками по им одним ведомым проходам между невидимыми строениями. Естественно, что как только мы вошли, мы тут же попали на заметку полиции. Негр, укрывшийся под широкой фуражкой, свистит нам! Мы останавливаемся. Он приближается ленивой походкой. Как комментирует Берю, полицейский смотрит на нас дурным глазом и его рот похож на пару боксерских перчаток, висящих на гвозде.
— Вас это забавляет? — ошарашивает он нас.
— Что именно?
— Вы идете по крыше префектуры полиции!
Мы ему объясняем, что нас вроде как бы черт попутал, но полицейский сухо выносит вердикт:
— С вас сто бананов штрафа!
Мы начинаем доказывать свою невиновность.
— Мы не отсюда, господин полицейский!
— Какие доказательства?
— Вот наши документы, держите!
— Я не умею читать…
— Ну тогда цвет кожи. Если вы посмотрите на нас внимательно, то убедитесь, что мы белые.
— Я дальтоник.
Черт возьми, с ними решительно невозможно договориться, с полицейскими Мекуйанбара.
И тут мне приходит в башку идея.
— Мы ваши коллеги, дорогой друг. Проводим расследование относительно сигары, пролетевшей две ночи назад. Вы, должно быть, слышали о ней, поскольку полиция знает все. Назначена премия в тысячу бананов за предоставленные сведения.
Тут я слышу, как негр круто меняет отношение. Он кипит от радости и, похоже, даже подпрыгивает на месте и бьет копытом, потому что я начинаю чихать из-за поднявшейся сухой пыли.
— Тысяча бананов! — восклицает он.
— И ни штукой меньше.
— Вам повезло, что вы наткнулись на меня! Я все видел!
— Вы были на дежурстве в ту ночь?
— Нет, я занимался морским разбоем.
— Как это так — вы занимались разбоем, дорогой наш уважаемый коллега?
— Мой брат и я занимаемся им частным образом. Понимаете, у нас есть дом на холме. Хоть он подземный, как и все, но окна выходят на море, с широким обзором, видно всю округу. Ночью я и мой брат по очереди зажигаем прожектор, имитируя маяк Мекуйанбара, который не работает, но указан на всех морских картах. И многие корабли клюют на уловку, понимаете? Они пытаются нас обойти, попадают прямо на скалы — и вдребезги! Как только очередной корабль идет ко дну, мы спускаем на воду лодку и идем подбирать мебель, которая плавает на поверхности, чтобы потом продать антиквару с улицы Жакоб в Париже, специализирующемуся на судовой мебели. Лучше всего, когда тонет английский пароход. Я имею в виду стиль. В прошлом месяце мы выловили очень красивый комод конца восемнадцатого века.
— И значит, вы разбойничали в ту ночь, когда пролетела неопознанная летающая машина? — перебиваю я его.
— Да. Но сначала поклянитесь, что вы отдадите мне премию!
— Конечно, парень, — я же тебе сказал! — горячится Берю. — Тысячу бананов, считай, что ты их уже жрешь! Не волнуйся, рассказывай!
Флик сглатывает слюну.
— Ну вот, значит, верчу я ложный маяк. И вдруг вижу на небе…
— Что-то вроде сигары с огнями? — подсказывает Берю.
Наш собеседник решает надуться.
— Если ты все знаешь, иди получи свою премию и не приставай к людям! — чеканит он.
— Продолжайте, продолжайте, мой друг! — говорю я, сдерживаясь. — Нас интересуют любые подробности.
Полицейский-разбойник успокаивается.
— Да-а, толстая сигара, огромная. Вся в огнях… Она пришла со стороны болот и, похоже, собиралась пересечь море. А потом остановилась — там, далеко, над водой.
— Что, совсем остановилась? — осведомляюсь я.
— Ну да, совсем-совсем.
— Надолго?
— Примерно три закипания воды в кастрюле.
(Тут следует отметить, что, как мы тогда узнали, в Дуркина-Лазо нет часов и население в качестве единицы измерения использует отрезок времени с момента наполнения кастрюли литром холодной воды до появления пузырьков при закипании. Очень оригинально!)
— И что, он потом опять полетел?
— Нет, он взорвался.
— Взорвался?
— С жутким грохотом. Все небо осветилось диким пламенем. Потом горящий шар упал в море и утонул.
— Да, старина, — бурчит Александр-Бенуа, — пикантнейшая историйка, не находишь? Летающий шар взрывается после того, как устроил небольшую репетицию конца света. Больше похоже на сказку Перро, которую плохо переварили и, не поняв, отрыгнули.
— Нам нужно узнать как можно больше, Толстяк.
Он набрасывается на полицейского:
— Скажите-ка, дорогой коллега, не могли бы вы нам достать лодку?
Тот соображает.
— Гм, трудно.
— Но Мекуйанбар все-таки порт, насколько я знаю?
— Я не утверждал обратного, — гнет свое коллега, — но лодок очень мало.
— Вы же только что сказали, что у вас и вашего брата есть лодка, чтобы собирать мебель с кораблей?
— Мы ее вытащили на берег, но пока не отремонтировали. В ту ночь у нас было происшествие: маяк Мекуйанбара вдруг заработал, а мы подумали, что это наш ложный, и врезались прямо в рифы.
Он утробно вздыхает.
— Дадите еще пятьсот бананов сверху, если я вам найду лодку?
— Обязательно.
— Хорошо, тогда идите к моему брату, он все устроит. Видите холм там справа?
— Вижу, — отвечает за нас обоих Берю.
— Наверху ничего нет, так?
— Да, ничего!
— Это наш дом. Но не перепутайте, потому что там рядом еще один, колдуна. У нас на доме — знак рака, а у Тампукту номер девяносто шесть. Мое дежурство заканчивается только через одно закипание бельевого бака, так что я не могу с вами пойти.
— Это здесь, — объявляет Толстяк, останавливаясь.
Хотя мы поднялись на некоторую высоту, нет ни малейшего дуновения, чтобы освежить наши обожженные физиономии. Везде страшное пекло, исходящее от моря, как от парной бани.
— Что видно? — спрашиваю я.
— Тут вроде написан номер шестьдесят девять, прямо на асфальте, если смотреть с этой стороны.
— А дверь?
— Не вижу, но из земли торчит кусок трубы. Думаю, что-то вроде переговорного устройства. Постой! Есть кто-нибудь? — кричит в трубу Толстяк.
Впечатление такое, будто он орет в Альпах.
Но крик не производит эффекта.
— Никого, — делает он вывод из этого молчания. — Должно быть, это не домофон. Но тогда, значит, труба канализации, что мне вполне подходит, так как у меня лопается мочевой пузырь. Не хочешь присоединиться?
И тут же после этих слов я слышу громкое журчание неудержимого потока.
Но прежде чем он заканчивает облегчаться, до моих ушей доносятся страшные угрозы и проклятья. Тонкий голосок вертится вокруг меня, как потревоженный шершень.
— Окапи! Мангусты! Свиньи! — надрывается писклявый голосок, принадлежащий, как я подозреваю, колдуну, о котором упоминал наш друг морской разбойник, он же полицейский.
Нашему вниманию представлен целый список названий всех возможных и невозможных представителей животного мира.
— В мой фу-фу! Он писать в мой фуфу! — задыхается жертва недержания мочи у моего друга Берю.
— Что это такое — «твой фу-фу»? — обрывает концерт Толстяк.
— Это мой выхлоп! — отвечает несчастный. — Кто тебе разрешил мочиться в мою трубу, а, скажи, зебу, гремучая змея, навозный жук!
— Послушай, папаша, — парирует Берю, пытаясь оправдаться, — сам ты старый пигмей! Я не могу себе позволить дать тебе затрещину, но знай: будь ты сантиметров на пятьдесят больше и лет на пятьдесят меньше, я бы тебе сейчас так врезал, что ты проглотил бы все свои оставшиеся зубы вместе с мостами.
Гном прекращает шаманскую пляску и затыкается.
Нас вдруг окружает звенящая тишина. Слышно лишь прерывистое дыхание старичка. Затем он снова вскрикивает голосом, похожим на звук, который издает хлебный нож, когда им скоблят железную трубу.
— Куси Куса! Мели Мело!
— Какой ужас! — слышу я женский голос.
Но это я так думаю, потому что в реальности я слышу что-то типа «какой ужаш».
Интересно, кто это еще?
Ответ не заставляет себя ждать. Берю объясняет мне своим верхним каналом (несудоходным), что из-под земли выскочила женщина, молодая, черная, красивая. Но у моего восторженного друга это звучит как «ужасно красивая».
— Он навел на вас проклятье бракпаф, — щебечет она.
— А что оно означает?
— Он вас сглазил. Вы импотент! — журчит женский голосок. — Ваш секс в течение трех поколений будет инертным. Большой бракпаф ничем не снимается. Тампукту самый великий колдун в Дуркина-Лазо.
— Самый великий! Интересно, как выглядят остальные? — хрюкает Берю. — Видел бы ты этот мешок костей высотой метр десять. У него там что, радионуклеиды на пигментации? Или в башке гамма-излучение? Или антитела господина От-горшка-два-вершка источены жуком-долгоносиком? Он что, запутался в сравнениях с животными? Что ты молчишь, прыщ?
После такого невежливого обращения карманный колдун успокаивается и возвращается в свою нору, а мы поближе знакомимся с девушкой.
Она, между прочим, ни много ни мало, как третья жена брата нашего полицейского разбойника, который, будучи, по всей видимости, большим любителем женской ласки, владеет шестью женами. Мы говорим молодой особе, что пришли от имени брата ее мужа, и просим, чтобы она нас проводила в подземный дом своего полигамного супруга.
Дом состоит из двух объемных кондиционированных помещений. Одно, большое, где находится кухня и спят дамы, другое поменьше, отгороженное циновкой, где живут оба брата. Естественно, что обо всем мне рассказывает Берю, ставший заправским поводырем первого класса.
— Осторожно ставь башмаки, парень! Тут четырнадцать ступенек, одна коварнее другой. Входим во что-то типа передней. А может, в кухню. Вижу подобие печки. В глубине стоят кровати, нет, скорее, матрасы на козлах. Черт его знает! Ага, а здесь еще пять мамзелей. Одна старая, без волос и зубов, другая больше похожа на мулатку, еще толстушка, потом еще одна высокая, одета во все облегающее, и одна совсем девочка. Можно подумать, мы действуем на них, как на овец в стойле: смотри-ка, весь выводок жмется к стене! Уставились на нас, будто мы два Деда Мороза в плавках. Не хочу хвалиться, но все они смотрят на меня. Как у них глаза не выскочат, у кумушек! Какого черта они пялятся мне на штаны? Но что это, черт возьми? А я иду и не вижу!
— А в чем дело?
— Да в чем, в чем! Шакал, коротышка, колдун! Мать моя! Царица небесная! — громко причитает Толстяк. — Если бы ты видел, Сан-А, какая у меня штуковина отросла! Отродясь такого не видал, даже представить не мог, что такое возможно! О, Бог мой, бита! Бита! Что твоя дубина! Что она там болтала, эта девка, про колдуна? Якобы он у меня опадет на три поколения? Так все наоборот! Самое странное, что я ничего не почувствовал! Почему он так вырос? Как Эйфелева башня! Как же я проморгал? А, знаю, из-за чего так получилось! Я ведь обожрался этих фруктов, или как там, орехов, что купил на улице перед больницей! Что ж теперь делать с этим? Чертей глушить, точно, в самый раз! О, держите меня, джентльмены! Вот чем глубину мерить! Смотри-ка! Даже пуговицы на сутане оторвались! Но это же немыслимо! Ну вот, теперь я стал Его Величеством! А вот мой жезл! Или скипидар! Тьфу, скипетр! О, Боги, я не узнаю свой Пополь! Скажи, на кой хрен мне такое богатство? Реактивный снаряд чистой воды! Чего он так надулся? Что в нем внутри? А если он взорвется? И он растет, парень! Мать твою, мне страшно! Бабы жмутся в угол! Боятся! Зубами стучат! Ой, мне тоже страшно! Мороз по коже! А чего они так испугались? Не видели такого? Вот вам и засуха! Что глаза вылупили? А если мне пригласить одну из них на партию в кегли? Вон ту толстушку? Она мне напоминает Берту. Скажи им, своим дурам, скажи им, что я совсем не страшный. Попроси жирную, пусть проявит гуманизм! Я буду ласковым! Все пойдет, как по маслу! Да что там масло — целый жбан масла! Но мне этот баобаб нужно срочно пускать в ход! Все горит внутри! А ну, толстуха, за дело, а не то я тебе, стерва! Может, заткнешься, а, треска? Что ты орешь, как дура? Видишь, я с тобой разговариваю нежно, терпеливо! Закрой рот, а не то убью! Не видела никогда мужчину, что ли, в апофеозе? Птичка, это надо рассматривать как праздник! Ты что, с ума спятила, так ногами размахивать! Не видишь, мужчина встал во весь рост в твою честь! Ладно, ты пока подожди, созрей, я старушкой займусь — ей, видишь, не терпится! Ну и рожа! Может быть, даже хорошо — по крайней мере отвлекусь! Она ведь не с последним дождем выпала, гренд маза! С тобой ведь небось за последние сто лет такого не случалось, а, бабуля? Ладно, молчи, карга старая! Тебе, видно, не терпится включить после стольких лет центральное отопление? Будешь жаловаться? Валяй жалуйся! Тут, древняя моя, Французская империя вновь во всей своей мощи!
Вот это сцена, друзья мои!
Безумие. Безумие!
Ах, как жаль, что я не могу видеть! Но на слух тоже потрясающе! Не правда ли? Словом, я переживаю грандиозный спектакль!
Я представляю себе эту сцену. Радиоспектакль! Ничего не видно, но все понятно. Голоса актеров, их реплики, шум, все говорит!
Остальные женщины кричат, жалуются, умоляют, гнусят, хнычут, ругают, грозят. Они полностью терроризированы Берю! Толстяк в полном своем великолепии!
Он внушает страх, ужас!
Он выходит из себя! Из своих штанов!
Берю потерял контроль над своей империей чувств. Третья жена, которая привела нас сюда, среди этого шума рассказывает о том, что сделал с Берюрье старик-колдун. Какую порчу на него навел! Они в панике, голубушки! Престиж старого пачкуна тает на глазах, как редкий снег в Сахаре. Он теряет лицо, доверие к нему улетучивается. Его судьбу в стране не трудно предугадать. Ему конец! Его сотрут в порошок! Дни его сочтены!
Но вернемся к нашему Берю. Похоже, старый башмак пришелся впору прекрасной ноге нашего Толстяка. Ноге во всей красе! Ноге века!
Старушка мурлычет, как во времена своей весны. Она задыхается, будто в недалекой предсмертной агонии.
Другие дамы совершенно повержены. Они умолкают. Я слышу, как они сглатывают слюну, тихо переговариваются. Их речь в основном состоит из междометий.
— Он ужасен! — говорит одна.
— Но, кажется, очень даже неплохо! — отвечает другая.
— Наоборот! — заявляет третья (совсем молоденькая, судя по голосу).
Берю с остервенением продолжает стругать дальше. Только щепки летят!
Я слышу его дыхание, скрип во всем доме, уханье старушки. Не знаю, где он, но тряска, как при землетрясении. Что-то падет, что-то разбивается, но никто не обращает внимания на такие пустяки. От потрясающего зрелища у всех сперло дыхание.
Наконец последние конвульсии сотрясают дом, так что осыпается пыль с потолка.
— Уф! Счет открыт! — заявляет Берю. — Смотри, песок из нее сыплется, но ничего карга, еще будь-будь! У нее, видно, ревматизм — плохо двигается! Или мерзнет от старости! Нужно было в пальто завернуть бабусю! Так, чья очередь? Ага, наверное, той плутовки, что показывала нам дом! Иди-ка посмотри на порчу твоего старика-колдуна, любовь моя! Черт с ним, о нем больше не будем! Иди сюда, ну не мед ли, а? Только что я сражался с бабушкой, а он все как новенький. Осторожно, не ушибись об него! Не повреди себя! Не спеши! Ох, какая ты горячая! У тебя, я смотрю, все в норме, и спереди, и сзади. По сравнению с бабусей, с которой я не знал, куда руки деть, ты — так просто божий дар! О господи, за что же ты наградил меня такой махиной? Ух, что это у тебя? Такая маленькая — а подарок судьбы! Фемина! Черная жемчужина! Расслабься, я все сделаю сам! У меня есть такт. Ты моя красавица! Ты прямо создана для длинных путешествий! Не сжимайся, а то будет больно! Прямо насквозь! Повторяй за мной: мы пилим мраморную глыбу. Пилим и пилим. Или вот еще: это праздник для души! Настоящая феерия! Торжество! А, красавица? Потом будешь детям рассказывать на ночь при свечах, как тебя дядя обслуживал. Делай так, чтобы запомнилось! Не колготись, я все знаю сам! Жизнь коротка, моя — длинна! Без паники, малышка! Я тут! Представляю, какую бурю ты сейчас устроишь! Ты красивая, знаешь? Шикарная, тебе очень идет быть негроидной!
И так далее. И так без конца!
Наконец и второй номер программы заканчивается. Но, похоже, что не заканчивается спектакль. Он продолжается! Очевидно, Берю в какой-то момент охватывает паника. Он стонет, рассматривая свое вечнозеленое растение, и зовет меня.
— Эй, Сан-А, что же со мной будет? Этак я всех покрою, а он даже не гнется! Как армированный бетон! Положи поперек доску, и два господина могут свободно качаться, как на качелях. Думаешь, у меня нервы расшатались? Как же прекратить такое солнцестояние? Может, холодной водой? Считаешь, поможет? Постой, я вижу ведро с водой. Обольем… Опустим в воду… Хорошая вода, холодная, как в Париже… Но черт возьми! Шипит, а результат — ноль! Я ничего не могу поделать с этим монстром! Вот чудовище! Слышишь стук? Это я не кулаком стучу по столу! Соображаешь? Это я им как обухом! Твою мать! Это что же, я навечно таким останусь? А как же на люди показаться? Да и вообще ходить, цепляться! Как же быть? Придется ремни надевать, блоком притягивать. Знаешь ремни, как у грузчиков для переноски пианино? Без ортопедии никак — засмеют! Может, профессию сменить? Стать вышибалой в ресторане или банке? Или открыть офис по обслуживанию старых дам, вдов, богатых баб — сам разбогатею! Я бы смог пропустить штук двадцать в день. Даже если по десять, все равно состояние сколотишь быстро. Как думаешь? А Берта будет двери открывать. Тут есть над чем пораскинуть мозгами, а, Сан-А? Или, например, поехать в Данию и там выставляться напоказ в ночных шоу. Они там любят всякие глупости — деньги так и польются рекой! А со своей махиной я быстро стану звездой эстрады. Возьму себе импресарио. Сначала на сцене в свете прожекторов, а затем по дюжине принцесс в день на койке — чистый навар себе в карман. Публика зайдется в восторге! Невиданное дело! Между прочим, и для Франции слава! Престиж! На афише будет написано: «Француз Берюрье!» Ни в одной стране такого нет, а во Франции есть. Скромный парень, бывший флик, принес славу Франции! А, звучит? Я, между прочим, все болтаю и болтаю, а у меня вновь закипает. Что же это такое, братцы? Объясните мне! Ладно, пора выбирать себе новую партнершу! Так, какую? А, ну давай вот эту, длинную, худую! Правда у нее немного с глазами не того, выпучились, а что ж дальше-то получится? У меня есть совесть, в конце концов. Лучше уж возьму мулатку. Немного кофе с молоком поможет развеяться. Хоть бы помогло! Эх, клянусь, если бы Альфред меня видел в этот момент, он бы к моей старушке больше не подкатывался. У-у, старый козел! Во всяком случае, Берта в его сторону теперь бы и не посмотрела!
Глава (в действительности) восьмая
Все шесть дам под одну гребенку (но какую!). И как по маслу! Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я говорю чистую правду?
Ну, Берю! Ну, мастак!
Мастер-долбежник высшего разряда!
Сверхзвуковой пневматический отбойник супер-модерн! Всю конюшню ввел в экстаз. Он дал возможность дамам-затворницам обнаружить в себе свойства, о которых они даже не подозревали. Инвестиции — напор — результат! Работа так работа — с полной отдачей, и никаких послаблений.
В одном и том же режиме! Большому кораблю — большое плавание!
— Я никогда не освобожусь от этой напасти! — гундосит он. — Я никогда не выздоровлю! Если бы ты видел эту удочку, Сан-А! Как же в таком виде на улицу выходить? Придется смастерить специальный обтекатель. Я похож на рыцаря перед турниром! Куда его привязывать? Посмотри, я ведь поработал со всеми шестью, а он — как ни в чем не бывало! Ну что это, будто олимпийский факел! Привяжу наше трехцветное знамя, как к древку, и буду ходить в колонне ветеранов, чтобы было не так заметно. Выйду на Елисейские поля — полицейские будут честь мне отдавать!
Я пытаюсь принести мир в его растревоженную душу. Обычно таким образом успокаивают импотентов. Им строят всякие миражи, обещают лучшие времена, просят запастись терпением. Но здесь абсолютная противоположность. Мне приходится обещать Толстяку инертное завтра и гениталии мягкие, как потерянная перчатка. Полное атрофирование всего плотского. Но он слушает меня и не слышит. Иногда отчаяние охватывает его и он начинает молотить молотом по всему, что попадается под руку. Он хочет одного: уменьшиться в объеме. Всю его гордость как рукой сняло. Он готов превратиться в стоптанный башмак. Заметьте, что все мужчины так! Созданные для долгой серой рутины, они быстро устают от исключительного.
Появление истинного хозяина этих черных девочек привносит некоторое разнообразие.
У Али — так зовут их мужа — сухой трескучий голос.
Берю информирует меня, что, когда тот замечает нижний этаж моего друга, у него отваливается нижняя челюсть. Его черные глаза навыкате выкатываются, а потом закатываются. Я говорю ему, кто мы, рассказываю о нашей встрече с его братом, а также о несчастном случае с Берю по причине поглощения возбуждающих орешков.
— О да, — смеется он, — этот фрукт для знатоков. Когда-то его давали евнухам, чтобы частично реанимировать. Но эффект был дня на три.
— Что? — гремит Берю. — Не думаете же вы, что я выкачусь на улицу с таким хозяйством? Прикажете три дня болтаться везде с таким отбойным молотком?
— По-моему, я придумал, — говорю я. — Мы привяжем к тебе здоровый ящик и просверлим там дыру.
Толстяка охватывает дикая злость.
— Ты, слепой, заткнись!
— Или вот еще что можно, — продолжаю я, не обращая внимания на его милую реплику, — найди себе партнера, будете изображать коня. Накроетесь тряпкой с дырками для глаз, а ты будешь его задней частью…
Его Величество намеревается ответить подобающим образом, но инцидент, возникший в семье, отвлекает нас. Али ругается из-за того, что женушки не приготовили ему жратву.
— На кой черт нужны шесть жен, если ты возвращаешься и не находишь, чего пошамать, — философствует он на повышенных тонах. — Я вас накажу: получите по тридцать ударов плетьми и лишаетесь любви на восемь дней!
Вы, очевидно, знаете, что мужья в Дуркина-Лазо имеют право на проучь и нетрахучь в отношении своих жен. Нет более покорных жен, чем в Дуркина-Лазо. Пассивность почти голлистская, смиренность, как у теста под ножом, почитание мужчины выше, чем уважение английской королевы к монетке в пятьдесят пенсов с ее собственным изображением. Жена в Дуркина-Лазо играет в семье разные роли, например, коврика для вытирания ног, козла отпущения, знахаря на все случаи жизни и бабушки в изгнании.
Но не забудьте, что Берюрье только что обслужил женскую роту по всем правилам.
И это круто поменяло ситуацию!
Вместо того чтобы услышать мольбы о пощаде, Али наталкивается на угрожающее рычание гиен. Друзья, это надо слышать! Я постараюсь описать вам эту сцену в двух словах (если получится). Одним словом, шипят все шесть. Как же они его поносят, своего мужа Али! И полным нулем! И несчастным болваном! Заявляют, что он им осточертел. Смеются над его возможностями. Орут, что он эгоист! Что вообще ничего не знает о технике! Издеваются над его слюнявыми объятиями! Не стесняясь нас, говорят о таких подробностях, что я не смею вам их передать. Например, бросают ему в лицо, что он ходит на их половину только два раза в неделю, а если учесть их количество, то получается, что каждой достается раз в три недели. Его упрекают в том, что он все делает так быстро, что они не успевают заметить, был ли он вообще, не говоря уже о номерах на бис. И этот хмырь еще собирается отделать их кнутом? Вздумал хныкать о жратве? Жрать ему подавай! Свинья, хуже некуда! Малярия! Сортирный тиран! Гнида!
Али пытается их успокоить, перехватить инициативу, но куда там!
Его толкают, бьют.
Он падает, они хватают его, пинают ногами, срывают одежду. Этого я видеть не могу, поскольку я слепой, и спрашиваю у Берю:
— Что они с ним делают?
— Они содрали с него портки, парень! Старуха схватила нож… Э-э! Стоп! Хватит! Разошлись, куклы! Только этого не хватает!
Он выходит вперед и пытается восстановить порядок в семье.
— Тебе повезло, что я здесь, — говорит он Али. — Иначе пришлось бы получать в социальном обеспечении помощь на всех своих милых жен, браток, хотя они тебе были бы больше не нужны! Надо сказать, что ты и правда не очень галантен. Если бы дамы попросили развод, я бы их понял. А вообще чего ты ждал? Поскольку вы теперь деколонизированы, так как указали на дверь французским гражданам и те отвалили в спешке с вашей священной земли, ты что, возомнил себя свободным? А, товарищ? Мы ушли, но остались ваши жены! Подождите, они еще о себе заявят! Бабы — вот настоящие колонисты! А ты, дурак, взял себе шесть! Если честно, то ты рискнул, Али! И что вы будете с ними делать, вы, полигамисты, когда они все приберут к рукам, как у нас? А, помоечник, я не могу себе представить, что у меня шесть Берт, и все мои! Лучше пусть меня отправят в контрацепционный лагерь, если на то пошло! Ладно, а теперь пошевеливайся, нам нужна лодка! Настоящая, которая плавает. Иди доставай, где хочешь! А я пока повторю нравоучения твоим непослушным женам, чтобы подавить их мятежный дух.
— Раааз… два! Раааз… два! — скандирует Берю.
Мы вдевятером, как одна команда, несемся по водной глади. Али где-то раздобыл пирогу и теперь вместе со своими усердными женами налегает на весла под командованием Берюрье. Похоже, девушки после сексуального раскрепощения гребут от всего сердца.
— Раааз… два! Раааз… два!
Мы выходим из залива. Я это чувствую все явственнее по волнам, которые колотят в корпус лодки все сильней и сильней.
— А ну резвей, красавицы, а ну поддай, милые! — кричит Толстяк. — Нужно обследовать море до ночи. Она в вашей проклятой дыре сваливается на голову так быстро, будто горшок с геранью. А ну живей! А ну давай: раааз… два! Раааз… два!
Время от времени Али осматривается. В ту злосчастную ночь, когда взорвался дирижабль, он тоже все видел и поэтому ведет нас к тому месту, где, по нашим подсчетам, должны остаться обрывки оболочки. Думаю, у него действительно большой опыт. По всей вероятности, его любимым героем должен быть Робинзон Крузо, построивший первый в истории пляжный курорт.
— Раааз… два! Раааз… два!
Запах пота смешивается с усиливающимся горьким, йодистым ароматом морской воды. Жарко так, что, кажется, сейчас вкрутую сварятся мозги. В этом регионе близость моря абсолютно не дает никакого ослабления постоянно высокой температуры. К вечеру так же жарко и душно, как днем. Мы как бы расплавляемся в огромной печи.
— Эти жены — почище мужиков! Мускулистые женщины! — говорит Берю. — Если б ты видел, как они работают бедрами… Знаешь, мне их будет не хватать! Пальма первенства по праву принадлежит самой молоденькой. Самая способная к любви. Такая чувственная, так движется — на ней божье благословение. Я бы с удовольствием взял ее с собой во Францию для ежедневных плотских утех (какой язык! — похоже, Берю не шутит). Представь, вдруг мне придется по гроб жизни ходить с такой ручкой от топора в ширинке? Кто будет мне пары спускать? Берта? Да она выдержит достоинства и побольше, но в том состоянии, как сейчас, даже с моей техникой и моим природным тактом я буду вынужден прозябать в ожидании. Эх, Сан-А, законная супруга, даже такая охочая, как моя толстуха, никогда не согласится идти мне навстречу каждые десять минут, хотя мой случай особый, клинический, и, следовательно, нуждается в лечении. Жены непонятливы! А я, значит, буду вынужден все время просить милости. У них свои дела — то по дому, то по магазинам, то к парикмахеру! Поначалу ей понравится, она будет согласна просто так, ради смеха, но потом ей осточертеет и начнется сплошная мука! Мое нынешнее состояние — это развлечение для воскресных дождливых дней. А на неделе полно всяких других дел. Жизнь-то ведь не только из этого состоит. Вроде как более важные занятия есть, беготня, работа, то да се! Словом, мне нужна квалифицированная безотказная ассистентка. Что-то вроде сиделки у постели. Чтобы знала свое дело и не артачилась. Чтобы по мановению пальца сразу — рраааз! Ноги вверх, как китайский болванчик! Короче, покладистая, чтобы следовала везде за мной по пятам. Ты ведь меня понимаешь? Как только у меня аппетит, — хоп! — и в ближайшие кусты, если мы за городом, или в первое же бистро, если приспичит в населенном пункте. Кратчайшим путем! Хоп! Хоп! Экспресс-метод! У меня есть один друг, он диабетик, так он должен делать себе уколы инсулина. Каждые шесть часов он сбрасывает портки и жена делает ему вливания. Она сопровождает его даже в сортир. Так иногда доходит прямо до скандала. Ее, видите ли, тошнит от вида шприца. Парень по этой причине скоро отбросит коньки! Хорошо еще, что у меня привилегированное положение благодаря работе в полиции — все по первому требованию! Удостоверение! Но не будешь же жене его все время показывать! Я собираюсь пойти к доктору Субирану, статьи которого я читал, пусть даст мне справку! Он должен меня понять… А ну давай, голубушки, шевелись! Не замедлять темп! Ра-ааз… два!.. В ритме единение! В единении сила! Раааз… два! Что я хотел еще сказать? А, вот… Эй! Али! Не хочешь продать мне одну из своих жен?
— Какую? — задыхаясь, спрашивает Али, явно заинтересовавшись вопросом.
— Самую молодую.
— Она самая дорогая, — затевает торговлю муж.
— Не выдрючивайся, сынок! — поучает Берю. — Я допускаю, у нее есть способности, но с ней придется ещё долго работать, доводить до совершенства. И потом, я не хочу тебя обидеть, но у нее же страшно худые ноги. Ты видел ее две сопли вместо ног? Как спички — страшно смотреть! Ее надо откормить, научить уму-разуму, словом, воспитывать! Не согласен? Одеть ее, между прочим. Ты ведь не будешь настаивать, что твое поголовье одето у мадам Шанель? Кроме того, убедительно прошу тебя повнимательней посмотреть на ее грудь. Она пока в той стадии, когда видны только обещания. Ты ведь не польстишься на десерт из двух половинок абрикоса. Я уж не говорю о том, что физиономия у нее глупая. Даже если забыть, что она дурнушка, все равно ты же не будешь утверждать, будто у нее на роже печать интеллекта! Если ее вывести в общество, то ее не перепутаешь с Франсуазой Саган — тут ты не будешь со мной спорить? Короче, за сколько ты мне ее отдашь?
— Тысяча бананов! — брякает, не подумав, супруг.
Толстяк крякает.
— Но Бог мой, что ты будешь делать со всей этой кучей? Бананы, как картофель, — это плохо для фигуры!
— Бананы — валюта страны! — заявляет многоразовый муж.
— А я всегда думал, что дуркинский франк ваша валюта!
— Нет, мы называем ее банан!
Его Величество обращается ко мне за помощью:
— А сколько это в пересчете на французский франк, тысяча бананов?
— Две тысячи!
Берю взрывается.
— Нет, Али, ты все-таки пожестикулируй серым веществом! Две тысячи за такую треску, которая ничего не стоит! Ее же всему надо учить, шлифовать! Девица за четыре су! Да у нее же зубов не хватает! Ну-ка, птичка, открой ротик! Покажи-ка своему шимпанзе, что у тебя зубы в шахматном порядке! Смотри, Али! Погляди в рот своей синьоре! Даже отсюда видно, что у нее прогалины! Не хватает не меньше шести штук, которые она с овсяной кашей съела. И это еще не все! Если у нее уже сейчас начали выпадать зубы, то скоро для нее придется разжевывать пищу и кормить через тряпочку! И такое вот счастье беззубое, кому придется вставлять полностью обе челюсти, ты хочешь продать за две тысячи франков? Не надо расшатывать мою нервную систему, а то лодка перевернется!
— Я назвал тебе цену в старых франках! — поправляюсь я.
Толстяк затыкается. Потом произносит на одном выдохе:
— Две тысячи старых франков… Ты хочешь сказать, двадцать новых?
— Да.
— Ты уверен?
— Абсолютно уверен.
У моего друга начинается одышка, как у слона, который гнался за своим соперником через всю саванну.
— Послушай, дорогой Али, — произносит он, еле сдерживая дыхание, — ты симпатичный парень, хорошо воспитанный и даже не такой черный для негра — мы договоримся! Назови разумную цену, и я возьму все шесть.
— Самую старую не отдам, — запальчиво отвечает Али, — это моя бабушка.
— Похоже на кувшинки! — говорит Берю.
— Это не кувшинки! — уверяет Али.
— Ну тогда водоросли?
— Нет, не водоросли…
Мы почти остановились. Пирога раскачивается на широких волнах.
— Черт возьми, что там такое? — нервничаю я.
— Резина! — отвечает морской разбойник. — Крепкая резина…
Он вылавливает из воды и протягивает мне кусок гладкого скользкого материала, похожего на ощупь на эмалированный унитаз.
— И что, много здесь этого?
— Полно!
— А куски все одинаковой величины?
— Нет, есть огромные:..
— Я, кажется, начинаю понимать, — заявляет Берю. — Ребята, это воздушный шар! Они летели на воздушном шаре или дирижабле. Но он по каким-то причинам взорвался, только я не знаю по каким.
— Соберите другие куски, — советую я. — Мы отправим их на экспертизу!
— На черта тебе эта экспертиза? Что она даст? — заносчиво возражает Толстяк.
— Имя производителя, а через него, если повезет, и имя покупателя.
Берю саркастически усмехается.
— Если хочешь знать мнение своего полновластного начальника, то слушай: я не думаю, что тебе что-нибудь даст имя покупателя, потому как он пошел на корм местным рыбам, когда баллон взорвался. Учитывая расстояние до берега, я очень удивлюсь, если окажется, что кто-то из пассажиров спасся вплавь. Особенно после того потрясения, что они испытали при падении. О, черт, угадай, что я обнаружил? Колесо, парень! Кажется, от грузовика… Как я и говорил! Понимаешь, их аппарат для репетиции конца света, видно, сломался, что-то взорвалось, и поэтому загорелся дирижабль. Все пошло ко дну. И в настоящее время прямо под нами лежит алмаз весом в тонну и показывает язык русалкам. Теперь слово за Кусто. Согласись, что для первого расследования я провел его блестяще, а? Буквально через несколько часов я, Берюрье, нашел добычу!
— Удача и гений твои спутники, Александр-Бенуа! Ты далеко пойдешь!
— Только вот, — начинает он озадаченно, — хоть бы у меня хобот немного уменьшился в размерах. Я все думаю, как предстану перед шефом с таким арбалетом, чтобы получать благодарности и поздравления. Ну ладно, посмотрим, ума мне не занимать, может, придумаю, как замаскировать свой Пополь в сквозняк.
Глава (фактически) девятая
Находка Толстяка, должно быть, подействовала на него чудодейственным образом (если бы ему еще и выздороветь от своей так называемой болезни) — во всяком случае, когда мы ввалились в кабинет шефа, он выглядел вполне нормально.
Но вначале Берю поехал к себе домой, натянул свой темный праздничный костюм (а заодно и жену), чтобы предстать перед боссом в несколько уменьшенном варианте. А, еще нужно подчеркнуть: он побрился! Немного брильянтина на остатки волос — и вот перед вами джентльмен, хоть сразу производи его в генералы. Единственные негармонично смотрящиеся мазки на этом парадном портрете — синяки на сытой и гладкой физиономии. Об этом я узнаю по удивленным восклицаниям шефа.
— Да вы, должно быть, дрались? — беспокоится шеф, указывая на кровоподтеки Толстяка.
— Пустое, господин директор, так, слегка повздорили, — уклончиво отвечает Берю.
— И с кем же вам пришлось драться, мой хороший?
— Пришлось схватиться с этими подлецами таможенниками Дуркина-Лазо по поводу нескольких пустяков, которые они отказывались выпустить из страны и не хотели оплатить мне стоимость и дорожные расходы, господин директор.
— А что вы хотели вывезти, Берюрье?
Толстяк напряженно думает, что сказать.
— Ну-у, пять женщин, которых я выкупил у их мужа за буханку хлеба, чтобы привезти во Францию, где рабочих рук не хватает, особенно когда они срочно нужны. Но эти болваны, едва научившись морщить лоб, вообразили, что стали умными, как только получили независимость. Вообразили себе, будто стали цивилизованными, раз просят паспорта на этих пять мартышек, родители которых еще недавно цеплялись хвостами за пальмы…
— Гм, Берюрье, да вы, я вижу, сегрегационист! — слегка журит шеф.
Толстяк вытягивается по стойке «смирно», глядя в лицо своего шефа (подчеркиваю, своего шефа, а не того, что скромно стоит в сторонке). Я не вижу, но слышу, как хрустят его пораженные артритом суставы.
— Есть немного, — не поняв, отвечает великолепный Берюрье на вопрос нашего еще более великолепного шефа. — Но, мне теперь удобнее, с тех пор как я стал носить специальный пояс.
Чуть раньше я уже успел доложить шефу о нашей морской прогулке и он дал команду специальной высокопрофессиональной группе водолазов, скрещенных с лягушками, выехать на место падения дирижабля и обследовать дно у побережья Мекуйанбара.
— Отличная работа, ребята! — говорит нам шеф. — Вы будете награждены по заслугам. Ходатайство о повышении Берюрье уже лежит на столе министра. Что касается вас, мой бедный друг…
Он шумно вздыхает.
С тех пор как я ослеп, я стал его «бедным другом». Скоро я стану «бедным стариной». Потом продвинусь выше и навсегда останусь «этим бедным Сан-Антонио».
— Что касается вас, мой бедный друг, то я с полным удовлетворением счастлив сообщить вам очень хорошую новость: вы будете награждены орденом Почетного легиона, не меньше! И еще, подождите, подождите… Лично президент республики наградит вас в своей резиденции в присутствии всех ваших товарищей. Ваше имя будет занесено в анналы и на долгие годы останется в наших сердцах как пример доблестного служения отечеству в качестве прекрасного полицейского.
«Аминь!» — срывается у меня с языка.
Слышно, как шеф от досады цокает языком. Будь ты хоть четырежды слепым или ясновидящим, но никак нельзя забываться и проявлять неуважение: он это ненавидит.
— Вы хотите высказать возражения, Сан-Антонио?
— Один-единственный вопрос, патрон!
— Слушаю вас, мой бедный друг.
— Если я правильно понял, то отныне меня ждет лишь неминуемая отставка, пенсия, награды — и конец карьере. Короче, для Сан-Антонио все в прошлом!
Шеф прокашливается. Понятно, что он переглядывается с Берюрье.
Я чувствую, что Берю ему что-то подсказывает мимикой.
Ясно одно: я начинаю действовать им на нервы.
Становлюсь обузой!
— Что вы хотите этим сказать, мой бедный старина?
Ага, что я вам говорил (см. чуть выше), а? Его «бедный старина». Уже! Окончательно…
— Я хочу сказать, что во мне больше не нуждаются. Я стал как бы портретом, желтеющим с каждым днем.
— Послушайте, мой бедный старина, вы должны понять, что после этого драматического события… У нас опасная профессия, и вы это знаете больше, чем кто-либо… Как же может человек, лишенный зрения, продолжать… э-э… Но успокойтесь. Вы останетесь у нас незаменимым техническим работником, с которым наши товарищи обязательно будут консультироваться по всяким трудным вопросам.
Я ударяю кулаком по его столу.
Во всяком случае, хочу это сделать. Но, к сожалению, я плохо рассчитал расстояние и моя рука рассекает пустоту. О, друзья, какое страшное испытание этот черный сумрак перед глазами! Я больше не выдержу.
— Патрон! — заявляю я. — Я хочу продолжать свою работу. Естественно, я понимаю, — что я инвалид. Но с помощью Берю и Пино я могу работать и быть полезным.
Шеф снова прокашливается.
— Но, понимаете, мой бедный Сан-Антонио…
Ну вот пожалуйста, приехали! Не правда ли, я «видел» точно? Буквально через несколько реплик я уже объявлен «бедным Сан-Антонио», и это навсегда.
— То, о чем вы просите, невозможно. Никогда еще в наших рядах не было…
— Слепого?
Берю решается вступить в разговор.
— Патрон, — говорит мой друг глухим, похоронным голосом, — если вы отправите в отставку Сан-А, то я также подаю заявление и ухожу, и, думаю, Пино тоже. Вместе мы откроем частное детективное агентство и набьем карманы деньгами. Сделаем себе имя, и никто через пару лет в Париже не вспомнит, что существует официальная полиция!
Тут уже вскипает патрон.
— Прошу вас, Берюрье! Как вы можете так говорить, когда ходатайство о вашем повышении находится на столе министра?
— Пусть там и остается! Он найдет, как его использовать, может, завернет в него яичную скорлупу от своего завтрака!
Но у шефа нет времени, чтобы впасть в бешенство, потому что горсть пуговиц от ширинки Берю летит ему прямо в физиономию.
Его Величество вскрикивает:
— Вот черт, моя повязка разорвалась, и все наружу, Сан-А! А ведь я его так старательно привязал к ноге брезентом!
Едва такси остановилось, как мой нос ловит запахи нашего сада. Аромат глициний и свежей земли, смешанный с легким душком перца и кервеля.
А еще я слышу меланхолическое журчание нашего маленького фонтанчика перед домом. Тяжело быть слепым, но я отлично помню и цвет воды, и пузырьки на поверхности. Все это навсегда запечатлелось в моей памяти.
Шофер благодарит за чаевые. Он выходит из машины и вытаскивает из багажника мой чемодан.
— Держите, месье.
Я протягиваю руку. Очевидно, слишком неловко. Но мне удается быстро найти его волосатую руку и ручку моего кожаного чемодана.
— О, извините, — заикается таксист, — я не заметил.
И мне вдруг приходит дельная мысль. Он ведь «не заметил». То есть то, что я слепой, не бросается в глаза. Это здорово. Сейчас при встрече с Фелицией я буду вести себя так, словно ничего не случилось. Я ведь хорошо знаю наш маленький дом! На какой высоте находится каждая ручка, место каждого кресла или стула, постоянно заворачивающийся угол ковра, ширину ступенек…
Я знаю все наизусть. У себя дома можно быть и слепым. Это похоже на спорт. Одно удовольствие…
Я толкаю калитку. Она немного скрипит. Гравий хрустит у меня под ногами. Здесь на полпути находится наш маленький фонтанчик с круглым бассейном, пахнущим осенним кладбищем. А вверху над головой живой навес из дикого, несколько чахлого винограда. На нем появляются рахитичные ягоды не крупнее бузины. Каждый год я стараюсь его есть, но он кислый и без мякоти, одна кожура. Даже птицы его не клюют. Иногда я пробовал его на вкус лишь потому, что мне он напоминает детство. У меня в некотором роде склонность к перемещениям в пространстве и времени.
— Антуан! — слышу я голос Фелиции с порога нашего дома.
Я говорю себе: «Давай, пора играть свою роль, которую ты задумал. Решительно, непринужденно, смело!»
— Здравствуй, мама!
Еще шесть шагов. Я чувствую металлический коврик под ногами. У нас два коврика для ног. Один из металлической сетки, как скребок. Второй волосяной, чтобы тщательно вытирать обувь. Я доверяю памяти, доведенной до автоматизма. Только не думать о положении вещей. Когда ведешь машину, маневрируешь машинально. Ты же не говоришь себе: здесь я перейду на вторую скорость. Ты просто делаешь. Подсознательно ты тормозишь, включаешь указатель поворота, прижимаешься вправо. Да, но сейчас мне нужно думать о другом. Запах Фелиции. Тепло ее дыхания. Я прекрасно знаю, на какой высоте находятся ее плечи. Я обнимаю ее за шею. Я ее целую. После чего, как всегда при наших встречах, тыкаюсь носом в ее седые волосы на висках. Мы как два животных, маман и я, когда встречаемся. Жеребенок и его мать-кобылица. Нужно друг о друга потереться. Это как убежище, норка! Я чую носом запах новой ткани.
— Смотри-ка, у тебя новое платье?
— Да, мадам Фреми привезла его вчера вечером. Зачем я его надела сегодня утром? Наверное, почувствовала, что ты приедешь.
— Конечно же, почувствовала!
— Оно тебе нравится?
Я немного отклоняюсь назад. Делаю вид, будто оглядываю ее с ног до головы.
— Отлично сидит.
— Ты не находишь, что оно слишком яркое?
— Ничего не яркое, маман. Почему ты все время стремишься одеться в темное?
— В моем возрасте…
— Вот именно! Оставь темное молодым.
Мы входим в дом.
Магия запахов… Я стремглав несусь в кухню. Поднимаю крышку кастрюли. Я «смотрю».
— Ух ты! Об этом можно было только мечтать! Что тут у нас замышляется, мама? Кролик в белом вине!
В некотором роде мое поведение напоминает игру в горячо-холодно. Я играю, чтобы мать поверила, будто я вижу. Думаете, мне долго удастся водить ее за нос? Всегда случается какая-нибудь глупая промашка, и все насмарку! Именно тогда, когда меньше всего ждешь!
— Моя двоюродная сестра из Шамбери прислала письмо. Прочти, оно приколото на календаре.
Я иду и беру его в руки. Ни одного неверного движения.
Мои руки все делают мягко, быстро, почти уверенно. Я прикасаюсь к письму и узнаю жесткую почтовую бумагу кузины Марты. Она покупает бумагу в маленьком магазинчике на окраине, и бумага пахнет отсыревшими макаронами.
— Ладно, я прочту у себя в комнате, мама…
— О, читай сейчас, там всего строчек двадцать. Мне хочется узнать, что ты думаешь по этому поводу. Возможно, ее предложение заинтересует нас, а она просит ответить побыстрее.
Я вынимаю письмо из конверта. Разворачиваю, молясь про себя, чтобы держать его не вверх ногами и не обратной стороной. На всякий случай становлюсь немного боком к Фелиции.
Сколько времени длится чтение двадцати строчек? Я произношу невразумительные «хмм» и «угу». То, что в принципе может выдавить из себя кузен Антуан, которому старая перечница и старая дева Марта из Шамбери предлагает… Но что она предлагает? Вдруг меня осеняет.
Она предлагает свой домишко… Вот уже несколько лет твердит о том, чтобы сдать дом в пожизненную ренту… Она одинока, доходы ее невелики… Об этом я вспоминаю каким-то чудом. Я всегда слушал вполуха.
Мне в общем нравится Шамбери с его зоопарком, аркадами, старыми улицами, напоминающими Пьемонт. Но бесформенный дом Марты — мне его и даром не надо! Настоящий кошмар в глубине двора, заваленного всяким сантехническим хламом! Четыре помещения одно над другим. Каждое — целый этаж. И все это пахнет старьем, ветхостью, плесенью. Комнаты не ремонтировали со времен свадьбы родителей Марты, которая сама мотает уже восьмой десяток!
— Смотри-ка, она еще крепко держится, старушка! — говорю я небрежно и кладу письмо на этажерку между банкой с надписью «кофе» и металлической коробкой, на которой на китайский манер латинскими буквами выведено «чай».
— Какое твое мнение? — спрашивает Фелиция.
— Ну что мы будем делать с этим ужасным домом, мама?
— Да, конечно… — вздыхает она.
Я чувствую твердую почву под ногами и пытаюсь найти аргумент.
— Если бы еще этот дом стоял где-нибудь на природе, можно было бы его отремонтировать и жить летом. Но там такой страшный вонючий двор, заваленный ржавым железом… Я понимаю, что недорого. Только ведь никто его купить не захочет, даже отремонтированный. Я, знаешь, не гожусь в продавцы недвижимости. Ты в курсе, коммерция — мой давний враг. Я всегда покупаю за максимальную стоимость, а продать могу только с потерей. Как, например, с моими машинами…
— Да, кстати, — вспоминает Фелиция, — звонил твой механик из гаража, сказал, что машина готова, так что…
— Хорошо, я съезжу за ней, когда выберу время, — обрываю я.
И снова целую маман.
— Пойду приму душ и переоденусь, а потом спущусь и помогу тебе накрыть стол.
Войдя к себе в комнату, я падаю на кровать и, зарывшись в подушку, начинаю тихо рыдать. Что я вам, железный, могу я, наконец, сломаться? Тем более домашняя обстановка расслабляет. Я пытаюсь представить будущее… Меня ожидает растительная жизнь… Мама… Она будет читать мне вслух, я буду сидеть, слушать пластинки. А чтобы отправиться в путешествие, мы сядем на поезд. Твою мать, я так люблю водить машину и кайфовать от быстрой езды! Этак скоро превратишься в некое подобие скороспелого старичка, с соответствующими грустными удовольствиями, привычками… Придется полностью менять образ жизни. Все распродать, купить домик на природе. Чтобы у меня по крайней мере была возможность нюхать свежую травку, слушать, как перекликаются петухи и перегавкиваются собаки… Возможно, жизнь в деревне даже даст положительный эффект.
Заслышав шаги моей мужественной матери, мягко ступающей по ступеням лестницы, я быстро встаю и вытираю слезы.
Когда-то в детстве мне приходилось реветь, будучи запертым у себя в комнате в наказание за школьные проказы. Со мной не разговаривали. И это молчание было для меня страшнее самого наказания. И всегда бывало так, что мать таким же тихим шагом подходила к моей двери. Я успевал вытереть зареванную физиономию. Она входила. Некоторое время маман стояла на пороге, затем спрашивала: «Так, ну что у тебя не ладится, Антуан?»
Она стучит.
— Можно мне войти, мальчик мой?
Ее мальчик отвечает, что можно. Дабы скрыть свою растерянность, я делаю вид, будто продолжаю разбирать чемодан.
— Хочешь, я тебе помогу? — предлагает Фелиция.
Зная меня, она не очень уверена, что я соглашусь. Терпеть не могу укладывать чемодан, но в то же время, по необъяснимой причине, не позволяю никому его разбирать.
— Ну, если уж тебе так хочется…
— Ты рад, что вернулся домой?
— Мам, что за вопрос! По-твоему, у меня не очень счастливый вид?
Она садится в мое кресло. У него скрипит спинка и один из подлокотников разболтался.
— Антуан, — шепчет она настолько тихо, что и вправду нужен очень натренированный слух слепого, чтобы услышать этот зов.
— Да?
— Иди сюда…
Я знаю, где она. Я опускаюсь на колени перед ней и прижимаю свою правую щеку к ее ногам. Ее сухая, но ласковая рука медленно гладит мое лицо.
— Антуан, — вновь тихо говорит Фелиция, — как с тобой это произошло?
Я подскакиваю.
— Что именно, мама? Не понимаю, о чем ты!
Она глубоко вздыхает.
— Послушай, мой дорогой. Марта ничего не пишет в письме о своем доме, механик пригнал машину к дому, она стоит перед оградой, а пока ты отсутствовал, я переклеила в твоей комнате обои на те, что ты сам выбрал. Теперь объясни мне, как это с тобой произошло?
Глава (попросту) десятая
Фелиция сидит в кресле и вяжет. Эта миниатюрная дуэль двух длинных, тонких спиц напоминает мне поединок двух кавалеров. Я вспоминаю «Три мушкетера»… Мне хочется вернуться в то время, когда я впервые в жизни прочитал Александра Дюма. Вот это книга, настоящая. Которая тебя то уносит, то захватывает! Сейчас все как-то стерто: разучились писать хорошие книги. Есть только рецепты. Литература, удаляющая от действительности, — это термин, наводящий на мысль о безвкусной «Книге о вкусной и здоровой пище». Слова там становятся ингредиентами. А театральные пьесы можно сравнить с остатками соуса, подогреваемого на слабом огне.
Радио приглушенно испускает звуки какого-то концерта типа классической музыки. Скрипки, рыдая, перепиливают ящик. Сначала отрываются гвозди, потом доски. Но ящик остается цел. У меня стойкая аллергия на скрипки. Менухин или еще кто — для моих ушей все равно железом по стеклу. Единственный, по моему мнению, кто умеет пользоваться скрипкой, это Арман (чуть не сказал «художник», но вовремя спохватился: он ломовик!). Он их по крайней мере ломает надвое или просто давит ногой. Вот тут инструмент становится поистине артистичным. После его рук исправленный (значительно) Страдивариус — бесценная вещь. Настоящий знаток вам подтвердит.
Я знаю, что маман иногда поглядывает на меня, продолжая вязать. Когда она поднимает глаза от своей работы, тихий стук спиц несколько замедляется, становится спокойным, размеренным…
Прошло два дня, как я приехал.
Моя новая жизнь начинает потихонечку утрясаться. Когда вы разбиваете яйцо в горячее масло на сковороде, оно постепенно утолщается, изменяет цвет и консистенцию. Вот и я мало-помалу становлюсь яйцом на сковородке.
Каждое утро в одно и то же время мне звонит Берю.
— Привет, малыш, что нового с глазками?
— А ничего…
Он вздыхает. Потом проникновенным тоном, в котором я ощущаю неуверенность, говорит:
— Не убивайся так, оно вернется.
— Посмотрим… Ну а ты, как работа?
— Знаешь, мужик, скажу тебе честно — сплошной цирк! Вчера за день шестнадцать раз с Бертой и один раз с консьержкой на лестнице, пока та подметала. Но уже слухи поползли по улице. Волчицы смотрят мне прямо в ширинку, и я чувствую томность в их глазах. Не далее как вчера жена мясника практически изнасиловала меня между двух полутуш говядины. Я уже предвижу момент, когда желающие станут являться ко мне прямо на дом. Тут поневоле занервничаешь.
Мне бы его заботы!..
Я обещаю ему скоро увидеться и спешу повесить трубку.
Берю, как и многое другое, относится к моей прошлой жизни. Он со своим огромным достоинством болтается в том мире, где мне больше не черта делать… И у меня нет пока желания встречаться с ним. Да и вообще ни с кем.
Я начинаю все сначала под опекой Фелиции. Пусть она меня переделывает. В пути произошло несчастье. Теперь она должна открутить счетчик на ноль и поставить своего мальчика в исходное положение. Она это сумеет. Вы уверены в ее мужестве? Я тоже. Ни слезинки! Ровный голос! Мне кажется, что она меньше беспокоится сейчас, чем когда я в детстве чихал или кашлял. Маман думает. Она ищет средства исцеления. И может быть, найдет! Я ей верю. Я передал себя ей одной, вручил ей свою судьбу, что в нормальной жизни является исключительно мужским правом.
Я приподнимаю голову, усилием воли пытаюсь ее увидеть. Мне вдруг кажется, будто что-то промелькнуло, отблеск, искорка. В моем воображении возникает эмбрион картинки, который тут же гаснет, закрывается чернотой.
— Ты красивая, мама.
Я угадываю, что она вздрагивает. Надежда… Но я быстро вывожу ее из заблуждения.
— Нет, я не вижу, я просто знаю. Так даже лучше, чем смотреть на тебя. В этом настоящее присутствие.
Скрипка пиликает все пронзительнее и начинает действовать мне на нервы.
— Мам, может, выключить радио? — спрашиваю я.
— Хочешь, я поищу другую станцию?
— Нет, не надо. Тишина — это сейчас тот мир, в котором я иду по звукам. Мне нужно шлифовать слух, понимаешь?
Она понимает.
Но в это время, как по иронии, звонит телефон. Я без поиска сразу же снимаю трубку. Слышу голос шефа. Наконец-то!
Безусловно, он мне сейчас скажет, что они без меня тра-ля-ля и тра-та-та. И так без конца. Все продумано у этих людей. Все оценено, измерено, разложено по полочкам. Что бы ты ни делал, ты подпадаешь под какую-нибудь категорию. Ты имеешь право на то-то и то-то. И пользуешься тем-то и тем-то.
— Приветствую вас, мой дорогой друг! Хотелось бы немного поболтать с вами, я не очень вам помешаю?
— Ну что вы, господин директор, конечно, вы же знаете, сколько у меня теперь времени!
— Чем вы занимаетесь?
— Выстругиваю палочку в перерывах между уроками азбуки для слепых.
Маман адресует мне укоризненное «тсс-тсс». Любопытно, что с тех пор как у меня накрылись глаза, она стала по отношению ко мне, я бы сказал, суровой.
Словно ждала, что я стану инвалидом. Будто бы она восприняла это как некое лукавство. В серьезных случаях любовь становится натянутой, как тетива лука.
Шеф не реагирует на мою реплику.
— Вы, наверное, сатанеете от вашей новой жизни, мой бедный друг?
— Ну, не совсем, или, скорее, да, если можно назвать это сатанением. Получается, что многое не соответствует тому, что себе воображаешь. Но все равно, очень мило с вашей стороны, что вы позвонили узнать, как мои дела, господин директор.
— Вы встречались с офтальмологом?
— Я виделся (если я могу позволить себе это выражение) уже с тремя за последние три дня. Трудно сделать больше, учитывая тот факт, что специалисты часто не могут принять сразу же. Но они мне дали рекомендации.
— Их мнения совпадают?
— В одном-единственном аспекте — да.
— Надежды есть?
— Немного. Феномен Ребуля в полной мере мог бы вернуть мне зрение, но вероятность, что он сработает, практически равна нулю. Ну а у вас, патрон, дела движутся? Выловили что-нибудь?
Ритм его дыхания меняется. Я понимаю, что он намеревался говорить только об этом. Мое зрение — чихать ему на него. Сейчас в его голосе появляется что-то новое. Будто что-то скрипнуло.
— О, лучше об этом не вспоминать! Команда водолазов вернулась ни с чем. Эхолоты, металлоискатели, всякое другое оборудование ни черта не дали. Ничего не обнаружили! Нашли только остов огромного дирижабля. Нашли даже украденный грузовик. Но он был пустой. Хотя глубина в этом месте не превышает трехсот метров.
Он умолкает в ожидании, когда возьмет слово бывший блестящий Сан-Антонио. И Сан-Антонио действительно берет слово. Как он делал раньше, в те времена, когда мог взять под визуальный контроль вопрос, является ли девушка и вправду блондинкой.
— Господин директор, а если дирижабль взорвался не случайно?
Пауза. Он переваривает мой вопрос. Процедура, похожая на распечатывание конверта, который был только что заклеен и клей еще не высох.
— Продолжайте, малыш, продолжайте…
Не правда ли, мило? Вот я опять стал его «малышом». Возвращение Сан-А в романе «Слепой видел верно»!
— Представим себе следующую историю, патрон… Похитители камня нанимают дирижабль, чтобы завладеть алмазом, и им это удается при обстоятельствах, о которых мы знаем. Но это средство передвижения архаично. На нем далеко не улетишь. И потом, дирижабль хорошо виден… Но им как раз и нужно, чтобы их заметили. Это входит в их план. Им нужно что-то, что вызовет шумный эффект, а затем ликвидируется и даст им возможность под прикрытием катастрофы исчезнуть самим. Через некоторое время после похищения алмаза они перевозят его в другое место, где их ждет другой грузовик. Затем они устанавливают взрывное устройство на борту дирижабля и он спокойно летит над океаном. Происходит взрыв. Остов тонет в воде. Следователи приходят к заключению — что мы и сделали второпях, — будто на борту дирижабля произошел несчастный случай. Начинают исследовать дно моря, и, ничего не найдя, отступают. А за это время наши хитрецы прячут неоценимую находку в надежном месте.
— Ход ваших мыслей совпадает с моим, Сан-Антонио. Я хотел услышать ваше мнение на этот счет, и теперь мои последние сомнения развеялись. Я пошлю еще одну комиссию следователей в Дуркина-Лазо. Специалистов по Африке. Пусть исследуют всю страну, а заодно и соседние страны. Мы разыщем алмаз, Сан-Антонио! Я не допущу, чтобы меня одурачили люди, которые… которых… с которыми… Всего доброго!
И Старик шваркает трубку с такой яростью, какая его охватывает только в случаях крайней решимости.
Я тихонько смеюсь и тоже вешаю трубку.
Фелиция прекращает вязание.
— Странно, — говорит она, — но когда ты рассказал мне об этом деле, знаешь, у меня возникли такие же мысли, как у тебя. Я чуть тебе об этом не сказала… Люди, решившиеся на такое крупное дело, не будут делать ставку на старый дирижабль, на котором тяжело уйти от преследования.
— Ну, маман, ты у меня способная!
— Знаешь, мой маленький, способность мыслить у всех под рукой.
Некоторое время мы сидим молча. Старые часы с огромным маятником, привезенные из наших родных мест, продолжают в гостиной свое оглушающее тиканье, сопровождаемое шуршанием неутомимых шестерен.
Тихое пощелкивание вязальных спиц моей матушки как бы перекликается с тиканьем часов. Я люблю, когда вещи издают звук. Эти звуки — их жизнь.
— На улице солнце? — спрашиваю я.
— Да, мой хороший.
Мною овладевает желание выйти наружу. Необходимость двигаться, слышать шум толпы, чувствовать тепло солнца на лице.
— Хочешь, я пройдусь с тобой? — спрашивает Фелиция.
— Куда?
— Да куда хочешь, Антуан. Я чувствую, как ты убиваешься. Иногда нужно идти на поводу своих мимолетных фантазий. Обязательно!
— Хорошо, отправимся вместе. Я с удовольствием навещу Матиаса и пожму ему лапу.
— Это тот высокий рыжий мальчик, который заведует лабораторией?
— Он самый. А потом зайдем в ресторан. Ну, не совсем в ресторан, а в бистро на углу Монмартра. В одно из кафе, где едят сосиски и жареную картошку и запивают все это простым красным вином. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Прекрасно понимаю, Антуан. Действительно удачная мысль.
— Мама, знаешь, что мне больше всего нравится в таких заведениях? Горчица! Французы не отдают себе отчета в том, что их горчица самая лучшая в мире. Нигде больше ты такую не найдешь. Попробуй купить ту же нашу крепкую горчицу «Амора» в магазине за границей. Даю голову на отсечение, ты ее и в рот не возьмешь. У нее вкус экспорта. Так вот настоящей горчицы можно отведать вместе с жареным мясом или еще с чем-нибудь только в наших кафе. Почему французы трубят на весь мир, что Париж загибается? Что он разворован, опустошен?.. А тем не менее все жрут мясо с замечательной горчицей…
— Ну хорошо, Антуан, мой маленький, не плачь и собирайся…
— Эх, надо было мне раньше плакать, — вздыхаю я. — В момент катастрофы, когда эти сволочи нас ослепили. Помнишь Михаила Строгова? Он уберег зрение, потому что плакал. Наверное, он только прикидывался слепым, как ты думаешь?
Маман убирает свое вязанье. Часы звонят одиннадцать раз.
Нет, черт возьми, пора, наконец, встряхнуться.
В темноте мне хочется представить, будто я выхожу с девушкой. Пусть с самой легковозбудимой, со шлюхой, на которой пробу негде ставить!
Нет, если так и дальше пойдет, то я стану хлопаться в обморок, как анемичная девица в прошлом столетии, когда красавец-лейтенант запускал шустрый взгляд ей за корсет.
Известно, что рыжие — люди способные и хорошо делают свое дело.
Рыжие они и есть рыжие, их видно за версту, и это понятно даже слепому вроде меня.
Поэтому я без всякого сомнения направляюсь прямо к Матиасу с готовой для приветствия рукой.
— Привет, блондин!
Как и все остальные, у кого пожар на голове, он считает себя блондином и любит, когда ему об этом говорят.
— Господин комиссар! О, я не ожидал…
Это у него вырвалось.
Но тем не менее он действительно не ожидал.
Меня вообще больше не ждут.
Естественно, мой приход вызывает удивление. Я попадаю в категорию призраков. Обо мне забывают.
— Я узнал об этом печальном событии… и был потрясен. Все здесь просто убиты, господин комиссар. Но, я смотрю, вы отлично держитесь.
— В знакомых мне местах — да. Ты даже не представляешь, как легко быть хорошим слепым. Я заделаюсь настоящим профессионалом в рекордный срок…
Матиас мне не отвечает. Он растроган. Или, скорее, меня жалеет. Нет, от этого надо тоже к черту избавиться — от сострадания других! Но людям так легче. Выражая сострадание к другим, они чувствуют себя выше и значительней.
Рыжий осыпает меня подбадривающими, как ему кажется, речами. Изрекает пожелания. Дает мне адрес знакомого глазника Безглазика. Я ем эту лапшу. А что мне остается?
— Вы религиозны? — спрашивает он меня задушевным голосом.
— Пока нет, но, наверное, стану.
— Я не вправе давать вам совет, но на вашем месте отправился бы к Лурдскому источнику, — уверяет этот человек, занимающийся точными науками.
— Как только там состоится интересный матч по регби, непременно поеду, — хамским тоном перебиваю я.
Он вздыхает, в душе обзывая меня вероотступником.
— Послушай-ка, блондинчик, — говорю я серьезно, меньше всего заботясь о продолжении беседы насчет целебных свойств святой лурдской воды, — гениальный Берюрье должен был передать тебе на экспертизу куски оболочки дирижабля.
— Да, это так, господин комиссар, но он пока не являлся за результатами.
— А ну, просвети меня, дружок!
Матиас открывает ящик с кляссерами. Никому в мире не сравниться с ним в аккуратности, даже церковникам. В каждом кляссере папки, а в папках тщательно сложенные и пронумерованные дела. Его мечта — иметь у себя систему IBM, чтобы систематизировать свои бумажки. Такую машину, чтобы простым нажатием кнопки можно было тут же получить номер телефона пограничного пункта в Лапландии или имя и возраст консьержки в доме начальника марсельской тюрьмы.
— Вам прочитать? — спрашивает он.
— Нет, будь другом: лучше спой на мелодию музыки Мишеля Леграна, так будет веселей.
Он смеется из вежливости. Бог мой, никогда раньше не замечал, что от него так воняет! Просто как в зверинце.
— Оболочка дирижабля, кусок которой мы исследовали, старая, никак не менее сорока лет. Но хорошо сохранилась, поскольку за ней осуществлялся постоянный уход. Тем не менее резина слишком пористая, чтобы на подобном дирижабле можно было совершать длительное путешествие. Он построен в Германии на заводах Зад-Икрупп между 1929 и 1934 годами и относится к знаменитой серии Зад-Вог Н.Е., у которой есть модификация, как вы должны помнить, печально известной серии Зад-Гофф Н.Е., принесшая нам столько неприятностей во время первой мировой войны. Вот, собственно, и все, что я могу вам сказать.
— Но это уже много, Матиас. Ты просто волшебник, малыш!
По треску веточек в живом костре я догадываюсь, что он краснеет. Без боязни получить ожог я жму ему четыре (поскольку пятый его указательный палец остается вне моей ладони) и возвращаюсь к Фелиции, которая ждет меня на скамейке сквера неподалеку.
— Э-эй! — зовет она меня.
Я сажусь рядом с ней. Голуби бесшабашно летают вокруг нас. Хлопанье их крыльев похоже на аплодисменты.
— Скажи-ка, мама, ты ведь не была в Германии, правда?
— Нет, знаешь ли, меня никогда не тянуло в эту страну. Ты, наверное, помнишь, что моего брата убили на фронте в 1915 году?
Но она тут же умолкает, понимая с небольшим опозданием смысл моего вопроса.
— Когда мы едем? — спрашивает она.
Глава (конечно же) одиннадцатая
Тот, кто знает, должен быть в курсе, что после того как умер Карл Зад-Икрупп, последний отпрыск знаменитой династии, известнейшая немецкая фирма перешла в руки промышленника по фамилии фон Зад-Иперед. Более того, ассортимент продукции фирмы, ранее специализировавшейся на производстве только летательных аппаратов, значительно расширился. Она стала производить изделия из синтетической резины от аэростатов до презервативов.
За эти годы было построено несколько дирижаблей, но лишь в мастерских Бодиграфф-Цеппелин, и, если верить общественному слуху (а этот слух самый лучший, как вы сами понимаете), качество их оставляет желать лучшего по сравнению с довоенными временами, когда дирижабли делали на заказ, и то была ручная работа.
Мощный «мерседес» (о «мерседесе» всегда говорят, что он мощный, как об ученом говорят, что он видный, а об экономисте — что он известный) везет нас в дирекцию фирмы, где нас ждет, как было условлено, главный патрон компании.
Я угадываю, что он волевой человек. У него мягкий, но уверенный голос, и он говорит на хорошем французском с акцентом, похожим на рубку костей кухонным секачом. Я представляю ему свою мать и объясняю причины ее присутствия на переговорах. Президент-генеральный директор щелкает каблуками, произнося в адрес моей немного испугавшейся маман слова приветствия:
— Уфашаемая матам!
Он усаживает нас в кресла для гостей. Затем объявляет своей секретарше, чтобы его не беспокоили в течение четырех минут, что дает нам абсолютно точное понятие о времени, которое он решил посвятить нам, после чего спрашивает у господина по имени коми-зер Зан-Хандониуз, то есть у меня:
— Шем моку злушить?
Я начинаю прямо без обиняков, как на духу, не раскрывая факта существования гигантского алмаза. Объясняю Якобу фон Зад-Ипереду, что существует некая тайная организация, использовавшая дирижабль их фирмы для осуществления преступной акции, и я хотел бы знать, к кому попал означенный летательный аппарат. В качестве доказательства своих слов я передаю ему кусок оболочки дирижабля. Он берет его в руки, И я слышу противный скрип резины под холеными пальцами эксперта высшего класса.
— Ах! — говорит он для начала. — Я уснаю… Это мотель Зад-Вог Н.Е.!
Браво!
Браво Матиасу, который сумел определить предмет с такой точностью, не будучи ни немцем, ни тевтонцем, ни замешанным на этом тесте.
— Таким образом, дирижабль ваш?
— Происфетен! Та, пыл! Но нет наш! — поправляет он меня со знанием дела. — Мы тафно их не происфотим! Теперь Зад-Икрупп происфотство только ультра-мотерн! Замые лутшие пресерфатифы ф мире! Кимишеская резина! Экстрарастяшимые! Фосмошно наливать тфа литра фоты!
— Как же тогда, господин фон Зад-Иперед, частное лицо могло достать этот аппарат в наши дни?
— Потершанный! Только потершанный!
— То есть вы хотите сказать, что на рынке можно найти дирижабль?
— Нет, но только у коллексионероф! Есть такие коллексионеры.
— Да, но ведь дирижабль не марка, его так просто не спрячешь! Вы сами знаете кого-нибудь из коллекционеров дирижаблей?
— Так тошно! В Дойчланд отин, снаменитый! Маршал афиации Людвиг фон Фиг-шиш! Лутшая коллексия диришаплей ф мире! Прима коллексия!
— А где живет этот маршал?
— Рятом с Мюнхеном! Скромный территориум!
— Мне необходимо с ним срочно встретиться!
— Гм, трутно!
— Warum?
— Коспотин маршал зильно ранен на фойне! Искусстфенная рука! Искусстфенная нока! Искусстфенная пощка, искусстфенное зердсе!
— Человек-робот, — вздыхаю я. Фелиция коротко хихикает.
— Щто? — спрашивает фон Зад-Иперед.
Я уклоняюсь от ответа, прощаюсь с ним и ухожу, держась за руку своей матушки.
Мне трудно сконцентрировать свои знания немецкого, чтобы понять выкрики и, как мне кажется, завуалированные угрозы на том конце провода, но абсолютно ясно одно: мой собеседник непреклонен.
Нет смысла даже помышлять о том, чтобы встретиться с маршалом фон Фигшишем. Если я имею ему сообщить что-то очень важное, нужно написать письмо. А лично он никого не принимает.
Сказав, как отрезав, секретарь вешает трубку.
— Что-то не так? — волнуется Фелиция.
— Да, совсем не так.
Мы сидим в номере гостиницы «Танненбаум». Маман пьет чай, и его тонкий аромат щекочет мне ноздри. Мы напряженно молчим. Я чувствую свое бессилие более, чем когда-либо. Мне кажется, я подхожу к опасной черте, подвинулся мозгами, надеясь продолжить свою работу, оставаясь слепым. Слепой легавый, уцепившийся за руку своей матери, — думаете, это производит серьезное впечатление? Элитный полицейский в сопровождении родителей! Есть от чего повеситься на елке с венчиком вокруг головы и обсыпаться блестящей пудрой. Видите ли, на свете существует только два типа мужчин: те, что никогда не хотят стареть, и те, что всю жизнь готовятся к смерти.
Мне нужно выбирать.
Заметьте, возможность выбирать предопределяет, что вы автоматически подпадаете под первую категорию. А человек, способный выбирать, уже активен. Пусть вымрут пассивные!
Моя дорогая матушка чувствует мое смятение, как я чувствую запах ее чая. Она ставит на стол свою чашку, подходит и кладет мне руку на голову. Голос ее звучит спокойно и мягко, но я чувствую, что это спокойствие дается ей с трудом.
— Я вижу, как ты мучаешься, мой дорогой. Тебе кажется, что все тебя бросили, что всему конец. Но я заклинаю тебя не опускаться до отчаяния. Я знаю… Ты меня слышишь? Я знаю, что все придет в норму. Твое спасение придет очень скоро… Это говорю тебе я, твоя мать, а я не могу обманываться в чувствах, касающихся тебя, мой родной. Я чувствую, я предвижу, Антуан…
И мы обнимаемся, будто прячемся друг в друге. А в этих случаях поди разбери, кто чью боль лечит. Я бормочу «да, конечно», не очень веря в исцеление. Но нужно держаться, Сан-А. Цепляться, парень, чего бы это ни стоило! Говорить себе, что если не будет хуже, то может быть только лучше…
И в этот момент, друзья мои… Да, именно в этот момент. В эту самую секунду. В разгар наших эмоций я слышу пение.
Очень близко.
Оно вибрирует, захватывает, завораживает… Истинно французское пение.
И слова страшно знакомые…
Фелиция, как и я, прислушивается.
— О, Антуан, — вскрикивает она, — тебе не кажется?..
— Конечно, мама! Это он!
И, позабыв о своем горе, я реву, как тридцать шесть изнывающих от желания коровьей близости быков, продолжение хулиганской песенки из нашего родного фольклора:
Голос снаружи затихает. Затем что-то грохается и голос снова обнаруживает себя чудесными, согревающими душу словами «твою мать, понаставили!».
Секунд через десять Берю барабанит в нашу дверь.
— Нужно раз увидеть, чтобы враз поверить! — входя, заявляет он. — Кто бы мог подумать! Что это вы тут делаете оба?
— А ты, Толстяк? — контратакую я, как всякий раз, когда он задает мне лишние вопросы.
— Я? — отвечает он. — Да вот приехал для ведения расследования и, как всегда, вкалываю в поте лица. У меня встреча с отставным маршалом. У этого болвана страстишка коллекционировать дирижабли.
Думаете, я спятил, да?
Потерял рассудок?
Упал на голову?
Мозги слиплись?
Одна извилина, и та выпрямилась?
Или, наоборот, согнулась в дугу?..
— У тебя встреча с маршалом фон Фигшишем! — кричу я.
— Ба, да ты знаешь его кличку!
— Давай, Берю, выкладывай побыстрей!
Человек с тайнами на кончике языка щелкает челюстями, пространство между которыми служит ему для хранения остатков непрожеванной пищи, секунду-другую думает, что ответить, и, наконец, решается.
— Видишь ли, — начинает он с умным видом, — в этом деле, с которым я совсем затрахался, все началось с дирижабля. Использование такого чудовища в наше время с самого начала мне показалось хроническим анархизмом…
— Анахронизмом, — поправляю я.
— Ну да, а я чего говорю? Так вот, я позвонил в наше общество воздухоплавания и спросил у ребят, выпускают ли еще где-нибудь презервативы такого калибра. Они мне ответили, что нет. И тут удача катапультировалась мне прямо на голову. Я был у врача по поводу моего деликатного, сам знаешь какого, заболевания, и там у него в приемной наткнулся на номер журнала «Наука и жизнь». И в этом номере вдруг обнаружил статью о маршале фон Фигшише, что он якобы является последним коллекционером дирижаблей в Европе. Словом, ты меня знаешь! Я всегда держу нос по ветру, как…
— Твое нынешнее хозяйство? — предлагаю я.
— Совершенно точно, — благодарит господин Трахун. — Что-то булькнуло у меня в котелке, и я бросаю врача, сообщаю в контору, что у меня свидание с маршалом, срочно еду сюда…
— …но он никого не принимает, — вздыхаю я.
— Моему переводчику ответили то же самое. Но только у меня голова на плечах, а не репа, как некоторым кажется, и я умею ею пользоваться. Чуть позже я повторил звонок и сказал, что настаиваю на встрече, поскольку у меня есть предложение насчет продажи шара Монгольфье, который перегородил мне весь сарай, словом, мешает, и этот хорек маршал тут же клюнул и назначил встречу сегодня к вечеру…
— Классика! — соглашаюсь я. — Отдаю должное твоей выдумке, Толстяк!
Затем Берю, причмокивая губами, заявляет, что эти чертовы немецкие сосиски хорошо нашпигованы и вкус у них вполне копченый, вот только полно жил. Подумав немного, он наклоняется ко мне и тихим голосом, будто прелат, окучивающий маркизу, шепчет:
— Если у тебя есть час времени, чтобы посвятить мне, и если это не очень обеспокоит твою мамашу, я хочу, чтобы ты пошел со мной, Сан-А.
— Куда это?
— Там увидишь. — И тут же спохватывается: — Это просто такое выражение.
— Куда ты меня тащишь? — бурчу я.
Он быстро шагает, крепко ухватив меня за руку. Очевидно, со стороны мы производим впечатление, будто деревенский вор тащит упирающуюся телку.
— Это по поводу моего так называемого заболевания, — признается Берю.
— Ты о своей дубинке, чтоб чертей глушить?
— О ней самой.
— Так и не успокоился?
— Куда там! Но за те три дня, показавшиеся мне вечностью, кое-что изменилось. Правда, не очень. Я, стало быть, в статистике неизлечимых, понимаешь? Хожу быстрым шагом на цыпочках, как когда-то в детстве ходил в пивную. Теперь, чтобы сохранять ясной голову, мне нужно порядка полудюжины девочек. А когда я в разъездах, в отсутствие добровольного поголовья, приходится обращаться за помощью к профессиональным шлюхам, что, естественно, увеличивает статьи расходов. Беда!
— И ты меня теперь тащишь в специальный квартал?
— Ну не такой уж он специальный, — мурлычет гигантский кот. — Но там есть Гретхены с такими балконами на фасаде — очумеешь! Я так думаю, что небольшой прыжок в экстаз поменяет тебе настроение, сынок. А то, ежели все время барахтаться в своих черных мыслях, этак ты скоро превратишься в подвальную крысу.
— Считаешь, что теперь, кроме проституток, мне ничего не светит?
Берю мгновенно стервенеет.
— Не надо очернять самую древнюю и самую прекрасную профессию на земле, товарищ! Все вы корчите рожи, когда говорите о простипутанах, но это не мешает вам бегать к ним втихую. Стыдно оставлять без работы квалифицированных специалисток, вот что я скажу! Когда у тебя болит зуб так, что ты на стенку лезешь, ты что, бежишь к своему соседу по лестничной площадке, чтобы он тебе его вырвал, а? Нет, ты бежишь со всех ног к дантисту, у которого из всех карманов торчат дипломы! Так же и здесь, чтобы мозги встали на место, нет ничего лучше специалистки с опытом. Ладно, не расстраивайся — будет за мой счет! Я только что обнаружил здесь одну птичку, она не в моем вкусе, но, как мне кажется, как раз твой стиль на все сто! Блондинка, высокая, худая, грудей немного, но зато глаза темно-синие и с поволокой. Смотрит томно из-под длинных ресниц! Словом, картинка! Курит на манер Марлен Дитрих с мундштуком, длинным на полметра. Ага, мы как раз подходим. Я вижу ее за стеклом. На ней черное эскимоно с красными цветами, что подчеркивает ее блондинистость. О, она нам улыбается. Ты тоже ей улыбнись из приличия! Давай войдем, я тебе говорю! Можешь с ней просто поболтать, если не хочешь ничего больше, ты же мастак вкручивать мозги. Черт, если бы ты видел, какой у нее рот, прямо до ушей! Ух, она, наверное, умеет всякое такое! Будь у нее бюста хотя бы килограммов на десять, взял бы ее себе, точно! Сразу видно, девица воспитанная, с манерами, образованием и все такое прочее. Я так думаю, она дочка бывшего нацистского министра и вынуждена теперь зарабатывать таким ремеслом, чтобы оплачивать папашины бифштексы. Это тип Мадонн, которые тебе наизусть прочтут поэмы из Виктора Гюго на немецком в промежутках между сказочными сеансами любви. Любви, не просто так, я правильно выражаюсь? Так, слушай, она нам подает знак. Ага, и задергивает занавески, как бы говоря, что счетчик уже включен. Не черта сомневаться, Сан-А! Доставь мне, как товарищу, удовольствие: залезь на Грету. Это написано наверху в качестве приветствия… Уже от одного имени возбудишься, а? Я правильно говорю?
Потрясенный его монологом, я уступаю его увещеваниям.
А поскольку от его цветистых описаний меня начинает разбирать, то я даю наконец ввести себя в обитель разврата. (Сильно сказано, правда?)
Фрейлейн Грета — я лишен возможности ее видеть, но должен признать, что ощущаю полное портретное сходство с оригиналом, нарисованным мне на улице моим зрячим (и еще как!) другом. У нее низкий голос и красивый смех. Она курит дорогой сладковатый табак, а в комнате пахнет оранжерейными растениями.
— Францозиш? — произносит она своим обволакивающим голосом.
Она приближает к моим чувствительным губам свой рот, и ее горячее дыхание зовет к любви. Я провожу рукой по ее длинным шелковистым волосам… И мы почти сладострастно целуемся.
— Порядок, граждане, я вас оставляю, — заявляет Берю, довольный, будто старая сводница, которой удалось одним махом скрестить две пары близнецов. — Я буду рядом, Сан-А, у одной толстушки размером с баобаб, которая, на мой взгляд, запросто могла бы огрести три звезды за обслуживание (согласно гостинично-ресторанной классификации Мишлен). Только ты не уходи, дождись меня. Я как пот со лба сотру, сразу приду за тобой. Дождись, хочу услышать, что ты здесь время зря не терял. Держите, моя маленькая Грета, хрустящую бумажку из Немецкого банка, новенькую, синенькую — купите себе сногсшибательное белье. Главное, используйте темперамент моего друга на полную катушку. Он подлинный викинг с твердым копьем и прочее, словом, настоящий мужчина. Покажите, на что вы способны, голубушка. Сыграйте по-крупному. Начните с последних новостей. Если он останется вами доволен, то я вам подкину приличную премию. Но нужно, чтобы вы показали все свое умение. Нужна филигранная работа. Он не любит классических номеров типа «раз-два и по домам». Это не в его вкусе. Не в его привычках стремительные трюки на полном газу. Ваш девиз «Германия — превыше всего», так? Докажите это!
И, закрыв свой фонтан, он выходит.
Грета раскладывает меня на мягком диване и со знанием дела начинает раздевать, издавая вздохи, означающие «добро пожаловать!». А я, что вы от меня хотите, даю одеждам пасть. Я чувствую, она прекрасно владеет своим ремеслом, эта фрейлейн. Любовь с человеком, имеющим физические недостатки, — это иногда очищает. Активный мужчина имеет досадную привычку: он всегда берет на себя инициативу. Но пассивность время от времени — тоже хорошо. Отдых воина, настоящий отдых, это полный отказ от действий. Почему современный мужчина, воин, страдающий одышкой и сердечными приступами, из-за повседневной кутерьмы бежит в публичный дом? Только для того, чтобы ему расстегнули пуговицы! Акт — само собой! Но прежде всего мужчине хочется, чтобы ему вскрыли штаны. Человеку настолько надоели всевозможные проблемы, что он поистине счастлив, когда чьи-то заботливые руки стаскивают с него брюки. Расстегивая ширинку, ему как бы подносят кислород. Очищают душу и освобождают плоть.
У этой Греты на редкость деликатные руки. Созданы будто специально для постельных сцен, такие внимательные, но и настойчивые, они снимают одежду и ласкают одновременно. Колдунья! Фея! Она совершает чудеса моей волшебной палочкой. Если не забуду, обязательно представлю ее Обществу магов и волшебников!
Ощущаешь полное доверие, находясь в длинных и, как я себе представляю, красных лакированных ногтях. Сразу понимаешь, что перед тобой личность, посвятившая этому ремеслу тело и душу. Мы живем в эпоху благосклонного позитивизма в отношении к проституции, мальчики мои. Когда-то проститутки были бессовестными плутовками, до ужаса жадными, опустошавшими кошельки и карманы честных граждан. Гнусные, лишенные всякого понятия о чести потаскухи! Хитрые воровки! Коварные ведьмы без стыда и совести. Вытрясательницы денег. Ленивые. Мелочные. Грубые. Сквернословили. Если и опускали руки к вашим штанам, то только для того, чтобы вытащить деньги, припрятанные вами для семьи на черный день. О кошмарные преступницы! Висельницы! И всегда у них под рукой был злой костолом, готовый в любую минуту вырубить вас ударом топора или ножа, чтобы обокрасть. Не говоря уже о том, что они могли вам насолить так, как солят пармскую ветчину. Стоит только почитать воспоминания добропорядочных господ из классиков — прямо сердце кровью обливается, как их жалко, несчастных. Страсть люблю душещипательные воспоминания — берешь книгу в руки, и начинают душить слезы!
К счастью, в наши дни все изменилось. Шлюхи стали благовоспитанными. Они обнаружили для себя понятие профессиональной чести. Они сплотили ряды. Уж слишком большая конкуренция появилась со стороны гражданских, или, как говорят, любительниц. Если бы работницы горизонтального цеха не поменяли тактику, возникшую вместе с техникой, припудрив свою работу совестливостью, то вынуждены были бы поменять свое социальное положение. И вот, по необходимости, они приобрели мораль. Эстетику! Работа стала в некотором роде апостольством. Это занятие для сильных людей. Вот взять хотя бы японцев: чтобы выиграть в жестокой конкуренции, они поначалу были вынуждены штамповать всякий хлам. Например, их будильники за два франка разваливались при первом же звонке. Тогда они взяли пример с немцев, и к ним пришел сногсшибательный успех в промышленности. В проституции то же самое! Качество, братья мои, прежде всего! Выдумка, изобретательность! И упорство!
Грета как раз на пике новой волны, в авангарде — я имею в виду работу. Она с уважением относится к немецкой марке. И она ее отрабатывает. Колдует со знанием дела. Отдает всю себя.
И вот она меня раздевает-разувает полностью, перемежая это ласками. Я до отказа расслабляюсь. Чувствую себя ленивым и инертным.
Но поскольку мне невмоготу подолгу оставаться пассивным, я решаю хоть в некоторой степени проявить себя. Черт со мной, важен в конце концов жест! Протянуть руку — всего-то!
Я ее протягиваю.
Господи спаси, царица небесная, что это?!
Знаете, что я обнаружил?
Мужчину!
Не чемпиона в этом разряде, но тем не менее характерное ощущение мужского пола. Ай да малышка Грета!
Конечно, тут кричать и хныкать не придется, опасности того, что ты попал в лапы вождя черного племени, тоже нет, но, господа, поймите меня — передо мной мужчина!
Так злоупотребить моим доверием — этого я не прощу!
И тут меня охватывает ярость, самая страшная, на которую я способен. Она оглушает меня, лишает рассудка (чуть не сказал «ослепляет»). Она переполняет меня, как кипящее молоко. Честно говоря, я не припомню, чтобы когда-нибудь раньше меня хватала за горло такая злость. Она начинается от ступней. Потом поднимается вдоль ног. Меня бросает в дрожь. Мне становится жарко. Я вскипаю. Затем прошибает холодный пот. Меня трясет, как в лихорадке. Что-то расползается по мне вроде огромных муравьев на тысяче лапок. Я начинаю стонать, кричать.
Я впадаю в транс, дорогие мои! Извержение вулкана! Я выплескиваюсь из глубин океана раскаленной лавой. Я булькаю! Я брызжу! Меня несет! Я распадаюсь! Мне страшно! Этого не выдержать, не усмирить! Я — разрушитель! Уничтожитель (житель, житель, житель…)! И вот я приподнимаю Грето (оно для меня уже поменяло пол) за ворот его кимоно и наугад наношу сильный удар!
Он (оно) вопит!
Потом хрипит!
Я наношу ему еще серию ударов, большинство из которых не достигает цели. Боксирование с пустотой еще больше распаляет мою ярость. Не знаю, надолго ли хватит мне еще горючего. Но я уже перешагнул порог допустимой скорости. Я вышел из-под контроля! Я стал неуправляем! Я впал в бешенство! По-черному!
Наугад я преследую фальшивую мышку по всей ее спальне. Попискивания и всхлипывания помогают мне найти цель. И я настигаю педика кулаками то в лицо, то в грудь, то под ребра.
Чувствую, во мне проснулся убийца, дорогие мои! Живодер!
Молочу руками и не могу остановиться. Несчастный тип болтается между моими кулаками то влево, то вправо, то взад, то вперед! Мои удары производят странные звуки. Я сатанею. Деяние полностью поглотило меня. Хочу кричать. Но не могу.
Безысходность, в которой я тонул последние дни, вдруг воспламенилась и теперь объята пламенем, как тысяча Жанн д’Арк, облитых бензином.
О, безысходность моя, она сожжет меня — и головешек не останется!
На, получи! Бам! Бум! Хлоп!
И вдруг силы покидают меня. Наваливается тяжесть. Мне кажется, я сейчас упаду, вырублюсь. Ноги не держат, я шатаюсь. Дыхание перехватывает.
До чего же у нее противная харя, у Греты. Лошадиная морда под маской единорога. Черт, и к тому же этот крокодил — педик. Нужно быть слепым, чтобы с первого взгляда не рассмотреть, что у него рожа бешеного таракана! Только Берю мог польститься на такую…
Но! Бог ты мой! Так мог завопить только Берюрье, увидев на базарной площади распродажу дирижаблей.
Но, черт возьми, наконец! Я ВИЖУ!
Эй! Ребята, вы видели, читали? (Предыдущую строку?)
Запомнили? (Последний раз пишу крупно.)
Я ВИЖУ!!!
Вот уж точнее не скажешь: лучше раз увидеть, чтобы враз поверить! Я вижу этого длинного блондинистого педика, который смотрит на меня со страхом и восхищением, вытирая свой разбитый в кровь нос. Я вижу маленькую комнатку с голубыми матерчатыми обоями, набитую всякими дурацкими игрушками. Я вижу немецкую куклу с большими немецкими глазами, сидящую на немецкой тахте с немецкими подушками! Я вижу стеклянную дверь в туалетную комнату. Я вижу копии литографий, на которых изображены господа и дамы, дамы и дамы, господа с господами, старающиеся показать, как им весело в любви.
Бог мой, не может быть! Я вижу! Какое счастье!
Целый оркестр арф взрывается во мне, постепенно вытесняя глухие раскаты вагнеровской бури.
Выходит, Фелиция предвидела точно! Она чувствовала, что должно ЧТО-ТО произойти! Феномен не-знаю-какой-и-знать-не-хочу — это мой случай, моя удача!
Ну конечно же, а вы сомневались?
Вы ведь знали прекрасно, что единственный и неповторимый, уникальный Сан-Антонио не мог долго оставаться слепым.
Его издатель просто бы ему не позволил.
Кстати, этот человек не любит шутить с публикой. Растяни я свою слепоту еще страниц на двадцать, он отдал бы распоряжение возместить клиентам убытки. А он, между прочим, один-единственный порядочный издатель, и вы хотите, чтобы я подложил ему такую свинью?
Я не только вижу, но к тому же вижу четко.
Жизнь розовая…
Синяя, желтая.
Танго (оранжевая).
Вальс.
Лежа на своем рабочем месте, педик в растерянности начинает расчесывать волосы и бормочет что-то несвязное. Буря, пронесшаяся по нему, сильно качнула ему крышу — попробуйте встать (лечь) на его место.
А теперь вдруг тишина… И моя счастливая, абсолютно блаженная физиономия! Мои глаза… Мои глаза!
Бурное возвращение Берю прерывает идиллическое состояние, в котором мы до этого пребывали (не правда ли?).
— Я не помешал? — волнуется Мамонт. — Вы уже закончили вольные упражнения? Что касается меня, если говорить обо мне, относительно меня, то я только что испытал редкое разочарование. Корова — никаких реакций! Стог сена. Чувствительности не больше, чем у грузовика. Ты ее так, ты ее сяк — она как кусок мрамора. Как холодильник. Бревно! Только время потерял. Подобное перепихивание — никого интереса: будто высморкался и ушел. Надо установить контроль за работой простипутан. Дать им жалобную книгу, и пусть клиенты ставят оценки по шкале в десять баллов и пишут свои замечания. Моей, если выставить оценку, я бы дал не больше единицы, и то только для того, чтобы ее не выкинули с работы. Комментарий: лучше энергичная рука, чем такой рукав. И все! Ну а что твоя? Она тебя — как врага народа? А, парень? Боже, а что это с ней стряслось? Это ты ее так отделал? У вас была большая страсть? Любовь типа неудержимой кенгуру? Или ты давал ей уроки морали и читал нравоучения?
— Ты ничего не замечаешь, Берю? — ставлю я точку в его вопроснике.
Он хмурится.
— Кроме разбитой физиономии мамзели Греты, ничего… А нужно что-то заметить?
— Сядь на этот стул с велюровой желтой обивкой.
Он подчиняется.
— Так, ну и что?
— Убери свой галстук, болтающийся на жилете, а то у тебя несколько неопрятный вид.
Он исполняет.
— Вот, пожалуйста, монсеньер. Ну что еще тебе взбредет в голову?
— У тебя волосы растрепались, Александр-Бенуа, — продолжаю я. — Попробуй граблями расчесать остатки шевелюры!
Он растопыривает пальцы и проводит ими по голове.
— Знаешь, своими замечаниями на мой счет ты мне начинаешь действовать на простату, — заявляет он.
— Возможно, Толстяк, но мои замечания… они тебе кажутся вполне нормальными? Не надо открывать рот, будто карп, которого несут, чтобы показать Эйфелеву башню. Напряги извилины.
— Действительно, — бормочет он, — есть, я бы сказал, нечто кое-что, что мне странно. Только я не врублюсь что.
Я лезу ему в карман жилета и беру монетку, затем подбрасываю ее, ловлю и, поднеся к его носу, говорю:
— Решка. Странно, правда?
Он надувает щеки.
— Нет, орел или решка, мне до…
И тут наконец его осеняет. Он вдруг мигом соображает, что ко мне вернулось зрение. Сначала он зеленеет и физиономия у него вытягивается. Потом он пытается облизнуть губы, но его язык пересох, как кость, валяющаяся в Сахаре под палящим солнцем. Он сглатывает, но что-то щелкает у него в горле. Два обезвоживания подряд никогда не породят и капли влаги. Толстяк сидит с прилипшим к губам языком и таращит на меня глаза.
Затем глаза его стремительно лезут из орбит.
В горле происходит хлопок, как в глушителе машины, мотор которой не заводится.
Он падает на колени.
Начинает креститься.
Но на полпути бросает и тычет в меня пальцем.
Бормочет «Отче наш», а затем «Богородицу».
Чем не жанровая сцена! Толстый французский полицейский молится в комнате борделя в присутствии долговязого немецкого педика.
Бред, безумие!
Закончив обрядовые действия, Берю садится на пятки.
Как в Мекке.
— К тебе возвратилось зрение, мой Сан-А, — вздыхает мой лучший друг. — Ах! Какое счастье! Великое счастье! Мы наконец спасены, ты и я. Спасены! Я тоже спасен, брат! Признаться, — я не в силах выносить этот обет…
— Какой обет?
— Я поклялся не пить ни капли красного вина до тех пор, пока ты снова не будешь видеть, парень. Ты не можешь себе представить, какие муки я принял… Пить только белое — врагу не пожелаешь. Ты бы сразу понял, что белым сухим можно только полоскать глотку. Пьешь, пьешь — и никакого толку, а утром, после перебора, — просто сущая отрава! Но все-таки скажи наконец, как произошло твое чудесное выздоровление?
Я рассказываю ему. Он довольно мотает головой.
— Ага, понимаю. Согласись, в некоторых исключительных случаях педераст тоже неплохо? Как знать, может, ты проходил мимо своего выздоровления много раз, Сан-А? Я вот думаю, не поехать ли тебе все-таки в Лурдский монастырь…
— Зачем туда ехать, если я выздоровел?
— Чтобы отдать долг честного христианина, — сделав одухотворенную рожу, заявляет мой Толстяк.
Он вытаскивает из кармана пачку немецких марок и протягивает несколько бумажек «высокой блондинке».
— На, ты заслужил, дарлинг! — уверяет Мамонт.
Его лунообразное лицо вызывает доверие.
— Знаешь, а он для этого жанра вполне ничего, — мурлычет мой спаситель Берю. — С тех пор как я в этом состоянии, у меня ощущение, будто во мне что-то произошло. Благодаря своей штуковине я стал смотреть на любовь шире, стал более терпимым, более понятливым. Мне теперь вообще можно уйти на пенсию. Когда вырастает такой маятник, чувствуешь себя на полном обеспечении… Но поскольку к тебе возвратилось зрение, ты по-товарищески и просто из любопытства взгляни на это дело. Скажи, только честно, ты когда-нибудь думал, что увидишь нечто подобное?
Расстегнув ремень, Берю роняет свое достоинство на ботинки, что, естественно, вызывает непроизвольную реакцию у меня и у Греты.
— Мама! — вскрикивает мальчик-девочка.
Крик души.
Крик плоти. Мама! Международное понятие. Общечеловеческое! Одно-единственное слово! Но ключевое!
— Шик, а? — говорит Берю голосом, в котором угадывается горечь пополам с гордостью.
— Шик? — переспрашиваю я. — Нет, термин слишком короткий для такого длинного предмета. Тут, Бог свидетель, можно сказать многое… В разных тональностях. Ну вот, например. Агрессивно: «Будь у меня такой, я бы его моментально отрезал!» Дружески: «Но он же, наверное, путается у вас под ногами». Описательно: «Это лемех… Это клюшка… Это руль. Да что там — руль! Пожарная кишка!» С любопытством: «А для чего служит этот огромный маятник?» Милостиво: «Не хотите ли, забавы ради, сбивать своей лопатой масло в бочках?» Язвительно: «Это, когда вы сами вынимаете, напоминает шланг на бензоколонке или даже печную трубу!» Предупредительно: «Осторожней нагибайтесь, как бы ненароком не сломать такой редкий экземпляр!» Нежно: «Поскольку он служит для светских забав, не позволяйте ему размениваться на мелочи!» Педантично: «Только у слона, мечущегося по саванне, такой хобот между бивнями, да нос у Сирано!» По-рыцарски: «Ну что, брат, скажу тебе, что пока такая чертовщина существует, я, пожалуй, не рискну повернуться к тебе спиной!» Высокопарно: «С таким монументальным фаллосом вам гарантирован маршальский жезл!» Патетически: «Друг мой, это ваш отличительный знак!» Восхищенно: «Каков скипетр — таково и королевство!» Лирично: «И мачта гордая противится ветрам!» Наивно: «Это пилон или свая?» Уважительно: «Знаешь, Берю, по этой штуке тебя легко найти в любой толпе!» По-товарищески: «Мать моя, вот это да! Нужно очень большую печь, чтобы испечь такой длинный батон!» По-военному: «Черт возьми! В саперы шагом марш!» Практично: «И это входит в комплект к мочевому пузырю? У вас колокол вместо колокольчика!» И, наконец, чтобы закончить этот поэтический ряд: «Перед вами дубовый ствол, пустивший молодой побег! Да в нем не меньше шести метров!» Вот что ты должен был сказать, мой дорогой Берю, если бы мозг у тебя был такой же большой, как то, что мы видим!
Берюрье, который слушал меня очень серьезно, качает головой и поднимает шторы на окне.
— Браво! Одновременно со зрением к тебе вернулась твоя болтовня. Клянусь, ты, кажется, заговорил стихами! А я-то, дурак, надеялся, ты скажешь чего умного, чтобы мне помочь по-товарищески!
Я слегка шлепаю его по уху и декламирую:
— Чтоб должное отдать твоей великой мочи, готов я посвящать и дни свои и ночи! А, каково, Александр?
У него потрясающе довольный вид, у моего Берю.
Мы наконец одеваемся.
И рука об руку весело шагаем к двенадцатой главе, как старые друзья, одновременно вновь обретшие один — зрение, а другой — красное вино.
Глава (дюжинно) двенадцатая
— Привет, мама! — входя, восклицает Александр-Бенуа.
Первый раз в жизни он называет Фелицию мамой. Обычно в отношениях с ней он более церемонен. Моя мать, насколько я знаю, единственный человек, кого Берю уважает по-настоящему. Но в такую исключительную минуту и отношение Толстяка к ней особое. Это как бы продолжение события.
Моя старушка оборачивается.
Боже, как она изменилась, моя мама, за эти несколько дней! Можно было предчувствовать, предугадывать, но сложно видеть пальцами. Я трогал ее лицо, но мое чувство осязания не позволяло мне представить изменения, происходящие в ее облике. Черты лица заострились. Появились серые тени и круги под глазами и печать грусти в глазах, какую можно увидеть разве что у женщин Корсики, чьи семьи находятся в постоянной кровавой вендетте.
Она хмурит брови, услышав такое обращение к ней со стороны моего друга, и кладет на стол вчерашнюю привезенную из Парижа газету, от которой еще пахнет краской.
Кстати, вы не заметили: французские газеты, как и шоссе во Франции, никогда не высыхают окончательно.
Матери достаточно и четырех секунд, чтобы понять чудо, произошедшее с ее сыном. Она тут же устремляет внимательный взгляд на мои глаза и понимает, что я вижу.
Вам когда-нибудь доводилось видеть в документальных фильмах, как раскрываются цветы? Здесь такая же картина. Счастье на ее лице распускается подобно розовому бутону на экране. Это происходит практически моментально. Она находилась как бы в зимней спячке и теперь проснулась. Спящая Красавица, друзья мои! С музыкальной фонограммой из пения птиц и музыки Штрауса (не немецкого политика, а австрийского композитора).
— Почему я была так уверена? — запинаясь, произносит она.
Два шага — и мы обнимаемся. Берю снимает трубку телефона и, плача от радости, срывающимся голосом на дикой романо-германской смеси заказывает в номер бутылку шампанского.
— Это не потому, что я тащусь от него, — заявляет он нам, — но просто такое событие нужно обязательно спрыснуть шампанским. После чего я, если позволите, перейду срочно к красному. Я видел, здесь есть «Кот дю Рон»…
— Как же это произошло? — спрашивает мама.
Вопрос скользкий. Не станешь же рассказывать матери, что произошло в действительности. Но Берю оказывается более находчивым, чем я. Можете мне поверить на слово, в противном случае воткните свеклу себе в задницу, но это действительно так.
— Не в моих привычках хвалиться, но это благодаря мне, — уверяет Наше Скромное Величество. — Я повел его к одному целителю, о котором был наслышан раньше. Хороший парень, правда, Сан-А?
— Гм… Да, действительно…
— Что он сделал? — настаивает маман, ласково гладя кончиками пальцев мои веки.
— Ну… э-э… он ему показал один способ, а, Сан-А?
— Способ? — удивляется моя мужественная мама.
— Точно так, выражаясь буквально, дорогая мадам, — способ… — уверяет мой находчивый друг. — Зачем мне врать, скажи, Сан-А?
— Да-да, так и было. По-другому вряд ли скажешь…
— Но у этого человека исключительный дар! — радостно вскрикивает Фелиция.
— И вот доказательство! — торжественно подхватывает Берю. — Не у всякого человека есть такой дар, правда, Сан-А?
Маман чувствует, что мое выздоровление происходило не совсем так, как мы тут пытаемся ей изложить, но она также понимает, что нам что-то мешает рассказать всю правду, и прекращает интервью. Ей довольно результата. Она мудрая, моя Фелиция. И тут как раз вовремя приносят бутылку теплого шампанского «Дом Периньон», что помогает нам всем выйти из щекотливого положения.
Кто сказал, что в исключительных случаях нельзя пить теплое шампанское?
Берю гордой поступью и преисполненный собственного достоинства вваливается вместе со мной в приемную маршала фон Фигшиша.
Нам открывает очень любопытная персона. Он типичный баварец и хочет, чтобы все об этом знали. На нем кожаные шорты с вышивкой, черный пиджак с красными отворотами и шляпа, в которую воткнуты перо фазана и хвост енота, что должно символизировать тягу к охоте.
Он низенького роста, толстенький, розовощекий, с холодными рыбьими глазами и большим шрамом через все лицо, — словом, грустный клоун, не вызывающий симпатии.
— У нас назначена встреча с маршалом, — говорю я.
Он смотрит на меня.
— Маршал может принять только одного человека. У кого из вас двоих назначена аудиенция?
— У этого господина, — уточняю я, указывая на прилипшего к косяку двери явно засыпающего Берю. — Но он не понимает по-немецки, поэтому я буду служить ему переводчиком.
— Маршал сам говорит по-французски.
Ну и мерзкий же взгляд у этого расфуфыренного индюка. Могу поспорить, он ненавидит французов. Среди немцев это водится, знаете ли. Надо признать — в других странах тоже. Честно говоря, кроме Ливана, я не знаю страны, где хорошо относятся к французам, даже в самой Франции. Пока у нас был Морис Шевалье, еще кое-где оставались крупицы симпатии, а с тех пор как его не стало, все стерлось! К нам везде относятся с антипатией. Официально! Я хорошо знаю, поскольку много путешествую… Повсюду от нас воротят рожи. Лучше сказать, что ты канадец, или бельгиец, или марокканец, даже с Берега Слоновой Кости или Островов Зеленого Мыса. В Бейруте еще сохранили какие-то мысли по поводу Франции, особенно те, которые держал про себя наш Шарль де Голль. Я вам рекомендую поехать туда в отпуск, но только не ездите многочисленной оравой, а то они тут же станут франкофобами, как наши бывшие самые лучшие друзья, и мы потеряем свой последний бастион. Ну и черт с ним: чтобы уметь выкарабкиваться, нужно сперва упасть на дно.
Баварец с хвостом и пером, похоже, колеблется и выражением физиономии становится похож на смятый передок «мерседеса».
Я отвешиваю ему лучезарную и преданную улыбку.
— Не жалею, что приехал к вам с моим другом, — заявляю я. — Ваша страна великолепна… Традиции, пиво, квашеная капуста! Какая красота!
— Следуйте за мной! — сдается он.
Тут, дорогие мои, начинается фантасмагория. Честно говоря, я в жизни видел много удивительного: обезображенных кретинов, нечистую силу, прочие гнусности. Сколько же психов разгуливает на свободе! Но безумия такого масштаба не видывал никогда! Пока никогда! Колоссаль, как говорят немцы. Германия — и этим все сказано! Немцы созданы, чтобы жить в другом мире! Клянусь! На какой-нибудь другой планете, большей по размеру, чем наша. Я их вижу (и с удовольствием послал бы туда) на Юпитере! Он в 1300 раз больше, чем Земля! Есть где развернуться, а? Воевать! Строить всякие распрекрасно прекрасные сооружения. Кстати, некоторые высокообразованные дебилы опять начнут меня обвинять в том, что я пишу не по-французски. Распрекрасно прекрасные — они решат, что это ошибка. Был однажды случай, когда я встретился с одним таким умником, вообразившим себя большим знатоком французского языка. «Вы, должно быть, невнимательно вычитывали ваш последний роман, — сказал мне этот защитник родного языка, — у вас там написано «изумительно изумительный». Вы, очевидно, не заметили». Лучше бы я его самого не заметил! О Боже, сделай так, чтобы я никогда не мучился простатитом. Избави меня, Господи, от задержек мочеиспускания, чтобы я мог мочиться на них в свое истинное удовольствие, на этих недоделанных лингвистов, неспособных выдавить из себя ни свежей струи, ни полезных капель! Чтобы залило им рот и глаза, таким внимательным, когда дело касается чужих творений! Но наступит день, когда с уверенностью можно будет сказать, что свершилось: мочитесь против ветра! Всякие слова бесполезны. Язык летит в тартарары. Тебе остается только моча, чтобы выразиться. Все красноречие сосредоточено в мочевом пузыре. Твой стиль в напоре струи. Нужно пить настойку из хвостиков черешни. Много-много! Килолитры, чтобы наполнить свой резервуар. Держать все время наготове и поливать как из шланга. Тебе задают дурацкий вопрос? Псс-пссс! Тебе не хочется отвечать? Псссшшш! Поскольку ты сам, Боженька, создал их дураками, то спасибо по крайней мере за то, что ты их сделал отвратительными!
Думаете, я спятил? Говорю чушь?
У меня есть доказательства!..
Итак, все происходит следующим образом.
Дверь открывается, и мы входим в небольшое помещение — новое, обычное, без мебели, без души. На самом деле это всего лишь тамбур, отделяющий внешнюю жизнь от внутреннего мира маршала. Когда мы проходим тамбур и открываем вторую дверь, мы попадаем в нечто неизмеримое, сравнимое разве что с Большим дворцом на Елисейских полях — чудовищных размеров ангар. Где-то наверху огромная стеклянная крыша площадью не меньше гектара. И когда я говорю, что где-то наверху, то я отдаю себе в этом отчет, потому что крыша над нашими головами висит на высоте не менее сорока метров. Если у вас клаустрофобия наоборот, то вы точно умрете на месте, едва шагнув в этот гигантский цирк. Вас раздавит безмерность пространства. Нет ни одного музея таких каллоссальных (это не ошибка в правописании, это говорит мой страх перед безграничным) размеров. Когда мы идем по центральной аллее, нашему взору предстает широкая стена замка ни много ни мало венского стиля. Но протрите глаза! Перед нами лишь узкий торец здания. А в длину оно огромно. Устрашающе! Слышите? Устрашающе! Здесь располагается коллекция фон Фигшиша. Вся! Полностью! Дирижабли всех видов. Аэростаты. Воздушные шары. Толстый и длинный «Граф Цеппелин». Гулливер среди великанов!
Мы инстинктивно делаем шаг назад, но церемониймейстер с пером и хвостом, привычный к подобным реакциям, торопит нас и подгоняет вперед. Его гортанный голос перекатывается под гигантскими сводами, как набирающая скорость снежная лавина.
Мы следуем за ним, похожие на беззащитных крошечных муравьев, затерявшихся в Шартрском соборе.
Толстый бесконечный ковер, по которому мы, набравшись смелости, ступаем, заглушает звук наших шагов. На ходу рассматриваем пугливым взором резиновых монстров, собранных в этом фантастическом месте.
— И все это надуто! — шепчет Берю. — Если обрубить тросы, то весь музей взлетит к чертям в косметическое пространство!
Баварский охотник решительным шагом идет впереди. Несмотря на короткие ноги, он очень ходкий, и мы еле за ним поспеваем.
Наконец, пробежав порядка километра, мы входим в пространство, похожее на лес из натуральных деревьев, окружающих — угадайте, что? — старый железнодорожный вагон. Я столбенею.
— Салон-вагон! — вырывается у меня.
Этот экспонат, где были подписаны договоры о перемирии в 1918 и 1940 годах, был воссоздан здесь и установлен на рельсы в глубине музея среди просеки. Более того, чтобы никто не задавал глупых вопросов, рядом водрузили щит с соответствующими надписями.
Баварец, услышав мое восклицание, поворачивается к нам.
— Правильно, — говорит он. — Господин маршал живет в этом вагоне с окончания войны. Извините!
Он поднимается по железным ступенькам, открывает дверь вагона и подает нам знак следовать за ним.
Эти шикарные вагоны начала века отделаны красным деревом, внутри массивные зеркала, лампы с абажурами в стиле рококо, плетеная мебель, толстые коричневые ковры, — словом, стиль капитана Кука.
Перед нами в кресле сидит потрясающий робот. Два металлических захвата в виде вилок для мяса, служащих маршалу в качестве рук, покоятся на подлокотниках. Такие же металлические агрегаты заменяют ему ноги. У него коротко остриженные волосы бобриком, золотые зубы и отсутствует одно ухо. Стеклянный глаз таращится на нас.
— Двое? — рявкает он, будто кто рубанул топором по стеклу.
Маршал, видно, не в восторге от посетителей, привык жить сам по себе. Реликвия, а не человек. Он отделился от человечества, как мертвая ветвь от своего ствола.
— Я переводчик, друг и советник господина Берюрье, — представляюсь я.
Толстяк выбрасывает руку в старом немецком военном приветствии.
— Рад встрече с вами, мой маршал! — гаркает он.
Фон Фигшиш поднимает свою вилку и шевелит ею.
— Извините, — говорит он строго.
Любезный Берю от радости хватает хромированные клещи маршала и старательно трясет их.
— Никаких шишей между нами, мой маршал, — приговаривает он. — Я не собираюсь брать в руки разводной ключ, чтобы пожать ваши славные клещи!
Единственный глаз фон Фигшиша испускает холодную молнию. Он резко отдергивает искусственную руку.
— Вы принесли фотографию с изображением предмета наших переговоров? — спрашивает он.
— Естественно, мой маршал! — заверяет Толстяк, вытаскивая из кармана портмоне, больше смахивающее на шкурку раздавленной автобусом жабы. — Со мной, знаете, никаких проблем: сказано — сделано.
Он начинает рыться в этом срамном кожаном изделии, поочередно извлекая на свет кружок копченой кровяной колбасы, водительские права, фотографию Берты, снятую еще в период цветения, огрызок расчески, использованный презерватив, локон (сальный) волос, отрезанный в приступе страсти от прически любимой супруги, кулинарный рецепт, вырванный из журнала «Пари-матч» в приемной дантиста, обрывок бумаги с адресом проститутки, билет метро и, наконец, тщательно завернутую в сортирную бумагу копию фотографии очень старой гравюры с требуемым изображением шара братьев Монгольфье, или попросту монгольфьера.
— Вот предмет, мой Фон! — радостно потрясает в воздухе зажатой в руке картинкой продавец воздушных раритетов Александр-Бенуа.
— Was?! — взрывается металлическое чучело. — Это не фотография!
— Конечно, нет! Кто утверждает? — парирует Берю. — Это гораздо лучше! Гравюра времен, когда этот шар служил простотипом, вырванная из энциклопедии Франции. Вот, пожалуйста! Чтобы вы могли убедиться, что конструкторы машины находятся на борту, здесь понизу написано: Жозеф и Этьенн Монгольфье. Они же вам не будут врать, правда? Улететь за горизонт по воздуху на такой чертовщине! Были же мозги когда-то во Франции!
— У вас есть похожий аппарат?
— Что значит — похожий? Вот этот и есть, буквально, мой маршал! Вы, наверное, думаете, он новый? Так я специально делал экспертизу у бывших прапраправнуков братьев Монгольфье. Они все в один голос: это точно настоящий баллон.
— Я не буду покупать, пока мой секретарь сам не увидит его и не представит мне отчет, — говорит, как рубит, остаток тела маршала. (Я не могу здесь употребить термин «сильно израненный», учитывая большую нехватку частей.)
— О, это он сможет сделать, как только приедет к нам, — уверяю я.
Я ищу лазейку, чтобы броситься туда с нашим вопросом, который, собственно, и привел сюда нас с Берю. И эту лазейку предоставляет нам сам маршал, спеша спросить:
— Хорошо, сколько вы за него хотите?
Я начинаю делать вид, будто думаю.
— Господину Берюрье не нужны деньги. Он хочет совершить обмен.
— Какой обмен?
— Его монгольфьер на дирижабль модели Зад-Вог Н.Е., господин маршал… До него дошли слухи, что у вас эта модель в двух экземплярах.
Интересно, у маршала действительно искусственный мозг на транзисторах? Поскольку он каждый раз делает паузу, чтобы среагировать.
— Нет, у меня нет больше этой модели в двух экземплярах, — бормочет он. — Я должен был недавно продать один, чтобы починить стеклянную крышу своего музея.
— О! А кому вы его продали?
— Сам не знаю…
— Как это — не знаете?
— Сделка была совершена через посредника в Мюнхене. Я правильно говорю — посредник? Так говорят?
— С еще большим удовольствием говорят — посредница, или попросту сводня, но термин абсолютно точен. Как зовут этого господина?
Он уже открывает рот… Не без трудностей, конечно, поскольку я подозреваю, что у него челюсть из серебра; это, вероятно, помогает ему проверить правильность истины, сравнивающей молчание с золотом, и сохранить до старости железную глотку (если вы считаете, будто я нагородил лишнего, вычеркните!). Да, он открывает рот, чтобы назвать имя, но спохватывается и вновь закрывает.
— Не беспокойтесь, господин маршал, — спешу я его заверить, — мы не уступим наш шар вашему покупателю, которому, возможно, даже наплевать на него. Просто мы сделаем ему предложение о покупке интересующей нас модели по высокой цене. Если он согласится, то тогда мы сможем без лишних заморочек продать вам наш монгольфьер.
Он трясет головой.
— Что это — заморочек? Впрочем, все равно, господа. Я буду вести переговоры о сделке сам. Мой секретарь займется операцией. Приходите завтра, мы продолжим дискуссию.
Он делает движение подбородком. И тут его правая рука с металлическим щелчком вскидывается в безупречном приветствии а-ля Гитлер.
— Хайль Гитлер! — вторит ему секретарь со шрамом и хвостом енота.
— Нет, идиот! — в бессилии скрежещет золотыми зубами маршал фон Фигшиш. — Вы оставили механизм включенным после визита адмирала фон Безболта. А нужно было переключить на визит иностранных гостей. Вы становитесь небрежны, Пауль Гете!
Баварец делается фиолетовым.
Он бросается к своему хозяину, чтобы вернуть руку в менее геометрическое положение.
— До завтра, в то же время! — бросает нам фон Фигшиш.
— А если мы урегулируем этот вопрос по телефону? — гипотетически рассуждает вслух Берю после того, как зевает в сто двадцать восьмой раз.
— Нет, — отвечаю я, барабаня пальцами по рулю взятого мной напрокат «мерседеса».
— Почему нет?
— Такие вопросы по телефону не решаются. Этот выживший из ума старик слишком заинтересовался «твоим» монгольфьером. Он должен поговорить с посредником. Или он его вызовет сюда, или пошлет к нему своего секретаря.
— Хорошо, тогда валяй думай сам, создавай свою версию, делай, что хочешь, — ворчит Толстяк. — Не буду ломать башку по этому поводу, небось господин Большой Хитрец все уже распланировал!
И он добавляет сто двадцать девятый зевок к своей серии.
— Только вот получается, что я хочу есть и мне нужно поспать, — заявляет он. — К тому же ночь на дворе.
— Смотри!
Я показываю ему на машину, которая сворачивает с шоссе в нашу сторону. Она въезжает на боковую дорожку, ведущую к поместью маршала, и едет мимо леса, где мы прячемся.
— Что я говорил, Толстяк?
В качестве ответа господин Туша поудобнее устраивается между подлокотников сиденья и складывает руки на брюхе, кричащем от голода. Я осторожно давлю на газ и, не зажигая фар, выезжаю на шоссе. Через несколько метров после поворота я прижимаюсь к обочине и останавливаюсь. Выезд на шоссе со стороны Фигшиша предопределяет обязательный поворот направо, так что риск, что гость поедет в другую сторону, исключается.
Я уверен, что наше новое ожидание продлится недолго, поскольку маршал не терпит пустой болтовни. У этого человека урезано не только тело, но и речь.
И действительно, через двадцать минут вновь появляется машина гостя. Я вижу, как свет белых фар пляшет по стволам деревьев и столбикам. Я отъезжаю. Хитрость состоит в том, чтобы его машина обогнала нашу, тогда водитель не сообразит, что его преследуют. Все проходит как по маслу. Преследование упрощается еще и тем, что он едет на небольшой скорости в громоздкой американской машине старой модели, которая, похоже, еле тянет. Я вижу парня только со спины, но понятно, что он грузный, а его голова без шеи утопает в плечах. На всякий случай я записал номер машины, если ему вдруг придет в голову замести следы.
— Как ты собираешься действовать? — спрашивает Александр-Бенуа.
С тех пор как я вновь прозрел, он автоматически снова стал моим подчиненным.
— Посмотрим, — говорю я неопределенно.
Толстяк удовлетворяется объяснением. Он сильно озабочен своим «недугом», который вновь дает о себе знать. Наступает момент снятия напряжения: природа настойчиво требует свое…
— Знаешь, — тяжело вздыхает он, — я люблю пожрать, но быть без женщины — это расшатывает организм хуже любой голодовки. В моем состоянии я готов прыгнуть на кого угодно… Нужно смотреть правде в глаза: я мечтаю о кенгуру!
Мы проезжаем многоэтажные новостройки на окраине Мюнхена. Наш «посредник» направляется в центр города по улице Ландсбергер-штрассе. Внезапно он сворачивает и въезжает на парковку. Я притормаживаю, давая ему возможность немного уехать вперед. Он едет на второй этаж. Я за ним. Мы паркуем машины буквально в нескольких метрах друг от друга. Я жду, куда он двинет. Но он далеко не уходит, а залезает в телефонную кабину, находящуюся в центре зала.
Он у нас как на ладони, так как кабина из стекла со всех четырех сторон. Я могу не спеша рассмотреть нашего клиента. Пьяница! Это удивительно. Типичный алкоголик. Шнапс-пиво-ликерный тип. У него практически синее, изрытое морщинами лицо с паутиной кровеносных сосудов, выступивших на щеках. Массивную голову венчает абсолютно гладкая лысина. Этот малый напоминает мне круглый столик в стиле восемнадцатого века, где единственная ножка изображала какой-нибудь персонаж. Довольно забавно наблюдать такой столик, которому вздумалось звонить по телефону. Беседа затягивается. До меня доносятся звуки его голоса. Парень резко жестикулирует. Иногда мне кажется, что он рычит. У него и правда в повадках есть что-то от животного. Наконец он вешает трубку, причем ему это удается с четвертой попытки — три раза промахивается мимо рычага. Он выходит и оставляет дверь кабины открытой.
Следить за ним на своих двоих — задача еще менее трудная, чем преследование на машине. Он тяжело шагает, будто крестьянин по свежевспаханной борозде. Я слышу, что он разговаривает сам с собой, помогая себе руками, потом останавливается, кашляет и прикуривает сигару, толстую, как достоинство Берю.
— Он маленько не в себе, твой парень! — замечает Толстяк.
— Пьяный просто, — поправляю я. — По-моему, к концу дня он должен видеть жизнь в нескольких экземплярах. Это тот тип алкоголиков, которые постоянно поддерживают такое состояние, а у постели всегда наготове бутылка шнапса, чтобы поутру унять тряску рук.
Посредник одет в серый костюм в светлую полоску. Он неопрятен. Двубортный пиджак застегнут лишь на одну верхнюю пуговицу, а снизу видна расстегнутая ширинка.
Он останавливается перед огромной пивной, которая занимает весь дом. Эти заведения делают всемирную славу Мюнхену. Малый спускается по ступенькам импозантной лестницы и толкает одну из нескольких дверей, покрытых блестящим лаком. Входит внутрь. Исчезает!
— Это что, вокзал? — спрашивает с любопытством Берюрье.
— Нет, «Пивной дом».
— Интересно, — обрадованно произносит мой преданный друг и, подавая мне пример, ныряет в ту же дверь.
Помещение практически такое же огромное, как выставочный павильон маршала фон Фигшиша. На нас обрушивается фантастический аромат пива и копченостей, разноголосый гвалт, как на митинге, и металлическое дребезжанье оркестра. Музыканты одеты в национальные костюмы, сидят на небольшой эстраде.
Несколько сотен посетителей, заливающих в себя литрами пиво, представляют собой сплошную шевелящуюся массу. Громадные столы гнутся под тяжестью пустых и полных кружек. Крик, шум, песни, музыка, звон посуды. Чистой воды психоз — коллективное накачивание пивом.
— Бог ты мой, вот это классика! — впадает в экстаз Толстяк. — Вот это, я понимаю, закусочная! Представляешь, если сравнить с нашими маленькими кафешками в Париже?
Я обнаруживаю плоскую голову без шеи нашего клиента. Он ищет место в глубине зала. Здесь свои привычки — это понятно. По мере его прохождения между рядами вскидываются руки в приветствии. Он раздает оплеухи направо и налево. Это знак проявления истинной дружбы, за что у нас давно бы уложили на веер из собственных зубов.
Огромные официантки прокладывают себе дорогу во всеобщей кутерьме с помощью толчков бедрами и бюстом. Они разносят широкие подносы, заваленные дымящимися сосисками, пышущими жаром и тугими, как живот Берюрье…
Его Величество впадает в чистый (также можно сказать — грязный) транс. Он хватает себя за место, готовое выпрыгнуть с минуты на минуту. Но в это время дама, которую приличный и обычный автор назвал бы миловидной официанткой, а я — толстой коровой, проходит прямо перед ним. Берю не выдерживает и цепляется за нее, как альпинист за скалу. Ну, мужики, дело будет! Все это происходит в сплошной толчее широченного, как степь, центрального прохода. Корова (извините, повторюсь) несет полный поднос тарелок с сосисками, составленных пирамидой. Она держит поднос над головой, как держат ребенка в толпе во время массовых шествий.
— О, проклятье! Какая женщина! Ох, какая женщина! — выпучив глаза, заикается Берю.
И он хватается, он цепляется, он кряхтит, он прижимается к ней и с ходу… кое-что случается, поскольку Толстяк случается теперь точно по часам. Поднос продолжает покачиваться, дама вдруг понимает, что с ней происходит, и слабо сопротивляется. У нее привычка к шаловливым рукам, но подобная сарделька… — есть от чего тронуться умом! Она по инерции продолжает движение мелкими шажками. Некий контакт ее потрясает. Она не верит своим ощущениям. Но настойчивость Берю заставляет поверить. Он как бы информирует ее о своем присутствии. О глубине (и какой!) реальности. Какая радость вовремя обрести зрение. Представляете, если бы я пропустил такой аттракцион! Берю, слившийся воедино с толстухой в баварском национальном костюме под названием «трахт», посреди беснующейся толпы. И эта женщина с поднятыми руками, медленно передвигающаяся по залу, не имеющая возможности ни протестовать, ни поднять трусы, ни одернуть юбку. Она тяжело дышит, краснеет, пыхтит, шевелит губами, призывая на помощь «папу-маму»… Красота! Роскошь Древнего Рима! Александр-Бенито, кентавр, рыцарь без страха и упрека, с железным жезлом, пуская дым из ноздрей (и слюни изо рта), в едином порыве под серебряным зонтиком, полным жиров и углеводов. Торжество силы, праздник страсти, неистовство плоти! Никто ничего не видит, только мы трое посвящены в великую тайну! Интересно, успеет ли он, поскольку конец прохода уже через несколько шагов. Любопытно, что произойдет, если их заметят? И вот перед ними свободная зона. Что будет? Меня прошибает пот. Но Толстяк человек опытный. Он ходил на балы, устраиваемые на окраинах Парижа, и знает, как вести себя в толпе. Не забудьте, что прежде он работал в униформе и умел во все стороны раздавать подарки резиновой дубинкой еще в те времена, когда у полиции не было средневековых щитов, как сейчас. Я вижу, как он прикусывает губу, направляет ведущего, меняет траекторию, и они снова ныряют в толпу. Оркестр наяривает с новой силой. Повсюду поют, сцепившись руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Немцы надрывают глотки во славу национал-социализма (не столько социализма, сколько национализма). Берю с толстухой в ритме танго продолжают движение, но теперь я вижу, что оба сильно меняются в лице. У Берю глаза на лбу, а толстуха смеется, широко открыв рот. Но ее голос не слышен в толпе. Похоже, культовое действо закончилось.
Я сажусь за тот же стол, что и наш посредник. До чего же он воняет, этот малый! Перешибая все крепкие ароматы пивной, от него несет перегаром, помноженным на пот, от чего у меня начинают слезиться глаза. Я сел рядом с ним, поскольку в таких пивных в основном стоят огромные общие столы. Чужих нет, все свои. Каждый терпит каждого. Старик-попрошайка с белой косматой бородой, в военной фуражке с оторванным козырьком, в железных очках, дужки которых перевязаны пластырем на затылке, ходит от стола к столу. Он пальцем показывает на тарелки клиентов, где еще сохранился рельеф, и, получив согласие, жадно вылизывает жалкие остатки.
Наш клиент заказал себе огромную кружку пива. В принципе в такой посудине вы свободно можете вымыть ноги одновременно всей семьей. Он погружается в пену, стоящую шапкой над пивом, и когда отрывается от кружки, такое впечатление, будто он собрался бриться.
— Все в порядке! — слышу я рядом с собой голос удовлетворенного Берю. — Господи, я даже вообразить не мог, что когда-нибудь придется совершать интим перед тысячью человек! Слава Богу, нас никто не видел.
В этот момент с галереи раздаются аплодисменты. Большая группа молодых людей с гривами и бородами, стоя, хлопает в ладоши. Мы поднимаем глаза. Это они воздают должное моему Толстяку. Благодаря перспективе с верхней точки они все видели. И оценили, значит! Они что-то кричат. Они заходятся от энтузиазма! Коррида, да и только!
— По-моему, ты заслужил хорошую жратву и крепкий сон, — говорю я.
Половой гигант отвечает на восторженные возгласы, кланяется.
— Мне бы лучше порцию пива для взрослого и гору колбасы, — отвечает Толстяк, который предпочитает материальные радости преходящей славе.
Я делаю заказ. Мой друг отирает пот со лба.
— Очень достойная женщина, — заверяет он. — Представь себе, даже говорит по-французски. Замечательный человек! Вдова шофера грузовика. У нее взрослая дочь-проститутка и парализованный сын. Она здесь работает уже восемь лет. Жалуется на скверные манеры клиентов: люди не умеют себя вести, никакого понятия о приличии. Вот, полюбуйся, оглядись вокруг — ничего удивительного! А что касается ее самой, то я тебе скажу: великолепно! Брат, она такое делает — сразу видно, душевный человек! Вежливая, обходительная! Знаешь, что мне больше всего понравилось? Услужливость! Самообслуживание: берите, что хотите, господа, угощайтесь на здоровье! Я люблю свободу действий. Это меня захватывает.
Нам приносят заказ. Берю пьет с жадностью.
— Вы французы? — спрашивает сосед по столу по-немецки.
К нам обращается тот, кого мы пасем. Очень удобно!
Он в еще большем окосении и, поскольку, как всем алкоголикам, ему необходимо поболтать, решает обратиться к ближнему. Но приход еще одного человека, с которым у него назначена встреча, душит развитие наших отношений в зародыше. Этот тип большого роста, сильный, живой, бледный, с острым носом и светскими манерами. Чувствуется, что он из общества и ему непривычны такие переполненные пивные. Есть что-то высокомерное во всем облике этого молодого человека. Я делаю вид, будто не обращаю на него внимания.
— Вы не могли бы немного подвинуться? — спрашивает меня посредник по-немецки.
— Да, пожалуйста.
Парень втискивается между нами, и они начинают перешептываться. Я вытягиваю ухо в их сторону, но стоит такой шум, что я ни слова не разбираю из их разговора. Мне кажется, что я слышу имя фон Фигшиша, произнесенное молодым человеком, но этим и заканчивается операция перехвата. Я задумываюсь. Что же можно предпринять?
Толстяк в упоении перемалывает гору копченой ветчины, закрыв глаза, чтобы полностью отдаться пищеварительному процессу.
— Эй, поросятина! — зову я его.
Он приподнимает одну шторку над глазом, и я угадываю его коровий экстаз.
— Ты способен слушать, Мамонт? Несмотря на ветчину?
— Конечно, я ведь пихаю это в рот, а не в уши! — мычит он с набитым ртом, продолжая засовывать туда розовые куски.
— Ладно! Тогда слушай: я сейчас попробую проследить за этим типом рядом со мной, понял?
— Так точно! (В действительности слышится громкое хрюканье.)
— А ты займись другим. Думаю, тебе будет нетрудно. Он любит выпить и поболтать. Если он не говорит по-французски, валяй на пальцах. Постарайся пробыть здесь как можно дольше, пока я не приду. Если он уйдет, иди за ним. Если не удастся, топай в гостиницу, понял?
Дав указания, я делаю два больших глотка из своей кружки размером с бачок и выхожу из пивной поджидать на улице парня с крючковатым носом.
Глава (суеверно пропущенная) тринадцатая
Глава (решительно) четырнадцатая
Переговоры были короткими, поскольку парень с носом крючком вышел буквально за мной следом. Странно, правда? О чем таком они говорили здесь, чего не могли сказать друг другу по телефону?
Я снова вспоминаю угрожающий тон разговора, который пьяница вел в телефонной кабине на автомобильной стоянке. Разговор был бурный, жесткий…
Кажется, понимаю! Конечно, он был жестким, поскольку речь шла о цене и он требовал бабки. Моя уверенность подкрепляется еще и тем, что парень с крючковатым носом принес пьянице конверт. Похоже, в нем были деньги.
Шантаж! Решительно, мой Сан-А, с тех пор как у тебя вновь заработали глаза, ты быстро выходишь на нужный след. Все сходится именно так, как я думал: посредник, вызванный маршалом-роботом, вдруг выяснил для себя что-то, и это что-то позволило ему шантажировать «других».
И он назначает встречу в наиболее людном месте города, поскольку просто их боится.
Приезжает посланник и передает ему конверт с наличностью, чтобы он заткнулся. Мне кажется, это версия, — как вы думаете, друзья-читатели? Остается лишь проследить, куда направится бледный тип, чтобы потом задать ему несколько доверительных вопросов. Я топчусь в нескольких шагах от стоянки такси, где черные машины ждут желающих поразвлечься в ночном Мюнхене. Жаль, я оставил свою тачку в гараже. Мне нравится свобода маневра. Для меня всегда щекотливое дело (особенно за границей) — вскочить в любую машину и крикнуть: «Вперед за той машиной!» Во Франции — другое дело: моя карточка полицейского является убедительным аргументом, но здесь?
Я продолжаю торчать возле свободных такси, роясь в своих мыслях, как вдруг вижу, что парень возвращается и проходит до угла улицы с противоположной от меня стороны. Он что же, приперся сюда пешком? Собственно говоря, почему бы и нет? Но я вынужден отбросить эту мысль. Раздается характерный рев мотора, и из-за темного угла штрассе выныривает мощный мотоцикл с седоком, одетым в черную кожаную куртку, с огромным серебристым шлемом на голове. Он резко тормозит рядом с молодым парнем, тот быстро садится сзади, и черный снаряд, сорвавшись с места со скоростью метеорита, уносится по освещенной улице неизвестно куда. И все! Будто и не было! А я остаюсь в ж..! Нечего и думать гнаться за ним! Как раз успеешь сосчитать до полутора, а господа уже растворились. Лишь темное облако дыма! Я пытаюсь утешить себя, соображая, что даже если бы я сидел за рулем машины с заведенным мотором, то мне за ними все равно никогда не угнаться. Все произошло слишком молниеносно! А теперь ищи-свищи!
Я еще раз бросаю прощальный взгляд в ту сторону, где растворился мотоцикл, и возвращаюсь в пивную. Открываю дверь, и мне в нос бьет тошнотный запах квашеной капусты. Круто пахнет выписанным пивом или теми, кто это делает. Шум еще больше усилился.
Нам остается всерьез заняться посредником. Только от него можно добиться каких-то сведений. Но здесь доверительной беседы точно не получится, поэтому надо найти другое, более укромное, местечко. Во всяком случае, я верю в свою счастливую звезду.
Если вы не будете меня торопить, то все скоро узнаете.
Когда я приближаюсь к плотным слоям атмосферы нашего стола, то меня немного обескураживает то обстоятельство, что вокруг него тусуется слишком много людей.
Охваченный дурными предчувствиями, я с помощью локтей и напора торсом пробиваюсь в первый ряд амфитеатра и обнаруживаю то, чего опасался. Посредник лежит на скамье с открытым ртом, руки его свисают по обе стороны вниз, как брошенные весла. Глаза вылезли из орбит, губы более лиловые, чем щеки, а огромный нос стал еще шире.
Пылкий Берю, размахивая руками, пытается что-то объяснить на тарабарском языке непонимающей враждебной толпе.
— Мой херр лакал свое пиво. Потом икнул! Поняли вы, икать? Вот так: иик!!! Потом все бросил и упал, но в пиво. Капут! Шнель! Ахтунг! Хайль Гитлер! Сдох! Таненбаум! Люфтваффе! Ваффен СС. На Берлин! Гутен таг! Капито? Си, синьора!
Он захлебывается, пытаясь убедить встревоженную толпу! Похоже, несчастный Берю совершенно ополоумел, поняв, что влип в серьезную переделку. Мой милый помощник просто потерялся в этом водовороте. А оркестр шпарит с новой силой.
Любители пива горланят, выражая свои подозрения.
Я наклоняюсь над мертвым.
Он действительно стопроцентно мертвый, можете мне поверить!
Вам следует знать, что одно из многих моих достоинств — умение втихую обследовать содержимое карманов своих сограждан. А уж покопаться в карманах у мертвого — нет ничего легче. Мои пальцы в стиле клешней американского омара начинают прогуливаться по шмоткам бывшего посредника. Практически сразу я обнаруживаю то, что искал, а именно конверт, толстый и плотный. Таким образом, вы можете убедиться, что ваш Сан-А смотрел в корень. Спасибо за аплодисменты, они заслуженные и ласкают мое израненное сердце. Я реквизирую конверт. Затем вынимаю бумажник умершего. Открываю его и рассматриваю документы. «Карл Штайгер, 54, Мартин-Бормашинен-штрассе, Мюнхен». Я показываю документы аудитории и говорю, что пойду, мол, вызову врача… Попутно делаю знак Толстяку, желая вытащить его из толпы. По крайней мере, делаю попытку, так как соседи по столу тут же встают стеной.
— Нет, нет, полицай! — кричат они. — Полицай!
— Что они мелят? — спрашивает Берю.
— Они хотят, чтобы ты дождался приезда местных легавых и дал показания. В общем-то, ты ничем не рискуешь…
— Ты что, спятил? Этого парня начинили цианистым калием, это видно за версту. Ты видел его пасть? Знаешь, как он отпал от своего пива? Тут дело ясное, старого воробья вроде меня на мякине не проведешь. Как только легавые узнают, что я с ним разговаривал, то накинут мне аркан за милую душу! Давай сматываться отсюда, пока не стало жарко! Быстро!
Руками, как лопатами, он разгребает протестующих и бросается вперед. Но тут, как по команде «газы!», вся пивная устремляется навстречу Толстяку. Не мешкая, целая стая бесноватых бросается на приступ крепости Берюрье. Это похоже на танковый прорыв обороны под Седаном. Прут сплошной стеной! Как схватка в регби, помноженная на сто! Таран! Мюнхенцы лезут друг на друга! Они все хотят Берю. Хотя бы клочок! Если не клочок оторвать, то хоть плюнуть! Вы говорите: потолкались, пожурили, поорали! Какое там! На нем гора из тел, что твой скифский курган! Он уж, наверное, и не дышит с таким грузом на плечах, а я не могу ему помочь. Мне бы сейчас огнемет… И я, элитный полицейский, решаю смотаться, пока вся эта кутерьма не обрушилась и на меня. Время терять нельзя. Срочный отход! Я начинаю пятиться задом, отступая через бурлящую толпу наседающих. Меня отчаянно толкают со всех сторон желающие попасть в эпицентр. Я пропускаю их вперед, делая вид, что уступаю живому потоку из вежливости. Центробежная сила играет мне на руку. Меня выкидывают из толпы благодаря простому эффекту инерции. Можете мне поверить, ухожу я с тяжелым сердцем. Бросить моего Берю в такой неравной схватке — это подло, согласен. Осознаю! Но я все равно бессилен что-либо сделать. Остаться означает получить те же самые неприятности, которые ожидают его. Я буду ему более полезным на свободе, чем в камере (или в больнице) вместе с ним. И потом, ведь не бросишь же расследование на полдороге. Я только что вышел на след…
Уф, наконец я на улице.
— Ну, брат, что-то ты там задержался, — слышу я до боли знакомый голос. — Я уж начал беспокоиться.
Его Величество Человек Гора!
Из плоти и крови высшей категории.
Улыбающийся, довольный…
— Как же тебе удалось?
— Ну, чума, брат, — смеется Берю, — их было слишком много. Как они меня повалили на пол, я вылез из-под тех, что были сверху, и пополз под столами. А они продолжали разбираться между собой.
Я прыскаю, представляя себе картину. И мы оба смеемся так, что нам даже трудно бежать к автомобильной стоянке.
Сидя за рулем «мерседеса», я трогаюсь с места, как вдруг мне в голову приходит мысль. В принципе мысли в голову всегда приходят вдруг.
И так же быстро линяют оттуда.
Происходит встряска мозгов, и больше ничего.
Конечно, у таких, как Эйнштейн и я, мозги встряхиваются сильнее, чем у других, однако это не слишком движет человеческий прогресс. Здесь я бы мог дать вставку из одного своего бравурного философско-дерьмового опуса, о котором знаю только я, но лучше воздержаться. К чему действовать вам на перистальтику?
Наслаждение требует усилий, усилия приводят к успеху, то и другое предопределяет усталость. Возникает вопрос: на кой черт уставать от триумфа, если можно пожертвовать им в пользу отдыха? А, как вы думаете? Настоящее сладострастие прячется в неутолимости. Достижение успеха — тяжелая ноша. В связи с чем я оставляю вас дрейфовать на плоту вашей некомпетентности, а сам отойду в сторону. Так будет лучше для вас!
Словом, несколько глупостей назад я остановился на том, что, когда я завожу мотор своего «мерседеса», мне в голову приходит мысль. Я выключаю зажигание и выскакиваю из машины.
— Куда ты понесся? — беспокоится Берю.
Не обращая внимания на его вопрос, я бросаюсь к машине нашего умершего посредника. Небольшой фирменный обыск, поверьте мне, хлеба не просит. Тут и доказывать нечего… А, кстати, я еще не проверил содержимое конверта. Сев за руль тачки Карла Штайгера, я разрываю конверт из плотной серой бумаги. Бабки!.. Я вытаскиваю толстую пачку купюр по тысяче марок. Но что это? В действительности пачка содержит только две купюры, верхнюю и нижнюю, которые могут играть свою истинную роль. А между ними проложены нарезанные в размер денег куски похожей на ощупь оберточной бумаги. «Кукла», мальчики! Специально на тот случай, если Карлуша бросит взгляд в конверт до ухода малого с крючковатым носом. Эти ребята морально уже покончили с посредником. Нужно было просто дать ему видимость удовлетворения, пока он не хлебнет волшебного напитка, от которого самый болтливый враз становится молчаливым.
Здорово сыграно. Классическая работа, идеально выполненная. Мастерски и с блеском. Похоже, ребята очень спешили…
Так, теперь быстро обыскать машину!
Я чувствую себя в форме — спокоен, точен в движениях, с кристальной ясностью ума. Мой ум как алмаз.
Алмаз!
Я напрочь о нем забыл! Ух, вероломная глыба — сколько у меня из-за нее неприятностей! Я начинаю тщательно и методично рыскать по машине. Бардачок, карманы на дверцах, полка под задним стеклом, под сиденьями…
— Ну что там? — спрашивает меня Берю, которого любопытство и нетерпеливость выгнали из машины.
— Пока ничего, только пустые бутылки, грязные тряпки, пачки от сигарет, исписанные шариковые ручки… Настоящая помойка у твоего друга…
Я перехожу к багажнику. Там лежит зеленоватый баул, грязный и обшарпанный. Заглядываю внутрь…
Честно говоря, этак скоро деградируешь, копаясь во всякой дряни, принадлежащей другим. Будто в нечистотах человечества роешься… Словно разгребаешь помойные ямы с помощью чайной ложечки, подаренной тебе ко дню ангела… Повсюду предметы, кричащие о нуждах людей, о бедности и несчастьях…
— Ничего? — спрашивает Величество.
— Нет! А! Есть… что-то…
Я натыкаюсь на весь измятый обрывок тонкой розоватой бумаги.
Для очистки совести разворачиваю его. Рассматриваю для проформы. Берю, который очень хорошо знает своего Сан-А, уже охрип повторять «ну что?», свидетельствующее о его природной нетерпеливости и недостатке воспитания в детстве.
— Толстяк, кажется, я нашел очень важную вещь! Мы снова на тропе…
— Да что там, черт возьми?
— Это копия транспортной накладной на багажное место весом в одну тонну на доставку из Нейволандт-одер-Изара в аэропорт Мюнхена.
— Ну и что?
— Маршал фон Фигшиш живет в Нейволандт-одер-Изаре, правильно? Ты забыл? Груз весом в тонну. Это был дирижабль или по крайней мере оболочка и гондола! И дата сходится… За два дня до нападения на нас, жертвой которого я был в Дуркина-Лазо. Поехали, быстро!
— Ну а теперь куда?
Я пронизываю его ироничным взглядом.
— В настоящий момент, друг мой, ты выглядишь таким дураком, что я даже не знаю, ты ли это!
Думаю, для того чтобы изменить мир, нужно прежде всего избавиться от зеркал. Не имея возможности смотреться в них, люди забудут или по крайней мере утратят лживое понятие о самих себе, которое заштукатуривает им мораль. Собственная дурь заставляет их любоваться собой, боготворить только себя. Это их религия, их политика, кругозор, наконец, честолюбие. Они начинают завидовать самим себе, как только открывают глаза и первый раз в жизни видят свое изображение. Так разобьем же все зеркала, чтобы не отгораживаться друг от друга стеклом, чтобы пробить лед непонимания. Возможно, мы проведем семь лет в несчастье, зато потом будем жить в беспробудном блаженстве.
Обо всем этом я рассуждаю, переминаясь с ноги на ногу перед окошечком в зале грузовых перевозок аэропорта.
По другую сторону стойки треплются две девицы, затянутые в оранжевую униформу. Они не слышат друг друга и не видят друг друга, но каждая из них слушает себя и любуется собой в сидящей напротив подруге. Здесь в наиболее убедительной форме проявляется женская солидарность. Обоюдное отражение — для них единственная возможность самовыразиться. Они любуются сами собой в глазах собеседницы.
Мы ждем еще минут десять.
Мне уже надоело кашлять, а Берю брюзжать. Нам обоим осточертело исполнять в четыре руки концерт Людвига ван Бестолковена на крышке стойки: девушки — ноль внимания.
Надо отметить, что, кроме нас, в зале ни души. Даже удивительно, что в столь поздний час в этом окошке наблюдается некий признак жизни.
— Девушки! Фрейлейны! — зову я.
С той стороны стойки я, очевидно, похож на потерявшего голос идиота. Мне остается только прижаться к стеклу физиономией и строить рожи. Хотя в помещении тишина такая, что, кажется, зевни таракан — девушки должны были бы вздрогнуть.
— Думаю, они не очень обидятся, если я перелезу через ограждение и покажу им свой недуг! — заявляет Берю. — Что еще нам остается.
Он поет «Марсельезу».
Та, что с более светлыми волосами, протягивает руку над столом и, не глядя на нас, показывает пальцем на табличку с осветившейся надписью «Тихо». Заткнитесь, значит!
Та, которая с менее светлыми волосами, но с более пышными формами (невозможно иметь все сразу), достает из ящика еще одну табличку, на которой золотыми буквами по черному фону написано: «Закрыто» (по-немецки, естественно, но я не стану перегружать текст надписями в оригинале, тем более что для этого придется лезть в словарь).
— Закрыто! — перевожу я Толстяку.
Величество теряет терпение, и как следствие — хладнокровие.
— Нет, но они что, не могли нам сказать раньше, эти шлюхи? Пусть мне дадут жалобную книгу, я напишу все, что о них думаю!
— Да брось ты! — огрызаюсь я.
Я вынимаю из брюк бумажку в сто немецких Марк (Аврелий) и трясу ею как флажком, будто матрос военного корабля, перекликающийся с другим судном.
— У-у… Девушки!
Блондинки бросают индифферентный взгляд на купюру и, как по команде, дружно указывают пальцами на табличку «Закрыто».
— Если ты надеешься задобрить их бабками, ты, брат, ошибаешься, — закипает Берю. — Ты забыл, что у них в Германии столько капусты, что они вынуждены ее сжигать, как бразильцы жгут кофе, когда слишком большой урожай. Даже нищий не даст себе труда протянуть руку за милостыней. Он тебе скажет, чтобы ты перевел вспомоществование на его банковский счет.
Потеряв всякую надежду добиться хоть какого-то результата, я собираюсь уже трубить общий отход наших сил, решая наведаться завтра, как вдруг моему другу приходит в голову мысль. С ловкостью, на которую он, как мне всегда казалось, совершенно не способен, Берю взбирается на стойку, перекатывает могучий зад через ограждение и оказывается перед девицами. Я слышу сухой типичный треск молнии. На этот раз девушки «Люфтганзы» замолкают. У них отваливается челюсть и вываливаются глаза. Мгновенный гипноз! Полное обалдение! Обеих охватил столбняк.
— Ага, и я, смотрите, тоже изменился, а, Гретхен? — шумит Нахал. — Вы, похоже, очень заинтересовались моим социальным климатом, блондиночки? Это не насест для кур, мои дорогие! И не дирижерская палочка! Обыщите хоть всю Германию от Рейна до Нила, бьюсь об заклад, вы не найдете такого! Уникальная вещь! Простотип! Единственный экземпляр! Весло! Шлеп-бум! Франкфуртская суперсосиска! Высшего сорта! Нет экспорт! Сделано в Париже! Франция! Фоли-Бержер! Предмет мебели! Копия Эйфелевой башни! Извольте снять мерки! Длина-ширина! Метр-эталон вашему вниманию! Большой успех! Прима! Записывайтесь на прием! В очередь! Причаливание больших судов! Аэропорт Бейрут! Алле, хоп! Закончено! В норку! Спать! Нельзя переохлаждать! Насморк! До свидания! Помаши ручкой тетям! Гуд бай! Давай, Сан-А, говори, что нужно, они созрели.
Глава (вроде бы) пятнадцатая
— Тьфу, проклятье! — чертыхаюсь я, слыша, как колотят в мою дверь. Это полиция!
Стучать таким образом может только легавый. Во всем мире одинаково. А здесь к тому же немец!
Быть немецким легавым — значит быть полицейским вдвойне!
Сюзи, по-немецки произносится Сузи, дремлет рядом со мной, бюстом вверх. Эта та, которая из двух служительниц грузового аэропорта более блондинистая. Без бюстгальтера, лежа на спине, она выглядит как надувная кукла, из нижней половины которой вышел воздух. Дав мне все необходимые сведения (из-за чего, собственно, и произошел весь сыр-бор в аэропорту), служительницы грузовых авиаперевозок трансформировались в служительниц культа любви. Пошептавшись, эти милые девочки повезли нас в тихую небольшую гостиницу по дороге на Ратибон, примерно в тридцати километрах от Мюнхена. Замечательное местечко, старинное, гостеприимное, прямо среди леса, вокруг ни души. Похожая больше на небольшой мотель у шоссе, гостиница хороша уже тем, что открыта всегда и дает «уставшим» автомобилистам приют на час-два. После гвалта и духоты пивной я получаю истинное удовольствие от этого потерянного рая, где мы проводим остаток ночи. Две наши красавицы — настоящий подарок судьбы, и мы воздаем им по заслугам, Толстяк и я. Скачки стипль-чез! Мотель сотрясается от подвала до конька крыши.
Бум! Бум! — молотит в дверь невидимый посетитель, который предстает в моем воображении этаким ночным рыцарем, болтающимся в средние века по дорогам Европы, не зная ни границ ни таможни, в поисках ночлега то в замках, то в корчмах, то просто где придется. Он, видно, мощный парень, крутой, длинный, одет в черное. Я представляю себе уснувшего в седле средневекового странника и его коня, упершегося в конце концов мордой в чьи-то массивные ворота. Всадник начинает колотить в дверь копьем, как тот, что за моей дверью. Сверху над воротами открывается маленькое оконце, форточка, и заспанный голос спрашивает по-немецки: «Was Ist das?» («Васисдас», если быть точным в произношении) — так что во французский язык слово «форточка» так и вошло как «васистас».
— Васистас? — бормочет заспанным голосом Сузи.
— Конец любовным утехам, — отвечаю я.
Черт, а так все здорово началось. Снова вышли на след, прекрасное местечко и женщина рядом, которую в хорошем смысле слова по праву можно назвать «постельной». Мне даже удалось позвонить Фелиции и сказать, чтобы она оплатила счета в гостинице и отправлялась в Париж первым же самолетом или ночным поездом, если такой существует…
— Иду! — кричу я, залезая в штаны. — Зачем вышибать дверь?
Я представляю себе дальнейшее развитие событий: длинные объяснения с нашими германским собратьями, составление путаного протокола. Возможно, придется ехать с ними…
Наконец с тяжелым сердцем открываю, но вместо молодцеватого легавого обнаруживаю в проеме двери ночного портье, толстого и рыжего, в белой куртке, как у официанта, слишком короткой и узкой размера на два.
— Что? — раздраженно спрашиваю я.
У него совершенно заспанные глаза, светлая куцая бородка от лежания на боку топорщится в одну сторону. Розовые щеки блестят при свете лампочек.
— Вы коммизер Сан-Хантонио? — выговаривает он с трудом.
— Ну, я, — бросаю я вызывающе. — В чем дело?
— Вас просят к телефону.
Я смотрю с насмешкой в глаза портье. «Ты, парень, заливаешь, — говорят ему мои глаза, — мог бы мне предложить лапшу и получше». Такие хитрости мы проходили. В коридоре стоят два здоровенных шкафа, готовые кинуться на меня, стоит только сделать шаг вперед…
Я быстро осматриваю коридор. Но, вопреки моим ожиданиям, там никого нет.
К тому же слуга кажется мне искренним. Он стоит и смотрит на меня, хлопая ресницами, с глупым видом.
— Кто это меня может спрашивать?
Он делает усилие и пожимает плечами.
— Не знаю.
Закипая все больше и больше, я бросаю взгляд на часы. Они показывают 3 часа 10 минут римскими цифрами. Вот уж загадка, согласитесь? Кто, кроме Берю и моего личного ангела-хранителя, может знать, что я здесь?
— Сейчас приду! — говорю я Сузи.
Я закрываю дверь и направляюсь вслед за портье. Он ведет меня в глубь ресторанного зала. Дверь кабины открыта, и я вижу лежащую на телефонной книге черную трубку.
— Там, — показывает он пальцем.
Всегда несколько раздражает, когда лежит снятая с рычага трубка и ты не знаешь, что ждет тебя на другом конце провода.
Я смело хватаю маленькую эбонитовую гантель и бросаю в микрофон «слушаю», похожее на чиханье под сводами церкви во время службы.
И тут — полный отпад!
Конец пониманию реальности!
Моментальное отупение!
Отказ восприятия!
Абсолютное размягчение серого вещества!
Старик!
Вы меня слышите, друзья? Шеф собственной персоной! Голос чистый, будто он только что прополоскал глотку. Патрон! Резкий, прямой, авторитарный, непререкаемый.
— Сан-Антонио?
— Э! Да… я… Это я, господин дир… Но, того… Как…
— Почему от вас никаких вестей с тех пор, как вы самовольно отправились в Германию?
— Но, патрон… я… С ума сойти… Как вы узнали…
— Есть новости?
Я набираю полную грудь немецкого воздуха.
— Ну, у меня очень большая новость, господин директор: я снова обрел зрение!
Это, видимо, сражает шефа наповал, поскольку настроение его резко меняется.
— Правда? Вот новость так новость! Действительно! Тогда я очень, очень рад, малыш!
— Спасибо, господин директор, а я в таком случае очень рад вновь стать «вашим малышом».
Здорово ввернул, правда? Шеф получает это сообщение, будто дверью по физиономии, когда не ждешь, что она открывается в обе стороны. Но он тут же опять становится серьезным.
— Расскажите-ка мне лучше об этом чертовом расследовании, а то мы тут в полном неведении. Этот болван Берюрье не подает признаков жизни…
Пока он говорит, я через стеклянные двери кабины быстро оглядываю холл гостиницы. В этот очень поздний или, скорее, очень ранний час в нем находится только один клиент. Парень похож на птицу тукан. Это не голова, а сплошной болезненно желтоватый клюв с воткнутыми по бокам глазами-пуговками. На нем плащ с поднятым воротником, он смотрит на меня язвительным взглядом, что оскорбляет меня до глубины души.
До меня доходит: сукин сын мой шеф опять приставил ко мне хвост. Меня душит досада, а заодно и ярость, которую я сдерживаю, чтобы не высказать шефу все, что о нем думаю. Решительно, его обуяла мания следить за мной! Это до добра не доведет, вы меня знаете! Если мне наступают на хвост, я могу и сорваться! Его стремление контролировать все и вся начинает мне действовать на предстательную железу! Значит, я был слепым и он приставил ко мне топтуна, чтобы знать о моих действиях! У меня валит пар из ноздрей! Стекла в кабине запотевают! Я сам себя хватаю за глотку, чтобы не наговорить шефу кучу гадостей.
— Я обнаружил след дирижабля, использованного в операции, — раздраженно бросаю я в трубку. — Он принадлежал маршалу авиации фон Фигшишу, который за приличную сумму уступил его одному типу по имени Карл Штайгер, проживавшему в Мюнхене, Мабита-купеантранш-штрассе, 54. Последний отправил дирижабль специальным грузовым самолетом в Дуркина-Лазо. После моего визита фон Фигшиш вызвал Штайгера к себе, и тот связался с людьми, которые…
Я рассказываю шефу о вчерашнем инциденте в пивной.
— Потрясающе, замечательно! — бурлит на том конце провода патрон. — Как вы собираетесь наложить лапу на этих людей?
— Пока не знаю, — говорю я. — Буду держать вас в курсе. Вы извините меня, патрон, но я вынужден вас покинуть.
Я быстро вешаю трубку и ракетой вылетаю из кабины.
Пересекаю вестибюль гостиницы со скоростью крылатого Меркурия на колесике и хватаю тукана за плащ как раз в тот момент, когда он собирается влезть в свою машину — старый «ситроен ДС».
— Эй! Приятель…
Он поворачивается. Смотрит на меня смущенным взглядом… Я скольжу одним глазом по номеру тачки. Ха! 75! Парижжжшшш, друзья! Верно я его раскусил!
— В чем дело? — заикается мой апостол.
Мой левый крюк приземляется ему на левую щеку. Он впивается спиной в дверцу машины. Я поднимаю его за воротник плаща и правой снова — бах! Точно по центру. Он захлебывается, кашляет открытым ртом и выплевывает два больших зуба, покрытых противной красной пеной. Я провожу еще два в подбородок… Он растягивается на германской земле, удобренной кровью великих сынов. Без тени смущения я открываю дверцу машины, отрываю его от земли и запихиваю на водительское сиденье.
— Первое и последнее предупреждение, — заявляю я ему. — Если я еще хоть раз увижу тебя на своем пути, то отделаю более радикально и ты будешь похож на гнилой помидор, понял?
Он бормочет что-то невнятное.
— Все! — кончаю я базар. — Теперь сматывайся и дуй все время вперед, глядя перед собой, не оборачиваясь, пока не увидишь табло «Северный мыс — 10 км». Исчезни!
Повторять не приходится.
Лишь голубой дымок из его выхлопной трубы служит мне ответом.
Перед тем как вернуться в номер, я делаю остановку в баре и заказываю у ночного портье стаканчик виски. Парень похож на деревенского педика, из тех, кто, опасаясь общественного порицания, вступает на этот путь, только достигнув совершеннолетия, да и то оказывает услуги лишь узкому кругу.
«Как вы собираетесь наложить лапу на этих людей?» — вспоминаю я слова своего шефа.
Этот вопрос я и без него задавал себе, как вы понимаете, неоднократно. Но с помощью милых девушек из «Люфтчего-то» я перенес ответ на послезавтра.
Теперь, поскольку я уже проснулся и мои нервы опять натянуты, как нитка в швейной машинке, я чувствую себя подобно охотничьему псу перед пуском в загон. Мой проклятый внутренний голос тоже проснулся и, зевая во весь рот, оглушительно шепчет мне: «Не дай остыть найденному следу! Расслабился ты тут, ухватясь за соблазнительный бюст своей немецкой подруги, а твой долг идти вперед! Недостойно опускаться до низменных соблазнов, которые ты, как истинный король, должен игнорировать».
Залпом осушив стакан, я иду колотить в дверь своего охочего друга Берю. Его партнерша просыпается первой, и мы, объединив усилия, пытаемся вырвать его из могучего сна.
— Что такое? — мычит Берю, не открывая глаз. — Желаешь незапланированную вязку, Матильда?
— Вставай и войди в штаны! Нам надо ехать! — командую я.
Он зевает так, как могут зевать только полицейские, — когда лица не видно. Одновременно Толстяк пускает ветры, от которых полегли бы все злаковые на полях Бретани, и вздыхает.
— Как только у тебя хватает совести вытряхивать честных граждан из постели в… в… — он щелкает выключателем, — без двадцати четыре ночи! Мы что, ночные мотыльки? Черт, что за мысль трясти меня в разгар рабочего времени…
— Из Парижа только что звонил Старик. Дело срочное!
Он прокашливается, накапливая в своей обширной пасти побольше аргументов, затем выплескивает их на меня веером.
— Принимаешь меня за болвана или за лоха? Такой лапши я не ем, Сан-А, ты же знаешь! Шеф, да как бы он позвонил сюда?.. Когда он…
— Вставай, чурбан, по дороге все расскажу… Встречаемся через десять минут в ресторане, я пока закажу кофе.
— Нет, через пятнадцать минут, если вы, господин комиссар, не возражаете, — упирается Берю. — Я, как видите, опять в апофеозе, и мне аккурат хватит четверти часа, чтобы рассказать сказку моей фрейлейне. Ну страшно интимную сказочку… — бормочет он, заваливаясь на бок.
Если вы никогда не были в Мюнхене, немного расскажу вам о нем. Мартин-Бормашинен-штрассе идет вправо от башни Святого Германа Геринга на площади Незабвенного Адольфа. Вы не запутаетесь. Или уж вы совсем спятили, больше возможного.
Мы сворачиваем в совершенно узкую улочку — не разъедешься. По обе стороны — старые дома с ярко разукрашенными окнами. Пожалуй, единственная уцелевшая после бомбардировок во время последней польско-германской войны (если такая была, но можете справиться в учебнике истории в главе, которую вы не читали, поскольку болели свинкой) улица благодаря усилиям инициативного бургомистра, написавшего вежливое письмо престарелому французскому генералу Евгению Зеленому с просьбой не трогать ее, поскольку там жила одна из его юных подружек.
Вас, наверное, очень удивит то обстоятельство, что дом номер 54 находится между 52 и 56, а не между 53 и 55, как вообразил бы себе пьяный, не разглядев фасадов домов с другой стороны и решив, будто находится на площади… (Усекли? Повторять не буду, не просите…)
Решетчатые окна, готические рисунки над дверьми и на фасадах, — словом, все ласкает взор и пестрит.
Дом, где проживает (проживал) наш друг и посредник Карл Штайгер состоит из одного этажа. И то принимая во внимание чердак!
— Отмычка с собой? — беспокоится проснувшийся наконец Берю, поливая на стену как из шланга.
— Как всегда!
Я нащупываю замок. Один раз внутрь и поворот направо… Клац! Дверь отрекается от своих прав так же быстро, как один африканский король во время официального визита в казино Ниццы, узнав из газет, что сторож его дворца взбунтовался.
— Пошли! — командую я.
Берю прекращает изображать Ниагарский водопад и следует за мной.
Затхлый запах бьет нам в нос, как только пересекаем порог дома. Пахнет пропущенным через себя пивом, холодным прокисшим супом (из квашеной капусты) и псиной. И действительно, из темноты комнат показывается здоровый кобель. Он радостно машет хвостом, выказывая нам свое расположение.
Я включаю свет.
Мы оказываемся в 16-ом… веке, а не в 16-ом округе, как могли бы подумать мои читатели-снобы из престижного района Парижа.
Если не сказать в 16-ом веке до Рождества Христова, или до нашей эры (для атеистов).
Настоящий музей.
Нет, скорее свалка. Все разбито, изношено, протерто. Хаос! Каменная кладка кое-где разошлась, низкие двери покрыты древними рисунками как в ресторане, но стены толще, чем дамбы в Голландии, грязь, плесень, какая-то несуразно огромная мебель непонятного назначения и стиля…
Передняя представляет собой низкий зал, сырой и пустой. Четыре ступеньки ведут вниз к двери, где готическими буквами выведено: «Бюро», другие восемь ступенек ведут на площадку.
Дверь в кабинет заперта на ключ. Вы, наверное, сами знаете, но я вам еще раз докажу, что для меня подобные преграды — как кучка кала на асфальте.
Толстяк ласкает псину, здоровую охотничью собаку с рыжими и белыми пятнами, с ушами, как орхидеи, и длинной мордой.
Пес добродушно лает, видя в нас еще больших животных, чем он сам.
— Эй! Сиамские близнецы, не разбудите весь квартал спозаранку! Обнюхивайтесь потише, пожалуйста.
Они, не расцепляя объятий, спускаются на площадку, которая раньше, еще во времена, когда баварский князь был избираемой должностью, служила, очевидно, пивным залом. Берю пробует на вкус остатки собачьей жратвы из миски и в благодарность за разрешение достает псу из своего замусленного бумажника кусочек колбасы настолько сухой, что ее можно сравнить разве что с засушенным на память тараканом. Махнув на них рукой, я принимаюсь за дело.
Открыв дверь и бросив взгляд внутрь, я ощущаю охватившую меня тоску. То, что я вижу перед собой, порядком назвать нельзя! «Архив» посредника имеет тот вид, когда не знаешь, с какой стороны хвататься. Стопки бумаг валяются на полу. Папки торчат из многочисленных ящиков. Огромный шкаф без дверок набит под завязку всякими документами с готическими надписями по корешку, что для меня, теплокровного латинянина, похоже на сосульки с крыши.
Бог мой, лавина бумаг! Целой бригаде дипломированных архивариусов и бухгалтеров-экспертов понадобится тридцать два года и два месяца, чтобы разобрать и сложить по порядку это желтеющее бумажное море. Нечего надеяться раскопать что-то в этих Гималаях. Отец Карла Штайгера и его дед, вероятно, были нотариусами или вроде того, и все они сохраняли свои архивы. Добавьте сюда еще свитки с древними надписями о наследстве доисторических предков. Скопление бумаг началось, похоже, еще во времена царствования Генриха Льва. Могу поспорить, что если начать снизу, то можно обнаружить памятники кельтской письменности! Меня охватывает страх. Нечего и думать… Что можно найти в этом Карфагене?
Моя угрюмая задумчивость достигает критической точки (когда мозги отказываются работать), как вдруг в прихожей слышу трехкратный крик (или, как говорит Берю, трехкаратный).
Я бросаюсь наверх.
И очень хорошо делаю, потому что спектакль, разыгрывающийся у меня на глазах, заслуживает того, чтобы его описали.
Представьте себе экземпляр женского, очевидно, пола, появившийся в дверях дома. Нужно видеть с разных точек, чтобы оценить по достоинству, о чем идет речь. Ярмарка человеческого величия, ни много ни мало! Всем рекордам назло! Если поймать и водрузить на пьедестал у площади Инвалидов в Париже, то через неделю вы будете спать на мешках денег.
Я не мог себе даже представить, что такое возможно!
И все еще сомневаюсь, хотя вижу прямо перед собой.
Два метра в высоту! Двести килограммов веса — не меньше! Голова похожа на пивной котел… Каскад щек, брылей, подбородков, переходящих в огромный бюст, который, в свою очередь, испытывает на прочность колоссальный мешок, обозначающий ночную рубашку, надетую поверх чудовищного колыхающегося живота.
Статуя Командора, отражающаяся в кривом зеркале. Живой кошмар! За гранью человеческих представлений! Колосс! Нечто невероятное! Грандиозное! Гротескное! Франкенштейн, надутый воздухом! Такого не бывает! И тем не менее — вот оно! И движется! Дви-жет-ся! Движет себя! Это что же, кит, дегенерирующий в человека? Плод дурной любви слона и мамонта? Мы в ужасе, в панике отступаем. Поскольку эта гора идет прямо на нас! Более того, она, если это все-таки женщина, потрясает в воздухе мечом! Мечом ревнивого Роланда, унаследованным от предков! И поливает нас на чем свет стоит, обзывая ворами, жуликами, хулиганами и прочим. И вот эта громада нависает над нами.
— Нет, мадам! Стойте, мадам! — сотрясаясь всем телом, умоляет Берю, который оказался буквально в нескольких сантиметрах от нее. — У тебя есть оружие, Сан-А?
Но оружия нет, дети мои.
— Фрау, дорогая фрау! — кричу я. — Мы друзья Карла!
Но вместо того чтобы остыть, бизониха закипает еще больше. Она выдавливает из своих глубин рокочущие звуки, как раскаты грома, и продолжает наступление с поднятым вверх карающим мечом. Мы отступаем за дверь. И тут она натыкается на раму двери. Если она попытается пролезть, то заблокирует проход. Ей нужно немного сдуть воздух, но в гневе она не догадывается. Рассуждая чисто по-мужски, мы должны ей помочь, но мы в полном онемении наблюдаем, как она протекает в дверь. Так проникает в крохотное отверстие осьминог. Фантастика!
Великанша в двух метрах от нас. Свет отражается в лезвии ее обоюдоострого меча. Еще чуть-чуть — и она проткнет Берю, использует его живот как ножны.
Он сейчас умрет от страха, мой Александрович-Бенито. Быть проткнутым насквозь — я вас умоляю! Это не входит в наши планы! Что делать, что говорить? Мы уже видим смерть в глазах чудовища. Муза гестапо! Прощай, бедный Берю! Я следом…
Сейчас из моего помощника сделают две полутуши…
Страшилище примеривается. Заносит меч над головой…
— Эй, мадам! Не станете же вы убивать самца с такими достоинствами! — выкрикивает от полной безнадежности Берю, приводя в действие замок молнии.
Ах, эта молния! Сколько признательности мы должны выразить человеку, придумавшему такой замечательный запор! Конечно, она немножко надоела в кинематографе, но, с другой стороны, из компетентных источников мы знаем достоверную статистику, согласно которой множество людей в мире, страдающих простатитом и недержанием мочи, успевают выпустить золотую рыбку из аквариума в рекордные сроки!
Шлеп!
Подавать в разогретом виде!
Богиня Воительница останавливается как парализованная при виде такой игрушки. Движением, ставшим уже рутиной, находчивый Берю подбрасывает на руке свой царственный скипетр.
— Бог мой! Бог мой! — восклицает говорящее чудовище, выпуская из рук меч.
— Представляете, что бы вы могли сейчас натворить, мое сокровище? — начинает рекламный текст Берюрье. — Зарубить на корню человека с таким уникальным экземпляром, это ли не кощунство, мадам? Хватит дуться, моя птичка! Пройдите в спальню, мы объяснимся, и все наши недомолвки как рукой снимет, рыбка моя крупнокалиберная.
И с открытой улыбкой, как дирижер оркестра, Берю ласково берет за руку живую гору и уводит. (Так и хочется сказать: занавес!)
Я смотрю, как они исчезают, с незабываемым чувством, что только что пережил чудо.
Все-таки как прекрасно — не терять присутствия духа!
Не будь его у Толстяка, мы бы сейчас оказались наколоты, как бабочки на булавку. Попробуй тогда и дальше описывать всякие глупости с двадцатью или даже тридцатью килограммами железа в организме! А, Сан-Антонио? Алес! Полный капут!
Получился бы прокол в прямом и переносном смысле! Что бы вы тогда сказали, не говоря уже о моем издателе?
Случилось бы непоправимое!
Известно, что есть немало живых, делающих вид, будто они померли, но никогда еще никто не видел покойников, изображающих из себя живых.
Глава (объективно) шестнадцатая
Положительно, интеллект Берю не может служить объектом пристального внимания себе подобных. Он лишен серого вещества. Тыква пуста. Его так называемый мозг похож на неочищенный артишок. Это расходная статья, нерентабельная. Продукт французского фермерского хозяйства.
Работа его так называемой мысли — крутящееся в воздухе колесо. Иррациональный труд. Единственное, что его спасает, всегда, везде, при всех обстоятельствах, — это способность не терять присутствия духа. Все усилия направлены на комбинирование, простое, но эффективное. Он придумывает то, чего не знает. Он легко и просто противостоит тому, чего не понимает. Его ничто не пугает, нашего Александра-Бенуа, любые обстоятельства могут быть использованы им для демонстрации собственных достоинств. Нынешний пример: он удалился с этой коровой в кубе… Любой другой, предприняв попытку влезть на гору, сперва подумал бы, с какой стороны начать приступ? Начинать ли подъем с севера или с юга? И какое снаряжение взять с собой? Где вбивать кольца, чтобы протянуть фал (фаллос)? Подобные сложности убивают влечение, даже если оно искусственно спровоцировано, как в нынешнем случае с моим другом, лишенным честолюбия. Я не хочу подчеркивать на этих страницах, несущих высокое литературное и моральное содержание, тот двусмысленный аспект, который способен выставить их в докучливом дневном свете, как писал когда-то один профессиональный писатель, который с тех пор подвел итог и выбросил чернильный прибор. Я не хочу скабрезничать, друзья мои. Иначе добропорядочные читатели, думающие только правильно, взовьются на дыбы. А ведь их столько — благонамеренных! Меня всегда забавлял этот термин, а заодно и угнетал. Как можно быть благонамеренным? Благонамеренный в действительности думает мыслями эдаких мастеров благонамеренности… Но повторять чужие мысли? Весьма относительный успех, даже если вам удастся их получше причесать… Нет ничего глупее и отвратительнее, чем благонамеренно мыслящий! Следовало бы давать лицензию на их отстрел! Я бы им устроил Варфоломеевскую ночь. Неважно, из какой они среды. Всех: толстых, тонких, высоких, низких, противных, французов, иностранцев, католиков и наоборот, молодых, старых! В одну кучу, всех! На костер без суда и следствия! Ату их! Они хотят загнать свободно мыслящих за колючую проволоку? Сволочи! Долой! Ах, они в ярости? Они осуждают экстравагантность мысли и, более того, — языка? На виселицу! Оскопить их! Выпустить кишки! Расчленить! Стереть в порошок! Сжечь, а пепел развеять! Черт возьми, что бы еще придумать, когда слов не хватает? Когда нет возможности убедить, можно только убить! Эти потрошители идей, эти заплесневелые мыслители, деревянные головы, темные личности, тошнотворные рожи, мягкочленные, ватные души, поверхностные копатели, заразные пачкуны, сортирные философы, изворотливые губители мысли, вызывающие ужас одним только своим существованием! Дружище Господи, спасибо тебе, что ты сделал их рогоносцами, припадочными, сифилитиками, как и всех остальных. Не хватало еще, чтобы они избежали несчастий и горя, эти обиженные самой природой. Пусть утопятся в своей добропорядочности, эти моральные импотенты!
Куда спрятаться, чтобы никогда больше их не видеть и не слышать? Забыть о них? Пытаюсь смыться за несколько хребтов Оберланда, зарыться в снег с головой по самую задницу, но они и там вылезают из всех щелей с самым невинным видом. Начинают донимать страшными глупостями. Стоит только чуть-чуть зазеваться — и они уж тут как тут, источая улыбки. Сама вежливость! Сама симпатия! Они говорят, что обожают тебя, восхищаются тобой, что ты их духовно притягиваешь. Ты добрый, и ты веришь им. Ты принимаешь их близко к сердцу. И вдруг — ра-а-аз! Они наносят коварный удар в незащищенное место. Они держали свою идиотскую болтовню в рукаве, как стилет! Твое доверие еще раз поимели. Ты забываешься и каждый раз открываешь им душу — нате! И они тебя имеют! И тебе каждый раз остается только выпучивать глаза и растопыривать пальцы! Чтоб хоть не так больно! И они будут тебя иметь, пока не превратишься в тряпку! И начинаешь думать, хоть бы уж поскорее сдохнуть, лишь бы не страдать от такого вероломства. Ты успокаиваешь себя, говоря, что вот уж после того, как тебя обгложет последний могильный червь и твои ребра станут похожими на расческу, всем испытаниям наступит блаженный конец. Что посреди небытия ты обретешь долгожданный покой! А пока максимально затаиться, свернуться в трубочку, превратиться в кокон! Уезжать всякий раз все дальше и дальше туда, где тебя еще не знают, и оставаться там лишь до тех пор, пока о тебе не узнают. Переезжать, понятно? Уходить, уходя… И главное, не отвечать на их приглашения. И даже на их назойливые письма. Дурь в том, что, отвечая на их первое письмо, ты кладешь им палец в рот. Одно письмо, два письма — и конец! Дальше приносят смердящий до ужаса мешок почты — и ты в их руках!
Ладно, прошу прощения. Возвращаюсь к действию. Не буду больше отвлекаться, пока не поставлю последнюю точку, клянусь! Но иногда так берет за душу…
Я хотел вам рассказать, как Берю умасливает великаншу. Не каждому это дело по плечу: найти подход к такой объемной женщине! Поскольку она умопомрачительных габаритов, эта куколка, даже если ее просто обходить. Спереди, сзади, снизу… Как ее покрывать, такую бегемотиху? Бюст — неприступный откос! Живот как у обожравшейся комбикормом коровы! Придется лезть, как на стог сена или на перину вашей бабушки! А ляжки! Не ляжки, а каскад диванных валиков! О, поверьте мне на слово: сложная работа — найти путь к этой фрау! Так просто ее не обслужишь, тут дел невпроворот!
Когда я, влекомый любопытством, вхожу к ним, взглянуть на редкостный по качеству спектакль, Берю занимается тем, что заканчивает подготовку положения своей партнерши. Впечатление такое, будто он, маневрируя, устанавливает на позиции артиллерийское орудие. Во всем этом присутствует инженерная мысль. Истинно французская изобретательность! Дух реализма в ситуации, похожей на голлизм в эпоху очередного французского возрождения.
Фрау Бегемотиха глыбой возлежит на койке. Бюст слегка приподнят с помощью подложенных с двух сторон подушек. Ее ноги располагаются справа и слева от кровати на подлокотниках придвинутых кресел с подсунутыми под них толстенными Библиями. На тот случай, чтобы пассивная партнерша, объятая страстью, не обрушила на ушлого любовника свои ноги, к каждой из них привязано по стулу. Теперь, для того чтобы пройти вовнутрь сооружения, Берю остается лишь коленями и прежде всего руками раздвинуть последние препятствия. Для тех, кто не понял, могу организовать специальный сеанс с пояснениями, показом цветного фильма, детальными графиками, рисунками и документальными шумами. Все для вашего удовольствия, дорогие друзья! Я единственный автор, готовый в любую минуту предстать перед читателями. Я не опасаюсь застудить седалищный нерв и могу присесть на землю, чтобы поболтать с глазу на глаз, не сомневайтесь! Даже плюхнуться на живот в навозную жижу, только бы быть с вами единым духом!
Взобравшись на крепость, Берю принимается пахать. Красота крестьянского труда — человек пашет! Песнь земли. Как у Виктора Гюго: «Он идет по огромной равнине, то удалясь, то приближаясь, бросая гроздья семени, вновь берет, и так продолжается. И я смотрю на него, угрюмый свидетель…»
Невозможно понять реакции некоторых женщин во время акта.
Эта, например, похоже, очень довольна сеансом, но удовлетворение ее скорее на уровне сознания. Она прекрасно сохраняет самоконтроль.
— Вы не выпустили собаку, когда вошли? — мурлыча, спрашивает она по-немецки.
Вопрос довольно нелепый, учитывая положение. Но ее башку одолевают совсем другие заботы.
Я пользуюсь своим преимущественным правом на деловой разговор по ходу расследования и отвечаю:
— Не беспокойтесь, дорогая мадам. Вы жена Карла?
— О нет! Я его сестра. Мы не в браке, ни он, ни я. Моя горячо любимая мать на смертном одре взяла с меня клятву, что я никогда не покину Каролюса, но я же иногда заслуживаю и удовольствий с таким повесой, как ваш друг, не правда ли?
— Что она болтает? — волнуется Толстяк. — Она будет делом заниматься или спрашивать, когда поезд на Святую Елену?
— Все в порядке, Толстяк. Ты зарабатываешь себе Железный крест со специальным посвящением, — успокаиваю его я.
У меня в голове проносится беспокойная мысль, что, как только закончится это проклятое расследование, придется серьезно заняться лечением Берю. Если его хозяйство не придет в упадок, то недуг может толкнуть беднягу в ближайшем будущем на совершение актов насилия против целомудрия.
— Вы были в курсе его дел? — спрашиваю я красавицу.
— Зачем мне это? — сопит она. — Мне все равно! Я знаю только, что они неблестящи!
— Вы знаете об одной недавней сделке, которую он проводил с дирижаблем?
— Он и дирижабль? — хмыкает партнерша Берю.
Ах, так вот что она мне напоминала все это время, фрейлейн Штайгер! Дирижабль! Максимально надутый, готовый лопнуть, с перевязками по оболочке. Точно: голый дирижабль!
Значит, она ничего не знает. Похоже, отношения между братом и сестрой близкими не назовешь.
— Вам о чем-нибудь говорит фамилия маршала фон Фигшиша?
— Хайль Гитлер! — выкрикивает она из-под Берю.
— В каком смысле, дорогая фрейлейн Штайгер?
— Однажды вечером Карелию попросил меня о небольшой услуге. Кто-то должен был ему позвонить. «Скажи, чтобы он перезвонил мне к маршалу», — распорядился он. Я сказала, что ему, мол, звонит много людей и, чтобы не вышло путаницы, лучше бы мне знать имя этого нужного ему человека. Тогда он сказал: «Спроси просто, из Бремена ли он». Вот и все. Таким образом, понятно, что Каролюс знает славного маршала фон Фигшиша.
Похоже, больше у нее ничего не выпытаешь. Вдруг ее глаза вылезают на лоб и начинают блуждать. Дыхание учащается. Начинаются спазмы. По ее телу пробегает рябь, какая бывает на поверхности пруда, когда налетает шаловливый ветерок…
— Ах! Что он со мной делает? — заикается она. — Ах, как он это делает!
До ее головного мозга вдруг дошли волны, испускаемые Берю! При такой массе неудивительно: нужно время, чтобы они совершили замкнутый круг. Я смущенно оставляю ее наедине со своими ощущениями. Берю выходит следом за мной. Переступая порог, он оглядывается на дело… тьфу, чуть не сказал — рук своих. Она сотрясается и колышется всем рельефом. Это напоминает вулканическое извержение, разлом горной гряды, подвижку тектонических плит, сход снежных лавин в Альпах.
— Вот смотри, — вздыхает Толстяк, — с аппаратом такого тоннажа нужно работать вдвоем: один выводит на орбиту, как я только что, другой собирает дивиденды. Даже жаль, что она так вдруг распалилась! Я включил ее на автопилот, но на борту никого нет, чтобы пролететь через космос. Она прилунится в одиночестве. По-моему, ей надо проконсультироваться насчет своей проблемы. Я не врач, но могу поспорить, что у нее там срабатывает автоматическое зажигание!
И мы скромно выходим, погладив на прощание пса.
— Когда мы приедем в Дремен? — спрашивает Его Величество, прочухавшись после двух часов дремоты на сиденье «мерседеса».
— В какой еще Дремен?
— Разве ты не говорил, что мы поедем в Дремен?
— В Бремен, двоечник несчастный!
Бык-производитель разминает затекшую спину, так что тяжелую машину заносит.
— Дремен или Бремен — это идентично одинаково, — уверяет знаток дамских душ и словесности. — Ты же не станешь читать мне нравоучения из-за того, что я перепутал буквы в одинаковых словах. Не надувай щеки, как учитель грамматики. Что ты все выдрючиваешься, Сан-А? С таким низким уровнем культуры, как у тебя, тебе следовало бы ее котировать на бирже. И вообще, — заключает он трагически, — я хочу есть.
Берю использует это простое словосочетание, чтобы выразить беспредельную тоску своих изголодавшихся внутренностей.
— Я хочу есть, — повторяет он, чтобы усилить звучание.
Некоторое время мы едем молча. Шоссе впереди петляет под дождем. Я то и дело обгоняю медленно ползущие машины.
— Ты заметил, — меняет тему Берю, — что здесь так же много немецких машин, как и в других странах?
— Может быть, потому, что мы в Германии? — намекаю я.
— Да-а, наверное… — соглашается он. — Немцы в большинстве своем ездят как кретины!
Ковыряясь в мыслях, как в каше, он задумчиво продолжает:
— Смотришь, как они вежливо уступают дорогу всем и каждому, и не можешь себе представить, что это те же, что и в оккупацию, те, что устроили гетто в Варшаве, те, что выхватывали младенцев у матерей. Трудно в это поверить, но они те же самые. Но если вдруг явится еще один бесноватый с усиками, увидишь, как они тут же гусиным шагом попрутся давить других. Это люди, к которым у меня уже никогда не будет доверия. Кровь у них та же, и все! Как ты думаешь?
— Я слушаю тебя.
— А я не только хочу жрать, но опять испытываю тяжкие муки. Думаю, это от тряски в машине. Может, полечиться бромом?
— Вообще-то, пора уж что-то предпринять, друг мой. Если и дальше так пойдет, то ты скоро начнешь насиловать легавых на перекрестках…
— Не говори мне о насилии. От одного только слова мороз по коже дерет! Поговорим лучше о работе: что ты рассчитываешь найти в Бремене?
— Господина из Бремена, о котором говорила твоя последняя подружка.
— А он большой, этот город?
— Не меньше полумиллиона жителей.
Он смотрит на меня презрительным взглядом.
— И это все, что у тебя есть в качестве приметы? Парень, которого зовут «господин из Бремена»?
— Нужно довольствоваться тем, что есть, мальчик мой.
— Негусто!
— Будем работать с этим…
Берю выбирает волосок в носу потолще и резким движением вырывает его с корнем. Он рассматривает его при свете дня, а затем деликатно прилепляет к ветровому стеклу снаружи. Волосок пляшет в потоках встречного воздуха.
— Благодарность компании «Хертц», — говорю я.
— Что?
— Дар в виде бесценного волоска из носа Берю еще больше укрепит престиж этого знаменитого агентства по прокату машин. Его прикрепят навсегда с помощью присоски, а на приборный щиток привинтят медную табличку с надписью о происхождении дара. Так что будущие клиенты компании, которые возьмут напрокат этот «мерседес», будут ехать со скоростью сто пятьдесят в час, зная, что они едут как бы за тобой. Таким образом родится культ твоего волоса, хотя это всего лишь волосок из твоего носа!
— В настоящий момент я мучаюсь вопросом, иссяк ли твой ум после такого крутого прикола? — вздыхает мой чувствительный друг.
— А что мне делать со всем моим умом, как ты выражаешься? Я ведь прекрасно функционирую, опираясь единственно на те интересы, которые мне служат. Так что не будем расточать свой капитал…
По обе стороны дороги появились дома.
Указательный щит с надписью «Бремен». Александр-Бенуа тычет в него пальцем.
— Окраина Бремена, что ли? — высказывает он смелое предположение.
В портовом ресторане я осторожно пробую поданную мне форель под голубым соусом. Мой друг, обладающий несколько более внушительным аппетитом, заказал себе такую гору капусты, что скрылся за ней практически полностью. Но жадность, с которой он потребляет продукт, настолько велика, что вскоре я вновь вижу его бычий лоб элитного производителя. Затем глаза, слезящиеся от счастья… Его римский нос… И наконец, рот, чья фантастическая работа открывает мне общий вид его хозяина.
Ему остается сжевать лишь десяток сосисок, килограмма полтора копченой ветчины и свиную ножку, когда он вдруг решает спросить:
— Теперь, когда мы прибыли, пошепчи-ка мне немного о том, что, почему да как. С тех пор как мы практикуем вместе, я тебя знаю, парень. Ты бы не приехал сюда, если бы у тебя не было информации высшего сорта. «Господин из Бремена», по-моему, слишком мало, чтобы тебя приподнять…
Молодец мужик! Когда Берю до одури хочется жрать, начинает собираться в кучку его серое вещество. Нужно почаще морить моего друга голодом, тогда он созреет до быстрого повышения по службе.
— Единственный источник информации — моя дедукция, брат!
Он наливает почти полный стакан рейнского вина и опрокидывает его себе в глотку выверенным движением.
— Ты, если не хочешь, чтобы вздулись ноги от беготни, сделай им горчичную ванну, понял? Это усиливает циркуляцию крови.
— Силишься произнести умную фразу?
— Не хочу бить ноги просто так…
Однако, вновь энергично вгрызаясь в капусту, он успокаивается и бормочет:
— Ладно, ты, как всегда, впереди, а я уж за тобой!
— Как ты считаешь, почему отравили Карла Штайгера?
— Ну, потому что он шантажировал других?
— А почему он их шантажировал?
— Тьфу, твою мать! Ну потому что он был в курсе их игр!
— А почему это обстоятельство давало ему козыри против них?
— Ну… Э-э… Потому что… Потому что потому!
Я многозначительно кручу пальцем у виска.
— Дурак ты… Потому что операция удалась, Толстяк! Если бы трюк не удался и камень лежал бы на дне океана, то им нечего бояться! Во всяком случае, они бы не паниковали до такой степени, чтобы тотчас убрать шантажиста. Отсюда вывод, что камень уже в Германии, но только его еще не успели спрятать.
— А почему ты так думаешь, Сан-А?
— Объясню, только перестань жевать, как корова, как спортсмен или как американец. У меня впечатление, будто ты молишься громким голосом за толстым звукопоглощающим стеклом.
— Но нужно же покончить с порцией капусты или нет, черт возьми? — заносится господин Страшный Голод. — Тоже мне выискался, сам не жрет и другим не дает. Может, вообще никому не питаться, потому что это мешает тебе думать? Легче всего свалить на ближнего!
После чего он нацепляет на вилку и отправляет в рот такую гору, какой никогда еще не видывали в ресторанах цивилизованных государств.
Я улыбаюсь и продолжаю:
— Так вот, мессир, история, какой я ее вижу. Значит, после того как обнаружили камень, другие (будем называть их так, пока нового не придумали), прослышав про это, решают завладеть алмазом. Они составляют план. Им нужен дирижабль. Они тут же соединяются со своим мюнхенским корреспондентом, в данном случае Штайгером, и просят его поговорить о покупке аппарата с маршалом фон Фигшишем, единственным владельцем такого мощного дирижабля. Сделка заключена, аппарат переправлен и получен. В Дуркина-Лазо команда других работает и крадет камень. Следишь за развитием мысли?
Потрясающая отрыжка служит утвердительным ответом.
Подбодренный этим сигналом, я продолжаю свои рассуждения:
— Что делать с дирижаблем после того, как он выполнит свою задачу? Он пролетает над болотом и летит к морю. Продолжает лететь над морем, где его ждет судно. Груз перегружают на борт корабля, а дирижабль взрывают, пусть все думают, что алмаз на дне. И действительно, французское спецподразделение хватает наживку. Пока люди в скафандрах обыскивают складки дна, корабль-призрак идет на всех парах в порт назначения. Понял?
— Думаю, понял. Ты приехал сюда, в Бремен, потому что это порт, да? — произносит Берю, делая широкий жест в сторону леса портальных кранов. — Господин из Бремена… Порт Бремена… Корабль из Бремена? И это расшевелило тебе мозги? Их ребята потеряли самообладание из-за шантажа Карла, так как малейший намек мог привести к плачевному исходу по той простой причине, что алмаз находится на борту судна, которое идет сюда или уже пришло?
Я протягиваю ему пять через стол и тарелку с осевшей горой капусты.
— Отлично, Толстяк! Здорово врубился, прямо с ходу! Молодец!
Он улыбается, отхлебывает из бокала и принимается ковырять в зубах с помощью одного из зубцов своей вилки, который он предусмотрительно отогнул в сторону.
— У меня всего лишь один вопрос: почему Штайгера отправили на тот свет только вчера?
Я задумываюсь, но лишь на секунду: ответ готов!
— Видишь ли, Александр-Бенуа, я подозреваю, что этот балбес Штайгер не знал, для каких целей тем понадобился дирижабль. И лишь вчера, когда маршал позвонил, чтобы сказать ему, что два француза хотят купить дирижабль, он понял, что мы полицейские. Он пошевелил мозгами и смекнул, что дирижабль выполнял какую-то грязную работу. Подавив страх, он намекнул ребятам, что он в курсе их дел. А за молчание потребовал компенсацию.
— И сам первый получил право на молчание, — делает вывод Берюрье.
Потом щелкает пальцами, чтобы привлечь внимание официанта.
— Нельзя ли лопаткой побольше зацепить щепотку капусты, а, товарищ? — говорит он с улыбкой Мефистофеля.
Кельнер подкатывает тележку с капустой к нашему столу и переваливает щепотку в пять кило на овальное блюдо, которое служит тарелкой моему другу.
— А к этому что? — спрашивает официант по-французски с видимым усилием, производя деревянным языком акробатические трюки.
— А к этому дашь мне адрес хорошенькой шлюхи под мой формат, — отвечает господин Ненасытный. — Она будет на десерт.
Глава (если вы настаиваете) семнадцатая
Вы меня знаете, я не люблю шутить в вопросах чистой любви (как сказал фабрикант биде), особенно если переношу всю тяжесть расследования на пьедестал гипотезы (это тоже не я сказал, а один большой писатель — ростом метр девяносто два), поэтому предполагаю, что последний аргумент достаточно крепок, чтобы выдержать тот первый.
Я прошу у официанта принести таблетку аспирина, поскольку у меня разболелся недавно запломбированный зуб. По всей вероятности, эскулап с бормашиной наперевес плохо нейтрализовал нерв.
— У господина барона мигрень? — издевается Берю.
Вечер лениво опускается на порт. Сырой вечер с полосами фиолетового неба, угадываемого в разрывах низких облаков. Слышны гудки кораблей, шум кранов, переругивание докеров… Недалеко от нашего ресторана находится пивная с танцульками, откуда доносятся музыка и пение. Тяжелые крестьянские башмаки заканчивают доламывать дощатый пол. Вокруг кипит жизнь немецкого портового города, густая, как суп-пюре в кастрюле.
Мы выходим.
Воздух пахнет гудроном, а мутная вода — железом.
— Куда мы идем? — осведомляется вконец обожравшееся Величество.
Я и сам бы хотел знать…
Если подумать, кто гарантирован от ошибок? Может быть, дело обстояло совсем не так, как я себе представляю. Еще раз повторю, что это всего лишь моя гипотеза. Но она, похоже, единственная…
Толстяк останавливается перед огромным чальным кнехтом, который, учитывая «недуг» Берю, не представляет из себя что-то удивительное по размеру, и показывает мне на стадо темных кораблей, стоящих у причалов и на якорной стоянке в темно-зеленой воде Везера.
— Подумать только, вдруг твой проклятый камень валяется на одной из этих посудин!
— Подумать только — о чем? — спрашиваю я меланхолически.
— Должен же быть какой-то выход, а?
— Что ты хочешь сказать?
— Да узнать, черт возьми! Эти посудины, Сан-А, должны иметь какое-то расписание. В бюро порта обязаны знать часы прихода-ухода! Даже яхта сообщает о своих передвижениях. Это не парковка на авеню Георга Пятого в Париже, это — порт!
Я смотрю на своего друга и чувствую, как закипает у меня в котелке.
— Это, должно быть, из-за зубной боли, — бормочу я.
— Что?
— Запор в мозгах. Черт, а я ведь даже не подумал! Представь себе!
Александр-Бенуа опускает мне на плечо свою дружескую лапу.
— Главное, — говорит он, — что рядом с тобой всегда умный человек. Я твой спасительный кислородный баллон, Сан-А. Когда твоя извилина распрямляется, моя тут же начинает топорщиться и блестеть, что твоя праздничная витрина.
На нем черная фуражка с якорем и круто опускающимся козырьком, так что кажется, будто это продолжение его носа. Из-под фуражки выползают вьющиеся вихры седеющих светлых волос. Глаза белесые. На просоленных щеках топорщится трехдневная щетина.
— Что вам угодно?
Казенный вопрос, который на всех языках задают только в офисах.
— Французская полиция. Мы из Интерпола, господин офицер.
Для гражданского всегда удовольствие, когда его принимают за офицера, примерно как крестьянину хочется, чтобы его приняли за аристократа. Он низко склоняет голову, что должно означать одновременно согласие и приветствие, бросает вежливый взгляд на мое удостоверение и указывает нам на два металлических стула.
Ваш любимый Сан-А пускается в объяснения, строгие, сдержанные, толковые и в хорошем тоне. Я вам набросаю в двух словах. «Из достоверных источников нам стало известно, что один опасный международный преступник, прятавшийся в Африке, погрузился недавно на пароход в направлении Бремена. По имеющимся у нас сведениям, он плывет из Дуркина-Лазо. Какие суда из этой части Африки только что прибыли и какие ожидаются в ближайшее время в Бремене?»
К немцам я отношусь неважно, скажу сразу. Вы знаете, я из тех маньяков, у которых шкафы-гриль модели Дахау запечатлелись на всю жизнь, но нужно отдать должное многим немецким качествам, одним из которых — пожалуй, самым блестящим — является профессиональная честь. Когда касается работы, они впереди всех. И парень из бюро навигации порта, стоящий сейчас передо мной, — тому живой пример. График движения судов в порту — он его знает наизусть. Ему не составляет труда информировать нас, держа в руках журнал записей, но не смотря в него, как дирижер руководит оркестром, не глядя в партитуру.
— Ни один из находящихся сейчас в Бремене судов не делал остановку в Дуркина-Лазо, — говорит он.
— Когда пришел последний корабль из порта Западной Африки?
— Три дня назад. «Простатос», греческий танкер.
Я начинаю лихорадочно подсчитывать. Нет, это судно никак не подходит. Оно просто не успело бы пройти весь этот путь от Кельбошибра до Бремена.
— Других нет, вы уверены?
Служащий хмурит брови, несколько недовольный нахалом, усомнившимся в точности сведений.
— Нет!
— Хорошо. Тогда обратимся к будущему. Когда должен прийти следующий корабль, возвращающийся из Африки?
Он не раздумывает:
— Сегодня ночью.
Мой внутренний голос вздрагивает больше обычного. Можно подумать, он хочет выскочить из своей клетки (грудной), взлететь и разразиться радостными трелями. Нет, кроме шуток — вы видите расклад? Крылышки вашего Сан-Антонио несут его вверх! И я как бы за руку с самим Господом Богом! Ах, посетитель — добро пожаловать! Но если я появлюсь перед Ним и успею открыть рот первым, то Он меня заслушается. Иногда я думаю, надо бы составить список всего, что я Ему скажу. Книгу жалоб — целый фолиант! У-у, мне есть что сказать! Многое надо объяснить. Некоторые вещи в этом мире я и сам плохо понял. Кое-что попавшееся мне на жизненном пути показалось просто шокирующим… Я вам так скажу: Бог, возможно, был хорошим автором, но у него, к сожалению, были очень плохие переводчики! На все языки перевели одинаково плохо! Я бы хотел прочитать его в оригинале, хоть немного, кусочек. Или услышать по радио и, таким образом, исключить накопившиеся недоразумения. Ну не сидеть же сложа руки и ждать до Страшного суда, черт возьми!
— Какое плавсредство? — (Как видите, я быстро овладел морской терминологией, поскольку, еще будучи маленьким, какался и писался в короткие штанишки, украшенные якорем с надписью «Моряк».)
— «Некмер-Життюр» из пароходства «Замшелл» из Бремена.
Я записываю на северной (на южной обычно не пишут) стороне коробка спичек эту бесценную информацию.
— Других пароходов из Африки в ближайшие дни не будет?
— Нет, только через неделю.
По другую сторону стекла на порт опустилась густая ночь. Ряды огоньков вокруг похожи на китайские фонарики.
— Во сколько должен прийти этот пароход?
— Среди ночи, около двух часов.
— Кто командует судном?
— Капитан Моргофлик.
— Он что, не немец?
— Норвежец. Кстати сказать, судно принадлежало скандинавской компании, затем было куплено пароходством «Замшелл»…
— Тип судна?
— Сухогруз водоизмещением двенадцать тысяч тонн и скоростью семнадцать узлов…
— Большая компания «Замшелл»?
— Одна из крупнейших в Западной Германии. И одна из самых старых. Барон Малхер является президентом-генеральным фюрером.
Уважительный тон моего собеседника прямо-таки внушает почтение к компании. Я встаю и протягиваю ему руку.
— Благодарю за помощь, господин старший офицер! Естественно, я рассчитываю на соблюдение тайны с вашей стороны.
— Полное молчание! — заверяет начальник якорных цепей.
Девять часов.
Берю дрыхнет на скамейке почтового отделения, открытого круглые сутки. Через стеклянную перегородку кабины я вижу его здоровенную башку, перекатывающуюся на груди. Кажется, будто он наблюдает за шевелением своего так же прикорнувшего дракона.
Дорогой ты мой смелый Берю, провалившийся в сонную невинность. Обмяк вдруг…
Позади стойки из черного мрамора телефонист в белом заляпанном кителе читает журнал по мотоспорту.
На другом конце провода надрывается шеф.
Бесконечный поток слов.
При этом слова, которые Старик не хочет произносить, он заменяет междометиями или чем вздумается, что вконец убивает всякое восприятие. Если бы были посты прослушивания ночных разговоров с заграницей, то записывающее устройство задымилось бы.
В конце концов шеф после долгих нравоучений позволяет себе паузу.
— Все понятно, Сан-Антонио?
— На все сто, патрон!
— Отлично. Матиас приедет в Бремен примерно в час ночи. Где он должен вас найти?
— На причале. Рядом с конной статуей адмиралу Отто Рино-Гологу. Я буду там, или если не я, то Берюрье.
— Кстати, а как он себя чувствует?
— Дымится, господин директор. Недуг довольно тяжелый — постоянно напоминает о себе.
— Необходимо его лечить, как только вернетесь. Конечно, подобная инвалидность — комплимент французской полиции, но тем не менее…
Он смеется и вешает трубку.
От храпа Толстяка трясутся стены. Время от времени телефонист поднимает глаза на моего друга, чтобы убедиться, не мучают ли его слуховые галлюцинации в связи с чтением журнала про мотоциклы.
Память моя барахтается в словесном потоке шефа. Пока человек в окошке с журналом о двухколесном транспорте занят по уши, я осматриваюсь и мой пытливый взгляд случайно падает на лежащий передо мной в кабине телефонный справочник города Бремена. Как рождаются идеи? Я никогда об этом не узнаю. Они к вам приходят. Они уходят. Это тайна такая же, как сама жизнь. Непостижимая.
Я беру телефонную книгу и принимаюсь ее листать. Поскольку я маньяк в вопросе словарей, то у меня дар открывать их как раз там, где мне нужно.
В нашем случае, как вы должны помнить, ленивые мои читатели, фамилия начинается на букву «М».
«М» — «мастурция», как говорит Берю!
— Шикарный дом, а? — пускает пузыри Берю. — Выходит, быть капитаном дальнобойного судна прибыльное дело?
Посреди широкой лужайки я вижу дом, построенный из кирпича с деревянными стяжками, что по-немецки называется «Fachwerkhaus», покрашенный белой краской. Солидный, богатый дом, с круто нависающей крышей, открытой большой верандой и решетчатыми окнами-витражами.
Участок окружен низким забором. На калитке блестит медная табличка, на которой написано: «В. Моргофлик».
Берю непрерывно гундит через нос, и я понимаю, что его душа просит моего откровенного признания.
— Зачем? — спрашивает он. — На что ты надеешься?
В ответ я чешу репу и чистосердечно говорю:
— Я чую носом, Толстяк! Если пароход «Некмер-Життюр» тот самый, то капитан корабля обязательно должен быть в курсе, что у него на борту.
— Значит, он главный в банде?
— Думаю, что нет. Но для очистки совести я должен выяснить, где и как он живет.
Не успеваю я договорить, как дверь приоткрывается. Женская головка с темными короткими волосами осторожно высовывается наружу и осматривает окрестности дома. Поскольку мы поставили свою тачку в тени деревьев, она нас не видит. Дверь распахивается на всю ширину. Появляется мужчина с большой дорожной сумкой в руке. Его испуганное лицо говорит о том, что он желает во что бы то ни стало срочно слинять с горизонта. Но женщина провожает его до калитки. Она в шелковом пеньюаре, похожем на кимоно с цветным узором в виде павлиньих хвостов. Неслышно ступая, оба идут по дорожке. Мужчина держит руку на ее плече. Перед тем как расстаться, женщина кидается ему на шею.
— Ганс! Ганс! Ганс! О, Ганс! — говорит она буквально (мне кажется, что я точно воспроизвел количество Гансов, но, если ошибся, вы можете или зачеркнуть, или дописать).
— Грета! Грета! Грета! О, Грета! — отвечает он, роняя сумку и припадая к павлиньим хвостам. (Кстати, здесь вы тоже можете откорректировать количество по своему вкусу).
Они обнимаются, сливаются, целуются, но лишь на секунду, затем вытирают рты и смотрят друг на друга.
— Целая неделя! — вздыхает она. — Целую неделю с этим гнусным типом!
— Крепись, дорогая. Потом будет вновь хорошо. Я тебе опять сделаю минь-минь. Как я тебе сделал минь-минь только что, а, Грета?
— О, Ганс, да, ты очень хорошо сделал мне минь-минь.
— И еще пиль-плок! Как тебе понравился пиль-плок?
— О, пиль-плок! Восхитительно!
— Два раза!
— Да, Ганс, два раза пиль-плок!
Два влюбленных голубка воркуют еще не меньше десяти минут, стоя в желтом ореоле стыдливо отбрасывающего свет фонаря. В конце концов парень отклеивается от своей Джульетты и садится за руль черного «триумфа». Он стартует как на гонках, махнув рукой своей подруге.
Задумчиво, видимо витая в мечтах, она некоторое время стоит столбом возле калитки.
— Вы, должно быть, фрау Моргофлик? — произношу я, выпрыгивая из машины.
От неожиданности Грета классно подпрыгивает, как еврей на молитве в синагоге (хотя, пожалуй, она антисемитка). Я подхожу ближе. Она скорее темно-рыжая, чем брюнетка. В ее темных, горячих глазах отражается паника. Приоткрытый пеньюар дает возможность лицезреть бюст достойного формата.
— Кто вы? — заикается она.
— Если вы окажетесь фрау Моргофлик, то я вам скажу.
— Да, я…
— Тогда давайте побеседуем в тепле. После всех ваших любовных игрищ вы, наверное, не замечаете, что идет дождь.
Возникает Берю — глаз быка-развратника, палица, готовая к бою.
— А ты, — говорю я грозно, — ты прежде всего веди себя в рамках! Понял? Твое либидо мне начинает действовать на психику!
Грета входит в дом первая. Она пробует хлопнуть дверью перед моим носом, но Сан-Антонио привык к фокусам такого рода. Когда мадам изо всех сил пихает дверь с внутренней стороны, моя левая нога уже на месте, как и моя правая рука.
Оставив глупости, она сдается, и мы без проблем входим в дом знаменитого капитана судна «Некмер-Життюр».
— Не поддавайтесь панике, Грета, — фамильярно советую я ей, — мы не воры и не разбойники. Наоборот! Может, мы сумеем вытащить вам занозу из… ноги!
— Что вы хотите?
— Поговорить несколько минут.
— Вы не немец? — бормочет она.
— Боюсь, что нет! Мои родители родились по другую сторону Рейна. Как-то так сложилось. Но я надеюсь, вы согласитесь, несмотря на это обстоятельство, ответить на парочку моих вопросов?
— Слушай, а она в порядке, эта девочка! — пускает слюну Неугомонный. — Ты изучил ее силуэт? Похоже на центральную картинку в «Lui». А, черт, этот парень, видно, провел с ней проникновенные моменты!
Я отталкиваю его плечом. Сейчас, скажем так, моя очередь устанавливать близкие контакты.
— Мои поздравления, — говорю я, — этот ваш любовник — красивый парень. Король минь-минь и, кроме того, чемпион по части пиль-плока!
Я показываю на спинку кресла.
— Осторожно! Он забыл свой носок. Когда вернется капитан, а это уже скоро, вы не сможете утверждать, что он принадлежит почтальону.
Замечание относительно неизбежного возвращения единственного командира на судне (после Бога) ломает бессмысленное упрямство женщины. Она предчувствует трудности, но в конце концов начинает испытывать к нам доверие, а может, дело просто в моем расположении к ней и ослепительной французской улыбке.
— У меня складывается впечатление, восхитительная Грета, что вы не любите своего мужа?
Она воздерживается от ответа, более того, на ее лице вновь появляется выражение неприязни.
Ну хорошо, а если ей представиться тем, кто я есть? Иногда это помогает больше, чем всякие экивоки и слюнявые объяснения. Я вытаскиваю свой главный козырь (прошу не думать плохого!) и говорю, что мы из Интерпола.
Удостоверение — будьте любезны!
Полиция!
Да, мадам: я полицейский! Магическое слово. Интернациональное! Я объясняю, что мы занимаемся расследованием транспортировки наркотиков. Это сейчас в моде и никого не удивляет. В нынешние дни ученики шестого класса носят в своих портфелях гашиш. Девушки из хороших семей, возвращаясь с воскресной службы, пробуют ЛСД, а в каждом самолете есть по меньшей мере один чемодан, битком набитый героином. Очень волнующая, моя эпоха! Как французу мне более чем понятна ситуация с дурью, поскольку Франция стала притоном наркоманов.
И вот желанная Грета преображается в заинтересованное лицо. Вдобавок она забыла запахнуть свой пеньюар, и меня просто чаруют перспективы ее шарма, меняющиеся в зависимости от движений, которые она делает. Я чувствую нарастание давления, как перед бурей, которая вот-вот пронесется, поднимая все, что в состоянии подняться. Мне понятны вожделения Берю. Мадам подобна огнедышащему вулкану, дремлющему до поры до времени, но готовому к извержению. Но взрыв происходит у Берю. Пуговицы от штанов пулеметной очередью лупят по стене. Кошмар! Адская машина! Будто на войне: пам-пам-пам-пам!
— Замешан ли мой муж в этом деле? — произносит она, когда я уже отчаялся получить ответ.
Верная Грета представляет себе капитана, пониженного в звании, осужденного, заточенного в тюрьму, приговоренного к ста годам каторги! Свобода! Развод! Ганс навсегда! Минь-минь с пиль-плоком каждый час, холодная и горячая вода постоянно! Мерси, папа, мерси, маман! Не надо больше прятаться. Кончатся ночные расставания в тумане и потери носков в спешке.
— Очень похоже, что так, — говорю я. — Готовы ли вы помочь следствию?
Она не испытывает нужды разыгрывать из себя святую невинность, настолько сильна ее ненависть к мужу-морскому волку. Главное в жизни — все сделать вовремя! Важно, чтобы где-то щелкнуло в нужный момент. Никогда не добьешься успеха без помощи обстоятельств. Посмотрите гороскоп: прекрасные дни для совершения сделок — 27 апреля, 18 июня, триумф на работе, успех в половом акте… Главное — вовремя! Существует день «Д», час «Ч». Что на кухне, что в постели… Что торт, что любовь — один черт! Война, политика, Гонкуровская премия, все — говорю я вам! Не использовал, пока есть возможность, — потерял навсегда! Полный провал: сливай воду!
В этот момент я всей своей могучей силой ощущаю самку, еще теплую после своего любовника, готовую встретить ненавистного мужа. Она его проклинает, своего капитана-дальнобойщика! Наставляет ему рога с радостью, эта муза любви другого самца. Она мечтает о смерти! Чтоб ему утонуть в океанских глубинах, покрыться кораллами вместо хризантем! Ей видится, как его перепиливает рыба-пила (циркулярная). Как оголодавшие морские моллюски грызут ему глаза и уши. Настолько она его ненавидит! Если не верите, сходите в суд: там такие гражданские дела разбираются — заслушаетесь!
Если бы вы видели, с какой алчностью она произнесла «О да, конечно!», когда я спросил, согласна ли она помочь следствию. Святая Катерина, как она вспыхнула, как заблестели ее глаза! Вся ненависть выплеснулась наружу — даже у меня мурашки побежали!
— Спасибо, — говорю я, — а теперь, великолепная Грета, ответьте мне, положа руку на сердце: ваш муж — честный человек?
Подождите смеяться, друзья мои! Все зависит от этого вопроса, если хотите знать. Он представляет собой как бы перелом в игре. Поясню, поскольку, как всегда, вы не очень просекаете ситуацию: Грета ненавидит своего козла! Она ему желает тысячу бед. Но если она, несмотря ни на что, ответит мне, что он чист как стеклышко, значит, так и есть на самом деле. Ибо женщина, питая такую нескрываемую ненависть, не может заблуждаться или покрывать капитана. И в этом случае мне останется лишь прийти к шефу и подать в отставку.
— Муж? — заводится она. — Мерзавец! Старая каналья! Хороший моряк, но бесчестный человек. Он сбежал из Норвегии, потому что был замешан, очевидно, в каких-то крупных аферах! Он…
Остальное не имеет значения.
Продолжение подчас может ослабить выразительность начала фразы. Стремление усилить часто приводит к анемии всей выражаемой мысли. В некоторых случаях чем ты короче, тем красноречивей. Вспоминаю случай с одним господином, который в силу своей профессии тоже далеко не молчун, поскольку он адвокат. Я спросил у него, что он думает по поводу только что победившей лауреатки конкурса «Весь Париж». Он сделал широкий, как бы бессильный жест и выразился так: «Стерва!»
И больше ничего. Одно слово! Стерва! Емко и понятно. После этого можно переходить к другой теме разговора.
Итак, мы ухватились за нужный конец (троса). Благодаря моему чуткому обонянию, попросту нюху, расследование пошло со скоростью сто узлов в час.
— Торжествуешь? — замечает Берю. — Нашел бриллиант в коровьем навозе?
— Что-то вроде этого, Ваше Величество.
Я вновь обращаюсь к Грете:
— Если Моргофлик негодяй, то как же получилось, что его наняли в такую уважаемую компанию?
— О, у него большая поддержка.
— Какого плана?
— Политического! Со стороны неонацистов! Организация очень влиятельная и гораздо более сильная, чем думают простые граждане. У них повсюду свои представительства, филиалы. Секретные финансовые фонды. Шпионы…
Неонацисты, я правильно расслышал? Значит, дым крематория Треблинки еще не рассеялся?
— Ах, вот как, — говорю я, — понимаю…
Я, друзья мои, и правда теперь все хорошо понимаю.
Во всяком случае, что касается кражи камня. С применением мощных средств и людских сил. Срочное убийство Штайгера. (Вполне возможно, он также был членом партии.) Все требует больших затрат!
Моя энергия прет через край, как в синхрофазотроне, с точки зрения эколога. Меня так пришпорили, вдохновили!
— Скажите-ка, Грета, приходится ли вам ездить в порт встречать мужа, когда он возвращается из плавания?
Она с раздражением пожимает плечами.
— Не просто приходится — обязана! Он требует, чтобы я была на причале и бежала первой сразу после таможенников, как только спустят трап. Вилли гордится мной. Обожает обнимать меня перед всей командой.
— Я его очень хорошо понимаю, — говорю я многозначительно, чтобы сделать первый шаг к сближению с этой мышкой, поскольку, если мой план не сработает, то… Во всяком случае, идея хлеба не просит!
Она отвечает на мой проникновенный взгляд. Да, вот вам доказательство, что лучше быть ювелиром-надомником, чем командиром эсминца! Ух, эта Грета — форменная кастрюлька с молоком на плите.
— То есть вы хотите сказать, что этой ночью поедете его встречать в порт?
— Мне должны позвонить, как только судно начнет подходить к пирсу.
Я нежно беру даму за руку.
— Грета, — неровно дышу я, — хотите, мы станем друзьями детства? Вернее, подругами?
Глава (последовательно) восемнадцатая
В бременской ночи Матиас похож на горящую свечку. Его огненно-рыжые волосы собирают в пучок лунный свет, скупой, конечно, но вполне достаточный, чтобы зажечь венчик вокруг головы нашего несравненного принца из криминалистической лаборатории Парижа.
Мы приветливо машем ему рукой, в ответ он машет нам еще приветливей. Он украдкой смеется, глядя на нашу процессию, направляющуюся к кораблю, который заканчивает швартовку.
Грета вся такая воздушная (будто местами надутая) в своем коротком костюмчике а-ля Шанель, а на самом деле тевтонском, цвета розовой конфетной начинки. Чтобы противостоять своему мужу, она разукрасилась, как индеец перед выходом на тропу войны. Ее круглые бедра ходят ходуном прямо у меня под носом, что заставляет мои ноздри раздуваться шире прежнего. Я с трудом переставляю ноги, без конца подворачивая их на круглых камнях причала. К счастью, Берю поддерживает меня своей верной рукой.
Прожекторы делают из этой в принципе обычной процедуры причаливания судна феерический спектакль. Слышатся гортанные крики, скрип металла, работа механизмов и успокаивающееся дыхание мощных двигателей.
С высоты полуюта корабля крупный человек с геометрически прямыми плечами и резкими из-за света прожекторов чертами лица руководит маневром судна. Это и есть капитан Моргофлик. Он похож на настоящего пирата, будто только что сошел со страниц романов Лондона или Стивенсона. Угасающее племя морских разбойников, чьи отдельные экземпляры сохраняются еще только в пятой части света, за коралловыми рифами Океании. Бронзовая башка, железное сердце… Он, очевидно, пьет как лошадь, пинками подгоняет своих матросов и предается дикарской любви в портах захода, наклеивая попадающимся под руку шлюхам бумажку в двадцать долларов на лоб в качестве подарка, чтобы привести их в экстаз. Мужчина, короче говоря!
Маневр заканчивается — судно у стенки. Черный монстр затихает в черной вонючей воде. Матросы начинают спуск трапа. Таможенники ждут, чтобы подняться на судно, и переговариваются между собой в стиле гестаповцев. Они знают Грету и уважительно приветствуют ее.
— У-у! — кричит она капитану из второго ряда встречающих (сразу после таможни).
Крики смолкают, и Моргофлик улавливает зов. В ответ он приветствует ее как римлянин. Он похож на Нептуна в униформе германского торгового флота. Затем он переносит взгляд на нас, стоящих рядом с его супругой, и хмурит брови. Вполне понятно, он задает себе вопрос, кто мы и что замышляем, будучи в компании его мышки.
Мне наплевать на его удивление. Это последнее, что меня сейчас занимает, поскольку я с трудом поднимаюсь по шаткому и узкому трапу.
— Тяжело, а? — бормочет Берю, борющийся со сном.
— Действительно, каторга, — соглашаюсь я с ним.
Он опять шепчет, еле ворочая языком:
— Наверное, не надо было пить снадобье, которое мне прислал с Матиасом шеф. Такое впечатление, будто меня огрели по башке! Глаза слипаются, и в котелке одна жижа.
— Надо срочно тебя лечить, — возражаю я. — Нельзя же навек оставаться в таком состоянии. По-моему, парень, ты стал на меня как-то странно смотреть!
— Ну и что, ты красивая птичка! — кудахчет мой интимный друг.
Мы умолкаем, поскольку вваливаемся на палубу. Грета набирает полную грудь воздуха, отдувается, чтобы как следует проаэрировать свои легкие, затем группируется и бросается на шею Моргофлику. Жаркие объятия, страстные поцелуи, с шелестом одежды, сдавленными вскриками, вздохами, кряхтеньем…
Короче, грандиозная сцена встречи! В подобных случаях всегда один доволен этим мероприятием, а второй вынужден делать вид, будто между ними обоими существует полная гармония.
Для нелюбящей супруги, только что оторвавшейся от волосатой груди своего любовника, Грета держится прекрасно. Отличная работа, что касается пыли в глаза или лапши на уши. Она замечательно играет свою роль, которую можно выразить словами «Дорогой, я так извелась без тебя!».
Ох, как она извивается перед своим капитаном. Как зовет. Будто матрос в бочке на мачте, первым заметивший американский материк. «Земля, земля!» — кричит она своему Христофору Колумбу. Земля! Палуба! Деревянные доски! Все, что угодно! В конце концов, подойдет и надувной матрас! Я твоя мачта, моряк, лезь на меня! Рули быстрей! Запускай машину! Машину — махину! И так далее.
После всех этих смертельных объятий, жарких поцелуев, срывания одежды, очень показательных, на глазах у всех, оба наконец отрываются друг от друга.
— О! Вилли, — вскрикивает супруга, — позволь мне сделать тебе один сюрприз. Помнишь, я тебе иногда говорила о Лилиан, моей подруге детства, из Люксембурга?
— Гм, гм, — произносит без всякой радости капитан.
Ну и рожа у него, у покорителя водных стихий! Вылитый корсар, повторяю я. Сказать по правде, между нами, в вопросах секса он наверняка способен на большее, чем тот несчастный Ганс, которого мы видели. Ночь любви с капитаном Моргофликом — это вам не дурацкая суета вокруг дивана, уверяю вас! Все наверх! Муссон! Шквал! Только не пытайтесь понять его супругу: настоящие женщины — все ку-ку! В хорошем смысле! Лучше уж принимать их такими, какие они есть! Живя в эпоху мышления на уровне секреторной системы, они знают, что времена целомудрия и стыдливости давно отошли в прошлое.
— Представь, Лилиан была проездом в Бремене со своим мужем и мы случайно нос к носу столкнулись на углу Атрофиренштрассе и Ампутиренплатц. Мы просто обалдели и целые три минуты стояли друг против друга с открытыми ртами, не веря своим глазам, правда, Лили?
— Правда, Грета, — жеманно отвечаю я, поправляя ремешок сумки, к которой никак не могу привыкнуть. — Значит, это твой супруг. Мои комплименты, очень красивый мужчина.
Жеманясь еще больше, я протягиваю руку капитану. Галантный человек, только что бросивший якорь, прикасается к ней губами. Хорошо, что я сбрил поросль с тыльной стороны ладони и смазал кожу кремом на лимонном соке. Я максимально вытягиваю пальцы, чтобы рука стала еще более женственной, и, хихикая, как бы невзначай глажу его по щеке. Надо отметить, что благодаря адским стараниям Греты я выгляжу красивой киской. Парик из светлых волос, завитых в крупные локоны, ну а ниже так просто шик: наклеенные ресницы, обведенные зеленой тушью, темные брови, румяна на щеках, размалеванные помадой губы, маленькие пикантные родинки… Добавьте сюда еще подкладной резиновый бюст, нарядное обтягивающее платье, туфли на каблуках, высокий голос, как у гомика, и вы можете себе представить, какие восхищенные взгляды бросает на меня бравый капитан.
— Рад познакомиться с вами, Лилиан, — говорит он строго. — Грета действительно часто говорила о вас, так что у меня впечатление, будто я вас знаю. Но я не предполагал, что вы такого высокого роста…
Я испускаю легкое кудахтанье, затем, чтобы сменить тему, говорю как бы со смущением:
— Позвольте представить вам моего мужа, Александра-Бенуа Берюрье. К сожалению, он не говорит по-немецки.
— Он тоже люксембуржец?
— Нет, бельгиец. Из Льежа…
Моргофлик протягивает руку моему «супругу».
— Рад познакомиться, — говорит он по-французски. — Как дела в Льеже?
— Дела бьют ключом! — отвечает Берю.
— Вы работаете в промышленности?
— Нет, рядом, — не задумываясь, шпарит мой драгоценный супруг. — Покупаю горячую воду и делаю из нее лед. Этот лед потом покупают холодильники. Я забил льдом все морские рефрижераторы в Северном море. Мне по сей день шлют благодарности. Ног под собой не чуют от радости. Главное, чтобы не было комков…
Я затыкаю его фонтан с помощью тычка под ребра. Дело в том, что Берю прилично насосался, пока мы ждали пароход, к тому же от лекарства, которое ему прислал шеф, у него здорово поехала крыша.
— Вилли, мой дорогой, — очень вовремя вмешивается Грета, — представь себе, Лили первый раз в жизни поднялась на борт океанского корабля. Ты не против, если я ей покажу «Некмер-Життюр»?
— Ну конечно, — соглашается Моргофлик, — тем более что я не смогу покинуть судно в течение нескольких часов.
Мы расшаркиваемся и всей троицей идем по кораблю под похотливыми взглядами матросов.
— Браво, — говорю я Грете, как только мы отходим на порядочное расстояние. — Вы прекрасно играете свою роль.
Она улыбается.
— Если Вилли когда-нибудь узнает, что я его обманываю, он с ума сойдет.
— Да уж, это будет смертельный номер, если однажды как снег на голову вам свалится настоящая Лилиан.
Пользуясь правами «давней подруги», я беру ее за талию и чувствую, как ее бедро ходит под моими пальцами. Она страстная, эта Грета. Представляю ее себе в постели — ураган! Но об этом сейчас нужно забыть и сосредоточиться на работе, черт бы ее взял! Кроме того, меня страшно мучает зубная боль. Это все из-за той пломбы. Невозможно же одновременно мечтать о женщине и о зубном враче, как вы считаете?
— С чего вы хотите начать? — спрашивает меня обалденная мадам Моргофлик.
Меня подмывает ответить: «С конца!» — сопроводив слова красноречивым движением руки по ее телу, но, к сожалению, сейчас не до этого.
Я пытаюсь сообразить.
Камень весом в тонну…
Вряд ли они поместили эту огромную глыбу в трюме вместе с обычным грузом, ведь таможенники полезут туда проверять.
Нелогично! Слишком большой риск…
Я внимательно смотрю на «своего мужа». Обычно я угадываю, когда его мозги работают в унисон с моими, но по туману в его глазах вижу, что только не сегодня…
Тем не менее Берю улавливает мой взгляд.
— Хочешь, что скажу? — бормочет он будто под наркозом.
— Хочу.
— Они спрятали его в другом месте…
— И я так думаю.
— Но недалеко, чтобы можно было быстро погрузить. Они не могут рисковать, чтобы его обнаружили. Такая глыба… Представляешь…
— Представляю.
— Ты видел, как серьезно настроены таможенники? Дотошно обшаривают каждый угол…
Грета ждет чуть поодаль. Странная рыбка. Она, похоже, страшно возбуждена сложившейся ситуацией. Словно надеется, что этой ночью произойдет нечто крайне важное.
— Так, — после некоторой паузы начинает ворочать мозгами Толстяк, — мы, значит, дотумкали: алмаз спрятан где-то неподалеку, чтобы легче было разгружать… Он весит тонну, то есть обязательно нужен кран, чтобы поднимать такую махину. Но кран не положишь в карман, и даже в чемодан не запихнешь…
Так, кран! В любом случае, риск для них велик! Мой нюх и мой врожденный ум подсказывают, что организация, мобилизовав столько людей и затратив столько средств, не остановясь даже перед кровопролитием, лишь бы завладеть этим чудом природы, не может позволить себе провалить всю операцию из-за дурацкой оплошности.
— Ладно, будем искать! — говорю я, вздыхая.
Как-то вдруг сразу я чувствую, что надежда покинула меня. Мой нюх меня подводит — он молчит! Я говорю себе, что они слишком сильны, слишком хорошо оснащены, чтобы тягаться с ними…
Но тем не менее мы начинаем искать…
— Мне кажется, у меня потрясающая новость! — заявляет Берюрье, борясь со сном. Я вздрагиваю, поскольку и так на нервах.
— Что?
— Моя болезнь, парень, — ее больше нет!
Он показывает мне на свои мирно болтающиеся штаны. Так выглядит деревенская площадь после того, как уезжает цирк.
— Видишь, — шепчет он, — все, конец, финита, смылился, растворился! Был и нет! Записан выбывшим! Господин Пополь уехал в отпуск! Мой внутренний голос поет «Спи, моя радость, усни!».
— Ну слава Богу, всем стало легче!
Он пожимает плечами.
— Не знаю, Сан-А. Правда, не знаю. Я уж начал было привыкать. Знаешь, в принципе было не так уж плохо… Даже приятно… Надеюсь, снадобье, что дал мне Матиас, не окончательно разрушило мое достоинство… А что касается нашей работы, то я почему-то думаю, что мы в дерьме. Камня на борту больше нет. Эти сволочи выгрузили его раньше, перед заходом в порт. Скажем, большой вертолет сел им на палубу еще где-то в открытом море… Если позволишь, я пойду к Матиасу в машину и покемарю немного, а то я что-то в пополаме. Такое впечатление, будто проваливаюсь куда-то, как Спящая Красавица, представляешь?
Монолог кончается затяжным зевком, широким, как тоннель под Монбланом.
— Ну иди, — с тяжелым сердцем отвечаю я, наблюдая за двумя красными клубничками-миндалинами в его глотке. — Пойди подрыхни…
Он, шатаясь, выходит из каюты капитана, которую мы только что лихорадочно обследовали.
— Вы ошиблись? — мягко спрашивает Грета.
— Да, похоже на то. Видимо, я взял ложный след, — бормочу я, усаживаясь в глубокое английское кресло.
— Жаль, — вздыхает она.
Грета явно хочет мне помочь. Только что я показал ей путь к свободе, и она поверила мне. Но женщины умеют прощать нам ошибки — всем известна их покорность судьбе. Они применяются к любой ситуации. Адаптируются как пальто, которые можно удлинить или укоротить, вывернуть наизнанку, пришить воротник, капюшон — на свой вкус, по сезону или моде…
Она медленно подходит к моему креслу, садится на подлокотник.
— Не огорчайтесь, — шепчет она.
Ее рука тянется ко мне, как бы гладит, не дотрагиваясь, мою накрашенную физиономию. Не решаясь на большее, она встает с кресла.
Затем смеется. Ее глаза блестят. Она потрясающа.
— Знаете, вы страшно соблазнительны в таком виде!
Она любит риск, любит всякие острые ситуации. Ее, похоже, возбуждает сидящий перед ней накрашенный педик.
Не знаю, что со мной произошло, но я вдруг хватаю ее резко, даже грубо. Веление сердца? Или еще какого-то предмета? Но она оказывается прямо передо мной и седлает мои колени. Поднимает юбку, и я вижу ее потрясающие ноги. Мы пробуем на вкус друг у друга нашу помаду и бросаемся в сумасшедшую скачку, одновременно освобождаясь от всяких нейлоновых препятствий. Все, что встает между нами, мы просто разрываем. Мы спрессовываемся в плотную массу. Мои нервы на пределе, дети мои! Они требуют разрядки! Сейчас они ее получат… Минуточку… Получают… О, проклятье! Как назло, вваливается нежданный муж.
— Тысяча чертей! — вырывается у него.
Я в нокауте. Она в нокауте. А вместе мы в коитусе!
Мерзкий момент!
Шикарно получилось! Но сам виноват: прежде чем закидывать ноги, нужно было запереть дверь. Только я, вы меня знаете, всегда занимаюсь тем, что открываю двери, и меня меньше всего беспокоит, чтобы их закрывать.
Морской волк стоит рядом, фуражка на затылке, морда красная, взгляд бегает. Можно подумать, что он сейчас взлетит на воздух. Но затем шкодливая улыбка вдруг наползает на его злое лицо.
— Хе-хе, — произносит он, неровно дыша, — девочки! Теперь я понимаю, почему ты так любишь свою подружку, Грета! Лили, дорогая! Отлично, обе тут… ха-ха! А ты от меня скрывала, плутишка! Впрочем, подождите своего Вилли, сейчас я к вам присоединюсь. Две красивые женщины — ну не подарок ли для мужчины после долгого плавания. Это ж замечательно — я уже иду!
Будучи не таким болваном, как я, он идет к двери и запирает замок. Потом возвращается к нам с весьма многообещающим взглядом. Я вижу в его глазах то, что совсем недавно видел в глазах Берю. Он облизывается, чуть ли не пускает слюни. Никогда еще, братцы мои, Сан-Антонио не был в таком положении. Никогда! Вы представляете? Но, собственно говоря, чего я жду? Надо оставить супружескую парочку выяснять отношения между собой, по крайней мере, без меня! Я делаю скольжение по креслу, чтобы освободиться от милой моему сердцу мадам Моргофлик. Это первое движение. Полный успех, браво, Сан-Антонио! Второе движение: сдвинуть мадам, чтобы легко подняться с кресла. Я поднимаюсь. Мне удается. О черт! Юбка трещит! Отрывается! Вдобавок у Греты на руке браслет с какими-то финтифлюшками и завитушками. Один из завитков цепляется за мой парик. Ра-а-аз! И парик слетает с головы.
Мамма миа! Что за невезуха!
Тут до Вилли доходит, и он, похоже, не согласен с таким поворотом событий! Наш капитан относится к тому типу мужей, которые не чувствуют, что им наставляют рога, но очень обижаются, когда застают своих жен в постели с любовником.
Он испускает звук, похожий на гудок паровоза в тоннеле. Я успеваю отклониться, и он разбивает вдребезги тяжелый торшер около кресла. Затем снова оказывается передо мной. Что остается делать в подобных условиях, кроме как спасать свои кости и их упаковку? Не стану тянуть резину и расскажу в двух словах! Я беру ситуацию в руки, как берут быка за рога (капитана). Непосредственно! Не откладывая в долгий ящик! Рядом со мной у стены стоит бронзовая статуэтка, изображающая китайца, прячущего выручку от своего хозяина. Я хватаю ее. И бум! Прямо в торец капитанской башки. Если у него было воспаление десен, то теперь все прошло. Поскольку во рту что-то громко хрустнуло. Супруг вопит и падает на колени перед креслом.
Грета молча наблюдает за нами, затем подходит и мягко берет из моих рук бронзового китайца. Я, естественно, отдаю… Дальнейшее происходит удивительно быстро…
— Стой, ты с ума сошла! — кричу я.
Но слишком поздно!
Со всей силой она бьет китайцем по затылку своего моряка. Раз! Два! Три! Четыре! Точно, четыре: я невольно считал. Ну и месиво! Голова Вилли лопается сразу на несколько частей. Кровь хлещет, как из винной бочки, упавшей с грузовика.
Грета бросает китайца, бежит к двери и начинает колотить и звать на помощь!
Э, нет, только не это! Вот сволочь, она хочет повесить на меня убийство. Нет, я не согласен! Этак вдовство достанется ей слишком задешево. За так! За здорово живешь!
Я хватаю ее за рукав, бью с размаха по лбу, и как раз вовремя, так как она собирается открыть замок.
И в этот момент с другой стороны начинают дубасить в дверь. Обеспокоенные шумом моряки кричат: «В чем дело, господин капитан? Откройте!» Потом начинают вышибать дверь… Дико как-то, мой дорогой Сан-Антонио. Будто не с тобой. Ну не дашь же ты себя взять как ягненка!
Вы ведь меня знаете! Стоит наступить, как кажется, безвыходной ситуации, и я сразу на коне. Срываю свое прекрасное воскресное платье, отбрасываю Золушкины туфельки к чертям подальше, отвинчиваю иллюминатор, встаю на стол красного дерева и… плюх!
Ныряю в черную дыру. Падаю в черную воду. Вокруг сплошная чернота!
Брр! Это отрезвляет!
Что еще оставалось делать?
А?
Глава (бесповоротно) девятнадцатая
Я плыву как голодный тритон при звуке колокольчика, приглашающего на обед. Я выпрыгнул с противоположной пристани стороны, и, чтобы выбраться из воды, мне придется огибать судно.
Поскольку надувной матрас я не прихватил, расслабляться не приходится. Тихо подгребаю под себя, как пенсионер на отдыхе. Когда я подплываю к корме (у всех судов она есть, ищите сзади), то вижу полицейский патрульный катер, освещающий сильным прожектором темные разводы на воде. Лучше не рисковать.
Ныряю головой вниз, следуя вдоль массивной якорной цепи.
Один метр, два метра, три…
И тут вдруг опять удача. Я думал, что она ушла в отпуск, а она просто отлучилась в кусты и возвратилась. Все это происходит в доли секунды, как бывает часто. Счастливое стечение обстоятельств, вот это что! Судьба-индейка…
Представьте себе (если ложка протухшей икры, которая у вас вместо мозга, позволит вам), прожектор катера наклонен вниз. И он освещает воду в глубину. И тут — как удар молнии!
Луч уже метнулся в сторону, но я успеваю разглядеть огромный темный мешок, привязанный к цепи. Моя кровь (которая не просто чистая, но и по-настоящему чистая) делает по жилам лишь один оборот тройным галопом.
Я мигом поднимаюсь на поверхность запастись воздухом. Сейчас я буду играть в ловца жемчуга, джентльмены! Ныряю (тихонько) в глубину вдоль якорной цепи. Четыре, пять… восемь метров…
Огромный мешок, твердый, хоть и резиновый. Я ощупываю всю поверхность этого колоссального пакета. Ошибки быть не может: это алмаз! В верхней части мешка я натыкаюсь на сосок с клапаном. Теперь мне становится понятно все. Транспортировка камня будет проходить в условиях, максимально обеспечивающих безопасность. Два аквалангиста приплывут с дополнительным баллоном воздуха и подсоединят баллон к клапану. Резиновая оболочка мешка раздуется, и манипуляции в воде с такой огромной и тяжелой глыбой станут детской забавой. Оттащат его подальше, где вынуть камень из воды будет легко, и вывезут из порта. Гениально! Конгенитально, как сказал бы Толстяк! Вы не находите?
Да? Мерси!
Где ты, мой милый Матиас?
Он не додумался привязать свою капсулу на лямки, чтобы я мог нести ее как заплечный мешок, и все это время она болтается у меня на шее.
Ну все, Сан-А, за работу!
Я набираю побольше воздуха в легкие и вновь ныряю.
С первой попытки мне удается отвернуть клапан оболочки.
Со второй я засовываю капсулу внутрь мешка.
С третьей, снова завернув клапан, кулаком раздавливаю капсулу о глыбу.
Итак, задание выполнено, господин директор! Вряд ли вы поймете, что сейчас происходит внутри мешка, если даже я вам назову вещество, находившееся в капсуле. Это всего лишь метатитобромэтилсульфат полиэфирацетата марганца хлоргидрометилоксибората нитрофенофлуорикарбюрового салицилоглюкоронамида аскорбинового триметилхреногиперохломона пропилобензилоаденозинобифосфорилокальциевосодиевого ципрогептадиноальфаамилазотрихромицина йодового изопропамида хлорбутолгексаметажелезистофурфурилидено протеолитического хлоргидрата лизозимеангидреортоксиквинолеиноэфедробромгидрата скополамина с добавлением обычных вкусовых и одорирующих присадок, формула которого, я вам напомню, выглядит очень просто, и никому ни к черту не нужна.
Проделав эту деликатную операцию, я плыву между двух посудин, чтобы меня не заметили с судна.
Наверху раздаются шум, крики, что меня мало интересует, поскольку я намного ниже, в темной воде. Похоже, будто всполошилась вся команда. Морячки бегают, как при налете с воздуха.
А я в это время широким брассом быстро плыву в направлении той точки, где меня должны ждать Берю и Матиас…
На заднее сиденье машины плюхается не Сан-А, а мокрый блестящий тюлень.
— Я уж стал опасаться за вас, когда услышал крики, господин комиссар, — говорит Рыжий. — Тем более, похоже, вам не удалось обнаружить алмаз, как сказал мне Берю?
Я смеюсь.
— Мы его не могли найти, потому что он в полной черноте!
В дюжине слов (нет, подождите, в четырнадцати плюс два восклицательных знака) я рассказываю Матиасу о своей находке.
Он жмет мне руки.
— О, браво! Фантастика…
— Уф! Удача, сын мой. А теперь, поскольку мы засветились, я поручу тебе одно дельце, выходящее за рамки твоей работы в лаборатории, но мы за границей, а Франция прежде всего, правда?
— Вперед, вперед, зовет Отчизна! — громко вопит он на бессмертную мелодию «Марсельезы». — Что от меня требуется, господин комиссар?
Я излагаю суть дела.
Матиас слушает, вникает, соглашается, повторяет, затем выходит из машины. Я уезжаю, оставляя этот олимпийский факел на сыром причале.
Мальчик Берю не просыпается, продолжая сотрясать воздух громовыми раскатами, перемежающимися молодецким посвистом.
Он продолжает спать, даже когда подъезжает машина, хлопают дверцы и раздаются гортанные голоса (это определение употребляется всегда, когда пишут о Германии), лающие в темноте раннего утра. Затем слышны знакомые шаги по аллее. Ключ поворачивается в замке, который я из предосторожности на сей раз запер. Свет зажигается сразу во всем доме.
Здесь я позволю себе маленькое отступление и приведу цитату одного страшно знаменитого писателя по поводу предыдущего абзаца: «Замечательная фраза, которая сразу высвечивает класс автора. Полюбуйтесь силой выражения. Ее ритмом. Ее коротким чеканным шагом. Сан-Антонио — это великий мастер слова! Он поднимается все выше и выше: он отрывается от земли! Жан Дютур».
Мерси, дорогой!
— Ну что, моя маленькая Грета, вы вдова или нет?
Она подскакивает на месте, как тушканчик, пятится, будто собирается улизнуть, но властный голос дорогой подруги Лили парализует ее.
— Постойте, малышка! Вы и так уже наделали много глупостей!
Берю просыпается от собственного храпа и приоткрывает один глаз. К нему возвращается ясность ума, он щупает штаны ниже пояса, крякает и направляется в гостиную. Волосы дыбом, одежда кое-как, он смахивает на лешего из народных легенд. Тяжелой походкой ступает по ковру, останавливается перед Гретой, подмигивает ей и без перехода отвешивает звонкую оплеуху.
— Подойдите сюда, Грета! — приказываю я.
Она не движется. Толстяк придает ей решительности, а заодно и скорости, дав коленом под зад.
Ему не надо понимать по-немецки, чтобы чувствовать напряженность ситуации.
— Вы не ответили на мой вопрос, — вновь говорю я. — Так он умер, ваш капитан?
— Нет.
— То есть как это?
Она трясет головой.
— Кажется, нет. Он выкарабкается.
— Мрачная шутка для тебя, а, счастье мое? У этих норвежских моряков головы из железобетона. Но ты ему сделала приличную трещину на тыкве… Тебя ждет праздник, когда он вернется из госпиталя. Рогатый и с дыркой на голове, и все благодаря своей милой женушке — можно предвидеть большой спектакль. Ты вздумала подставить меня как кролика, красавица, а я ведь хотел тебе помочь, не так ли? Не хватает, чтоб ты еще смылась! Люблю энергичных женщин. Ладно, окажи мне одну услугу, и я помогу тебе выбраться.
Мои речи оживляют ее.
— Как это? — спрашивает она заинтересованно.
— Мне нужна твоя бесценная помощь. Не бойся, от тебя многого не потребуется. Кроме того, я подскажу тебе несколько магических формулировок, которые ты пошепчешь на ухо своему великану, чтобы он утихомирился.
Она недоверчиво улыбается.
— Что я должна делать?
— Передать кое-кому кое-что. Но время терпит, вначале я жду телефонный звонок. Поэтому приготовь нам кофе, дорогая, ночь выдалась долгая, нервная и бессонная. А день, я боюсь, будет достойным ее продолжением.
Грета нагибается и целует меня в губы.
— А если мы закончим то, что так хорошо начали, а, французик?
Я решаю, что не стоит перечить женщине, и тотчас иду навстречу ее желаниям.
Поэтому готовить нам кофе приходится Берю.
Через два часа раздается звонок телефона…
В тишине дома он звучит как пожарная сирена.
— Оставь, — говорю я Грете, — это меня.
Действительно, взволнованный и охрипший голос Матиаса вибрирует в телефонной трубке.
— Порядок, господин комиссар, они вытащили пакет.
— Тебе удалось их выследить?
— О, очень просто, к тому же они далеко не поехали. В настоящий момент перегружают блок на частный причал у реки.
Он дает мне адрес.
— Спасибо, блондинчик! Хорошая работа! Но у меня впечатление, что ты простудился напрочь, нет?
— Ой, не говорите! Зуб на зуб не попадает: утром у реки страшная холодрыга и сырость, так что насморк мне обеспечен как минимум.
Ладно, болтать некогда. Я вешаю трубку и открываю окно. Дождь перестал, и газон перед домом пахнет свежей травой, а птицы пробуют голоса на все лады. Думаю, впереди нас ждет прекрасный день. Я отрываю Берю от дивана, где он лежит кучей, испытывая новый способ храпа, — испускает рык льва, забывшего после трапезы вытащить из глотки баранью кость.
— Собирайтесь, друзья. Нельзя пропустить столь захватывающее зрелище…
Мы отъезжаем от дома. Движение на улицах становится интенсивнее. Минуя промышленный район, спускаемся к Везеру, медленно и лениво несущему свои воды широким потоком и поблескивающему в первых лучах пробивающегося солнца, как начищенная металлическая дощечка.
(По поводу последнего абзаца также не грех процитировать моего почитателя: «Какой талант! Какой талант! Какой талант! Ах! Если бы я только мог… Жан Дютур».)
Еще раз спасибо, дорогой Жан! Ваше восхищение весьма кстати, поскольку надо же как-то заканчивать этот роман…
Скоро мы въезжаем в живописное зеленое местечко. По обеим сторонам реки расположены участки земли с домами один другого шикарнее.
На зеленом фоне выделяется оранжевое пятно…
Это шевелюра Матиаса, прижавшегося к изгороди. Глаза слезятся, а с носа свисает сталактит.
Я останавливаю машину рядом с ним.
— Привет, блондин, что нового?
— Минуты три назад приехал шестисотый «мерседес» с очень серьезными людьми.
— Как раз то, что нужно. Теперь твоя очередь, Грета. Если будешь на высоте, любовь моя, то новая жизнь распахнется перед тобой двумя широкими створками!
Я нежно целую ее. Матиас в смущении отворачивается. Толстяк же, наоборот, открывает глотку:
— Посмотрите на этого Казанову, разыгрывающего из себя Рудольфа Гесса-Валентине. Заменил меня на этом поприще, а все из-за того, что рыжий напичкал меня какой-то отравой. Дважды потчевал, пока мы отдыхали у капитанши. Теперь мои мозги как из теста, черт бы вас всех побрал! Что ты мне хоть подсунул, что за дрянь с бромом, скажи, ты, Огненный? У меня, как у порядочного, было древко для знамени, а теперь? Я похож на кенгуру! Будто венчик для взбивания яиц, мирно покоящийся в ящике стола. Если меня не реанимируют перед возвращением в Париж, то в каком виде я предстану перед моей половиной? А? Отвечай, сукин сын! Думаешь, женщину с таким темпераментом, как моя Берта, можно завести с помощью зубочистки? Ты считаешь, наверное, что она увлечется этой мягкой игрушкой? Пардон, но она любит другие игры! Она предпочитает кегли, а не тряпочные куклы, уверяю вас, джентльмены! Шланг, так под напором, а не в скрученном состоянии!
Он продолжает причитания, но я их больше не слышу…
Одним прыжком перемахнув через живую изгородь из подстриженного кустарника, я осторожно приближаюсь к нашим «клиентам».
Если вы заметили, мы практически всегда работаем в местах, где красивые газоны! Потому, очевидно, что здесь чуть не каждый день идут дожди?
Зеленый ковер, по которому я сейчас пробираюсь, мягкий и мокрый, как… (Оставляю на ваше усмотрение додумать сравнение в высоком стиле.) Вокруг цветник, напоминающий мне сборище монарших фамилий Европы, среди которых глазки английской принцессы Анны и маргаритки королевы датской занимают почетное место. Я, как видите, недурно разбираюсь в цветах, но сейчас не время заниматься ботаникой.
Широкий ряд подстриженного в форме бутылок «Перье» кустарника представляется мне идеальным укрытием. Я устраиваюсь там, друзья мои, и оказываюсь как бы в первом ряду партера. Сразу за кустарником находится большой гараж, рядом с которым стоит желтый грузовик с широким кузовом и небольшим краном. На платформе грузовика — вынутый из воды блестящий черный мешок огромных размеров.
Позади машины полукругом выстроились несколько человек, они молча наблюдают за работой двух грузчиков в голубых комбинезонах. Стоя на платформе, парни орудуют здоровенными ножницами, разрезая резиновую оболочку. Все сосредоточенно молчат, слышны лишь щелканья ножниц. На лицах торжественное выражение, будто на похоронах. Те, что стоят сзади грузовика, ждут, пока рабочие освободят алмаз от мешка. Их четверо… Трое крупных, один крошечный. Этот малыш мне знаком. Совсем недавно я встречал его в Париже. Длинные седые волосы, ниспадающие локонами на плечи, я узнаю без ошибки — будьте покойны! Коротышка — ни много ни мало, дорогой господин де Брилльяк, временный президент всех ювелиров Франции. Ах, негодяй! Ах, изменник! Продажная скотина! Так он, значит, старался для нацистской организации. Интересно, из политических убеждений? Или от жадности? Поди узнай…
Но я узнаю, только позже!
И вы тоже, если будете вести себя хорошо. Я вам все скажу, обещаю!
Ну вот, готово! Оболочка разрезана. Ребята в комбинезонах снимают ее и сбрасывают вниз. Захватывающий момент для всех присутствующих.
Прежде всего для членов организации, поскольку они жаждут увидеть наконец сказочный камень.
Ну и, конечно же, для меня, смущенно надеющегося увидеть совсем другое. Не правда ли, я здорово подготовил момент, называющийся в кинематографии «саспенс», «подвешенность», дорогие мои учителя и наставники? Очень возбуждает, согласитесь?
Теперь на счет: раз, два, три… «Горячо» или «Холодно»?
Возгласы «О! О! О!» сотрясают ряды джентльменов.
Алмаз, товарищи, немножко изменился!
На его месте огромная глыба угля. Браво Матиасу, некоронованному принцу среди коронованных химиков!
— Что это значит? — выдавливает из себя самый старый из присутствующих, сраженный увиденным.
— Кажется, больше похоже на… уголь! — восклицает самый молодой.
— Да, да, уголь! Уголь! — подтверждает один из рабочих в комбинезоне.
Коротышка де Брилльяк карабкается на платформу грузовика. Он хватает ножницы и начинает расковыривать поверхность глыбы. Его движения суетливы и нервны, как у белки, обнаружившей у себя под боком корзину с нитками вместо орехов.
— Уголь! Уголь! — вопит временный шеф всех ювелиров Франции.
— Вы что, с ума сошли? — нервничает еще один.
— Нет, это уголь! Уголь! — взвизгивает патлатый обмылок на всех языках сразу. — Антрацит! Это антрацит! Вы слышите? Понимаете? Вы, видно, не соображаете, что я говорю! Антрацит! Такой же, как в шахте Рура!
Он поворачивается к своим обалдевшим соучастникам. Тычет в них ножницами, топает ногами, подпрыгивает! Слюни летят во все стороны!
— Сволочи, вы меня обманули! — рычит де Брилльяк срывающимся на визг голосом. — Воры! Преступники! Нацисты! Скоты! Баварские свиньи! Так обдурить меня! Меня, изменившего своей родине, чтобы получить четверть навара! Всего четверть! Это вам даром не пройдет! Долой Гитлера! Не видать вам ни Эльзаса, ни Лотарингии как своих ушей! Германии капут! Ненавижу! Да здравствуют русские! Рабочий интернационал! Всех в Сибирь! Собачье дерьмо! Гоните мою долю! Дайте сюда! Я буду жаловаться! Клянусь, я все расскажу! Я не буду молчать! Выложу всю правду! Ничего, кроме правды! Отдайте мне сейчас же мою долю! Мою четверть, иначе польется кровь! Думаете обвести меня вокруг пальца, как болвана в борделе? Ну нет, не пройдет! Де Брилльяк смешон? Никогда! Я не дам себя обуть! О нет, вы меня еще не знаете! Я не позволю осрамить свою честь! Плюнуть так в лицо за здорово живешь уважаемому человеку! Скажите пожалуйста, что решили! Нет уж, оставьте! Мы вам покажем Новый Верден! Мы не отступим! Вам не пройти! Вперед, в штыки! О, как я вас ненавижу! Обокрасть пожилого человека! Бандиты! А ну, быстро давайте мою долю! Моя четверть, или я за себя не ручаюсь!
Самый старый из нацистов, понимающий по-французски, категорично возражает:
— Турак! Польфан! Фы не фидите, что нас тоше опманули! Перите это, фажа толя! Тафай, пери, итиот! У фас прафо на пятьсот кило этой клыпы, кретин!
Де Брилльяк смотрит на камень.
— Пятьсот кило… антрацита? Угля? Но у меня отопление на мазуте!
В это время раздается звонок у калитки.
Один из голубых комбинезонов спрыгивает с кузова и идет открывать.
Малышке Грете, говорю я вам, опережая события, поскольку стоящие у грузовика этого еще не знают.
Дорогие мои читатели, хочу ткнуть вам в нос одну немаловажную деталь, которая, возможно, пригодится вам в жизни. Вы заметили, что обычно вас просят объяснить причины отказа, а причины согласия — никогда? Стало быть, положительный ответ в форме «да» не нуждается в объяснениях, в то время как отрицательный ответ «нет» кажется уловкой, хитростью и должен сопровождаться аргументами.
— Жена капитана Моргофлика! — объявляет тип, который ходил открывать ей.
По рядам остолбеневших присутствующих пробегает волна оживления. Подобный визит в такой момент — как звонок в театре, приглашающий в зрительный зал. Особенно после потрясения, которое они только что пережили… Словом, сцена большого ажиотажа мне обеспечена!
Из своей засады в кустарнике я с жадностью наблюдаю, какое впечатление произведет появление моей красивой партнерши.
Она подходит к ним твердой походкой, держась прямо, на лице полувдовы печать абсолютной честности. Даже кассир банка забыл бы проверить, подписан ли представленный ею к оплате чек.
Тот, которому я дал определение «самый старый», поскольку они не называют друг друга по именам, смотрит на пришедшую с большим уважением.
Он низко кланяется ей и вежливым тоном спрашивает, как так получилось, что она здесь, и какого черта ей, собственно говоря, надо.
Ну, теперь твоя очередь работать, спальная моя красавица!
Главное, чтобы она уверенно держалась, моя Грета! Момент самый замечательный, как две выпуклости на ее фасаде. Давай, Грета!
— Вы знаете, — спрашивает она, — что случилось с моим мужем?
— Да, нам сказали, что он был тяжело ранен бандитом, переодетым женщиной, — отвечает старик.
Она прокашливается, моя маленькая: ей тяжело говорить!
— Этот тип привязался ко мне на причале, когда я ждала, пока пришвартуется судно. Приставил пистолет и сказал, что убьет, если я откажусь провести его на борт.
— Интересно, — говорит еще один.
Ну слава Богу, теперь я спокоен. Грета в своей роли, как мадам Фейер в «Даме с камелиями». Искренность тона в самый раз, дорогие мои, что ставит ее в один ряд с самыми великими драматическими актрисами современности.
— Когда мы зашли в каюту, — продолжает она, — разыгралась самая страшная сцена в моей жизни, но я побоялась заявлять в полицию. Мужчина, переодетый женщиной, приставил пистолет к моему виску и заявил мужу, что убьет меня, если Вилли не скажет, что он сделал с камнем.
Аудитория содрогается.
— Что было дальше, рассказывайте!
— Естественно, мой муж пытался исправить ситуацию, но этот тип ударил его по лицу рукояткой пистолета. Вилли упал, едва не потеряв сознание. Я думаю, сильный удар выбил его из колеи. Он все сказал…
«А-а-а-а! О-о-о-о!» — шумят хором господа присутствующие.
— А что он сказал, мадам? — спрашивает старик.
— Он сказал, что камень был завернут в резиновый мешок и привязан к цепи якоря и люди с аквалангами забрали мешок рано утром.
Новое потрясение в рядах, сопровождающееся хрустом отвалившихся челюстей.
— Но что же дальше, дитя мое? — вопрошает старик, который в молодости, похоже, был священником.
— Ну а потом этот человек разъярился еще больше. Он сказал, что мой муж врет, — он, мол, точно знает из достоверных источников, что камень, привязанный к якорю, не алмаз, а Вилли выгрузил камень значительно раньше, чем судно пришло в Бремен, потому что Вилли вел переговоры якобы с другими людьми от своего имени, и он желает знать, где и как мой муж передал камень.
Целый каскад резких выражений, сопровождаемых ругательствами, служит ответом на это заявление. Я позволю себе вернуться к ранее высказанному замечанию (см. выше): люди, не моргнув глазом, принимают согласие, но ищут конкретных объяснений по поводу отказа. Желательно с клятвами на Библии.
Господа, собравшиеся по случаю инаугурации алмаза, но взамен наткнувшиеся на глыбу угля, теперь ни секунды не сомневаются в полной виновности бедного капитана. Они принимают без дальнейших объяснений, что он отпетая сволочь. Допускают запросто, не задумываясь.
— Моргофлик рассказал этому человеку, что он сделал с камнем?
— Нет. Он пришел в себя и хотел дать бандиту отпор, но тот треснул мужа бронзовой статуэткой по голове. Тогда я закричала. На крик прибежали. Но бандит выпрыгнул в иллюминатор… Вилли отправили в больницу, а меня отвезли домой. И только тогда я начала размышлять. Я подумала, что, наверное, Вилли, черт его дери, совершил какую-то непростительную глупость. Он странный человек. Я не очень-то в курсе этой истории с камнем, но мне показалось очень важным рассказать о случившемся людям, которые доверяли моему мужу. Вспомнив о людях в аквалангах, которые, очевидно, и выловили камень, привязанный к якорной цепи, я вернулась в порт, чтобы посмотреть, что они делают… Я увидела катер, подошедший к судну, и последовала за ним. Я долго сомневалась, но пришла к вам, господа. Целый час я проторчала перед калиткой, не решаясь войти. Мне очень тяжело, но моя честь прежде всего. Надеюсь, вы будете благодарны за мою прямоту. Думаю также, что вы примете во внимание заслуги Вилли. Он не подлый человек, но…
— Он без сознания? — перебивает старик.
— Врачи надеются. Он…
— Поехали в госпиталь! Пусть сам скажет! Скорее, господа! Если не умер, он выложит нам всю правду, гаденыш! Клянусь, у нас он заговорит как миленький! Поехали с нами, мадам!
И гуськом, чуть ли не строевым шагом они уходят по аллее. Как утиное семейство! Стадо! Вне себя от свалившегося на них несчастья! На грани психического расстройства!
Остается лишь мерзавец де Брилльяк, который не знает немецкого и ничего не понял из того, о чем рядом с ним говорилось. Потрясенный, он смотрит, как мимо проходит последний из соучастников, и остается один, тупо глядя им вслед, абсолютно не соображая, что происходит.
Как Дон Жуан над трупом Донны Анны, временный президент ювелиров Франции начинает рыдать перед глыбой антрацита.
Нет, это выше моих сил! Должен же я вмешаться в события, а то читатели подумают еще, будто комиссар Сан-Антонио играет второстепенную роль…
«Преступление и наказание», друзья мои. Достоевский — ни больше ни меньше! Каждый сам добивается своей порции дерьма. Это известно! Сан-Антонио Великолепный всех их монументально наказал! Единственный, кто, возможно, в результате останется в выигрыше, так это неверная Грета, которая может запросто стать безвременной вдовой. Страшно удивлюсь, если ее муж выберется из сложившегося положения. Как с одной стороны, так и с другой, он спекся. Возмездие, друзья, его ждет возмездие! Нацисты, вложившие такой «колоссаль капиталь» (как по Марксу) в проведение этой серьезной операции, не простят ему, это уж будь-будь! А что касается де Брилльяка, то его нужно высечь, чтобы клочья с задницы летели!
Я спокойно подхожу к нему и кладу руку на тщедушное плечо.
— Ну что, старый пачкун, горюем от несбывшихся надежд?
Он подпрыгивает на метр. Затем, размазывая слезы, смотрит на меня с идиотским выражением лица, на котором написано, что он лихорадочно вспоминает, где мог меня видеть.
— Комиссар Сан-Антонио, — представляюсь я.
Он таращит глаза. Уменьшается в размере еще больше. Он готов превратиться в Мальчика с пальчика, в лужу на газоне, в ноль. Но вместо этого его начинает тошнить. О, мелкая душонка! Беспредельный негодяй! Худший вариант трудно вообразить.
— Непоправимых несчастий не бывает, господин де Брилльяк. И не такие мерзавцы, как вы, ухитряются выкрутиться, если честные души снизойдут к их горю. Вы сейчас мне поможете.
Тихий шорох заставляет меня повернуть голову. Но слишком поздно. Я получаю замечательный удар кулаком прямо в центр луковицы. Точно в челюсть, и как раз тогда, когда я и так страдаю зубной болью! Такое впечатление, будто мои зубы повалились друг на друга, как костяшки домино! И еще искры из глаз! И будто клубы пара застилают зрение. Сквозь туман я угадываю одного из ребят в синем комбинезоне. Как раз того, что покрепче. Мне повезло, одним словом! Теперь я хоть точно знаю, кто мне звякнул таким образом. Но я соглашаюсь. Мои колени как-то вдруг становятся будто из ваты, ноги подгибаются. Другой удар валит меня с ног. Ну, ребята, вы сильны: мне еще никогда не оказывали столь сердечного приема… Словом, немец меня опередил. Может быть, сейчас и прикончит? Что вы думаете по этому поводу?
Нет!
Удары прекращаются. Слышу шум. Крик. Снова шум… Резкий шум. Будто кто-то от нечего делать стукнул пальцем по камертону… Странное ощущение, но быстро проходящее. Туман рассеивается. Я вижу, что грузчик в синем комбинезоне лежит на траве, руки скрещены. Папаша де Брилльяк вырубил его ударом лопаты по кумполу.
Я так думаю, он решил искупить свою вину.
Глава (неизбежно) последняя,
настолько последняя, что ее можно назвать
Эпилогом
Шеф торжествует.
Нужно отметить, друзья, что блок антрацита вновь приобрел вполне приятный вид. Вначале он побледнел. Потом засверкал. Его блеск постепенно увеличивается, как солнце на горизонте. Как утренняя заря.
— Вам удалось пересечь границу без всяких проблем? — спрашивает патрон.
— С помощью де Брилльяка зафрахтовали судно. Заплатили таможенную пошлину как за тонну угля.
— Этот прохвост ничего не заподозрил?
— Разумеется! Я ему просто сказал, что нам нужно доставить эту глыбу антрацита в качестве вещественного доказательства. Ему и в голову не пришло, что благодаря чудесному веществу Матиаса камень приобрел такие странные свойства. Он решил, что это действительно уголь.
— Вы спросили, почему он пошел на измену?
— Да, конечно. Он был другом одного немецкого торговца алмазами, вместе с которым, я подозреваю, прокручивал немало всяких делишек. Этот немец, торговец алмазами, тоже член партии неонацистов. Афера его интересовала только в идеологическом плане. Главное для него, чтобы партия обладала богатством, а сам он и без того был богатым человеком. Словом, для проведения такой операции средства у них были.
Мы некоторое время молчим.
— С вами все в порядке? — справляется шеф у Матиаса, хмуря брови.
Огненноголовый кивает.
— Да, но мне… мне кажется, господин директор…
— Что вам кажется? Вы не уверены в себе, Матиас?
— В себе-то я уверен, но вот алмаз… Дело в том, что этот камень обладает структурой и физическими свойствами, несколько отличающимися от кристаллической формы углерода, который мы называем алмазом. Его физическое сопротивление мне кажется не таким стойким.
— Короче, вы хотите сказать, что этот алмаз не настоящий? — делает заключение прозорливый начальник.
— В некотором роде, да. Его качества значительно ниже…
Матиас настраивает микроскоп, чтобы рассмотреть маленький кусочек, отколотый от глыбы всего лишь с помощью проволочки для чистки трубки.
— Гораздо ниже, господин директор!
Старик хлопает кулаком по ладони другой руки (хлопать кулаком по ладони той же руки представляет собой весьма затруднительное упражнение).
— Целая тонна! Конечно, я тоже сомневался, — бормочет задумчиво шеф, — целая тонна! Представляете? Подумать только… В то время как природа настолько скупа на такие камни… Это бы перевернуло всю шкалу ценностей. Будем объективны, господа, алмаз создан для того, чтобы быть маленьким! Иначе… На то он и алмаз!
— Есть вещи значительно мельче, чем алмаз, патрон, — вмешиваюсь я.
Он смотрит на меня невозмутимым взглядом.
— Что вы имеете в виду, Сан-Антонио?
Я вынимаю из кармана спичечный коробок. Спичек там больше нет, но зато лежит клочок бумаги, который я осторожно разворачиваю.
— Я имею в виду микропередатчик, что был у меня в зубной пломбе, господин директор. Он позволял вам знать о моих малейших передвижениях. Благодаря ему вы были в курсе, где я и что делаю, а с помощью дополнительной системы локации вы знали точно, в каком месте в данное время я нахожусь. Стоит мне вспомнить, как за мной следили и как я разукрасил рожи двум несчастным малым… Нет, правда, господин директор, я не выношу такой мерзкий контроль. Это насилие против человеческого достоинства! Вторжение в частную жизнь! Покушение на свободу личности… Вы вошли в сговор с моим зубным врачом, чтобы подчинить меня таким образом! Да! Да!
Шеф громко хохочет.
— Успокойтесь, Сан-Антонио, признаю, способ не самый изысканный. Здесь я, как видите, полностью с вами согласен. Честно говоря, это был всего лишь эксперимент. Я хотел рассказать вам об этом после вашего возвращения, но вы меня опередили.
— Не я, а удар кулаком мне в физиономию, — улыбаюсь я.
Мы выходим из лаборатории, чтобы вернуться в места более приятные, подальше от дешевых алмазов, которые возбуждают низменные страсти и губительные инстинкты.
— Кстати, — спрашивает меня шеф, когда мы входим в лифт, — а как ваш дантист?
Я показываю ему свои разбитые костяшки на кулаках.
— Он отправился к своему дантисту, господин директор.
Гнусная ложь, поэтому извольте перелистнуть страницу!
(предоставлено бесплатно без увеличения цены)
Дорогой Сан-А,
Пишу тебе почтовую открытку, чтобы сказать по поводу относительно того, вот я и моя Берта приехали на каникулы в Дуркина-Лазо. С нами Альфред, сам знаешь, парикмахер. Я нашел хорька — местного эскулапа, того, что продал мне свои экзотические фрукты, о которых ты, наверное, помнишь, как и о моем недуге. Купил у него все сразу. Но проблема, как их сохранить. Берта сварила нам из них варенье. Так что в случае надобности всегда можно сожрать ложку-другую. Жму пять.
Твой старыйБерю.
(на этот раз окончательный и бесповоротный, обжалованию не подлежит)
Что и удостоверяю.