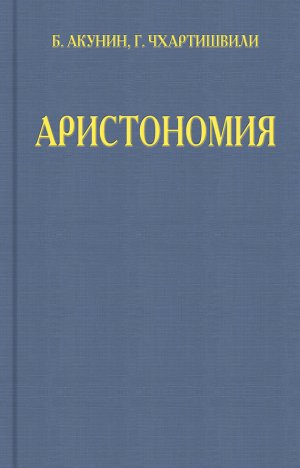
Предисловие
Обычно предисловие пишут в начале работы, я же берусь за него, приближаясь к концу. Когда-то мне казалось, что я веду разрозненные записи не с конкретной целью, а просто чтобы дать выход мыслям, которыми не с кем поделиться. Лишь со временем созрело и окрепло чувство, говорившее: если я не сумею понять, объяснить сам себе всё это, тогда мое собственное существование, со всеми его радостями и несчастьями, открытиями и разочарованиями, взлетами и падениями, окажется потраченным впустую. Худший вид расточительства – провести жизнь на манер животного, даже не предприняв попытки в ней разобраться.
Книги, которые имеет смысл читать, обладают одним общим свойством: они написаны автором для самого себя. Даже если сочинение адресовано определенному кругу людей или вообще человечеству, настоящая книга всегда узнается по отсутствию претензии. Если угодно, по простодушию. Пишущий не боится выглядеть наивным, не пытается показаться умнее или образованнее, чем он есть, не изображает, будто его волнует то, к чему он на самом деле равнодушен, не предпринимает усилий понравиться. Автору не до этого. Автор болен неким вопросом, поиск ответа на который является курсом лечения. Если хочешь излечиться, нельзя тратить силы на несущественное.
В этом смысле книга, над которой я тружусь уже столько лет, безусловно настоящая. Когда я приступал к ней, я твердо знал, что никому и никогда не покажу написанного. Этим я подверг бы опасности не только себя, но и читателя. Не скрою, иногда я воображал, как книгу будут читать люди из будущих, более счастливых времен, но, во-первых, меня уже тогда не будет, а во-вторых, одной этой мотивации было бы слишком мало, чтобы я взялся за столь рискованное занятие. Не мне, жителю глухой страны, которая на исходе второго тысячелетия христианской эры оказалась ввергнута в тоскливый ужас средневековья, что-то объяснять людям будущего. Они несомненно будут умнее и уж во всяком случае богаче историческим опытом; их станут занимать какие-то иные вопросы, надеюсь, более высокого порядка.
Речь идет обо мне, только обо мне самом. И пишу я эту книгу исключительно для себя.
С молодого возраста я начал ощущать, и чем дальше, тем сильнее, потребность – вернее даже долг – понять, зачем всё это (я, моя страна, мир, жизнь) существует, куда движется, есть ли в этом мучительном движении цель и смысл.
В самой концепции, приверженцем которой я со временем стал, ничего новаторского нет. Она известна по меньшей мере со времен античности, однако не относится к числу преобладающих. Умы, гораздо более просвещенные и острые, чем мой, в течение долгих веков пытались найти стержень, с помощью которого можно было бы понять, что такое человек, куда он движется и движется ли вообще. В различные исторические эпохи главенствовало то одно учение, то другое. Дольше всего, до половины восемнадцатого столетия, непререкаемыми считались теории религиозного толка, возводившие смысл существования к Богу, неколебимая вера в Которого сама по себе является ответом на все возникающие вопросы. Начиная с эпохи Просвещения мнения разделились. Кто-то стал считать нитью Ариадны технический прогресс, кто-то – экономическое процветание или достижение социального равенства. Но все эти гипотезы оказались неверными – по крайней мере, так представляется мне, человеку, живущему в середине XX века. В эпоху, хронологические рамки которой совпали с моей жизнью, все вышеназванные теории потерпели крах. Мощь религий, проповедующих всеобщую любовь, не уберегла человечество от всеобщего истребления. Технический прогресс возвел цифры потерь до многомиллионных величин и ныне, додумавшись до ядерного оружия, угрожает вообще уничтожить жизнь на планете. Вера в панацейность материального достатка привела к засилию пошлости и низменно-массовой культуры, обращающей людей в жвачных животных. Культ социальной справедливости обернулся жестокой диктатурой, массовыми казнями и концентрационными лагерями.
Одно из двух: либо ответ на главный вопрос человеческого существования искали не там, где следовало; либо Кант ошибся, когда написал: «Первоначальное назначение человеческой природы заключается в движении вперед».
Мой трактат исходит из того, что Кант прав и «движение вперед» все-таки происходит. А кроме того, в этой книге будет рассказано, где, на мой взгляд, следует искать «ответ на главный вопрос»: на что человечеству можно надеяться, на что рассчитывать.
К сожалению, я не религиозен – таким сформировали меня среда и воспитание. Говорю «к сожалению», потому что в жестокие времена, на которые пришлась моя жизнь, опора в виде религии была бы великим утешением, источником силы. Мне не раз доводилось испытывать острое чувство зависти к людям, которые наделены даром искренней веры. Но кроме собственной души и разума черпать силу мне было неоткуда – за исключением нескольких счастливых лет я провел свою жизнь в душевном одиночестве. Пишу это безо всякой жалости к себе, ведь то же самое, вероятно, скажут очень многие мои соотечественники и современники. От большинства меня отличает, вероятно, лишь привычка к письменной рефлексии, то есть потребность разобраться в важных вопросах бытия, излагая ход и результат своих рассуждений на бумаге. Я – продукт бумажной цивилизации; мысль и даже чувство становятся для меня реальными, лишь обретя вид строчек.
Я начал вести записки в самый тяжелый период своей жизни, но эта книга не касается обстоятельств моей биографии. В конце концов, это частности, погружение в которые лишь замутнило бы картину, а мне хотелось и хочется, чтобы она была предельно ясной. Я ничего из этих «частностей» не забыл и не забуду до смертного часа, но я намеренно оставляю эмоции за скобками изложения. Иначе я не написал бы того, что должен написать, и не разобрался бы в том, в чем должен разобраться.
Сначала я не мог себе объяснить, почему меня тянет углубиться в ту или иную тему, вдруг завладевавшую моими мыслями; иногда казалось, что эти разрозненные штудии не очень связаны между собой. Только теперь, достигнув зрелого возраста, я вдруг осознал, что все эти годы, будто действуя по составленному кем-то плану, последовательно и упорно работал над одной и той же книгой. Ее содержание и общая концепция сделались мне ясны. По жанру она является трактатом – это старинное, несколько напыщенное слово, как мне кажется, подходит здесь лучше всего. Мой трактат еще не окончен, многое остается недодуманным и недопонятым. Тем не менее, я достиг этапа, когда могу охватить взглядом как уже пройденный мною путь, так и тот, который еще осталось пройти. Сегодня я в состоянии сформулировать суть моих изысканий.
Начну с того, с чего и следует начинать – то есть, с ответа на основополагающие вопросы, которые так или иначе решает для себя всякий человек, даже если ни разу ни о чем подобном не задумывался. Речь, разумеется, идет о смысле жизни. Я сказал «вопросы», потому что их, собственно, два: есть ли в нашем – моем – существовании некий смысл, выходящий за рамки животного выживания; и если смысл есть, то в чем он заключается?
Это может показаться странным, но сей вопрос вопросов никогда не представлял для меня трудности. Ответ на него я узнал – верней, ощутил прежде, чем узнал – в довольно раннем возрасте. Для этого сначала нужно было выработать точку зрения на то, что являет собой «человек» и чем он отличается от прочих животных.
Как известно, есть несколько определений главной отличительной особенности человека. Я всегда придерживался одного из самых распространенных: человек – это существо, обладающее свободой выбора, а стало быть, всегда могущее измениться по отношению к себе прежнему – как в лучшую, так и в худшую сторону.
Естественно, сразу же возникает вопрос: а что такое лучшая и худшая «сторона» применительно к человеку? Вопрос этот не так прост, как кажется. В ответе очень трудно отойти от этических стереотипов, впитанных каждым из нас в детстве. Но стереотипы эти разнятся в зависимости от среды, культуры, религиозности/нерелигиозности и т. п. Кроме того, на протяжении моего века эти представления делали невообразимые зигзаги, так что прежнее плохое объявлялось прекрасным и наоборот.
Во времена моей гимназической и студенческой юности, например, чем-то совершенно неприемлемым для порядочного человека считалось доносительство. Уличенного в этом постыдном преступлении подвергали общественному остракизму. Но каких-нибудь два десятилетия спустя преступлением, не только моральным, но и уголовным, стало почитаться недоносительство – в том числе на ближайших родственников. Юный пионер, донесший на собственного отца, стал образцом, на котором воспитывают детей. Нравственность – категория не абсолютная, а относительная, гласит этика тоталитарных государств середины XX века: этично то, что полезно для партии (национал-социалистической или коммунистической, неважно).
Мне понадобилось много времени, чтобы безэмоционально и объективно решить задачку о том, что такое хорошо и что такое плохо для всякого человека.
Вот мой ответ: хорошо – всё, помогающее раскрыть самое ценное, что заложено в тебя природой; плохо – всё, что этому мешает.
Поясню. Я глубоко убежден, что сущностная ценность личности заключается в том, что каждый человек, без исключений, несет в себе некий дар, в котором ему нет равных. Я имею в виду дар не мистический, а вполне реальный: каждый из нас потенциально может делать что-то полезное или радостное (одним словом, ценное для окружающих) лучше всех на свете. Это не обязательно нечто творческое или каждодневно применимое. Я знавал одного солдата, человека совсем неразвитого, косноязычного, и за это презираемого товарищами, который в исключительной ситуации спас весь свой эскадрон. Во время панического отступления сто человек и сто лошадей оказались ночью среди непроходимой топи и, без сомнения, все бы там сгинули, если бы не этот пария, которого все считали полудурком. Он молча вышел вперед и, по-звериному пригнувшись к самой воде, повел отряд за собой. Он чувствовал, куда можно ступить, а куда нельзя. И все спаслись. Нечего и говорить, что после этого случая к обладателю странного дара товарищи относились совсем иначе. Его ценность, которая могла бы до конца жизни остаться неоткрытой, стала для всех очевидна.
Если бы наше общество было устроено правильным образом, то важнейшей из наук являлась бы педагогика, и назначение ее заключалось бы в том, чтобы нащупать и развить в каждом ребенке присущий ему и только ему драгоценный талант. Не только для общественной пользы, но и для блага самого ребенка, будущего человека. Ибо тот, в ком полностью раскрылся присущий ему талант, ведет и ощущает себя совсем иначе. Он полон сознания своей значимости, которая удерживает его от множества низких и мелких поступков, недостойных его дара. Сегодня часто случается, что у гения (более корректно было бы называть такой индивидуум «вполне раскрывшейся личностью») кружится голова от сознания своего величия, а это приводит к нарушению нравственного баланса в отношениях с другими: он уникален, а они взаимозаменяемы, поэтому ему дозволено то, что не дозволено им. Но это заблуждение вызвано тем, что «вполне раскрывшиеся личности» сегодня крайне редки, они представляют собой результат счастливого стечения обстоятельств (допустим, Иоганну Себастьяну Баху, ребенку с потенцией гениального композитора, повезло родиться в семье музыканта). Если же гениями и талантами, каждый в своем роде, будут все, то и задирать нос станет не перед кем. Один – выдающийся врач, другой – фантастический булочник, третий – маэстро столярного дела, четвертый – маг садоводства, пятый – светоч государственного управления, шестой умеет превращать жизнь в праздник, седьмой красит стены домов так, что в них радостно жить, и так далее, и так далее.
Итак, повторю еще раз: хорошо всё то, что помогает человеку приблизиться к неповторимой траектории своей индивидуальности, подобрать ключ к своему дару. Лучшее из существующих обществ такое, где каждый человек, вне зависимости от происхождения и положения, имеет больше возможностей раскрыться и развиться, прожить свою жизнь, а не ту, что навязывают ему извне. Если в основополагающем документе вновь создаваемого государства (я имею в виду американскую «Декларацию независимости») заявляется, что всякий человек обладает «неотчуждаемыми правами» на жизнь, свободу и стремлению к счастью, это уже очень много, особенно для восемнадцатого века. По моему убеждению, счастливой можно назвать жизнь, если она была полностью реализована, если человек сумел раскрыть свой Дар и поделился им с миром[1].
Есть ли в истории человечества хоть какой-то прогресс, какое-то движение вперед в этом смысле?
Еще сорок лет назад большинство мыслителей сочли бы вопрос риторическим и уверенно ответили: конечно, есть. Сейчас, в середине века, после двух ужасных войн, после невообразимых зверств, свидетелем которых стало мое поколение, голоса позитивистов звучат куда менее бодро. И всё же, несмотря на то, что мне выпало находиться в одной из самых мрачных расщелин этого провала в варварство, я убежден: прогресс есть, человечество развивается в верном направлении, просто движение это не линейно и сопровождается рецидивами.
Развитие homo sapiens проявляется в постепенной смене мотиваций его социального и нравственного поведения. Рабы трудились, чтобы избежать ударов кнута; в двадцатом веке граждане демократических стран работают, чтобы улучшить свое материальное положение; люди завтрашнего дня будут выбирать себе дело по интересу и призванию.
В историческом «вчера» законы соблюдались из страха перед наказанием; «сегодня» (я опять-таки говорю о жителях демократий) очень многие члены общества законопослушны по убеждению; «завтра» надобность в строго регламентированной системе запретов и уголовных наказаниях отпадет, потому что психически здоровому человеку не придет в голову убивать, грабить или насиловать. Нравственность вплоть до недавних времен держалась главным образом на религиозном запугивании, страхе перед неизбежным ответом перед вездесущим Господом; происходящий в нашем столетии кризис веры обнаружил, что опасение Достоевского (если не станет Бога, всё окажется дозволено) несостоятельно – современный человек может вести себя нравственно и без угрозы Преисподней.
В этих произошедших и еще предстоящих переменах и состоит истинный прогресс – в самосовершенствовании человечества как суммы личностей, из которых оно состоит.
Мы не столь уж малого добились, учитывая юность и незрелость нашей цивилизации. И хоть еще во времена Экклесиаста считалось, что нет ничего нового под солнцем, это смешное заблуждение: три тысячи лет спустя человечество всё еще шагает по целине, открывает новые законы мира и собственного устройства, как духовного, так и физического. Мы находимся в ранней поре своей биографии, где-то на пороге подростковости со всеми атрибутами этого трудного возраста – детской жестокостью, легкомыслием, непоследовательностью, неопрятностью и мучительной неуверенностью в себе.
Жизнь на Земле существует миллионы лет. По сравнению с этим сроком наша цивилизация появилась и пустила корни не то что вчера, а, можно сказать, несколько минут назад. Началом отсчета следует считать не момент, когда первый homo sapiens сделал каменный топор, а момент, когда хотя бы в одном очаге человеческой популяции изобрели письменность, создав начатки коллективной памяти. Без какого-то, хотя бы смутного представления о своем прошлом коллективное сознание рода пребывает в сумерках раннего младенчества. Мы, люди, помним себя (а стало быть, можем оценивать свое развитие) на отрезке в пять тысяч лет. За это время сменились всего лишь полтораста или двести поколений. Невообразимо далекие времена основателя Руси святого князя Владимира, в сведениях о котором больше легенд, чем правдоподобных фактов, отделены от нас только тридцатью звеньями предков; прадед моего прадеда родился в царствование Петра Первого, когда колдунов жгли на кострах, а государевых врагов сажали на кол.
Конечно, я вижу завоевания прогресса не в том, что врагов государства в мои времена не сажали на кол, а расстреливали во рвах или отправляли в газовые печи. Завоевание прогресса в том, что в семнадцатом столетии жестокость была нормой, а сегодня она рассматривается как аномалия и преступление.
Еще совсем недавно человечество повсеместно существовало по жизненному циклу животного: тратило все свои силы на добывание пищи, производило потомство, умирало. Да и сегодня во многих частях света, включая мою бедную родину, большая часть населения живет точно так же. Разве есть хоть какой-то шанс на раскрытие своих способностей у ребенка, родившегося в нашей нищей, бесправной деревне, в спившемся полууголовном пригороде или чахоточном шахтерском поселке?
Однако оценивать уровень развития человеческой цивилизации по худшим ее зонам все равно что судить о Пушкине по самым слабым его стихотворениям. Если же мы возьмем для рассмотрения области планеты, в которых человечество достигло наиболее высоких ступеней развития, прогресс по сравнению с прежними эпохами должен быть очевиден.
В конце концов, можно представить себе страну, далее всех продвинувшуюся по пути цивилизованности (какую-нибудь предположительную Нордландию), и страну в этом смысле самую отсталую (скажем, опять-таки условно, Зюйдландию), как одно и то же общество, находящееся на разных этапах развития. Там, где Нордландия находится сегодня, Зюйдландия окажется через сто или двести лет: избавится от голода, детской смертности, грубого насилия, невежества, научится уважать права личности. Во всяком случае, передовые деятели Зюйдландии, говоря о достойном и счастливом будущем своей страны, наверняка будут иметь в виду нечто «нордландиеобразное».
Только не нужно совершать грубой ошибки, сводя всю разницу к богатству и бедности. Связь между уровнем цивилизованности общества и уровнем материального достатка безусловно существует, и самая прямая – я подробно останавливаюсь на этом в одной из последующих глав. Однако «сытость» для прогресса является условием хоть и обязательным, но далеко не исчерпывающим.
Пришло время высказать, пока очень осторожно, главную мысль, содержащуюся в моем сочинении.
Сущностное различие между жителем условной Нордландии и условной Зюйдландии (каковой, впрочем, вполне можно считать и мою родину, не условный, а совершенно конкретный и вполне «нордный» СССР) заключается в некоем внутреннем качестве, концентрация которого определяет стадию развития общества.
Именно это трудноопределимое Качество, которому я медлю дать название, и является темой исследования протяженностью во всю мою жизнь.
Некоторым, очень немногим людям оно достается от рождения. Мне посчастливилось встретить и близко знать таких самородков. Они попадаются во всех народах и в самых разных социальных слоях.
Но большинство индивидов с сильно выраженным Качеством получились такими в ходе становления и развития личности, под воздействием воспитания и внутренней работы. Нечего и говорить, что в странах и социальных средах, которые находятся на относительно более высокой ступени развития, вследствие благоприятных условий среды выше и пропорция таких людей.
Человек, обладающий хорошо развитым Качеством (пока по-прежнему оставляю его без названия), сразу виден. В таком обществе, каким является моя страна, в течение долгих лет подвергающаяся тяжким испытаниям, он даже бросается в глаза, как дерево посреди голой пустыни. Когда-то вокруг меня таких людей было множество, во всяком случае во много раз больше. Но Качество, благотворное при движении общества вверх, становится смертельно опасным для своего обладателя, когда история делает рывок вспять, в пучину дикости и насилия. В этих джунглях эффективны лишь самые примитивные законы выживания, и Качество делается обузой. Поэтому те, кто не пожелал или не смог им пожертвовать, за редчайшими исключениями покинули родину или погибли. Уцелевшие экземпляры сегодня воспринимаются молодым поколением как чудо – или, скорее, как чудаки. Но я знаю, вижу, что, едва отступил всепроникающий страх и обладание Качеством стало грозить уже не тюрьмой, а всего лишь сумой, как в моей стране потихоньку начала восстанавливаться естественная пропорция тех самых самородков, кого природа наделяет Качеством от рождения. Не думаю, чтобы кто-то проводил статистические исследования в этой области, однако по моим жизненным наблюдениям из каждых ста явившихся на свет один будет абсолютно «светел» (то есть щедро, неиссякаемо одарен Качеством), один абсолютно «темен» (своего рода инвалид, душа которого неспособна эволюционировать), остальные же в разной степени «серы» и мимикрируют – светлеют либо темнеют – в зависимости от установившегося нравственного климата. Во времена диктатур или войн к власти неизбежно приходит наихудший процент человечества, потому что принуждение и насилие – его родная стихия. «Темный процент» только что, на наших глазах, пережил свой золотой век, и, хоть я надеюсь, что могущества гитлеровско-сталинского масштаба у этой фракции никогда больше не будет, рецидивы в отдельных регионах планеты, конечно, неизбежны. Добившись господства в России, Италии или Германии, «темный процент» немедленно начинал окрашивать в черный цвет «серые» девяносто восемь процентов, потакая их низменным инстинктам, и последовательно истреблял тех, кто принадлежал к «светлой» сотой[2].
А между тем стадия развития общества напрямую зависит от того, сколько в нем людей, обладающих Качеством. Обычно оно появляется и укрепляется внутри какой-то отдельной группы или сословия, где в силу исторически сложившихся обстоятельств возникает особая питательная среда. Когда таких особей становится много – не большинство, а хотя бы некое значительное количество, они начинают задавать тон поведения и влекут за собой всё общество в целом, потому что в этих людях есть притягательность, род магии, привлекательной для окружающих. Человеку с Качеством хочется подражать, хочется стать таким же, как он. В этом великая сила Качества.
Государства, которые сегодня считаются наиболее развитыми в гуманитарном отношении – это сплошь страны, где авторитет таких людей и отождествляемого с ними Качества высок. Но и в этих блаженных Нордландиях Качество нигде пока не находится у власти. В лучшем случае можно говорить о его сильном духовном влиянии.
Суммируя, повторю свою логическую цепочку, чтобы можно было двигаться дальше.
Итак, по моему убеждению, назначение человеческой жизни в том, чтобы прожить ее сполна, достичь полного раскрытия бутона, который носит в себе всякий человек (следуя ботанической метафоре, назову этот результат «Расцветом»).
Достижению Расцвета помогает некое Качество.
Общество становится лучше, то есть предоставляет своим членам больше возможностей для Расцвета, когда повышается средний градус этого Качества.
Средний градус Качества поднимается, когда в данном обществе увеличиваются количество и вес людей с высоким индивидуальным градусом Качества.
В свою очередь, индивидуальный градус Качества быстрее и полноценнее созревает в обществе, нравственный климат которого способствует пробуждению в среднем человеке лучших, а не худших свойств его души[3].
Но это не притча о яйце и курице либо змее, ухватившей себя за хвост. Процесс улучшения человека имеет стартовую точку и свои законы, которые возможно исследовать. Конечно, эволюция души – категория трудно определимая, но лишь до тех пор, пока не появится метод измерения. Еще Галилеем сказано применительно к назначению науки: «Измерить всё, что поддается измерению, а что не поддается – сделать измеряемым». В своей книге я делаю попытку предложить метод, который позволяет анализировать, измерять и даже градуировать самый важный из параметров развития человечества.
Повторюсь еще раз: я не ставил и не ставлю задачи убедить в своей правоте всех; довольно того, что эта система помогает разобраться в проблеме мне самому.
Чтоб завершить вступление, мне осталось сделать только одно: дать название Качеству, этому драгоценному свойству, которое так медленно и трудно накапливается человечеством в ходе эволюции. Я ввожу этот новый термин, вполне понимая его неопределенность. К сожалению, ничего более корректного придумать я не сумел. Как ни странно, слово, в точности соответствующее этому понятию, отсутствует во всех знакомых мне языках.
Качество, от которого, как я убежден, зависит судьба человечества, я назвал «аристономией».
(Из семейного фотоальбома)
«При жизни А. не был любим. Наружность его не отличалась привлекательностью. Он был малого роста, сухощав, близорук и картав; на губах его играла язвительная улыбка; он был холоден и насмешлив».
Прочтя эти строки, Антон вздрогнул.
У него была тайная обсессия, про которую он никому не рассказывал, потому что как и кому про такое расскажешь?
Лет с четырнадцати, то есть с возраста, когда начинаешь становиться мыслящей личностью, Антон всё настраивал себя на считывание посланий – неких мистических знаков, адресованных персонально ему в подтверждение его исключительности и единственности, в доказательство особенных отношений, существующих между ним, Антоном, и Кем-то, Кого (или Что?) люди религиозные называют Богом, самому же Антону больше нравился термин, придуманный Робеспьером: Верховное Существо.
Знаки были многообразны и непредсказуемы. Антон хранил в памяти каждый.
Первый был явлен пять лет назад, в те самые дни, когда он очнулся. То есть перестал быть ребенком, которого ведут за ручку, и вдруг осознал: я – один на один с жизнью, и всегда буду один, и никто никогда меня полностью, до конца не поймет, и очень хорошо, что не поймет, и Тайна Бытия никем до сих пор не разгадана, но мало кто этим мучается, а все живут себе мелкими повседневными заботами, будто муравьи или мухи, а я так жить не смогу и не буду, потому что мне открылась истина. Четырнадцатилетний Антон не мог бы объяснить, в чем эта истина заключалась, – пожалуй, в осознании своей единственности, своей абсолютной незащищенности и своего бескрайнего могущества.
Дело было летом, ночью, на даче. В небе горели звезды, и одна из них мигнула, и он понял: «Это мне знак, меня услышали, я – это я». Несколько дней потом ходил, как в лихорадке, смотрел на всех вокруг со снисходительным презрением: муравьи, мухи. Осенью, издалека и осторожно, завел на эту тему разговор с гимназическим приятелем Колей Лацисом, мальчиком начитанным и умным. Тот немного послушал, кивнул. «А-а, – сказал небрежно, – думай-думай. Полезно для развития личности. Про Бога, вечность, бесконечность и прочие ребусы. Я в прошлом году тоже чуть себе голову не свихнул. Только велосипед не изобретай. Почитай историю философии, там всё жевано-пережевано». Историю философии Антон читать не стал, на Кольку обиделся и откровенничать с людьми навсегда зарекся. Послания же выискивал и коллекционировал.
Например, шел он как-то, давно, из гимназии, был ясный весенний день, по реке плыли белые глыбы, и стало невыносимо жаль, что всё это – весна, щекотный воздух, скрип подтаявших льдинок под ногами – уходит навсегда и никогда больше не повторится, то есть повторится, конечно, но уже не так, не совсем так, и сам он будет другим, а люди вокруг идут с глупыми, пустыми лицами, и ни один не задумывается, что ничего не вернешь, и катятся себе от рождения к старости беспечными, бессмысленными колобками. А на набережной, к которой Антон двигался по Троицкому мосту, стояли экипажи и авто. Погода была чудесная, первый ясный день, многие приехали прогуляться по Марсову полю. Антон вдруг загадал: «Если, пока я иду через реку, вон та коляска, со сверкающей дверцей, отъедет, моя жизнь будет особенной, не как у всех. А не отъедет – проживу дюжинно и заурядно, Акакием Акакиевичем Башмачкиным». Загадал – и сам испугался. Сердце сжалось. Начал себя переубеждать, что глупости, ребячество. И вдруг – он прошел не больше двадцати шагов – черный бок пролетки брызнул искорками, и она тронулась с места, одна из всего ряда! Антон потом посчитал. Их там шестнадцать было, экипажей и автомобилей. Мог ведь вообще ни один с места не тронуться!
Ладно, пускай тогда было случайное совпадение – маловероятное, один шанс из шестнадцати. Но происходили же впоследствии и другие случаи. Последний по времени – двухмесячной давности, совершенно поразительный.
Шел по Невскому, мимо остановки. Там, как всегда, «хвост», давка. Подошел трамвай, все толкаются у задней площадки, а несколько человек желают войти через переднюю дверь, предназначенную для льготников – инвалидов войны, дам в положении, полицейских при исполнении служебных обязанностей. Теперь уже трудно поверить, что когда-то, до войны, трамвай считался респектабельным видом транспорта. Вагонов стало меньше, потому что старые ломаются, а новых из-за границы не доставляют. Число пассажиров, наоборот, десятикратно возросло, ибо десять копеек уже не деньги, и многие ездят по льготному тарифу или вообще освобождены от платы. Сам Антон на трамвае ездить зарекся, разве что поздно вечером, когда пусто.
В общем, шел он себе мимо толковища, размышлял на одну из постоянных своих тем: должен ли человек, чувствующий особость своей судьбы и не боящийся этого, прикидываться, будто он такой же, как все? Или это малодушие? Робость, которую нужно преодолеть? Ведь сегодня во время диспута на семинаре по истории права ему было что сказать по поводу «Салической правды», но он стушевался и промолчал. И, как обычно, последнее слово осталось за демагогом Сухаревым, потому что у него апломб и нахрап. А надо было попросить слова, выйти вперед и врезать: «Сравнивать франкских литов с российскими крепостными – чистейшая вульгаризация, подмена понятий!» И только Антон про это подумал, представил, как он выходит вперед, а вся аудитория ему внимает, – вдруг слышит (на остановке кто-то выкрикнул, дребезжащим истеричным голосом):
– Куда лезешь? Умный какой! Стой, как все люди стоят! Еще вас, клобуков, вперед пускай! Не дождетеся!
У Антона дыхание оборвалось. Вот и ответ! Это же он – Клобуков. Антон Маркович Клобуков.
Там, у передней площадки, топтался монах в островерхой черной шапочке, это ему кричали из «хвоста». Чернец, наверное, приехал из глухомани и просто не знал правил. Да бог с ним, с монахом! Разве в нем дело? Слово «клобук» не относится к числу распространенных, монашескую скуфейку так никто не называет, уж во всяком случае не человек, говорящий «не дождетеся». Это было послание, самое что ни на есть прямое, неприкрытое. И смысл его очевиден: вот он, ответ на твой вопрос.
Всякий раз, сказав себе: «Это оно, несомненно оно», Антон испытывал ощущение, которое, вероятно, и называют «мистическим ознобом»: по коже рассыпались мурашки, сердце чуть сжималось от удовольствия и маленького, не очень страшного страха. Удовольствия было больше. «Я – это я», думал в такие мгновения Антон и, если неподалеку было зеркало, оконное стекло или витрина, непроизвольно глядел на свое отражение.
Сейчас сделать это было легко. Он поднялся, подошел к гардеробу и остановился перед зеркальной дверцей.
Всё совпадало в точности. Никем не любим (родители не в счет, им любить продукт своих чресел положено по социобиологической функции). Некрасив, мал ростом, щупл, в очках. Картав – букву «р» раскатывает, будто горло полощет. Язвительная улыбка – вот она, пожалуйста. Только насчет «холоден»… Вообще-то не особенно. При малейшей ерунде, пустяковом волнении кровь к лицу, дрожь в пальцах, и потом долго нужно себя уговаривать, чтоб успокоился. Но в смысле не нервическом, а мировоззренческом безусловно холоден. Не деятель – наблюдатель. А лучше сказать «созерцатель».
Пять минут назад Антон сел готовить реферат для семинара по философии права. Тема – «Закон и государство в учении Аристотеля». Решил начать со сведений общего характера. В отцовском кабинете взял черно-золотой том «Брокгауза и Эфрона», открыл статью «Аристотель» – и вот вам, получайте. Явное, несомненное послание. Притом с легко угадываемым значением. Лестным. Тот, другой «А.», величайшая фигура в истории человеческой мысли, был в начале жизни безвестен и никому не интересен.
Человека, помимо качеств, заложенных природой (читай: Кем-то, Чем-то), делает великим эпоха. Времена бывают плоскими и скучными, как среднерусская равнина, а бывают вздыбленными, когда тектонический сдвиг пластов истории образует островерхие хребты и бездонные впадины, когда сшибаются материки и тонут атлантиды. Вот почему блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Такой была эпоха Аристотеля и Александра Македонского. Но в еще большей степени, в несравненно более грандиозном масштабе такова нынешняя эпоха.
Времена небывалые. Страшные, величественные. Скорлупа прежней жизни трескается под мощными ударами бронированного клюва, из Мирового Яйца вылупляется Птенец. Кем он окажется – стервятником Апокалипсиса или райской птицей, неведомо. Будущее, уготованное выжившим в войне, может оказаться прекрасным или чудовищным, но ясно одно: как жили прежде, больше не будет. Поэтому тех, кто уже стар или даже в среднем возрасте, Антону было жалко. Они не приспособятся, они не впишутся. Новорожденный мир будет принадлежать молодым. Таким, как он.
Когда в девятнадцать лет твердо знаешь, что ты избранный, – захватывает дух.
Антон стоял перед зеркалом и пытался представить, каким он станет через десять, через двадцать лет. Верно, переменится до неузнаваемости. Мама в юности тоже была нехороша. Широкий лоб, маленькие припухлые глаза, скуластость – это от нее. Неправильность черт у Татьяны Ипатьевны с годами никуда не делась, но проступил характер, воссияла личность, и лицо, прежде некрасивое, сделалось интересным, значительным. То же, будем надеяться, произойдет и с бледной, невзрачной физиономией, мигающей на нас из зеркала.
Поежился в овчинной безрукавке. Холодно. Городской закон обязывает домовладельцев поддерживать температуру в жилых помещениях не ниже 13 градусов, а хозяин еще градус-другой ужуливает. Квартиранты подогреваются своими средствами – кто топит камин, кто завел чугунную печку. Но дрова и уголь баснословно дороги. Отец сказал: «Безнравственно шиковать, когда беднота мерзнет. Люди терпят, будем терпеть и мы». А у самого неотступный кашель, скачки температуры, и холод ему опасен.
Только в профиле, пожалуй (Антон повернул голову и скосил глаза), проступало отцовское – породистая очерченность носа, подбородка. Марк Константинович в молодости был красавец. А дед, тот вообще был декабрист. На овальном миниатюрном портрете почти вековой давности юный Константин Клобуков – в кавалергардской кирасе, с подвитыми перышками на висках – выглядит принцем из романтической баллады.
На самом-то деле (папа рассказывал) дед был вздорен, тяжел характером. Его роль в заговоре, кажется, была незначительна, и каторгу он получил исключительно за строптивость, проявленную во время следствия. По той же причине надолго застрял в «местах не столь отдаленных». Женился на шестом десятке, только после амнистии. В положении ссыльного обзаводиться семьей дед не желал. Говорил, что он из породы, которая в неволе не размножается. Свобода передвижения притом ему была нужна исключительно из принципа, потому что на запад он не вернулся, так и умер иркутским мещанином, ибо восстанавливаться в правах дворянства отказался, из гордости. А род-то древний, шестнадцатого столетия. Одно время Антон пытался уговорить отца подать прошение в Департамент герольдии, но Марк Константинович сначала отшучивался, а потом рассердился. «Дворянское звание – стигмат позора, – сказал он двенадцатилетнему сыну. – Вроде Каиновой печати. Нам должно быть стыдно, что наши предки жировали за счет крепостных крестьян». Так-то оно так, но все равно жалко.
Отец родился в день манифеста об освобождении крестьян и, кажется, тоже считал это своим персональным судьбоопределяющим посланием. Вероятно, сыграло роль и имя. Сибирский упрямец нарек своего отпрыска в честь Марка Аврелия. Два других сына, дядя Зина и дядя Сеня, тоже получили имена со значением: Зенон и Сенека. Тетю Лушу полностью звали Лукреция Константиновна. Все они обитали в Сибири, Антон видел их редко. Отец единственный из своего стоического семейства обосновался в Петербурге. Врачи сказали, что слабогрудому мальчику вредны иркутские зимы, поэтому с десяти лет Марк жил у родственников, в столице, где учился и потом преподавал, а когда снова, не по своей воле, очутился в родных местах, дедушки Константина Григорьевича на свете уже не было.
Событие, переломившее мирную жизнь приват-доцента Клобукова, в семье получило название «Холокаустос». Этим словом (по-гречески – «вселенская катастрофа») Марк Константинович со всегдашней мягкой иронией называл студенческие беспорядки 1897 года, в результате которых он не только потерял место, но и был выслан в административном порядке под надзор полиции. Сегодня ровно двадцать лет с того рокового дня, когда вышел указ министра об исключении мятежных студентов и немедленном применении к ним закона о всеобщей воинской повинности. Приват-доцент Клобуков публично объявил о солидарности с репрессированными и в тот же день сам оказался сначала за университетскими вратами, а затем и пятью тысячами верст восточнее. К научным занятиям и преподаванию впоследствии он так и не вернулся.
Для семьи Клобуковых тот день был особенным и еще в одном смысле, который, собственно, и придавал слову «Холокаустос» несколько юмористический оттенок. Антон слышал эту историю много раз. Отец очень комично рассказывал, как вечером, когда он, «пятою Рока в прах попранный», сидел дома и предавался унынию, к нему явилась «некая юная особа с горящим взором», перекинула его через седло и увезла, не спрашивая согласия. Двадцатилетняя курсистка, прежде видевшая приват-доцента только на лекциях по юриспруденции, пришла и сказала, что хочет быть его женой и разделить с ним судьбу, какою бы та ни была. Поженились они уже в Иркутске. Отец шутливо называл сына «дитя Катастрофы». Однажды Антону пришло в голову посчитать, когда он был зачат, и получилось, что в конце января, за полгода до свадьбы – очень возможно, в тот самый вечер. Думать об этом было конфузно. Антон и не думал, придерживал свое и без того слишком резвое воображение.
Вечером 27 января к отцу всегда приходили его бывшие питомцы – те самые, исключенные. До войны в небольшой квартире собиралось по тридцать, сорок человек. Все шумели, перекрикивали друг друга, хохотали, пели песни. В прошлом и позапрошлом году гостей было немного. Сегодня вообще никого не ждали, потому что Марк Константинович совсем ослаб, почти не вставал с постели, и мать разослала городские телеграммы, а у кого есть телефон – тем позвонила: не приходите, болеет.
Но тихого вечера все-таки не вышло. Из гостиной до комнаты, в которой Антон корпел над своим рефератом, доносились голоса. Двое всегдашних «холокаустовцев» не получили маминого предупреждения. Один, Бердышев, приехал прямо с вокзала, был на Кавказе по делам Военно-промышленного комитета. Другой, Знаменский, только что вернулся с Северного фронта, куда ездил с думской делегацией. Оба, как обычно, явились с женами. Не указывать же на дверь?
Отец надел куртку, сел в кресло, под плед. Паша умчалась в метель с ответственным заданием: добыть какой-нибудь закуски и, если удастся, хоть пару бутылок вина. В ресторане, конечно, потому что магазины уже закрыты и в любом случае вина там давным-давно не продают – сухой закон.
Антон думал присоединиться к общей компании, но случился маленький казус. А может быть, не случился – примерещился. Может, сам себе напридумывал.
Будто Зинаида Алексеевна, жена Петра Кирилловича Бердышева, поймала Антонов взгляд, когда снимала ботики («нет-нет, Танечка, не уговаривайте, сниму, жарко»), а он уставился на ее тонкую, в прозрачном чулке щиколотку. Зинаида Алексеевна была еще молодая, хорошенькая, с нежным голосом, к которому хотелось прислушиваться, что бы он ни говорил. Посмотрела она лукаво или просто так легли тени? Антон почувствовал, что краснеет, пробормотал, что ему нужно заниматься, ушел.
Стыдно, как стыдно! А если все-таки не тени? Если она скажет Петру Кирилловичу, что он на нее плотоядно пялился? Тогда только выкинуться из окна.
Животное начало в человеке, который готовится к особенной, небывалой судьбе, отвратительно. Унизительней всего, что оно сильнее тебя. Третьего дня Паша мыла полы, так он ничего не мог с собой поделать – несколько раз прошел мимо, чтобы посмотреть на ее полные розовые ноги под высоко, до колен, подоткнутой юбкой. Паша даже прикрикнула: «Хватит шляться! Мешаешь!» А если б догадалась? Ужасно. И, главное, пошлость какая! Трехкопеечный барчук строит горничной куры. Ну то есть никаких кур он, конечно, не строит, но ведь это Паша, член семьи, почти сестра!
На войну надо идти, вот что. Не дожидаться призывного возраста, а просто записаться добровольцем, как сделали многие. Но что дальше? Стрелять ни в чем не повинных немцев – преступление, здесь отец стопроцентно прав. Поступить в медбратья? Пробовал уже, еще два года назад. Вырвало в перевязочной, позорно. «Кишка у тебя, парень, тонкая», – презрительно сказал санитар Куценко.
В телефонисты можно. Или шофером, еще лучше. Но в армии ведь, наверно, не спросят? Пошлют, куда им надо. Все-таки медицина благородней всего. Никаких компромиссов с совестью, все тебе благодарны – и ощущение нужности, вот что самое важное. Надо преодолеть слабость. Не отводить глаз от ран, не зажмуриваться при виде крови.
Из гостиной донесся мучительный приступ кашля, и Антон сразу вспомнил, как у отца утром, за завтраком, хлынула черная кровь. Раньше такое случалось только весной или осенью, а теперь чуть не каждый день. В последний год Марк Константинович отрастил бороду. «Интересничаю», шутил он, но Антон догадался: хочет спрятать ввалившиеся щеки. Из-за бороды стало казаться, что это уже не тот папа, которого знаешь и любишь, а другой человек, и если прежде отец был похож на Пророка с полотна Николая Ге «Что есть истина?», то ныне превратился в призрак с картины «Голгофа» того же художника: уже не человек, тень человека.
«Умрет? Скоро умрет?» – спросил Антон отражение в зеркале. «Нет, не может быть», – ответило отражение, но неубедительно ответило. Жалко приморгнуло, дрогнуло губами.
Выступать в суде отец перестал уже давно. Не мог громко говорить, срывался на кашель, а с минувшей осени вовсе перестал работать. Пожелтел лицом, беспрерывно температурил, не расставался с бумажным кульком, куда отплевывал мокроту. Но ведь прошлой зимой было почти так же скверно, однако к лету как-то выправилось?
Вот и приступ кашля закончился, сменился смехом. Отец, если уж начинал смеяться, нескоро останавливался. В гостиной, кажется, говорили о веселом.
Антон вышел в коридор, бесшумно прошел ковровой дорожкой, встал в дверях.
Сидели вокруг стола, на котором под желтым кругом света сиротливая ваза, и больше ничего. Паша рыщет по вечернему городу в поисках угощения, достойного депутата Государственной думы и промышленника-миллионера. Обе супруги, улыбчивая Римма Витальевна (острый взгляд из-под золотого пенсне) и Зинаида Алексеевна (на нее Антон посмотреть не решился), вежливо положили перед собой по кусочку сухого печенья.
Муж Риммы Витальевны адвокат Знаменский действительно рассказывал смешное. Как в сегодняшней «Русской воле» Амфитеатров напечатал фельетон «Этюды». Все пришли в недоумение от набора трескучих, бессмысленных фраз – ни черта непонятно, с ума он, что ли, сошел?
– Звоню автору, – поглаживал эспаньолку Аркадий Львович, до поры пряча улыбку, – спрашиваю: «Что с тобой, Саша, ты не в запое ли?» Он в ответ: «А ты по краешку прочти».
– Как это «по краешку»? – заранее давясь смехом, спросил Марк Константинович. Видимо, его привела в веселость предыдущая история, которой Антон не слышал.
Знаменский, мастер публичных выступлений, вопроса будто не расслышал. Сделал недоуменное лицо.
– Беру газету снова. Верчу так, этак. И вдруг – эврика! Если прочесть первые буквы в каждой строке, сверху вниз, выходит: «Решительно ни о чем писать нельзя». Каково? А цензура прохлопала!
– Скажите, какая отчаянная смелость, – проворчал хмурый Бердышев.
Но отцу хотелось смеяться, и он запрокинул голову, зажмурил от удовольствия запавшие глаза. Лица у всех сделались напряженными. Наблюдать за тем, как смеется Марк Константинович, было страданием – сорвется в кашель или нет?
Антон посмотрел на мать. Она разглядывала костяшки пальцев, тонкие губы плотно сжаты. Будто сейчас разрыдается. Мама – разрыдается? Это было невозможно представить.
Так же тихо он попятился назад в коридор. И вовремя. Кашель-таки грянул. Нескончаемый, с захлебом, с судорожным заглатыванием воздуха.
Оказавшись за прикрытой дверью, Антон снова сел к столу. Где это было? А, вот. «Холоден и насмешлив».
Через минуту постучали.
– К тебе можно?
Петр Кириллович. Стриженные бобриком волосы блеснули в электрическом свете первой, почти незаметной сединой. Спокойные, внимательные глаза без спешки, а в то же время быстро оглядели комнату: узкую кровать, шкаф, книжные полки, стол, карту театра военных действий, чуть задержались на портрете (повешен сегодня утром, для вдохновения).
– Что это ты – Аристотеля в кумиры возвел? – с любопытством спросил Бердышев.
У него была немного странная манера говорить, на новых людей производила неприятное впечатление. Петр Кириллович произносил слова по-написанному: «чьто», «вОзвел». Очень уж четкий человек, не любит, чтоб буква расходилась со словом. Он при Антоне как-то – не совсем всерьез, конечно, – сетовал отцу, что все российские беды происходят из-за лукавого произношения: пишут «порядок» – прононсируют «парядак», зато в слове «бардак», уж будьте уверены, в произношении не ошибутся. У самого Бердышева во всех его многочисленных делах царил идеальный пОрядОк: на фабрике, в подсекции Военно-промышленного комитета, в семье.
– Давно не виделись, – сказал он, в упор рассматривая Антона. – Учишься?
Люди для Петра Кирилловича делились на две категории: те, кого он любил, и все остальные. Антона Бердышев любил, смотрел на него приязненно, всегдашняя ледяная корочка в глазах будто подтаивала.
– Учусь…
– А что так кисло? Юриспруденция не увлекает?
С этим человеком можно было откровенно.
– Кому теперь нужно римское право? Надо было поступать на медицинский…
– Медицина врачует человека, право врачует человечество. – Петр Кириллович назидательно поднял палец, но сухие губы иронически покривились. – А впрочем, не мне тебя агитировать. Как ты знаешь, я факультета не закончил, так и остался неучем.
Он, один из немногих отданных в солдаты, отслужил в армии полный срок и в университет больше не вернулся.
Левая рука фабриканта вынырнула из-за спины, в ней был квадратный сверток.
– Подарок. Извини, что с запозданием.
В этом весь Бердышев. Два с лишним месяца прошло после дня рождения, но Петр Кириллович, несмотря на войну, несмотря на бесчисленные заботы, помнит, что именинник остался без подарка.
Антон стал нетерпеливо разворачивать бумагу.
Портативный «кодак»! Чудо! Он давно мечтал о фотоаппарате, но на подобное роскошество и не зарился! Легонький, берется одной рукой, весь кожаный, с хромированными кнопочками!
Подарки Петра Кирилловича всегда были самые лучшие, даже если не такие дорогие, как этот. Он всё делал обстоятельно, со смыслом, в том числе выбирал подарки.
– Здесь инструкция. Изучай. Ладно, ладно. Не за что. Расти большой.
И ушел.
Аристотель был забыт.
Тэк-с, где же тут объектив? Ого, спрятан под крышкой. Здорово! Выдвигается! И кожух гофрированный! Как вставляется пленка?
Черт, вот некстати! Звонят в дверь. Паша еще не вернулась. Придется идти самому. Он неохотно отложил камеру.
Пока шел до прихожей, позвонили снова – робко, нерешительно.
– Здравствуй, Антон… Я знаю, что сегодня всё отменилось, но…
Высокий и тощий, дурно одетый, весь какой-то нескладный, человек мялся на пороге. В руке мятая шапка, длинные волосы распушились, на воротнике старого пальто снежинки вперемешку с перхотью.
– Здравствуйте, Иннокентий Иванович. Проходите. Пришли Бердышевы и Знаменские, папа будет рад.
Один из любимых папиных рассказов: когда семья только вернулась в столицу и восстанавливала старые связи, ждали в гости Иннокентия Баха, бывшего папиного студента, и всё пугали маленького Антона – вот придет Бах, задаст тебе бабах, и когда вечером раздался звонок, Антон с ревом забился под кровать.
Иннокентий Иванович Бах был совсем не страшный. Наверное, на всем белом свете не нашлось бы ни одного живого существа, которое могло бы его испугаться. Пух на лысеющем темени Баха дыбом, длинный нос – как клюв у сороки, мягкая бородка и усы словно приклеены для смеха, а глаза круглые, детского ясно-голубого оттенка.
– Татьяна Ипатьевна утром телефонировала, предупредила, что ничего не будет, однако… – мямлил гость, переступив порог, но не идя дальше. – У нее был такой голос… Я весь день думал, какой у нее был голос. И вот, решился… Все равно я из госпиталя, с дежурства, почти по дороге… Хорошо, что ты открыл, Антоша. Ты скажи, если я не ко времени, я сразу и уйду… Что нахмурился? Марк Константинович совсем болен? – Бах схватился за сердце худой рукой, в плохо отмытых пятнах йода.
Нахмурился Антон, во-первых, из-за упоминания о госпитале. Вот Иннокентий Иванович – птаха божия, публицист богословского направления, а ходит же в госпиталь, ухаживает за ранеными, в обморок от стонов и крови не падает. Во-вторых, неприятно: Бах придвинулся, а зубы у него гнилые, пахнет изо рта.
– Да ничего, слышите – смеется. Вы проходите в гостиную. Давайте пальто и шапку.
Сам за Бахом не последовал, хотелось вернуться к аппарату, дочитать инструкцию.
Смотрел в окошечко видоискателя, наводил фокус, думал: «Всё, запишусь на фельдшерские курсы. Если уж Бах смог…»
И снова позвонили. Вначале тихо, еще конфузливей, чем Иннокентий Иванович. Антон даже решил – почудилось. Но следующий звонок был резкий, долгий, требовательный. Еще кто-то из «жертв Холокаустоса» явился.
И когда только Паша вернется?
Вот так новости. Таких гостей в доме Клобуковых еще не бывало. На Антона вопросительно смотрел статский генерал (три звезды на петлице – это, кажется, тайный советник?), донельзя важный, с седой бородой, в золотых очках.
– Марк Константинович Клобуков ведь здесь жительствует? – спросил удивительный гость и, что было уж совсем удивительно, смутился, притом видно было, что смущаться этот человек давным-давно разучился, а может быть, и никогда не умел.
– Да. А… Как прикажете доложить? – ляпнул Антон, сообразил, что это прозвучало по-лакейски, и тоже сконфузился.
Но генерал за лакея его не принял.
– Вы, должно быть, сын? В Сибири родились, знаю. Я Ознобишин, Федор Кондратьевич…
Седобородый назвался словно бы с вызовом, втянул щеки, и так монашески проваленные, сделал паузу.
– Вы, верно, про меня слышали?
И спрошено было тоже со значением, чуть ли не грозно.
– Нет, – помотал головой Антон и отступил, чтобы гость мог войти. – Никогда.
Ответ почему-то ужасно расстроил Федора Кондратьевича, будто перерезал нити, державшие его фигуру в натяжении.
– Никогда? – пробормотал он упавшим голосом и весь как-то ссутулился. – Ну все равно. Я войду. Вы скажите отцу, пожалуйста, что Ознобишин пришел… Нет, погодите! – встрепенулся тайный советник, хотя Антон еще не тронулся с места. – Сегодня многие пришли, из бывших студентов?
– Только три человека.
А вот это известие непонятного посетителя, наоборот, вроде бы обрадовало.
– Знаете что? Можно ли я просто войду, без доклада?
– Конечно, можно. Какие у нас доклады? Я провожу.
Повесив на вешалку шинель с золотым галунами, Антон показал генералу, куда идти (догадаться, впрочем, было нетрудно), и на этот раз пошел с гостем. Любопытно же!
Он не был разочарован. Получилось почти как в финальной сцене «Ревизора».
Все обернулись на сухопарую фигуру в вицмундире. Ознобишин всего-то и сказал, сдавленным голосом: «Приветствую почтенное собрание», но, если б он вбежал с истошным воплем, это вряд ли бы произвело больший эффект.
Татьяна Ипатьевна порывисто приподнялась – и снова села. Ее черты исказились, Антон никогда не видел у матери такого выражения лица.
Отец недоверчиво покачал головой.
Аркадий Львович Знаменский ахнул: «Приснится же такое!»
Бердышев сузил глаза, потянул из кармана платок – будто кинжал доставал – и зачем-то вытер пальцы.
Бах сдернул пенсне и часто, испуганно замигал.
Но Зинаида Алексеевна и Римма Витальевна пришедшего, кажется, видели впервые. Первая глядела на него с милой, немного вопросительной улыбкой. Вторая сначала тоже улыбнулась, однако после странного восклицания мужа улыбку убрала и нахмурилась.
– Я Ознобишин. Полагаю, вы обо мне слышали, – сказал генерал, обращаясь к дамам, и скрестил руки на груди. Смущения в нем нисколько не осталось, один только вызов.
Лицо Зинаиды Алексеевны сделалось растерянным, Знаменская же сама себе кивнула, что, вероятно, означало: «я уже догадалась» или, может быть: «а-а, тогда понятно».
Антону стало не по себе. Что-то должно было сейчас произойти. Что-то ужасно неприятное и, возможно, даже страшное.
Но ничего такого не случилось.
– Ну, здравствуй, Примус. Как ты постарел. Садись, – сказал отец своим обычным голосом.
И всё для Антона прояснилось. По крайней мере главное. О Примусе он слышал, как же. Одно из главных действующих лиц «Холокаустоса», родители его часто поминали. Примус был другом ранней юности и молодости отца. Прозвище получил, потому что закончил гимназию первым учеником, с золотой медалью. Двадцать лет назад они оба состояли при факультете приват-доцентами, только отец на кафедре уголовного права, а Примус – государственного. Когда вышел указ об исключении смутьянов и сдаче в солдаты, Примус единственный из преподавательской молодежи выступил в поддержку этой меры правительства. Выступил публично, на университетском совете. С тех пор дороги прежних друзей разошлись. Больше они не встречались и не разговаривали. Отец часто вспоминал Примуса, всё пытался найти объяснение «парадоксальному поступку» – и не находил. «Главное – зачем? – говорил Марк Константинович. – Ведь никто от него этого не требовал и не ждал. Мог не лезть на рожон, как я, а просто промолчать – как остальные».
– Садись, садись, – повторил отец, потому что Ознобишин медлил. – Это Знаменский, это Бах, это Бердышев. Ты их вряд ли помнишь, это мои студенты, «уголовники».
– Я всех исключенных помню по именам. – Федор Кондратьевич медленно опустился на стул, поморщившись на скрип. – Да и теперь, так сказать, держу в поле зрения.
– По роду службы? – скривил рот Бердышев и пояснил жене. – Этот господин, Зиночка, состоит в Совете министерства внутренних дел. Следит, чтоб Охранное отделение и Департамент полиции не выходили из рамок строгой законности.
Последняя фраза была произнесена с нескрываемой издевкой.
– Очень приятно, – улыбнулась Зинаида Алексеевна, кинув на мужа укоризненный взгляд, в котором читалось: «Мы в гостях, хозяин пригласил человека к столу, держи себя в руках».
Знаменская сама назвала свое имя и отчество. Она была деятельницей женского движения и не признавала условностей. На генерала Римма Витальевна смотрела строго, но без враждебности – скорее выжидательно.
Напряжение несколько спало. Антон понял, что скандала не будет. Во всяком случае, не прямо сейчас. Только мать глядела на Ознобишина всё с той же непримиримостью.
Возникла пауза. Призрак из прошлого нервно щипнул свою длинную бороду, расправил плечи, тронул седую бровь. Он похож на тень гамлетова отца, подумал Антон, всё еще волнуясь.
– Я думал, все уже в сборе, – сказал Ознобишин, Щелкнув крышкой часов. – Одиннадцать, двенадцатый. – Часы были старинные, на цепочке красноватого золота. – Однако, вижу, ошибся. Я бы предпочел… – И не договорил.
– У тебя ко мне дело? – Марк Константинович всё разглядывал прежнего товарища. – Ты хочешь говорить с глазу на глаз? Извини, но это…
Он выпучил глаза, зажал ладонью рот, однако все же не сумел удержать приступа. Долго, с полминуты, содрогался в кашле и потом быстро скомкал, убрал платок. Все смотрели с одинаковым страдающим выражением, в том числе и Примус. Нет, не все. Татьяна Ипатьевна не отвела ненавидящего взгляда от лица незваного гостя.
Вдруг Зинаида Алексеевна тронула ее за кисть.
– Танечка, хотела с вами пошептаться по одному женскому поводу. Оставим мужчин на время.
Антон догадался: это она нарочно, чтоб не вышло какой-нибудь сцены. Прелесть что за женщина!
Татьяна Ипатьевна медленно поднялась и с видимой неохотой последовала за Бердышевой. Они сели на диван у дальней стены. Римма Витальевна несколько раз повела острым носом – от стола к дивану и обратно. «Столкнулись две идеологические концепции – право на участие в мужских дискуссиях и женская солидарность», – мысленно сыронизировал Антон. Победила солидарность. Знаменская тоже перебралась к дивану, но села на стул, чтоб быть поближе к столу и не упустить ничего интересного.
У Антона не было сомнений, кого тут нужно слушать. Он стоял, прислонившись к дверному косяку. Ждал, что последует дальше.
Но мужчины пока молчали, а голосок Зинаиды Алексеевны уже журчал. Антон услышал свое имя, навострил уши.
– …сколько продлится эта ужасная война. Вы решили что-нибудь относительно Антона? Ведь ему меньше чем через год будет двадцать.
Татьяна Ипатьевна молча покачала головой.
– Наш Виктор родителей не спрашивал, – сказала Римма Витальевна с горечью, но в то же время и горделиво. – Я с таким страхом жду выпуска. Теперь, вы знаете, срок обучения юнкеров сокращен. Вот вы, Зиночка, поступили умно, что родили девочку.
У мужчин тоже завязался разговор. Настороженно-нейтральный – о войне. Желания уединиться с хозяином генерал не выказывал. Зачем он явился туда, где ему не рады, было по-прежнему неясно. Но и молчание становилось слишком тягостным.
– Теперь дела пойдут лучше, – начал Аркадий Львович своим чудесным, звучным баритоном, от которого, бывало, млели присяжные, а теперь стихала болтовня думских заднескамеечников. – Телеграфные агентства только что сообщили: Северо-Американские штаты разорвали отношения с Германией. Скоро у нас появится новый мощный союзник.
– Много они навоюют, американцы, – пожал плечами Бердышев. – У них и армии настоящей нет.
– Самая передовая экономика мира! – Знаменский поднял палец. – Нам их солдат не надо, своих хватает. Но снаряды, аэропланы, башмаки, шинели. Консервы, в конце концов! Уж тебе ль, Петр, не знать? Ты у себя в комитете чем ведаешь?
– Военно-полевой телефонией. Аппараты, провода, коммутаторы. Со связью у нас хуже всего. Не позаботились вовремя те, кому по долгу службы полагается.
Эти слова сопровождались красноречивым взглядом на тайного советника, хотя тот никак не мог иметь отношения к проводам и коммутаторам.
– Американцы нам через Аляску доставят всё, что нужно. Тебе останется лишь выполнять роль диспетчера. А во-вторых, и это еще отрадней, мы избавились от Распутина. Грубейшая ошибка властей, – теперь уже Знаменский покосился на генерала, – что они не желают откреститься от этой позорной фигуры.
– Да, без Гришки воздух стал чище, – согласился Бердышев. – Нашлись решительные люди, не вконец еще оскудела русская земля.
Убийство Распутина в России обсуждали уже целый месяц, и ни разу Антону не приходилось слышать, чтоб хоть кто-то пожалел о темном старце.
Тем удивительней было услышать то, что сказал Ознобишин.
– Чему радуетесь, блюстители чистоты? – Кустистые брови сдвинулись. – Я по роду своей деятельности участвовал в расследовании. Гадкая история, гнусная. Привилегированные господа, кому следовало бы показывать пример достойного поведения, коварно заманили доверчивого человека в дом, обманули лаской, подсыпали в угощение отраву. Потом били гирей по голове, стреляли в раненого, запихивали под лед. Неужто вы вправду рассчитываете, что на таком подлом фундаменте воздвигнется нечто прекрасное? Роль общества в распутинской истории отвратительна. Из сугубо личного дела царской семьи раздули черт знает что, напридумывали мерзких сплетен, сами в них уверовали – и закончили вероломным убийством. А старец всего лишь умел останавливать кровотечение у наследника и успокаивать душевные муки бедной матери…
– А также свергать министерства, комиссионерствовать по военным поставкам и продавать военные секреты немецким шпионам, – подхватил Петр Кириллович.
– Неправда! – Ознобишин сверкнул глазами. – Ничего подобного следствие не выявило!
И после короткой паузы, много тише:
– Зато оно открыло другие обстоятельства, крайне интересные.
И пристально, как-то по-особенному посмотрел на Бердышева. Тот неприятно рассмеялся.
– Марк Константинович человек деликатный. Я – нет. Поэтому спрашиваю в лоб: зачем пожаловали? Вы здесь лишний.
Федор Кондратьевич Ознобишин не выглядел ни уязвленным, ни рассерженным. Он был готов к этому вопросу.
– Об этом я скажу, когда закончится сбор гостей. У вас ведь принято 27 января собираться в память о… знаменательном событии?
– Больше никто не придет. Сбор отменен по причине…
Марк Константинович поколебался немного, но причину объяснять не стал. Ему было трудно дышать, говорил он совсем тихо.
– Жаль, – сказал Ознобишин. – А впрочем, неважно. Главное, что ты здесь. Давно хотел объясниться. Именно с тобой. С остальными тоже, но в первую очередь с тобой. И вот набрался духа. Прошу меня выслушать, не перебивая. А потом говорите, что хотите.
– Говори. Слушаем.
В комнате стало тихо. Татьяна Ипатьевна жестом остановила Бердышеву на полуслове, и женщины тоже повернули головы.
От сдвинутых бровей на лбу Федора Кондратьевича проступили две глубокие вертикальные морщины. Он начал напористо и горячо. Смотрел только на хозяина, сердито и, пожалуй, обиженно.
– Марк, как ты мог уехать, не выслушав меня? После стольких лет дружбы? Ты даже не дал мне возможности объясниться!
– Он не уехал. Его выслали в двадцать четыре часа. С жандармом, – звенящим голосом ответила за мужа Татьяна Ипатьевна.
– Но я писал тебе! Ты ни разу не откликнулся!
И снова Татьяна Ипатьевна:
– Я выкидывала письма. Не вскрывая.
К ней Ознобишин так и не обернулся, он всё не сводил глаз с печально слушавшего Марка Константиновича.
– Тебе, Марк, должно быть стыдно. Остальные – пускай. Но ты-то знал, что я не подлец и не карьерист.
– Кто же вы, ваше превосходительство? – спросил Бердышев насмешливо.
Вот на него тайный советник поглядел – коротко, но цепко. Однако ответом не удостоил.
– В тот день, в профессорской, я вдруг очень ясно понял то, что чувствовал уже давно. – Федор Кондратьевич снял очки, близоруко прищурился, от этого лицо его вдруг сделалось беззащитным. – На меня, Марк, словно сошло озарение. Я увидел происходящее в истинном свете…
Дззз-дззз-дззз – тремя краткими требовательными звонками брякнула прихожая. И опять: дззз-дззз-дззз.
– А говорил, никто не придет.
Примус водрузил очки обратно, будто опустил забрало.
– Пойди, Антон, открой. Наверное, это Паша. Руки заняты, потому и звонит.
– Носом что ли? – проворчал Антон, которому очень не хотелось покидать гостиную в такой драматичный момент.
Но пошел, конечно. В комнате, правда, молчали – звонок сбил говорившего с мысли или, может быть, с настроения.
Нет, не Паша.
Еще один незнакомый. И тоже чудной, только в совсем ином роде. В простецком ватном картузе, кожаной куртке, высоких сапогах. Улыбчивый.
– Имени вашего, юноша, не знаю, но отчество угадываю: Маркович.
Лицо широкое, малоподвижное, несмотря на улыбку. И какое-то не по-питерски загорелое. Или обветренное? Со странностью лицо. Вроде бы глазу и зацепиться не за что – нос небольшой, усов-бороды нет и вообще ничего примечательного, – но почему-то хотелось вглядеться в эти черты получше. Что-то в них угадывалось. Неочевидное, но интересное.
– А впрочем вспомнил: ты Антон. Я был у вас как-то, в девятьсот шестом, что ли. Ты по полу с жестяным паровозом ползал. Войти позволишь?
На «ты» он перешел очень естественно, руку пожал твердо, ладонь с улицы холодная.
– Вы из папиных студентов?
– Точно. Панкрат Рогачов. Всё собираются наши-то?
Вошедший кивнул в сторону гостиной, где опять звучал глуховатый, издалека невнятный голос Примуса.
– Да. Пришли, несколько человек… А отчество ваше как?
– Отчество у меня дурацкое – Евтихьевич. Семейка купеческая, старообрядская. Но это, брат, ерунда. Скоро отчеств не будет.
И подмигнул. Под курткой на нем был свитер, какие носят чухонские рыбаки. С пикника он, что ли? Но какие зимой пикники?
– Как это не будет?
– А на кой они? Отменим к черту вместе с ятями, превосходительствами и прочей чепухой.
Любопытный субъект. Антон даже перестал оглядываться на гостиную.
– Кто это «мы»?
– Мы с тобой.
Рогачов прислушался. Донесся обрывок фразы: «…а ты своим поведением только подливал масла в огонь».
– Ругаются, – улыбнулся непонятный гость и потер озябшие руки. – Я ведь случайно. Проходил мимо, знакомый адрес, окна светятся, ну и вспомнил про двадцать седьмое. Занятно будет на знакомых поглядеть, после стольких-то лет. Веди, что ли. Да не топай, мы тихонечко.
Он, в самом деле, прошел коридором удивительно тихо, и грубые сапоги почти не скрипели. Но отец все равно заметил выплывшую из коридорного полумрака фигуру. Наклонился из кресла, узнал.
– Панкрат! Не может быть! Как хорошо, что вы пришли.
Знаменский, Бах и Бердышев поднялись, тоже удивленные и обрадованные. Со всеми тремя запоздавший гость был на «ты», а с Иннокентием Ивановичем даже обнялся. С дамами поздоровался общим, преувеличенно галантным поклоном. Но глядел при этом на важного генерала с петлицами министерства внутренних дел – вопросительно. И вдруг удивил.
– Панкрат… Михайлов. – Быстрый взгляд на старых товарищей, которые переглянулись, однако ничего не сказали. – А вы, простите…?
– Моя фамилия Ознобишин. – Тайный советник рассматривал странно одетого человека с недоумением. – Михайлов, вы сказали? Но в деле девяносто седьмого года студента Михайлова не было.
Услышав, кто перед ним, лже-Михайлов будто подобрался. Стоявший позади Антон заметил, как на шее Панкрата вздулась жила.
– Я из Технологического. Марк Константинович читал у нас лекции по правонарушениям на производстве.
– А-а… – Федор Кондратьевич утратил к новому гостю интерес. – Полагаю, что история с отдачей в солдаты вам тем не менее известна. И памятна. О ней-то мы сейчас и говорим.
Ему не терпелось вернуться к прерванному разговору.
– Грубейшая ошибка – заискивать перед молодежью, когда она закусила удила! – горячо продолжил он, едва Рогачов-Михайлов сел. – Вы, либералы, умиляясь их щенячьему тявканью, оказывали им дурную услугу! Ведь вы, господа, – обернулся он к бывшим студентам, – сами не учились и другим не давали. Бойкотировали почтенных профессоров, устраивали обструкцию. А ради чего? Вам казалось, что из-за идеалов, а на самом деле вам просто хотелось пошуметь. И я вдруг явственно увидел, что будет дальше. Бездумно, без мысли о будущем, слушая лишь пульс своей молодой крови, вы превратите университет в очаг смуты. Эту искру следовало потушить в самом начале, пока из нее не разгорелся костер. Иначе будут баррикады, бомбы, бои с полицией и войсками. Кровь, много крови! Решение министра было верным и гуманным. Профилактическая мера – ради вашего блага, ради блага университета, ради блага общества! Нужно было изъять из среды студенчества самых необузданных и поместить их, то есть вас, в мир дисциплины и порядка, в гущу того самого народа, о котором вы печетесь! Чтобы охолонули, повзрослели, одумались. Ведь не в каторжные же работы вас отдали, не в ссылку отправили!
– Армейская неволя хуже всякой ссылки, – не выдержал Аркадий Львович.
– Это чем же, позвольте спросить? Чем ужасна почетная служба отечеству? Стало быть, парням из крестьян и мещан это хорошо и нормально, а для вас, народолюбов, хуже ссылки? Учиться вы не хотели, так нечего и занимать чужое место! Отсрочка от воинской повинности вам тоже ни к чему. Знаете, я потом проследил за судьбой каждого, кто действительно попал в солдаты, а не спасся медицинской справкой, как вы, господин Знаменский. Ни один из них – слышите вы, ни один – после службы революционером не сделался. Все образумились, все стали полезными и ответственными членами общества. Взять хоть господина Бердышева, одного из столпов отечественной промышленности. – Ознобишин опять, уже не в первый раз, поглядел на Петра Кирилловича особенным образом. – Вас ведь революционером не назовешь? Вы, насколько мне известно, по противуположной части? О ваших политических взглядах мы как-нибудь, быть может, после поговорим, но уж от прекраснодушных-то мечтаний о народопоклонстве солдатская служба вас, я полагаю, излечила?
На некий намек, недвусмысленно читавшийся в словах «насколько мне известно» и «после поговорим», Бердышев только усмехнулся. А генерал повел свою речь, наверняка давно заготовленную, дальше:
– А теперь про мое выступление, которое вызвало такую бурю и превратило меня в объект всеобщей ненависти. Ты что же думаешь, я промолчать не мог, как большинство преподавателей? Не мог, как они, придти потом к тебе втихомолку, чтобы выразить сочувствие герою? Отлично мог. И место бы сохранил, и общественное уважение не потерял. Нет, Марк, я знал, на что иду. На глумление, на свист, на улюлюканье. Однако встал и сказал, что думаю. Не страшась последствий. Говорил я вещи очевидные: что университет должен быть храмом науки, а не рассадником революции. Что студенты должны учиться. Что господам профессорам стыдно и греховно искать легкой популярности у юнцов. Дорогие коллеги усвоили лишь одно: я поддерживаю репрессию. А студенты, когда узнали о моем выступлении, устроили мне кошачий концерт. Вести занятия стало невозможно. Мне пришлось уйти из университета – в никуда, на улицу. Но горше всего было, что ты, мой друг, отказался меня выслушать… Что ж, пускай с двадцатилетним опозданием, но я высказал тебе и им, – Федор Кондратьевич кивнул на остальных, – то, что хотел. И попробуйте сказать, что я был неправ, – после баррикад девятьсот пятого, после волны террора, после губительного раскола, разделившего лучшую часть общества надвое. Это случилось из-за того, что двадцать лет назад вы подвергли остракизму таких людей, как я. Людей, выступавших на стороне Разума.
Он горько покачал головой.
– Это всё. Если желаете мне что-то сказать, господа, теперь ваш черед.
Бердышев пожал плечами, ироническая усмешка все так же кривила его губы. Иннокентий Иванович выглядел взволнованным, всё теребил и без того перекосившийся галстук, но тоже молчал. Панкрат, поймав взгляд Антона, подмигнул.
Однако Аркадий Львович речь политического оппонента без ответа оставить не мог.
– Стало быть, сударь, вы считаете себя тоже в некотором роде политической жертвой случившегося? – язвительно осведомился он. – Однако вы ведь в проигрыше не остались. Сколько мне известно, в признательность за похвальные взгляды вас пригласили на хорошую должность в министерство.
– Это случилось позже и стало для меня неожиданностью. Марк, ты мне веришь?
Клобуков кивнул. Бывшего товарища он слушал очень внимательно, исхудавшее лицо больного было печально.
– Спасибо и на том… – Ознобишин прочистил горло. – Я не хочу, чтобы ты считал меня подлецом. Я не сомневаюсь, что был тогда прав, я уверен в своей правоте, но ты… твое отношение мучило меня все эти годы.
– Федя, я не считаю тебя подлецом, – тихо сказал Марк Константинович. – И я рад, что ты сегодня пришел.
И хоть Знаменский с Бердышевым сердито переглянулись, хоть Татьяна Ипатьевна тряхнула головой, а Римма Витальевна закатила глаза, но спорить с хозяином дома никто не стал. Сулившийся скандал с криками и хлопанием дверью – казалось, неминуемый после едкой реплики депутата – рокотнул да прошел стороной, будто отнесенная ветром грозовая туча.
– Блаженно слово миротворца, – с серьезной миной провозгласил Панкрат и вновь исподтишка подмигнул Антону.
– Танечка, Риммочка, какая я глупая! Я же принесла фотокарточки с нашей ёлки! Я вам покажу, как выросла Настенька! Петя, милый, принеси скорей мою сумочку! – зазвучал мелодичный голосок Зинаиды Алексеевны.
Минуту назад стол был словно поделен невидимой баррикадой: с одной стороны государство, олицетворенное человеком в мундире; с другой – гражданское общество, и схватка казалась неизбежной.
Но вот всё переменилось. Просто сидят мужчины, занимаются исконно русским делом – спорят о России.
Федор Кондратьевич как-то помягчел и выражением лица, и голосом, заговорил не наступательно да оборонительно, а скорей раздумчиво, но не менее убежденно.
– Я, господа, непримиримый враг революций. Ничего кроме беды от общественных бурь не жду. Я за постепенную мирную эволюцию. Вы, интеллигенция, тычете нас носом: нехороша-де самодержавная система власти, ломать надо. Согласен: система далека от совершенства, и мне изнутри это видно еще лучше, чем вам снаружи. А только ведь самодержавие на Руси не извне взялось, оно никем нам не навязано, само образовалось историческим образом. Ничего лучшего, стало быть, наша нация пока не заслужила. Вот он, итог ее естественного развития. И государственная власть, какая она ни есть, это единственная защита нашей цивилизации против дикости и хаоса, против топора да красного петуха. А вы, господа гордые буревестники, уже сто лет под этот столп подкопы ведете, мечтаете его разрушить. Но если вам это удастся, сами не обрадуетесь. Ваша беда в том, что вы судите о России по себе, принимаете желаемое за действительное, всё прекраснодушничаете да собою же и любуетесь. А правда в том, что душа нашей страны вовсе не прекрасна, а груба и жестока. Вас городовой-держиморда раздражает? Охранное отделение возмущает? А уберите-ка держиморду с улицы. Будет погром и грабеж. А упраздните-ка политический сыск. Забыли, как в девятьсот пятом году террористы бомбы кидали, а экспроприаторы с обывателей деньги на революции вытрясали? Ленина в новые робеспьеры желаете?
– Это еще кто такой? – сделал круглые глаза Панкрат. – Робеспьера-то я, естественно, знаю…
– Ленин – эмигрантский вождь, который желает поражения России, диктатуры пролетариата и мировой революции, – объяснил Ознобишин далекому от политики человеку.
«А ведь он прав, – думал Антон. – Все будто с ума посходили, только и разговоров, что о грядущей революции, а какой она будет, никто толком не знает. Сколько было зверства даже в просвещенной Франции, а у нас, вероятно, пугачевщина получится? Но ведь и по-прежнему уже невозможно. Когда все вокруг недовольны и кроют власть последними словами, это ведь добром не кончится?»
– Ну, Лениным нас пугать не надо, – хмыкнул Аркадий Львович. – Кого может увлечь этот сектант? Горстку таких же, как он, параноиков? Большевики совершили политическое самоубийство, когда выступили с антипатриотической программой. Труп этой партии уже унесен волной истории.
– «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца», – продекламировал Панкрат – на него покосились, и он приложил ладонь к губам: молчу, молчу.
Знаменского, впрочем, сбить было трудно. Жестом профессионального оратора он откинул со лба черные волосы с ярко выделяющейся седой прядкой и заговорил тихим, но отлично поставленным голосом, будто рассуждая сам с собой.
– Вот именно. В этом соль: самодержавие – анахронизм, а в истории всё ставшее анахронизмом превращается в зло. Мы – единственная из великих держав, цепляющаяся за эту архаическую форму правления, которая неспособна справиться с задачами современности. Кризис идеи абсолютизма еще явственней из-за того, что наш царь не ужасен. Это такой среднеуровневый Романов: не Петр Великий, но и не Павел Безумный. Человек незлой, неглупый, без особенных пороков, трудолюбивый, спартанец в быту, а всё равно – система не работает. Наша держава и в мирное-то время не выдерживала конкуренции с быстро развивающимися индустриальными державами, а уж в военную годину власть оказалась вовсе негодна к управлению огромной, сложной страной.
Антону казалось, что Аркадий Львович очень точно излагает те самые мысли, которые сам он окончательно сформулировать не мог. И, главное, так спокойно, так весомо – не поспоришь.
– Вы изволили нас иронически обозвать «гордыми буревестниками» и разрушителями, а ведь это неправда.
– В чем же тогда суть программы думской оппозиции, если не в разрушении существующего порядка? – воскликнул генерал, воспользовавшись маленькой паузой, которую сделал оратор. – И кто кроме глупцов или изменников станет разваливать государственную машину, все силы которой уходят на бой с внешним врагом?
Второй вопрос как явно риторический Аркадий Львович проигнорировал.
– Суть нашей программы – самая что ни на есть глубинная – в том, чтобы создать государство, которое будет пробуждать в человеке лучшее, а не худшее: самостоятельность, ответственность, разумность. Мы, либералы в самом широком понятии, верим в Человека, а вы, державники, – нет, не верите. Именно в этом наше коренное различие. Но в этом давнем историческом споре вы так или иначе обанкротились. Ваша власть падет неизбежно. Вы ее уже упустили. Вы несетесь по рытвинам, очертя голову, потеряв узду и стремена! С минуты на минуту ваш безумный галоп закончится падением! И себе шею свернете, и лошади-России хребет переломите!
Ах, как замечательно говорил Аркадий Львович! Недаром в довоенные времена на его выступления в суде ходили, как на спектакль, заранее посылая прислугу занимать места. Начав плавно, минорно, Знаменский сам, подобно разогнавшемуся всаднику, набрал скорость и аллюр – идеальную, похожую на полет стрелы иноходь.
– Не доводите же до этого, господа правители! Это вы тащите Россию к революции – не мы! Вы растеряны, вы не знаете, как управлять. Вы не можете управлять. Так отойдите в сторону, не мешайте! Мы – знаем, мы – можем. Притом ведь мы не самозванцы и не распутинские назначенцы. Мы – народные избранники! У вас еще остается шанс передать власть лучшим людям России, честным, знающим, целеустремленным. Всего-то и требуется, что учредить ответственное министерство. Чтобы за ход войны отвечала Дума, а не монарх. Нужно вывести царя из-под удара, ибо ныне он превратился во всероссийского козла отпущения. А как могло быть иначе? Николай – главнокомандующий армией, которая терпит поражение за поражением. Царица управляет тылом, в котором творится безобразие. Вы хотите спасти династию? Так отберите у нее рычаги управления. Пусть император с императрицей знаменуют собой единство нации, перерезают ленточки, ухаживают за ранеными, показывают образец семейной жизни. Распутина, слава Богу, больше нет, можно потихоньку заняться восстановлением подорванного престижа. В правительство мы посадим не лакеев, вся заслуга которых в личной преданности царице, а людей государственного ума, пользующихся народным доверием. Общество этих людей знает, они все на виду. И тогда обойдется без гильотин, без «аристократов-на-фонарь», без помянутых вами красного петуха и топора. Мы договоримся со всеми, кто согласен договариваться. Мы создадим широчайшую коалицию, необходимую в условиях войны. На период переустройства внутригосударственной жизни придется перейти к обороне. Ничего, Россия уже внесла более чем щедрую лепту в общее дело. Мы призовем Европу остановить ужасную бойню. Пусть свет и разум воссияют с Востока! А коли враг не внемлет нашему зову, мы превратим войну в истинно отечественную, заручившись пониманием и поддержкой всего народа. Перед этой силой ничто не устоит!
Здесь Бердышев сделал нетерпеливое движение, кажется, желая возразить, но оратор не позволил – его речь приближалась к кульминации. Остановив Петра Кирилловича взмахом ладони, Знаменский обрушил на Ознобишина последний залп:
– Но уж если вы по упрямству и безголовости доведете Россию до революции, вся историческая ответственность ляжет на вас! Время уходит, скакун несется всё стремительней, а вы бьете по рукам тех, кто пытается схватить его под уздцы! Мы, интеллигенция, конечно, попробуем спасти Россию и при революции, но задача наша станет во сто крат трудней, когда рухнет государственная машина. В условиях тяжелейшей войны это может привести к поражению с необратимыми последствиями – вплоть до гражданской междоусобицы. И тогда Россия повернет не к свету, а во тьму, и в человеке пробудятся не лучшие качества, но худшие… Я, надеюсь, ответил на вопрос о нашей программе?
Это был классический прием Знаменского: поднять градус речи до высокого эмоционального накала, а потом завершить выступление на спокойной, рассудительной ноте, обезоруживающей оппонента.
На Ознобишина это, кажется, подействовало. Он выслушал депутата, сдвинув брови и глядя на скатерть, а финальный вопрос оставил без ответа. То ли нечего было возразить, то ли не желал ввязываться в бесплодную полемику.
Но не смолчал Бердышев.
– Я с тобой, Аркадий, категорически не согласен. К какому миру собираешься ты призывать страну, которая пожертвовала жизнью и здоровьем миллионов своих сыновей? Что ж, все эти жертвы, по-твоему, были напрасны? Списать, забыть? – Петр Кириллович с трудом сдерживался. Зинаида Алексеевна обернулась на мужа и нежно ему улыбнулась. Бердышев кивнул ей: всё, мол, в порядке, не беспокойся. – Нет уж, господа либералы. Кровь, горе и слезы будут хоть как-то оправданы лишь в том случае, если в результате войны Россия скинет с шеи удавку турецких проливов, которая душит нашу торговлю и не дает стране нормально развиваться. Нечего прекраснодушничать. Мир жесток, в нем побеждает тот, кто сильнее и жизнеспособней. Этим природным законом руководствуются все ведущие державы планеты. Было бы идиотизмом и преступлением вести себя иначе!
– И с такими взглядами вы являетесь противником существующей власти? – спросил Федор Кондратьевич, с любопытством рассматривая промышленника.
– Да! И еще более непримиримым, чем господа прогрессисты, – кивнул Бердышев на Знаменского. – Только я вашу власть обвиняю не в жесткости, а совсем наоборот – в мягкотелости. Некрепко узду держали, потому всё и профукали. Вы, милостивый государь, давеча верно сказали, что мне солдатчина на пользу пошла. Она мне мозги прочистила. Нет никакого равенства. Братство есть, а равенства нет! Но у братьев младшие слушаются старших, беспрекословно. Стране после японского позора нужна была жесткая диктатура, и Бог послал вам Столыпина, сильного человека, а вы его, как Христа, предали и отдали на распятие. Правили вы зигзагами, непоследовательно. И полюбить себя не заставили, и напугать не напугали. Из-за этого в небывало страшную войну мы вошли расхлябанными, неготовыми. Кто в этом виноват? Вы и ваш самодержец, слабый человек! Слабый – уйди. Как чувствительно вы тут про царицу и Распутина излагали! А я так скажу: если правитель не может поставить долг выше личного, пусть отрекается от престола! России нужна твердость. Дисциплина. Страх, в конце концов! Дезертиров расстреливать безжалостно. Забастовки запретить – по законам военного времени. Сопротивляющихся – карать. Вплоть до смертной казни.
– Вот это правильно, – поддакнул Рогачов. – Пусть сволочь пролетарская знает свое место.
– Рабочие не сволочь! – Петр Кириллович, не выдержав, сорвался на крик. – Не передергивай, Панкрат! Я этого не говорил! Сволочь те, кто морочит рабочим голову демагогическими лозунгами. И вот этих надо травить, как тифозных вшей!
Жена Аркадия Львовича, давно уже смотревшая не на соседок, а в сторону стола, воскликнула:
– Люди не вши! А тот, кто призывает карать ближних смертной казнью, нарушает Христовы заповеди! Россию можно завоевать только любовью!
Бердышев уже взял себя в руки, потух.
– Я не христианин, – пробурчал он. – Для меня ближние – те, кого я знаю и люблю, а все прочие – дальние. И Россию вашу я не люблю, потому что любить ее пока не за что. Мутная страна, бестолковая, неграмотная и не желающая ничему учиться. А впрочем…
Махнул рукой, не договорил.
Но Антон отлично понял, что хотел сказать Петр Кириллович, в отличие от Знаменского не заботящийся, понравится он слушателям или нет. «Не люблю Россию, ибо не за что»! Как просто и как смело сказано! А в самом деле, за что любить страну, которая никого, в том числе самое себя, не любит? Выйди-ка в любое место, где толпится простой люд, посмотри на них, послушай, понюхай – и спроси себя: «Любишь ты этих грязных, сквернословящих, пахучих, нетрезвых?» Да ответь честно. А они ведь и есть Россия. Но… ведь это, наверное, неправильно – не любить свою родину?
Заговорил Марк Константинович, и сразу стало очень тихо.
– Петр, проблема России не в косности, нежелании учиться или, как вы выразились, бестолковости. Просто население нашей страны пока находится в детском состоянии. В совсем детском, когда ребенок еще не знает грамоты, в лучшем случае умеет читать по складам. Да, наш народ – ребенок. Дети эгоистичны, невоспитанны, нечистоплотны, иногда жестоки, а главное не способны предвидеть последствия своих поступков. Их легко научить и хорошему, и скверному. А тебе, Примус, я хочу сказать вот что… – Он поднес к губам платок, на лбу вздулась жила. В горле зарокотало, но обошлось без приступа. – Историческая вина правящего сословия заключается в том, что оно плохо развивало и образовывало народ, всячески препятствовало его взрослению. Притом из вполне эгоистических интересов. Ведь дети послушнее, ими легче управлять. Можно не объяснять, а просто прикрикнуть, не переубеждать, а посечь розгами, можно не слушать их требований, высказанных косноязычным детским лепетом. Вот чем объясняется, в частности, гнусный запрет министра Толстого принимать в гимназию «кухаркиных детей». И позорное для европейской страны отсутствие всеобщего обязательного образования. Кто спорит – с подростком дело иметь труднее, чем с ребенком, а с юношей трудней, чем с подростком. Но не пройдя через эти естественные стадии роста, народ не станет взрослым. Реакционеры желали вечно сохранять низший класс в младенческом состоянии, держать замотанным в тугие пеленки. И у них это долго получалось. Но великовато дитятко, силы у него много, пеленками не удержишь. И когда русский великан с мозгами восьмилетка распрямится во весь свой гигантский рост, произойдет катастрофа – а виноваты будете вы, взрослые, образованные, наделенные властью и не справившиеся с нею.
– Золотые слова! – воскликнул Аркадий Львович. – Я рад, учитель, что вы со мною согласны!
Но Марк Константинович качнул бородой:
– Демократы – это другая крайность. Вы хотите народу-ребенку разом предоставить права взрослого человека. Ничего хорошего из этого не получится. Не может существо с неразвитым умом, не ходившее даже в начальную школу, само решать свою судьбу.
– От вас ли я такое слышу? – горестно вскричала Римма Витальевна. – Неужто вы противник демократии и народовластия?
– Не противник, нет. Но я думаю, что время политики для России еще не настало…
Сам поняв, что выразился неудачно, неясно, Марк Константинович запнулся. Все смотрели на него с напряжением: раскашляется или продолжит?
– Я хочу сказать, что наша миссия, миссия интеллигенции, на данном этапе – не призывать народ к гражданственности, ибо всё равно не поймут или поймут неправильно… Надобно быть педагогами и воспитателями. Не столько даже словесно, сколько давая образец нравственного поведения и честной работы, личного достоинства, бескорыстия. Не urbi et orbi, а тем, кто находится непосредственно вокруг тебя.
– Теория малых дел? – протянул Аркадий Львович. – Слыхали, слыхали.
Антон тоже был разочарован. Он ждал от отца более яркого и значительного мнения, которое перевесит все остальные. Потеряв место на кафедре, Марк Константинович больше не возвращался в науку. Двадцать лет, лучшие годы жизни, он тянул лямку поверенного по уголовным делам, берясь только за безгонорарные, по назначению суда, то есть защищая самых неимущих, самых бесправных. Но Антон всегда думал, что главные свершения отца впереди, что вся эта общественно полезная, но мелкая, такая мелкая деятельность – не более чем подготовка к чему-то крупному, историческому. А оказывается, это и было то самое Дело, которому Марк Клобуков отдал ум и сердце, всю свою жизнь?
– Когда многие делают малые дела, вместе получается большое, – всё так же тихо сказал отец. – Беда в том, что нас для такой огромной страны недостаточно. Как у Чехова – три сестры на целый город. Требуется много лет кропотливой, неустанной работы. Даст ли России история столько времени? Сомневаюсь. А как иначе – не знаю. – И закончил уже почти совсем шепотом, сконфуженно. – Но это уже…
Последнюю коротенькую фразу он прошелестел одними губами. Антон ее не расслышал – угадал. И понял. Отец хотел сказать: «Но это уже меня не коснется».
Глаза заволокло. Чтоб не расплакаться при всех, Антон попятился в коридор и там, невидимый остальным, стряхнул слезы.
Нет, нет, неправда!
В гостиной звучал тонкий голос обычно молчаливого Иннокентия Ивановича. Он говорил взволнованно, но уж совсем не в лад. Судя по скрипу стульев и возобновившейся женской беседе, публициста-богослова не очень-то слушали.
– Грядет испытание, которое ниспосылает человечеству Господь, – торопился сказать наболевшее Бах, – испытание тяжкое, но необходимое. И какое сообщество людей – будь то страна или сословие – больше нагрешило, тем экзамен строже. Вот мы жалуемся на тяготы войны, а я знаю, что главные злосчастья еще впереди. Ужасные напасти ждут и нашу многогрешную Россию, и каждого, каждого. Не останется ни единой семьи, ни единой души, которая минует это горнило, и многие погибнут, а другие, и их будет еще больше, выживут телом, но погибнут душой, и это ужасно, ужасно, но без этого нельзя, потому что жизнь – это выбор между Добром и Злом, каждодневный, каждочасный, и он нелегок, ох как нелегок, но без выбора не будет очищения… – Иннокентий Иванович так расчувствовался, что даже всхлипнул. – И поэтому я не ропщу, я принимаю и понимаю. Но даже когда не понимаю, тоже не ропщу, потому что мой земной разум ограничен, и нужно верить, нужно верить! Слышите? Только этим и спасемся. Когда сильные бессильны, а рассудочные безрассудны, остается одна лишь Вера. Ах, что я говорю – «одна лишь», будто этого мало? Много, очень много! Вера – единственное, что не подведет, не предаст и не сломается в любых испытаниях.
При всей маловнятности и даже бессвязности этой проповеди, произнесенной не к месту и не ко времени, на Антона она подействовала. Не своим смыслом (что никакого Бога нет, Антон знал), а искренностью и страстью. «Вот так, наверное, говорил и князь Мышкин, взывая к равнодушным, насмешливым слушателям», – подумал он и тут же укорил себя: отец не из равнодушных, и мать, да и остальные.
– Слушай, Кеша, не наваливайся на меня так. У тебя, извини, изо рта пахнет, – сказал бесцеремонный Бердышев. – Сходи к дантисту. Я тебе телефон дам, скажешь, что от меня. Если у тебя туго с деньгами, я велю записать на мой счет. После сочтемся.
– Прости… Да-да, зубы ужасные, – забормотал Бах. – Я знаю, мне говорили…
– А что ж господин Михайлов всё отмалчивается? Тут у каждого есть свое мнение о России, так неужто у вас нет? Это было бы оригинально.
Вопрос задал Ознобишин.
Антон, уже шедший к себе, приостановился.
Ну-ка?
– Россия – девка с норовом, – коротко ответил Панкрат. – Коса длинна да ум короток. Ей крепкий мужик нужен, а таковых окрест что-то не видно.
Странный человек. Всё б ему отшучиваться.
Уединиться Антону захотелось, чтобы разобраться в мыслях. Слишком много идей после услышанного теснилось в голове. Кто прав, кто неправ? Что будет? Ведь только в одном все согласны: что-то непременно будет, что-то страшное и значительное. Скоро.
Он вошел к себе, прикрыл дверь, но о важном подумать не получилось. Поманил хромовым блеском и масляным запахом лежащий на столе фотоаппарат.
Несколько минут Антон возился с ним, заглядывая в англоязычную инструкцию. Наладил магниевую вспышку. Для пробы снял натюрморт: бронзовая чернильница, поделенная светом и тенью надвое тетрадь. Но натюрморт – скучно.
Попробовал сфотографировать себя в гардеробном зеркале. Получится? Нет, запечатлелась одна вспышка.
И здесь ему пришла в голову чудесная идея. Нужно сделать памятное фото родителей с гостями! Как это он сразу не сообразил?
Когда он снова вышел в коридор, стало ясно, что момент для съемки неподходящий.
– … Оставьте свои жандармские повадки для службы! – непримиримо чеканил Бердышев. – Вы всё время будто на что-то намекаете. На что? В чем вы меня подозреваете? Говорите прямо!
– Что это вы так, любезный Петр Кириллович, раскипятились, – холодно, врастяжку шелестел Ознобишин. – Мания преследования? Или замешаны в чем-нибудь предосудительном? Я всего лишь спросил, удалась ли ваша поездка в Тифлис.
– Не ваше дело! Если хозяин дома позволил вам остаться, это еще не значит, что мы…
– Петр, Примус! Молчите! Молчите оба! – И голос отца сорвался, раздался мучительный, неостановимый кашель.
Мать:
– Марк, выпей микстуру! Ах, не мешайте же!
Но приступ всё не кончался.
Войдя, Антон увидел: отец давится кашлем, мать одной рукой обнимает его за плечи, в другой – стакан, но больной не может выпить лекарство, лишь сжимает и разжимает пальцы откинутой руки. Мужчины стоят, Зинаида Алексеевна с Риммой Витальевной тоже вскочили, и лица у всех сострадательно-несчастные.
Вдруг Марк Константинович запрокинул голову, перестал кашлять, замычал, быстро зажал ладонью рот, и меж пальцев засочилась темная, почти черная кровь.
– Папа! – вырвалось у Антона.
Такого сильного горлового кровотечения он еще ни разу не видел. Что делать? Что делать?
– Сплевывать, потом голову назад! – быстро сказал Панкрат. – Я такое видел. Сплевывать – и назад. Сейчас кончится.
И правда, через минуту кровь течь перестала.
Мать вытерла больному бороду, прикрыла забрызганную грудь пледом. Марк Константинович сконфуженно улыбался.
– Прошу простить за мелодраму. Мне совсем нельзя кричать. Ну что вы все на меня так смотрите? Ерунда, обычное дело для чахоточного субъекта. Такая у нас работа – перхать да кровью харкать.
– Господи… – Зинаида Алексеевна прижимала ладони к побледневшим щекам. – Вам нехорошо, вы еле держитесь, а они со своими чугунными разговорами. Еще бранятся! Стыдно, господа!
– Ты права. Это я виноват, – покаянно повесил голову Петр Кириллович.
– Нет-нет, Марк, никто не бранится. – Примус часто хлопал ресницами, что совсем не шло к его строгому, аскетичному лицу библейского первосвященника. – Обычная дискуссия.
– Ну и хорошо. Не нужно ссориться… сегодня. – Марк Константинович поглядел на сына и ободряюще подмигнул: всё в порядке, всё позади. – Что это у тебя, Антоша? Фотокамера? Откуда?
– Петр Кириллович подарил.
– Так, может быть, снимешь нас, на память?
– Прекрасная идея! – подхватила Бердышева. – Только дайте минутку…
Отошла к зеркалу, стала поправлять безупречно сидящий жакет, взбивать перламутровым гребешком и так пышные завитки волос.
Римма Витальевна руководила расстановкой стульев – так, чтобы больной мог остаться в своем кресле, а все расположились вокруг него.
– Плед долой, – велел Марк Константинович, расправил плечи, до самого горла застегнул куртку, чтоб не было видно испачканную сорочку.
Мужчины встали позади кресла, дамы сели – Татьяна Ипатьевна неохотно, она всё смотрела на супруга и хмурилась. Хотела, чтоб гости поскорее ушли, и не скрывала этого.
– Раз – два – три!
Одновременно со вспышкой Антон нажал кнопку затвора.
– Ну Панкрат Евтихьевич! Зачем вы повернули голову?! Придется магниевый порошок менять!
– Не образумлюсь, виноват. – Рогачов развел руками. – Мне же хуже. Дорогие гости, не пора ли нам восвояси? Дадим Марку Константиновичу покой.
И все сразу засобирались.
Хозяин дома не пытался их удерживать, просто смотрел с мягкой, печальной улыбкой и каждому поочередно кивал. Но вдруг случилось что-то с Татьяной Ипатьевной. Казалось, нетерпеливо ждала, когда больного наконец оставят в покое, а тут чего-то испугалась. Заметалась в коридоре, запричитала:
– Ах, что же вы? Еще рано! Побудьте еще!
Женщина она была большой выдержки, чувства проявляла скупо. Антон мать такой никогда не видел и сильно удивился.
Татьяна Ипатьевна уговаривала гостей до того молящим голосом, что те стали останавливаться. Но Клобуков тихо, твердо сказал:
– Нет-нет, Таня. Я устал. Пора.
И мать умолкла, будто обессилела.
Ее отвели в сторону женщины, зашептали что-то настоятельное.
– …Превосходный специалист, светило европейского масштаба, – гудела Римма Витальевна.
Зинаида Алексеевна, поглаживая хозяйку по плечу, предлагала ехать в Мисхор, где у них с Петром дача со всеми-всеми удобствами.
Слушала Татьяна Ипатьевна или нет, было непонятно. Она тускло глядела на обои: там плыли по волнам синие голландские кораблики и щекастый бог морей дул в раковину; на краю, близ дверного косяка, виднелись карандашные отметины – когда-то, по дням рождения, здесь измеряли, насколько Антон вырос за год.
– Да-да, спасибо. Мы подумаем про дачу… Конечно, запишите номер, – сказала она женщинам и внезапно направилась к Ознобишину, надевавшему свое форменное пальто.
– Как ваше здоровье? – спросила она громко.
Генерал удивился. Весь вечер хозяйка смотрела на него с нескрываемой враждебностью.
– Не жалуюсь.
– Рада за вас. Знаете, а ведь это из-за вас он умирает. У него с детства слабые легкие, а вы загнали его в Сибирь. Там он и заболел.
Стало очень тихо. Даже Антону было понятно, что обвинение несправедливо.
– Мама… – Он положил ей руку на плечо и почувствовал, что оно дрожит.
Ознобишин и возражать не стал, лишь тяжело вздохнул. Неловко поклонился, вышел первым.
Следом – остальные. Каждый на прощанье говорил Татьяне Ипатьевне что-то сердечное, но опять было не понять, слышит она или нет.
С Антоном же попрощался один Панкрат.
– Береги отца, парень, – сказал он на ухо. – Жалко будет, если помрет и не увидит, какие интересные дела начинаются. А сам живи, да не будь дураком. Гляди в оба, мотай на ус.
Последним уходил Бах, неохотно. Всё порывался остаться.
– Вы устали. Я посижу с Марком Константиновичем, а вы отдохните, вам обязательно нужно отдохнуть. Вы не беспокойтесь, я всё умею. Я же нарочно фельдшерские курсы… И укол, если понадобится. У меня рука легкая, все в госпитале говорят…
Но в конце концов Татьяна Ипатьевна выпроводила и его.
– Только об одном молю. Не впадайте в отчаяние. Поверьте, всё имеет смысл, всякое страдание. Нужно быть стойкими… – пролепетал Иннокентий Иванович уже в закрывающуюся дверь.
– Иди спать, Антон. Поздно уже. Спокойной ночи, – ровным голосом произнесла мать, когда они остались вдвоем.
– Хорошо. Только с папой попрощаюсь.
– Не нужно. Он совсем выбился из сил.
Настаивать Антон не стал. Ему и самому хотелось поскорее уйти к себе. Слишком много впечатлений для одного вечера. И с фотоаппаратом еще до конца не разобрался.
На пустой улице ветер косо гнал мелкие снежинки – белым пунктиром по черно-синему. Свет фонаря бликовал на черных боках автомобилей. Их перед парадной скромного клобуковского дома стояло аж три: официальный «паккард», мощный «астон мартин» и демократичный «форд».
– Что ты застрял? – прикрикнул на Баха через поднятый каракулевый воротник Бердышев. – Тебе куда ехать? Извозчика сейчас не найдешь. Я на Васильевский. Если по пути, подвезу.
– Нет, – ответил Иннокентий Иванович, ежась в своем драпчике. – Я за Николаевским вокзалом живу.
– Ну тогда Аркадий тебя возьмет. Он и мою Зину домой забросит. Всё, помчался.
Петр Кириллович пожал руку супругам Знаменским, Баху, Рогачову и даже не взглянул на Ознобишина, который не спешил сесть в свой «паккард», хотя порученец держал перед ним дверцу открытой. Жену Бердышев поцеловал в щеку, что-то шепнул.
Быстро сел рядом с шофером.
– Поехали!
Рыкнув двигателем, «астон мартин» унесся в белую пыль.
– Благодарю, но мне домой еще рано, – сказал депутату Бах. – Мне тут… недалеко. Я ничего, я пешком пройду.
И, разом всем поклонившись, согнулся, засеменил по скрипучему от снега тротуару, тоже исчез.
– Вы сейчас куда? – спросил Панкрат у тайного советника, оглядываясь по сторонам.
– На Морскую, в министерство. Мы, слуги реакционного режима, работаем и по ночам.
Федор Кондратьевич смотрел вверх, на освещенные окна Клобуковых. Очки посверкивали, глаз было не видно.
– Отлично! Прихватите?
– Сделайте милость.
Знаменский удивился:
– Ты что, Панкрат? Зачем? Довезем, куда велишь. У меня Римма знаешь, как шоферит? Заодно расскажешь, как ты и что. Ведь тысячу лет не виделись.
– Нет-нет. Я с его превосходительством. Пока, увидимся.
Помахав рукой, Рогачов юркнул в «паккард», мимо секретаря, адъютанта, помощника – по шинели военного кроя, но без погон и фуражке с кокардой, но без околыша, было непонятно, что за птица сопровождает члена министерского совета. Пришлось служивому человеку обойти автомобиль и открыть начальнику дверцу с другой стороны.
Тем временем «форд» уже тронулся. Римма Витальевна с видимым удовольствием натянула кожаные перчатки с крагами, дунула в клаксон, лихо стартовала. Она была одной из первых женщин-шоферок Петрограда и очень этим гордилась.
Когда от парадной отъехало – самым последним – авто Ознобишина, оказалось, что ночная улица вовсе не безлюдна.
На противоположной стороне из подворотни высунулись двое: один в смушковом «пирожке», второй в заячьей ушанке.
– Видал? – сказал первый. – С тайным советником Ознобишиным укатил. Каково?
– Чё делать будем, дядя Володя?
Первый негромко свистнул, сложив пальцы кольцом. Из-за угла выкатила пролетка, у кучера на плечах и шапке насыпало горку снега.
– Есть приказ выяснить объекта «Веселый»? – крикнул «пирожок», вскакивая на подножку. – Есть. Значит, сполняй. Садись, Филька, не задерживай! Гони, Красиков. По снегу мы быстрей керосинки помчим, не Уйдет.
– А как же генерал?
– Видно будет…
Белые комья из-под копыт, фырканье застоявшихся рысаков. Растаяла в начинающейся метели и пролетка.
– Не понимаю Таню. Она всегда такая сильная, деятельная, а тут совершенно раскисла. – Римма Витальевна уверенно вела машину, объезжая снежные заносы. Когда навстречу, из-за угла Моховой, выехал грузовой «студебеккер», строго посигналила ему. – Нужно не сидеть сложа руки, а спасать его! Мы живем в двадцатом веке. Есть новые медикаменты, есть революционные методики. Завтра же возьму Таню в оборот.
Аркадий Львович хмуро глядел в окно, постукивал ногтем по стеклу.
– Не поможет. Марк Константинович умирает. Я знаю, мой дядя уходил так же. Остались считанные дни… Какая утрата. Я даже не про смерть говорю, все мы смертны. Я про жизнь, ушедшую на пустяки. А ведь какой человек! Чистый, свободно мыслящий, образец истинно русского альтруизма! Сын декабриста, благороднейший продукт естественной эволюции национального характера…
Он подумал: «Да-да, именно про это и написать в некрологе – про преемственность русской альтруистической традиции» – и смутился от неприличной мысли, замолчал.
– Что вы такое говорите! – ахнула Бердышева. – Его срочно нужно в Крым! Петроградская зима его убивает! Она и здорового человека может в могилу свести. У меня Настюша второй месяц в нескончаемой простуде. А в Мисхоре морской воздух, вдохнешь – и легкие сами расширяются. Риммочка, едемте к Клобуковым вместе, прямо утром.
– Решено, – кивнула Знаменская. – Я привезу профессора Штамма, а вы отправьте телеграмму прислуге в Крым. Кролик, ты достанешь бронь через думский секретариат? Нужно целое купе. Возможно, они захотят взять сына. Какой серьезный мальчик, совсем взрослый. Не то что наш Витя. – Она вздохнула и тряхнула головой, отгоняя вечную мысль об одном и том же: только бы война закончилась прежде, чем его выпустят, только бы он не попал на фронт. – Так что, встретимся в десять перед их домом?
– Давайте в половине двенадцатого. У меня с утра примерка. Риммочка, поверните лучше вот здесь, а то на Литейном разобрали трамвайные пути.
Зинаиду Алексеевну высадили перед особняком, мраморное крыльцо которого было освещено золотыми шарами. И сразу заговорили о важном. От жены у Знаменского секретов не было.
– Ты видела, как он на меня смотрел?
– Ознобишин? Нет, он же сидел ко мне спиной.
– Так и сверлил глазами. Знают, всё знают, – озабоченно теребил эспаньолку Аркадий Львович. – Просто боятся скандала. Не решаются нарушить депутатский статус.
– Пускай нарушат. Это лишь ускорит события. Долго в тюрьме ты не пробудешь. Может быть, получится даже лучше.
Супруги понимали друг друга с полуслова, не было нужды проговаривать всё до конца.
У Аркадия Львовича, занимавшего очень хорошую, стратегически выигрышную позицию «левого прогрессиста», посередине между кадетами и эсерами, имелся один существенный минус. Он никогда не сидел в тюрьме и даже не был в ссылке. Давняя студенческая история завершилась всего лишь временным отчислением из университета, а после Выборгского воззвания он проявил недальновидность – не вернулся с другими мятежными депутатами в Петербург, переждал грозу в Финляндии. Подумаешь, отсидел бы три месяца, ничего страшного, зато теперь мог бы рассчитывать на большее, чем пост товарища министра юстиции, и то еще под вопросом.
– Жаль, я не могу пойти на совещание с тобой, – сказала Римма Витальевна. – Всё-таки это гадость, что средь вас нет ни одной женщины!
Встреча членов будущего кабинета назначена на половину второго ночи, дома у Георгия Евгеньевича. Только посвященные, никого лишнего. Знаменский расскажет о поездке на фронт – о конфиденциальной беседе с великим князем. Она прошла не идеально, но и не провально. Михаил сделал вид, что не уловил сути осторожно сформулированного предложения, но на самом деле всё отлично уразумел. И не возмутился, не устроил сцены. Это важный этап – и для Дела, и для статуса Аркадия Львовича. Кроме того, сегодня должен окончательно определиться состав будущего ответственного кабинета…
– Я знаю, ты хочешь занять этот пост не из честолюбия, – сказала умная, всё понимающая жена. – Просто ты талантливее их всех и лучше вытянешь неподъемный воз.
– Уместней было бы сравнение с чисткой Авгиевых конюшен. – Он достал часы. – Еще рано. Правильно будет приехать с десятиминутным опозданием. Пусть немного подождут. Покатаемся? Люблю ночной Питер. Потом отвезешь меня и езжай домой. Раньше утра не вернусь.
Машину вел штабс-капитан Фелонов из отдела военно-технической экспертизы, верный человек, посвященный во все детали. На предстоящую встречу своего обычного шофера, тоже надежного, но постороннего, Бердышев брать не стал.
– Не мог раньше, – коротко сказал Петр Кириллович. – Обстоятельства. Ничего, успеем.
По дороге с вокзала к дому Клобуковых у них с Фелоновым был серьезный разговор, оставшийся незаконченным. Штабс-капитан сообщил, что полиция арестовала Рабочую группу и произвела обыск на Литейном, где располагался Центральный военно-промышленный комитет. Особенно полиция интересовалась командировкой завсекцией средств связи Бердышева. Только и успели обсудить одну эту тревожную новость, на остальное не хватило времени.
Повернув за угол, Фелонов кашлянул, погладил перчаткой английские усики. Он, как и пассажир, был человек сдержанный.
– Хм. Правильно ли я разглядел? Это был Ознобишин?
– Он.
Штабс-капитан покосился на Петра Кирилловича.
– Вряд ли это случайность.
– Именно что случайность. – Бердышев взял из портсигара с алмазной монограммой папиросу, другую протянул водителю. С презрением пожал плечами. – Ерунда. Тонкие намеки на толстые обстоятельства. Ни на что они уже не способны. Всё знают, а сделать ничего не могут, импотенты. И членов Рабочей группы выпустят – завтра, самое позднее послезавтра. Сразу после протестов в прессе.
Он не высказал всё, что хотел, у Клобуковых, потому что там были чужие. Со своим – иное дело.
– Мать их тра-та-там! – выругался Бердышев, что случалось только в минуту сильного раздражения. – Разве так надо страной управлять, в военное-то время? Железная воля нужна, решимость – за это всё простят! Россия любит погорлопанить про свободы, а на самом деле порядка хочет. Обыск они, видите ли, устроили. Кучку статистов арестовали. Ох, я бы на месте Николашки… – Он задохнулся от негодования, начал загибать пальцы. – Говорильню думскую прикрыть, это первое. Вожаков под домашний арест. В столице ввести особое положение, комендантский час. Рабочих оборонных заводов – на казарменное. Если забуянят – еще лучше. Можно будет выявить и изъять вожаков, остальные сразу притихнут. Солдат из запасных батальонов – на фронт, без оружия, малыми группами. А вместо этой бесполезной и даже опасной оравы бездельников снять с фронта одну казачью дивизию, все равно сейчас зимнее затишье. Сразу в Петрограде порядок будет! Ну и с пекарнями, конечно, порядок навести. Что это, в самом деле: муки полно, а с хлебом перебои?
Каждый раз, когда Бердышев загибал палец, капитан кивал. А Петр Кириллович простонал:
– Э-эх, ведь возможно пока еще бескровно решить. Или совсем малой кровью. Когда вся жизнь империи сосредоточена в столице, порядок навести – плевое дело. Но ни черта не сделают, кретины никчемные. Прошляпили и власть, и Россию…
– Что Никник? – осторожно спросил Фелонов про главное. Пока ехали с вокзала на Пантелеймоновскую, к Клобуковым, не решился. Всё ждал, не заговорит ли Бердышев сам.
Петр Кириллович скривился.
– Юлит. Тоже слаб. Если, говорит, Богу будет угодно и обстоятельства сложатся так, что страна меня призовет… Так-то орёл, а в политическом смысле трусоват. Тут ведь другая смелость требуется… Ладно, сейчас всё обсудим и решим. Вы жмите на газ… В сущности, он прав, – сказал Бердышев уже не капитану, а самому себе. – Страна детей. Сверху донизу инфантилизм и безответственность.
– Кто «он»? Кто прав?
– Неважно…
– Вы, господин Михайлов, стало быть, учились в Технологическом? – спросил Федор Кондратьевич, откидываясь на мягкую спинку. – Однако Марка Константиновича знаете?
– Лекции слушал. Очень уж хорошо Марк Константинович читал. – Панкрат зачем-то оглянулся, посмотрел через заднее стекло. – Но я недолго поучился.
– Вы, собственно, по какой линии… жительствуете?
Голос тайного советника был рассеян, на спутника Ознобишин не глядел. Зато лже-Михайлов покосился на генерала взглядом весьма сосредоточенным и ответил без обычной уклончивости и полунасмешки:
– Я, ваше превосходительство, в настоящее время живу в Москве, в Песчаных, а служу по чаеторговой части, экспедитором. Работа у меня – сплошные разъезды. Сейчас вот сопровождал груз из Кяхты. Это легко проверить.
Федор Кондратьевич устало засмеялся:
– Господь с вами. Делать мне больше нечего… Это вы филиппик господина Бердышева наслушались. Вы в какую сторону?
– Да уже приехал. Велите остановить сразу за углом, – сказал Панкрат, видя, что автомобиль поворачивает.
И вылез из машины очень быстро, а попрощался того быстрей.
– Благодарю, ваше превосходительство. Доброго здоровьица.
Добежал, сгибаясь под всё усиливающейся метелью, до чернеющей вблизи арки, и пропал.
«Паккард» поехал дальше.
– Николай Афанасьевич, – обратился тайный советник к секретарю, неподвижно сидевшему рядом с шофером. – Как доедем, позвоните-ка генералу Глобачеву. Он наверняка на месте. Ну, не он, так помощник… Пусть поднимут дело 1897 года об исключенных студентах и посмотрят, проходил ли там некто по имени Панкрат, фамилия неизвестна.
Скользкий тип, думал Ознобишин. Верно, тоже какой-нибудь заговорщик. Сейчас все заговорщики. И ничего с ними не сделаешь. Половину страны не арестуешь. Только и остается – приглядывать да припугивать, чтоб не зарывались. Не больно-то они нынче и припугиваются…
После возбуждения и облегчения (все-таки объяснился с Марком, скинул камень с души) вернулось всегдашнее состояние апатичной обреченности.
Эх, господа обличители, кабы вы знали, до какой степени скверны дела! Рыба гниет с головы, и у нашей чудо-юдо-рыбы-кит башка совсем протухла. Говоришь министру: «Александр Дмитриевич, нельзя вводить хлебные карточки! Слово „хлеб“ на Руси сакрально, будет тотальная паника». Смотрит снисходительно, толкует про германский опыт продовольственного нормирования. Как будто мы ста сорока миллионами законопослушных немцев управляем! Говоришь: «Александр Дмитриевич, нужно срочно выводить из города запасных. Ведь их сто шестьдесят тысяч, куда столько? Это пороховая мина. Того и смотри взорвется!» А он в ответ: «Знаю-знаю. Мистер Саттерлей, мой лондонский оккультист, предупреждает, что надобно опасаться 14 и 27 февраля, нехороших для меня дней. Но он же и подсказал средство, как уклониться от опасности». Ну что будешь делать с полоумным?
Правы краснобай Знаменский и зубастый волк Бердышев, тысячу раз правы. Уж себе-то можно признаться. Мы виновны, все виновны, включая и меня. Взялись за гуж и не вытянули, оказались недостаточно сильны, умны, дальновидны. Потому и рассыпаемся в прах – и не под внешними ударами, а изнутри, от собственной трухлявости.
Члены императорского дома, кому надлежит быть опорой престола, интригуют. Лучшая часть нации в оппозиции и плетет заговоры. Да, за государя стоит горой простой народ, крестьянство, но разве эта серая масса в России когда-нибудь что-то решала? А поддержка офицерства и генералитета, без которой удержаться невозможно, утрачена. Недовольны ходом войны, шипят. Случись завтра переворот, не защитят. А если заговор возглавит Николай Николаевич, вокруг которого плетут паутину Бердышев и компания, армия откликнется троекратным «ура». Если же раньше поспеют господа думцы и уломают Михаила, то возликуют обе столицы…
Умом Федор Кондратьевич понимал, что так оно, возможно, было бы и лучше: дядю ли, брата – кого угодно, только другого, не этого, чье понурое лицо несет на себе печать поражения и неудачливости. Но сердце рвалось от щемящей жалости к венценосцу, чьи плечи согбены неподъемным грузом. К несчастной царице, ее материнскому горю, ее честной немецкой старательности полюбить и понять Россию.
Когда такой раздрай между умом и сердцем, надобно уходить в отставку. Но как уйдешь в такое время? Нельзя. Нужно пить горькую чашу до дна.
Секретарь неуверенно оглянулся.
– Федор Кондратьевич, может, все-таки домой прикажете? Ведь и прошлую ночь в кабинете, и позапрошлую. Извините, что позволяю себе, но у вас вид больной.
– Ночью самая работа, никто не мешает. В министерство, голубчик, в министерство.
Домой… Что домой? Всё равно не уснуть.
Потому что береженого бог бережет. Народная мудрость.
Ничего такого шибко подозрительного Панкрат, оглядываясь в генеральском «паккарде», не приметил: ночь, снежный хоровод, фонари. И не хватит у шпиков наглости следить за машиной такой шишки.
Как только морда в шапке-«пирожке» выглянула из подворотни близ клобуковского дома, Рогачов моментально срисовал слежку. Опыт.
Что, братцы филеры, съели?
И, главное, как это удачно вспомнилось про двадцать седьмое! Думал, совсем беда: обложили, не выпустят. Сразу не берут в надежде, что выведет на явку.
Вдруг – дом, знакомый. И окна горят. А потом и про годовщину вспомнилось. Шел на четвертый этаж, думал: хорошо бы там у какого-нибудь окна пожарная лестница оказалась, потому что черный ход они сразу перекроют. Но с тайным советником Ознобишиным – это капитально повезло.
Вбежав в темный двор, стиснутый меж домами, обычный питерский «колодец», Панкрат сначала убедился, что есть еще одна арка, проход, а потом уж оглянулся и немножко подождал. Рука лежала на холодной рифленой рукоятке. Стрелять в людей Рогачову не доводилось уже лет десять, но оторваться нужно было во что бы то ни стало. Если какой чересчур прыткий всё-таки приклеился, пусть пеняет на себя.
Вроде чисто.
Он побежал в арку, повернул за угол – и лицом к лицу столкнулся с парнем, тоже куда-то спешившим. Малый был одет по-рабочему, и возраста неподозрительного, лет двадцати. В наружке таких зеленых не держат. Но на всякий случай пистолет Рогачов всё-таки вынул.
– Дяденька, вы что?! – крикнул парень. – У меня грабить нечего!
Голос жалобный, а взгляд сощуренный. Не из трусливых. Поэтому «браунинг» Панкрат убирать не стал.
– Ты что среди ночи шляешься?
– У марухи был…
– «У марухи». Блатной, что ли?
– Не-е.
А двор-то, черт бы его драл, кажется, тупиковый.
– Отсюда на канал пройти можно? Ты здешний?
Малый помотал башкой. Опущенные уши заячьей шапки тоже помотались туда-сюда.
– Не-е. Тут Клавка моя живет. А пройти можно, через вон ту дверь, она незаперта. Потом направо мимо дровянки, потом через забор…
– Тебя как звать?
– …Филиппом, – сглотнув, ответил ночной ловелас.
Взгляд у Рогачова был зорче того «кодака», от которого давеча едва успел увернуться. Что глазами сфотографировал – навсегда.
Паренек был невысок, коренаст, неладно скроен, но, похоже, крепко сшит. Настоящая рабочая косточка. Лицо простое, плоское, чухноватое – про такие говорят «медная пуговица».
– А меня Панкратом звать. Ты вот что, Филипп, давай-ка, проводи меня до набережной. Прояви гостеприимство, коли ты тут почти что свой.
Скосившись на пистолет, малый осторожно спросил:
– Политический? От шпиков бегаешь? Ладно, давай за мной.
Через черный ход в соседний «колодец», потом мимо дровяных сараев, до забора Филипп бежал первым.
– Давай подсажу, – сказал он, задыхаясь. – Лезь!
Поворачиваться спиной к малознакомому человеку у Рогачова в заводе не было.
– Ничего, я не барышня. Лезем одновременно.
Перелезли, спрыгнули.
– Теперь куда?
Парень медлил. Руки держал в карманах.
– Ты чего? Язык откусил, когда спрыгивал?
– Вон она, набережная, – показал Филипп. – Я чего сказать хотел… Может, я на улицу выгляну? Мало ли…
Хороший юнец, не обмануло чутье. Панкрат улыбнулся.
– Не надо. Чтоб филеров углядеть – это навык нужен. Давай, Филипп, лезь обратно. Спасибо тебе. Ради таких, как ты, по чужим дворам и бегаю…
Протянул парню руку, переложив «браунинг» в левую.
Ладонь у Филиппа была твердая, крепкая. Лезть через забор он не торопился.
– А может, всё ж таки сгожусь на что?
– Сгодишься, обязательно сгодишься. Скоро уже. Ну, давай!
Он подтолкнул провожатого. Тот нехотя вскарабкался, наверху оглянулся. Рогачов со смехом подпрыгнул, спихнул парня на ту сторону.
Когда один за другим от клобуковского дома умчали автомобили, когда унеслась догонять генеральский лимузин пролетка с филерами, и быстрей завихрилась метель, и плотнее сгустилась ночь, фонарь над парадной покачался из стороны в сторону, бессмысленно высвечивая пространство, а потом вытянул из тьмы на свет сутулую долговязую фигуру в осеннем драповом пальто. Она остановилась у двери. Рука в несолидной шерстяной варежке потянулась открыть, неуверенно зависла, опустилась.
Это вернулся Иннокентий Иванович, который, оказывается, никуда от дома не уходил, а просто дожидался за углом, пока все уедут.
Бог знает, что ему здесь было нужно. В парадную он так и не вошел. Потоптался минут пять. Затем попятился на мостовую и довольно долго не отрываясь глядел на освещенные окна.
Пробормотал:
– А что я могу? Только зря мучить… Нет дара, нет. Разве что…
И, будто вспомнив нечто очень важное, заспешил. Пошел, даже почти побежал по улице, иногда подскальзываясь и взмахивая длинными руками.
Он торопился в недальнюю Преображенскую церковь, про которую знал, что ее двери не запираются и ночью.
В безлюдном храме, где пахло сладким воском и тускло светились лампады, Иннокентий Иванович зажег свечу перед образом и долго, страстно молился о чем-то, шевеля мягкими губами. По дрожащему лицу, лицу пожухшего подростка, лились обильные слезы. Одна повисла на кончике уса и всё не желала падать.
А Татьяна Ипатьевна, пожелав сыну спокойной ночи, вернулась в гостиную.
– Антон хотел с тобой попрощаться, но я сказала: не надо…
И посмотрела вопросительно, виновато.
Муж улыбнулся.
– Правильно. Что бы я ему сказал? Если всей своею жизнью сказал недостаточно, что уж теперь… Знаешь, а я рад, что они пришли. Даже Примус явился из прошлого. Будто почувствовал. Это было как-то… правильно. Присядь, Таня. Еще есть время. Пусть Антон ляжет и погасит свет.
Она села и взяла его за руку. Марк Константинович выглядел умиротворенным и совсем не кашлял.
– Тебе лучше? – спросила Татьяна Ипатьевна. Ее вдруг заколотило. – Тебе лучше? Господи, может быть…
Он спокойно и твердо ответил:
– Ничего не может быть. Днем позже, днем раньше. Мы ведь договорились: это больше не обсуждается.
– Да.
И перестала дрожать.
Несколько минут сидели молча. Она поглаживала его руку, он чему-то улыбался.
Потом Татьяна Ипатьевна повернула голову. Слух у нее был отменный.
– Кажется, Паша возвращается. Наконец-то. Сейчас я ее отправлю.
На цыпочках, стремительно, чтобы успеть, пока не зазвонит звонок, не разбудит, быть может, уже уснувшего Антона, она прошла коридором.
Горничную встретила на лестничной площадке, перед дверью.
Раскрасневшаяся от холода и быстрой ходьбы Паша поднималась с двумя сумками.
– Уф, ну и набегалась я, Татьянипатьевна. Где только не была! В «Севере» закрыто, электричества нету. В «Ливадии» печать на двери, прикрыли их, водкой они торговали. Но я ничего, я вот колбаски хорошей, финской, и сыру рокфор в «Гельсингфорсе» взяла, даже не спрашивайте за сколько. Ветчинки в «Валдайском колокольчике», хорошей, прям со слезой. А главное с вином повезло…
Татьяна Ипатьевна знала, что с Пашей, пока не выговорится, объясняться бесполезно – не услышит. Поэтому ждала.
Семь лет назад Паша, шестнадцатилетняя деревенская девчонка, недавно вытравившая ребенка и сбежавшая от позора в город, попала в семью Клобуковых и стала здесь своей. Настолько, что обижалась и плакала, когда по совершеннолетии Татьяна Ипатьевна стала снимать для нее комнату. Все объяснения, что взрослому человеку нужно личное пространство и что у каждого есть право на частную жизнь, для Паши были пустым звуком. Она и доныне в плаксивую минуту всё допытывалась, в чем ее вина, за что ее «из дому отженили».
Забрав свертки, чтоб не обижать гордую добычей девушку, Татьяна Ипатьевна сказала:
– Спасибо тебе. Иди спать. Но завтра приходи пораньше, пока Антон не встал.
Вначале она пыталась на «вы», но Паша так пугалась непонятного обращения, что пришлось от него отказаться. Правда, Антону было строго-настрого велено разговаривать с «рабочим человеком» как разговаривают со взрослыми, и уж на этом Татьяна Ипатьевна стояла твердо.
– Прибрать что надо?
– Нет… То есть… – Хозяйка запнулась. – Нас с Марком Константиновичем уже не будет, так я тебе записку оставлю. Прямо в прихожей. Там будет всё объяснено.
Паша удивилась, вытаращила круглые глаза.
– А вы прямо щас объясните.
– Пока не могу. Нужно еще кое-что обдумать. Ты, главное, как дверь откроешь, сразу записку прочти.
– Ага. Ну, спокойненькой ночи.
Полненькая, но складная и проворная, Паша легко, вприпрыжку сбежала по лестнице, на прощанье махнув рукой с нижней площадки.
Татьяна Ипатьевна немного постояла с закрытыми глазами, держась за перила. Нужно идти. Марк ждет.
И ей внезапно захотелось, впервые с того момента, как всё было решено, чтобы скорее кончилось.
Они договорились, что это произойдет двадцать седьмого. В день, когда всё началось, всё и закончится. И Марк, конечно, прав. Надежды никакой, мучения всё тягостней. Если так или иначе уходить, то с достоинством, пока человек не превратился в кусок истерзанной плоти.
Всё так. Всё правильно.
Она взяла себя в руки, вернулась в квартиру и закрыла за собой дверь. Снова очень тихо ступая, подошла к комнате Антона, прислушалась. Осторожно приоткрыла.
Сын лежал на диване, свесив руку, и крепко спал. На полу фотоаппарат. Была у Антона такая особенность, с раннего детства: делает что-то, потом вдруг зевнет, потянется и тут же засыпает – прямо на полу, среди кубиков, или в кресле, с раскрытой книгой. Потом – Татьяна Ипатьевна знала – Антон, с сомнамбулически полузакрытыми глазами, толком не проснувшись, встанет, расстелит постель, разденется и ляжет уже окончательно. Когда-то она пыталась отучить его от этой привычки, будила, отправляла чистить зубы, но это перебивало мальчику сон, пришлось смириться.
Смотреть на сына Татьяна Ипатьевна себе позволила всего несколько секунд. Почувствовав, что, как в момент ухода гостей, снова слабеет сердцем, поскорей притворила дверь.
До гостиной она шла на цыпочках и, прежде чем войти, остановилась на пороге.
Марк сидел в кресле, опустив голову. Лицо оказалось в тени, поэтому не было видно ни следов болезни, ни этой ужасной бороды, к которой Татьяна Ипатьевна так и не привыкла. И она чуть не ахнула.
Как похоже! Ровно двадцать лет назад она, влюбленная дурочка, принесла ему письмо солидарности от слушательниц Женских курсов, и никто не открывал, и она вошла, потому что дверь была незаперта. Заглянула в кабинет, а Марк сидел точно так же, как сейчас, обессиленный, потерянный, и у нее из памяти вылетела заготовленная речь. Подбежала, он поднял голову, и оказалось, что он вовсе не потерянный, а рассеянно-задумчивый. Говорить что-либо было поздно. Таня совершила самый смелый, самый умный поступок в своей жизни: обняла его и поцеловала.
Так же поступила она и теперь.
– Помнишь? – сказал Марк, улыбаясь. – Я тоже сейчас вспоминал… Знаешь, я чувствую, как в груди опять рокочет. Сейчас начнется. Не хочу. Хватит. Ты приготовила?
Она убрала руки с его плеч.
– Да. Сейчас.
Принесла из буфета чашку, прикрытую салфеткой.
Он взял, но смотрел не на яд, а на жену.
– Спасибо, что отпускаешь, – сказал Марк. – Спасибо, что ты такая сильная. А самое-рассамое спасибо за то, что ты была.
Он улыбнулся, осушил чашку и откинулся назад. Улыбка больше не сходила с его лица, но глаза были закрыты.
Татьяна Ипатьевна держала его запястье и старалась не шевелиться. Пульс постепенно делался медленней, прерывистей. Наконец совсем замер. Только по этому и можно было догадаться, что кончено.
Теперь Татьяна Ипатьевна заторопилась. У нее всё было продумано. Кто знает, что там. Всё может быть. Нельзя допустить, чтоб он ушел слишком далеко один.
Конверт с деньгами и запиской – в прихожую. На Пашу можно положиться. Она должна подготовить Антона, уберечь от потрясения. Чтоб он не вошел утром, ни о чем не подозревая, и не увидел.
И о том, чтоб он потом не остался без ухода, Паша тоже позаботится.
Как он будет жить, как выживет в это страшное время? С шестнадцати лет Татьяна Ипатьевна ни разу не перекрестилась, а тут подняла ко лбу сложенные пальцы. Но опустила руку. Бессмыслица и ложь самой себе.
Наскоро проглядела письмо сыну.
«Прости меня, милый Антоша. На тебя обрушился страшный удар, тебе будет очень тяжело. Но со мной тебе было бы еще тяжелей, потому что от меня всё равно осталась бы одна пустая оболочка. Ты знаешь, я всегда сходила с ума, когда отец куда-то уезжал или отлучался. Могу ли я отпустить его одного в такую дорогу?» Там было много, две страницы убористым почерком.
Сначала она как человек предусмотрительный выпила противорвотное. Потом достала из буфета еще одну чашку, больше первой. Для себя Татьяна Ипатьевна приготовила двойную дозу, потому что придется догонять.
Села на ковер, положила голову на колени мужа. Стала считать.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять…
На пути к термину
Ближе всего к аристономии находится понятие «достоинство». Им я вначале и пользовался, пока не почувствовал, что оно перестало меня удовлетворять, а в некоторых случаях уводит в сторону и даже сбивает с толку.
Для того чтобы моя неудовлетворенность была понятна, придется рассмотреть концепцию достоинства в ее исторической перспективе и ее нынешнем состоянии.
Само представление о некоем похвальном качестве, облагораживающем человеческую натуру, впервые появляется у римлян – преемников стоической школы. У греческих философов, много рассуждавших о достойном и недостойном поведении, понятие «достоинство» (αξιοπρεπεια, аксиопрепейя), кажется, не встречается вовсе. Аристотель в «Эвдемовой этике» упоминает некое качество (σεμνοτηζ, сежнотес), которое иногда переводят словом «достоинство», но обозначает им всего лишь «нечто среднее между раболепством и неуступчивостью».
В римской литературе категория dignitas встречается часто, но обычно как принадлежность высокого социального статуса. «Достоинство» человеку приносит должность или звание, вызывающие у окружающих почтительность. Употребление этого слова в ином, общечеловеческом значении распространено гораздо меньше и попадается, насколько мне известно, лишь в сочинениях Сенеки и Цицерона. У последнего dignitas hominis названо главным отличием человека от животного, а также, что для моего исследования очень важно, сопряжено с разумом, который «способен развиваться посредством учения и рассуждений». Об античном взгляде на интересующее меня Качество я подробно расскажу в соответствующей главе, пока же замечу лишь, что хронологически представление о развитии души, таким образом, примерно совпадает с началом христианской эры, то есть насчитывает около двух тысячелетий.
Впрочем, раннее христианство идеей человеческого достоинства не интересовалось. В греческом тексте Евангелия слово семнотес если и попадается, то исключительно в смысле «серьезность» или «честность». Дефиницией отличия человека от других животных христианские вероучители занялись в последующие века, по мере оформления догм и воззрений победившей церкви. Вклад, который внесли в создание христианской концепции dignitas религиозные мыслители от Августина до Аквината, я опять-таки рассмотрю позднее, а сейчас довольно будет констатировать, что у религиозных философов достоинство признается за человеком, постольку и поскольку он несет в своей душе частицу Бога, и уже поэтому с людьми нельзя обращаться как с предметами или скотами – это является преступлением против Господа. Такая аргументация в пользу достоинства являлась в европейской этике единственно возможной вплоть до первых симптомов кризиса тотальной религиозности, который начался с появлением гуманизма и достиг апогея в Век Просвещения, когда авторитет церкви пошатнулся и ее догматы перестали удовлетворять коллективный разум быстро развивающегося общества. С этого времени, то есть с восемнадцатого столетия, взгляды на человеческое достоинство разделяются, чтоб никогда уже больше не сойтись.
Когда я изучал перемены в трактовке этого понятия, мне постоянно приходилось сталкиваться с терминологической путаницей, поскольку разные авторы и источники вкладывали в слово «достоинство» три разных смысла.
Первый из них сформулирован, например, в «Лексиконе английского языка» 1772 года: «Достоинство – ранг возвышения… Достоинство лучше всего представлено богато одетой леди… украшенной золотом и драгоценными камнями. Смысл слова вполне очевиден». Гоббс разъясняет термин хоть и менее простодушно, но в сущности точно таким же манером: «Общественная цена человека, то есть ценность, придаваемая ему Обществом, и есть то, что люди обычно именуют ДОСТОИНСТВОМ». Сто с лишним лет спустя в словаре Даля читаем всё то же: «ДОСТОИНСТВО \…\ – сан, звание, чин, значенье. Он достиг высоких достоинств» – и только как одно из значений прилагательного «достойный»: «сообразный с требованиями правды, чести».
Во втором смысле, который, как я уже писал, слову dignitas придал Цицерон, оно стало вновь употребляться – и чем дальше, тем чаще – главным образом, благодаря этическому учению Канта. Великий кенигсбержец писал: «Уважение, которое я испытываю по отношению к окружающим и которого они вправе требовать от меня (osservantia aliis praestanda), есть признание достоинства (dignitas) другого человека, то есть некоей ценности, не имеющей стоимости и не могущей быть обмененной ни на какой эквивалент, являющийся объектом оценки (aestimii)». Именно Кант утвердил в сознании общества идею о том, что человечество в целом и каждый его представитель в отдельности обладает достоинством уже в силу принадлежности к людскому роду.
Это понятие обрело юридический статус в декларациях первых демократических государств – Соединенных Штатов Америки и Французской республики, преобразовавшись в правовую категорию «гражданского достоинства», то есть неотчуждаемого права всякой личности на уважение. Трудно переоценить значение смысловой революции во взаимоотношениях человека и государства, произведенной кантовским требованием «обращаться с человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно его достоинству». Те страны, которые раньше двинулись по этому пути и последовательнее его придерживались, ушли дальше и поднялись выше. В самом универсальном из всех документов, когда-либо принятых человечеством, недавно провозглашенной Декларации ООН, в самом первом параграфе, говорится: «Все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах». Конституция западногерманского государства, преодолевающего ужасные последствия фашизма, тоже начинается со слов: «Человеческое достоинство неприкосновенно. Уважать и защищать его будет долгом всех органов государственной власти». Этот взгляд в демократических странах сегодня является преобладающим.
Нельзя, впрочем, сказать, что у концепции человеческого достоинства как краеугольного камня общественной жизни не нашлось авторитетных критиков. Шопенгауэр, например, раздраженно называет это словосочетание «жупелом пустоголовых моралистов», которые «за этой импозантной формулой скрывают не только отсутствие настоящего этического базиса, но и вообще какого-либо внятного обоснования; они ловко рассчитали, что читателям будет лестно полагать, будто они наделены каким-то там „достоинством“».
Ницше, которого, конечно, трудно считать авторитетом в вопросах этики, но который безусловно обладал превосходным стилистическим чутьем, называл идею человеческого достоинства «сентиментальным эгалитаризмом». Человек «абсолютный» ни в достоинстве, ни в правах не нуждается. Какое гротескное развитие взгляды этого поэта от философии получили в Германии двадцатого века, мы не только видели, но и, как говорится, испытали на собственной шкуре.
Не менее страшное развитие получила и критика этой концепции Марксом. Основоположник идеи государственного социализма называл «вопли» о человеческом достоинстве «бегством от истории в морализаторство». Властители моей страны, будучи правоверными марксистами, от истории в морализаторство не бегают и права на достоинство за своими гражданами не признают.
Поэтому мне особенно трудно присоединяться к числу критиков установившегося взгляда на достоинство как качество, достающееся каждому просто по праву рождения. То есть я, разумеется, ни в коем случае не оспариваю его в юридическом смысле: безусловно, каждый человек обладает неотчуждаемыми правами и обходиться с ним следует уважительно, но истинное достоинство не достигается одной лишь биологической принадлежностью к людскому роду, и в этом я отчасти согласен с мнением Шопенгауэра.
Вернее сказать, меня не удовлетворяет интерпретация, которую дает понятию человеческого достоинства «второй смысл» этого словосочетания. Мне хотелось наполнить это понятие иным, как мне кажется, более сущностным содержанием.
В этом, третьем значении достоинство есть не универсальная принадлежность человека, достающаяся всем от рождения, а некое индивидуальное качество, которое приходится выстрадать, вырастить в себе – и удается это далеко не всем.
Из авторов прошлого века подобное толкование достоинства я встретил у моего любимого Герцена, который в относительно малоизвестной статье «Историческое развитие чести» пишет: «У человека вместе с сознанием развивается потребность нечто свое спасти из вихря случайностей, поставить неприкосновенным и святым, почтить себя уважением его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь в длинный ряд превращений чтимого, мы увидим, что основа ему не что иное как чувство собственного достоинства и стремление сохранить нравственную самобытность своей личности, и то и другое сначала в формах детских, потом отроческих, как во всех человеческих отношениях». И далее: «Неудовлетворенный общим делом, человек ищет свое дело, обращается внутрь себя, в груди своей начинает открывать нечто твердое и незыблемое, в себе находит мерило своего достоинства и хладнокровно смотрит на племя, на город, на государство: тогда быстро развивается в нем понятие чести и собственного достоинства». Здесь есть самое главное: идея о чувстве собственного достоинства как основе всего «чтимого» и признание важности развивать это чувство.
Итак, не статус и не естественное право, а внутреннее состояние, которое может вовсе отсутствовать или присутствовать, может развиваться или же, увы, утрачиваться. Вот тот аспект слишком расплывчатого и многозначного понятия dignitas, который является предметом моего исследования.
Стремясь к точности, я некоторое время использовал в своих записях аббревиатуру ЧСД (чувство собственного достоинства), под каковым имел в виду набор определенных нравственных и мировоззренческих признаков, самым главным из которых является естественное ощущение своего равенства с другими людьми, однако равенство вовсе не означает тождественности или заменяемости. Это напоминает равенство суверенных государств. Мир потерял бы много из своей красочности, если б в нем не существовало какой-то из составляющих его стран.
Такое отношение к себе и окружающим подразумевает высокую степень самоуважения и требовательности к себе, наличие развитой системы этических правил. Обо всем этом я буду подробно говорить в других разделах. На данном же этапе важно отметить, что ЧСД продвинутого уровня становится для человека не только благом, но и тяжким, подчас опасным бременем. Это чувствовали еще мыслители Возрождения, пытавшиеся вывести формулу достойного поведения. Очень красноречив аллегорический образ этой драгоценной, но громоздкой ноши, найденный мной в одной старинной книге:
Я уже касался этого предмета, но повторю снова: чем выше в человеке развито ЧСД, тем ниже его способность к выживанию. Слишком велик и строг набор внутренних регламентаций и табу. Классическая ситуация, в которой человек с ЧСД погибает первым – это давка у спасательных шлюпок на «Титанике» или паническая погрузка на последние пароходы, уходящие из Крыма в ноябре двадцатого года. Тот, кто обладает самоуважением и уважает права других, не станет спасать себя за чужой счет – и погибает в ледяных водах Атлантики или подвалах Чрезвычайки. Понижение порога живучести – это цена, которую личность платит за более высокое качество своей духовной и умственной жизни[4].
Однако наступил момент, когда и неуклюжее обозначение ЧСД перестало казаться мне достаточно точным. Произошло это после того, как я прочитал в англоязычном философском журнале одну статью. Когда я увидел ссылку на нее в научном медицинском издании, мне ужасно захотелось ее прочесть, ибо она называлась «The sense of dignity». Для этого мне пришлось всякими правдами и неправдами добиваться допуска в отдел спецхранения Ленинской библиотеки. Наконец я ознакомился с текстом. Это было обстоятельнейшее и благонамереннейшее рассуждение о том, что всякий человек обладает чувством своего достоинства, покушение на которое он воспринимает весьма болезненно, и что у некоторых индивидов это чувство даже бывает болезненным – и с такими людьми следует обращаться с особенной деликатностью.
То есть, оказывается, и термин ЧСД имеет оттенок субъективности, ибо может никак не соотноситься с истинным положением дел. Разве не исполнен чувства собственного достоинства какой-нибудь чинуша, восседающий в президиуме на профсоюзном или партийном собрании?
И я понял: не то, опять не то! «Чувства» здесь ни при чем.
Более того, меня всё больше не устраивало ключевое слово «достоинство» – чисто этимологически. В нем есть что-то важничающее, надутое, даже спесивое. Смущает родство с глаголом «стоить», который вызывает ассоциации с денежным либо каким-то иным эквивалентом. Ну и еще лезет на ум словосочетание «мужское достоинство», снижающее термин до уровня скабрезности.
Я попытался ввести определение, позаимствовав слово из какого-нибудь иного языка, чтобы избежать «побочных эффектов». Но выяснилось, что эта трудность имеет не внутрирусский, а вселенский характер.
Начал я, естественно, с европейских языков. Вскоре выяснилось, что те из них, которые мне хоть до какой-то степени знакомы, возводят понятия, связанные с Достоинством, к двум корням: латинскому dignus (заслуживающий уважения, почитания) или старогерманскому wirdi (нечто, имеющее цену). Таковы английское dignity, французское dignité, испанское dignidad, итальянское dignitá и т. п., с одной стороны, и английское же worth, немецкое Würde, шведское Värdighet и т. п., с другой. То есть главное завоевание эволюции язык оценивает в категориях либо чего-то такого, что почтенно выглядит в глазах окружающих, либо, того пуще, объекта, имеющего некую большую или меньшую цену. При этом совершенно очевидно, что распятый на кресте Галилеянин – высшее олицетворение Качества – в глазах солдат и толпы никак не мог выглядеть dignus, a worth этой эфемерной субстанции не поддается исчислению, ибо ни продать, ни купить ее невозможно.
Попробовал я взглянуть шире латинско-германской сферы, но и там ничто меня не порадовало. Вспомнилось мне, что по-украински «достоинство» будет гiднiсть, но тут опять слышится явный оттенок утилитарности. То же с чешским ctihodnost или польским wartość, в котором сквозит знакомое wirdî.
За пределами европейского континента у меня хватило кругозора заглянуть в древнееврейский язык. Слово «каво́д» восходит к корню, означающему нечто весомое, солидное. Пожалуй, это все тот же dignus, то есть почтительность со стороны окружающих. К тому же, насколько мне известно, еврейская религия учит, что достоинство человек может обрести, лишь изучая Тору. Кто глубже в нее вник, тот и есть самый достойный. Нет, это явно не то, что я искал.
Уже не в расчете найти правильно звучащий термин, а из чистого любопытства, я устремил взгляд на иероглифические языки, где понятие обозначается при помощи пиктограммического письма, обладающего наибольшей этимологической наглядностью.
Китайское слово цзунъян, как мне объяснили, складывается из двух иероглифов 尊嚴 первый из которых означает нечто, внушающее уважение, а второй – нечто суровое, вызывающее страх. Снова dignus, только в обличьи богдыхана или председателя Мао.
Японцы чаще используют другие иероглифы: 威信 (исин). Второй из них мне понравился – он означает «истина». Но первый, увы, опять обозначает нечто пугающее, а Качество, которое я исследую, присуще людям, не желающим никому внушать страх.
В общем, после долгих поисков и размышлений мне стало ясно, что правильней будет изобрести термин самому. Для того чтобы его значение хотя бы приблизительно было понятно всякому мало-мальски образованному человеку, удобней воспользоваться греческими корнями, использующимися в иных, широко распространенных словах. Так поступали многие и до меня, когда возникала потребность дать наименование какому-то новому (кинематограф, телефон, психоанализ) или старому, но недавно распознанному явлению (шизофрения, протоплазма, амнезия).
Я выделил два «несущих» элемента Качества: улучшение, которого благодаря ему достигает человеческая душа, и внутренний закон, которому неукоснительно следует личность, обладающая достоинством (в третьем смысле этого слова). Воспоминаний о гимназических уроках древнегреческого оказалось вполне достаточно, чтобы выполнить это несложное задание.
Вторым компонентом, конечно же, должен был стать νομοζ («закон», «принцип») в его обычно употребляемой У нас латинизированной форме: то есть не «-номос», а «-номия».
Не возникло трудностей и с первой половиной. Для нее проще всего воспользоваться понятием άρετή, которым греки определяли всё хорошее, качественное, достохвальное. Одно из ранних значений арете – «прожить полноценную жизнь», то есть именно то, что я искал. В своем месте я расскажу об использовании арете в этическом учении Платона и Аристотеля, но и в позднейшие времена существовала целая отрасль моральной философии, именуемая аретологией. В античной Греции арете считалась одной из непременных составных частей педии, то есть образования подростков, и включала в себя помимо физических упражнений ораторское искусство с риторикой, обучение наукам и воспитание духа посредством постижения музыки и добродетели.
Чтобы передать идею развития, то есть движения от хорошего к лучшему, мне показалось логичным воспользоваться однокоренным с άρετή словом άριστοζ, означающим «наилучший». Меня не смущает то, что производное от аристос понятие аристократии, первоначально означавшее «власть лучших людей», в историческом смысле сильно скомпрометировано. Несмотря на это, понятие аристократизма для многих сохраняет обаятельность, во всяком случае, когда речь идет не о барстве или сословном чванстве, а о хороших манерах и внутреннем благородстве натуры.
«Аристономия» – это закон всего лучшего, что накапливается в душе отдельного человека или в коллективном сознании общества вследствие эволюции. К дворянскому происхождению такое Качество не имеет никакого отношения. Со временем я привык к этому термину и, как будет видно из дальнейшего, стал использовать его в различных вариациях: у меня фигурируют «аристофилы» и «аристофобы», «аристономические характеристики» и «аристобежные тенденции», «аристогенные условия» и жестокие «диктаторы-аристофаги».
Сегодня я уже не представляю, как обходился прежде без всех этих понятий. Мне кажется, что они существовали всегда. Иногда в разговоре с кем-нибудь они сами соскальзывают у меня с языка, и я удивляюсь, что собеседник меня не понимает.
(Из семейного фотоальбома)
– … с ним. И так ладно.
Караульный почесал затылок, стряхнул рукавом осколки с подоконника.
Антону было дано простое задание: распечатать окно, потому что с каждым днем всё теплее, к концу присутствия солнце прокаливает коридор до невыносимости, жарко, а тут люди иногда сидят часами, дожидаются вызова на допрос.
Рамы с осени были заклеены аккуратно, на совесть. Пришлось идти за помощью в караулку. Антон солдату – про горячую воду (Паша весной бумажные, промазанные молочным клеем полоски всегда отмачивает, и они сходят сами), а здоровенный преображенец просто подошел, взялся, рванул – стекло и посыпалось.
– Всё одно лето скоро. А зима – она когда еще будет, – беспечно сказал солдат и распахнул окна настежь.
Свежий воздух хлынул в раскупоренное помещение, будто в лицо брызнули ароматической водой из гигантской резиновой груши.
Весна! Самая свежая, самая солнечная, самая лучшая весна в истории России – нет, в истории всего человечества, потому что Бастилию взяли летом, и потом, там же по толпе из пушек стреляли и носили на пиках окровавленные головы, а у нас никаких ужасов не было. Свобода победила почти бескровно, почти без выстрелов. Что такое две или три сотни жертв для двухсполовиноймиллионного Петрограда, для стосорокамиллионной страны?
Какой-то дамский еженедельник назвал Февраль «революцией мимоз» и был дружно высмеян остальной прессой. А, ей-богу, зря. У Антона та невероятная неделя, когда ты каждый миг остро ощущал: жизнь выскочила из наезженной колеи, всё впервые, всё невиданное, всё настоящее, запечатлелась в памяти триколором из белого – снег, алого – кумачовые флаги и желтого – потому что повсюду продавали или раздавали так, бесплатно, пушистые желтые ветки, других цветов еще не было.
Ах, как это было волшебно и сильно! Будто брел, брел, увязая в снежной затоптанной каше, и вдруг взлетел, да не один, а вместе с целым городом, и смотришь на мир из-под облаков, и захватывает дух, но нисколько не страшно, потому что все заодно, всем весело и полет только начинается!
С улиц исчезла полиция, но преступлений не было. Порядок поддерживался будто сам собой. Ночью не грабили, кошельков не «тырили», и казалось, так теперь будет всегда. Ведь новый мир раскрылся всем, в том числе бандитам и карманникам – они тоже могут начать жизнь с чистого листа. Самое удивительное, что все стали очень вежливыми друг с другом и сами этому умилялись. Чуть где возникнет неурядица – давка на трамвайной остановке или политический спор перейдет в хватание за грудки, – тут же студент или солдат (студентов и особенно солдат все ужасно полюбили) подходит, начинает увещевать: «Что же вы, сознательные граждане, а так себя ведете?» И спохватываются крикуны, смущенно улыбаются. Не раз вспоминались Антону унылые пророчества тайного советника Ознобишина про «город без городового». Плохо же вы знали собственный народ, ваше превосходительство! Потому он вашу власть и скинул.
Россия, заморенная нескончаемой войной, будто обрела второе дыхание. Одно дело – воевать для царя, и совсем другое – для себя, говорили все. Еще говорили: революция была необходима, чтобы победить во Второй Отечественной.
В стране, некогда устраивавшей многотысячные верноподданнические манифестации, как-то вообще не осталось монархистов. В интеллигентных кругах про свергнутого царя почти не говорили – всё ясно, скучно, и зачем поминать вчерашний день, когда так фантастически интересен сегодняшний? Вульгарная публика нарасхват покупала книжонки про «царицу Сашку» и «кобеля Гришку».
Естественно, подъем высоких чувств долго продолжаться не может. Прошла неделя-другая, и тусклая проза жизни начала заглушать и вытеснять с улиц поэтическое опьянение, потому что люди не ангелы и мгновенное перерождение невозможно. Да, в городе грязь и неустройство. Да, снова грабят и воруют, намного больше, чем прежде, когда существовала нормальная полиция. Но надо же уметь видеть за мелким и временным величественное, вечное. Как точно сказал, выступая перед сотрудниками комиссии, Аркадий Львович! «Благодаря революции переменилось главное. Маленький человек перестал быть маленьким. Все словно перестали сутулиться, распрямили плечи, подняли голову, огляделись вокруг и увидели, что мир – не лужа под ногами и не грязь на собственных галошах». И это именно так!
Личное, частное, эгоистическое сжалось, потрясенное размахом событий. У Антона имелась собственная причина быть благодарным революции: она помогла ему излечиться от ужасного потрясения. Теперь даже становилось стыдно из-за того, что он редко вспоминает отца и мать. Казалось, несчастье произошло давным-давно, в другой жизни и другом столетии.
Тут еще, конечно, нужно сказать спасибо службе. Именно она позволяла чувствовать себя не наблюдателем, а соучастником или во всяком случае привилегированным свидетелем исторических перемен.
ЧСК (если полностью – «Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц») была образована почти сразу после победы как ответ на долго копившееся общественное раздражение против злоупотреблений самодержавной власти. Этот орган, наделенный особым статусом и широчайшими полномочиями, вел следствие по делам лишь самых высших сановников империи, не ниже тайного советника. Было принято справедливое и великодушное решение: привлекать к ответу не врагов революции, а лишь тех, кто нарушал собственные же законы, то есть, существуй при царе настоящее правосудие, всё равно подлежал бы суду как преступник.
Дабы подчеркнуть важность миссии, возложенной на ЧСК, новосозданное учреждение разместили прямо в Зимнем дворце, в запасной его половине, на втором этаже. Здесь было, конечно, не так роскошно, как в парадной части императорской резиденции, а всё же вряд ли следственные мероприятия когда-либо проводились в столь величественном антураже, и уж точно никакие канцелярские работники прежде не могли скрипеть перьями и стучать по пишущим машинкам средь подобного бронзово-лепнинного великолепия. Первые дни вокруг скользили растерянные лакеи в золоченых ливреях, будто экспонаты, сбежавшие из музея восковых фигур. Предлагали чай и кофей, норовили «принять» шапку и пальто. Но преображенцы из караула обращались с «николашкиными прихвостнями» грубо, и потихоньку осколки режима один за другим исчезли. (Потому-то и хряснуло ни в чем не повинное окно в прямом, как кавалергардский палаш, коридоре.)
Антон Клобуков попал в горнило революционной справедливости на самую мелкую, самую незначительную должность, но и это было невероятной, совершенно незаслуженной удачей. Работой Комиссии руководил Президиум, в который входили лучшие юристы и заслуженнейшие общественные деятели; роль адъютантов и помощников исполняли так называемые «наблюдающие» из числа прогрессивно мыслящей юридической молодежи; практическую работу вели двадцать пять следователей-«техников». И это не считая штата секретарей, курьеров, машинисток и стенографистов. Средь сих последних нашлось место и для Антона, по рекомендации Аркадия Львовича Знаменского, одного из заметнейших членов Президиума.
«Младший стенографист» – звучит вроде бы скромно. Но это если не знать, что начальствует над стенографической частью сам Александр Блок, а соседи по комнате у Антона такие, что первое время он боялся при них лишний раз рот открыть.
Дело вовсе не в том (то есть и в этом, конечно, тоже), что оба они владели искусством стенографирования блистательно, в то время как Антон всё время отставал и путался. Скорописи он обучился самоучкой, позапрошлым летом, когда поступил в университет и был полон благих намерений – учиться всерьез, записывать лекции слово в слово. Но пыл вскоре угас, стенографические навыки подзабылись, и в первый же день работы коллегам стало ясно: молодого человека пристроили сюда по протекции, что Антону и было высказано сразу, в лоб суровым Дьячковым. Лавкадий Васильевич хотел немедленно гнать «помпадура» в шею, но заступился второй сосед, Август Николаевич Аренский. К тому же Антон пообещал, что возьмет на себя черновую работу: расшифровывать записи и вычитывать их после машинки. Тем самым он лишил себя возможности лично присутствовать на допросах деятелей старого режима, но все-таки сохранил место.
Что стенография! Будто в ней одной дело. Антон во всех, абсолютно во всех отношениях был пигмеем в сравнении со своими старшими товарищами.
Дьячков поступил в Комиссию по мандату Общества политических каторжан и ссыльных. Он был «мученик царизма», это почетное звание теперь вошло в повсеместный обиход. Когда-то сидел в крепости, еще по делу Генералова, получил пожизненную каторгу и на свободу вышел только в девятьсот пятом, преждевременно состарившийся, больной, со сломанной жизнью, совершенно одинокий. Чтоб как-то кормиться, обучился стенографии и год за годом слеп над протоколами в уездном суде. Лавкадий Васильевич был человек колючий, педантичный и весь какой-то несуразный – под стать своему странному имени. Тощий, с серо-стальным бобриком волос, с резкими морщинами, он казался глубоким стариком.
При этом однажды выяснилось, что он годом моложе Аренского, цветущего и румяного красавца в самом соку. Август Николаевич не придирался к младшему стенографу, держался добродушно и приветливо, но его Антон робел еще больше. Ведь это был тот самый Аренский, модный писатель, известный всей грамотной России. Его романам о тайнах большого света и секретах дипломатии взыскательные критики сулили недолгую жизнь, однако публика читала Аренского охотней, чем Максима Горького или Чехова. Август Николаевич в Комиссию приезжал на авто с шофером, однако скромно оставлял машину за утлом Миллионной и одевался не в свой знаменитый смокинг с цветком вереска в петлице, а просто, «по-рабочему», то есть в твидовые пиджаки с замшевыми налокотниками. Он говорил: «Я счастлив быть ефрейтором Революции», однако не скрывал, что рассчитывает собрать в Комиссии материал для романа или даже целой серии романов. Стенографист он был отличный – в свое время выучился, потому что у него «перо вечно не поспевало за вдохновением». Нечего и говорить, что Дьячков «бумагомарателя» презирал почти так же, как «помпадура», и старшие стенографисты беспрестанно между собою пикировались.
Когда Антон, решив проблему вентиляции методом Гордиева узла, вернулся в кабинет, оба соседа были на месте. Приближалось время обеда, теперь до трех часов допросов не будет. Дьячков разжигал спиртовку. У него было мудреное диетическое питание для язвенников, он приносил на службу в судках что-то протертое. Аренский же обыкновенно в четверть второго укатывал в «Англетер», где для него держали особый столик. К нему туда каждый день, чуть ли не в очередь, приезжали знакомые – составить компанию и послушать сенсационные рассказы о ходе следствия.
– Что за чушь вы плетете? – ворчливо говорил Лавкадий Васильевич, зажигая спичку. – Какие, к дьяволу, две копейки?
– Именно две и именно копейки. – Аренский глянул на часы и опустился на стул, закинув ногу на ногу. Очевидно, уходить ему было еще рановато. – Это моё собственное открытие. Вклад в историческую науку. Трехсотлетняя империя Романовых рухнула из-за двух копеек.
Слушать его всегда было интересно, даже если писатель нес что-нибудь завиральное. Антон тихо сел.
Дьячков сердито фыркнул, махнул рукой: мели, Емеля.
– То есть, причина, конечно, не в двух копейках, а в уязвимости государственной власти, когда она вся сосредоточена в одной географической точке, – с удовольствием продолжил Август Николаевич, поглаживая холеную, перец с солью, бородку. Должно быть, он репетировал спич, которым собирался за обедом развлечь приятелей. – Это всё так: чья столица, того и Россия. Однако непосредственный повод, последняя капелька – именно две копейки.
– У народа терпежу не стало! Голод подступил! Хлеба не было! – начинал закипать Дьячков. – При чем тут ваши две копейки?
– Объясню. Зерна в России более чем достаточно. Из-за того что экспорта в Европу нет, все склады переполнены. Так что не в голоде дело. Известно ли вам, что в Петрограде по приказу градоначальства, в целях борьбы с повышением цен, были введены предельно допустимые цены на хлеб: черный не мог стоить больше семи с половиной копеек за фунт? А выпекать его обходится дороже, чем белый. Себестоимость того же фунта выходила в девять с половиной копеек. Какой пекарь захочет отдавать хлеб, приплачивая собственные две копейки? Потому и вышло, что повсюду продавался один белый, а за черным огромные «хвосты». Притом черным хлебом кто кормится? Простонародье, беднота. А зима, холодно. От прилавка, где булки и кексы, преспокойно отходит «чистая публика», благоухая свежей выпечкой. В «хвосте» за «черняшкой» все кипят. И вот двадцать третьего февраля перед намерзшейся, раздраженной очередью булочник вывешивает объявление: «Сегодня хлеба не будет». У какой-то бабы припадок истерики. В витрину летит камень. И пошло-поехало. Посыпались стекла в бакалейной лавке. Потом на соседней улице. И заполыхал Питер. Лондон во время Великого Пожара сгорел от одной искры. Москва в шестнадцатом столетии превратилась в пепелище от грошовой свечки. А наша революция, получается, образовалась из-за двух копеек. Так в учебниках истории и напишут: Двухкопеечная Революция.
Лавкадий Васильевич в сердцах шмякнул об стол спичечным коробком.
– Не смейте оскорблять революцию! Мелочный, мещанский взгляд! Такое может говорить только законченный пошляк!
Антон вжал голову в плечи. В русской интеллигентской среде нет более бранного слова, чем «пошлость» или «пошляк». Понятно, что Августу Николаевичу нравится дразнить желчного коллегу, но сейчас, кажется, он перегнул палку. Шло к нешуточной ссоре.
Аренский встал и выпрямился во весь свой немалый рост. Румяное лицо раскраснелось еще пуще. Смерив оппонента презрительным взглядом, писатель процедил:
– Считайте, что в ответ я вас обозвал самым оскорбительным для вас образом. Употребите свое тусклое воображение, а то мне лень.
Воображение у Лавкадия Васильевича вовсе не было тусклым. Он, должно быть, представил себе, как его мог бы обозвать Аренский, и весь побелел, затрясся.
– А вы… А вы считайте, что я за это отвесил вам пощечину!
Но такого высокого накала страстей Август Николаевич не вынес. Природное добродушие и чувство юмора одержали верх.
– Вот и отлично. Считайте, что за пощечину я вас вызвал на дуэль и укокошил. Вечная вам память.
Он захохотал, блеснув чудесными белыми зубами. Антон тоже не удержался, прыснул. Дьячков еще несколько секунд сердито сверкал глазами на покатывающихся со смеху коллег, да и плюнул.
– Клоуны… Бим и Бом, – буркнул он. – А я сегодня Штюрмера стенографировал. Какие же ничтожества нами управляли! И это совсем, совсем не смешно.
Дьячков был вспыльчив, но отходчив, а узнать про допрос бывшего главы правительства хотелось и Аренскому, и Антону. Слушая гневный рассказ о распутинском прихвостне, который юлил, плакался о слабом здоровье и валил вину на других, Антон, конечно, делал поправку на предвзятость и ожесточенность Лавкадия Васильевича, но за дни работы в Комиссии у него и самого сложилось самое невыгодное мнение о деятелях свергнутого режима. Обидно было думать, что от людей вроде Хвостова, которого назначили министром только после того, как Старец лично приезжал «смотреть его душу», или от явного психопата Протопопова совсем недавно зависела твоя жизнь, участь всей огромной страны. Люди гибли в окопах, теряли близких, терпели лишения, даже не подозревая, что их судьбу решают – нет, даже не Хвостовы с Протопоповыми, а юркие посредники, мелкие бесы, вертлявые проходимцы типа князя Андронникова или Манасевича-Мануйлова. Заказы на миллионные поставки и военные заказы раздавались «своим человечкам», прокуратура исполняла команды Охранки, суды принимали решения по указке свыше, должностные преступления покрывались, «чтоб не выносить сора из избы».
Из-за своей стенографистской никчемности сам Антон на допросах не присутствовал, но обязательно выходил в коридор посмотреть, если из Петропавловки или с Фурштатского доставляли кого-нибудь важного. Когда третьего дня привезли Вырубову, на всем этаже прервался треск машинок, в дверях столпились сотрудники и молча наблюдали, как по коридору в сопровождении двухметрового гвардейца ковыляет на костылях одутловатая, болезненно желтая наперсница императрицы. Антон был ужасно разочарован. Он представлял себе «злую фею» царизма чувственной иродиадой, а это – что это? Сразу видно, что никаких оргий со Старцем не было и быть не могло. Даже жалко ее стало. Зачем мучают бедную инвалидку?
Он так и сказал позавчера, вернувшись в комнату: достойно ли революции проявлять мстительность по отношению к слабой и, возможно, оклеветанной женщине?
Между его коллегами развернулся спор, в котором оппоненты скоро забыли и о бывшей фрейлине, и об Антоне. Тема была актуальная, даже воспаленная. Какой должна быть победившая революция: карающей или милосердной?
Лавкадий Васильевич, разумеется, отстаивал суровость, и, учитывая историю его искалеченной жизни, старика невозможно было за это осуждать. Его устами будто говорила вся обездоленная масса, не забывшая и не простившая унижений, несправедливостей, лишений.
– Зло нельзя миловать, – говорил Дьячков, – ибо это нарушает великий закон справедливости. Щадить негодяя – такое же преступление, как не воздать по заслугам герою. Если мы не осудим и не покараем каждого деятеля преступной власти, вплоть до последнего хапуги-околоточного, они очень скоро расправят плечи и вновь полезут вверх, будто сорная трава. Такая уж это гнусная порода. Все эти бывшие жандармы, черносотенцы, верноподданнические ловчилы моментально перекрасятся, понацепят красных бантов, громче всех запоют «Марсельезу», и мы не успеем оглянуться, как они опять усядутся нам на шею. Кто будет виноват кроме нас с вами, кроме интеллигентского слюнтяйства и мягкосердечия? Нет, товарищи. Царя и царицу как главных виновников российских бед нужно судить всенародным судом и предать смерти, как были казнены Карл Английский и Людовик со своей Марией-Антуанеттой. Прихвостней можно оставить в живых, но отправить в Зерентуй, на каторгу, пусть погремят кандалами, как мы! А всем, кто служил в жандармерии и Охранке, кто занимал высокие посты, кто состоял в реакционных партиях, надо запретить лет на десять или пятнадцать поступать на государственные должности. Вот тогда, быть может, революция и сумеет отстоять свои завоевания!
Август Николаевич с ним не соглашался.
– Революция – не просто смена одного режима власти на другой. Это принципиальный переворот в отношении людей друг к другу и к своему государству, – говорил он. – Через подавление и страх ничего хорошего никогда еще не создавалось. Уродливые методы порождают лишь новое уродство. Чтобы покарать такую прорву людей, нам придется создавать нешуточную карательную систему. А ее только заведи – она сразу начнет жить собственной жизнью, искать всё новых врагов. Никого не надо казнить! В свободной стране не может быть смертной казни, ибо она – гнусность и позор для общества. Судить хозяев и слуг старого режима, конечно, нужно. Но не для того, чтоб их расстрелять или упечь на каторгу, а чтобы выставить напоказ их порочность и навсегда лишить царизм морального авторитета. Понимаете: не монарха нам надо истребить, а монархическую идею. Насчет люстрации я с вами согласен. Но ее тоже нельзя проводить огульно. Мало ли в государственных учреждениях самодержавной России, в том числе на высоких постах, было честных, добросовестных работников? Этак можно остаться без профессионалов. Не кухарки же у нас будут управлять государством?
Антон слушал и не знал, кто из них прав. А закончился спор, как обычно. Лавкадий Васильевич вспылил, обозвал оппонента «добряком от сытости». В ответ получил «желудочно-кислотного мизантропа». Так разругались, что Дьячков потом жаловался самому Знаменскому, и тот долго успокаивал мученика царизма.
Аркадий Львович непременно, хотя бы раз в день, обходил все комнаты Комиссии, разговаривал с сотрудниками, даже самыми низовыми. Он придавал этому обряду особое значение: новая власть должна быть демократична и неспесива. Глава ведомства от рядового работника отличается лишь кругом обязанностей и размером жалованья, в прочем же они равноправные товарищи. Звучный, превосходно поставленный баритон Знаменского можно было услышать и в машинном бюро, и в курьерской, и даже в караулке. Он словно стал выше ростом, статнее. И хоть любил сказать про себя, что он «крапивного семени», внук деревенского дьячка, однако выглядел истинным аристократом – из тех, которые, по выражению Достоевского, так обаятельны в революции. Барышни из канцелярии все поголовно были влюблены в эффектную белую прядь, венчавшую высокое чело. Сам же Аркадий Львович очень мило иронизировал по поводу своей внешности. «Эспаньолку я отрастил, чтоб удлинить кругловатое лицо и стушевать безвольную линию подбородка, – лукаво рассказывал он как-то в присутствии Антона. – Без пенсне вполне мог бы обойтись, близорукость несильная, и, когда нужно выглядеть помужественней, я его снимаю. Седую прядь следовало бы выстричь, но она хорошо видна издали и чудесно выделяет меня на коллективных фотографиях».
До переворота Знаменский в Думе считался «независимым левым», однако теперь всё больше солидаризировался с эсэрами, поскольку, как говорил он, раз уж установленный порядок не удержался и рухнул, теперь без крена в социалистическую сторону не обойтись. Он не стал ни министром, ни даже товарищем министра, да и в ЧСК формально считался просто членом Президиума, но в правительстве прислушивались к нему больше, чем к председателю, а в самой Комиссии по всякому важному и не важному вопросу шли к Аркадию Львовичу. Он был прост, доступен, его быстрый ум легко находил выход из любого затруднения. Довольно было увидеть, какой легкой, победительной походкой шагает Знаменский по коридору, чтоб сразу понять: этот человек на подъеме и взлете, его звезда еще не достигла своего апогея.
И когда, в середине желчного рассказа о допросе Штюрмера, дверь вдруг отворилась и вошел Аркадий Львович с обычным веселым вопросом-приветствием: «Ну, как тут мои скрижальщики истории?» – в кабинете будто сделалось светлее. Аренский просиял приязненной улыбкой, золоченые каминные часы радостно брякнули четверть часа, и даже сварливый Дьячков не обиделся, что его прервали.
– Скрижалим помаленьку, ваше высокопревосходительство, – бодро доложил писатель.
Лавкадий Васильевич всегда отвечал по существу:
– Я стенографировал допрос Штюрмера, товарищ Знаменский.
Антон же поскорей вытащил из ящика фотокамеру – утром принес из дому, чтобы сделать исторический снимок.
– Аркадий Львович, господа, в память о совместной работе… – И расстегнул футляр. – Займет одну минуту.
Старшие коллеги были только рады сфотографироваться с большим человеком. Знаменский покосился на часы, кивнул.
– Давай. Только быстро. Мне в двадцать минут нужно быть на Президиуме.
– Я мигом!
У Антона всё было продумано. Он выскочил в коридор, замахал фельдфебелю Лабуденко, начальнику смены караула.
– Снимите нас, пожалуйста. Я покажу, какую кнопку нажать.
Лабуденко, рослый усач с крестом и медалью на груди, спросил:
– С товарищем Знаменским? Я тоже желаю. Клобуков, не жидись. И фотку после отпечатай, своим в Елабугу пошлю.
– А снимать кто будет?
– Это мы устроим.
Фельдфебель подозвал того самого криворукого солдата, что давеча расколотил стекло, и стал распоряжаться подготовкой к съемке.
– Сюда пожалуйте, – попросил он Аркадия Львовича, поставив посередине кабинета стул. – Вы, господа, по бокам сядайте. Ты, Клобуков, сзади встань, а я в горизонталии.
Сам улегся на полу, расправил усы, вынул из кобуры офицерский «наган».
– Давай, Трофимов. Делай, как стенограф скажет.
Прежде чем встать на место, Антон установил выдержку, навел фокус. Света было много, и правильный – наискось.
Аркадий Львович тем временем рассказывал Аренскому (они были давние знакомцы):
– Римму почти не вижу. Вы слышали, что она придумала? Нет? Женское движение с лозунгом: «Бок о бок с мужчинами». Воюет с феминистками, которые не хотят бок о бок. Ужас какие страсти.
– Внимание, пожалуйста. Смотрите в камеру, не шевелитесь! – попросил Антон. – Жми, Трофимов. И еще раз, пожалуйста, для верности!
Потом Аркадий Львович унесся на свою важную встречу, Аренский тоже заторопился – опаздывал в ресторан, но Антону пришлось задержаться: фельдфебель потребовал снять его уже персонально – «анвасом и профилем».
– Напечатай в лучшем виде, товарищ. За нами не заржавеет, – сказал он.
Минут двадцать лишних на всё это ушло, и без четверти два раздался звонок.
Трубку снял Дьячков, он любил отвечать на телефон.
– Стенографический отдел Чрезвычайной комиссии. Слушаю.
Разочарованно повернулся:
– Клобуков, это вас.
– Чего ты, Антош? – сказала Паша и хихикнула. – Суп горячий, стынет. И я тож…
– Бегу, бегу. – И почувствовал, что краснеет.
Спрятал фотоаппарат, подхватил пальто, шапку.
– Стыдно, юноша, – сурово заметил Лавкадий Васильевич.
Антон вздрогнул. Слышал он, что ли? Не может быть!
– Стыдно пользоваться услугами горничной. Всякий, кто здоров, обязан обслуживать себя сам.
A-а, вот он про что.
– Это не горничная. Это моя жена.
Но Дьячков не поверил.
– Жена? В вашем возрасте? И потом, жена не обратится по телефону: «Мил человек».
И тут Антон взял реванш, разом за всё.
– Моя жена из бедной крестьянской семьи. А обращение «мил человек», по-моему, ничуть не хуже, чем «господин» или даже «гражданин».
Впервые мученик царизма поглядел на юного коллегу не как на инфузорию, а с удивлением. Возможно, даже уважительным.
Очень довольный, Антон неторопливо вышел из кабинета и перешел на бег уже за дверью.
С Пашей всё вышло просто и сильно. Потому что сама она была такой: простой и сильной. И что бы она ни делала, выходило естественно, толково и правильно – будто может быть только так и никак иначе. Поразительно: он близко видел и хорошо знал Пашу столько лет, с детства, а главного в ней не распознал. Она как самое жизнь – прочная, теплая, несомненная.
Утром в тот день, который разделил существование Антона на до и после, Паша разбудила его громким плачем. Причитая и всхлипывая, обняла, прижала голову ничего не понимающего «сиротинушки» к горячей полной груди и не позволила подняться с кровати, даже когда он понял из ее бессвязных слов, что отец и мать умерли.
Тогда он тоже затрясся, зарыдал, и Паша гладила его, шептала ласковые слова, как больному ребенку. Укутала, велела лежать. Великое оцепенение нашло на Антона. Ни воли, ни мыслей, ни сил. И потом он действовал, как автомат. Делал, что говорила Паша, а если ничего не говорила – ничего не делал.
«Одевайся» – оделся.
«Не выходи, пока не увезут» – не выходил.
«Подпиши дохтуру бумагу» – подписал.
«Поешь» – поел.
Неизвестно чем закончился бы этот паралич чувств. Но когда чужие люди ушли и унесли носилки, и в квартире опять стало тихо, Паша уложила его на кровать в родительской спальне, накрыла, а сама легла рядом. Она не оставляла Антона ни на минуту. Плакала, причитала, гладила, целовала. Он начал понемногу отмякать, однако всё равно был словно затянут ледяной коркой. Но Паша пробила лёд капелью горячих слез, прикосновением мягких губ, ласковых рук. Всё случилось так постепенно, так неоспоримо. Просто одно перешло в другое, и не было в этом ничего кощунственного или даже стыдного. Паша сказала потом: «Мертвым мертвое, живым живое», и была в этих нехитрых словах мудрость, какую Антон не встречал ни в каких учебниках философии.
С утра началась новая, совсем новая жизнь. Вот что больше всего исцелило, не позволило пропасть. Даже прощальное письмо матери – из-за того, что случилось между Антоном и Пашей – прочиталось по-иному, не как в первый раз. «Живи и постарайся быть счастлив, а если не получится быть счастливым, всё равно живи. Умей ценить то, что жизнь тебе дает, а не тосковать по тому, что она у тебя отняла».
Вот так Антон теперь и жил.
Жизнь давала ему много, очень много.
Во-первых и в главных, осуществилось то, что он всегда подозревал: его бытие на свете оказалось уникальным, беспрецедентным – не по протоптанной тропинке, а по свежему насту, когда каждый шаг открытие. И ведь не в одиночку он шел, а с целой страной! Голова кружилась, перехватывало дыхание – и весело, и страшно, но больше весело.
Во-вторых, он вдруг стал взрослым: у него настоящая работа исторического значения, учеба в университете брошена. Помилуйте, какие лекции и семинары, когда ты мало того что в эпицентре великих событий, но еще и кормилец семьи?
В-третьих, конечно, Паша.
Смешно и жалко вспоминать, как он – еще совсем недавно – воображал себе отношения с женщиной. Антону рисовалась некая тонкая, хрупкая особа почему-то непременно в очках или пенсне, с которой они будут долго и постепенно сближаться, сверяя близость взглядов и подстраивая друг под друга струны души, а когда дойдет до первой брачной ночи (здесь фантазия делалась пугливой, спотыкающейся), всё устроится как-то само собой, ведь не они же первые, у всех получается. Но уверенности в этом все-таки не было, и еще – смех да и только – он ужасно боялся, что возвышенная подруга жизни никогда не разденется при нем донага, а он постесняется ее об этом попросить. И вообще они оба будут всё время этого стесняться.
А Паша в том, что касалось телесности, смущения не знала, и ей, кажется, вообще не приходило в голову, что в этом простом и жарком деле можно чего-то стесняться. Если ей хотелось любви, она не жеманилась, а сама прижимала к себе любовника, бесстыдно и требовательно брала его в горсть, тянула, как корову за вымя. Когда становилось хорошо, ойкала и вскрикивала, мотала пылающим лицом по подушке, разметывая волосы. В каждой комнате она поставила по чугунной печке и дров не жалела, так что в квартире все время было жарко, и в ванную – из ванной Паша часто ходила совсем голая. Фигура у нее была не похожа на то, что когда-то воображалось Антону: ничего тонкого и хрупкого, туловище похоже на сочную грушу, и груди тоже словно груши – поменьше, но все равно большие, овсяные волосы падают на спину, свисают до поясницы. Вот они какие, настоящие, а не нафантазированные женщины.
До Пантелеймоновской улицы Антон дошел очень быстро, иногда переходя на рысцу. Было жаль двадцати минут, украденных из обеденного времени Лабуденкой.
– Ну вот и я, – сказал он на пороге. – Пришлось задержаться. Здравствуй, Пашенька.
Удивительно и не верится: целых семь лет это румяное, родное лицо значило для него что-то совсем другое, и прикосновения имели совершенно иной смысл (верней, не имели смысла), и даже называл он ее иначе – на «вы». Это-то Паша исправила в самый первый день, еще до того, как их отношения судьбоносно переменились. «Нечего мне выкать, – сказала. – Татьяна Ипатьевна дурью маялась, пускай, а нам незачем».
– Не поспеем теперь. – Паша втянула его за шарф в прихожую, начала расстегивать пальто. – Выбирай. Либо есть, либо еть.
Когда были живы родители, невозможно б и вообразить, чтоб Паша произносила такие слова. Но мало ли чего еще недавно вообразить было нельзя?
– Я не голодный, – соврал Антон, и Паша, не ограничившись верхней одеждой, начала его вертеть, будто тряпичную куклу, сдергивая всё остальное.
Обратно на службу он несся тоже бегом. За опоздание хотя бы на минуту Лавкадий Васильевич писал рапорты главному редактору стенографической части Александру Блоку. Даже Аренский старался возвращаться ровно к трем: говорил, не может допустить, чтобы по его вине певец «Прекрасной дамы» оказался вынужден разбирать дьячковские кляузы.
На углу Садовой, где были навалены груды подтаявшего черного льда, Антон поскользнулся, упал боком и выронил краюху хлеба с колбасой, что сунула ему в карман распаренная Паша. Эх, досада какая! Всего пару раз успел откусить. И не подберешь – бутерброд угодил в натоптанную лепеху собачьего дерьма. После февральской стрельбы дворники взяли моду чистить тротуар только перед своими домами, а мусор и снег просто отгребали в сторону. Без полиции припугнуть бездельников стало некому, а на домовые комитеты «пролетарии метлы» плевать хотели.
Чертыхаясь. Антон отряхнулся, засеменил дальше. В кармане оставалась еще половина печатного пряника – с ровным следом от Пашиных зубов. «Половинку лялечке, половинку дролечке, чтоб любил, не забывал», – сказала она. Странно это всё, удивительно, ни на что не похоже. Вот о чем думал младший стенографист, перебегая улицу под носом у грузовика с солдатами. Солдаты обложили его матерком и свистом – не по злобе, а так, со скуки. Над кабиной развевался красный флаг. Один, в криво заломленной папахе, веснушчатый, оскаленный швырнул в Антона огрызком яблока – метко, прямо в грудь. Под гогот, под зловонное фырканье выхлопа, Антон поднял кулак, погрозить, но передумал. Еще пальнет, с дурака станется. Вон у него ружье за плечом. В газетах писали, что такие же давеча тоже катались, пьяные, устроили для развлечения стрельбу и ранили прохожего, тяжело. Все-таки революция революцией, но пора бы уже в городе навести какой-то порядок. Прав Аркадий Львович: «Революция – не вседозволенность и распущенность, а сознательность и дисциплина». Но только пока всё наоборот, с каждым днем дисциплины всё меньше, а безобразий всё больше. По тем же преображенцам, что несут караул в ЧСК, видно. Еще неделю назад были молодец к молодцу, подтянутые, четкие, ходили строем, а сейчас не узнать.
Часовой у дверей Комиссии стоит, грызет семечки. Узнал стенографиста – подмигнул, и только. Двое на пропускном резались в дурака, и выигравший с азартом лупил второго картами по лбу.
– Опаздываешь, стенография, – сказал победитель (его фамилия была Куцык). – Привезли уже кровососа какого-то, в колидоре сидит. Потому писать некому. Бежи, не то заругают.
Антон взволновался. Как это «некому»? Ну, Аренский, положим, с обеда опаздывает, но Дьячков-то должен быть на месте?
Записывать на допросе ему еще ни разу не доводилось. Справится ли? И, главное, расшифрует ли потом свои каракули? Ведь это не шутки.
По лестнице на второй этаж он поднимался медленно. Может, как-нибудь устроится?
Но ступеньки кончились, повернул за угол, и точно: сидит на стуле некто в шинели с отпоротыми петлицами, с опущенной седой головой, а рядом топчется конвойный со штыком, Томберг из следственно-распределительного сердито размахивает руками.
– Где все стенографисты? – кипятился Томберг. – Четвертый час! – И увидел понурого Антона. – А, Клобуков! Отправляйтесь с арестованным в четырнадцатую.
Но сзади раздались быстрые шаги, шелестнула пола бобровой шубы, и обогнал заробевшего Антона чудесный Август Николаевич.
– Явился, как лист перед травой! Готов исполнять священный долг! А юношу не троньте, у него и так дел полно!
Одновременно с облегчением (уф, пронесло!) испытал вдруг Антон чувство совсем другого рода – неприятное, зябкое, будто холодная шершавая рука схватила и сжала обнаженное сердце.
Это арестованный поднял голову и оказался человеком из прежней жизни, из самого последнего ее вечера, который, сколько ни проживи, никогда не забудешь.
Со стула с трудом поднимался болезненно бледный, сутулый, мятый Ознобишин, тайный советник. Антона он за широкой спиной Аренского не видел, но и на писателя едва взглянул. Привычно сложил руки за спиной, сгорбился, зашаркал галошами вслед за Томбергом, а солдат слегка подталкивал арестанта в спину.
Сердце сжалось не оттого, что под конвоем вели знакомого. Ничего удивительного, что один из руководителей преступного министерства находится под следствием, да и какой он, в сущности, знакомый? Но последний раз Антон видел Ознобишина, когда отец и мать были живы. Мир тогда еще не перевернулся с ног на голову, и вдруг стало до пелены в глазах жаль всего, чего не вернуть: родителей, маминого дома, канувшей жизни – пусть невзрослой и безответственной, но счастливой.
Антон смотрел на ссутуленные плечи арестанта и чувствовал странную близость к нему. Будто некая эмоциональная нить связывала его со всеми, кто по воле случая разделил с ним тот вечер, – не только с Аркадием Львовичем, Бердышевым или Бахом, которых он знал с детства, но и с этим вот Ознобишиным, и с непонятным Панкратом, который назвался двумя разными фамилиями.
А еще пришло в голову: теперь, с нежданным явлением тайного советника, замкнулся некий круг. Все эти люди, один за другим, перешагнули из той жизни в эту и обозначили здесь свои скорректированные координаты. Примус был в этой цепочке последним.
Ну, Знаменский-то никуда не исчезал, его Антон видел часто, а в последние недели каждый день.
Бердышев приходил на похороны. О чем-то расспрашивал, что-то серьезное втолковывал, но Антон был в таком состоянии, что почти ничего не понимал и только моргал ресницами. Потом обнаружил в кармане конверт, плотно набитый кредитками. Бердышевские деньги теперь у Паши и до сих пор еще не кончились.
Бах… Этот явился на сорок дней. Паша приготовила кутью, хотя Антон говорил, что никого не будет, потому что революция и кто ж вспомнит? «Не заради людей, а заради дорогих покойников, – сказала Паша. – Чтоб не маялись. А кому надо – вспомнят». После того, как она всё взяла на себя – и обмывание, и похороны, и прочие горестные хлопоты – он привык доверяться ее простой мудрости. Сели, выпили по рюмке водки – звонок. Права оказалась Паша. Иннокентий Иванович, нежная душа, не забыл, несмотря на все «марсельезы», декларации и манифестации.
Бах выпил немного, но опьянел и говорил путано, витиевато. Обращался в основном к Паше, и она важно ему кивала, но после призналась, что ничего не поняла. А Иннокентий Иванович объяснял, что на него снизошло озарение и теперь ему стало понятно многое, не доступное прежде. Главная ошибка рода человеческого и вообще земного разума в том, что неправильно трактуется понятие «справедливость», возводимое в высшую ценность и заветную цель всякого общественного движения, но на самом деле путь этот обманный, от беса, потому что земной справедливости нет и быть не может. Тварный мир – не богадельня, где всякому дается поровну, из жалости. Наша здешняя жизнь – огненная кузница, где Бог кует и обжигает души, проверяя, какая треснет, а какая закалится и крепче станет. Вот в чем соль и суть, и никакое это даже не открытие, а ведомо давным-давно, еще со времен отцов-вероучителей, и даже сформулировано было почти в таких же метафорах, но люди увлекаются химерами своих смехотворных технических и социальных завоеваний, воображают себя демиургами, и сбиваются с дороги, и обрекают себя на лишние зигзаги и мучения. Вот, стало быть, как понял революцию бедный боговзыскующий Бах.
Один раз видел Антон и таинственного Панкрата Евтихьевича, да не только видел, но и до некоторой степени его себе разъяснил, так что Рогачов-Михайлов сделался менее загадочен. Было это неделю назад и, кстати сказать, там же во второй раз довелось столкнуться с Петром Кирилловичем, случайно. Интересно в тот день всё сложилось. Антон потом много про это думал.
Любимым развлечением жителей революционного Петрограда стало посещение митингов разных партий, которых расплодилось невиданное множество. Порядки всюду были разные. К кадетам, народным социалистам, социал-демократам и эсэрам Антон ходил один, Паше от долгих речей становилось скучно. Она охотно слушала анархистов, хоть и называла их «трепачами», а больше всего любила собрания женских организаций и даже записалась в «Союз горничных, нянь и кухарок».
Но самые интересные сборища происходили возле особняка балерины Кшесинской, тесно связанной с царским домом и потому сбежавшей от революции. Ее особняк явочным порядком заняли социал-демократы большевистского направления, о которых во время войны было мало что слышно, зато теперь они быстро наверстывали упущенное. С тех пор, как из швейцарской эмиграции загадочным путем, чуть ли не через враждебную Германию, вернулись вожаки этой партии, перед виллой на Большой Дворянской не прекращался шумный митинг. Антон слышал, будто там установлены какие-то особенные порядки, и вот наконец выбрался посмотреть, что за большевики такие.
Широкая улица была вся заполнена серыми шинелями. Над папахами и фуражками клубился сизый дым. «Фу, – сказала Паша, – солдатня одна. Ишь махоркой навоняли. Пойдем отседова, Антуль. Не слыхали мы ихней матерщины». И ушла, а он остался: интересно. Пока протискивался к кокетливому палаццо, поближе к размахивавшему с балкона рукой оратору, разобрался, что к чему. Здесь одни солдаты, потому что митинг устроен специально для них. Стояли они не ровной толпой, а тесными кучками – должно быть, держались своих, с кем пришли. И настроение в кучках было разное. Где-то слушали внимательно и одобрительно покрикивали, где-то болтали между собой и ржали, а в иных местах пошумливали с явным вызовом. Но всякий раз, когда откуда-нибудь раздавалось «Долой!», «Будя брехать!» или «Вильгельм тебе товарищ!», туда с разных сторон начинали подтягиваться люди – кто в шинели, кто в рабочей тужурке, все с красными повязками. Махали кулаки, взлетали, сверкая пряжками, ремни. Но драка быстро прекращалась, потому что усмирители набегали дружно, и было их много. В минуту крикунов растаскивали в стороны, и те поодиночке быстро затихали. Не наврали, выходит, про диковинные большевистские порядки. Хотя, если задуматься, может и правильно? Не хочешь слушать – уходи, не мешай другим.
– Кто выступает, не знаете? – спросил Антон у пожилого бородатого артиллериста – нарочно выбрал человека помирнее видом, кто не пошлет.
Солдат охотно ответил:
– Самый первый большевик, Ленин фамилия. Башковитый мужчина, дело говорит.
Снизу оратора было видно плоховато – высок второй этаж. Крупная лысая голова, бородка, быстро шевелящиеся губы, пронзительный голос на последнем пределе. Одет главный большевик был во что-то нереволюционное: не китель, не френч, а визитка под расстегнутым цивильным пальто, воротнички, галстук. Странно, что солдатня его вообще слушала.
Но когда Антон напряг слух, удивление прошло. Лысый кричал то, что толпе не могло не понравиться. Он втолковывал серой шинельной массе, что теперь она – хозяйка России. «Главная сила теперь вы, солдаты! – надрывался большевистский вождь. – Вы, крестьяне и рабочие с оружием в руках! И напрасно думают капиталисты и генералы, что революция закончена! Революция только начинается! Революция остается революцией до тех пор, пока она растет и крепнет! И зависит будущее революции от вас, товарищи солдаты!»
Фразы были короткие, понятные самому неграмотному человеку, притом каждую свою мысль Ленин повторял по нескольку раз, немного меняя и переставляя слова. Блестящие ораторы на митингах эсэров или меньшевиков говорили совсем по-другому. Правда, и публика там слушала иная.
Низкорослый солдатик, стоявший неподалеку, воспользовался короткой паузой и тонким голосом крикнул вверх:
– Я интересуюся, а ты, гражданин, из каких будешь? Сам-то в солдатах, поди, не служивал? А коли не служил…
Сзади подлетели двое с красными повязками, влепили плюху по затылку – у сомневающегося слетела папаха, нагнулся поднять, недоспросил.
Но выступающий уже заканчивал. Еще раз крикнул, махнув сжатым кулаком, что будущее России в руках революционной армии, и попятился с балкона. Толпе речь понравилась. Свистели мало, больше одобрительно гудели и аплодировали.
Людская масса задвигалась, но не расходилась. Антон увидел, что один большой митинг разделился на десятки маленьких. В центре каждого – человек, что-то говорит: убеждает, призывает, отвечает на вопросы.
Походил от кружка к кружку – везде одно и то же. Агитаторы-большевики, всяк на свой лад, дожевывают непонятливым или колеблющимся ту же самую мысль: нельзя бросать оружие, иначе буржуи снова согнут трудящихся в бараний рог.
Кто-то положил Антону руку на плечо. Обернулся – Петр Кириллович Бердышев. В надвинутом на глаза смушковом кепи, в черном полупальто, суженные глаза недобро горят.
– Вы-то что здесь делаете? – удивился Антон.
– Изучаю врага. – Бердышев не озаботился понизить голос. Правда, в царившем вокруг гаме никто бы все равно не услышал. – Вот с кем драться придется. Скоро. Когда слюни высохнут и осядет муть, теплых никого не останется, только холодные и горячие. Мы и они. – Он качнул головой в сторону пустого балкона. – Чья возьмет, того и Россия.
– Вы про большевиков? – Антон поглядел на ближайшего из ораторов, тот тряс зажатой в руке кепкой и кричал что-то про мировую революцию.
– Не туда смотришь. – Петр Кириллович взял за плечи, развернул в другую сторону. – Полюбуйся-ка. Я так и знал, что он из этих.
По соседству толпа – человек сорок или пятьдесят – стояла плотнее и слушала внимательней. Выступавший, наверное, влез на ящик или, может, на бочку. Над папахами было видно непокрытую русую голову и шинельные плечи.
Антон чуть не вскрикнул. Панкрат!
Веселый гость, явившийся в дом Клобуковых в канун страшных событий, и здесь, среди галдящего скопления грубых, возбужденных людей, тоже держался весело. Он не ораторствовал, не размахивал руками, а просто разговаривал, вроде и негромко, но сильный, уверенный голос был слышен каждому. Казалось, не очень-то ему нужно беседовать с солдатами, ничего он от них не добивается, ни к чему не призывает. Это они задают ему вопросы, а он отвечает, коли уж им охота знать.
– Не-е, дядя, – усмехался Панкрат сивоусому саперу, – в деревню еще успеешь. Деревня, она навроде хвоста. Как из центра прикажут, так и вилять будет. На фронт надо возвращаться, вот что. Вы теперь умные, революцию вблизи видали, руками щупали. Надо товарищам рассказать, кто в окопах вшей кормит. Полковые комитеты надо под себя подгребать, а то там сейчас оборонцы засели, с ними мы войну не закончим.
И снова вылез щуплый солдатик, которого давеча раз уже двинули по затылку. И опять с тем же вопросом:
– А ты где сам служил, браток? На каких фронтах?
Панкрат ему оскалился.
– Э-э, где я только не служил. Тебе всю мою карьеру описать? Про арестантские роты в Красноводске слыхать доводилось?
Он огляделся – не откликнется ли кто.
Откликнулись, уважительно:
– Слыхали. Гиблое место, хуже каторги. Бывал, что ли?
– Восемнадцать месяцев солененького хлебал. Я много где бывал. – Панкрат махнул рукой. – Так что, про меня будем говорить или про дело?
– Про дело, про дело! – зашумели вокруг. – А может, они там на фронте сами управятся? Боязно Питер буржуям оставлять. Без нас они тут быстро всё на старое повернут!
– Рабочие не позволят. Нашего брата тут триста тыщ! – быстро повернулся в ту сторону Панкрат и снова стал говорить про солдатские комитеты, от которых сейчас всё зависит.
Кто-то крикнул, задиристо:
– На фронт агитирует, а сам тута посиживает! Хитрый!
Так же проворно Панкрат развернулся еще раз.
– Это я нынче «тута», а в ночь еду на Западный фронт, в полк. Но ты прав, товарищ. Что я вас агитирую? Кто не болтун, а за дело болеет, айда со мной в дом. Потолкуем без базара, по-серьезному.
И спрыгнул с того, на чем стоял. Исчез за папахами. Но тут же в толпе началось движение. Человек десять, а может и больше, двинулись к ограде особняка – за Панкратом.
Хотел и Антон за ними – надо хотя бы поздороваться. Панкрат ведь, наверное, про родителей даже и не знает.
Но Бердышев остановил:
– Идем отсюда, нечего тебе там делать.
Выбрались на другую сторону улицы, где свободно.
– Соврал он про арестантские роты? – спросил Антон, оглядываясь на шевелящуюся серую массу. – Он кто все-таки: Рогачов или Михайлов?
– Рогачов, с нашего курса. – Петр Кириллович хмуро косился на желтые от мочи груды слежавшегося снега. – …Нет, не соврал. Он вообще не из врунов. Только у него одна правда, а у нас другая. И двум этим правдам в России вместе не жить. Про армию он тоже правду говорил. Там теперь всё решается, в частях. За кем полки пойдут, тот возьмет верх. Только скорее всего поделятся полки между ними и нами. Кровь будет, и хорошо, если средняя.
– Как это «средняя»?
– Военно-полевые суды, виселицы. Смертную казнь придется восстановить. А не то будет большая кровь, уже безо всяких судов. Захлебнемся!
Говорил Петр Кириллович так сердито, что Антон притих, испуганный не столько словами, сколько тоном. Молча дошли до моста.
– Ты-то как? – спросил Бердышев, останавливаясь. – Прости, забросил я тебя. Много всякого навалилось. Работы много.
– На фабрике?
У Петра Кирилловича складки от крыльев носа к углам рта опять стали резче.
– Нету больше фабрики. Закрыл.
– Почему?!
– Пролетарии, скоты, самоуправления захотели. Как будто плохо им жилось! Квартиры, столовые, больница, детский…, сад! – Слышать площадное ругательство из уст сдержанного Бердышева было дико. Антон вздрогнул – а Петр Кириллович и не заметил. – Валяйте, говорю, самоуправляйтесь. Без меня! Недели не прошло – станки встали. И черт с ними. Не до фабрики.
Антону хотелось, чтоб Петр Кириллович больше не говорил таким скрежещущим голосом.
– А как Зинаида Алексеевна?
По лицу Бердышева словно кто-то провел мягкой тряпкой, стер злобу.
– Я их с дочкой в Крым собираюсь отправить. Там спокойней. Особенно ввиду грядущих событий, которые неизбежны… – Внимательно, словно только что встретились, осмотрел Антона. – Нет, правда. Ты как живешь? Деньги, что я дал, закончились? Ты скажи.
– Спасибо. Во-первых, не закончились, а во-вторых, я теперь служу. В Чрезвычайной следственной комиссии, стенографистом.
Взгляд у Петра Кирилловича стал рассеянным. Он, кажется, вспомнил о делах, заспешил. На прощанье сказал:
– В следственной комиссии – это хорошо. Должен быть спрос с тех, кто страну до такого довел, со всех этих ознобишиных. Суровый спрос.
Но сурового спроса со сгорбленного седого человека, которого подталкивал в спину конвоир, требовать не хотелось. Он вдруг покачнулся, арестант в генеральской шинели, беспомощно плеснул рукой и, возможно, упал бы, если б солдат грубо не ухватил его за ворот. Антон бросился туда: что такое?
– Сейчас… Сейчас… Голова закружилась, – бормотал Ознобишин белыми губами. – Присесть… На минуту.
Его усадили на стул. Сердобольный Август Николаевич принес воды. Деловитый, вечно спешащий Томберг поглядел на обмякшую фигуру тайного советника, поморщился, перевернул страничку блокнота.
– Тогда вот что. Пойдемте-ка в одиннадцатый, сейчас доставят бывшего обер-прокурора Раева. – Это Аренскому. А солдату: – Вы, товарищ, оставайтесь с подследственным. Когда сможет идти – везите обратно в Петропавловку. Пусть его врач осмотрит.
– Ага, – лениво ответил конвойный.
– Что с вами? У моего коллеги есть сердечные капли. Принести? – спрашивал Антон, наклонившись к Ознобишину. Вспомнил имя-отчество. – Федор Кондратьевич, вы меня слышите? Это я, сын Марка Константиновича Клобукова.
У генерала в подглазьях дрогнули тени, ресницы с трудом открылись. Из-под очков на Антона смотрели слезящиеся глаза.
– А-а, – едва слышно протянул Ознобишин и слабо усмехнулся. – Узнал… Жалко, ваша матушка меня не видит… Когда прощались, она моим здоровьем интересовалась. Теперь она была бы довольна…
Антон выпрямился.
– Моя мать умерла, – сухо сказал он. – И отец тоже.
– Знаю… Скоро мы с ним свидимся. Доспорим…
Федор Кондратьевич откинулся затылком к стене, но глаз больше не закрывал.
– Вас зовут Антон, помню. На Марка похож…
– Знакомый, что ли? – встрял солдат. – Вот и ладно. Ты побудь с ним, товарищ, а я на проходную. Кум там у меня, Терёха Куцык. Может, чайку нальет. Как этот подоклемается, ты меня позови.
Взял винтовку, ушел.
Сердиться на человека в таком состоянии было невозможно. Антон снова спросил про лекарство. Но Ознобишин покачал головой:
– Капли не помогут. Это от изнеможения. Ночью не спал. Ни этой, ни прошлой. Караульные веселятся, скучно им. Каждые полчаса орут: «Превосходительства, подъем!» Строят камеру в шеренгу. Кто замешкается – прикладом.
Антон насупился. Он слышал про безобразия, что творятся в Трубецком бастионе. Многие арестованные жаловались. Караул там совсем разложился. Распускают руки, грубят, могут набросать в суп окурков или вообще оставить какую-то камеру без еды. Аркадий Львович писал жалобы коменданту Петропавловской крепости, а тот в ответ: ничего не могу поделать, они и меня не слушают.
– Не повезло вам с Петропавловкой, – посочувствовал Антон. – На Фурштатской, в бывшем Жандармском, гораздо лучше, все говорят.
Федор Кондратьевич скривил рот:
– Светочи справедливости… Чернышевские… На царские тюрьмы жаловались. Их бы в революционную. На недельку… – Но на язвительность сил у него не хватало. Глаза снова заволокло слезами. – Антон Маркович, голубчик, вы бы дали мне посидеть тут, в тепле. Там же еще холодно, так холодно. Мне бы хоть минут двадцать подремать…
– Конечно-конечно. Отдыхайте. Я, может быть… Вы посидите, вас здесь никто не обеспокоит.
Бедного старика было ужасно жалко. И не чужой все-таки, а из той, родительской жизни. Может, и получится для него что-нибудь сделать.
Невелика птица младший стенографист, но важна не должность, а место службы. Антон уже успел для себя открыть эту древнюю канцелярскую мудрость. Всякий сотрудник ЧСК для лиц, привлеченных к следствию и их родственников, – персона судьбоносная. За последние недели его, мальчишку, десятую спицу в колесе, бессчетное количество раз подлавливали в коридоре или на лестнице дамы с заплаканными лицами. Заискивали, униженно заглядывали в глаза, умоляюще простирали руки, пытались подкупать. Одна – жена министра! – даже встала на колени. Всем от него было что-то нужно: выяснить, выспросить, передать. Он уж и правила выработал: записок не брать, съестного тоже – лишь лекарства и, в качестве особого одолжения, фотокарточки. Что скрывать: когда миновала первая неловкость, Антону это даже стало нравиться. Всякому приятно проявлять великодушие и выслушивать слова искренней благодарности.
Но для знакомого человека можно было попытаться сделать и большее. Отчего не попробовать?
Отправился в караулку, к фельдфебелю Лабуденке.
– Отпечатал карточки? – накинулся тот.
Антон ему с важностью: не такое, мол, это простое дело. Надо пленку проявить, да хорошую бумагу достать. А еще можно красиво исполнить, на паспарту – как портрет получится. Лабуденко, как и следовало ожидать, загорелся.
– Ты уж, товарищ Клобуков, сделай в лучшем виде. За мной не пропадет.
Тут-то Антон и рассказал ему про знакомого старика-генерала, которому в Петропавловке совсем худо. Нельзя ли его как-нибудь на Фурштатскую? Ведь бывает же, что переводят. Вчера, например, не было автомобиля везти жандармского генерала с допроса в крепость, так подсадили в грузовик, что шел на Фурштатскую.
Лабуденко важно ответил:
– Ради тебя, товарищ Клобуков, я деда твоего не то что на Фурштатскую – могу и в Охранное отправить. Никто мне не указ. Запишу в журнале, что оказия случилась, а он у тебя, говоришь, хворый к тому же.
В подвале бывшего Охранного отделения на Мытнинской набережной устроили изолятор. Но камер там было только шесть, и все заняты. Попасть туда у арестованных считалось завидной долей, потому что с самого первого дня караул в бывшем логове сыска держали студенты, а это вам не солдатня.
– Разве там место освободилось?
– Ничего, – уверенно сказал фельдфебель. – Потеснятся. В обратку машина не поедет, охота им из-за одного человека туда-сюда бензин жечь. Только ты насчет портрета не подведи.
Обрадовался Антон ужасно. Поспешил назад к Ознобишину. Тот ожил. Тряс руку, благодарил со слезами на глазах. Сказал, что великодушием Антон Маркович пошел в отца. Тут уж и Антон растрогался.
На всякий случай довел старика прямо до автофургона с надписью «Д.А.Р.Г.» – эта машина, реквизированная из дворцового авторемонтного гаража, курсировала между всеми тремя следственными тюрьмами и Комиссией.
– Арестованного Ознобишина на Мытнинскую, – сказал сопровождающему Антон. – Глядите, гражданин унтер-офицер, не перепутайте.
– Когда я путал? – Унтер записал что-то в растрепанной тетради, лениво гоняя цигарку из угла в угол рта. – На Мытнинскую так на Мытнинскую.
– На Мытнинскую? В Охранное?
В первую секунду Филипп подумал – ослышался. Но поглядел на хитро-улыбчивую дядиволодину физиономию и сообразил: шутит. Захотелось ответить в масть, тоже шутейно.
– Щас. Только значок прицеплю. И удостоверению на лоб приклею.
Дядя Володя улыбаться перестал.
– Значок? – медленно повторил. – Удостоверение? Ты чего, Филька, – инвалид мозга? Дай-ка их сюда. Живенько!
Сбегал Филипп, достал из укромного места (в чуланчике, под половицей) служебную бляху и новенькое, не успевшее истрепаться удостоверение, где всё честь по чести: фотка, печать, подпись господина генерал-майора и должность – «стажер».
Картонку дядя Володя порвал на шестнадцать кусочков, чиркнул спичкой – запалил. Жетон (который так недолго довелось поносить, а предъявить во страх обывателям, отвернувши лацкан, вообще ни разу) своими толстыми сильными пальцами смял, потом еще каблуком сплющил, в непонятную лепеху, и только после этого зашвырнул через окошко на крышу сарая.
– Дура! – сказал. – Сам запалился бы – не жалко…
И хлестко смазал по щеке – чуть башка с шеи не соскочила.
– А ну, одевай чего похуже! Кепчонку, сапоги смазные и вон, что это на дровах у тебя валяется? Ватник? В самый раз будет. Живо, живо!
Потрогав горящую огнем щеку, Филипп быстро переоделся. На Мытнинскую? Как на Мытнинскую? Там же теперь флаги красные и революционеры с винтовками. Он издали, с Биржевого моста, видел – ближе подходить побоялся. Страшно на Мытнинскую, и главное зачем?
Но спорить с дядей Володей еще страшней. По морде в четверть силы – это пустяки. Зимой, когда Филипп объекта одного упустил, дядя Володя начальству рапорт писать не стал, сам наказал: пыром под дых, после по ушам ладонями (неделю в голове звенело), да носком штиблета по щиколке, а когда упал, еще и по копчику, по ребрам. Филипп извивался, выл, руками яйца прикрывал, а старшой бил, приговаривал: «Не позорь бригаду, не позорь! Почему упустил? Почему не взял?»
А как его было взять, когда у него «дура» в руке? Стажеру-то оружия не положено! Хотя дядя Володя, конечно, и без оружия взял бы.
Он был человек капитальный, каких на свете немного. Только таких людей и нужно слушать, только их и держаться. Это Филя сызмальства понял. У него и батя Степан Гаврилович Жуков был такой же – шагает, будто землю от себя отталкивает. Эх, батя, батя…
В глаза Филипп отца «батей» никогда не называл, только по имени и отчеству. Хотя у самого в метрике отчества никакого не было и фамилия значилась матернина, Бляхин, потому что у бати имелась своя семья, законная, но, слава богу, только дочки, а сын – Филя, единственный. Иначе, наверно, не приходил бы Степан Гаврилович к матери и раза в неделю, потому что на кой она ему нужна? Если по спальному делу, сыскал бы покраше и помоложе, он был мужчина видный: стать, рост, усы, портупея с шашкой, на фуражке герб тюремного ведомства – служил Степан Гаврилович старшим надзирателем в знаменитых «Крестах», которые именовал не иначе как гордым именем «Замок».
Жалованье у бати было хорошее. Были, как потом узнал Филя, и кроме того источники довольствия, поважнее казенного содержания: люди в «Крестах» сиживали разные, в том числе денежные, и всем что-то надо, чего по правилам не положено. Кто из надзирателей жадный и глупый, рано или поздно попадался и сгорал, но Степан Гаврилович меру знал и законы уважал – те, какие смысл имеют. А если закон глупый и обойти его невелико прегрешение, то зачем же человеку на хорошей должности от своей выгоды отказываться? Передать что-нибудь не сильно возбраняемое, свиданку устроить, продовольствие лишнее дозволить, поменять камеру сырую на теплую – мало ли возможностей, не зарываясь, свой кус ситного иметь, да с маслицем и колбаской?
Платил Степан Гаврилович мамке, чтоб не блудовала и за сыном хорошо доглядывала, по пятидесяти рублей в месяц, и ничего, на свою семью оставалось с избытком. Супруга у него чисто жила, дочки в гимназию ходили, держали Жуковы горничную и чухонку-повариху. Сам Филя там, правда, не бывал, потому что неприлично это – байстрюка в дом приводить, но знать знал, интересовался.
От своей жены батя не таился, не такой человек. Не скрывал, куда ходит со вторника на среду ночевать. Та ничего, терпела. Понимала: сын.
Во вторник с обеда мать Филю принаряжала, волосы расчесывала и мазала маслом, а если длинно отросли – стригла. Степан Гаврилович распущенности и непорядка очень не любил. Сильно мамка его боялась. От ухажеров, если появлялись, как от чумы, бегала. Потому Жуков, если что, сразу узнает.
Филя отца тоже трепетал, хотя тот никогда его пальцем не тронул. Требовал, чтоб сын учился только на «отлично» – так Филипп, пока ходил в четырехклассное, каждый урок наизусть вызубривал, слово в слово. Память у него от этого закалилась до невероятности (после на службе пригодилось).
Думал, если училище первым закончит, отдаст батя и его – ну, не в гимназию, так хоть в реальное. Выучишься на техника или даже инженера, будешь жить не в бревенчатом бараке на Лиговке, а по-господски. В детстве много мечталось о будущей прекрасной жизни.
Вышел он самым первым учеником, о чем бате с гордостью предъявил похвальную грамоту. Но Степан Гаврилович, внимательно прочитав златобуквенный документ, про дальнейшую учебу ничего не сказал, а сказал: «Ну коли ты с толком, поступай в службу. Старайся – в люди выведу».
От этих слов Филя обрадовался, про реальное жалеть и не подумал (будет мозги зубрежкой-то сушить), вообразил, будто всемогущий батя его, дурака тринадцатилетнего, враз на какую-нибудь видную должность определит.
Степан Гаврилович постановил ему идти мальчиком в трактир.
Трактир тоже назывался «Кресты» и находился аккурат напротив тюремного замка. Сюда приходили посидеть, выпить чайку и не только чайку служащие краснокирпичного заведения, чужих-посторонних здесь не привечали.
Без малого семь лет Филипп Бляхин в «Крестах» произрастал, дойдя от подметальщика в зале для рядового состава до официанта в отделении для господ классных чинов. Все им были довольны, потому что проворен, сметлив и не вороват. Предлагали даже в буфетчики – в неполные двадцать лет! Но батя не позволил. Ты мне, сказал, не за стойкой, а близ столов нужен.
Никто в трактире не знал, чей Филька сын, и говорили при нем свободно, про всякое. А Степан Гаврилович еще в самом начале наказал: слушай всё, о чем болтают, и после мне рассказывай, до последней мелочи. Что ж, память на грамматических и законобожественных учебниках навострённая – запомнить нетрудно. В конце дня Филя слово в слово отцу всё передавал. И не сразу стал понимать, сколько Степану Гавриловичу пользы от этой малой услуги. Люди в Замке служили непростые, каждый задним умом крепок, на чужие прибытки завистлив, собою неочевиден. Но всё равно ведь человеки – ремень распустят, ворот расстегнут, шкаликом-другим прослабятся и болтают. У всякого есть какой-никакой приятель или сотоварищ, рука руку моет. На мальчишку, что на полу пятно затирает или крошки смахивает, внимания не обращают. Иногда похвастают чем или начнут против кого-то сговариваться – а у Фили ушки на макушке.
Капитальный был ум у бати, ничего не скажешь. Далеко смотрел, верно просчитывал. От своего человечка, от крохотных его подслушек, не раз выходила Степану Гавриловичу совсем некрохотная выгода, а пару раз вовремя спознанная против него козня разваливалась от опережающего маневра.
Тюремные надзиратели публика хоть и денежная, но прижимистая. На чай давали скупо, но батя поставил сынка на свое собственное жалование и еще приплачивал, если узнавалось что-нибудь нужное. Главное же – от года к году Филя все больше чувствовал, что становится для Степана Гавриловича, повелителя его судьбы, нужным помощником. По субботам начали вдвоем обедать в ресторации, такой у них завелся обычай. Кушали в отдельном кабинете, часа по два, говорили. После третьей рюмки розовый батя любил перед сыном горизонты развернуть.
«Держава наша российская на таких, как я, стоит, – говорил. – Мы здесь костяк, соль и опора. За это нам уважение, защита и дозволение от службы прикармливаться – с совестью, конечно, стыд не теряя. Ты, Филька, не жалей, что я тебя дальше учиться не попустил. У нас шибко ученым доверия настоящего нету. Опять же в разумении прибытка. Ну был бы я, скажем, офицер или даже начальник Замка. Сидел бы на одном жалованье, дурак дураком. Да еще бумажки пиши, на репортации ездей, трясись – не проштрафиться бы, а то переведут, как нашего капитана Сусонова за арестантскую голодовку в Зерентуй, и не откажешься – служба. На кой мне ихние звездочки? Мне лычек довольно. А уважение и так есть. Мне вот его высокоблагородие особым ходатайством потомственное почетное гражданство добыл. Усердствуй, Филя, радуй папашу – и я тебя, может, узаконю. Будешь тоже потомственный почетный гражданин, и при отчестве – Степанович».
Однако, когда Филипп принял первое в своей жизни самостоятельное решение – поступить в Охранное, а там прочерк в графе не поставишь, то записался «Владимировичем». Степан Гаврилович тогда на сына крепко надулся за своевольство, на глаза показываться воспретил. Ну и ляд с ним. Сколько можно заради батиных прибылей молодой век губить в ожидании благодарностей? До морковкиного заговенья? А отчество Филипп – с позволения, конечно, – объявил в честь нового своего благодетеля.
Пухлый, улыбчивый дядя немолодых лет со сверкающей, будто костяной бильярдный шар, головою, повадился ходить в «Кресты» месяца за три до того. Был он общителен, водил знакомство с несколькими заслуженными надзирателями, но вина с ними никогда не пил, только чай, и тот слабый. Это уже потом узналось, что Владимир Иванович трезвенник и даже сыроядец. То-то он всё похрупывал репкой или чищеной луковичкой, которых в глубоких карманах у него водился неисчерпаемый запас. «Вот оно, здоровье, вот он, оберег от всех хвороб», – приговаривал. И верно, сколько Филипп его знал, дядя Володя ни разу не болел. Правда, и дух изо рта у него был тяжелый, от лука-то. Начальство ему за это пеняло, господин капитан Шелестов нос платочком прикрывал, но терпел, потому что специалиста-уличника лучше бригадного филера Слезкина не было во всем петроградском Охранном отделении.
В «Кресты», как позднее выяснилось, Владимир Иванович зачастил по одному сыскному делу, касавшемуся побега группы политических. Ну, то есть это они, анархисты, думали, что побег готовят, охранника подкупили и всё устроили, а на самом деле пристрелили их, всех троих, едва они через стену перелезли, на полном законном основании. Дядя Володя за эту операцию наградные получил и после хвастал, сколько он выгоды отечеству доставил: и опасных врагов государства обезвредил, и казне экономию обеспечил – ни на суд тратиться, ни на этапы.
Филя к непонятному завсегдатаю давно приглядывался. Любопытно: что за человек, зачем ходит, о чем с «крестовцами» шепчется? Но у дяди этого будто глаза были на лысом затылке. Как тихо ни подходи, вмиг замолкал, оборачивался, да только добродушно посмеивался.
А однажды, осенью было, вдруг подошел, когда Бляхин у себя в закутке стаканы мыл.
– Не надоело? – говорит. Голос уютный, славный такой. Взгляд мягкий.
Филя немножко перетрусил. Неужто сообразил тихоня этот, что парнишка-официант неспроста меж столов шныряет.
– О чем это вы, не пойму…
Круглолицый человек подмигнул.
– Не про папаню твоего. Отцу помогать – дело доброе. Я чего спрашиваю: не надоело такому ушлому грязную посуду таскать? Присмотрелся я к тебе, Бляхин, справочки навел. И хочу сделать интересное предложение…
Так и вышло, что в сентябре прошлого года оказался Филипп учеником филера и стал ходить на службу в известное всему городу здание на углу Александровского проспекта и Мытнинской набережной. Капитан Шелестов (вообще-то он титулярный советник был, но любил, чтоб по-военному называли) чутью Владимира Ивановича верил и взял парнишку почти без расспросов. Оглядел с головы до ног, кивнул: «Как есть дворняга. Ноги от таксы, лоб от мастифа, глазенки от добермана. Неприметный, жилистый. То, что надо. Беру тебя, Бляхин, с испытательным сроком. Учись пока, а там посмотрим».
Учиться ремеслу было интересно и с филипповой цепкостью нетрудно. Первым делом будущих филеров «натаскивали» – то есть обучали азам: наблюдательности и составлению словесного портрета. Тут никакой самостоятельности не дозволялось. Описывать объект наблюдения строго по порядку: пол, возраст, рост, телосложение, цвет волос, предположительная народность, наличие особых примет, во что одет. Лицо описывать сверху вниз: брюнет-шатен-блондин-рыжий-седой-лысый (а не «чернявый», «каштановый», «белобрысый», «плешивый» или еще как-то), форма носа, овал лица и прочее, и прочее. Рост и все расстояния в Охранном определялись не по старинке, а по-европейскому обычаю, на метры и сантиметры, никаких аршинов с вершками.
По всем этим премудростям Филипп шел в классе первым и был раньше всех допущен ко второму уровню, практическим занятиям. Здесь обучали маскировке, японской джиу-джитсу и французскому савату, стрельбе с обеих рук. Бляхин в первачах не ходил, но явил себя не хуже прочих. На третьем месяце был он выпущен на улицу и две недели проходил курс учебной слежки. Это когда кто-нибудь из опытных агентов изображает объект, который надобно «выявить», «выяснить» или «задержать» (тоже не просто слова, а термины – у каждого свой точный смысл). К примеру, «выявление» не предполагает никакого контакта с объектом или его окружением. Требуется просто установить, где человек проживает и что собою являет: подозрительный или так, случайно подвернулся. «Выяснение» посложнее. Это уже работа с установленным врагом, про которого нужно собрать все доступные сведения. Ну, «задержание» – понятно. До этого ответственного и опасного дела зеленых агентов вроде Филиппа, конечно, не допускали, однако все правила и приемы он был обязан знать. Мало ли что?
И когда дядя Володя взял Бляхина к себе в напарники, уже не на учебную, а на «боевую» слежку, с первого же раза пришлось одного агитатора брать в крутой залом. Ничего, не сплоховал Филя. Держал гада крепко за ноги, пока Слезкин руки вязал. Получил потом благодарность в приказе и пять рублей наградных. Вроде немного, а приятно.
Правда, вскоре – это когда Филипп во дворе за Казанской улицей человека с «браунингом» упустил – дядя Володя помимо того, что бока намял, еще и оштрафовал на ту же пятерку. Но были после еще премиальные, а за битого, известно, двух небитых дают.
Нравилась Бляхину служба – не сказать как. Во-первых, давала освобождение от военного призыва, а уж и возраст подошел. Во-вторых, очень это приятно – глядеть на телятину обывательскую и знать: я над вами досматривать поставлен, мне от власти доверие. В-третьих, обрисовывалась перед Филиппом прямая и ясная дорога, светлое будущее. Думал, выйдет из стажеров в младшие филеры, потом в старшие, а лет через пять-десять и в бригадные, как дядя Володя. Учебы Бляхин не боялся, ибо знал: чего умом не возьмешь, зубрежом одолеешь. При хорошем от начальства отношении и примерном формуляре можно экзамен на классный чин сдать. А выйдешь в чиновники, да по охранному делу – тогда и горизонт тебе не преграда.
Уверен был, что держит жар-птицу за хвост. Но подвела птица. Обожгла пальцы огненными перьями, хлестнула по харе пламенем – еле жив остался. Кто б мог вообразить, что гранитный, чугунный, бронированный, на тыщу лет сооруженный чертог с гордым именем «Империя» рухнет, будто трухлявый сарай, передавив верных своих сторожей.
Батю Степана Гавриловича, царствие небесное, лихие люди, шпана уголовная, забили железными ломами и лопатами во время разгрома «Крестов», вкупе с еще несколькими надзирателями, кто никак поверить не мог, что закону настал конец, да не сбежал вовремя. Так и не довелось Филе замириться с родителем, получить его отеческое прощение.
Он и сам-то 27 февраля, в черный день, еле ноги унес.
С утра собрали всех на Мытнинской. Ожидалось, что беспорядки, разразившиеся по всему городу, будут подавлены силой оружия, и тогда начнется у сотрудников самая работа: хватать зачинщиков и агитаторов, пока не забились по щелям.
Но заполдень стало ясно, что войска по толпе стрелять не будут, и как-то сделалось тошновато. По телефону сообщили, что окружной суд и сыскная полиция разгромлены. Гвардейская полурота, которую генерал Глобачев вызвал для охраны своего важного учреждения, вела себя погано: офицеры куда-то подевались, а солдаты поглядывали на окна недобро, некоторые плевали и кулаком грозили. Начальник от греха отправил гвардейцев назад, в казарму. В пятом часу прибежали наблюдатели, поставленные со стороны Александровского. Большущая толпа раздербанила там спиртоочистительный завод и, пьяная, шумная, двинулась к Охранному.
– Двери запереть! Расходиться поодиночке! – приказал тогда господин генерал.
Ну, все и кинулись – кто куда. Бляхин, когда дворами бежал, из окна откуда-то засвистели, крикнули: «Держи легавого!» Страшно было.
Но уберег Господь. Пожар был в Охранном, все секретные бумаги сгорели, портреты разодрали и даже, сказывали, мебель зачем-то покрушили. Но благодаря генералу Глобачеву сотрудников никого на месте не застали. Добрался Филипп через ополоумевший город к себе на Лиговку и с тех сидел тише воды, ниже травы, помогал матери – она у Николаевского вокзала пирогами торговала, так он взад-вперед корзинки таскал: туда полные, обратно пустые. Заработок был скудный, но спасибо хоть такой.
И вот, откуда ни возьмись, дядя Володя. Всё такой же. Зубы скалит, командует, дерется. Будто не было никакой революции.
Филипп ему:
– Мне надо пироги вынимать, к пяти часам на вокзал нести.
А дядя Володя и не слушает. Говорит со смешком: «Беда, коль пироги начнет печи сотрудник». Взял за шиворот, как кутенка, усадил к окошку, где светлее, и стал колдовать над бляхинской физиономией. Достал филерский набор (разработан специалистами, для быстрого изменения внешности), приклеил Филиппу жидкие усишки, помазал чем-то на щеках и еще у краешков глаз. Посмотрел на себя Бляхин в зеркало – не узнал. Заскуластела рожа, зататарилась. Себе бригадный пристроил лядашую бороденку и растрепанный парик. Он для того и растительность на голове брил, чтоб сподручней было преображаться.
– Пойдем, – говорит, – Ахмедка, по дороге объясню. Я тебя буду Ахмедкой, а ты меня, если что, зови Никифором. А лучше никак не зови и держись подальше. У тебя будет своя задача, у меня своя.
Пешком далеко, поэтому дядя Володя остановил извозчика. Тот не хотел Филю в его грязном ватнике на сиденье сажать, но Слезкин ему синенькую посулил, и сели, поехали.
– Зачем вы меня в пасть волчью везете? – От страха заговорил Бляхин жалобно и красиво. – А признают? Там студенты с ружьями, они нашего брата ненавидят, в тюрьму сволокут.
– Тоже еще фигура. Кто тебя, соплю, знает? И нету там больше студентов. Надоело им кутузку сторожить. Я этого давно жду. Сегодня с утра в караул солдаты-волынцы заступили. Я у них в обед побывал, четверть спирту подарил от союза революционных торговцев.
– А… зачем?
Но дядя Володя, чем на вопрос ответить, стал про другое объяснять. Про лакокрасочный завод братьев Шаховых, что за Большим проспектом, в трех кварталах от Охранного. Там-де каждодневный митинг, потому что хозяева сбежали, и рабочие всё никак меж собой не договорятся, что им дальше делать. Денатурат они весь выпили, теперь вторую неделю правление выбирают.
– Вот туда, на митинг, мы и едем. Я выступать полезу, а ты среди людишек трись. Когда повалят Охранку громить, окажись впереди всех. Твоя главная задача, Бляхин, чтоб толпа от входа налево повалила – где у нас были кабинеты и допросные. Кричи громко: «Вот они где сатрапов от народа прячут!» Понял?
– А… зачем? – повторил Филипп, оробев еще больше.
– После объясню. Сам оставайся на лестнице и тем, кто сзади валит, кричи то же самое. Наверх, на второй этаж, тоже можно. Но смотри: направо, где архив был, чтоб ни одна сволочь не сунулась. Они туда вряд ли полезут. Там с февраля, после пожара, всё так и осталось: пусто да черно. А еще раз спросишь «зачем» – вмажу, – предупредил Слезкин, видя, что Филя снова рот раскрыл.
И заткнулся Бляхин. Начал внутренне на дело настраиваться.
Заводишко Шаховых был невелик. В мирное время производил цветной лак для вывесок, потом получил подряд на защитную краску для броневиков и военных грузовиков. Толпа во дворе была не больше, чем человек в триста. Слушали какого-то пожилого, который призывал образумиться и господ инженеров просить, чтоб вернулись, иначе-де все с голоду помрем. Но слушали плохо. Перебивали, не соглашались.
Филипп, как велено, сзади держался. Сердчишко ёкало – как-то повернется?
Вдруг видит – на ящик карабкается дядя Володя. И сразу орать, во всё горло, да с подвзвизгом:
– Подголосков буржуйских слушаете? Которые хочут трудовой народ взад на цепь посадить? Эх вы, дурь безмозглая!
Ему крикнули:
– А ты кто такой?
И еще:
– Говори дело, не то в шею! Ишь, обзывается!
Но у дяди Володи голос был пронзительный.
– Хотите голодать – голодайте! А только на Мытнинской, в Охранке бывшей, от народа сатрапов царских прячут! Которые в нас из пулеметов в феврале стреляли! Буржуи от гнева пролетарского своих уберечь хотят!
– Нам-то что? – раздалось в ответ. – Жрать нечего, а он про сатрапов.
– Дураки вы! Это ж всё капиталисты первостатейные! У меня кум там истопником. Говорит, у кажного кольцы-часы золотые, лопатники с деньжищами немеряными. Никто их не обыскивал, потому что ворон ворону глаз не выклюет! Сидят там, жируют, обеды в ресторанах заказывают, коньяки пьют, а вы тута зубы на полку ложите!
Слушали его теперь внимательно, но кто-то всё же крикнул:
– Чё ты хочешь-то? На грабилово подбиваешь?
– Кто сказал «грабилово»?! – вскинулся Слезкин. – Держи его, товарищи! Это провокатор! Никакого произвола не попущать! Всё по революционной законности! Ценности у врагов народа рек-ви-зи-ровать, сдать в комитет, честь по чести переписать! И расходовать строго по постановлению, на поддержку особо нуждающихся!
Тут зашумели все сразу, и уж никто больше не возражал. Понял Филя: всё будет, как Владимир Иванович сказал.
Еще минут пять понадобилось оратору, чтоб толпа с места тронулась. Дядя Володя впереди шел, пятясь спиной, и всё покрикивал:
– Небось, товарищи! Там теперь в карауле революцьонные солдаты! Они нам братья, не забидят!
Проходя мимо Фили, взглядом ожег – выполняй, что велено.
И Бляхин тогда тоже завопил, стараясь слова на татарский лад подковеркивать:
– За мной ходи! Моя там дворникам работал! Всё знаю! За мной ходи!
Повалили по улице бодро. Пробовали «Варшавянку» завести, но песня не выстроилась. Попросту пошли, с криками. Встречные останавливались, пялились с уважением, но без большого интереса. Манифестаций в городе случалось в день бессчетно, по какому хошь поводу. Некоторые, узнав, что народ идет громить бывшую Охранку, тоже пристраивались.
К знакомым дверям (сжалось сердце) Филипп поспел раньше всех. Часовой, опираясь на винтовку, с разинутым ртом глядел на приближающуюся ораву. Выглянули еще солдаты, расхристанные, краснорожие, без ремней.
– Чего это? Чего? – испуганно спросил часовой.
– Валите отседова, ребя, – душевно посоветовал им Бляхин. – Не по вашу душу народ, но могут и насовать. Насчет сатрапов пролетариат интересуется.
Караул сдуло. Ох, дядя Володя! Министерская голова, всё предусмотрел. Да только зачем оно надо?
– Турма налево ходи! Там ходи! – кричал входящим Филя, стоя на лестнице. – Право не ходи, там горело всё, нет ничего! Лево ходи!
Когда заполонили дверной проем, ведший в коридор, где раньше были кабинеты следователей и допросные комнаты, а теперь находились камеры предварительного заключения, кто-то, конечно, не послушав Филиппа, сунулся и вправо, но сразу вернулся. От бывшего архива остались только закопченные стены да пепел под ногами.
Кому не удалось пролезть в коридор изолятора, рванули вверх, на этажи. Там вскоре загрохотало, задребезжало. Брали всё, что можно было вынести: столы, стулья, сорванные вместе с карнизами шторы. Двое кряхтя зачем-то проволокли сейф с болтающейся толстой дверцей. Со стороны камер, заглушая всё, донесся тонкий, будто дурашливый вопль.
А Бляхин всё стоял, где приказано, бдил у архивной двери и повторял:
– Там пожара был, нету ничего. Влево ходи. Верх ходи!
И ужасно удивился, когда дверь, за которой вроде и быть некому, вдруг толкнула его в спину.
Это был дядя Володя, невесть когда и как успевший туда проникнуть. Был он уже без бороды, на плечах тащил мешок с тяжелым.
– Всё, Ахмедка. Дуй за мной! Живо!
И к выходу. Никто на него внимания не обращал, вокруг многие что-то тащили или волокли волоком.
За углом – не за первым, за вторым, где уже было безлюдно, – дядя Володя Слезкин тяжелую ношу с плеча спустил, остановился передохнуть.
– Чего это у вас? – осмелился тогда спросить Филипп.
– Пенсия, которую мне царь Николашка задолжал, да не выплатит. – Владимир Иванович подмигнул. – Тогда-то, двадцать седьмого февраля, когда вы все будто тараканы разбежались и господин генерал первый, я малость задержался. Личных дел на штатных и внештатных, сколько успел, в мешок понапихал. Вынести только не сумел – революция начала двери высаживать. Я мешок в чуланчик, за железную дверь, в архиве огонь запалил, сам через фортку вылез. Еле-еле ноги унес. Но не зря жизнью рисковал. – Он нагнулся, погладил мешок. – Теперь не пропаду.
Бляхин слушал – поражался. Только и вымолвил:
– Не всё значит сгорело?
– Не бойсь. На стажеров и прочую зелень личных дел я не брал. Какой с вас навар? Сгорел твой формуляр, живи спокойно. У меня тут товарец отборный… – Слезкин оглянулся по сторонам. Никого вокруг не было, а похвастаться ему, видно, хотелось. Он сунул руку, достал наугад две папки. – Вот, к примеру. Господин Сазонтьев Борис Михайлович, соцьялист-революцьонер, ныне в Совете заседает, в гору идет. Агентурная кличка «Шелковый», на нас с девятьсот пятнадцатого года старался… А это у нас кто? Студент Иван Лунц. Как же, помню. Способный юноша, он себя еще проявит. Тут, Филя, золотник к золотнику. Папочек с полсотни, если не боле. Вот они, мои кормильцы. И помогут старику, и от беды оберегут, и деньжатами одолжат. А ты, Бляхин, при мне помощником будешь, мне шустрый и толковый помощник очень понадобится. Хватит и на тебя с этого молока пенок.
И потом, когда они попеременно мешок до дядиволодиного дома тащили (он на Васильевском жил, в холостяцкой квартирке по Десятой линии), Слезкин всё радовался.
Говорил:
– Я Николашке этому безъяйцовому верой-правдой служил. Как мог и умел. А ты, Бляхин, знаешь, как я мог и как я умел. И что теперь? Царя в нужник спустили, а мною задницу подтерли? Всею моей жизнью, тридцатью годками усердной службы? Кому я нужен? Что я такое? Дерьма кусок? Ан врете! Нужен! Умный человек, Филя, нигде не пропадет и из того, что ему дано, завсегда сумеет капитал составить.
Капитальный человек – одно слово.
Федор Кондратьевич не поверил своему счастью. Камера была чистая! Одиночная! И, что совсем невероятно, с кроватью! Пускай кровать была продавленная, с тощим матрасом. Пускай караул оказался не студенческий, как обещал сын Марка, а обыкновенный – солдатский, полупьяный. Но лечь! Уснуть, уснуть…
Он накрылся шинелью, вместо подушки подложил локоть и сразу провалился – долой из поганой реальности, в которой ничего хорошего нет и уже не будет.
Теоретически, из книжек и разговоров, Федор Кондратьевич знал, что у других людей сон – это фантазийное сплетение фрагментов бытия с хаотической импровизацией расслабившегося мозга. Но у него сны были аномальные. Может быть, из-за того, что мозг Ознобишина расслабляться не умел. Снилось только прошлое, в точности как было. И даже еще точней, потому что выскакивали детали и мелочи, казалось, не сохранившиеся в памяти.
Сейчас, впервые за много лет, приснилась Елена, и он ужасно обрадовался, что видит ее, слышит голос. Хотя сцена, которую вновь проживал постанывающий во сне узник, была мучительна.
Жена – еще молодая, тридцатитрехлетняя – говорила отчаянным, севшим от рыданий голосом, что больше так не может, что она виновата, чудовищно виновата, но сил ее больше нет. Она скверная, подлая, какая угодно, и он будет прав, если проклянет ее страшным проклятьем, но она уходит, потому что любит другого.
Себя Федор Кондратьевич, разумеется, видеть не мог, но отчетливо слышал свой сухой, неприятный (сам знал, что неприятный) тенорок.
– Я не желаю знать, кто этот другой, – перебивал тенорок Еленины всхлипы. (Знал, конечно: адвокат Любимцев, сладкоречивый донжуанишка, фат.) – Избавь меня от мерзостных откровений. Но я желаю знать, какое будущее ты уготовила нашим детям…
Елена побелела, молча заломила руки. «Как в чувствительном романе, – брезгливо подумал Ознобишин и вдруг, с еще большим отвращением, сказал себе: – Я говорю, как Каренин. Я и есть Каренин! Какая гадость…»
Всё так и было. Из-за отвращения к пошлости ситуации, из-за нежелания быть Карениным, он дал развод, не стал отсуживать опеку. И остался совсем один, с головой ушел в службу.
Это уже не во сне, это Федор Кондратьевич вспоминал сейчас, еще не открыв глаз, но очнувшись. Спал он, очевидно, недолго – даже с боку на бок не перевернулся, и тело не успело затечь.
Он был взволнован. Надо же, Елену увидел!
Когда она ушла, первое время снилась часто, чуть не всякую ночь. А потом, когда вернулась, будто ножом отрезало.
Вернулась она три года спустя, когда скотина Любимцев ее бросил. Сцена возвращения тоже была чрезвычайно мелодраматична.
Ознобишин тогда лежал в министерской клинике, оправлялся от контузии после покушения. Лена пришла без предупреждения и опять рыдала. Говорила, что не в Любимцеве дело, а в «крестной муке», которую он, Федор Кондратьевич, претерпел. Умоляла принять ее обратно – ради детей, единственно ради детей! А он сказал: «Уходи» и отвернулся к стене. С тех пор больше Елена ему ни разу не снилась, вплоть до сего дня.
Если быть честным, прогнал он ее тогда не из мстительности и не из-за обиды. Просто за три года перенастроился на иную жизнь, подчиненную долгу. Переламывать себя обратно не захотел, да, наверное, и не смог бы. Дети выросли за границей, только и осталось, что фотокарточка в медальоне. Зачем носить его на шее? Глупость и сентиментальность. Пускай висит – привычка. Один раз золотая цепочка порвалась, медальон куда-то делся, так Федор Кондратьевич был сам не свой, пока не отыскал. Заменил цепочку на стальную, такую рви – не лопнет. А крышечку при этом уж и не помнил, когда открывал.
Но сейчас расстегнул ворот, щелкнул сапфировым замочком. Люся и Сережа. Ей четыре, ему три. Снято в Ментоне, в девяносто девятом.
Вот жизнь, вся как есть. Любил одно, верил в другое. Жил не по любви – по вере. И с чем остался в финале? А финал вот он, сомнений нет. Логика и ход революций известны. Все они начинаются с романтических криков о свободе, а приводят к гильотине. Кому ж и рубить голову, если не таким, как тайный советник Ознобишин? Нынче не расправятся, так позже всё одно убьют.
И стоило ему об этом подумать, как зашумело, загрохотало что-то. Донесся рев множества голосов, треск, где-то лопнуло и рассыпалось стекло.
Что такое? Что происходит?
Он спустил на пол ноги в шерстяных носках.
Грохот приближался. Лязгнул засов.
– Ну вот тута один есть, – сказал солдат, тот самый, что давеча заводил в камеру. – Нынче доставили…
На Ознобишина караульный не смотрел, обращался к кому-то в коридоре. Солдата отпихнули, и в камеру, тяжело дыша, вошли сразу шестеро или семеро.
– Кто такой? – спросил один, в бушлате с медными пуговицами, хриплый.
Другой вылез вперед.
– Ну-ка, чего это у тебя? – И корявым пальцем в раскрытый ворот, где золотой медальон. – Дай!
– Не имеете права! – надтреснуто вскрикнул Федор Кондратьевич. – Это личное!
– Права теперь все наши, ваши кончились.
Рука вцепилась в медальон, дернула, но стальная цепочка держала крепко.
У Федора Кондратьевича оскалился рот.
– Сволочь! Убью! – прохрипел тайный советник, не чувствуя никакого страха – только бешенство от мысли, что сейчас у него отберут самое последнее, самое драгоценное, что только есть на свете.
Он ткнул растопыренной ладонью в небритую, плоскую, разящую перегаром харю.
С одной стороны арестанта схватили за руки, с другой – двинули в скулу. А тот, что вцепился в медальон, зашипел:
– Удавись за свое золото, кащей!
И стянул цепочку, так что перехватило горло и перед глазами у Ознобишина поплыли синие пятна. Он захрипел.
Кто-то крикнул:
– Чё ты с им вожжаешься? Подвинься!
Горло освободилось. Федор Кондратьевич глотнул воздух, синие пятна пропали. Увидел занесенную над головой табуретку.
Что они делают, Лена?!
Выведение формулы
Как только возник термин, сделалось очевидно, что пора дать интересующему меня понятию точное определение. Я, конечно, и без этого представлял себе, что имею в виду под аристономией, но описательности и приблизительности недостаточно, если хочешь проанализировать явление и сделать его удобным для измерения.
Необходимо вывести формулу, которая была бы исчерпывающей и в то же время не содержала ничего излишнего, необязательного. Притом я не мог сразу ответить на вопрос, тождественными ли будут формулы аристономичности применительно к личности и применительно к целому обществу. В этом предстояло разобраться.
Начал я с отдельного человека, ибо эта задача показалась мне менее сложной.
Итак, из каких же компонентов складывается аристоном (термин возник у меня по аналогии с «астрономом», он означает «аристономическая личность»)?
Эти характеристики делятся на две группы: первая определяет отношение к себе, вторая – к окружающим.
Согласно моему определению лучшего, первым и притом основополагающим признаком такого человека является нацеленность на развитие, на самосовершенствование, то есть осознание цели своей жизни, стремление к Расцвету. Это качество может проявляться в служении некой миссии или просто в увлеченности своей профессией – при условии, что ты ею хорошо владеешь и желаешь добиться в ней максимального совершенства. Не так редко можно встретить людей, подчас очень простых и даже малограмотных (столяр, сапожник, садовник), которые держатся с достоинством, знают себе цену уже потому только, что хорошо владеют своим ремеслом и постоянно в нем совершенствуются.
Во-вторых, аристоном всегда обладает развитым самоуважением. Это чувство сильнее животных инстинктов, в том числе инстинкта самосохранения, и основывается на признании того факта, что на свете есть вещи более существенные, чем выживание. Как я уже писал, именно эта характеристика таит в себе главную опасность для аристонома, оказавшегося в аристофобном окружении.
Третий элемент – чувство ответственности за свои поступки. Оно базируется не на стыде (то есть страхе жалко выглядеть в глазах окружающих), а на самоуважении (то есть страхе оказаться жалким в собственных глазах), поэтому действия аристонома не зависят от присутствия или отсутствия свидетелей. Я некоторое время колебался, следует ли выделять ответственность в отдельный параметр, ибо он очень тесно связан с самоуважением, но все-таки признал подобную сегрегацию необходимой. Чуть ниже объясню, почему.
Далее следует умение владеть собой, способность к самоконтролю. Аристотель считал умеренность и сдержанность (то есть, собственно, способность к самоконтролю) главным элементом арете в личности. В самом деле, невозможно представить аристономичного человека, который заламывает руки, устраивает истерики или трясется от ужаса. Аристоном, конечно, может испытывать страх, сильное волнение и т. п., но не должен давать волю подобной слабости даже наедине с собой – опять-таки, чтобы не потерять самоуважения. Мне могут возразить, что нет-де ничего страшного, если хороший человек излишне эмоционален, однако слишком часто приходится видеть, как отсутствие выдержки влечет за собой тяжелые, а подчас и совершенно недостойные последствия.
Пятое: связанное с самообладанием, но все же особое и очень важное качество – стойкость перед лицом испытаний. Аристоном отказывается капитулировать перед обстоятельствами или врагами, даже если те гораздо сильнее. Я бы использовал термин «мужество», но в русском языке он звучит некорректно, как бы причисляя стойкость к характеристикам, типичным для мужского пола. На самом деле, как я могу судить по своему жизненному опыту, женщины перед лицом испытаний сплошь и рядом ведут себя «мужественней» так называемого сильного пола, ибо женская натура, как правило, цельнее мужской и в ней сильнее развит альтруизм, что обусловлено даже и биологией.
Кстати об альтруизме. Это качество – одно из самых привлекательных в человеке, но является ли оно обязательным для аристонома? Словарь Брокгауза и Ефрона определяет альтруизм следующим образом: «Правило нравственной деятельности, признающее обязанностью человека ставить интересы ближнего и общее благо выше личных интересов». После некоторых колебаний я пришел к выводу, что требовать соблюдения этого правила от аристонома будет эксцессией. Он не обязан ставить интересы общества или другого человека выше своих – это уже атрибут святого, а святости и постоянного самопожертвования от аристономичного человека не требуется. Будет вполне достаточно, если он добивается своего Расцвета, не нанося ущерб окружающим. Эгоизм для аристонома, разумеется, недопустим, но альтруизм в число непременных ингредиентов аристономии не входит.
Точно так же отсек я целый ряд других симпатичных или даже прекрасных черт, которыми может обладать человек: развитое эстетическое чувство, сильный интеллект, щедрость, открытость, способность к большой любви, бессребреничество, отважность. Если аристоном, в дополнение к обязательным, наделен и каким-то из этих свойств, это делает его еще привлекательней, однако в минимальный набор (то что в армии называется НЗ) все они не входят. Пяти вышеперечисленных элементов оказывается достаточно.
Теперь перейдем ко второй группе качеств, определяющей отношение аристонома к другим людям. Пожалуй, эта статья аристономической «конституции» состоит всего из двух пунктов.
Первый – уважение к окружающим. Кант прекрасно сформулировал смысл этого принципа: нельзя относиться к окружающим как к средствам для достижения твоей цели. Всякий человек – автономная вселенная, уже поэтому он достоин уважения и интереса. Совершенно нормально осуждать плохие поступки, противостоять им даже похвально. Но никого нельзя унижать и растаптывать. Аристоном твердо знает, что нет людей высокого и низкого сорта; тот, кто ниже тебя в чем-то одном, вполне может оказаться выше в чем-то другом.
Но одного нейтрально-отстраненного уважения, пожалуй, недостаточно. Аристоном не может оставаться равнодушным или бездеятельным, когда рядом кто-то остро нуждается в помощи. Эта способность к активному состраданию у аристономического человека сочетается с великодушием по отношению к побежденному противнику, как бы виноват и как бы гадок тот ни был. Аристоном не бывает жестоким или мстительным. В современной психологии весь этот комплекс качеств получил название «эмпатия».
Если собрать всё вышеизложенное воедино, формула аристономической личности выглядит следующим образом:
ЧЕЛОВЕКА МОЖНО НАЗВАТЬ АРИСТОНОМОМ, ЕСЛИ ОН СТРЕМИТСЯ К РАЗВИТИЮ, ОБЛАДАЕТ САМОУВАЖЕНИЕМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ВЫДЕРЖКОЙ И МУЖЕСТВОМ, ПРИ ЭТОМ ОТНОСЯСЬ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ С УВАЖЕНИЕМ И ЭМПАТИЕЙ.
Каждая из этих характеристик является непременной. Отсутствие или недостаточная выраженность хоть одной из них означает, что человек находится на пути к аристономии, однако еще не вполне достиг ее.
Верность этого утверждения я решил проверить на примере конкретных людей, которые были бы лишены какой-то одной аристономической черты, обладая всеми прочими. Нас не должно смущать, что некоторые из фигурантов являются литературными персонажами – они во многих отношениях даже удобней для анализа, поскольку мы знаем их лучше и полнее, чем иных лично знакомых нам людей.
Начну по порядку, следуя за компонентами, перечисленными в формуле. Для удобства и краткости ввожу аббревиатуры: Р (стремление к развитию); С (самоуважение); О (ответственность); В (выдержка); М (мужество); У (уважение к другим); Э (эмпатия).
Итак, тип первый, который я назову «А минус Р», то есть аристоном без жизненной цели и стремления к развитию: штабс-капитан Максим Максимович из лермонтовского «Героя нашего времени».
Но сначала убедимся, что все остальные признаки аристономии в этом характере присутствуют.
«С» – есть. Это видно по всей манере поведения и по тому, как он ведет себя, будучи жестоко оскорблен равнодушием Печорина.
«О» – есть. Иначе кавказский офицер, комендант находящейся в зоне боев крепости, погубил бы и себя, и людей.
«В» – есть. Это человек, способный к сильным чувствам, но всегда держащий себя в руках.
«М» – вне всякого сомнения.
«У» – да. Это замечательное и редкое для николаевского офицера качество проявляется, например, в том, с какой тактичностью Максим Максимович относится к нравам горцев, хоть они и кажутся ему дикими.
«Э» – есть. Достаточно вспомнить поведение штабс-капитана по отношению к пленной горянке Бэле.
Единственное, чего недостает этому во всех отношениях достойному человеку – стремления к чему-то высшему. Во всей личности Максима Максимовича ощущается статичность, приземленность. Положительные герои вроде него или толстовского капитана Тушина – скромных тружеников, честно и без фанаберии выполняющих свой долг – издавна считаются у нас носителями истинной русскости, воплощением лучших национальных черт. Неслучайно Николай Первый выразил сожаление, что Лермонтов не сделал «героем нашего времени» служаку Максима Максимовича. Неаристономичному обществу и его правителям подобные люди выгодны и удобны. Очень любила заурядного (так называемого «маленького») человека и русская проза, начиная с Гоголя. Но аристоном «маленьким» и заурядным быть не может. Он всегда являет собой личность единственную, незаменимую и ясно сознает свой масштаб, хоть и не кичится ни величием, ни уникальностью.
Тип второй: «А – С», то есть аристономия без самоуважения. К этой категории я отношу князя Мышкина из романа «Идиот».
Обладает ли он качеством «Р»? В высшей степени. Это человек, весь устремленный вверх.
«О»? Безусловно. В каждом поступке.
«В?» Да – что даже удивительно для человека психически не вполне здорового. Умение владеть собой, никогда не опускаясь до крика, является одной из наиболее привлекательных черт князя.
«М». О да. Это качество тем ценнее, что Лев Николаевич – убежденный противник всякого насилия и скорее даст убить себя, чем поднимет руку на своего обидчика.
«У». Три раза да. Мой любимый эпизод романа – тот, где князь уважительной и доверительной беседой пробуждает человеческую реакцию в генеральском лакее, представителе одной из самых неаристономных профессий.
«Э». Тут нечего и говорить, Мышкин весь – эмпатия.
Перейдем теперь к «С». Поклонники этого прекрасного персонажа, особенно из числа убежденных христиан, вероятно, со мной не согласятся в том, что князь лишен самоуважения и скажут, что в нем нет гордыни. Но я ведь пишу не филологический учебник, претендующий на окончательное суждение, – я описываю свое личное впечатление от героя Достоевского. Для этого писателя тема самоуважения является болезненной. У многих его персонажей приступы гордости сменяются припадками саморастаптывания. Одна из любимых тем Федора Михайловича – спасение гордого человека через добровольное унижение. Однако для аристонома немыслимо ни самовозвеличивание, ни самоуничижение, и уж во всяком случае он не станет подставлять щеку под лапу какого-нибудь негодяя, как это сплошь и рядом делает иисусоподобный князь Мышкин. Я не специалист по литературе, мои суждения о ней наверняка поверхностны, но я хорошо помню, как в юности безоговорочно восхищаться Мышкиным мне мешала его овцеобразие, неестественная для мыслящего человека смиренность, которой нагло и беззастенчиво пользовались нахрапистые индивиды, столь плотно населяющие этот мир. Я думаю, что недооценивать и принижать себя – не лучше, чем себя переоценивать или возвеличивать. Недостаточное уважение к себе чревато готовностью отступиться от цели своего существования, ибо тот, кто мало ценит себя, вряд ли будет ценить и таящийся в нем Дар.
Тип третий: «А – О».
В качестве примера приведу не литературного героя, а живого человека. Лично я с ним не знаком и даже не знаю фамилии (она строго засекречена), но о нем много и подробно, с восхищением, рассказывал один физик, с которым мне довелось общаться в силу моей профессии. Случай этот очень меня заинтересовал.
Тот, о ком идет речь, тоже ученый, один из создателей водородной бомбы – чудовищного оружия, которое появилось у нас в стране раньше, чем у американцев. Ученый этот еще совсем молод, но уже увенчан высочайшими научными званиями, орденами и премиями. Судя по рассказу, к почестям и материальным благам он совершенно равнодушен. Этого человека занимает только развитие науки, главное дело его жизни. Иными словами, с «Р» здесь всё превосходно.
С «С» тоже – молодой ученый всегда держался независимо с любым начальством, даже с жутким Лаврентием Берия.
«В»: отличные показатели. Всегда ровен и спокоен, хотя работает в условиях сплошной штурмовщины и постоянного давления со стороны руководства страны.
«М»: при самых опасных испытаниях не проявляет ни малейшего страха – только неутомимую любознательность.
«У»: уважителен со всеми вплоть до последнего охранника, причем уважение это не формальное, а искреннее.
«Э»: и тут всё в порядке. Перевел Сталинскую премию на счет строительства приюта для инвалидов войны.
Одним словом, это во всех отношениях достойнейший человек. Во всех кроме одного. У него катастрофически отсутствует чувство ответственности за свою деятельность. Иначе он не стал бы работать над изобретением, которое способно погубить все живое на Земле. Аристоном (то есть, прежде всего, человек, раскрывший в себе Дар) способен стать мощнейшим орудием Зла, если ему недостает этого ключевого качества! Конечно, этот безымянный ученый еще молод. Если он таков, каким мне его описали, рано или поздно он очнется и придет в ужас от того, что натворил. А тогда, будучи личностью целеустремленной и сильной, ученый попытается исправить причиненный им вред – вот тогда и только тогда он станет полноценным аристономом.
Тип четвертый: «А – В».
Мне кажется, что этому сорту «недоаристономов» соответствует Пьер Безухов в первую пору молодости.
«Р»: Пьер находится в постоянном поиске духовного Пути и несомненно его найдет.
«С»: при внутренней скромности и неуверенности в себе (естественной для юного человека) он всегда и со всеми держится независимо и безусловно осознает свой масштаб.
«О»: он всегда готов отвечать за ошибки и проступки. Разве этого мало?
«М»: Безухов более чем мужествен. Он не бежит от опасности, а сам идет ей навстречу.
«У». Он априори относится с уважением ко всем людям, невзирая на их социальное положение.
«Э». Здесь граф Безухов тем более безупречен. Он всегда готов «вчувствоваться» в другого и придти на помощь.
Однако самоконтроль у Пьера, особенно в первой половине романа, отсутствует почти полностью.
Может показаться, что несдержанность – порок не столь уж тяжкий при наличии всех остальных качеств аристономии. Но так ли это на самом деле? Из-за неумения владеть собой Безухов то и дело попадает в крайне недостойные ситуации. Вспылив, он вызывает на дуэль любовника своей жены, хотя является принципиальным противником всякого убийства. В результате этого истерического поступка едва не погибает сам и опасно ранит своего противника – то есть лишь по случайности не становится убийцей. С его требовательностью к себе, рефлексией и чувствительностью Безухов, случись это, вероятно, сошел бы с ума или перестал бы быть собой. Отвратительно его поведение и в сцене скандала с женой, когда он в бешенстве раскалывает мраморную доску, тем самым (прошу прощения за невольный и неловкий каламбур) встав на одну доску с этой омерзительной женщиной. «Порода отца сказалась в нем, – пишет автор. – Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: „Вон!!“ таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты». Бог знает – то есть, возможно, и убил бы.
Пятый тип: «А – М».
Таковы многие персонажи Чехова, грустного и безжалостно точного описателя русской интеллигенции.
Беру даже не один персонаж, а целую семью – трех сестер из одноименной пьесы.
Есть ли цель и миссия в их существовании? Несомненно – та же самая, какую выполняла вся интеллигенция как класс. Устами полковника Вершинина автор пьесы излагает суть аристономической эволюции человечества: «Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три. Само собой, вам не победить окружающей вас темной массы; в течение вашей жизни, мало-помалу, вы должны будете уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но всё же вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать, и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством».
«С»? Конечно, это качество было органично для интеллигенции, без него она просто немыслима.
«О»? Есть и ответственность, заставляющая Ольгу исполнять нелюбимую работу, не позволяющая Маше разрушить семью любимого человека или понуждающая Ирину выходить замуж за Тузенбаха, потому что он давно и преданно ее любит («Ведь замуж выходят не из любви, а для того, чтобы исполнить свой долг»).
«В»? О да, в каких-то случаях ее могло бы быть и поменьше. На персонажей вроде Наташи бывает полезно и прикрикнуть.
«У»? Для людей интеллигентного воспитания уважение к другим неотрывно от самоуважения.
«Э». И это, конечно, тоже. Всё мое детство, всю юность я, выросший в сходной среде, только и слышал от родителей и их знакомых про голодающих, на которых нужно собрать деньги; про больных, которым надо помочь; про бродяг, которым нужна теплая одежда. «Нянечка, милая, всё отдавай. Ничего нам не надо», – говорит Ольга, когда надо помочь погорельцам.
Чеховские герои интеллигентского звания – очень красивые люди, но до чего же они слабы и беспомощны в противостоянии Злу! Даже не Злу, а крошечному злу в лице мелкой хищницы Наташи или пошляка Соленого! Из-за слабости «сестер» и таких, как они, страдают слабые – вроде старой няни, а кто-то, как Тузенбах, и гибнет. Что стоило Ирине давным-давно отказать болвану Соленому от дома?
Я, кажется, должен извиниться за этот тон и обилие восклицательных знаков. Пресловутая «В» изменила мне самому, потому что вопрос о мужестве русской интеллигенции для меня болезнен. Сословие, к которому я когда-то принадлежал, провалило свою миссию именно из-за того, что не обладало этим качеством в достаточной мере. Увы, в час испытаний мы не оказались ни стойкими, ни мужественными.
Перехожу к типу шестому: «А – У».
Здесь мне проще всего привести пример моего прадеда, которого я, конечно, не знал лично, ибо родился через много лет после его смерти, но о котором мне много рассказывал отец.
Это был довольно богатый помещик, чьи взгляды сформировались в конце екатерининского царствования под влиянием французских просветительских идей, но, так сказать, с коррекцией на специфику крепостнического мировоззрения.
Своей миссией («Р») прадед считал заботу о крестьянах, волей Провидения доставшихся ему во владение. Он старательно и вдумчиво улучшал условия их жизни и труда, нанимал учителей для детишек, построил больницу и прочее. В этом деле помещик достиг немалых успехов.
С фактором «С» сомнений быть не может: он демонстративно вышел в отставку вскоре после воцарения самодура Павла Первого – поступок для той эпохи довольно экзотический.
«О»: относительно его чувства ответственности красноречиво свидетельствует тот факт, что прадеда из года в год избирали уездным предводителем дворянства притом, что он не был ни знатен, ни особенно популярен в своей среде.
«В»: прадед был очень сдержан в словах и поведении. Соседи неприязненно прозвали его Милордом за вежливую холодность манер.
«М»: вероятно, он был доблестным офицером, поскольку имел отличия за турецкую и польскую кампании.
«Э»: здесь и допущений не нужно – весь свой доход прадед тратил на улучшение жизни своих крепостных.
Единственное, чего он их не удостаивал, – признания за ними полноценного человеческого достоинства, то есть права на уважение. Этот убежденный «желатель и делатель добра» (как он аттестует себя в письмах) относился к крестьянам как к неразумным детям, о которых надобно заботиться, но держать которых следует в отеческой строгости. Вольной крепостным он не давал, потому что «задурят». В рекруты за провинность никого не отправлял, как это было заведено сплошь и рядом, но запросто мог подвергнуть виновного телесному наказанию, что в начале девятнадцатого века у просвещенных помещиков уже почиталось дикостью. Крестьяне своего барина, несмотря на строгость, очень любили и поминали добрым словом долго после его смерти, но это обстоятельство ничего не доказывает и ничего в моей схеме не меняет. Аристоном не может ставить себя выше других людей только потому, что они оказались от него зависимы, и не смеет покушаться на их достоинство, даже если они его не сознают.
Осталось рассмотреть последний тип «недоаристонома»: когда человек обладает всеми необходимыми качествами кроме одной только эмпатии.
Тут мне опять приходит на память один конкретный человек, которого я когда-то знавал и наблюдал.
Это был довольно близкий знакомый моего отца, некто Б. Их споры мне часто доводилось слышать в юности. Б. был успешный предприниматель, владел большим заводом. Это был человек безусловно целеустремленный, одержимый идеей создания максимально эффективного производства («Р»), а позднее идеей спасения отечества.
«С» в той среде, как я уже писал, было понятием само собой разумеющимся.
Легко давалась ему и сдержанность, определяемая нормами «приличного воспитания» и сильным характером («В»).
Ответственностью Б. был наделен в наивысшей степени – банки выдавали ему любые кредиты без обеспечения.
«М»: не вызывает сомнения, что Б. был личностью большой стойкости. Во время революционных событий 1905 года (об этом рассказывали с восхищением) он сначала отказался выплачивать «контрибуцию» анархистам, а потом с такой же твердостью отказался выдать экспроприаторов полиции, после чего имел серьезные неприятности.
К рабочим Б. относился с подчеркнутой уважительностью. Они не только получали хорошее жалованье и трудились в завидных условиях, но, согласно заводским правилам, начальство могло обращаться к рабочим только на «вы». Б. любил повторять, что всякий человек достоин уважения, «пока не доказал обратного». Этот принцип, в общем, отвечает условиям пункта «У».
Другое дело – эмпатия. Б. являлся убежденным противником всякой благотворительности. Любимая его фраза была: «Жалость унижает». Он говорил, что, доведись ему оказаться в трудном положении, он ни от кого помощи бы не принял, ибо это означало бы признать себя «слабаком». Так говорят многие успешные люди, пока у них всё хорошо, а при ухудшении жизненных обстоятельств заводят совсем иную песню. Но, насколько мне известно, Б. не изменил своему принципу и оказавшись в беде. Больной и одинокий, он умер в Константинополе, в полной нищете, хотя, вероятно, мог попросить о помощи прежних партнеров, многие из которых и в эмиграции отнюдь не бедствовали.
Б. вне всякого сомнения был крупной личностью и человеком достойным, но можно ли назвать его аристономом?
Я вспоминаю один его разговор с моим отцом по поводу аварии на заводе. Она произошла из-за того, что начальник смены был пьян. «Господи, неужто вам просто не жалко этого несчастного, пусть он кругом виноват?!» – после долгого спора воскликнул мой отец, потеряв терпение. Дело в том, что тот инженер недавно пережил семейную трагедию, от которой и впал в запой. Б. задумался, покачал головой: «Начальник смены не имеет права выходить на работу пьяным ни при каких условиях, – отрезал он. – Если суд признает смягчающие обстоятельства – это их дело, но я со своей стороны буду требовать строгого наказания». Неприятней всего мне тогда показалось сознание абсолютной моральной правоты, прозвучавшее в этих словах.
Люди противоположного с Б. политического лагеря, большевики, очень часто рассуждали точно таким же максималистским и безжалостным к человеческой слабости образом. Отсутствие эмпатии, даже если все остальные качества выражены очень сильно, является тяжелейшим нравственным увечьем; оно способно превратить выдающегося человека в чудовище логики и схематизма. И наоборот: если человек, во всех прочих отношениях ничтожный, щедро наделен сострадательностью и отзывчивостью, он уже живет на свете не зря, он согревает своей душой холод мира. Вот насколько важно это последнее по перечислению, но не по значению условие аристономичности.
Сформулировав определение аристономической личности и проверив его прочность, я почувствовал, что готов перейти к выведению формулы аристономического общества. Поскольку человечество еще долго будет разделено на автономные ячейки, речь должна идти об отдельно взятой стране.
Прежде всего следует оговориться, что на свете не существует и никогда не существовало страны, которую можно было бы счесть соответствующей стандартам аристономического государства (впредь для краткости я буду именовать его «аристополисом»), В лучшем случае есть общества, с большей или меньшей степенью ясности сознающие, что им следует развиваться в том направлении, однако и этим, выше всего поднявшимся странам, еще очень далеко до цели.
Первую попытку сформулировать квазиаристономические принципы на общепланетарном масштабе предпринял Вудро Вильсон с его идеей Лиги Наций. Этот политический деятель кажется мне недооцененным, историки напрасно относятся к нему с пренебрежением, будто он виноват в том, что в первой половине двадцатого века человечество еще не созрело для международного консенсуса. Поражение прекрасного начинания из-за натиска внешних обстоятельств не может опорочить или дискредитировать идею.
Инициатива президента Вильсона зиждилась на принципах мирного сообщества наций, изложенных Кантом в его политологическом трактате «К вечному миру». Цели Лиги Наций были высокими, включая добровольное разоружение, предотвращение войн, а главное – улучшение качества жизни на всей планете. Эта организация занималась вопросами женского равноправия, здравоохранения, трудового права, искоренения рабства и наркомании. Конечно, во всем этом содержалась изрядная доза маниловского прекраснодушия. После всеобщей войны, за которой вскоре последовал тяжкий экономический кризис, в мире возобладали хищнические, эгоистичные инстинкты. Создание Лиги Наций несколько напоминает слет бойскаутов, которые обещают друг дружке вести себя паиньками, но еще недостаточно взрослы, чтобы сдержать это обещание. Человечеству пришлось пройти через суровое испытание новой мировой войной и ядерной бомбардировкой, чтобы вернуться к той же идее с большей ответственностью.
Сегодня у нас есть Организация Объединенных Наций, ценность которой я вижу не столько в том, что эта ассамблея ищет компромиссы между эгоистическими устремлениями своих членов, сколько в том, что она провозглашает и распространяет аристономические идеи, изложенные в «Декларации прав человека». Тем самым людскому роду задается правильный вектор движения, а это уже немало.
Появился хороший шанс, что когда-то, в не столь отдаленном будущем, эта цель будет достигнута. Очевидно, в одних странах это случится намного раньше, чем в других.
Какими же качествами должен обладать аристополис недалекого будущего? Как видоизменяются в масштабе целого общества аристономические признаки, свойственные отдельному человеку? Будет ли их достаточно, или понадобятся некие дополнительные условия? Возможно, страна может обойтись без какой-то характеристики, обязательной в индивиде?
Таковы вопросы, на которые я искал ответа. И, как мне думается, нашел.
Фактор «Р», если речь идет о целой стране, преобразуется в ясное целеполагание. Миссия аристополиса очевидна: создавать все условия для того, чтобы каждый гражданин имел возможность достичь Расцвета. Государство обязано оказывать человеку в этом всестороннюю поддержку. Полагаю, что важнейшей статьей бюджета и главной наукой в аристополисе будет педагогика, которая наконец займется своей ключевой задачей – поможет ребенку разобраться, в чем именно состоит его уникальность и талант.
Фактор самоуважения «С» приобретет вид государственной политики, которая строится на твердых нравственных принципах и не поступается ими под воздействием конъюнктуры и опасности или из соображений экономической выгоды.
Фактор ответственности «О» заставит руководство страны просчитывать последствия каждого своего решения с учетом последствий, которые оно может иметь для других стран и будущих поколений. Главная зона государственной ответственности, конечно же, сохранение – а при возможности и улучшение – жизни на планете.
Фактор выдержки «В», важный на индивидуальном уровне, для государства приобретает и вовсе исключительное значение. Понятно, что первым аристополисам придется существовать в окружении государств, задержавшихся на менее высоких стадиях развития, то есть склонных к агрессивному, безответственному или просто неумному поведению. Даже оказавшись мишенью пропагандистского, экономического или военного давления, аристополис не может опускаться ни до истерических реакций, ни до низменной риторики, ни до ксенофобии. В межгосударственных конфликтах, за которыми обычно наблюдает весь мир, моральную и психологическую победу всегда одерживает тот, кто повел себя «взрослее».
Фактор мужества «М», будучи спроецирован на масштаб целого общества, означает способность к внутренней солидарности, к консолидации в момент потрясений, готовность страны и ее граждан вынести лишения и пройти через испытания ради общего дела.
Факторы уважения к другому «У» и эмпатии «Э», естественно, сохраняются и переносятся на межгосударственные отношения. Каждое суверенное государство, даже если оно по своему устройству чуждо или враждебно аристополису, заслуживает уважительного отношения, эмпатия же обретает вид помощи странам, которые бедны или оказались в бедствии. После встряски мировых войн два эти принципа уже сегодня считаются в мире сами собой разумеющимися, хотя, конечно, и не всегда соблюдаются.
Таким образом, мы видим, что все семь качеств аристонома – «Р», «С», «О», «В», «М», «У» и «Э» – оказываются необходимы и для аристополиса. Однако нетрудно заметить, что применительно к государству этого набора признаков недостаточно.
Для того чтобы иметь возможность полноценно помогать своим гражданам, общество не должно быть угнетено проблемами базового выживания – голодом, дефицитом жилищ, неудовлетворительным социальным обеспечением и т. п. То есть, обязательным условием аристономии государства является его экономическое процветание.
Кроме того, государство не может лишь декларировать принципы и законы, оно должно обеспечивать их соблюдение. В конце концов, люди – не автоматы, они не сделаются аристономами все разом, по команде. Нельзя забывать и о том, что (условно) «сотая доля» людей рождаются на свет социопатами, то есть нравственными инвалидами, натура которых противится аристономическим нормам. Это означает, что аристополис обязан обладать хорошо развитой правоохранительной способностью. Аристономические качества общества не позволят структурам, отвечающим за правопорядок и безопасность, расширять свое влияние за рамки непосредственных функций, как это сплошь и рядом случается сегодня.
На период, пока в мире аристополисы будут сосуществовать со странами менее высокого развития, совершенно обязательным останется еще одно условие: военная мощь. Умение давать сдачи, постоять за себя очень полезно и для индивида. Полезно и желательно, но необязательно. Многие люди безупречно аристономического склада защищать себя совсем не умеют и из-за этого гибнут. Но целое общество такого позволить себе не может. Аристополису придется до поры до времени следить за тем, чтобы его не превзошел по военному потенциалу кто-то из агрессивных соседей по планете.
Здесь просматривается довольно близкая аналогия с взаимоотношениями взрослого человека, окруженного подростками. Аристономичность, как нетрудно заметить, вообще представляет собой ассортимент черт, которые у нас ассоциируются с взрослостью в противовес инфантильности. Кто такой по-настоящему взрослый человек? Это некто, хорошо сведущий в своей профессии, ведущий себя со сдержанным достоинством, не впадающий в крайности, вежливый, всегда готовый помочь больному или ребенку. Собственно говоря, аристономическая эволюция и означает постепенное взросление человечества.
В смысле государственном или общественном «детский» стиль поведения является очевидным злом. Государство-подросток часто ведет себя (что естественно для детского возраста) эгоистично, неумно, безответственно, крикливо, жестоко, неопрятно и так далее. Если у него при неразвитом уме крепкие бицепсы, да еще рогатка в руках, оно может натворить немало бед. Поэтому сосуществование аристополиса со «странами-подростками» возможно лишь, если это взаимоотношения учителя и учеников или воспитателя и воспитанников. Аристополис должен обладать в глазах мира большим авторитетом и большей силой.
С учетом всех этих поправок и дополнений определение аристономического государства получилось у меня несколько более сложным, нежели формула аристономической личности.
АРИСТОПОЛИСОМ МОЖНО НАЗВАТЬ СТРАНУ, ЕСЛИ ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТОЙНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ СВОИХ ГРАЖДАН; СУЩЕСТВУЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ТВЕРДЫМИ МОРАЛЬНЫМИ НОРМАМИ И СПОСОБНО ЭТИ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЯТЬ; ОБЛАДАЕТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКОЙ; ЗИЖДИТСЯ НА СОЛИДАРНОСТИ И ПРОЧНОСТИ ОБЩЕСТВА; ОТНОСИТСЯ К ДРУГИМ СТРАНАМ С УВАЖЕНИЕМ И ЭМПАТИЕЙ, НО ПРИ ЭТОМ СПОСОБНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ АГРЕССИИ.
К сожалению, в сегодняшнем мире нет не только ни одного аристополиса – нет даже страны, которая в достаточной степени обладала бы хоть какой-то из вышеперечисленных характеристик. Разве что за исключением последней (военной), которая, повторю еще раз, является временной. «Взрослых» средь нас пока нет. Мы все похожи на гурьбу дворовых подростков, где наибольшим авторитетом пользуются бузотеры с твердыми кулаками или «богатенькие мальчики», у кого есть велосипед, кулек леденцов и футбольный мяч.
(Из семейного фотоальбома)
Перед полуночью (Антон к этому уже привык, насколько к такому возможно привыкнуть) воздух будто загустел, стал застревать в легких: трудно вдохнуть, еще трудней выдохнуть. Отовсюду несся гул приглушенных голосов, всех неудержимо тянуло разговаривать, но никто, ни один человек, не касался единственной темы, занимавшей сейчас мысли каждого.
Примерно с половины двенадцатого разговоры начнут стихать, и в камере постепенно установится мертвая тишина.
Вдоль каменных стен – нары, сплошной помост из грубых досок. Под нарами хранят вещи: сменную одежду, миски и ложки, у кого есть – съестное из передачи. Разложено так, чтобы охраннику прямо от двери всё было видно. Если положить неправильно, отбирают. После десяти часов ходить по камере воспрещается – новый порядок, установлен неделю назад. Поэтому все двадцать восемь человек на своем месте: одни лежат, другие, свесив ноги, сидят. Это напоминало бы парную в дешевой бане, если б арестанты не были одеты и не кутались кто в пальто, кто в шинель, немногие счастливцы – в одеяло.
Хотя было не так уж холодно, не то что в прошлом месяце. Сосед слева, профессор Брандт из университетской метеорологической станции, говорил, что в этом году выдался аномальный октябрь, в двадцатых числах ночью доходило до минус восьми. Николай Христофорович столько лет занимался метеоизмерениями, что определял температуру с точностью до половины градуса. «У меня термометр вмонтирован в кожу», – говорил он.
Нынче, по словам Брандта, для пятого ноября день выдался необычно теплый. В камере не меньше двенадцати градусов – двадцать восемь человек прогрели небольшое помещение дыханием. «Сегодня жить можно», – сказал Николай Христофорович минуту назад. Сказал – и насмешливое длинное лицо вдруг еще больше вытянулось.
Неудачно выразился профессор, совершил faux pas. Можно сегодня жить или нельзя, решать не ему.
Дела у Брандта были скверные. В свое время он состоял в ЦК партии кадетов. Всю эту компанию расстреляли еще в сентябре. Даже удивительно, что Николай Христофорович до сих пор здесь. Днем он часто размышлял вслух, чем можно объяснить подобный казус. Но не вечером. Не перед полуночью.
В этот час всеобщей разговорчивости Брандт тоже не молчал, но предпочитал разглагольствовать на отвлеченные темы. Должно быть, философствование действовало на него успокаивающе.
Вот и сейчас, выдержав небольшую паузу после не к месту вырвавшейся фразы (у Антона она вызвала суеверный трепет), профессор принялся развивать одну из своих излюбленных теорий: о неправильном отношении интеллигенции к народу.
– Вот вам, юноша, результат вековых интеллигентских усилий, самый что ни на есть наглядный, – говорил он негромко, почесывая переносицу и страдальчески щурясь. Очки и пенсне у арестованных изымались во избежание попыток самоубийства и выдавались лишь на время допросов. Антон с его небольшой близорукостью довольно быстро привык обходиться без стекол, а вот Николай Христофорович мучился. – Мы усердно и сладострастно боролись за свободу трудового народа. Трудовой народ скинул вековые цепи и первое что сделал – тут же упек своих освободителей в кутузку. Много вы у нас в камере наблюдаете пролетариев? Ни одного. Сплошь образованные, кто в детстве рыдал над стихами Некрасова.
Брандт, кривя губы, сардонически продекламировал:
По другую сторону от профессора стоял на коленях, клал поклоны, лбом в самые доски, полусумасшедший купец первой гильдии Лушков. Он начинал истово молиться часов с десяти и замирал, только когда в двери поворачивался ключ. В этот момент Душков всегда зажмуривался и беззвучно, одними губами шептал: «Госспомилуй, госспомилуй, госспомилуй».
А справа от Антона до сегодняшнего дня обитал тихий человек Викентий Иванович, управляющий известного всему городу магазина «Сельтерские воды». Антон там в детстве тысячу раз пил газировку с грушевым, яблочным, кизиловым сиропом. Викентий Иванович всё сосал лепешечки от кашля и в страшное предполуночное время обычно говорил об астме. Но увели его днем, перед обедом. С вещами, на Гороховую. Охранник Савельев, жуткая мразь, сказал, подталкивая в спину задыхающегося от ужаса толстячка: «Там тя от кашля-то вылечат».
Вечером привели новенького, сухопарого и немолодого, в офицерской шинели, с короткой, серой, как волчья шерсть, бородой. Он не представился, как делали другие, а просто молча осмотрел камеру, людей, сел на указанное место. И потом всё шарил взглядом по стенам, по решеткам, по лицам, не раскрывая рта. Генерал Лествицкий, выбранный старостой камеры, поманил Антона, шепнул: «Похож на подсадного. Вы, молодой человек, поосторожней».
– Вы как относитесь к Максиму Горькому? – спросил Брандт, обращаясь к обоим – и к Антону, и к его безмолвному соседу.
Антон пожал плечами – он плотно сжимал челюсти, боялся: если скажет что-нибудь, заклацают зубы. Военный же будто не услышал.
Но Николай Христофорович при всей интеллигентности был человек твердый, не позволял обходиться с собой неуважительно.
– Я, сударь, вас спрашиваю. – Он смотрел невеже в глаза. – Вы, кстати, не представились.
Новенький ответил коротко, скрипучим голосом:
– Горький – сволочь. А я Седов, полковник генерального штаба.
– Очень приятно. Я профессор Брандт, это студент Клобуков, а на молельщика не обращайте внимания, он свихнулся. – Последовали рукопожатия. Пальцы у полковника были горячие, сильные. – Сволочь или не сволочь, но выразился господин Горький очень точно. Жестокость формы, которую приняла русская революция, следует объяснять исключительной природной жестокостью русского простонародья, вещает ныне былой буревестник и сулится написать целую книжку о том, какой зверь наш обожаемый богоносец. Горький может себе такое позволить, потому что сам из народа. Интеллигент бы никогда не осмелился. Как это, помилуйте, народ – да зверь?
Здесь полковник Седов совершил чудовищную бестактность. Всё тем же четким, неприятным голосом задал вопрос, от которого Антон аж зажмурился:
– Скажите, профессор, у вас на Шпалерной по ночам уводят или когда?
Поблизости стихли все разговоры. Брандт закатил под лоб глаза, покачал головой.
– Ради Бога, – прошептал он. – Все и так еле держатся…
Полковник сам себе кивнул – ответ был ясен. Но спросил еще, хоть и тише:
– В полночь или перед рассветом?
Николай Христофорович вздохнул – что поделаешь с непонятливым – и одними губами:
– В полночь.
По привычке Седов отдернул рукав, посмотреть на часы. Чертыхнулся. Его несомненно арестовали совсем недавно, не привык еще.
– Желаете знать время? – У Брандта кроме термометра был еще и «встроенный» хронометр. Он определял время с точностью до двух минут. – Сейчас без пяти или без семи одиннадцать.
Антон думал, что до полуночи осталось совсем чуть-чуть, а оказывается, еще целый час! Или около того.
Они ведь приходят не ровно в двенадцать. Иногда немного позже, иногда чуть раньше. Не каждую ночь, но приблизительно в одно и то же время.
Всем известно, почему. Расстреливают всегда до рассвета, а везти далеко, за Ораниенбаум. Пока оформят, пока доедут, пока выроют яму, пока соберут одежду и обувь, уже ночь на исходе.
Кто и когда рассказал, как это происходит, загадка. Ведь никто в камеру оттуда не возвращался. Однако все знают: связывают попарно проволокой. Проволокой – потому что веревки сейчас не достать, а «колючки» на армейских складах сколько угодно. Попарно – потому что ставят на колени лицом к могиле, а стреляют двое по команде, в затылок. Кто-то один обязательно свалится вниз и утянет за собой второго. Чекистам меньше работы.
Днем тоже иногда забирают, но всегда по одному и отвозят в Петрочека, на Гороховую. Оттуда два пути: либо на свободу (такое изредка случается, если нашелся влиятельный ходатай), либо, что чаще, тоже «в расход», но с соблюдением формальностей: с заседанием ревтрибунала. Это лучше, чем Ораниенбаум. Все-таки напечатают в газете, пропадешь не бесследно. Хоть родственники поминание закажут. А про тех, кого уводят в полночь, или вовсе ничего не сообщат, или дадут списком, переврав фамилии.
Антон много раз представлял, как с ним это произойдет, и, в зависимости от настроения, то цепенел от ужаса, то говорил себе: ну и ладно, отмучаюсь. Больше всего терзался вопросом: вставать на колени или не вставать. Раз все равно умирать, так стоя. Но если связан с кем-то проволокой? И потом, говорят (откуда-то известно): кто отказывается повиноваться – забивают прикладами и сбрасывают в могилу полумертвым, а потом сверху наваливают расстрелянных и засыпают землей. Это пострашней, чем пуля в затылок. Хватит ли силы духа не встать на колени? Или будет всё равно, лишь бы скорей? Об этом Антон думал больше, чем о самой смерти.
В полночь будет вот что.
Зажжется лампа, которая под потолком. Старший караула выйдет на середину камеры. Зашуршит бумагой. Второй подсветит фонарем – света все равно мало.
Тишина такая, что слышно, как палец ведет по листку, выискивая подчеркнутую фамилию.
И вот она прозвучала. Никто не шелохнется, но конвойные знают, где чье место, и уже идут двое, и повторяют фамилию, а если замешкаться – стаскивают за ноги. Потом хватают за шиворот – выталкивают в коридор.
Звучит следующая фамилия. И никогда не знаешь, сколько человек выкликнут на этот раз.
В первую ночь, когда Антон еще думал, что попал на Шпалерную по недоразумению и этот жуткий ритуал его коснуться не может, больше всего потрясла не грубость охранников, а то, что первый вызванный не мог сам идти, его волокли под руки, и из штанин вытекала жижа, а человек был видный, широкоплечий, с красивым и мужественным лицом. Потом-то Антон видел такое много раз.
Недавно пришла в голову мысль, поразившая своей верностью. И ведь не прочитал где-нибудь, сам додумался.
Революция, которую принято изображать девой с картины Делакруа, победой высоких идеалов над прозой скотского бытия, на самом деле являет собой нечто прямо противоположное – торжество грубой физиологии над всем красивым и достойным, что только есть в человеке.
Провозвестием грядущего победительного оскотинивания была некая мучительная подробность события, которое – Антон знал – всю жизнь будет для него примером величественной победы духа над плотью. В то страшное утро, когда Паша с плачем ворвалась к нему в комнату и сказала, что отец и мать умерли, Антон сначала окоченел, а потом хотел броситься в гостиную. Но Паша удержала.
– Не ходи, не надо пока.
– Почему? – пролепетал он.
– Татьяна Ипатьевна помираючи обсикались. После уложу ее, обмою, пол подотру, тогда пойдешь, попрощаешься. – И, глядя на его перекосившееся лицо, добавила. – Это ладно, мой дед, когда отходил, вовсе обдристался.
Никуда Антон не пошел, остался у себя. И сколько ни пытался вычеркнуть из памяти эту ничего не меняющую ерунду, не получалось. Она засела намертво и марала, портила всю красоту величественного акта любви и самопожертвования.
Вот и с революцией вышло так же, только в тысячу крат хуже.
Начиналось ликованием и взлетом духа, праздником кумача и мимозы. Все ходили с блаженными лицами, опьяненные свободой. А что теперь, полтора года спустя? Страх, поголовное озверение, шкурничество. Воцарились и правят бал самые низменные инстинкты, хищные законы выживания. А во что превратился Петроград? Куда ни глянь, в глаза лезет всякая гадость: зимой – желтый от мочи снег, летом – гниющие отбросы, выбитые стекла, кучи дерьма во дворе. И всё ждешь, что затянувшийся кошмар кончится, ждешь перемен к лучшему, потому что хуже уже не бывает, а потом видишь – бывает, еще как бывает!
Некогда щегольской, нарядный город как-то невероятно быстро опустился, будто обитатель ночлежки из «бывших». Прекратил следить за чистотой – и моментально зарос грязью. Мусор перестали вывозить сразу после октябрьского переворота. Потом исчезли дворники. В зиму от холода и небрежения полопались канализационные трубы. Теперь, как в средние века, все пользовались ведрами, а их содержимое просто сваливали у подъезда. Водопровод не работал. Самое простое – помыться, постирать – сделалось нешуточной проблемой. От всех несет грязным телом и несвежим бельем, каждый второй почесывается – вши.
Еще до массовых расстрелов неряшливо и жадно зачавкала Смерть. Десятки тысяч умирали от тифа и дизентерии, так что обыкновенный гроб стал непозволительной роскошью – их теперь брали напрокат, как раньше траурные катафалки.
Уличные фонари не горят, окна подслеповато мигают тусклым керосиновым светом – электричество стали давать с десяти вечера, на два часа.
До неузнаваемости переменилась толпа. Никто больше не ходит по тротуарам, только по проезжей части. Так повелось с зимы, когда с крыш падали огромные сосули и глыбы смерзшегося снега. Но привычка сохранилась, потому что сторониться мостовой сделалось незачем: извозчики исчезли, автомобилей мало.
Странно стали выглядеть жители бывшей столицы. У большинства котомки за спиной – на случай, если где-нибудь будут что-то продавать или удастся подобрать щепок на растопку. Многие женщины нарядно одеты, но скверно обуты. Обувь ведь быстрее изнашивается. Часто можно увидеть даму в потрепанном вечернем платье (все равно выряжаться некуда), но при этом в веревочных туфлях и, разумеется, без чулок – их не купить ни за какие деньги.
Пока не настало лето, все спали одетыми. Входя с улицы, не раздевались, как прежде, а наоборот, утеплялись – дома было холоднее, чем снаружи. Тринадцать гарантированных градусов, на которые все ворчали год назад, вспоминались утраченным раем. Счастье, если к утру не замерзала вода в кувшине для умывания.
Но унизительней всего была зависимость от собственного желудка. В самой изысканной компании у всех от голода и скверной пищи бурчало в животе. Любой разговор в конце концов неизбежно сворачивал на съестное. Раньше петербуржцы и петербуржанки садились на жесточайшую диэту, чтобы избавиться от лишнего веса, а теперь брюки висели на отощавшем теле, цвет женских лиц стал землист. Каждая краюха хлеба, каждая картофелина давались долгим стоянием в «хвосте».
И вот ведь поразительно: в феврале из-за «хвостов», которые смешно даже сравнивать с нынешними, рухнула двухсотлетняя империя, а теперь все – и «буржуи», и «пролетарии» – топчутся часами за ржавой селедкой или горсткой пшена, мерзнут, но никто не ворчит, не пикнет.
Профессор Брандт, умный человек, объяснял этот парадокс следующим образом: «Прежняя власть для простонародья была чужая, а эта своя, плоть от плоти и кровь от крови. Но терпят ее не из классовой сознательности, а именно потому, что кровь от крови. Те самые горластые бабы, что в феврале бесстрашно витрины били и полиции не боялись, нынче ведут себя смирно, потому что очень хорошо знают себе подобных. Свой брат пролетарий миндальничать не станет. Только пикни – сразу в Чрезвычайку и к стенке, без прокуроров и адвокатов. Арестократический способ общения плебсу куда ближе, чем аристократический».
У Николая Христофоровича была собственная концепция отечественной истории.
Он утверждал, что истинная борьба в России издавна, по меньшей мере с начала европейского периода ее истории, происходит не между верхами и низами, монархистами и республиканцами, западниками и почвенниками, а меж двумя коренными, изначальными силами, каждая из которых тянет общество в свою сторону. Одну из этих мощных сил Брандт называл «арестократией», то есть властью, которая держится на тюрьме и запугивании; даже элиту эта власть стремится превратить в плебс и охлос. Вторую силу он именовал «аристократией», поясняя, что дело тут не в родословии; эта идеалистическая партия стремится к улучшению человеческой породы – к тому, чтобы даже плебеи ощущали себя аристократами. Отсюда и название.
«Арестократическая» традиция древнее, ее приверженцы многочисленней. «Аристократическая» же линия в российской истории возникла недавно, всего век назад, когда дворянство, а затем духовенство освободили от телесных наказаний и тем самым зародили в образованных сословиях идею личного достоинства. Зато развивалось «аристократическое» течение гораздо стремительней, дало целую плеяду блестящих деятелей, быстро завоевало авторитет и на протяжении всего минувшего столетия настойчиво теснило позиции «арестократов». С одной стороны были Бенкендорф, Дубельт, Победоносцев – с другой Пушкин, Чаадаев, Толстой. Первые уповали на силу и на рабские инстинкты толпы; вторые – на разум и на души прекрасные порывы. Действительная власть при этом постоянно переходила из рук в руки.
Александр Благословенный был явственным «аристократом», без него Россия так и осталась бы полувосточной деспотией. Но следующий царь, испугавшись «аристократической революции» декабристов, восстановил и укрепил абсолютную власть «арестократии». Эта косная, враждебная прогрессу система привела государство к поражению в Крымской войне – и тогда вновь оказались востребованы прекраснодушные «аристократы». Сплотившись вокруг Александра Освободителя, они произвели великую бескровную революцию всего российского порядка: отменили крепостничество и рекрутчину, провели судебную реформу, ввели земство. Но гибель либерального монарха от рук фанатиков-террористов качнула маятник в другую сторону, и два последние царствования представляли собою упорную позиционную войну между двумя армиями: одна захватит пядь земли, другая произведет контратаку и отвоюет территорию обратно. За реформой – контрреформа, за манифестом о свободах – реакция, за созывом парламента – его разгон. То в жар, то в холод, то вверх, то вниз, то «его величество народ», то «молчать, сволочь!». Расшатали этой тряской весь фундамент монархии, вот она и рухнула.
В феврале «аристократия» наголову разбила своего давнего врага, впервые в истории получив возможность безраздельно властвовать. И что же? Наступили торжество разума и справедливости, пир духа? Ничуть не бывало. Оказалось, что тот самый народ, молчаливое большинство, которое «аристократы» столько лет мечтали осчастливить, вовсе не желает улучшать свою породу и уважает лишь силу, горой стоит за «арестократический» способ правления.
Вот почему Временное правительство пало при всеобщем равнодушии и даже отвращении. Никто кроме горстки юнкеров пальцем не пошевелил, чтобы защитить «аристократический» режим. Образованное сословие, опора государственного идеализма, отсиделось дома – и не из страха, а от сознания своей беспомощности. «Применить кнут мы не могли, – говорил бывший член партии кадетов, – это противоречит всей нашей доктрине, но без кнута в этой стране править невозможно».
А что сделали большевики, когда в оставшемся без правительства Петрограде началась анархия, грабежи, разгром винных складов? Сразу же, без соблюдения каких бы то ни было формальностей стали расстреливать мародеров на месте. Керенский на такое ни за что не решился бы. Как возможно? Без следствия и суда! Бессмертную человеческую душу – и к стенке! Помилуйте!
А большевики не помиловали. И в два счета восстановили порядок. Большевики не привязывают к седлам собачьих голов, не носят голубых мундиров, они расстреляли царскую семью, но это всё та же «арестократическая» власть, что держала Россию в ежовых рукавицах при Опричнине или при Николае Палкине. «Арестократия» взяла на вооружение революционную фразеологию, но своей сути не изменила. И снова, как в самые черные периоды самодержавной реакции, хребтом государства становится тайная полиция.
«Мы, караси-идеалисты, позорно провалились, – вздыхал Николай Христофорович, – потому что не понимаем собственного народа. Его песьей покорности и песьей же готовности ощерить зубы, как только ослабнет поводок. И нечего ныть о том, какие мы невинные жертвы. Мы виновны, исторически виновны. А стало быть, поделом нам».
Антон слушал горькие речи профессора Брандта, не спорил с умным человеком, а все же не мог понять, в чем, однако, его, лично его вина? Он прожил на свете двадцать один год, никому не делал и не желал зла. Почему же его собираются убить: связать колючей проволокой, пробить пулей голову, сбросить в яму?
Как это могло с ним случиться? Почему? За что?
Год назад Антон Клобуков будто повис между небом и землей – далеко и от неба, и от земли. Сколько ни маши руками, как ни сучи ногами, вверх не взлетишь и на твердое не встанешь.
Следственная Комиссия, призванная разоблачать преступления старого режима, развалилась. Прежние расследователи сами оказались под подозрением. Кто не пустился в бега, был арестован или ждал ареста. Рядовые сотрудники затаились по домам.
В университет возвращаться было незачем. Зачем изучать право, если законов больше не существует, а юриспруденция как таковая упразднена? Судебную функцию стали осуществлять революционные трибуналы, там заседали «потомственные пролетарии», вердикт они выносили не по кодексам, а согласно «классовому чутью».
«Бывшие» – а их в столице насчитывалось полмиллиона душ – сидели тихо, ждали, когда откроется Учредительное Собрание. Оно восстановит нормальный порядок вещей. У большевиков и их союзников всего четверть депутатских мест, так что придется «товарищам» угомониться.
Ах, ах! Кто мог такого ожидать? «Эти ужасные люди» разогнали всенародно избранный парламент, предали интересы революции! Антон вместе со всеми ходил на демонстрацию, протестовать. И вместе со всеми улепетывал, когда где-то подле Таврического загремели выстрелы.
После разгона Учредительного по городу, привыкшему считать себя мозгом империи, разнеслось слово: саботаж. Они хотят управлять? Они действительно думают, что государством могут управлять кухарки? Что ж, пусть попробуют. Увидите, господа узурпаторы, каково обходиться без образованных и опытных работников, которых вы называете паразитами.
Весь интеллигентский, деловой и чиновничий Петроград – управленцы, финансисты, индустриалисты, инженеры – отказался работать. Всеобщей забастовки никто не объявлял, потому что зачинщиков немедленно бы расстреляли. Просто министерства, департаменты, банки и технические конторы опустели.
Ну что, выживете без нас? Попробуйте-ка. Опора страны – мы, специалисты, люди с университетскими дипломами. Без нас государство развалится!
Антон не имел образования, нигде не служил, так что саботировать ему было нечего. Он просто ходил по улицам, которые после сплошного митингования протяженностью в целый год вдруг стали непривычно тихими; читал расклеенные по стенам невероятные указы и ждал, что будет дальше.
Так прошла зима – холодная, но еще не голодная.
Жизнь города и всей страны ветшала и осыпалась, как оставленный без присмотра дом. Новые правители могли только вселять страх – больше они ничего не знали и не умели. Государство всё пошло трещинами, от него начали отваливаться куски. В марте Совет народных комиссаров перенес столицу в Москву – якобы из-за немецкого наступления, на самом деле – чтоб не оказаться заложником дворянско-интеллигентского, непримиримо враждебного Питера.
А весной всеобщая стачка «умных» взяла и закончилась.
Причин было несколько. Главная – унизительная.
Саботировать возможно, когда в банке или в чулке припрятаны денежки и есть что продать. Но большевики совершили еще одно кощунство, похуже разгона парламента: взяли и национализировали банки, со всеми вкладами и сейфами. Деньги, хранившиеся дома, из-за взбесившихся цен расходовались быстро. Продавать со временем тоже стало нечего, да и кто купит? То, что прежде считалось дорогим товаром – гарнитуры красного дерева, столовое серебро, произведения искусства, – теперь мало кого интересовало. Люди, никогда не знавшие нужды, внезапно оказались поголовно бедны. Хуже того – выяснилось, что и деньги не спасают. Продукты и товары повседневного пользования исчезли из продажи, получить их можно было только по карточкам, а чтоб иметь мало-мальски приличный паек, требовалось где-то работать. На продовольственных карточках так и было напечатано: «Кто трудится, тот ест».
Появилась и другая веская причина искать службу: она освобождала от общественных работ, к которым в принудительном порядке привлекали всех «тунеядцев». И хорошо еще, если заставляли колоть лед или собирать с мостовых навоз, а то и могли услать в «трудлагерь».
Сбежать бы куда-нибудь, да поздно. Прошляпили, засиделись. Одним из первых декретов советская власть закрыла границы. А потом и из Питера запретили уезжать без особого разрешения.
Понемногу, один за другим, забастовщики стали возвращаться на прежнюю службу. Если ее уже не было или не брали – искали новую. Образованное сословие бывшей столицы окончательно потеряло лицо, а можно выразиться и сильнее: поджало хвост.
Как это свойственно интеллигенции, многие немедленно нашли моральное обоснование. Саботаж был непростительной ошибкой, говорили они. Государство остается государством, даже если оно большевистское, а иначе – анархия, хаос и всеобщая гибель. Уже ясно, что Ленина с Троцким так просто не свергнуть, да и надо ли? Может быть, хватит насилия и крови? Достойный и верный метод – научить новых правителей цивилизованному ведению дел. И тогда постепенно жизнь наладится.
Антон не знал ничего такого, чему он мог бы научить большевистскую власть, но и он в апреле поступил на службу. Во-первых, сколько можно сидеть на шее у Паши, которая получала паек в своем Женсоюзе. А во-вторых, захотелось понять, что это такое – большевики? Чем они сильны? Почему их утлый челн не утонул через неделю или через месяц, как предсказывали лучшие умы России?
Найти хорошее место помогла Паша, у которой на почве профсоюзно-женской деятельности завелись разнообразные полезные связи. Антон поступил на должность конторщика в райотдел Наркомпрода. В прежней жизни не существовало и не могло существовать аналога этой организации, ведавшей распределением продовольствия, но в нынешние времена она стала истинной повелительницей живота и смерти, поскольку от нее зависело, по какой категории выписывается паек каждому жителю и какова будет норма выдачи. Притом с каждой неделей, по мере истощения городских запасов, значение магического слова «паек» всё возрастало. К концу лета в свободной продаже продуктов питания не осталось вовсе. Купить что-то можно было только на «черном рынке», за фантастические деньги, с риском угодить в облаву на спекулянтов.
Слово «жалование» больше не употреблялось как унизительное для трудящегося человека. Появился новый термин – «зарплата». В начале своей недолгой карьеры Антон получал тысячу рублей в месяц, а к осени уже пятнадцать. Он, правда, вырос в должности, поднялся до замзавсектора хлебоснабжения, но пятнадцатикратный рост денежного содержания был вызван не успехами по службе, а бешеной инфляцией. В августе фунт скверного клейкого хлеба у спекулянтов стоил не меньше пятисот рублей, одно яйцо – четыреста, средних размеров картофелина – двести пятьдесят, а новые сапоги – пятьдесят тысяч.
Зато Антону полагался паек первой категории, а это было поценнее зарплаты: фунт хлеба ежедневно, крупа, вобла или селедка и раз в две недели фунт сахара (на черном рынке дешевле чем за пять тысяч не купишь). Плюс к тому важная привилегия – прикрепительный талон на бесплатный обед в столовой.
На общем фоне жили они сносно, потому что у Паши тоже была первая категория, и еще временами она получала «спецвыдачи по линии женской солидарности» – на адрес Петроградского союза женщин-пролетариев от феминисток Америки и Скандинавии приходили посылки, содержимое которых распределялось между активистками «в порядке поощрения».
А между тем неработающие из «бывших», кому полагалась карточка последней, четвертой категории, должны были существовать на осьмушку хлеба, выдаваемую раз в два дня. Когда на совещании отдела Антон сказал, что выжить при такой норме невозможно, председатель райпродкомиссии товарищ Куземкин, бывший рабочий-обуховец, отрезал: «Ничего, буржуям есть что продать, как-нибудь выживут. Нам надо допреж всего о простых людях думать, у кого в кармане вошь на аркане».
Что возразишь? Прав товарищ Куземкин. Пока Антон служил под началом у этого полуграмотного, но безусловно честного человека, казалось, что загадка прочности большевизма разъяснилась. Да, новая власть безжалостна и груба, зато справедлива и бескорыстна. Народ это чувствует и прощает временные тяготы, в которых виноваты не коммунисты, а царизм, приведший Россию к военному и экономическому краху.
Но в июле товарищ Куземкин ушел по компризыву в армию, воевать с белочехами. Больше таких людей Антон на руководящих должностях не встречал.
Появился новый начальник, из «пролетариев прилавка», то есть бывший приказчик. Куземкин, так и не постигший тайн таблицы умножения, во всех расчетах полагался на Антона и других образованных сотрудников, новый же председатель не только разбирался в арифметике, но владел двойной бухгалтерией.
Уже на второй день он вызвал к себе замзавхлебсектора и, азартно блестя глазами, стал тыкать карандашом в колонки цифр.
– Гляди сюда, студент. Ты отчетность по хлебовыдаче раз в неделю сдаешь, так? А я поставлю вопрос о переходе на ежемесячную, в порядке борьбы с лишним бумагооборотом и бюрократизмом. Скумекал?
Нет, Антон не «скумекал». Начальник снисходительно пояснил:
– У нас по району в прошлом месяце сколько народу снято с хлебобеспечения за выбытием про причине смерти? Восемьсот пятьдесят восемь душ. Вы, дураки, с вашей понедельной отчетностью сколько хлеба недополучили? Я прикинул. – Он показал листок, исписанный какими-то головоломными вычислениями. – Это ж почти полтораста пудов! А будем давать списки раз в месяц – весь этот хлебушек наш с тобой будет.
Когда Антон не согласился участвовать в операции «Мертвые души», начальник и не подумал от нее отказываться, а просто разжаловал «студента» обратно в конторщики, назначил на его место более покладистого – и более разумного. Хлеб так или иначе «уходил налево» (еще один неологизм революционного времени), только Антону ничего от этого не перепадало. А при ревизии стрелочником все равно оказался бы он, поскольку именно конторщику хлебсектора полагалось обновлять списки выбывших «пайкополучателей».
Под воздействием двух эмоций – обиды и страха – он совершил еще одну глупость, едва не закончившуюся роковым образом: написал про махинации в горотдел. Вызвали на разбирательство, и оказалось, что начальник еще раньше донес туда о «контрреволюционных тенденциях» конторщика Клобукова, распространяющего клевету на представителей народной власти.
Поверили, конечно, партийцу, а не бывшему сотруднику Следственной комиссии Временного правительства. Хорошо еще, дело было до выстрелов Каплан и Каннегиссера, не то Антон угодил бы в Чрезвычайку несколькими неделями раньше и, скорее всего, вместе с остальными арестантами, был бы расстрелян в первые, самые кровавые дни террора.
Сейчас, в ноябре, всё, что было до 30 августа, вспоминалось, как утраченный рай.
Неужели горожане действительно называли Моисея Урицкого «кровавым палачом»? За полгода нахождения на посту председателя Петрочека он отправил на тот свет – с соблюдением каких-никаких юридических формальностей – всего-то несколько десятков человек, притом действительно противников большевистского режима. А сколько было разговоров о «злобном упыре», о еврейской мести за погромы и черту оседлости!
И что же? Еврея Урицкого застрелил еврей Каннегиссер. Начальником ЧК стал потомственный дворянин товарищ Бокий. Тут-то и разверзлись хляби небесные, оттуда излился на город кровавый дождь. Прежний, настоящий Петербург утонул, ушел на дно, как барки, в которых топили арестованных офицеров – их взяли наугад, безо всякой вины, по адресным книгам. Петербург лег в землю вместе с сотнями чиновников и военных, расстрелянных сразу же, еще до официального объявления террора. А «Красная газета», как некогда маратовский «Друг народа», требовала всё новых казней, и передовицы выходили с огромными заголовками: «Кровь за кровь» или «К стенке!».
Город окоченел, потрясенный быстротой и средневековым варварством расправы. В России власть так не палачествовала со времен стрелецких казней – но тогда хоть был какой-никакой сыск, а ныне просто хватали и сажали в камеру смертников.
Районный комиссар получал приказ взять столько-то «заложников», являлся с красноармейцами в первый попавшийся «буржуйский дом», требовал книгу жильцов и брал подряд тех, кто получал паек по четвертой «паразитской» категории. Происходило это каждую ночь в течение сентября и октября. Если газеты печатали списки казненных, обычно пояснялось: «расстреляны в порядке красного террора», без указания вины.
Дом, где жил Антон, выглядел небогато, сам он числился «совслужащим», так что опасность попасть в заложники ему не грозила. Винить в случившемся он мог только собственную идиотскую неосторожность. И невезение.
Как и все, Антон был оглушен происходящим. Но поскольку указ о красном терроре лично ему ничем не угрожал, ужасался не в физическом, а более в историческом смысле. Его переполняло ощущение монументальной трагичности событий. Происходила вещь невероятная, опровергающая все современные теории общественной эволюции! Огромная, пусть полуграмотная, но несомненно европейская страна вдруг начала погружаться в пучину, подобно мифической Атлантиде. Прекрасный и величественный город, населенный просвещенными гражданами, погибал на глазах. Антон ощущал себя свидетелем страшной, величественной катастрофы.
Он старался побольше увидеть и запомнить. Начал вести дневник, где записывал все впечатления, события и слухи. А еще ходил по городу со своим компактным «кодаком» и фотографировал, фотографировал.
Вот кучка людей, угрюмо читающих в «Красной газете» очередной расстрельный список.
Вот у мраморной парадной стоит грузовик с красным флагом на кабине. Это чекисты приехали кого-то забирать.
Несколько раз удалось снять арестованных заложников: бредут с узелками по мостовой, головы опущены; красноармейцы с винтовками наперевес; по тротуару идут плачущие женщины.
Именно в такой момент он и попался. Фотографировал колонну скрытно, из подворотни, но, видно, увлекся и слишком высунулся. А может, выдал блик на объективе – как раз выглянуло солнце. Только вдруг раздался крик: «Кто это там? Взять!»
Занятый наведением на фокус, Антон не сразу понял, что это про него. А когда понял, бежать было поздно. Схватили за локти, вырвали камеру, поволокли к начальнику караула.
Он был рябой, в портупее крест-накрест, с большой деревянной кобурой на поясе. Солдаты называли его «товарищ Бойко».
На Антона начальник едва посмотрел. Его больше заинтересовала камера. Рябой повертел ее так, этак. Повесил на плечо. Лишь потом воззрился на фотографа.
Антон уже приготовил ответ на вопрос, зачем снимал. Пожалуйста: «Любитель, снимаю петроградские улицы. Арестованных фотографировать и не собирался, просто ждал, пока пройдет колонна». Если вздумают проверить – пожалуйста. Пленка только утром вставлена, и на ней, по счастью, всего несколько кадров: Летний сад с заколоченными статуями. А заложников снять он действительно еще не успел.
Но товарищ Бойко ни о чем не спросил.
– Очочки-галстучек, – сказал он. – Ясно. Там разберутся.
И ошеломленного Антона втолкнули в колонну.
Таким образом, пропал он из-за двух обстоятельств. Во-первых, из-за того, что товарищу Бойко приглянулся «кодак», а во-вторых, из-за своего внешнего вида.
Когда начал ходить на службу, Паша ужасно возгордилась, что муж стал «ответработником» и справила ему наряд, отвечавший ее представлению о солидности. Антон ходил в суконной толстовке, перепоясанной ремешком, в холщовом кепи, на шею Паша повязывала ему короткий ромбовидный галстук. Галстук вкупе с очками и погубил.
Вместе с остальными заложниками Антона отвели на Выборгскую сторону, в бывшую Военную тюрьму, ныне «Исправительно-трудовое учреждение имени Парижской Коммуны». Продержали там неделю, пока с места службы не пришел ответ на запрос из ЧК. Пролетарий прилавка, гадина, прислал убийственную характеристику, в которой «гр. А. Клобуков» был аттестован «махровым контриком» из «бывших жандармов Керенского». В тот же день Антона перевели на Шпалерную, в «домзак», где содержали не заложников, а врагов советской власти. Он не сразу понял, что означает этот перевод – ведь никто ничего не объяснял и на допрос ни разу не вызывали. Но разницу ощутил сразу.
В «Парижской коммуне» тюремные надзиратели назывались «воспитателями», а режим был нестрогий. За мзду родственники могли передать записку, еду, лекарство или одежду. Днем камеры не запирались, и можно было гулять по широкому коридору. Там, бывало, тоже уводили на расстрел – целыми партиями, но случалось, что и выпускали, тоже группами: однажды вдруг взяли и освободили всех медиков, в другой раз – путейцев. На Шпалерной же порядки были совсем другие. Арестованные сидели взаперти, без прогулок. Охрана лютая, как на подбор. Почти каждую ночь уводят. Передача раз в неделю – и то не из милосердия, а чтоб расходовать на врагов народа поменьше казенного продовольствия.
Сегодня был вторник – день, когда приходила Паша. Принесла ржаных сухарей, колотого сахара, тыквенных семечек и, невероятная ценность, кусочек коровьего масла. Арест Антона на ее положении не сказался. Недавно Паше вышло повышение, она стала в Женсоюзе председателем секции «Оспродомтруд», то есть «Освобожденный пролетариат домашнего труда» и получала теперь паек по какой-то особенной литерной категории. Терпимость властей к жене «контрика»
Антон считал чудом – пока Паша во время очередного прихода не проговорилась, что в секции о ее замужестве никто не знает. В Женсоюзе одиноким, бессемейным больше доверия и «выдвигают» их охотнее.
Получить право на регулярное еженедельное свидание – это мало кому удавалось. Паша с гордостью рассказывала, как, узнав, что Антон на Шпалерной, пошла прямо к начальнику домзака, шлепнула на стол свой мандат и поговорила как товарищ с товарищем: мол, заботиться о гражданине Клобукове она обещала его матери-покойнице. Если он перед рабоче-крестьянской властью виноват, пускай ответит по всей строгости, но пока товарищи разбираются, она в беде сироту не бросит. Если бы клянчила, плакала, в глаза заглядывала – послал бы ее начальник куда подальше, слезами его было не пробить. А к прямому, честному разговору отнесся с пониманием. Про то, что арестованный – муж, она, само собой, чекисту говорить не стала.
Впрочем, по Пашиному выходило, что никакие они не муж с женой. В церкви не венчались, в районном комиссариате не расписывались. А что живут вместе, так сейчас времена свободные, не старый режим. В самом начале совместной жизни она любила поговорить о будущей свадьбе, но потом, увлеченная своей деятельностью по раскрепощению женщин, интерес к этой теме как-то утратила. В последнее время Паша вообще отзывалась о браке критически, называла его буржуазным пережитком, который скоро вовсе отомрет, потому что «хватит мужикам эксплуатировать нашу сестру ярмом семейного рабства».
За полтора года с Пашей произошла изрядная метаморфоза. Но чему удивляться? Если до невероятия изменился весь мир, почему же не измениться и Паше?
Татьяна Ипатьевна не узнала бы свою покладистую, старательную воспитанницу. Застенчивой и робкой Паша, правда, не была и раньше, но вперед не лезла, при старших предпочитала помалкивать. Теперь же говорила много, охотно, на какую угодно тему, обожала революционные слова, а любимые ее присказки были: «чай, не дурее других», «нынче наше время настало» и «проживем своим умом, без господ и без боженьки».
У Антона было странное ощущение, что от месяца к месяцу сам он будто сжимается, делается меньше ростом, занимает всё меньший объем – Паша же наоборот становится выше, крупнее, шумнее. Ей происходящее вокруг безоговорочно нравилось, и даже красный террор Пашу не испугал.
– Вы, баре, тыщу лет простой народ мордовали – обирали, пороли, глумились. Теперь терпите, – как-то принялась рассуждать она на очередном свидании, притом очень убежденно. – Народ на вас маленько оттопчется. За преступления ваших отцов над нашими. Вот меня взять. Я на свет родилась – какой у меня в жизни путь был? А ты, дворянский сынок, всё тебе на блюдечке. За какие-такие заслуги тебе пироги, за какие грехи мне тумаки?
– Я не дворянский сын, – попробовал возразить он.
– Неважно, из образованных. Товарищ Шмаков верно говорит: две Расеи у нас было, большая для черненьких, малая для беленьких. А теперь одна будет, общая. По справедливости. Но только вам, сытеньким, отстрадать надо, заслужить. Спесь свою позабыть, грязной работе научиться, вину свою сознать. Ничё, простой народ, он добрый, отходчивый. Тыщу лет на вас злобствовать не станет. Но, товарищ Шмаков говорит, годик-другой поучить вас придется, нельзя без этого.
Она в последнее время часто поминала этого своего «товарища Шмакова», должно быть, какого-то коммунистического вероучителя, разъяснявшего активисткам женского равноправия доступным языком смысл революционного террора.
В семейном-то масштабе Паша давно уже завоевала полное равноправие. Сначала, еще в прошлом году, потребовала, чтобы уборку-стирку они делали пополам, в очередь. Требование было законное, Антон охотно согласился. Когда он лишился работы и единственной добытчицей стала жена, на него легли все домашние обязанности. Антон не спорил, даже был рад приносить хоть какую пользу. Аккуратист из него вышел паршивый, убирался он хоть и старательно, но из рук вон плохо. Квартира принимала всё более запущенный, грязный вид – впрочем, как все остальные петроградские квартиры.
Весной, когда Антон вновь пошел на службу, прибираться перестали вовсе. Хорошо хоть «готовка» (еще одно революционное слово, означавшее приготовление пищи из любых подручных припасов) не требовала кухонных навыков. Трудно ли сварить картошку или крупу? А больше все равно ничего не было.
Сегодня во время свидания дежурил Сухарев. Он был больше похож на человека, чем другие охранники «домзака». Может, душа еще не успела обрасти защитными мозолями. Или, что вероятнее, был он от природы флегматичен и незлобен. Во всяком случае, рук не распускал, глотку не драл и по собственной прихоти, для удовольствия, ни над кем не куражился. С Пашей у Сухарева сложились отношения почти приятельские. Покуривая принесенный ею табак (не в качестве взятки, а «в уважение»), охранник с интересом слушал разговор, а иногда и сам подавал реплики, что Паша только приветствовала. Она вообще, как заметил Антон, обращалась не столько к нему, сколько к ним обоим, причем получалось, что Паша и Сухарев вроде заодно.
Сначала, как обычно, она рассказала, что происходит у них в Женсоюзе. Ругала «культурных», которые окопались в организации еще при «Сашке Керенском» и сильно гадят, но ничего, теперь и на них есть управа.
Антон слушал молча, зато Сухарев поддержал беседу:
– Это правильно. Гнать надо интеллигенцию с ответпостов. Она жизни не знает, всё норовит дело на старую колею повернуть. У нас тут тоже «бывших» полно, даром что карающий меч революции. – Здесь он, очевидно, вспомнил, что сам товарищ Бокий тоже не из пролетариев, и поправился. – Само собой, есть, конечно, и среди «бывших» верные товарищи…
И прикрылся густым табачным облаком, закашлялся.
Воспользовавшись дымовой завесой, Паша хитро подмигнула Антону – это было неожиданно. У него растроганно защипало в носу. Нет, она не стала чужой! Просто играет роль.
– Я тут в Смольный по делу захаживала. – Паша обращалась к охраннику, но со значением еще раз покосилась на Антона. – Сказывают товарищи, будто приехало из Москвы большое начальство. Искоренять перегибы по случаю годовщины пролетарской революции. Что-де выйдет арестованному элементу послабление. Будут их не в расход пускать, а в лагерь отправлять, на работы.
– Есть такой разговор. – Сухарев сплюнул с губы табачную крошку. Солидно прибавил, кивнув на Антона. – Но про это при них не положено.
– Понятное дело, – сразу согласилась Паша и стала прощаться.
Антон догадался, что для нее это было главное: сообщить ему новость о грядущем «послаблении». Чепуха, конечно. У них в камере такого рода слухи возникали чуть не каждый день, но потом в полночь лязгал замок, и вновь кого-то выкликали по списку…
Охраннику Паша крепко пожала руку. Мужу сказала: «Гляди тут, Клобуков, режим соблюдай, товарищей чекистов слушайся. Эх ты, горе луковое».
И хоть сказано было явно для постороннего, возвращался Антон из комнаты свиданий с тяжелым чувством. Даже Пашино подмигивание украдкой не сильно помогло. Лучше бы она вовсе не приходила, чем вот так, из жалости.
Но как выжить без передач? И потом, если его до сих пор не увели, то не благодаря ли Паше, ее тогдашнему разговору с начальником тюрьмы?
Хотя, скорее всего, не в начальнике дело. Разве он определяет, кого расстреливать, а кого нет? Пришлют список – исполняет.
Судьба каждого решалась неведомо где, неведомо кем, по непонятным основаниям, и это делало ужас мистическим. Вначале Антон думал: хороший признак, что его вовсе не вызывают на допросы. Но потом увидел, что многих, кого тоже ни разу не допрашивали, уводят днем, с вещами, или ночью, без вещей.
Уже перед самой камерой, когда Сухарев сдавал его коридорному, сердце вдруг сжалось от иррационального, но абсолютно точного предчувствия: нынче в полночь уведут, непременно уведут.
Задрожал Антон, стиснул зубы, но в следующий миг сказал себе: «Перестань. Это абсолютно точное предчувствие у тебя было уже много раз. И ничего, обходилось».
Днем хорошо себя успокаивать. Но сейчас снова накатило – не отмахнешься.
«Сегодня. Это случится сегодня. Не сегодня, а прямо сейчас!»
– Николай Христофорович, который час?
– Примерно без пятнадцати, без шестнадцати, – быстро ответил профессор.
Внезапно Антон ощутил приступ голода. Казалось бы, острый страх и острый голод совершенно несовместимы, но под ложечкой засосало так яростно, словно самое жизнь, почуяв близкий конец, закорчилась и завопила о своих правах.
– У меня сухари. Масло. И сахар есть. Из передачи. Угощайтесь. – Антон достал из-под нар узелок, предложил обоим соседям, правому и левому. – Всё равно пропадет…
Полковник едва взглянул на еду, дернул подбородком. Он напряженно о чем-то думал.
Брандт взял четыре сухаря, мазнул их маслом, положил у изголовья. Туда же аккуратно пристроил два кусочка сахара.
– Это у вас, юноша, нервное. Утром половину верну, а половину оставлю себе. В качестве гонорара.
Антон же всё, что оставалось, съел: жадно и давясь, в одну минуту, сгрыз сухари, масло проглотил прямо куском и стал хрустеть сахаром. Вкуса он не ощущал. И сытость не пришла. Под ложечкой сосало еще сильней.
А Николай Христофорович, отвернувшись от всхлипывающегося богомольца, вдруг заговорил сердитым шепотом:
– Я вам вот что скажу, студент. А вы запомните – пригодится. Большинство человеческих поступков, в том числе самых отвратительных, объясняются глубоко укорененным убеждением, будто жизнь – великая ценность, а смерть, твоя смерть, – событие огромной важности. Это величайшее заблуждение. Природа и весь окружающий мир ежедневно нам демонстрируют, что жизнь чепуха и смерть чепуха, цена им копейка или максимум гривенник. Живешь ты или умираешь – не так много значит. Если усвоить эту истину и не ерепениться против нее, существование станет много проще и достойней. Вот именно, юноша: достойней. – Он смотрел Антону прямо в глаза, но непохоже, чтоб видел собеседника. И обращался, скорее всего, не к нему, а к самому себе. – Разумеется, я не знаю, что такое смерть – конец всему или переход на другой этап. Но в первом случае смерть вообще не имеет никакого смысла. Конец так конец. Прямо скажем, невелика потеря, учитывая наши жизненные обстоятельства. Если же смерть – переход в иное состояние, то некоторый смысл в ней, конечно, есть. Однако не больший, нежели у двери, что ведет из одного пространства в другое. Чего ее так уж бояться, двери-то? Предмет несложный, сугубо функциональный. Глупо из-за страха перед какой-то там дверью совершать предательство или иные гадкие поступки. Глупо упираться руками, хвататься за косяк, орать благим матом: «Я не хочу в следующую комнату! Оставьте меня в этой еще хоть на денек, хоть на часок!» А всего и дел: распахнул дверь, да вышел. Ведь…
Но профессор не закончил свой страстный монолог, потому что в эту секунду действительно – Антон вздрогнул – из коридора донесся лязг открываемой двери.
Вошли в девятую. Из нее всегда забирали раньше.
Так и есть. Так и есть! Это произойдет сегодня. Нынче! Через пять, самое большее через десять минут.
Всё было, как в любую ночь, когда приходили, но в этот раз Антон знал: пришли за ним.
Вот в девятой закричали, грубый голос гаркнул что-то грозное, в коридоре загрохотало. Значит, кто-то упирается, не хочет идти, его волокут по полу, потребовались помощники.
«Не кричать, не умолять, ни за кого не цепляться», – заклинал себя Антон.
Его толкнули в бок. Сильно.
Это рывком приподнялся на нарах и спрыгнул на пол сосед справа.
– Господа! – негромким, но разнесшимся по всему помещению голосом заговорил полковник генерального штаба. – Что вы замерли, как овцы на бойне? Сколько этих входит в камеру?
Все повернули головы, но ответил только Брандт:
– Двое. Начальник караула со списком и конвойный. И в коридоре еще двое, не считая дежурного надзирателя. А что?
Седов взмахнул сжатым кулаком:
– Он еще спрашивает! Нас тут двадцать восемь человек. Ведь всё равно придут за каждым, не сегодня так завтра! Мужчины мы или евнухи? Набросимся разом, придушим. Отберем оружие, ключи. Откроем другие камеры. Видел я здешних охранников вислозадых. Ни выправки, ни дисциплины. На них напасть – сразу в портки наложат. Я беру на себя начальника. У меня вот что! – Он сунул руку в сапог, сделал какое-то движение, и в пальцах раскрылось лезвие опасной бритвы. – Не нашли при обыске. Потому что службы не знают!
Он вышел на середину камеры и, быстро поворачиваясь, поглядел на каждого. Ответом было могильное молчание.
– У вас бритва, у них винтовки и пистолеты. И, главное, что будет дальше? – спросил Николай Христофорович, испытующе рассматривая воинственного полковника.
– В худшем случае погибнем по-мужски. И кого-нибудь из этой мрази с собой прихватим! Коли складно пойдет, вырвемся на улицу и разбежимся. А потом, как кому судьба ляжет!
Седов всё вертелся на месте, всё оглядывал товарищей по несчастью, но никто не поднялся с места, а многие даже сдвинулись от края нар к стене.
– Эх вы, интеллигенция! – махнул тогда полковник бритвой – будто выплеснул из рукава россыпь серебристых искорок. – Россию просрали и сами ни за понюх подохнете.
Влез обратно на свое место, накрылся шинелью с головою, затих.
– Не представляю, как бы я стал хватать и душить живого человека, – задумчиво пробормотал Николай Христофорович. – Интересно, что страх вопреки логике и инстинкту выживания не объединяет, а разъединяет. На этом и построена вся методология репрессий, ибо…
Теперь заскрежетал замок уже не соседней, а этой камеры. Профессор сглотнул и умолк. «Закричать не закричу, понял Антон, но смогу ли встать? Живот бы не схватило. Вот что страшнее всего».
Но живот вел себя мирно – точнее сказать, никак себя не проявлял.
А старший конвоя уже вышел на середину, и зажглась верхняя лампа, и мучительно долго шуршал листок.
– Так, – сказал посланец небытия – пожилой, с косматыми бровями, прокуренными усами, он был бы похож на садовника или сапожника, если б не ремни и кобура. – Десятая, значит… Из десятой сегодня… – Заскорузлый палец (все-таки сапожник, не садовник) пополз по строчкам. – Сюда свети, дурья башка.
Второй, с винтовкой, двинул рукой с фонарем.
– Ага. Двое только. Свезло нынче десятой… Это будут, значитца, Брандт и Седой… Нет, Седов. Только предупреждаю. – Начальник строго осмотрел арестантов. – Встали, вышли – и без концертов. А то сейчас одного пришлось прикладом в разум приводить. Ну, которых вызвал, слезай живей!
«А я?!» – чуть не выкрикнул Антон, не веря, что предчувствие не сбылось. Оно было таким точным, таким несомненным!
Сосед справа шелохнулся. Антон услышал, что из-под шинели доносятся всхлипы. Вот вам и вояка, вот вам и герой.
Николай Христофорович, тот не тянул – уже спускал ноги с нар. При неярком освещении не было видно, бледен он или нет. Но голос не дрожал.
– Сегодня узнаю, в чем тайна бытия. Интересно. Прощайте, юноша.
Даже улыбнулся. И к двери подошел спокойно.
– Я Брандт. Мне в коридор?
Ничего не ответил Антон профессору на прощальные слова. И никаких особенных чувств не испытал – всё не мог опомниться. «Жив, жив, и еще поживу!»
– Второй кто? Седов который? – Старшой недовольно оглядывался. От него прятали глаза. Только Антон в своей оторопелости замешкал. – Ты что ли, носатый? Слазь! Или тебе карету подать?
– Нет, я не…! Вот он – Седов!
Оказывается, иногда слова выскакивают сами собой – это не авторы романов придумали. И какие слова! Чудовищные! Ничего они изменить не могут, всё равно полковнику Седову спасения нет, но до чего же стыдно…
– Эй! – Начальник тронул лежащего за каблук. – Давай без этого, а? Не тяни.
И рывком сдернул шинель.
Полковник лежал ничком. Одна рука согнута в локте, прижата к горлу. Из-под плеча растекалась багровая лужа.
Утром Антон сидел на нарах, поджав ноги и закрыв лицо ладонями. Не мог заставить себя посмотреть ни налево, где пустовало место Николая Христофоровича, ни тем более направо, где на досках темнело большое пятно и откуда доносился сырой запах, мучивший обоняние всю ночь.
Жизнь, которая была гарантирована еще на целый день, не казалась Антону драгоценным подарком. Брандт безусловно прав. Бояться двери между здесь и там глупо, недостойно. Профессор уже по ту сторону перегородки. Можно не сомневаться, что он умер молодцом. И полковник тоже герой. Он зарезался, конечно, не от страха перед проволокой и пулей в затылок – из гордости. Не пожелал принимать смерть на коленях, от хамской руки.
Оба соседа перешли в иное измерение и тем самым будто возвысились в глазах Антона. Уж и не верилось, что еще несколько часов назад они делили с ним жесткое ложе. Странная вещь, но теперь он думал о следующей ночи без страха.
Однако вспомнилось: это повторялось каждый раз. С утра бесстрашие, днем растущая тревога, вечером ужас.
Со всех сторон доносились оживленные голоса, кто-то смеялся, кто-то с кряканьем обтирался холодным мокрым полотенцем. Если на ночь приложить его к ледяному стеклу, а потом дать оттаять, получалось импровизированное средство личной гигиены.
Жизнь в камере продолжалась. Покойный Николай Христофорович как-то пошутил, что существование ее обитателей подобно краткой жизни мотылька: утром порхает с цветочка на цветочек, к вечеру крылышки отваливаются.
Мрачен был, кажется, один Антон. На него с обеих сторон давила пустота, а еще наводила уныние мысль о съеденном без толку недельном пайке. Всё, что осталось, – взятые профессором четыре сухаря и два кусочка сахара. Как на это прожить до следующего вторника? Тюремная еда – это миска пустого супа в обед, и всё. Даже хлеба в последнее время не давали, нисколько. Вчера прошел волнующий слух, что завтра, седьмого ноября, а по прежнему стилю двадцать пятого октября, каждому дадут по белой булке в честь революционной годовщины. Эту новость обсуждали целый день, но решили: вранье. Какая белая булка, когда и «черняшки» не дают? Значит, сухари придется переломить пополам – и по одному в день, на завтрак. Сахар лизать, не грызть.
В наказание за вчерашнюю истерику Антон решил оставить себя без завтрака и всю первую половину дня мучился от голода. Обед приносили в два, в начале третьего.
Перед дверью заранее выстраивалась очередь с мисками, и сегодня Антон оказался в ней первым.
Наконец в коридоре раздались тяжелые шаги и громыхание – это катили на тележке котел с похлебкой.
– Хорошо бы, господа, не картофельная, а хотя бы гороховая, – говорили за спиной. – Или рыбная, как третьего дня.
– Да, рыбной я, знаете ли, поел бы…
Должно было открыться окошко, но почему-то открылась вся дверь. За ней действительно стоял дневальный, и был при нем закопченный, окутанный паром котел, но рядом торчала еще одна фигура, в фуражке и ремнях.
В «хвосте» сразу стало очень тихо.
Это был Кренц, выделявшийся гнусностью нрава даже на фоне других тюремщиков. Поговаривали, что он из бывших прапорщиков и потому особенно старается. У чекистов он считался шутником и острословом.
– Что, овцы, к кормушке выстроились? – сказал Кренц, уперев руку в бок. В другой руке у него был листок, а это могло означать только одно. – Похлебка у нас нынче гороховая, и кое-кому ее подадут на Гороховой.
Раздался хохот – коридорный надзиратель оценил каламбур.
– Кто тут у нас… Ну и почерк у товарища комиссара. – Кренц нарочно сделал вид, что не может разобрать написанную на листке фамилию. Он не торопился, наслаждался эффектом.
– Давай быстрей, Костик, комиссар ждет, – поторопил коридорный, досмеявшись.
– Клобуков, – глядя в глаза Антону, сказал тогда Кренц. Зрительная память у него была отменная. Он был один из немногих охранников, кто знал каждого арестанта в лицо. – Я вижу, ты ждешь не дождешься, прямо у двери встал. Что, брат? – И подмигнул, оскалившись. – Очко сжалось? Бери багаж, баржа отходит.
Под новый взрыв хохота, не помня себя, Антон вернулся к нарам, взял узелок, где смена белья.
Предчувствие все-таки не обмануло. Но бояться, выходит, нужно было не полуночи. На Гороховую с вещами – значит, не на допрос, а прямиком в трибунал. За что ему такое отличие?
Всё равно.
Вот и решилась дилемма со вставанием на колени. У них там убивают в подвале, ставят к стенке. Попарно не связывают. Можно сказать, привилегия.
Он даже обрадовался, что способен иронизировать, но радость была вялая. И вообще всё было какое-то размытое, будто сквозь дым.
Не заметил, как вышел в коридор. Спохватился, что не попрощался с товарищами по несчастью, хотел обернуться, но Кренц подтолкнул в спину:
– Иди, иди. Комиссар ждет.
Комиссар, приехавший за арестованным с Гороховой, был первосортный: в хрустящей куртке и кожаном картузе со звездочкой, при «маузере» в желтом футляре. Сопровождавший его конвоир отличался от «шпалерных» подтянутостью, карабин сверкал начищенным штыком, а лицо было нерусское, раскосое. Калмык? Или китаец? Говорят, в чека охотно берут китайцев, но Антон еще ни одного не видел.
– По вашему приказанию заключенный Клобуков доставлен! – отрапортовал Кренц, и по тому, как он тянул шею, как взял руки по швам, стало ясно, что комиссар не из простых порученцев. У Кренца на серьезное начальство был нюх.
– Клобуков? Антон? – спросил кожаный человек, скользнув по арестованному взглядом. – Почему отчество не прописано? Незаконный, что ли?
– Маркович, – кашлянув, ответил Антон.
– Ага. Сходится.
Комиссар (он был хоть и важный, но совсем молодой, вряд ли сильно старше Антона) кивнул, расписался в журнале, приказал конвойному:
– Выводи.
От того, как тянулся перед комиссаром подлый Кренц, от хромированного «бельвиля», куда усадили Антона, вдруг шевельнулась надежда. Не стали бы гонять в «домзак» из-за обычного «вывода в расход» этакого щеголя на роскошном авто.
– Меня на допрос? – спросил Антон, глядя в затылок комиссару.
Затылок был крепкий, поросший светлым пушком. От твердого кожаного воротника на шее прорисовалась полоска.
Комиссар сидел рядом с шофером. Арестованного с конвоиром поместили сзади, и китаец (если то был китаец) не сводил с Антона узких настороженных глаз.
Кожаный на вопрос не ответил, китаец сдвинул брови и показал кулак.
Ясно. Разговаривать нельзя.
Попросту, без философий, подумалось: да будь что будет, надоело. И от нехитрой этой мысли Антон вдруг словно расстегнул крючки на тесном вороте, который мешал свободно дышать.
Откинулся на мягком сиденье, отвернулся от конвоира и стал смотреть на город. В последний раз – так в последний раз. Не очень-то жалко. Все равно это был не тот Питер, который Антон знал и любил. Чужой город, враждебный, больной. Весь в окровавленных бинтах транспарантов и знамен.
По случаю завтрашних торжеств проехать через Марсово поле было нельзя, там готовились к митингу в память жертв революции. Поехали в объезд по Литейному, потом через Невский.
Странно прощался Петроград со своим молодым обитателем. Будто Антон уже попал из разумно устроенного, логичного мира жизни в иррациональную вселенную смерти. Диковинные гигантские фигуры провожали его в последний путь шутовскими поклонами: Освобожденный Труд, весь из прямоугольников и углов, колотил фанерным молотом шарообразного Буржуя; махала мечом размалеванная, как шлюха, Свобода; на каланче городской думы красовался скомороший колпак алого цвета. «Столицу Северной Коммуны» к празднику украсили художники-футуристы.
Машина повернула на набережную канала. Прохожие с испугом смотрели на черное авто, в котором торчал кожаный истукан в фуражке, а сзади посверкивал штык.
Вот и угол Адмиралтейского, ныне переименованного в проспект какого-то Рошаля. Приехали.
Вылезая на тротуар, Антон заметил, что по этой стороне улицы никто не ходит – предпочитают сделать крюк, но не приближаться к зданию, которое раньше было обычным, а теперь превратилось в центр паутины, опутавшей город.
Пешеходов не было, зато все время подъезжали и отъезжали автомобили. Мимо часового быстро проходили озабоченные люди, показывая документ. Впереди кого-то, как Антона, вели под конвоем.
Но у кожаного комиссара часовой пропуска не спросил, а только подтянулся. Еще удивительней было, что китаец остался снаружи.
– Со мной, – коротко бросил комиссар и подтолкнул Антона вперед. – Давай, шагай!
Внутри здание Петрочека оказалось таким, каким ему и следовало быть: страшным.
Бесшабашность, несомненно вызванная нервным потрясением, истаяла. Антона вновь охватил трепет. Даже не при мысли о том, что развязка близка, а от вида людей, жавшихся к стенам вдоль лестницы. Это всё были арестованные – и при каждом конвоир. Непонятно, чего дожидалась эта бесконечно длинная очередь, но Антон встретился глазами с одним, другим, третьим, прочел в этих взглядах смертную тоску и немедленно заразился ею сам.
– Почему мы идем? Ведь другие ждут, – пролепетал он провожатому, но чекист молча пихнул его в спину.
Антон поднимался по ступенькам, все глядели ему вслед, и от этого было еще страшнее.
«Хвост» упирался в стол, за которым сидел дежурный с разложенными бумагами.
– Пригляди-ка за моим, товарищ, – сказал ему комиссар и ушел куда-то по пустому коридору.
Дежурный показал жестом: встать к стене.
Антон повиновался. Рядом, ступенькой ниже, стоял бледный человек в пенсне.
– Что здесь происходит? – шепотом спросил Антон.
Тот, еще тише:
– Не знаю. Заводят по одному в кабинет – там, в конце коридора. А потом бывает по-разному. Одних выводят обратно. А другие… не возвращаются. С той стороны проход во внутреннюю тюрьму.
Что хуже – когда выводят обратно или когда не возвращаются, Антон спрашивать не стал. И так ясно.
– Вы кто? – боязливо спросил бледный. – Почему вас вне очереди? Меня привезли из Петропавловки. Четыре часа стою, а вас – сразу.
Назваться Антон не успел.
Из-за угла появился кожаный комиссар, поманил:
– Эй, Клобуков! Сюда!
В спину шепнули:
– Храни Господь.
Первое, что бросилось в глаза, – широкий резной стол с опорами в виде сфинксов. Вероятно, еще два года назад за этим монументальным сооружением восседал его превосходительство господин градоначальник. Стул по ту сторону стола, однако, был самый что ни на есть демократичный, с голой исцарапанной спинкой.
Сначала Антону показалось, что кабинет пуст. Потом увидел: из-под распахнутых дверец высоченного канцелярского шкафа выглядывают ноги в стоптанных сапогах.
– Ни черта у них тут не найдешь! Бардак, а не картотека! – послышался голос, показавшийся знакомым.
– Доставил, товарищ Рогачов. Поглядите: он, нет? – сказал комиссар, и еще прежде, чем Антон успел удивиться, дверцы качнулись, стали закрываться.
Перед Антоном стоял Панкрат Евтихьевич. Не в солдатской шинели, как возле большевистского штаба, а в потертом пиджаке и косоворотке. Сильно похудевший, но такой же остроглазый и быстрый в движениях.
– Он-он, тот самый, – весело воскликнул Рогачов. – Здорово, узник замка Иф. Что моргаешь?
Он пожал застывшему Антону руку, хлопнул по плечу, потащил к дивану, усадил.
– Я, брат, второй день списки задержанных просматриваю. Вдруг гляжу – Клобуков. Фамилия редкая, но ни имени, ни отчества не указали, торопыги, только инициал «А.». Баха вчера так же обнаружил, в гарнизонной тюрьме. Ведь грохнули бы овцу божью, не задумались бы. Пролетарский гнев, он не мелочится. Давай, рассказывай, за что казенную баланду хлебаешь?
Момент удивляться был пропущен, да и не осталось душевной энергии на тривиальные эмоции.
Историю своего ареста Антон рассказал коротко, скупо – а что там было долго рассказывать?
– Начальник конвоя фотокамеру себе забрал? – вот единственное, что спросил, дослушав, Рогачов. И порученцу, всё стоявшему у двери, велел: – Выясни, что за Бойко такой 17 сентября утром проводил облаву в районе Коломны.
Тот тихо вышел.
– Да, Антон Маркович, попал ты под паровоз революции. – Панкрат сделал кислую гримасу. – Вишь, как он разогнался – искры из-под колес. Для того я и прислан, чтоб малость пары приспустить. А то у питерских ухарей весь поезд к черту под откос слетит… Топят-то не углем, а человеческими жизнями. – Он уже не гримасничал – с каждым словом суровел лицом. – Про Аркадия Знаменского знаешь? Расстрелян, в сентябре еще. Как активный деятель свергнутого правительства. Эх, потеря какая. Умница был, мог получиться для республики полезный работник. Хватило бы с ним одной хорошей беседы, чтоб мозги вправить.
– Не хватило бы, – сказал Антон. После страха, после неизвестности испытывал он не облегчение, а несказанную усталость. Фразы получались какие-то куцые. – У Аркадия Львовича в прошлом октябре сына убили. Виктор вместе с другими юнкерами сдался, а его все равно убили. Забили прикладами. В закрытом гробу хоронить пришлось. Римма Витальевна после этого слегла. Больше не вставала. Я был у них один раз, она меня не узнала. Головы не повернула. Если Аркадия Львовича забрали, она, наверное…
Панкрат перебил:
– Телефон там у них какой?
Антон сказал.
– Коммутатор! Рогачов говорит. Дайте номер 55379.
Хмуро подождал, встрепенулся и обрадованно Антону:
– Сняли! – Потом в трубку. – Квартира Знаменских? Мне бы Римму Витальевну.
Ответили ему коротко и, кажется, нелюбезно – у Рогачова дернулся рот, голос заклацал, будто винтовочный затвор.
– Кто это – такой – неласковый? С вами – из Петрочека – говорят.
Теперь он слушал долго, чернел лицом. Бесшумно вернулся кожаный – Рогачов махнул рукой: погоди.
Наконец сказал:
– …Ясно.
Разъединился.
– Другие жильцы там теперь. Вселили, потому что квартира пустовала. Когда въехали, говорят, дух был тяжелый. Трупом пахло. – Он смотрел на заваленный бумагами стол, не на Антона. – Женщина там какая-то несколько дней мертвая пролежала, а фамилию они не знают… Да, брат. Революция штука жестокая.
Антон только кивнул. Полтора месяца «домзака» отучили от чувствительности. Что, собственно, произошло? Человек, все равно не хотевший жить, умер в собственной постели. Не особенно страшная история по нынешним временам.
– Что Бойко? – спросил Панкрат.
Помощник ответил:
– Есть такой. Тут, на Гороховой, в мобильном отделе. Он сейчас на месте, я справился.
– Вот и хорошо. Пусть его ко мне вызовут. Сию минуту.
Пока кожаный звонил по телефону и, прикрыв трубку ладонью, отдавал распоряжение, Рогачов вернулся к дивану, где сидел Антон. Тоже сел, закурил папиросу.
– Что, студент, испугался революции? Повернулась она к тебе своей окровавленной пастью? Нельзя ей без клыков, без крови. Не получается – к сожалению. Знаешь, почему мы, большевики, не только взяли власть, но и сумели ее удержать?
– Потому что вы плоть от плоти народа.
Антон повторил слова расстрелянного профессора, однако Панкрат не согласился:
– Чушь это. Интеллигентский романтизм. Просто мы понимаем суровую науку власти, а чего не знаем, тому учимся. Без страха и трепета. Почему обыватель раньше слушался начальства, при царе? Потому что привык к царизму, царизм был всегда. А чтоб люди стали повиноваться новой власти, они должны ее бояться. Такова уж человеческая природа. Грустно, но факт. Сашка Керенский со своими краснобаями напугать массу не мог. Мы – можем.
– И это вся наука? – спросил Антон. – Так просто: только запугать, и всё?
– Нет, не только. И теперь у нас это начинают понимать. Докумекали, что даже крыса, если ее загнать в самый угол, начнет кусаться. Пугать пугай, но жить давай – вот урок номер два. Потому Шестой чрезвычайный съезд Советов сегодня объявит амнистию по случаю революционной годовщины. Красному террору конец. Органы ЧК теперь будут подчиняться местным исполкомам. Больше никаких расстрелов без следствия и суда. А лихачи, кто наломал дров, получат по шапке. Я послал депешу в Москву, предлагаю снять Бокия с Петрочека. Рекомендую на его место товарищ Яковлеву. Она пыталась бороться с перегибами. Ну и вообще, – Рогачов улыбнулся, – женщина интеллигентная, хороша собой. Питерцам она небесным ангелом покажется. Хотя на самом деле она железный товарищ или, как говорят несознательные граждане, «баба кремень». Настоящим врагам пощады от нее не будет.
В дверь деликатно постучали. Адъютант сам открыл и впустил человека в гимнастерке.
– Вызывали, товарищ Рогачов? Я Бойко, из мобильного.
Рябая физиономия человека, который едва не отправил Антона на тот свет, сейчас была не грозной, а искательно-улыбчивой. Непроизвольно Антон вжался в спинку дивана, но Бойко лишь скользнул по нему взглядом. Не узнал. Мало ли очкастых прошло через его лапы? Да и где они, очки?
– Я слыхал, товарищ, у тебя фотоаппарат хороший есть? – не поворачивая головы, спросил Панкрат.
– Так точно. Американский. Всем товарищам карточек нащелкал.
– Далеко он у тебя?
Рогачов искоса посмотрел на чекиста, сесть не предложил.
– В сейфе держу. Вещь дорогая.
– Тащи сюда. Сфотографируй нас на память.
Улыбка сделалась вдвое шире.
– Сию минуту. Я бегом!
– М-да, фрукт, – протянул Рогачов, когда дверь закрылась. – Засахаренный.
Подал помощнику какой-то знак – сложил два пальца, средний и указательный. Кожаный молодой человек кивнул, вышел.
Оставшись с Панкратом наедине, Антон осмелел.
– Это он с вами сахарный. А видели бы вы, как они себя с арестованными ведут…
– Знаю, – перебил Рогачов. – Можешь не рассказывать. Тут вот какая штука. Пробовали мы вначале на службу в ЧК брать людей идейных, образованных. Из большевистской интеллигенции, из студенчества. Но кишка у них тонка. Больно грязная работа – врагов карать и страх внушать. Кто чувствительный, вмиг раскисают. А этого нам никак нельзя. Вот почему на время террора специально набрали полуграмотных, толстокожих, грубых. Ничего, мы их потом, кто нехорош, вычистим. А садистов и вымогателей самих к стенке поставим, для урока.
Опять постучали. Это вернулся запыхавшийся Бойко с «кодаком». Тем самым, роковым. Малость погодя вошел и адъютант.
Встали так: посередине Панкрат, слева Антон, справа порученец – этот быстро пригладил светлые волосы, потом передумал и нахлобучил фуражку.
– Готовы, товарищи? Снимаю. Раз-два-три.
Горе-фотограф снимал без вспышки, против окна.
Снимок наверняка получится темным. Хотел Антон про это сказать, но не стал. Потряхивало его все-таки от вида товарища Бойко.
– Еще приказания будут? – спросил рябой, засовывая камеру в футляр.
– Краденый фотоаппарат на стол положи. И ремень с кобурой. Мародер, сволочь. В расход пойдешь.
Панкрат цедил слова очень тихо. Если б кричал, и то, наверное, не получилось бы так страшно.
Лицо товарища Бойко сделалось похожим на решето – отлила кровь, рельефнее проступили оспины.
А порученец уже был у него за спиной. Открыл дверь, вошли двое с винтовками.
Бойко затравленно обернулся.
– Товарищ Рогачов! У меня три благодарности! Я тыщу триста контриков выявил и доставил! Вы про меня у товарища Бокия спросите!
Но конвойные взяли его под локти, сняли портупею, уволокли в коридор.
– Отвести в подвал и шлепнуть, – сказал Панкрат помощнику. – Приказ пусть подготовят. Развесить здесь и по всем райотделам. Чтоб другим неповадно было.
– Будет исполнено.
Снова остались вдвоем.
Опомнившись, Антон воскликнул:
– Панкрат Евтихьевич, я вас очень прошу! Подумаешь – аппарат. Я же не за тем рассказал, чтоб пожаловаться! Не нужно расстреливать!
И заткнулся, потому что вот теперь Рогачов закричал – сдавленно, бешено:
– Не лезь не в свое дело, сопляк! Мы, чекисты, можем – и даже должны – быть страшными. И руки у нас пускай будут по локоть, даже по плечи во вражеской крови. Но не в дерьме! Вражеская кровь – она смоется, потому что своей крови мы тоже не жалеем. А дерьмо прилипнет навечно. Начинается с фотоаппарата…
На столе зазвонил один из телефонов, стоящий поодаль от других. Панкрат быстро подошел.
– Рогачов… Здравствуйте, Феликс Эдмундович… Нет, но сейчас буду один. Минуту.
Он опустил руку с трубкой.
– Всё, Антон. Иди. Не могу я больше с тобой. После договорим. Парень ты, я вижу, хороший, но ни черта пока не понимаешь. Проводи-ка его. – Это уже вернувшемуся адъютанту. – Потом посиди в приемной, пока я разговор не закончу.
И отвернулся.
– Всё, Феликс Эдмундович, могу разговаривать.
А порученец проворно утянул Антона за дверь, даже не дал сказать «до свидания».
– Я свободен? Совсем свободен? – спросил Антон, семеня по коридору за провожатым, который теперь шагал впереди, ходко.
– Сказал же Панкрат Евтихьевич. До проходной провожу, выпишут бумажку – и ступай, куда хошь. Ты чего?
Пришлось остановиться, опереться о стену. Ноги не шли, глаза заволокло.
Внутри всё стало каким-то рыхлым, мягким, и заложило нос, и потекли слезы.
– Спасибо… Спасибо вам, – лепетал Антон, плохо понимая, что говорит. – Это вы меня увезли оттуда…
– Чего я-то? Панкрат Евтихьевич приказал, я сделал.
– Нет… – Антон всхлипнул. – Он само собой… Но и вы… Я хочу знать, как вас зовут. Я вас никогда не забуду.
Совсем он разнюнился. И мысли в голове прыгали жалкие, абсурдные. Что ангелы-спасители, оказывается, могут являться не в белых хламидах, а в черной коже, со звездочкой на фуражке. Нервный срыв – вот как это называлось.
Чекист приосанился. Назвался не по возрасту солидно:
– Фамилия моя Бляхин, имя-отчество – Филипп Панкратович.
Правду говорят: не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Мог ли Филипп подумать, когда дядя Володя в январе семнадцатого лупил его за промашку, что это никакая не промашка, а выигрышный билет, какому цены нет?
Там ведь как вышло, на слежке-то. Ехали за Генераловым «паккардом» в пролетке, а когда объект «Веселый» из автомобиля вышел и подворотней утек, дядя Володя говорит: разделимся, мол. Я, говорит, в обратку побегу на случай если он, гад, в переулок прошмыгнет, а ты давай с другой стороны. Филипп те места хорошо знал, с детства. Дунул подъездами, дворами и угадал – вышел на объекта лоб в лоб. Инструкция была – брать. Но штатного оружия стажеру не положено, сам же дядя Володя говорил: «Дурак с „дурой“ – винегрет опасный». Одна только свинчатка в кармане, самодельная. Но Веселый оказался мужик тертый, наставил пушку – поди его возьми. И потом, как Филипп ни пробовал подобраться, не вышло. Ни разу к нему объект спину не повернул. Пришлось отпустить. Это бы полбеды, но зачем, дурень, старшому сознался? Вот и получил, умылся кровавыми соплями.
Было это, значит, позапрошлой зимой. Следующая зима, революционная, Бляхину далась трудно. Плохо он перезимовал, голодно. Еле тепла дождался. Пирожковая торговля захирела, потому что мука стала дорога, не подступишься. Про масло и начинку говорить нечего. В феврале с мамашей прикинули, вышло: чтоб пироги окупались, надо их по пяти рублей продавать. А на вокзале за столько никто не брал. Отъезжающим не надо, у них в дорогу свои припасы. Для тех, которые только с поезда сошли, питерские цены пока что в диковину.
Мамаша потом через те же пироги жизни лишилась, от глупой жадности. Достала где-то ливеру несвежего, мучицы – весной уже. Напекла корзину, да задорожилась. И день, как на грех, выдался солнечный. Размяк товар, начал пованивать тухлятиной. Так и ушла, ничего не продав. А выкидывать-то жалко! Умяла сама, сколько влезло. Ну и померла.
Это всё Филиппу после соседи рассказали, потому что самого его к тому времени в Питере уже не было. Уехал лучшей доли искать. А то совсем жизнь наперекосяк свернула. В молодом возрасте, двадцати двух лет, пропадал Бляхин ни за что.
Дядя Володя Слезкин, ирод поганый, надул верного помощника. Попользовался и пропал. Договаривались, что наваром с добычи, взятой в Охранном, будут вместе кормиться. Но когда пришел Филипп к Слезкину на квартиру, чтоб узнать, нет ли каких поручений, сказали: съехал, давно. А стал расспрашивать – оказалось, что сменил адрес дядя Володя прямо в тот же апрельский день, когда вернулся откуда-то с тяжелым мешком. Оно конечно, зачем ему теперь лишний нахлебник? С такими бумажками на руках он и сам с кого надо молока надоит.
Честно говоря, Бляхин не шибко расстроился. Забыть следовало Слезкина. И всё, с Охранкой связанное, закопать поглубже. Революция день ото дня делалась к бывшим жандармам и «охранникам» злее, не прощала. Узнали бы – сразу шлепнули, не поглядели бы, стажер или кто.
Однако, когда жизнь взяла Филиппа костлявой клешней за горло и существовать стало совсем невозможно, мысли повернули в другую сторону. Может, и не надо про былую службу забывать, а совсем наоборот – пригодится еще.
В апреле месяце засобирался Бляхин, к лешему, подальше из голодного Питера. На юг, в Киев. Там, говорили, сытно и дешево, а главное – настоящая власть. С генералами, с полицией. Прочел Филипп однажды в газете, что у гетмана (это царь украинский) вартой, то есть полицией ихней, заведует генерал Глобачев – тот самый, свой. Собрался-подпоясался, и в дорогу. На прежнюю службу. Неужто не обрадуется Константин Иванович родному сотруднику, пускай не опытному, но по всей науке обученному?
Поехал без проездного документа – где ж его взять? От патрулей спасался то по вагонным крышам, то под колесами, но перед самой Москвой, на сортировочной станции, все ж таки угодил в железнодорожную чека.
Оказалось, на Николаевской дороге как раз новые строгости ввели, потому что главный тракт между двумя столицами. Поставили начальника, который сразу всех в страх вогнал. Недавно еще солдатня соберется гуртом и едет как хочет – попробуй кто слово скажи. А этот, новый, поставил заслоны с пулеметами. Всех ссаживают, разоружают, каждого допрашивают, что за человек. Потому что много из Питера бывших офицеров на юг пробирались, с Советами воевать.
Дезертиров, кто много шумел или за винтовки хватался, чекисты сразу в расход пускали, трупы не убирали – еще сверху, на выщербленной от пуль стене, писали белой краской: «враги революции». От такой наглядной агитации порядок быстро установился. Народ ведь бузит, пока силу не почует.
Поволокли на проверку и Бляхина, с другими. Выстроили в длиннющий «хвост», под присмотром. Жди, пока запишут, спросят, обшмонают.
Он трясся, как травинка, с жизнью прощался. В подкладке – бумага, вшестнадцатеро сложенная. Удостоверение-то охранное дядя Володя изничтожил, но остался аттестат за окончание курсов. Филипп думал, если своего генерала не найдет, поможет ему этот документ на привычную службу определиться. Вот и влип. И надежно так зашил, запросто не вынешь. А обыскивали впереди нешутейно. Офицера одного переодетого только что выявили – тоже нащупали зашитый в подкладку документ. И увели.
Попробовал Бляхин из очереди в отхожее попроситься – не пустили. Перетерпишь, говорят. Не положено. Нигде еще он у большевиков такой твердой дисциплины не видывал.
До места, где шмонают, оставалось всего ничего, человек десять. Решился Филипп на отчаянное средство – дунуть к забору. Может, удастся перемахнуть.
Там под изгородью лежал кто-то, мешковиной прикрытый. Тоже, наверное, надеялся, что перемахнет. А всё одно рисковать надо. Под обыск идти – верная погибель.
Вдруг зашевелились в очереди, загудели.
Шел от станционного павильона человек с непокрытой головой, на плечи накинута шинель. За ним гурьбой другие. Он на ходу слово кинет – кто-то отбегает, вместо него подскакивает другой. Сразу видно: большущий генерал. Раньше по мундиру определялось, по лампасам, а теперь не всегда разберешь, важный начальник или нет, но по этому видно было. Волны от него расходились, как от адмиральского катера, на полных парах шпарящего по Неве.
– Рогачов это, главный самый чекист, – сказал кто-то.
И вдруг чекистский начальник (он успевал еще и в лица ожидающим смотреть) остановился, на Бляхина воззрился.
– Эге, – сказал, – питерский воробей. Здорово! Помнишь меня?
Узнал Филиппа еще раньше, чем тот признал в революционном генерале объекта «Веселый». Пяти минут не поговорили – хлопнул товарищ Рогачов Бляхина по плечу:
– Нечего рабочему парню без дела болтаться. Давай ко мне. Коли ты при старом режиме нам помогал, нынче тем более сгодишься.
Чудо приключилось с Филиппом Бляхиным. Не только от смерти спасло, но и вознесло выше любых мечтаний, где там генералу Глобачеву с его занюханной вартой.
Когда Бляхин заполнял анкету, отчество написал «Панкратович». Вот кто ему, сироте, отныне будет заместо отца.
Служба была тяжелая, с прежней не сравнивай.
Трудней всего поначалу давалась перекройка мозгов на новый фасон (товарища Рогачова выражение). Что такое «классовый враг», «комсознательность», «пролетбдительность» – в это требовалось не башкой, а сердцем вникнуть. Раньше ведь как? На кого начальство укажет, тот и враг, а среди своего брата-«охранника» врагов не бывает. В ЧК же гляди во все стороны. Враг многолик. Кроме явных контриков есть вроде как свои, а на самом деле – примазавшиеся, замаскировавшиеся или перерожденцы.
Ни смен на службе не было, ни очередных дежурств, ни выходных. Насчет поспать тоже не пожируешь. С товарищем Рогачовым если в сутки часа четыре покемарил – считай, свезло.
Тяжелей-то оно, конечно, было тяжелей, а в то же время и легко. Рядом с по-настоящему капитальным человеком всегда легко.
Это раньше, по молодости и глупости, Филипп думал, что батя-покойник или тот же дядя Володя капитальные. Просто еще людей вроде Панкрата Евтихьевича не встречал. Против него и самые крепкие начальники из Охранного, капитан Шелестов или хоть сам господин генерал Глобачев – простокваша кислая.
В товарище Рогачове слабости или там мягкости не было вовсе. Для дела он никого не жалел, и меньше всех себя, а люди такое сразу чуют. Удивительней всего на первых порах казалось, что Панкрат Евтихьевич ищет не ту службу, где власти больше или отличиться легче, а которая трудней и для дела необходимей. Обычно ведь как бывает? Добился человек успеха – ожидает за это карьерного повышения. Хорошо командовал полком – подавай ему бригаду; показал себя молодцом на бригаде – желает командовать дивизией. Не то товарищ Рогачов. За полгода, что Бляхин при нем порученцем состоял, кидало их и на огромные должности, и на не шибко завидные. Всё равно это товарищу Рогачову было. Он сам, бывало, на понижение просился – если считал, что там для революции лучше пригодится.
Жизнь при капитальном человеке простая и ясная, несмотря на тяготы. Главное – попасть на хороший счет и потом не зевать, мелкой для себя пользы не выискивать. Ну и, конечно, незаменимую свою полезность каждодневно подтверждать. Капитальный человек близ себя никчемников терпеть не станет, даже при сердечном к ним отношении.
Состоять на хорошем счету Филиппу было нетрудно. Народ вокруг разгильдяи, неумехи или просто дураки. А Бляхин непьющий, четкий, всегда рядом. И в деле побольше других соображает. Это в Охранном он был мелочь, стажер. В ЧК же, по сравнению со вчерашними пролетариями, агитаторами и прочей требухой он со своим специальным обучением почитался авторитетом. Товарищ Рогачов его «большевистским Пинкертоном» называл и в оперативных делах всегда спрашивал совета.
Если б Филиппу задать вопрос, в чем самый главный, коренной секрет служебного успеха – ответил бы не задумываясь, потому что эту истину знал печенкой, всем нутром: надо добиться, чтоб начальник без тебя был как без рук, а прочее приложится.
Поспевая за товарищем Рогачовым, Бляхин высох весь, старые портки начали болтаться, даже ремень не спасал. Заметил это Панкрат Евтихьевич (у него глаз приметливый), распорядился: нечего, говорит, пугало изображать, вот тебе ордер на склад, приоденься. Выбрал себе Филипп справное обмундирование: хромовое, со скрипом. А когда товарищ Рогачов посмеялся, щеголем обозвал, Бляхин ему со всем уважением, но твердо: «Вы сами можете хоть в каких обносках ходить. Это даже лучше, потому вы на митингах выступаете, и красноармейцы должны видеть вашу простоту. Но вокруг вас кадр должен быть с иголочки. Нам перед народом речей произносить не надо, а вот местному начальству авторитетность явить очень даже полезно. Видали, как товарищ Троцкий по местам ездеют?» Товарищ предреввоенсовета, когда на фронт или по губерниям выезжал, сам одевался по-простому, но адъютанты и ординарцы при нем были заглядение – чисто лейб-конвой. И поезд такой, на каких в прежние времена не всякий министр ездил. Понимает товарищ Троцкий, что такое авторитет власти. И Панкрат Евтихьевич, хоть на речь своего обычно немногословного помощника усмехнулся, но на ус намотал и больше Филю щегольством не попрекал.
Однако ездить в салон-вагонах Панкрат Евтихьевич так и не приучился. Где они только за эти полгода не квартировали!
Пока служили в желдорчека, офицерье и спекулянтов вылавливали, разложившуюся солдатскую массу в разум приводили, проживал товарищ Рогачов со своим штабом на запасных путях, в товарняке.
Потом их перекинули на укрепление ревдисциплины в Кубчерреспублику. Там мотались с места на место в пассажирском вагоне, где все стекла были выбиты, окна мешками с песком заложены, а между мешков торчали пулеметы.
Оттуда партия бросила на Урал, мобилизовать рабочих на борьбу с белочехами, но жить пришлось в госпитале. Слег Панкрат Евтихьевич в тяжелейшем тифу и помер бы, да Филипп от койки ни днем, ни ночью не отходил, лучшего профессора под конвоем притащил – и не отпускал, пока начальник на поправку не пошел.
Теперь вот направили товарища Рогачова искоренять перегибы по красному террору в Севкоммуне, бывшей Петроградской губернии. Два дня всего как прибыли, а сразу Панкрат Евтихьевич себя так поставил, что все забегали. Он это отлично умел. Ну и Филиппу как доверенному помощнику московского комиссара персонал Петрочека, конечно, явил полное уважение.
Шел он по коридору, проводив до выхода задохлика-арестанта, товарищрогачевского знакомого: собою скромный, значительный – и затихали люди, вслед смотрели. Знали уже, что сотрудника, который фотоаппарат спер, в подвал поволокли. Между прочим, сразу после того, как Бляхин вызвал Бойку этого в кабинет. Про такое быстро разносится.
– Вас, Филипп Панкратович, с проходной спрашивают, – сказала секретарша, и хоть улыбнулась, а в глазах испуг.
Раньше-то по имени-отчеству не называла.
– К товарищу Рогачову кто? Тогда в список впиши. Сама, что ли, не знаешь?
Он нарочно ей на «ты», хоть барышня была из образованных и до сего момента Филипп с ней манерничал, потому что секретарша – человек маленький, но полезный. Однако настал правильный момент обозначить, кто тут кто.
– Нет, Филипп Панкратович, лично вас.
И опять улыбнулась, не скривилась на тыканье.
Что ж, лишний раз по коридору пройтись, ловя на себе взгляды, было приятно. Погодите еще, петрочекисты. То ли будет. Как узнаете, что мы Бокия вашего в шею турнули, то-то запрыгаете.
Спустился по лестнице в проходную.
– Кто меня тут спрашивает? Что за срочность?
– Вот, товарищ Бляхин. Говорит, по важному делу. Я подумал, оперативное что…
В глазах у дежурного читалось отрадное беспокойство. Так ли поступил? Не зря ли обеспокоил?
Поглядев тяжелым взглядом, ничего не ответив, Филипп обернулся.
У стены мялся какой-то бородатый – по виду крестьянин. Незнакомый, пожилой. Какого черта надо?
Вышел к нему.
– Зачем звал? Кто такой?
Крестьянин суетливо сдернул шапку, поклонился. И, не распрямляясь, голосом тихим, памятным:
– Здравствуй, Филя. Пришел к тебе на пенсионное довольствие встать. Не обидишь старика?
Пока находился в тюрьме, казалось: счастье – это когда можно жить и не бояться, что нынешний день последний. Свобода же представлялась роскошеством почти неприличным. Чтоб можно было куда хочешь пойти, или поспать в неурочное время, или почитать книжку, или открыть окно и пустить в комнату свежего воздуха – да, Господи, просто справить нужду не на виду у всех. Вот что такое блаженство, а всё сверх того люди выдумали от пресыщенности, с жиру.
И что же? Ежеминутный страх смерти исчез, иди куда хочешь, спи сколько хочешь, и даже ватер-клозет работает (рукастый Шмаков изобрел, невзирая на отсутствие канализации: удобный стульчак, под ним ведро с заслонкой, по наполнении вынимается и выносится). Но таким несчастным Антон не чувствовал себя и на Шпалерной. Там при всем ужасе положения была и надежда: вдруг спасешься, вдруг освободят? А когда уже спасен и освобожден, надеяться больше не на что.
Худшая из бед – это не когда хочешь куда-то пойти, но не можешь. Самое беспросветное – когда можешь, но не хочешь. Потому что некуда.
Положение Антона Клобукова, безработного, 21 года от роду, было совершенно невыносимым. Если б ожидание расстрела не приучило ценить жизнь, очень возможно, что он всерьез задумался бы о самоубийстве.
Безработным Антон на сей раз оказался не из идейных соображений, не в знак протеста против большевистского произвола, а за невозможностью куда-либо устроиться. На прежнюю службу, под начало к «пролетарию прилавка», дороги нет, это понятно. Но в городе нельзя было найти хоть какую-то работу, не связанную с тяжелым физическим трудом. Все «бумажные» должности стали нарасхват, потому что людей с образованием в Питере много, а без пайка пропадешь.
Сходил на биржу труда. Но там попросили принести характеристику с прежней работы, а еще поинтересовались, почему гражданин Клобуков с лета нигде не трудится. Хватило ума промолчать про арест и просто уйти – забыл-де бумаги, потом занесу.
По улицам бы походить после тюремного сидения. Как об этом мечталось! Просто побродить, куда глаза глядят – от Лиговки до Крестовского и от Охты до Коломны. Но во-первых, холодно и ветер. А кроме того небезопасно. Очень легко можно снова угодить в облаву. Ловили теперь не чтоб взять в заложники, но тоже хорошего мало. Если у человека нет служебного удостоверения, пошлют отбывать трудповинность: рыть ямы и валить лес, чтобы оборудовать границу с белой Финляндией. Там, на перешейке, и безо всяких расстрелов люди в землянках мрут как мухи.
Хуже всего, что не было пайка. Пока Антон не обзавелся заработком – пускай жалким, неверным – постоянно мутило от голода. А за каждый кусок, съеденный дома, приходилось расплачиваться терзаниями уязвленной гордости. Есть предел унижению, даже когда уже привык вжимать голову в плечи…
Десять дней назад Антон летел домой с Гороховой, спотыкаясь, как пьяный. На что ни взглянет – всё радостно, всё умилительно до хлюпанья носом, до слез. Даже картонные уроды на Дворцовой (ныне площадь Урицкого) растрогали: что-то в них было карнавальное, народное, контрастирующее с помпезностью имперской архитектуры. Уставшие от тягот люди нацепили красные банты, радуются предстоящему событию – ведь все-таки праздник, неважно какой, но праздник! Человеку хоть изредка необходимы праздники, без них невозможно. Может быть, самое страшное позади. Такие люди, как Рогачов, всё изменят. Безумие закончится, причинно-следственные связи восстановятся.
Особенно трогательно думалось про Пашу, к которой Антон приближался с каждым шагом. Не дуться надо было, что она перед караульными театр ломает, а восхищаться ее простой, нежеманной верностью, жизненной силой, крестьянской хитростью. Благодаря Паше он не опух с голода и дожил до освобождения.
Запыхавшись, поднялся по лестнице, постучал. Испугался: вдруг нет дома? Ключ вместе с очками и всякой мелочью из карманов остался на тюремном складе, притом неизвестно, на каком. То ли в «Парижской Коммуне», то ли в «домзаке». Пусть, не жалко.
Но в квартире где-то хлопнула дверь, зазвучали шаги, и Антон заулыбался. Он знал, что скажет Паше. Всё плохое позади, нечего и вспоминать. Жить они будут хорошо, счастливо. Главное – просто, потому что в простоте сила. Еще скажет, что права она со своим товарищем Шмаковым: Антон согласен учиться терпению, делать черную работу, искать свое место в новой жизни.
Наконец дверь открылась. На Антона смотрел хмурый мужчина в телогрейке поверх нижней рубахи, в широких галифе со штрипками, в обрезанных по щиколотку валенках.
– Тебе чего, товарищ? Ты кто? – спросил незнакомец.
Антон назвался и тоже хотел задать вопрос: сами-то вы кто и почему здесь? Однако мужчина сдвинул мохнатые брови еще суровей, сверкнул глазами:
– Сбежал?!
Знал, выходит, кто такой Антон Клобуков.
– Нет, меня выпустили. Вот, справку дали.
Человек взял бумагу, долго ее читал, поглядел печати на свет. Потом протянул ладонь.
– Ну коли так, давай знакомиться. Я Шмаков, Свирид Иваныч. Разобрались товарищи – и хорошо. Заходь, Антоха, не робей.
– Вы в гости пришли? – Антон ответил на крепкое рукопожатие. – Я про вас знаю, Паша рассказывала. Вы с ней познакомились… забыл где… На партийной конференции? – И закричал. – Паша! Это я!
– Товарищ Ситникова скоро придет. – Шмаков вел Антона по коридору, дружески приобняв за плечо. – У ей оргкомитет по вопросу годовщины. А я теперь тут проживаю. Как у вас жилплощадь дозволяет и товарищ Ситникова не против. Айда на кухню, Антоха! – Он подмигнул оторопевшему Антону. – Оголодал на тюремной шамовке? Я как раз кулеш варю. Вали за мной, подхарчишься.
Стыдней всего потом было вспоминать, что Антон, идиот, и тогда еще ничего не понял. Даже пролепетал какие-то слова благодарности: мол, спасибо, что согласились временно пожить, а то женщине одной в наши времена трудно и страшно. Пошел, как овца, на кухню. Сел, куда велел мордатый Свирид Иванович, и жадно съел миску, а потом вторую наваристого кулеша с настоящим мясом.
Потом пришла Паша и объяснила. Попросту, без экивоков.
Что у нее со Свиридом Ивановичем произошла любовь «на почве товарищеского чувства и физиологической симпатии», а на свиданиях про это она не рассказывала, чтоб Антон не переживал, хотя ревность – буржуазный пережиток и обида для женской гордости. Но Антуся для Паши остался родной человек, его она тоже любит. Жить будут втроем как семья нового типа. В Доме пролеткульта читали лекцию про революционную семью. Паша прослушала и сразу порешила: вот как надо. Это раньше запросто бывало, что у мужчины жена, любовница, а он им обеим врёт и еще по сторонам глазами стреляет. А теперь для женщины любовь тоже свободная. Попользовались мужики бабьей покорностью, будет.
Самое удивительное было то, что прятал глаза только Антон, а Паша говорила с полным сознанием правоты, и Шмаков согласно кивал, попыхивая цигаркой и деликатно отгоняя дым.
Жить, сказала Паша, они будут так: Антуся – у себя, там всё целехонько, ничего не тронуто. Товарищ Шмаков в кабинете «папаши-покойника», на отшибе, потому что табак у Свирида Ивановича сильно вонюч. Она же выбрала себе бывшую родительскую спальню и спать будет там одна, поскольку «Свирид Иванович храпит, а ты, Антуся, шибко ворочаешься».
Лишь тут Антон начал приходить в себя. Не совсем, конечно, но достаточно, чтобы встать и, сославшись на усталость, уйти к себе.
Очень долго, не час и не два, он просидел на кровати, бессмысленно глядя в пол. Лежал, пробовал читать книгу, но лишь тупо смотрел на страницы. Ни возмущения, ни обиды, ни иных сильных чувств не испытывал.
Стемнело.
Позвали пить чай. Промычал, что не хочет.
Погасил лампу, лежал в темноте.
Потом пришлепала Паша, в одной ночной рубашке – большой белый расплывчатый силуэт.
– Стосковался, поди, по мужскому делу? – сказала она ласково, садясь к нему на диван. – Ну, давай, попользуйся. Свирид Иванычу я сказала, он не возражает. Всё по-честному.
Наклонилась, распущенные волосы защекотали лицо, под тонкой тканью (рубашка была мамина) заколыхались груди.
И что-то в Антоне наконец проснулось. Какая-то злая, темная сила поднялась изнутри, заставила оттолкнуть полную голую руку.
– Иди отсюда! – прошипел он и задохнулся. – Пошла на…!
Грубо выругался, как ругались в тюрьме. Впервые в жизни произнес матерное слово, и захотелось выкрикнуть что-нибудь еще более гадкое.
Паша его ярости ничуть не испугалась. Убрала руки, выпрямилась, подбоченилась.
– Дурак ты дурак. Пожалеть хотела. Ну и кляп с тобой. После попросишь – не обещаю.
И вышла, величественно качая бедрами.
После этого они ни разу не разговаривали и даже не виделись. Антон не выходил из комнаты, пока Паша была дома. Даже если очень надо было в уборную, терпел.
Пару раз заходил объясниться Шмаков. Корил несознательностью, хвалил Пашу, «мировую бабу и отличного товарища». Антон слушал не раскрывая рта, не глядя в глаза. Ждал, когда жилец уйдет. Выгонять или шипеть матерно, как на Пашу, опасался. Скотина Шмаков, вероятно, не ушел бы, а полез драться. И избил бы своими корявыми кулачищами.
Следуя каким-то собственным представлениям о справедливости, Паша по утрам ставила под дверь еду: кусок хлеба и луковицу, или пару холодных картофелин, или стакан молока. Как кошке или собаке.
Антон держался сколько мог, иногда до самого вечера. Потом все-таки съедал. Три раза подвергся он этому унижению, пока не придумал, как добывать себе пропитание.
На четвертую ночь Шмаков сказал, что квартире подошла очередь дежурить в парадной, и поскольку он с «товарищ Ситниковой» люди трудящие и им утром на работу, то ночным сторожем быть Антону. Эта повинность, предписанная Петросоветом в целях борьбы с грабежами, обывателям была в страх и тягость. Если нагрянут налетчики, что проку от дежурного по подъезду? Был бы хоть телефон, милицию вызвать, а так – разве что орать во всё горло. Но ори не ори, никто не высунется.
Однако Антон, проведя бессонную ночь на лестнице, меж двух забаррикадированных мешками дверей, парадной и черной, а потом отлично проспав половину дня, сказал себе: «Эврика!»
И стал наниматься ночным сторожем в чужие дома, когда кто-то из жильцов не мог или не хотел дежурить в очередь. Выгода была двойная. Во-первых, дни стали не такими мучительными. Вместо того чтоб бродить по комнате, прислушиваясь к голосам за дверью (ушли или дома?), он теперь отсыпался. Во-вторых, за дежурство платили – давали полфунта хлеба с той же луковицей, или немного картошки, или ком домашнего творога. Другую еду в Питере добыть было трудно. Вскоре выяснилось, что в некоторых домах, где собственные печи, сохранилось отопление, и Антон подбирал только теплые подъезды – там удавалось и отогреться, и подремать. Вечером, перед возвращением Шмакова и Паши, он отправлялся на поиски ночного заработка.
Говорили, что скоро все парадные наглухо заколотят, на черный ход прикажут поставить железные засовы, а обязательное дежурство отменят. Но Антон о будущем не задумывался. Прожить бы день-ночь, и ладно. А там, может, случится какое-нибудь чудо и переменит жизнь к лучшему. Или не случится, не переменит. Ему было почти все равно. Придется этой зимой подохнуть – не жалко.
На одиннадцатые сутки послетюремного существования чудо все-таки случилось.
Вечером он стоял перед шестиэтажным домом на бывшей Офицерской, присматривался к окнам – много ли освещенных. По дымку над трубами было ясно, что отопление в доме имеется. Некоторые «жилтоварищества» умели добывать дрова, а если повезет, то и уголь. Найдется среди жильцов кто-нибудь оборотистый или со связями – всему дому счастье.
У Антона уже накопился кое-какой опыт. Сначала нужно выбрать квартиру, где на окнах тюль. Скорее всего, там проживают люди почтенные и в возрасте, кому ночевать в подъезде трудно и страшно. Если сегодня не их черед, не беда. Обрадуются предложению, побегут меняться очередностью с теми, у кого дежурство. Почти всегда получается, нужно только правильно окна выбрать.
От сосредоточенности Антон не придал значения легкому поскрипыванию снега за спиной. Крадущиеся шаги услышал в самый последний миг, когда и оборачиваться поздно.
Сзади кто-то крепко, взажим, не крикнешь, обхватил горло. Второй взял за ноги. И поволокли, как куль, извивающегося, хрипящего куда-то вбок, за сараи. Ни души во дворе не было, и из окон никто не выглядывал.
«Зарежут! Глупо!» – только и успел подумать Антон, а потом никаких мыслей не осталось, лишь слепой ужас.
Убивали в городе много, в газетах сообщали лишь о каких-нибудь особенно вопиющих преступлениях. Если же обывателя просто прирезали или пристрелили, чтоб снять пальто, это и в уголовную хронику не попадало.
В жуткие эти секунды, когда Антона затаскивали в черную щель между сараями, вдруг оказалось, что совсем ему не все равно, жить или умирать. Он изловчился, укусил руку, зажимавшую рот, – прямо через перчатку. И ногу одну высвободил, да лягнул ею во что-то мягкое.
Но его прижали к стене, взяли с двух сторон.
– Вот он, тварь чекистская, – сказал у самого уха задыхающийся от напряжения голос.
Антон зажмурился – в лицо светили фонариком.
Кто-то – не видно против света – подошел спереди.
– За кем следишь? Скажешь правду – отпущу. Мое слово твердое. Будешь юлить – убьем…
И вдруг этот тихий, шелестящий, исполненный угрозы голос осекся.
– Уберите нож, поручик. Это не шпик.
На горло больше не давили, но сердце по-прежнему прыгало где-то под самой гортанью.
– Петр… Кириллович… Вы? – пролепетал Антон.
Вон он, на крыльцо вышел. Будто снег со ступенек стряхивает, а на самом деле – знающему человеку ясно – оглядывается, всё ли спокойно. Но Филиппа ему не углядеть, место выбрано хорошее, укрытное, а и темно уже, шестой час.
Пошел, пошел. Санки с бидоном тянет. Приближается. Слышно, как полозья скрипят.
На всякий случай поглубже спрятаться – нюх-то волчий, не учуял бы.
Вокруг пусто. Прокатил маневровый паровозишко, нагнал копоти. А так – и воздух не шелохнется. Брошенные склады, зады путейских мастерских. Кто сюда после темноты сунется? Разве что тот, кому жизнь не дорога. Или лихой человек, но какой ему тут интерес?
Всё. Исчез за углом пакгауза. Только след санок остался на новом нетоптаном снегу.
Филипп свои санки до той же колеи на руках донес, аккуратно поставил. Ступая ямка в ямку, дотянул, легкие, до домишки. Хоть и не было вокруг никого, а всё ж от греха спрятал санки под крыльцо. Не поперли бы. Придется тогда тяжесть на закорках тащить.
Сердце в груди било чечетку, но не от страха. Бандитов Филипп не боялся, на них «наган» есть, а этот теперь не скоро воротится, там у керосиновой лавки «хвост» часа на полтора. Волнение было от нетерпежа. Очень хотелось гадюке ядовитые зубья поскорей выдернуть.
Замок был плёвый. Бляхин его открыл культурно, как на курсах учили. И снова запер отмычкой же изнутри, чтоб дверь не отклячивалась – она была трухлявая, щелястая.
Достал электрический фонарик, с казенного склада себе выписал для служебных надобностей, хорошая вещь.
Когда скрипел досками, шел через темную горницу, стало жутковато: не поставил ли где капкана или еще какой пакости, старый змей. С него станется. Светил и под ноги, и по сторонам. В ободрение сам себе приговаривал: «Ничего, шестерка, она туза бьет».
Это Слезкин ему в оскорбление сказал. Нарочно, чтоб Филиппа с самого начала окоротить, на прежнее место поставить.
Тогда, у проходной, глядя на обомлевшего Бляхина, дядя Володя шепнул:
– Большой ты человек стал, Филька. Высоко взлетел. Свысока падать – шею свернуть. Пойдем-ка, потолкуем.
А когда Филипп ему в ответ: не могу, служба, после поговорим, Слезкин, кривя рот, прошипел:
– Гляди, шестерка. Прихлопну – мокро будет.
И сует фотографическую карточку, из-за пазухи достал. Посмотрел Бляхин – темно в глазах стало. Снимок с титульной страницы его формуляра: «Бляхин Филипп Владимиров, 1896 г.р., стажер» – и наверху типографским шрифтом «Петроградское охранное отделение».
Набрехал, гнида! Забрал себе и сохранил бляхинское личное дело!
После Слезкин, посмеиваясь, рассказал, что у него дома своя фотолаборатория и он все документы переснял. Не подлинник же «корове» показывать – еще отберет. «Коровами» он называл тех, с кого «доил молочко». Вот и Филипп в его нынешнем видном положении угодил в «коровы». Очень дядя Володя своей предусмотрительностью гордился.
– Нюх меня редко подводит, – хвастал он, когда уединились в тихом месте. – Какой, кажется, навар может быть с шестерки? Ан может. Усмотрел я в тебе нечто, Филька. И не ошибся. Будет мне от тебя, телушки, больше молока, чем от иных сисястых коровищ.
Он долго Филиппа пугал. Интересовался, что комиссар Рогачов сделает, если увидит формулярчик.
Взмолился Бляхин:
– Какое от меня молоко, дядь Володь? У меня кроме пайка служебного нет ничего, и паек-то не ахти. Товарищ Рогачов нашему брату шиковать не дозволяет.
Слезкин ему на это:
– Дурак ты или придуриваешься? На таком месте сидишь! Сейчас самое время золотую рыбку ловить! Когда ил с мутью осядут, поздно будет.
– Какую рыбку? Какое такое время? – не взял в толк Бляхин.
– Время Мандата. Закона нету, порядка нету, заместо всего этого Мандат. Есть у тебя бумажка с правильной печатью – бери что хошь. И никто за тобой гоняться не станет, сыскной полиции нету, а ихняя уголовка – смех один.
Дальше дядя Володя рассказал, какое «молоко» ему от Филиппа надо.
Перво-наперво достать бланки на обыск и поставить на них печати, но чтоб строки, где адрес и имя, остались пустыми. Еще – настоящее удостоверение сотрудника Петрочека с дядиволодиной фотографией.
– И всё? – спросил Бляхин, начиная немного оттаивать. Бумажки эти достать он, пожалуй, мог. – За это вы мой формуляр отдадите?
– Отдам. Но не сразу. Сначала ты со мной пару разочков на дело сходишь. Подумай сам: что за обыск, если чекист в одиночку пришел?
Затрясся Филипп, попытался упереться.
– Вдвоем обыск тоже не производят.
Слезкин подмигнул:
– Не бреши. Я все ваши новшества знаю. Это раньше вы с грохотом к парадной на авто подкатывали и гурьбой по лестнице шли. Кое-кто успевал через черный ход или через чердак сбежать. Теперь Чрезвычайка поумнела. Машину оставляют за углом, а входят двое, нешумно.
Всё правда: по новой арестно-обыскной инструкции так и полагалось. Если не предвидится вооруженного сопротивления, положено проникать в помещение парой, а потом при необходимости подключать дополнительный контингент.
– Не буду. Ни за что, – отрезал Филипп. – Хоть что со мной делайте, а грабить не пойду.
– Зря робеешь, дура. – Дядя Володя его шлепнул по лбу – легонько, по-отечески. – Трясти мы будем людишек богатеньких, но необидчивых. Жаловаться они не побегут, потому что по революционному закону все ценности полагается сдавать рабоче-крестьянской власти. Кто не сдал – саботажник. Так что риска никакого нету. А бояться тебе надо, чтоб ты меня не рассердил. Я ведь работал, сведения собирал, первый адресок уже присмотрел. Нынче ночью и пойдем. Ты только бумаги добудь. А не добудешь – пеняй на себя. На кой мне тебя жалеть, если ты молока не даешь?
В тот же вечер принес ему Бляхин и мандат, и бланк. Как было не принести?
А ночью случилось такое, что забыть бы и не вспоминать никогда. Но разве забудешь?
Дядя Володя повел своего подельника (вот кем стал ответственный работник ЧК, член РСДРП Ф. П. Бляхин) в Измайловские роты, где проживал старший приказчик ювелирного магазина «Морозов» – бывший, конечно. Когда была национализация, у хозяина золота и камней не нашли, посадили как злостного укрывальщика ценностей, а во время террора шлепнули. Слезкин навел справки, пощупал, понюхал и пришел к заключению, что дурни чекистские не у того искали. Старший приказчик Лоскутов, верный морозовский пес, имел ключи от магазинного сейфа. Вот кого следовало за горло брать, но у товарищей мозгов не хватило.
Постучали в подъезд, громко. Через заколоченное досками стекло некогда богатой двери светился огонек. Видно было стол, укутанного в бабьи платки старичка-дежурного. Вместо оружия у ночного сторожа был гонг, каким раньше во время обеда прислугу из кухни подзывали.
– Открывай, старый черт! – заорал дядя Володя страшным голосом. – Открывай, ЧК! И не вздумай ваньку валять! А ну, живо!
Филипп вжал голову в плечи. С ума он сошел! Сейчас начнут из окон высовываться.
Но ни одна штора не дрогнула в темных окнах, нигде не загорелся свет. Наоборот – окна, которые светились, одно за другим стали гаснуть.
Старичок, забыв надеть очки, трясущимися руками отодвигал засов.
Слезкин ему бумагу в нос:
– Которая тут квартира шесть? Ясно. А ты из какой? Фамилию назови. Так, гражданин Зарецкий, ступай к себе и ожидай. Можешь понадобится в качестве понятого. Марш, я сказал!
Филипп предусмотрительно держался сзади, где потемнее. Когда дед, шлепая валенками, убежал к себе, дядя Володя махнул:
– Пошли!
Подниматься надо было на четвертый этаж. Слезкин громко топал – видно, нарочно. Несколько раз выругался по-матерному, тоже громко. Ничего не скажешь, грамотно себя вел. Никакие налетчики этак по-хозяйски не держатся.
В квартирах стояла тишина – мертвая.
– Открывай, Лоскутов! – замолотил дядя Володя в дверь с табличкой «№ 6». – Живо, контра, не то дверь высадим!
Бляхину доводилось бывать на настоящих обысках. Он каждый раз изумлялся, отчего люди слушаются и сразу же открывают. Куда торопятся? Ведь терять им уже нечего, а дверь, если крепкая, так просто не вышибешь.
Вот и Лоскутов этот открыл – минуты не прошло. Был он в бязевом исподнем, но в меховой жилетке и меховых же ботах. Бородатое белое лицо прыгало.
В гостиной дядя Володя предъявил удостоверение, шлепнул на стол постановление на обыск. Есть, говорит, у нас верное сведение, что прячете вы, гражданин Лоскутов, хозяйское золото. Отдавайте по-хорошему, не то сами знаете.
Приказчик, конечно, стал божиться, что ничего у него нету. Дядя Володя на него прикрикнул – не помогло.
Сам Филипп не вмешивался, стоял в сторонке и с каждой минутой всё сильнее нервничал. Знал: сейчас дядя Володя бородатого мордовать начнет.
Но у Слезкина было придумано иначе.
– Ладно, контра, – сказал он. – Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Иванов! Держи его на прицеле, глаз не спускай!
Прикрываясь ладонью – вроде как глаз зачесался, – Филипп взял приказчика на мушку, велел сесть лицом к стене. У Лоскутова крупно дрожали плечи, да и у Бляхина «наган» ходуном ходил. Еще неизвестно, кому было страшнее.
Из глубины квартиры, куда ушел дядя Володя, раздался непонятный шум, потом вроде как коза заблеяла или порось визгнул.
Лоскутов на стуле приподнялся, плачуще крикнул:
– Товарищ комиссар, мамашу только не трогайте! – да и сел обратно, потому что Филипп его по плечу рукояткой стукнул. Чтоб башкой не вертел, лица не увидал.
Загрохотало что-то, и в комнату вкатилась инвалидная коляска. В ней сидела сухая старушонка, закутанная в ватное одеяло. Это она, оказывается, блеяла-повизгивала. Седые волосенки, жидкие, на затылке стянуты в пук.
– Товарищ комиссар, у мамаши удар был. Она языка лишилась. На что она вам, товарищ комиссар?
Вскочил все-таки со стула приказчик, руки умоляюще сцепил и обернулся на Бляхина – может, тот заступится.
Филипп рожу скорчил, страшную. Это чтоб бородатый на него не надеялся и потом, если что, не опознал бы.
Дядя Володя взял со стола цигарку, их там у хозяина лежало штук десять, аккуратно свернутых. Зачем взял? Ведь не курит и никогда не курил, всегда говорил: от табака здоровью гибель.
Однако сунул в рот и спичкой запалил. Видно, и у него тоже нервы, подумалось Бляхину.
Только не угадал он. Попыхтев и распалив цигарку, Слезкин затягиваться не стал, а прижал огненным концом старушке под глаз. Она замычала, одной рукой махнула, и половина лица – глядеть жутко – перекосилась, а другая осталась неподвижна.
– А-а-а! – дико завопил Лоскутов, будто это его прижигали. – Звери! Нате, подавитесь! Всё забирайте!
Кинулся к окну, схватился двумя руками за подоконник, дернул – и снял фальшивый обод. Под ним открылась пустота.
Дядя Володя подмигнул Филиппу: то-то, знай наших!
– Давай, что там у тебя?
Взял у хозяина жестяную коробку из-под печенья. Открыл, позвякал пальцем.
– Врешь, сволочь. Мелочевка это. Где бриллианты? Должен быть еще тайник.
Лоскутов вытирал слезы.
– Нету больше ничего. Христом-Спасителем клянусь.
– Ну гляди…
Дядя Володя снова запыхтел папиросой, разжигая ее поярче. Старушка зажмурилась. На щеке у ней багровел ожог.
– Не тронь мамашу!
Растопырив руки, приказчик бросился на Слезкина. Тот легко, не переступив ногами, увернулся от неуклюжего удара, вынул из кармана пистолет и с хрустом впечатал рукоятку в висок ополоумевшему хозяину. Лоскутов повалился лбом в паркет и не шелохнулся.
У Бляхина в горле встала икота, но наружу не выходила – распирала изнутри.
– Дрянь дело, – печально молвил дядя Володя. – Коли он матерь не пожалел и драться кинулся, значит, и правда нет у него больше ничего. Я ведь, брат, полную разработку провел. Лоскутов этот холостой, всю жизнь при мамке, сухарь человек, никого кроме нее не любит. Выходит, бриллианты все-таки Морозов где-то припрятал. Надо будет к вдове его наведаться. Адресок у меня есть. Завтра еще бланк принесешь, сходим.
Филипп подумал: зачем это он сейчас рассказывает? Приказчик, может, только притворяется, что без сознания. И старуха, хоть безъязыкая, но рука у ней одна шевелится – возьмет и на бумаге всё пропишет.
А дядя Володя наклонился, пощупал приказчику шею.
– Помнит рука науку. Добавки не требуется. Готовый.
Бляхин ахнул:
– Убили?!
– Ты что, думал, я стану свидетелей оставлять? Не бойсь, дактилоскопии нынче не снимают. Нет свидетелей, нет и расследования. Золотое времечко.
Старуха как услышала, что сын убит, опять замычала. Но не долго это продолжалось. Подошел к ней Слезкин, двинул рукояткой в висок – и откинула инвалидка голову набок.
Не сдержался Бляхин, вскрикнул. Не мог он видеть, как людей убивают, – знал это за собой. Однажды, по службе, пришлось на расстреле присутствовать, так опозорился, вырвало. И там ведь заранее знал, а смотрел издали. Здесь же убийство случилось в двух шагах, безо всякого предуведомления.
В секунду, когда рукоятка опустилась на белую, словно одуванчик, голову, где-то вдруг затренькал марш про крейсер «Варяг». Филипп испугался, не мозги ли от ужаса набекрень съехали.
– Откуда это? – удивился дядя Володя. – Часы, что ли? – Наклонился над мертвым приказчиком, достал из кармана что-то блестящее. – Так и есть. Золотые.
Щелкнул крышкой, и марш умолк. А часы Слезкин сунул за пазуху.
– Что дрожишь? Уходим.
Спускаясь вниз, дядя Володя опять грохотал и матерился. Около второй квартиры, куда убежал дежурный старичок (на табличке была гравировка «Д-р Зарецкий»), Слезкин остановился, почесал затылок.
– Ладно, – сказал, – хрен с ним. Очков он не надевал, стекла толстые. Слепой, как крот. Пускай живет. Айда ко мне, делить будем.
Долго шли под косым ветром, сквозь снег пополам с дождем на зады Николаевской-товарной, где теперь проживал дядя Володя. Он занял пустующий домишко сторожа, в прежние времена приставленного к складам. Но товару не было, склады стояли пустые, сторож давно съехал – устрашился ночевать один в глухом месте. А дядя Володя шутил, что бандитов не боится, потому что он сам теперь «уголовный элемент».
«И я вместе с тобой, – уныло думал Бляхин. – За что мне такая напасть? Ведь только-только жизнь заладилась».
Страшно было, тошно и очень себя жалко.
Из прошлого, которое навсегда сгинуло, вдруг выскочил упырь, вурдалак, впился зубищами в горло, начал сосать кровь, и выходило, что Филиппу теперь погибать. Не отлипнет от него Слезкин, в покое не оставит.
А ведь какие высоты открывались перед сиротой незаконнорожденным, у кого и отчества-то не было. Товарищ Рогачов, капитальнейший человек, находился в огромной силе. По-старому считай, генерал-инспектор или генерал-ревизор, от кого губернаторы в трепет приходили. Филя при нем, опять-таки если по-старому, доверенный чиновник особых поручений. На чины считать – минимум коллежский асессор, а то и надворный советник. В двадцать два-то года! И весь дальнейший путь просматривался ясный, чистый, уходящий вверх. Служи верно начальнику, отцу родному, и взлетишь вместе с ним до самого солнца. При царской власти малая образованность помешала бы высоко подняться, а теперь от этого одна польза: наоборот, шибко образованным дороги нет. Хорошие наступили времена, а будут еще лучше. Очень Бляхин за эти полгода полюбил и революцию, и советскую власть, и большевистскую партию, в которую его приняли по личной рекомендации Панкрат Евтихьича.
И на тебе.
Сдох бы он, что ли, мучитель. Или пришить бы его. Достать «наган», да разрядить весь барабан в широкую спину.
Так подумал Филипп, ковыляя по рельсам за дядей Володей. Тот будто подслушал. Остановился, приобнял за плечо, а рука тяжеленная. И задушевно так:
– Ты чего это, Филя, ручку в карман сунул? У тебя там револьвер, знаю. Но не отбираю, потому что не боюсь тебя. Нисколько. Не грохнешь старого друга, не по этой ты части. От одной мысли затрясешься, весь потом пойдешь, я этот запах сразу почую. И хана тебе, дурню. – Дядя Володя хихикнул, будто говорил шутейно. – А если все-таки насмелишься и, положим, пофартит тебе… Ты ведь начальство. Можешь меня и чужими руками достать… Так учти: Слезкин тебя и с того света прижучит. На то у меня страховочка имеется.
Что за «страховочка», не сказал. Надо полагать, всё тот же формуляр, который, если с дядей Володей что случится, каким-то манером в ЧК попадет.
Нет, нельзя было в гада из «нагана». Опять же прав он, знаток человеческих душ: паршивый из Фили Бляхина убийца.
Когда, уже в сторожке, делили добычу, дядя Володя из коробки выдал подельнику пару жалких колечек с самоцветами да гранатовые сережки, остальное себе оставил. Цена бляхинской доле была, самое большее, мешок картохи или пара ношеных сапог.
Но Филипп не спорил, а выйдя на холод, зашвырнул побрякушки подальше, в сугроб. Не дай бог кто из товарищей-чекистов увидит и Панкрату Евтихьевичу донесет.
От расстройства чувств Бляхин не сразу сообразил, почему голова так зябнет. Оказывается, картуз кожаный на столе забыл. Надо возвращаться.
Поплелся назад, к треклятой избушке на курьих ножках, чтоб ей провалиться.
Постучал.
– Дядь Володь, это я!
Нет ответа.
Подергал – не заперто. Вошел.
В горнице пусто. В кухоньке тоже никого. Куда же Слезкин подевался?
Не сразу заметил, что дверца чулана приоткрыта, а там в полу люк – видно, погреб. Внизу свет, погромыхивает. Дядя Володя напевает, булькает чем-то.
Это он за припасом полез. Звал с ним повечерять, говорил, что у него в подполе грибочки соленые, капустка, квас. Но Филипп отказался, надо было возвращаться на Гороховую.
Хотел он подать голос: мол, я это, за головным прибором вернулся – вдруг слышит, из горницы тихая музыка доносится. «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает».
Часы убитого приказчика где-то там полночь объявляли. Ровно час прошел с минуты, когда дядя Володя их с мертвеца снял. Даже не поверилось: неужто всего час?
Музыка эта паскудская была Бляхину в мучение. Он вернулся в горницу, чтоб крышку открыть и звон погребальный остановить, но часов нигде не обнаружил.
Непонятная вещь: марш несся прямо из бревенчатой стены. Что за наваждение?
Пригляделся – а в бревне зачем-то шуруп. И прорезь на нем явственная, будто вкручивали недавно. Взял со стола нож, вставил острием, повертел – ух ты! Часть бревна отодвинулась, она была на пружине, изнутри выдолблена. И открылась черная дыра. Оглядываясь на дверь чулана, Филипп посветил лампой.
Ниша, большая. С полочками. Наверху музыкальные часы и жестяная коробка с золотишком. А внизу папки, много!
Вот где Слезкин свой «пенсионный капитал» хранит.
Забилось сердце пуще прежнего. Цапнул Бляхин первый попавшийся формуляр – какой-то секретный сотрудник, кличка «Шептун». Не то!
Заскрипели перекладины лестницы. Из погреба поднимался дядя Володя.
Бляхин, слабея от ужаса, папку выпустил, тайник закрыл, шуруп повернул. И на цыпочках, на цыпочках к выходу.
Десять дней назад это было.
К вдове ювелира Бляхин – куда денешься – потащился, но обошлось. Пришли ночью, а нет никого. И стучали, и грозили – нет ответа. Дверь ломать не стали, она была крепкая.
Дядя Володя выглядел сконфуженно, даже оправдывался. Говорил, днем еще вдова дома была, он проверял. Куда ее, козу, унесло на ночь глядя? Филипп цокал языком, сокрушался. На самом деле он в начале вечера протелефонировал в райотдел ЧК и велел гражданку Морозову сорока восьми лет, вдову купца первой гильдии, расстрелянного в порядке красного террора, взять на предмет оперативной разработки. Дело обычное, даже не арест – согласно новым правилам делается без особого постановления. А раз «оперативная разработка», районные и спросить ничего не могут. Потом можно будет еще раз позвонить, сказать: переведите в «домзак», не до нее сейчас. Для Морозовой же лучше. В тюрьме, конечно, не сахар, но все-таки веселей, чем с проломленной башкой.
Унывал Слезкин, черт шебутной, недолго. Ничего, говорит, у меня еще пара адресочков есть. Пожди малость.
Но и Филипп, подгоняемый страхом, да подогреваемый знанием о тайнике, времени не терял.
Каждый день, как только выдастся лишний час, наведывался на железнодорожный пустырь. Наблюдал, мотал на ус. Убивать Слезкина теперь было ни к чему. Довольно было улучить минуту, когда гада дома нет, и вынуть из хрона свое личное дело. По расчету требовалось на это самое большое полчаса.
Беда в том, что никакого заведенного распорядка (по-научному «рутины») у объекта не прослеживалось. Дядя Володя уходил и возвращался всё время по-разному. Иногда соберется куда-то вроде как всерьез и надолго, а глядишь – через четверть часа уже назад топает. Будто нарочно.
Рисковать тут ни в коем случае было нельзя. Ошибешься – жизнь положишь.
Но наконец придумал Филипп, как всё обделать наверняка.
Добыл дяде Володе карточку на два ведра керосина, самый дефицитный продукт. Время получения – с пяти до семи, когда уже темно.
И вышло всё по задуманному. Сегодня слезкинскому тиранству настанет предел.
Ушел объект за керосином. На белом снежном фоне был виден, потом растворился в густых сумерках. Свои санки Филипп донес до наезженной колеи на руках и ступал по снегу след в след, потому что, хоть скоро совсем черно станет, а береженого Бог бережет.
Открыл замок отмычкой, потом закрыл. Светил фонариком под ноги. И хоть был весь в напряжении, а страха не чувствовал. Только радостное нетерпение. Шестерка, если козырная, туза бьет.
Санки он притащил и под крыльцом оставил, потому что мысль пришла: если уж рисковать, почему бы разом все папки не забрать? Выявить тайных агентов царского режима – для революции польза, для службы продвижение. Можно не сразу все карты на стол выкладывать, а по мере необходимости. Этакие козыри на руках иметь – плохо ли?
Для шурупа Бляхин прихватил длинную удобную отвертку. Вставил, повернул – секундное дело. Тайник открылся.
Посветил внутрь. Папки стояли плотным строем, вертикально. Достал из-за пазухи сложенный мешок. Однако подумалось: надо сначала проверить, здесь ли его собственный формуляр-то. Вдруг Слезкин, собака, куда-то отдельно припрятал. Тогда ничего трогать нельзя, уходить надо.
Папки лежали внизу далековато, тянуться рукой неудобно. Филипп устроился вот как: в левой держал фонарь, в правой отвертку, и ею формуляры один за другим сдвигал, справа налево. Посветит лучом, прочтет имя, передвинет. Быстро получалось.
Не то, не то, не то…
Дело стажера Бляхина отыскалось в самой середине, когда Филипп уже волноваться начал.
Есть! Тоненькая папка, в ней один или два листа всего, а могла в могилу свести.
Перегнулся он, фонарик подбородком зажал, цапнул.
Ну, дальше быстро. Накидать остальные папки в мешок, и кончено.
Но когда он из щели назад подался, раздался за спиной у Филиппа голос, вкрадчивый:
– Что, нашел?
Охнул Бляхин, уронил в дыру и папку, и фонарик. Обернулся, вчистую ослепнув от кромешной тьмы в горнице.
Тьма сказала ему:
– А я-то думаю, чего это Филя такой заботливый, керосинчиком для старика озаботился. Что, брат, не ждал меня так скоро? Я в «хвосте» стоять не люблю. Показал мандат – пропустили, никто не пискнул. А дверь перед уходом я всегда волоском помечаю. Привычка.
Глаза чуть-чуть приобыклись, стал виден силуэт. Правая рука у дяди Володи была вытянута вперед. Сейчас стрельнет, кто тут услышит?
– Не убивайте, – сказал Филипп очень быстро, чтоб опередить выстрел. – Поучить поучите, но жизни не лишайте. Пригожусь я вам, сами знаете.
Только тем, что не растерялся, вовремя правильные слова сказал, от неминучей гибели и спасся.
Дядя Володя помолчал.
– Что ж, сильно сердиться на тебя не буду. Каждый человек обязан о своей пользе думать. Ишь, ловок. Хорошее было местечко, а сыскал… Но поучу крепко. Долго помнить будешь. Я знаю, ты человек смирный, но кобуру отстегни… Вот так. И на пол кинь. Я тоже «дуру» спрячу, на кой она мне?
Чиркнула спичка, осветив крепкие руки, от которых предстояло Филиппу принять муку. Потом загорелась и лампа.
Засучивая рукава, дядя Володя объяснял:
– Рожу я тебе уродовать не стану. Я сначала по почкам пройдусь, по ребрышкам. Ты пока стой смирно, как солдат. Руки по швам. Смирней будешь – меньше достанется. После я тебя на пол покладу и маленько брюхо потопчу. Недельку-другую кровью погадишь, потом заживет. Орать ори, не стесняйся. Тут вокруг никого нет.
От такого разговора Бляхин попятился, вжался в стену.
– Ай, нехорошо, – укорил его дядя Володя. – Предупреждал ведь. Ну, пеняй на себя.
Как подскочит! И пятерней снизу за пах, крепко, да сжал – у Бляхина в глазах почернело, воплем подавился.
Он и сам не понял, как оно случилось. От мученической муки дернул правой рукой, а в ней отвертка, которой папки шевелил. Вошла в мягкое по самую рукоятку. Дядя Володя ойкнул, выругался. И тут – от ужаса, от боли – Филипп стал бить снова, снова, снова, и отвертка послушно втыкалась, как в масло, а слезкинская хватка ослабела, и начал дядя Володя заваливаться, и наконец упал.
Вся правая кисть у Филиппа была красная. Рукав тоже.
Отвертку, всю мокрую, блестящую, он кинул под стол.
Что же это? Как оно получилось-то?
Неизвестно, сколько времени он простоял в омертвении, ничего не соображая. Но дядя Володя лежал неподвижно, снаружи было тихо, и понемногу начало отпускать.
Что теперь? Что делать?
Надо всё тут спалить. Всю сторожку. Это непременно.
Формуляр!
Взял со стола лампу, посветил в дыру, куда свалился фонарь. Своя папка лежала поверх других. Филипп ее вынул и поскорее поджег. Четыре спички сломал – так пальцы дрожали.
Остальные надо в мешок.
Но поглядел на зияющую дырку в стене и почувствовал: нет моченьки. Наполнять мешок, волочь санки. Поскорей бы унести ноги из этого проклятого места.
Ничего не надо. Ни чужих секретов, ни коробки с золотом.
Сжечь, обратить в пепел. Чтоб ничего не осталось. А найдут на пожарище обгоревший труп, оплавившееся «рыжьё», приказчиковы «котлы» и решат – воровская «малина». Не поделили что-то уголовные.
Он притащил из сеней бидон, плеснул в тайник керосину, поджег.
Задыхаясь, Филипп лил пахучую жидкость по всей горнице направо и налево. Как объяснить своим, что на рукаве кровь, а от одежды несет керосином? Ладно, придумаем что-нибудь. Только б отсюда побыстрей.
На пустыре Бляхин оглянулся всего однажды.
Сама сторожка была черная, зато окно колыхалось пламенным светом. Со звоном лопнуло стекло.
Вжав голову в плечи, Филипп побежал по скрипучему снегу.
Забыл под крыльцом санки. Леший с ними.
Скрип-скрип, скрип-скрип. И чем дальше он отбегал от железнодорожных путей, тем на душе делалось свободней, радостней.
А ведь молодец! Какое дело провернул! Какого волка завалил! И рука не дрогнула. Да хоть бы и дрогнула – неважно. Главное, вырвался на волю.
Покойник, наверно, станет ночью сниться. Ну и пускай. Поорем, проснемся, на другой бок повернемся. Зато наяву теперь бояться нечего.
Ничто больше не грозит Филиппу Бляхину. Сгорело его прошлое. Надежно, навсегда.
Нету бывшего «охранника». Есть ответственный сотрудник ЧК и член партии. Сын трудового народа и Советской власти. Вот именно: он Республике Советов – сын, а она ему – родная мать.
Это не моя страна, она мне не мать, даже не мачеха, а дурная, пьяная баба, от которой бежать и не оглянуться, думал Антон, глядя в окно на темные перелески, на смутно белевшие поля, среди которых светились редкие огоньки.
Все они заблуждались, потратили свою жизнь на пустую блажь, на химеру – отец с матерью и тысячи других интеллигентов. Хотели принести России благо, а породили только смуту в головах, и так-то темных. Думали, что знают, как стране лучше. Ни черта они не знали, не понимали. Декабристы, герцены с Чернышевскими, всякие-разные чеховы пронеслись над тысячелетними лесами и болотами, будто чужеродный прах, навеянный ветром с запада. Но дунул иной ветер, восточный, пропахший пустыней, дикой силой, кровью, и прочь унесло чахлые пылинки прекраснодушия.
Одну из этих пылинок зовут «Антон Клобуков», и улететь подальше из гиблых мест она совсем не против. Пускай товарищи шмаковы живут со своими мясистыми самками, как им сподручней. Без нас. Без меня. Они отдельно, я отдельно. И поскольку их много, а нас мало, будет только справедливо, если обширная территория, раньше именовавшаяся Россией, достанется большинству. Спасибо им за то, что нарекли свое государство безобразным набором звуков – РСФСР. Пусть остаются с этим фырчанием.
Им нравится давить слабость и пресмыкаться перед сильными. Они не нуждаются ни в чувстве собственного достоинства, ни в свободе мысли, ни в праве на частную жизнь. Если б люди, для кого эти понятия жизненно важны, могли бы взять и поселиться отдельно, получилась бы прекрасная, цивилизованная страна, не хуже Швейцарии – нет, много лучше. К сожалению, договориться с хамским большинством, чтоб оно уступило меньшинству какую-нибудь губернию, совершенно невозможно. Потому что с товарищами шмаковыми вообще ни о чем договориться нельзя, они понимают лишь язык оружия. Однако и воевать с собственным народом только потому, что он не хочет жить по твоим правилам, – дело зряшное, ни к чему кроме бессмысленного кровопролития не приведет. Как только Бердышев, умный человек, этого не понимает?
Дорога изогнулась дугой, стал виден маленький, будто игрушечный тепловоз. По этой короткой железнодорожной ветке поезда ходили особенные, похожие на городские трамваи. В вагончиках по шесть окон, деревянные скамейки украшены легкомысленной резьбой. Когда-то здесь в основном ездили дачники. Теперь дачников не стало, и пассажирским остался только один вагон. Остальные приписаны к Сестрорецкому военному заводу: там ящики с какими-то грузами, охрана. А в единственном вагоне с сидячими местами почти пусто. Кроме Антона всего три человека, расселись подальше друг от друга: спящий солдат в надвинутой на глаза папахе, с вещевым мешком; замотанная в платки баба; оборванец с костылями – этого-то куда понесло в поздний час?
Дважды проверяли документы, но они у Антона в идеальном порядке: едет себе табельщик с оружейного завода, никаких вопросов. У Петра Кирилловича всё устроено на ять, организация работает, как часовой механизм.
Бердышев – человек, на которого можно положиться. Встреча с ним – несомненное чудо. Когда они столкнулись у особняка Кшесинской в апреле семнадцатого, то было не чудо – обыкновенная случайность. Но нынче, в нижней точке беспросветного отчаяния, встреча с Петром Кирилловичем воскресила Антона к жизни, дала надежду – и надежда эта оправдалась.
В доме на Офицерской, где Антон рассчитывал напроситься в ночные сторожа, у Бердышева была конспиративная квартира. Соратники Петра Кирилловича заметили субъекта, упорно пялящегося на окна, и приняли его за шпика Чрезвычайки. Могли прямо на месте «кокнуть», да Бердышев велел сначала допросить.
Долго потом разговаривали. Историей Антонова ареста Петр Кириллович не заинтересовался, она была вполне заурядной, зато очень подробно выспросил про освобождение и особенно про Рогачова. По поводу бывшего однокурсника высказался жестко:
– Вот каких убивать надо, а не Урицких с Володарскими. Рогачов вдесятеро опасней.
От этих слов повеяло лютым холодом. Антон, собиравшийся восхититься тем, как чудодейственно встретились ему на пути друзья отца – сначала один, а потом второй, – прикусил язык. Вместо этого спросил Петра Кирилловича про жену и дочку. Но вышло еще хуже.
Лицо Бердышева, и так будто вырезанное из камня, совсем застыло.
– Зинаиду и Настю я переправил в Крым еще в феврале, девять месяцев назад. До места они не доехали. Где они, неизвестно. Их ищет вся сеть, пока не могут найти. И хватит про это, ладно?
Антон совсем растерялся.
– Сеть? – повторил он и сообразил, что опять спросил о чем не следовало.
Однако на этот вопрос Петр Кириллович ответил спокойно:
– Организация.
Один из людей, тащивших Антона за сараи, – тот, кого Бердышев назвал «поручиком», – красноречиво кашлянул. Петр Кириллович кивнул ему, что означало: ничего, этому можно.
И рассказал, чем занимается уже несколько месяцев.
Организация под названием «Сеть» была создана для того, чтоб находить в обеих столицах бывших офицеров, желающих воевать с Совдепией, и переправлять их на юг. С обычной своей холодноватой иронией Бердышев сказал, что, поскольку он Петр, то стало быть и рыбарь. Видно, ему самой судьбой предназначено закидывать сеть в море и быть ловцом человеков.
– Главная наша беда в том, что мы разрознены, – говорил он спокойно, с твердой убежденностью. – Хамье собралось в огромные толпы, у них стократное преимущество. Однако если б мы собрали офицерский корпус в кулак, у нас получилась бы лучшая в мире армия. Она была бы невелика по численности, но вполне достаточна, чтоб перед ней разбежались полчища недисциплинированных крикунов, каждый из которых озабочен только своим брюхом. Согласно имеющимся данным, в России примерно 320 тысяч бывших офицеров. Всех их нам, конечно, не мобилизовать. Многие апатичны, некоторые заражены коммунистической заразой. Однако довольно было бы компактной ударной группировки в пятьдесят тысяч профессиональных бойцов, и она, как нож через масло, прошла бы сквозь вшивые полчища товарища Троцкого.
– Хватило бы всего пятидесяти тысяч? – усомнился Антон.
– Знаешь ли ты, что так называемая Добровольческая армия, чуть не перевернувшая всю Совдепию своим Ледяным походом, насчитывала меньше четырех тысяч человек? Да если б у Корнилова весной было хотя бы десять-пятнадцать тысяч, он не то что Екатеринодар, он и Москву бы взял! Однако красные создают подобие кадровой армии, у них уже начинает кое-что получаться. Поэтому сегодня нужно никак не меньше пятидесяти тысяч воинов.
Чувствовалось, что все доводы давно взвешены, цифры проверены.
– В одном Петрограде, по моим сведениям, около двадцати тысяч офицеров и юнкеров. Десять – двенадцать тысяч в Москве. Отсюда, из Питера, Сеть ежедневно отправляет по тридцать-сорок добровольцев. Добирается до места назначения меньше половины. Чрезвычайка стала работать активней, в дороге волонтеров подстерегает множество иных опасностей. Бывают изменники. Есть и просто малодушные, кто дезертирует на середине пути. И всё же вкупе с москвичами мы ежемесячно снаряжаем для будущей армии освобождения России по офицерскому полку. Мало, скажешь ты? Но Россия, слава Богу, состоит не только из Москвы и Петрограда. И даже если мы потерпим поражение… – У Петра Кирилловича дернулась щека. – Нам будет не в чем себя упрекнуть. Мы… нет, наши дети скажут: они не отдали кровавому знамени свою страну без боя.
Антон слушал негромкие, сдержанные речи Бердышева и ощущал мучительную зависть. Как давно никто из своего круга не говорил ничего сильного, мужского! Вот люди, которые не ноют, не заламывают руки, а пытаются что-то сделать. Хотел бы и он обладать простой и твердой верой.
– А… вы уверены, что это наша страна? – задал он вопрос, над которым давно ломал себе голову. Антон готов был объяснить, в чем именно заключаются его сомнения. Был готов к тому, что Бердышев не поймет вопроса.
Но Петр Кириллович лишь пожал плечами:
– Другой страны у меня нет и не будет. Значит – моя.
Как всё просто! И нечего мудрить!
В разговоре возникла пауза, и Антону вдруг подумалось: а ведь он ждет, что и я захочу участвовать в борьбе за освобождение отечества. Стыдно отмалчиваться, задавать идиотские интеллигентские вопросы.
– Переправьте и меня! – выпалил он – и сам испугался. Но деваться было уже некуда.
«Все равно, – сказал Антон сам себе, унимая всколыхнувшуюся панику. – Хуже, чем сейчас, не будет. По крайней мере, действовать, а не прозябать дрожащей тварью…»
Но Петр Кириллович глядел с холодным удивлением.
– Ты что, совсем меня не слушал? Я же сказал: нужны профессионалы, закаленные бойцы. Нет времени учить военному делу штатских. Началась настоящая война. Будет много крови, гораздо больше, чем уже пролилось. В ответ на революцию установится стальная военная диктатура. Огонь мы будем гасить огнем. Тебе не нужно всего этого видеть. Уезжай из России. Вернешься, когда самое страшное будет позади.
И объяснил, что Сеть занимается не только отправкой офицеров в действующую армию, но и помогает их родственникам перебраться в Финляндию. Воин, идя в бой, должен быть спокоен за свою семью.
В Финляндию из Петрограда пытались бежать многие. С каждым днем это становилось всё рискованней. Кого ловили на границе – расстреливали.
– Да, у меня есть однокурсник один, Витя Хомутов. Он звал идти на лыжах через залив, когда лед встанет. Но Хомутов спортсмен. А я, наверно, и пары верст не пройду.
Петр Кириллович засмеялся:
– Обойдемся без лыж. Среди тех, кого мы переправляем в Финляндию, спортсменов мало. Спортсмены у нас в другую сторону едут, на юг.
После холодного октября выдался необычно теплый ноябрь. Даже погода в этой стране была враждебна Антону. Финский залив покрылся «салом», но всё не вставал. Температура перешла на устойчивый минус только после двадцать шестого.
Совсем недавно Антон ждал морозов со страхом: получится ли дожить до весны? А теперь что ни день бегал смотреть, замерзли ли каналы, да что с Невой?
Но вот вода покрылась сначала пленкой, потом настоящим льдом, и поверху уже заметал снег, а на Кронштадт прошел – в газетах написали – первый ледокол. Тем же вечером из «Сети» дали знать: сегодня.
Из дому Антон ушел, ничего не сказав и, разумеется, не попрощавшись. Лишь оставил на столе записку для Паши – исключительно ради того, чтоб не вздумали сообщать в милицию. «Уезжаю, нашел работу. Живи как тебе лучше. Прощай». Вторую половину приписал, поддавшись настроению. Как-никак прощание с большим куском жизни. Ну и вообще: между переменами, которые произошли с Россией, и Пашиной метаморфозой было что-то сходное. Румяная, несентиментальная, нахрапистая бабеха и большая, жестокая, грубая страна. Обе когда-то казались родными, заботливыми, любящими. Обе стали до отвращения чужими.
С собой Антон взял самое необходимое – Бердышев предупредил, что ноша должна быть минимальной. Прощальное письмо матери, несколько фотокарточек и «кодак», единственную материальную ценность.
Однако в тот вечер что-то сорвалось. Услышав про оставленную записку, связной выругал Антона – возвращаться домой теперь было нельзя.
Определили на временный постой – в полуподвал, где было грязно, но тепло, потому что под сводом проходила горячая труба, невесть откуда и куда. Четыре дня просидел Антон в этом подземелье. Часов в двенадцать приходила женщина с пустыми глазами, говорила: «Не сегодня», оставляла еду и уходила. Вступить с ней в разговор он так и не решился. От женщины веяло трагедией, большим горем. Нетрудно догадаться, каким – в нынешние-то времена.
Сегодня Живая Покойница (так он мысленно ее называл) пришла не в двенадцать, а позже.
– В девять вечера сядете в поезд Приморской железной дороги. Сойдете на станции Раздельная. На платформе встанете у павильона. Снимете левую варежку и отряхивайте ей рукав…
– У меня нет варежек.
Она показала на узел:
– Здесь всё, что нужно. Шапка, валенки, варежки, свитер. И документы. С Богом. Я буду за вас молиться.
Если она способна молиться, значит, все-таки не совсем покойница. Может быть, еще оживет. Как ее зовут, Антон так и не узнал. Когда спохватился, женщина уже ушла.
Впрочем, это и лучше. Если схватят, то будут допрашивать, бить. А не знаешь имени – можно не бояться собственной слабости.
Вот и Раздельная. Однажды, задолго до войны, ездили с родителями на Лисий Нос. Мало что запомнилось: сосны, белесая рябь на воде, дальний силуэт Кронштадта. И, конечно, кукольный поезд. Вся эта ветка была какая-то игрушечная.
Но сейчас, в бледном свете единственного фонаря павильон кокетливой дачной станции показался Антону зловещим. Стекла выбиты, на полу следы кострища.
Безлюдным перрон, однако, не был. Остальные пассажиры, все трое, тоже как назло вышли здесь. Последним ковылял инвалид, неуклюже переставляя костыли.
Поезд поехал дальше. Антон остановился, дожидаясь, когда останется на платформе один. Но попутчики не спешили уйти. Солдат затеял крутить цигарку, а она всё не скручивалась, сыпался табак, и неумелый курильщик стряхивал крошку с рукава. Баба стала перематывать платки – вертелась на месте, притоптывала валенками, зачем-то смахивала с себя снежинки. И лишь когда инвалид подышал на пуговицу, поблескивавшую на обшлаге, и стал ее надраивать, Антон наконец сообразил: эти люди собрались здесь неслучайно. Каждому определен свой условный знак.
А тут из-за павильона выглянул кто-то, махнул рукой, и четверка пассажиров потянулась в ту сторону.
По льду, едва присыпанному легким, как зубной порошок, снегом, шли гуськом. Впереди проводник – размашистым шагом, быстрее остальных, из-за чего время от времени ему приходилось останавливаться и ждать. Это был финн, едва говоривший по-русски. Вероятно, из местных рыбаков, что в дореволюционные времена снабжали дачников свежей рыбой, очень недурно на этом зарабатывая. Своего имени проводник не назвал, но никто и не спрашивал.
Вторым вышагивал фальшивый инвалид, давно выбросивший свои костыли. Это был господин на вид лет шестидесяти, но поджарый и бодрый. Он представился Сергеем Львовичем, без фамилии. За ним шел солдат, тоже вряд ли настоящий. Этот вообще никак не назвался, говорил только «да» или «нет» и старался не поворачиваться лицом. Замотанная баба оказалась бывшей статс-дамой (так и сказала: «статс-дама ее величества») Каролиной Михайловной Лоти. Замыкал шествие Антон.
Перед тем как вышли на лед, проводник сказал:
– Надо идти пятнасать километри через море. Десять километри до краница, потом есё пять, на всяки случай.
– Мы пойдем в Териоки? – спросил Сергей Львович, кажется, хорошо знавший эти берега.
– Та. Если я патаю, все патают. Вот так.
Финн показал, как надо падать: ничком, и поскорей набросать на себя снегу.
Сразу после этого тронулись в путь.
Идти оказалось нетрудно, только немного скользко в местах, где ветер сдул со льда неглубокий слой снега. Проводник еще сказал, что ветер – это хорошо, потому что задувает следы. Такого хорошего ветра ждали четыре дня.
И Антон старался на ветер зла не держать, хоть левая щека совсем заледенела и слезился глаз.
Там, откуда дул ветер, на самом горизонте светили прожектора, шаря по черному небу и белому морю. Это не спал Кронштадт, скользил огненным взглядом по сопредельным просторам.
Один раз, когда луч начал наползать, проводник остановился и поднял руку. Но рефлектор повернул в другую сторону, и падать не пришлось.
Через два часа сделали короткий привал. Каждому, даже статс-даме финн дал выпить по крышечке спирта.
Двинулись дальше.
Антон построил против ветра заслон из воротника и шарфа, мокрые ресницы заледенели, и черт с ними. Идти было успокоительно: левая нога, правая нога, левая нога, правая. Ни времени, ни пространства. Он думал, что будет бояться, но и страшно не было.
Трудно представить, чтоб какой-нибудь большевистский патруль поперся среди ночи гулять по ледяной пустыне. Думалось не о том, что схватят, станут бить, а потом расстреляют. Всё, не схватят. Их власть кончилась, осталась позади, съежилась до черной полосы далекого мыса.
Заботило будущее.
Антон знал, что в финском карантине придется отсидеть обязательные две недели, инкубационный период тифозных бацилл. Потом должен придти какой-то вызов. Откуда и от кого, Петр Кириллович не объяснил. Но он такой человек: если сказал, сделает.
Ах, какая разница! Где угодно жить, чем угодно заниматься, лишь бы подальше от страны, которая хочет от тебя только одного: чтоб тебя не было.
Идти получалось легче, если смотреть под ноги – так не задувало за пазуху. Из-за этой слепой ходьбы Антон не увидел, что Каролина Михайловна остановилась, и налетел на нее.
– Ради бога извините! Вы, должно быть, устали?
Бывшая статс-дама смотрела в сторону берега, хоть и непонятно, что там можно было разглядеть в верчении поземки.
– Это устье Сестры. У нас там была дача… Теперь это демаркационная линия. Мы за границей, мы в Финляндии!
Дама вдруг прижалась к груди Антона и заплакала. Не поймешь – от облегчения или из-за расставания с родиной.
Антон равнодушно смотрел на смутно видневшуюся серую полосу. Облегчения он не чувствовал, потому что идти оставалось еще долго.
А насчет родины… К черту такую родину.
Частица Бога?
Думаю, что мой дилетантизм будет всего очевидней именно в этой главе, где я должен буду вскользь, очень поверхностно, коснуться серьезнейших философских и теологических материй. Глубоко погружаться в них я не могу – и по недостатку образования, и по нежеланию отклоняться от нити исследования. Но в то же время нельзя не упомянуть перекрестье дорог, на которое, уже миновав его, я продолжаю оглядываться с щемящим сердцем.
Под «перекрестьем дорог» я имею в виду два направления философии, из века в век пытавшейся объяснить стремление человека к духовному развитию – то есть, согласно предложенной мною терминологии, к аристономии.
Человеческая мысль устаревает очень медленно. Сочинения великих философов прежних эпох – если перевод не эксплуатирует архаичность лексики – воспринимаются так, словно текст написан нашими современниками, бьющимися над теми же проблемами, что и мы. В сущности, Бергсон или Хайдеггер не так уж далеко продвинулись в осмыслении главных вопросов бытия по сравнению с античными мудрецами. Разве что несколько углубили борозды, распаханные на этом поле еще Платоном, Аристотелем и Эпикуром.
Так обстоит дело и в вопросе об эволюции человека.
Со времен Древней Греции существуют две концепции аристономического импульса нашей души (я уже писал, что большинство философов употребляли термин «человеческое достоинство»).
Первая из них, идеалистическая, объясняет это возвышенное устремление Промыслом некоего Высшего Существа, поместившего в нашу душу частицу Себя – благотворное семя, из которого может произрасти дивный цветок человеческого совершенства. Мыслители этого направления могут быть разделены на теистов (утверждающих, что Бог не только посадил это семя, но и продолжает управлять его созреванием) и деистов (которые сводят роль Творца лишь к «осеменению» души, возлагая всю ответственность за дальнейший рост на человека). Я буду называть этот идеалистический взгляд на происхождение и эволюцию аристономии «теогенистским», а его приверженцев «теогенистами».
Вторая концепция понятием «Бог» не оперирует, а исходит из того, что чувство достоинства возникает и развивается в человеческом сознании само собой – под воздействием внутренних и внешних обстоятельств. Эту школу я назову «автаркистской», поскольку она рассматривает человека как существо совершенно автономное.
В самом упрощенном виде главное различие между двумя концепциями можно сформулировать так: в своем стремлении к аристономии теогенисты в большей или меньшей степени уповают на Бога, автаркисты – только на человека.
Позднее я объясню, почему я стою на автаркистской позиции, но в данной главе я намерен изложить доводы теогенистов, к числу которых относится целая плеяда лучших, благороднейших умов человечества. Причем сделаю это с сочувствием и даже завистью, о которой уже упоминал в предисловии к трактату. Я никогда не был религиозен, но в то же время не мог и полностью пренебречь аргументами Веры – как это делают многие мыслители девятнадцатого и двадцатого веков. В иные моменты без мысли о том, что Бог и Высшая Справедливость, возможно, все-таки существуют, моя жизнь была бы невыносимой.
Я намерен проследить развитие теогенистского взгляда на аристономию не в полном охвате (это потребовало бы многотомного исследования), а выборочно, по нескольким вехам, которые представляются мне самыми важными.
Начать нужно с этической теории Платона, верившего в Ремесленника-Демиурга, сотворившего вселенную, и в рациональную Мировую Душу. Душа человека – частица этой Мировой Души, такая же бессмертная и возвышенная, обретается в голове. Есть и другая душа, смертная, которая поделена на две части: благородную, что живет в груди, и низменную, что находится в чреве. Душа, писал философ, это колесница, в которую запряжены две крылатые лошади – одна благонравная и прекрасная, вторая уродливая и строптивая, препятствующая вознице достичь царства совершенства.
Наивысшим благом для человека Платон считал эйдемонию, достижение счастья, под каковым понимается внутренняя гармония и добродетельность – то есть та же аристономия. Но для Платона истинная эйдемония – уподобление Демиургу. Человек не равен Богу, говорит философ, но может сделать себя богоподобным.
В этом кратком тезисе содержится главная идея всего последующего теогенизма: эволюция души – это постепенное увеличение доли «божественного» за счет подавления «человеческого», которое воспринимается как синоним всего животного, низменного.
Поскольку потребности и запросы тела влекут за собой пристрастие к порокам, плоть нужно усмирять и держать под контролем, утверждал Платон. Однако, принадлежа к чувственной эллинской культуре, он нигде не называет тело источником Зла, снисходительно относясь к искусству, комфорту и заботе о здоровье. Аскетизм должен быть умеренным, чтобы не нарушать законов гармонии и симметрии.
Враждебное отношение к телесности, умерщвление плоти стало одним из лозунгов теогенизма в более поздние, христианские времена. Объяснялось это, с одной стороны, тем, что эта религия выросла из секты мучеников и страстотерпцев, а с другой – общим падением стандарта бытовой культуры и жизненных удобств. Европа словно на целое тысячелетие отступила назад в своем развитии – как умственном, так и «физическом», то есть материальном. Платонова «частица Мировой Души» стала почитаться не просто самым важным, но единственно существенным компонентом человеческого устройства, вплоть до полного пренебрежения запросами разума и тела.
Загадка «возвышенного элемента души», не исчезнувшего даже в самые глухие века, казалась мыслителям непостижимо прекрасной. Святой Августин, самый прославленный из светочей западнохристианской теологии, восклицает: «Как же люди отправляются в путь, чтобы восхититься горными вершинами, грозными морскими волнами, океанскими просторами, блужданиями звезд, но при этом оставляют в небрежении самих себя?» Это эпоха кризиса общественных структур, краха рациональности – всего человеческого, что во времена античности казалось таким прочным. Надежду на лучшее и ответ на все вопросы бытия христианские вероучители находят лишь в Боге. «Пока человек пытается жить, опираясь лишь на свои силы, без Божественной благодати, его освобождающей, он добыча греха, – пишет Августин. – Всё же у человека всегда есть сила верить в своего Спасителя и, в свободном волении, достичь благодати». Вот как изменилась Платонова формула эйдемонии в интерпретации средневековой схоластики. Идея человеческого достоинства была далека от смысла, который придается этому понятию сегодня. Люди имели право на уважительное к себе отношение только потому, что каждый из них нес в себе Imago Dei, «Образ Божий».
Вплоть до зрелого Ренессанса и зарождения идей гуманизма теогенистский взгляд на развитие души никем не оспаривался и сомнению не подвергался – да это было бы и небезопасно.
Однако по мере общественного развития начала оттаивать и свобода мысли. Поначалу очень робко, а затем всё смелее зазвучал голос сторонников противоположной стороны, автаркистов. Это вызвало ответную реакцию в теогенистском лагере. Я имею в виду не полицейские или инквизиционные меры (в них, разумеется, недостатка не было), а реакцию интеллектуальную: оппонирование пошло мыслителям идеалистического направления на пользу, заставило их проверить, переоценить и частично пересмотреть свои аргументы, приспосабливая их к возросшим потребностям ума.
Наиболее убедительным из теогенистов этого периода мне кажется Блез Паскаль. Однако, прежде чем описать его вклад в волнующую меня дискуссию, я должен хотя бы коротко изложить воззрения Рене Декарта, ибо блестящие выпады Паскаля в значительной степени были ответом на теорию основателя картезианства.
Старший современник Паскаля, Декарт вовсе не являлся ни автаркистом, ни атеистом. Он целиком вышел из идеалистического направления философии и даже вывел собственное доказательство существования Бога. Однако революционность декартова учения состоит в том, что Божье существование доказывается логическим образом, то есть аргументами не веры, а разума. Иными словами, есть Бог или Его нет, зависело от того, сумеет ли разум Декарта доказать себе этот факт – подобная постановка вопроса для религиозного сознания семнадцатого века была сама по себе возмутительна.
Основа мировоззрения – «сомнение во всём», включая всю существовавшую доселе схоластическую традицию. Причину картезианского переворота в философии следует искать в эпохальных открытиях науки. Галилей доказал, что вращение Солнца вокруг Земли – нечто, казавшееся людям несомненным и очевидным, – является заблуждением, зрительным обманом. Если так, в чем же тогда вообще можно быть уверенным? Это потрясение породило множество самых разных сомнений. Тогда-то впервые и покачнулась, чтобы больше не обрести твердой почвы под ногами, христианская вера. Отныне именно сомнение стало главным движителем человеческой мысли.
Разум Декарта не хотел отказываться от Веры, но желал верить не слепо, а зряче. И философ отлично справился с поставленной задачей. Существование Всевышнего было логически доказано (в дальнейшем эту линию продолжит и разовьет Кант). Мы сознаем свое несовершенство лишь оттого, что в нас заложена идея некоего Совершенного Существа, пишет Декарт. Откуда взялась эта идея, вполне твердая и определенная? Только от самого Совершенного Существа, иное невозможно.
Но, убедив себя в том, что Бог есть, Декарт снимает с Всевышнего ответственность за человеческий духовный рост, цель которого имеет явственно аристономические черты: «солидарность наша с другими существами и всем миром, зависимость от них и необходимость жертв общему благу». Достигать этого идеала человеку предлагается своими силами, без Бога. Исходным пунктом картезианской теории познания является самодостоверность сознания (декартовское «мыслю, следовательно, существую»). У Разума, если правильно им пользоваться, нет пределов. Мистические прорывы, внушенные свыше (озарения, откровения), Декартом в расчет не берутся. Эта теория вся выстроена на принципе, осуждаемом августинианством, ибо призывает именно что «опираться на свои силы» и не рассчитывать на «Божественную благодать». В скептицизме и рациоцентризме Декарта ощущается окрепшая уверенность человека в своих способностях, некое внутреннее взросление.
Теогенист Паскаль, усматривавший (небезосновательно) в декартовской гордыне разума опасность для религии, проявил себя очень сильным полемистом, чьи аргументы поныне сохраняют свое значение и влияние на умы. Этому в немалой степени способствует магия личности французского ученого, вся история его недолгой, красиво прожитой жизни, словно бы подтверждающей искренность и весомость паскалевских убеждений.
Примечательно, что в раннюю пору Паскаль – блестящий юный математик, которого по нынешним представлениям следовало бы считать вундеркиндом, – свято верил во всемогущество разума, однако впоследствии совершенно изменил этому взгляду. Как известно, этот переворот совершился из-за мистического потрясения, пережитого ученым однажды ночью в возрасте 31 года. Сам он называл этот опыт «озарением». Придя в себя после видения, Паскаль наскоро записал самую суть на кусочке пергамента, который зашил в одежду и до самой смерти носил на себе как амулет. Этот документ так и вошел в историю под названием «Амулет Паскаля». Я приведу текст записи полностью:
«Год милостью Божией 1654. Понедельник 23 ноября, в день св. Климента мученика и папы и других мучеников. Приблизительно с 10 ч. вечера до 12 с половиной.
Усопший.
Бог Авраама, Исаака, Иакова, но не Бог философов и ученых.
Достоверность. Чувство. Радость. Мир. Бог Иисуса Христа. Твой Бог будет моим Богом. Забвение мира и всего, кроме Бога. Его можно найти лишь путями, указанными в Евангелии. Величие человеческой души. Праведный отец, мир тебя не знал, но я тебя знал. Радость, радость, радость, слезы радостей, я отделился от него: покинули меня источники живой воды. Боже мой, покинешь ли меня? Я не отделился от него навеки. Иисус Христос, Иисус Христос. Я от него отделился; я бежал от него, распял его, отрекся. Да не отделюсь от него никогда. Он сохраняется лишь путями, преподанными в Евангелии. Отречение от мира полное и сладостное. Полное подчинение Христу и моему духовному начальнику. Вечная радость за один день труда на земле. Да не забуду твоих: заповедей. Аминь».
Это заклинание означает безоговорочную капитуляцию Разума перед Верой. Ключевой безусловно является строчка: «Бог Авраама, Исааха, Иакова, но не Бог философов и ученых». Паскаль действительно совершенно перестал заниматься наукой, почитая эти умственные упражнения греховными. Один-единственный раз сделал исключение, написав математический трактат, – но лишь для того, чтобы отвлечься от зубной боли. Все его рассуждения отныне посвящены теме взаимоотношений человека с Богом.
Современный психолог или психиатр несомненно объяснит это преображение сугубо физиологическими причинами. Паскаль мучительно и неизлечимо болен (после смерти в строении его черепа и состоянии мозга обнаружено множество патологий); как известно, он умер не дожив до сорока, но выглядел дряхлым стариком. Однако нас интересуют не причины случившейся с ученым революции, а его доводы, безусловно заслуживающие уважения и внимания.
Этот переворот в сознании не был совсем уж неожиданным. Паскаль, собственно, всегда был искренне верующим и глубоко религиозным человеком, но до той поры разграничивал область Веры с областью знания. Его сестра пишет, что Блез никогда не одобрял вольнодумцев, считающих, будто человеческий разум выше всего на свете, и оттого не понимающих сути Веры. Но одно дело – признавать ограниченность Разума и совсем другое – объявлять на него запрет. Самому Паскалю это давалось очень нелегко, он был вынужден прибегать к весьма оригинальной самоцензуре мыслительного процесса. Он часто носил под одеждой железный пояс с шипами и всякий раз, когда в голову приходила какая-нибудь «небожественная» мысль, надавливал на этот обруч, чтоб острия впивались в тело.
Случай Паскаля, вероятно, следует расценивать как первую паническую реакцию теогенистской философии на пробудившиеся сомнения в божественном происхождении сущего. Подвергать себя таким ограничениям и запретам можно только от страха перед своеволием собственного рассудка, который может невесть куда увести. Религиозная доктрина Паскаля представляется мне панегириком заурядности, ибо сводит величие человеческой души к тому, чтобы она знала свое место и «не умничала». Истинное величие, истинное достоинство возможно обрести только в вере, утверждает Паскаль.
Он пишет: «Кто познал Бога, но не познал своего горестного ничтожества, тот впадает в гордыню. Кто познал все свое горестное ничтожество, но не познал Бога, тот впадает в отчаяние. Кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в Нем мы явственно видим и Бога, и наше собственное горестное ничтожество». Чрезвычайно язвительные шпильки вонзает Паскаль в рациоцентризм Декарта: «Всё достоинство человека – в его способности мыслить. Ну, а сами эти мысли – что о них можно сказать? До чего же они глупы!» Здесь имеется в виду, что глупа («неблагопристойна») мысль, если она не касается Бога. «Итак, всё наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас, отнюдь не пространство и время, в которых мы – ничто. Постараемся же мыслить благопристойно, в этом – основа нравственности», – призывает Паскаль, и с ним невозможно не согласиться, если, конечно, не сводить «благопристойность» к одним лишь благочестивым рассуждениям.
Повторяя давний христианский тезис о возвышенном и низменном в человеке, философ говорит: «Человеческую натуру можно рассматривать двояко: исходя из конечной цели существования человека, и тогда он возвышен и ни с чем не сравним, или исходя из обычных присущих ему свойств, как мы судим о лошади или собаке по обычным присущим им свойствам…, и тогда человек низок и отвратителен». Именно это утверждение всегда смущало меня в традиционном христианском учении: непоколебимая убежденность в низменности и греховности всего физиологического. И, кстати говоря, что такого уж отвратительного в «свойствах» собаки и лошади или человека?
Примечательно, что Паскалю, при всей его самоотреченной смиренности, принадлежит одно из самых высокомерно-гуманистических заявлений, подобных которому не найдешь и у Декарта: «Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная – человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает».
В восемнадцатом столетии испуг теогенистов перед собственным рассудком сначала смягчается, а потом вовсе проходит. Появляется доктрина «рационального богословия», призванная, вслед за Декартом (а не Паскалем) привести Веру и Разум к согласию. Лучше всего это удалось Иммануилу Канту, который неслучайно почитается создателем современной концепции человеческого достоинства. Основа кантовой этики состоит в том, чтобы верить в Бога, не самоуничижаясь, не теряя уважения к себе и ко всему человечеству.
До некоторой степени духовный путь кенигсбергского мудреца повторяет дорогу Паскаля: от сугубо рационалистической натурфилософии к теогенизму. Из всей сложной, многокомпонентной системы Канта применительно к теме моего исследования значим только один аспект: учение о человечности (Menschheit).
Философ выделяет следующие отличительные черты «человечности»:
1. Способность и склонность придерживаться неких умозрительных принципов и действовать в соответствии с ними.
2. Рационалистическая предрасположенность к осторожности и максимальной эффективности.
3. Определенная свобода в выборе действий, основанная на способности к предвидению последствий, постановке дальних целей (в том числе не связанных с чувственными желаниями) и преодолению соблазнов.
4. Способность и склонность следовать категорическому императиву нравственного закона, даже если это невыгодно с материальной точки зрения либо представляет прямую опасность.
5. Способность к теоретическому рассуждению, абстрактному мышлению и пониманию мироустройства.
По мнению Канта, человек сохраняет свою Menschheit, даже если сам всячески ее унижает и отвергает. Пока человек жив, в нем неугасима искра добра. Естественная предрасположенность к добру никогда полностью не утрачивается.
Как человек, повидавший на своем веку несравненно больше бесчеловечности и зверства, нежели профессор Кант в его тихом, провинциальном Кенигсберге, я тем не менее должен признать правоту этой смелой максимы.
Мне довелось общаться с людьми, которые совершали совершенно чудовищные поступки и, казалось, дотоптали в себе «искру добра» до полного угасания. Однако каждый из них, без единого исключения, нуждался в нравственном обосновании своего бесчеловечного поведения. Все эти мерзости совершались под каким-то этическим знаменем: социальной справедливости, светлого будущего, блага определенного класса или определенной нации, либо же просто – ради той или иной «правды», которая имеется и у последнего уголовника. Особенно настаивали на этической оправданности своих злодейств те самые социопаты, которых, по моему предположению, в любом обществе насчитывается примерно один процент населения. Эти люди, обделенные кантовым «категорическим императивом», внутренне сознают свою инвалидность и тем истовее рядятся в тогу нравственности, чтобы не отпугивать нормальных людей. Если же кто-то бравирует аморализмом, изображает демонизм, то это обычно артистические натуры, инфернальность которых не следует принимать всерьез.
«Искра добра», то есть внутренний этический камертон, заставляющий нас измерять каждый поступок по шкале Добра и Зла (равно как и само представление о Добре и Зле), и является, по Канту, присутствием Бога в нашей душе.
Не вижу смысла оспаривать это предположение. Однако возьму на себя дерзость сказать, что для предмета моего исследования не столь важно, заложен в нас нравственный закон Богом либо же обретается там по какой-то иной причине. Меня занимает не источник аристономического устремления, а законы его реализации и эволюции. Если этот процесс развивается не под руководством Высшего Существа, а вследствие поступков самого человека (с чем Кант полностью согласен), то у автаркистов нет принципиальных расхождений с кантианством. Принципы одни и те же: автономия личности и свобода поступков, основанная на чувстве индивидуальной ответственности; обязанность человека перед самим собой (самоусовершенствование) и перед другими (создание счастливого общества). Иммануилу Канту принадлежит заслуга важнейшего антропологического открытия: главным личностнообразующим качеством человека является чувство нравственного достоинства, то есть – по моей терминологии – потенциал аристономического развития.
В посткантовской религиозной философии (прежде всего католической) концепция примата человеческого достоинства приобретала всё больший вес, особенно после опубликования папой Львом XIII знаменитой энциклики «Rerum Novarum» («О новых вещах») в 1891 году, где говорилось об ужасающих, несовместимых с человеческим достоинством условиях жизни трудового люда. Велика была роль католических деятелей, в особенности французского философа Жака Маритена, в создании всей модели послевоенного мироустройства с его ориентацией на аристономические идеалы Декларации ООН. Маритеновская концепция интегрального гуманизма абсолютно современна, а в то же время ни в чем не противоречит традиционно христианскому взгляду на человека как на единство божественного и человеческого начал.
Трансформация протестантского взгляда на человеческое достоинство гораздо менее значительна. Протестантизм, возникший как одно из проявлений отхода западного христианства от теистского фатализма, с самого начала делал упор на индивидуальную ответственность каждого за свои поступки. Это одна из причин, по которым страны, придерживающиеся протестантской этики, далее всего продвинулись по ступеням аристономической лестницы.
Однако и в православной религиозной мысли, невзирая на преобладающий в ней консерватизм и нездоровую сращенность церкви с государством, аристономическое направление тоже имело своих сторонников. К сожалению, недоступность источников не позволяет мне должным образом раскрыть эту тему, представляющую для меня как для русского огромный интерес. Всё, чем я располагаю, это две брошюрки, попавшие ко мне в руки случайным образом. Я храню их как драгоценность.
Первая, как ни странно, издана для воспитанников военного училища (Александровского), в 1874 году. Я обнаружил ее однажды среди бумажного мусора, предназначенного для сдачи в макулатуру. Автор А. М. Иванцов-Платонов, протоиерей и профессор Московского университета, озабочен тем, чтобы привить будущим офицерам отвращение к институту дуэли. Тоненькая книжка называется «Истинное понятие о чести и фальшивое представление о ней». Не могу выразить, с каким наслаждением и с какой печалью прочитал я это рассуждение. Словно вернулся в русский мир, находившийся на иной, более высокой аристономической стадии. Вот что пишет православный богослов на интересующую меня тему: «…Идея чести в ее истинном смысле прежде всего должна быть неразрывно соединена с идеей внутреннего нравственного достоинства. То честно, что истинно и нравственно, что согласно с требованиями разума, с внушениями совести, с предписаниями закона христианского. То честно, чего требует от нас наше человеческое достоинство, благо ближних наших, воля Верховного Существа – Бога».
Вторая книга, попавшая ко мне способом, который я не рискну здесь излагать, – сравнительно недавнее сочинение Николая Бердяева. К сожалению, я не имел возможности ознакомиться с работами этого глубокого религиозного философа, написанными в промежутке между Гражданской войной и этим трактатом 1939 года, поэтому не могу проследить этапы эволюции его воззрений. Однако исследование философии персонализма, замечательно озаглавленное «О рабстве и свободе человека», дает полную картину убеждений, к которым Николай Александрович пришел к 65-летнему возрасту. Приведу только две цитаты из этого труда.
Первую, чтобы подтвердить неизменную приверженность Бердяева теогенистскому направлению: «Окончательное освобождение возможно только через связь духа человеческого с духом Божиим. Духовное освобождение есть всегда обращение к большей глубине, чем духовное начало в человеке, обращение к Богу».
Вторую – ибо она свидетельствует, что этот философ мистического миропонимания видит высшую цель развития человека в совершенно аристономическом свете: «Духовное освобождение человека есть реализация личности в человеке. Это есть достижение целостности».
И всё же, несмотря на сходство аристономического понимания миссии человечества с целеполаганиями Канта, Маритена или Бердяева, я считаю необходимым пояснить, в чем состоит различие между этими позициями.
Для религиозных мыслителей «достоинство» (в аристономическом смысле понятия) – категория в первую очередь онтологическая или метафизическая, а краеугольным камнем является идея Образа Божья, воплощенного в человеке.
Я же, будучи адептом дарвиновской теории, верю, что мы прошли через длинную цепочку эволюции, прежде чем научились прямохождению, использованию пальцев и прочим ухищрениям. В эволюции человеческого организма и человеческого сознания (души) я вижу параллельность и логичность. От простейших форм жизни ко всё более сложным; от примитивных инстинктов выживания к высокой аристономии – вот путь нашего рода, и привнесение в эту линию фактора божественности лично мне ничем не помогает и ничего не прибавляет.
Не то чтоб я категорически отвергал возможность Бога (как говорится, «помрем – увидим»), но более взрослой мне кажется позиция, при которой человек ни на кого кроме себя не уповает и ответственности не перекладывает. На Бога (если хочешь) надейся, а сам не плошай.
В уже неоднократно цитировавшейся здесь работе Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» о просвещении говорится следующее:
«Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, когда причина заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения. Леность и трусость – вот причины того, что столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого руководства, всё же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами. Ведь как удобно быть несовершеннолетним!»
То же самое можно сказать об истории взаимоотношений человека с концепцией Высшего Существа. Пока человек и созданное им общество пребывают в младенческом или детском состоянии, фигура Родителя, Взрослого, Высшего Авторитета, на которого постоянно оглядываешься и которого очень боишься, совершенно необходима. Приходится постоянно ссылаться на него, говорить другим детям «вот папа тебе задаст», а попав в затруднительное положение, бежать к Отцу за помощью и спасением. Молитвы, роскошные храмы, сложные обряды нужны не Богу, а Вере. Идея благожелательного и строгого Высшего Существа безусловно являлась исторической необходимостью, до какой-то степени религия уберегала человека от скотского поведения, развивала его духовные запросы и подготавливала почву для создания лучшей жизни. Но мне кажется, что наиболее развитые области планеты достигли или скоро достигнут того возраста, который принято называть переходным от детства к взрослости. В этом возрасте человеку свойственно подвергать сомнению авторитет родителей и учиться жить собственным умом, пусть набивая при этом шишки. Мы исправно это делаем в нашем безбожном двадцатом столетии, убивая и калеча себе подобных десятками миллионов, претворяя в жизнь чудовищно человеконенавистнические теории, изобретая оружие массового уничтожения.
И тем не менее, сквозь кошмар и хаос, я вижу некий важный прорыв в нашем коллективном сознании. Заключается он в том, что панический лозунг Достоевского «если Бога нет, всё дозволено» уже не кажется человечеству неоспоримой истиной. Слово «Бог» не используется ни в Декларации ООН, ни в конституциях большинства демократических государств. Оказывается, мы и без веры в Страшный Суд пришли к пониманию, что жить нужно цивилизованно, уважая себя и окружающих, самосовершенствуясь – то есть по законам аристономии. Не из страха перед загробным наказанием, а по внутреннему убеждению.
(Из семейного фотоальбома)
Вчера Шницлер сказал:
– У Ларошфуко есть максима, мудрость которой я начинаю понимать только сейчас: «Peu de gens savent etre vieux»[5]. Полагаю, что у вас, дорогой Клобукофф, со временем это отлично получится. Вы обстоятельны. В вашем возрасте это редкость.
Это несомненно был комплимент – профессор остался доволен подготовленным заключением и хотел похвалить, что уже само по себе почти невероятно. Но Антон почувствовал себя жестоко уязвленным. При разговоре присутствовала она, и слышала, и, кажется, даже наклонила голову в знак согласия. Этот кивок (он был или примерещился?) мучил Антона. Неужели она считает его юным старичком? Ужасно, ужасно!
Но ужасно, конечно, совсем не это. Ужасно то, что сегодня всё решится и шансов на благополучный исход так мало, а еще не идет из головы рассказ однорукого прапорщика, и сказывается бессонная ночь, и нервы, нервы.
Про старика – глупости, не имеет значения. А вот то, что на тонком волоске подвешена жизнь необыкновенного человека… Собственно, две жизни, потому что она его так любит и страшно даже представить, что будет с нею, если… Ах, что там – три жизни, потому что он и сам никак не сможет пережить, если она… И кошмар в том, что логика тут железная, причина нерасторжима со следствием, и шансов так ничтожно мало… Господи, как не хватает веры, а то б можно было хотя бы помолиться!
Мысли теснились, одна выталкивала другую, так что голове стало жарко. От реки тянуло холодом. По здешним понятиям, декабрь выдался суровый, даже днем нулевая температура, но Антон снял шапку и наклонился над парапетом, чтобы остудиться. В месте своего истока, близ озера, Лиммат был широк, но затем сужался, убыстрял течение, и вода бежала споро, напористо, будто кровь по артерии, питающей жизнь этого, на первый взгляд, флегматичного города, этого обманчиво тихого города, где может разорваться – и скорее всего разорвется – твое сердце.
«Давай-ка без мелодрам, – сказал себе Антон. – Такой день, что раскисать нельзя. Держи себя в руках, слюнтяй. Думай не о себе – о ней».
Цюрихцы жалуются на суровую зиму, а снега нигде нет, он лежит только на вершинах дальних гор. Их пока не видно, в мышиной предрассветной мути едва-едва проступили контуры Цюрихберга, а ведь он совсем близко. На улицах еще горят ночные фонари. Восемь утра, один день до сочельника. Завтра все будут веселиться и праздновать.
Он почти с ненавистью покосился на яркую витрину часового магазина (сплошь – стенные часы с кукушками), покривился на украшенный цветными лампиончиками трамвай, что прогрохотал по Банхофштрассе, везя на службу ранних пташек. Полный вагон шляп и галстуков – здесь начинается район банков и контор. В сияющих электричеством окнах виднелись благопристойные физиономии, на которых читалось «кто рано встает, тому Бог дает», «без труда не выловишь рыбку из пруда», «делу время – потехе час» и прочие надежные истины. Но это Антон, конечно, сейчас домыслил от зависти. Потому что у людей нормальная жизнь, канун Рождества, и вообще они, по выражению Карамзина, «щасливые швейцары». Честно построили свой маленький парадиз, отгородившись Альпами от остальной Европы. Там бушевал ураган и отхаркивалась кровью ненасытная смерть, царствовали мор и глад, слышался плач и скрежет зубовный, а здесь, на райском острове, идиллические птички выглядывали из точнейших в мире часов и ворковали «ку-ку, ку-ку, ку-ку», сулили много лет приятной и покойной жизни.
Когда в финляндский карантин пришло письмо от Бердышева с вызовом в Швейцарию и чеком на дорожные расходы, Антон, конечно же, догадывался, что ему несказанно повезло. Но лишь проехав через терзаемую хаосом Германию и уже оказавшись в Цюрихе, понял, как фантастически щедро устроил судьбу своего подопечного Петр Кириллович, вечный спаситель, покровитель и благодетель.
В Германии, как и в России, была революция. На железнодорожных станциях висели красные тряпки, близ перронов митинговали демобилизованные толпы. С российской разрухой сравнивать это было нельзя, потому что поезд шел более или менее по расписанию, дезертиры не штурмовали вагонов, не вламывались люди в кожаных куртках, не выволакивали из купе всякого, кто покажется подозрительным. Но страна, пожалуй, выглядела еще более несчастной, чем Россия. На лицах попутчиков, всех без исключения, застыла такая паника и растерянность, каких Антон не видал у питерцев даже в дни террора. У наших за полтора года революции всё же было время как-то привыкнуть к усугубляющемуся безумию, а Германия рухнула в одночасье, как опрокинувшийся под насыпь состав. К тому же дисциплинированные немцы гораздо хуже приспособлены к царству всеобщего хаоса, чем жители большой и во все времена нескладно устроенной России. Только здесь, в самом центре континента, Антон по-настоящему осознал всю глубину дыры, в которую забросила история Европу. Развалилась и Австро-Венгрия, там тоже рвались к власти большевики. В странах-победительницах праздновали победу, но ликование напоминало поминки. Газеты писали, что в Англии забастовки и голодные бунты, что Франция осталась совсем без мужчин и вряд ли оправится от такой кровопотери.
И вдруг – Цюрих. Покой, довольство, приветливые лица, ухоженные улицы. Комфортабельное жилье, свежие рубашки, свежие булочки по утрам, необременительная и прекрасно оплачиваемая работа (Петр Кириллович позаботился обо всем!).
Первый месяц всё казалось, что это чудесный сон, что неминуемо пробуждение: сейчас продерешь глаза – и ледяная постель, сумрак, подсасывание в желудке, товарищ Шмаков в туалете громко поет про враждебные вихри.
Потом всё встало на свои места, мир перевернулся с головы на ноги, сознание перестроилось под новую реальность, и стало ясно – это Россия была дурным сном, кошмаром. Разве бывает, что в доме нет света и отопления, что магазины заколочены, а по улице нужно ходить, опасливо оглядываясь?
Нормально – это когда сходишь с ума из-за того, что болен и может умереть один человек, а когда вокруг каждый день гибнут тысячи и тебе всё равно, это называется сумасшествием, дикостью, бредом.
Или как?
Одно из двух. Либо настоящая жизнь – Цюрих, а прочее – химеры больного сознания, либо настоящее – рассказ Василевского, и тогда получается…
Но нет, думать об этом сегодня не было сил. Потом, завтра.
Кажется, с Россией покончено, там катастрофа, но вовсе не из-за этого Антон не мог ночью сомкнуть глаз. Стыдно, неправильно зацикливаться на личном, когда Родина содрогается в предсмертных конвульсиях.
Остановившись на Бурклиплац возле гигантской рождественской елки, Антон заставил себя думать о гибнущей Родине.
Каких-то два месяца назад было ощущение, что кровавая драма близка к победному финалу. Не далее как к Новому году в России восстановится порядок. На востоке держал прочную оборону адмирал Колчак, сковывая основные силы Красной Армии. На западе генерал Юденич со своими балтийскими рыцарями был на самых подступах к Петрограду. Главный кулак, армии генерала Деникина, стальным тараном двигались с юга: взяли Курск, Воронеж, Орел, подходили к Туле, откуда коннице оставалось два-три перехода до Москвы. Освобожденная Деникиным территория охватывала почти миллион квадратных километров, там проживало больше сорока миллионов человек. В газетах писали, что большевики впали в панику, одни готовятся к эвакуации в Вологду, другие к уходу в подполье.
И вдруг, ни с того ни с сего Белое Дело рассыпалось – непостижимо, фатально!
Юденич, дошедший аж до Пулкова, попятился в Эстонию. Колчак лишился Омска, своей столицы, а его армия начала таять. В середине ноября сначала остановились, а потом покатились назад деникинцы – оставили не только Курск, но и Харьков с Киевом. Отступление всё больше походило на бегство. Издалека невозможно было понять, что же, собственно, произошло. Будто колдовская сила наделила большевиков могуществом и сгубила белое воинство своими злыми чарами. Позавчера стало известно, что славный Май-Маевский, командующий победоносной Добровольческой армией, снят и вместо него назначен какой-то барон фон Врангель. С ума они там, что ли, посходили? Барон, да еще «фон» во главе авангарда войск демократической России?
Но авангард теперь превратился в арьергард, а демократической России – вообще России – видимо, наступил конец.
Но Россия невероятно далеко. Ее, может быть, вовсе не существует. Разве что в газетах да диких рассказах прапорщика Василевского.
А Цюрих – вот он, самый что ни на есть настоящий, и с каждым мигом всё выпуклей, зримей, потому что из-за холма Дольдер наконец выглянуло солнце, заискрило шпилями, прочертило по долине перламутровую полосу реки, зарябило блестками на глади озера.
Девятый час. Пора поворачивать обратно.
Клерки уже расселись по конторам. Теперь на набережную Лиммата вышли старики, прогуливать собак. Как много здесь стариков! В Швейцарии живут долго.
Почти всех встречных Антон уже видал прежде, когда выходил прогуляться перед завтраком. И встречные тоже его узнавали, приветствовали коротким Grüezi, а он отвечал на стандартном немецком Grüss Gott. Взял за привычку говорить только на хохдойч и даже не пытался объясняться на здешнем диалекте, потому что чистого цюритютч всё равно не освоишь, да и воспитанные туземцы никогда его не употребляют в беседе с иностранцем.
Идиллический променад, благожелательные улыбки, не гавкающие, а лишь повиливающие хвостом псы. Европа дымится в руинах, центр континента в хаосе, восток в огне, разожравшаяся во время мировой войны Смерть никак не насытится – набивает свое бездонное брюхо жертвами испанки и тифа, в Мексике революция, в Америке стачки, а здесь всё так мирно, разумно, достойно. Через четверть века, когда заживут страшные раны и вырастет новое поколение, не знавшее войн и революций, такою же, наверное, станет вся Европа. Россия – в лучшем случае через сто лет, и то вряд ли. Скорее всего, она рассыплется и сгинет в самые ближайшие годы, потому что большевикам мало свести с ума одну страну, им подавай пожар мировой революции. Весь мир они, конечно, не подожгут, но свой разоренный дом спалят дотла.
А вот вопрос. Нельзя ли одному отдельно взятому человеку превратиться в этакую двуногую Гельветическую республику, возвести вокруг себя Альпийские горы и загородиться ими от мыслей о Родине, которая, в конце концов, пропадает по собственной вине?
Но человек – не страна. Он больше, чем страна. Для разума и чувства не существует границ с паспортным контролем и таможенными барьерами. А если их все-таки установить, то это, наверное, все равно что убить собственную душу. Даже то, что твоя страна гибнет, а ты издали ей сострадаешь, живя в безопасности и комфорте, уже стыд. Год назад, когда бежал из Петрограда, думалось: вырваться бы из этого ада, и даже не оглянусь, потому что там, позади, всё чужое. Но кто-то ведь остался, кто-то до сих пор пытается спасти Россию. В эту самую минуту, когда Антон Клобуков идет кушать свежие Brötli, белые рыцари гибнут в неравной схватке с темной силой.
Надо про это как следует подумать. Но не сегодня – завтра.
И Антон остановился посреди моста, зажмурился.
Завтра? Господи! Не завтра, а нынче вечером всё уже будет известно. Даже не вечером – раньше. Если начнется, как назначено, в два пополудни, то, верно, к четырем всё закончится.
К завтраку он спустился позже обычного, нарочно. Сегодня было бы трудно вести пустые утренние разговоры с соседями по столу.
Фонд снял Антону гарсоньерку в новом респектабельном доме, на высоком берегу Лиммата, с чудесным видом на реку, старый город и пологую гору Ютлиберг, возвышающуюся над Цюрихом с противоположной стороны. Две комнаты, собственная ванная, но без кухни. Пансион на Вальхерштрассе предназначался для холостых мужчин, у которых нет времени на домашние заботы, но есть деньги. Хозяйка фрау Талер брала на себя все хлопоты: уборка, стирка, поливание цветов и, разумеется, табльдот – здоровое и вкусное питание (всего сорок девять франков в месяц за питательный завтрак и семьдесят девять, если с ужином).
Расчет позавтракать в одиночестве оказался верен лишь отчасти. Другие постояльцы действительно уже разошлись, но это означало – как он мог не сообразить, – что в столовой одна Магда, и уж с ней-то избежать разговора никак не получится, особенно в отсутствие свидетелей.
В обязанности Магды, дочери фрау Талер, входило следить, чтоб жильцы были всем довольны, а прислуга хорошо исполняла свои обязанности. Трудные и неприятные вопросы вроде задолженности за квартиру или неприличного поведения постояльцев (все-таки холостяки и случалось всякое) хозяйка решала сама – Магда для этого была недостаточно тверда и слишком юна. Однако Антон Клобуков у фрау числился в любимчиках, ибо жил тихо, платил аккуратно. Поэтому на дружбу единственной дочки с добропорядочным молодым человеком хозяйка смотрела благосклонно.
Антону, одичавшему после петроградских мытарств, напуганному видом гибнущей Германии, показалась небесным видением прелестная девушка с ясной улыбкой и открытым взглядом, дважды в неделю приходившая справляться, всем ли доволен «герр Клобукофф». Она была не то чтобы красавица, но очень, очень мила: голубые глаза серьезны и пытливы, кожа светится свежестью и здоровьем, а светлая коса уложена венцом, что очень шло к скуластому личику. Магда уверяла, что в ее жилах течет славянская кровь и что, по семейной легенде, Талеры происходят от суворовского солдата. Грудь у Магды была высокая, бедра – крутые, а пахло от девушки чем-то землянично-сливочным, как от довоенного торта «Поцелуй Купидона». Она снилась оттаивающему от потрясений эмигранту чуть не каждую ночь, и сны были всё такие, что за завтраком Антон боялся поднимать на Магду глаза – вдруг в них что-то такое прочтется?
Очарование Магды состояло даже не в миловидности. Антону она представлялась неким апофеозом солнечности, простого и ясного счастья – того, по чему он тосковал в России. Паша тоже когда-то рисовалась простой и ясной, однако в ней всегда ощущалась некая подспудная обиженность, готовность дать отпор, не отдать своего, а при случае и оттяпать чужое. Но Магда не знала лишений, в детстве ее никто не унижал, в ранней юности никто не обманывал, и потому она была доверчива, открыта, ко всем добра. Судила о вещах очень здраво, но Антон ни разу не слышал, чтоб она кого-то осуждала. Даже про мсье Фабиана, пренеприятного коммивояжера из Женевы, который вечно придирался к прислуге и затевал скандалы, Магда говорила: «Должно быть, у него в жизни произошла какая-то беда, испортившая ему характер».
Мало кто из обитателей холостяцкого пансиона остался равнодушен к прелестям Магды, многие пытались за ней ухаживать. Она была с каждым мила, но охотнее всего общалась с Антоном.
Первоначально это было просто любопытство к русскому – из-за мифического предка-суворовца. (Антон с удивлением обнаружил, что швейцарцы вообще очень чтут Суворова – очевидно, из-за того, что Альпийский поход генералиссимуса был последней большой войной в пресной швейцарской истории.) Магда задавала много вопросов про Россию. Приоткрыв ротик и округлив глаза, слушала рассказы о революции. Когда Антон описал ужасы террора, расплакалась и потом, как выяснилось, не спала целую ночь. Однако осталась верна себе – наутро сказала про чекистов: «Они так себя ведут, потому что их предков, крепостных серфов, мучили жестокие помещики». Сердце у Антона затрепетало от нежности.
Его трогало в ней даже абсолютное отсутствие чувства юмора. Антон и сам был не бог весть какой остроумец, однако нечасто встретишь человека, который всё понимает буквально. Пошутишь с Магдой – наморщит чистый лоб, переспросит: «Erlich?!»[6] Притом была она совсем не глупа. Наверное, такие же серьезные и чистые девушки окружали Жан-Жака, когда он писал «Новую Элоизу», думал Антон с влюбленной улыбкой.
Одно время он пробовал взять игривый тон, говорить полунамеками. В жанре флирта Антон был довольно неуклюж, но по сравнению с Магдой – прямо виконт де Вальмон. Ноябрьским воскресеньем они поднялись по канатной дороге на Ютлиберг, полюбоваться листвой. Магда раскраснелась от ходьбы и стала немыслимо хороша. Неудержимо захотелось ее поцеловать. Антон поднял пунцовый кленовый лист, прижал к губам. «Что это вы сделали, зачем? – удивилась она. – Он же нечистый, он лежал на земле!» Антон тоном заправского таланта ответил: «Этот листок такого же цвета, как ваша щека». Наморщив ясный лоб, Магда сделала вывод: «Вы хотите сказать, что вам хочется поцеловать мою щеку?»
Он засмеялся и привлек ее к себе. Девушка не оттолкнула его, но и не подалась навстречу. Смотрела ему в глаза так серьезно, что пришлось разжать объятья. «Поцелуй – это не пустяк, это переход к совершенно другим отношениям, – тихо и серьезно сказала Магда. – Вы мне нравитесь, но я недостаточно вас знаю. Я чувствую в вас что-то неясное и, пожалуй, опасное. Иногда мне кажется, что вы такой же, как все мы. А иногда – будто вы способны совершить нечто совсем-совсем неожиданное, и от этого мне делается тревожно». Он был и удивлен, и польщен. Вот уж не подозревал, что может производить подобное впечатление!
«Пожалуйста, не будем спешить, – еще тише попросила она. – Ведь мы оба так молоды. Узнаем друг друга лучше». И потом улыбнулась – такой улыбкой, что обидеться невозможно, но и целоваться уже не полезешь. Был в Магде какой-то удивительный такт: естественный, природный. Нет, в самом деле, совершенно чудесная девушка.
Однако вскоре после несостоявшегося поцелуя в жизнь Антона вошли Рэндомы, и розовощекая простушка сниться ему перестала. Прекратились совместные прогулки, потому что теперь он мало бывал дома. Антон по-прежнему относился к Магде с приязнью и при встрече с удовольствием вступал в разговор, но времени хватало лишь перекинуться парой слов. Когда Магда спросила, чем он в последнее время так занят, Антон охотно объяснил. Девушка отнеслась с пониманием и даже почтением, всякий раз интересовалась, как дела в госпитале, однако взгляд ее становился всё вопросительней, всё задумчивей.
Недавно, вернувшись вечером, Антон обнаружил, что у него в гостиной повсюду стоят горшки с цветами, очень красивыми. Магда выяснила, что в России есть традиция праздновать именины, а поскольку не так давно был день памяти святого Антона, решила сделать подарок. Теперь у нее появился предлог приходить каждый день, чтобы поливать цветы, и проделывала она эту процедуру, лишь когда постоялец находился дома. Но долгого разговора все равно не получалось. Антон немедленно утыкался в бумаги, принимал чрезвычайно сосредоточенный вид, а Магда была слишком деликатна, чтоб отвлекать занятого человека от важной работы. Она вздыхала, ударяла лейкой о горшки. Антону становилось совестно, но вступать в беседу было скучно и ни к чему. И вообще, зачем морочить голову хорошей девушке? Со временем сама поймет, что он утратил к ней интерес, и успокоится.
Несколько дней назад Магда заметила, что на столе у него появился портрет Веры Холодной. Спросила, кто это. Он ответил: гениальная киноактриса, недавно умерла от испанки. Магда вздохнула: «Как это печально. Такая красивая!» А назавтра он ее едва узнал: остригла свою чудесную косу и покрасила волосы в темный цвет – как у Холодной.
«Вам нравится?» – «Да, – соврал он, потому что прическа Магде совсем не шла. – Но… Но как к этому отнеслась ваша матушка?» – «Она со мной теперь не разговаривает!» – со смехом ответила Магда, очень довольная.
Вот почему, войдя в столовую и увидев, что там нет никого кроме Магды, Антон внутренне чертыхнулся.
Наливая кофе, она спросила:
– Ночью у вас горел свет. Вы разговаривали с вашим соотечественником? Он рассказывал про войну в России? Я так жалела, что тоже не могу послушать. Вы ведь перескажете мне новости? Вы знаете, как меня волнуют российские события.
– Конечно. Но не сейчас. Вы знаете, какой сегодня день. Я волнуюсь.
– Да-да, конечно, – поспешно согласилась она. – Мы поговорим после. Я буду молиться, чтобы всё прошло благополучно и чтобы сегодняшний день вошел в историю науки. Вам нужно плотно позавтракать, вряд ли вы сможете пообедать. Ешьте, ешьте, я не буду вам мешать.
И села напротив, подперев щеку.
Она была права. Нужно поесть как следует. Сегодня необходимо быть сильным, нужно буквально излучать силу. В такой нервный день, после бессонной ночи это будет нелегко.
Поднявшись к себе, он оделся очень тщательно, как всякое утро в последние две недели. Распечатал свежую рубашку из новой дюжины, пристегнул воротничок, выбрал строгий, но не черный (нет-нет!) галстук. Никогда прежде он не проводил столько времени перед зеркалом, как в эти дни.
Дверь в спальню была закрыта, оттуда доносилось похрапывание. Василевский наговорился всласть и теперь отсыпался на Антоновой постели, а хозяин провел остаток ночи в гостиной, на диване, так и не сомкнув глаз.
В дверь тихонько постучали. Антон вздохнул. Магда – больше некому.
– Войдите.
Так и есть. Бледная, на щеках красные пятна, вид решительный. Подошла к столу, села, сжатые кулачки положила на стол.
– Я знаю, как вы готовились к сегодняшнему дню… И как это важно для науки. Но я должна вам что-то сказать…
Он приложил палец к губам, показав на дверь спальни. Не помогло. Магда лишь понизила голос.
– Я буду говорить тихо, ваш гость не услышит. Вы только не перебивайте, мне и так трудно…
Она смотрела на поверхность стола, не поднимала глаз.
– Я стала думать про вас после той прогулки… – И кивнула на окно, в котором виднелся дальний Ютлиберг. – Я очень много про вас думала. И поняла… что я люблю вас. Вот именно: люблю. – Теперь она подняла глаза, но лишь на секунду. Покраснела, снова опустила взгляд. – Я ждала, что вы сами каким-то образом… Но вы начали будто избегать меня. Даже перестали смотреть в мою сторону, а если смотрите, то совсем не так, как прежде. Это удивляло и… мучило меня. Я не знала, что думать. Не может же быть, чтобы мужчина месяц назад, даже меньше чем месяц, испытывал к девушке серьезные чувства, а потом вдруг перестал?
Снова она взглянула на него, и сейчас уже Антон был вынужден отвести глаза. Это придало Магде смелости.
– У меня есть подруга, хорошая подруга. Я, может быть, рассказывала вам о ней? Клара Зауэр.
Кажется, рассказывала. Какую-то романтическую историю про то, как один их постоялец женился на кельнерше из ресторана и как Магда подружилась с этой женщиной.
– Клара старше, она знает жизнь. И мужчин. Я решилась спросить у нее совета… И она мне всё объяснила. – Магда кашлянула и быстро-быстро, скороговоркой произнесла. – Клара сказала, что мужчины устроены иначе, чем мы. Что для них, то есть для вас, очень важна физиология. Вы не виноваты, вас такими сделала природа. И если вы не получаете то, что вам так необходимо, отношения утрачивают для вас смысл… Вы ведь понимаете, о чем я?
Антон замигал.
– Кажется, понимаю, но уверяю вас…
Она вскинула ладонь.
– Нет-нет, молчите. Я всё решила. Раз я вас люблю, не имеет значения, когда это случится. Я не ханжа. Знайте: я готова. Мне нужно было сказать вам это непременно сейчас, потому что матери нынче ночью не будет. Она уезжает навестить тетю Грету в Базель. Я буду одна и оставлю дверь незапертой… Ну вот, я всё и сказала.
Кажется, ей ужасно хотелось опять спрятать взгляд, но еще больше она желала видеть его реакцию. По тому, каким горячим сделалось лицо, Антон догадался, что краснеет. Что за идиотское положение – оказаться в роли целомудренного Иосифа!
Магда поднялась.
– Вы не ждали этого. Вы изумлены. Ничего сейчас не говорите. Вообще – не нужно никаких слов. Если ночью вы не придете – я и так всё пойму.
Она бросилась к двери, но на пороге оглянулась.
– Я буду молиться, чтобы в клинике всё сложилось так, как вам хочется. И чтоб сегодня ночью вы пришли ко мне счастливым.
Выскользнула в коридор, но дверь прикрыла беззвучно – даже в минуту крайнего волнения не забыла о спящем.
В любой другой день эта сцена взволновала бы Антона гораздо сильнее. Сейчас же он чувствовал лишь смущение и, конечно, был тронут ее храбростью. Но как только Магда помянула о сегодняшней ночи, в голове мелькнуло: «к тому времени всё будет известно» – и ни о чем другом он думать уже не мог.
Ну, пора идти.
Спускаясь по лестнице, Антон вспомнил, что обещал Рэндомам сделать памятный снимок. Черт! Фотокамера на полке в платяном шкафу, а шкаф-то в спальне.
Вернулся. К спальне приблизился на цыпочках, ручку двери повернул очень медленно. Если гость проснется, придется вступать в разговор, а поговорить Василевский любит. Должно быть, нервная разрядка после всего, что он пережил.
Но прапорщик спал крепко, по-детски причмокивая губами. Левая рука подложена под щеку, но правая – поверх одеяла, черная повязка на ночь снята, и видно культю с багровым рубцом на месте кисти.
Примерно раз в месяц от Бердышева приезжали эмиссары, привозили спецификации по заказам и запечатанные пакеты с какими-то финансовыми инструкциями для вице-директора Фонда, господина Нагеля (Антон в эти дебри и носа не совал). Обычно роль посланца исполнял кто-то, кого Петр Кириллович решил переправить подальше от войны – как в свое время Антона. Или это мог быть раненый офицер, нуждающийся в дополнительном квалифицированном лечении.
Василевский относился ко второй категории. Ему требовался хороший протез вместо ампутированной руки. Неделю назад прапорщик выписался из новороссийского госпиталя, сел на пароход. Доплыл до Триеста, оттуда – поездом.
Вчера, когда Василевский явился в чинную контору на Вайнбергштрассе в облезлой кубанке и длинной кавалерийской шинели явно с чужого плеча, он выглядел пришельцем с другой планеты. Сам сказал, что никак не может опомниться, всё случилось будто с разбега – и действительно, ни минуты не мог оставаться без движения. Вскакивал со стула, размахивал куцей рукой, слишком много говорил, слишком громко смеялся. Было в повадках и возбужденном лице эмиссара нечто такое, отчего Антон решил хотя бы на первую ночь приютить его. Пусть немного придет в себя, освоится, а то будет вот так же метаться по гостинице, навязываться в собеседники незнакомым равнодушным людям. И потом, нужно его привести в приличный вид. Нельзя же ходить по Цюриху таким пугалом. В бюджете Фонда есть специальная статья на экипировку приезжающих.
Было еще одно соображение, эгоистическое. Антон догадывался, что ночью не сможет уснуть. Так не лучше ли отвлечься от тягостных мыслей беседой, послушать о том, что происходит на Родине?
Чего-чего, а рассказов о Родине ночью он наслушался.
Прапорщик Василевский (который, впрочем, чуть не с первого слова попросил называть его «Митя») был почти ровесник, годом младше, и тоже бывший первокурсник-юрист, только из Харьковского университета. В Добрармии он прослужил три месяца: поступил вольноопределяющимся в конце июня, а в конце сентября был списан из-за тяжелого ранения.
Антону не раз доводилось выслушивать рассказы людей, вырвавшихся из России. У каждого была своя душераздирающая эпопея, но впервые довелось столкнуться с человеком, что называется, прямо из окопов – хотя на этой хаотичной, перемещающейся с места на место войне собственно окопов, кажется, почти не рыли.
Митя Василевский мог говорить только о войне и больше ни о чем. Он был до такой степени переполнен своими недавними переживаниями, что будто начисто забыл всю предшествующую жизнь. На вопросы о мирном времени прапорщик отвечал рассеянно, словно о чем-то ненастоящем.
– Никто тут в Европе ни черта не понимает про нашу войну. В Триесте, пока ждал поезда, сгонял я в кинематограф. Ужасно люблю, а у нас там если и показывали что-нибудь, то одно старье. Я, знаете, Теду Бару невыносимо обожаю. Смотрели фильму «Саломея»? Как она танец перед Иродом исполняет? Ой, ну что вы! Обязательно посмотрите!..Так я про Триест. Гляжу – фильма про нас, добровольцев: «Белые рыцари» называется. Пошел. Господи, ну и чушь! Комиссары, положим, похожи: кожаные, с «маузерами», жуткие. Я насмотрелся на них в Харькове. Наши без длинных бород, конечно, а так похожи. Но вот добровольцы – смех и слезы! Чистенькие, лощеные, аксельбанты-эполеты, черкески со сверкающими газырями, проборы на бриллиантине. Видели бы киносъемщики, что у нас за армия! Поглядеть – сброд, оборванцы. Я когда записывался вольнопером в Офицерский Симферопольский полк, думал, обмундирование выдадут. Держи карман! Все три месяца провоевал в собственном пиджачишке. Когда меня в офицеры произвели, пришил сверху солдатские погоны, нарисовал химическим карандашом полоску, звездочку. Еще товарищи подарили фуражку с кокардой. А шинель эту и кубанку мне уже в госпитале выдали, когда выписывался. От покойника остались. Как я мечтал, что у меня «маузер» будет, или хоть «наган» завалященький. Дудки! Так и не разжился ничем кроме ободранной трехлинейки. Одного не пойму – как это мы, голодранцы, столько времени против большевистских орд провоевали, еще умудрялись им шею мылить. Загадка! Просто у них порядку еще меньше, чем у нас. Числом давят.
Здесь Василевский стал довольно ловко одной рукой набивать папиросу и впервые сделал паузу. Появилась возможность задать вопрос, не дававший Антону покоя.
– Вы же шли прямо на Москву, были чуть не в двухстах верстах! Сколько я ни читал газет, так и не понял, из-за чего случилась катастрофа?
– Махно, – уверенно ответил Митя, пыхтя папиросой. – Про это никто не напишет. Потому что стыдно. Как это – мужичье навозное, хохляцкий сброд белым рыцарям хребет сломали… Наши генералы-умники сами виноваты. Махну в грош не ставили, думали его одной дивизией удержать, а все остальные силы – вперед, скорей, на Москву. Но у Махны армия не чета большевистской. Дерутся, не драпают. Потому что свой дом защищают. Ну и вмазали нам сбоку, поддых – и так капитально, что мы пополам скрючились и больше уж не разогнулись.
– Неужели Махно?
Антону не верилось. Это имя он слышал, но чтоб деникинское наступление сорвал какой-то анархистский атаман? И, главное, чтоб никто из репортеров об этом ни слова? Сомнительно.
Но Василевский говорил об этом как о чем-то давно и широко известном.
– Ну да. В сражении под Уманью всё решилось. Я там был, еле ноги унес. А руку нет. – Он обрадованно засмеялся. – Смешно получилось: ноги унес, а руку не унес. Что руку – там весь наш Симферопольский Офицерский лег. Хотите расскажу?
И, не дожидаясь ответа, начал рассказывать про сражение, из-за которого, по его убеждению, белая армия проиграла войну. Антон где-то читал, что всякому раненому кажется, будто судьба войны определилась именно в том бою, где он пережил боль и ужас смерти. Однако слушал не особенно складную повесть, забыв обо всем на свете – даже о том, что произойдет завтра. В этом смысле идея приютить гостя себя оправдала.
Сначала, пока Митя пытался обрисовать стратегическое значение битвы и чертил пальцем по столу передвижение войск, было не особенно понятно. Антон уразумел лишь, что генерал Слащов взял махновскую армию в кольцо, но атаман внезапно «выкинул штуку»: вместо того, чтоб прорываться на запад, подальше от врага, взял да ударил на восток, навстречу, где его не ждали, вонзился в растрепанные части преследователей, «как штык в мягкое брюхо», и развалил весь белый фронт. А полк, в котором служил Василевский, оказался на самом острие махновского «штыка».
– …Наш второй батальон считался образцовым. Во-первых, здоровенный. Шесть рот, почти четыреста штыков – в иных полках людей было меньше. И командир у нас был настоящий четкий офицер: когда надо – сталь, когда можно – душа-человек, не «господин капитан», а просто Борис Петрович. После взятия Елисаветграда нашему батальону шестьдесят две награды досталось! Меня в прапорщики произвели. Фуражку подарили, с настоящей кокардой. Ну про это я уже рассказывал. Отличный бой был под Елисаветградом, я вам про него после обязательно расскажу. Но по сравнению с четырнадцатым числом (по-вашему, по-европейскому, двадцать седьмое, что ли, получается) – конечно, ничего особенного, прогулочка. Вот двадцать седьмого…
Митя для пущей выразительности замотал головой, как бы не находя достаточно сильных слов, чтоб описать бой двадцать седьмого сентября.
– Как они повалили с утра – всё поле черным-черно от коней и тачанок. Главное, мы никак в толк не возьмем, откуда их столько взялось и почему так нагло прут, ведь раньше всё драпали. А это у Махно, мне после рассказали, главным советчиком какой-то полковник немецкого генштаба. Это он всё придумал. Собрал кулак и ударил, а у нас между соседними полками дыра чуть не в сорок верст. Но, может, про полковника и врут, не знаю. Я вам расскажу, что своими глазами видел.
Соседей справа и слева раньше сшибли. Отступили они, а мы держимся. Только глядим: паршивые дела, обтекают они нас с обеих сторон. Наш Борис Петрович вдоль по цепи прошелся, в рост, стеком помахивает, пули над ним так и свищут, а ему хоть бы что. Красота! И спокойно так, каждому взводу: «Господа, говорит, отходим поротно вон к тому лесу». Мы сначала отступали, как на учении. Одна рота прикрывает, остальные перебегают. Потом отходит замыкающая – ее прикрывают. Раненых уносим, с убитых забираем документы. Лес – вон он, недалеко. Конные туда не сунутся. Не особенно и страшно было. Даже весело. Идем полем, по пашне. Земля рыхлая, выворочена пластами – озимые засеяны. Мы даже радовались, что распахано – тачанкам не проехать. Это потом уже… Нет, я закончу про лес. Добрались мы до него, дух перевели. Думаем, теперь легче будет. По ту сторону деревня, в ней казачий полк стоял, поддержит. Стоять-то стоял, да пока мы до деревни добрались… – Митя махнул рукой. – Ка-ак по нам оттуда вдарят из пулеметов! Каюк, поворачивать надо. Передают приказ по колонне: к реке идем, до переправы. Займем там оборону, не сунутся. До переправы, так до переправы. Снова рассредоточились в ротные цепи. Бандиты то налетят, то отхлынут – залпов боятся. Но стреляем уже редко, патронов мало.
Видим впереди переправу. Спасены, думаем. Ан хрена с два! – Митя засмеялся, будто в восхищении от такого коварства судьбы. – Да-дах, да-дах по нам шрапнелью. Не наша уже переправа! Это совсем беда. Что делать? Заметались мы по полю, и тут уж не до веселья, по-настоящему страшно стало. Наш капитан, Борис Петрович, стоит спокойно, в карту-трехверстку смотрит. Мы ведь и местности толком не знаем, накануне тридцать верст форсированным отмахали.
Приказ: двигаться вдоль реки на юг, будем брод искать. А какой к бесу брод? Река широкая, от дождей разбухла вся.
Вот как брели по размокшей пахоте по-над берегом – это мне до смерти сниться будет. Будто в кошмарном сне, знаете: земля липкая, жирная – хваленый чернозем, будь он проклят. На каждом сапоге по полпуда. И конца не видно. Тащимся, тащимся, тащимся. После мне сказали – двадцать верст мы так прошли. Махновцы сзади и по бокам, тучей прямо. Стрельба редкая. У нас по одной-две обоймы осталось. Они тоже патроны израсходовали. Но у них гранат много. Налетят верхами шагов на сорок и швыряют. Мы жиденько пальнем – отхлынут. А кого-то из наших осколками таки побьет. И снова, и снова, и снова.
Вот когда скверно стало. Кто насмерть – ладно, царствие небесное. Но раненых тащить сил нет. Сдаваться живьем нельзя – все равно убьют, только сначала замучают. Ну и за спиной что ни минута: пиф-паф. Стреляются раненые, кто идти не может. Ох, и позавидовал же я счастливцам, у кого пистолет или револьвер есть. Потому что если нет – что же, штыком закалываться? Это, скажу я вам, не сахар, уметь надо. Поэтому к каждому, кто застрелился, по нескольку человек кидалось, оружие взять. Кое-кому везло, а мне шиш. Раз достался мне «кольт», да с пустым барабаном. Выкинул, лишняя тяжесть.
Отупел я как-то от этого пиф-паф, чмок-чмок, чавк-чавк. Всё равно сделалось.
Вдруг оживление. Снова капитан стеком машет, на деревеньку впереди показывает. А там река пошире разлилась, и валуны из нее торчат – значит, брод должен быть. «Подтянись!» Подтянулись. Из деревни бьют залпами, но это пускай. Борис Петрович кричит: «Господа, в атаку!»
Нас, может, четверть осталась. Но – штыки вперед, рванули. Не столько бежим, сколько падаем, еще и дождь полил. Он, может, и помог. Видимости никакой, по нам целиться трудно. Ну и орали мы, я думаю, мороз по коже. Не «ура», а по-волчьи.
Взяли деревню. Из нее по полю дерут какие-то, гурьбой, так и не поняли кто – махновцы или просто местные. Стрелять им вслед нечем, гоняться нет сил. Драпают, и ладно.
Проверили – точно, брод!
Наконец перебрались на другую сторону. Что вода по шею – плевать, мы и так были хоть выжимай. На том берегу капитан нас построил, пересчитал. Семьдесят восемь человек, от всего батальона.
А конные остались сзади. В реку не полезли, кони у них выдохлись. Дали они по нам залп – видно, из самых последних патронов. Еще двоих ранили.
Мы идем, этих двух, которых ранили, несем, а они почти и не стонут – понимают, как им повезло.
И вот доходим до шляха. По нему идти несравненно легче. Сами не верим, что всё кончилось.
Навстречу – колонна пехоты, штыки блестят. Подмога! Кричим, флагом машем – знамя полка у нас в батальоне было, вынесли. И вдруг колонна эта разворачивается и давай лупить в нас пачками!
Ошибка? За бандитов приняли?
Только смотрит капитан в бинокль – никакая не ошибка.
«Господа, кричит, в цепь!» Что толку, когда патронов нет? И потом, всему же есть предел. Силам, храбрости – всему.
Ну и побежали, кто куда. Я тоже. Обернулся – один Борис Петрович на дороге стоит. Вскинул руку, выстрел – упал.
Я уже не человек – заяц. Винтовку бросил, тяжелая. Ломлюсь через кусты, сам не знаю куда. И выскакиваю прямо на какого-то, в шинели, с черной полосой на папахе. Он – винтовку к плечу, наставил мне в грудь. Я только и успел рукой, ладонью, вот так сердце прикрыть. Глупо, конечно. А может, и не глупо. Доктор потом сказал, что это, может, пуля, раздробив кисть, немного траекторию сменила, и лишь по ребрам прошла. Повезло. А еще повезло, что не добили. Хотя чего добивать? Валяется человек, грудь прострелена. Натуральный мертвец. Не знаю. Я когда очнулся, темно было. От дождика очнулся. Лежу, где упал, только без сапог. Больно – ужас!
Перетянул кисть, ноги кое-как обмотал портянками. Побрел. Сначала норовил зарослями, потом плюнул, вышел на дорогу. Сил нет. Убьют так убьют. Несколько раз конные обгоняли, никто не тронул. А что я им? Фуражку выбросил, погоны свои химические сорвал. Штатский и штатский. Был бы в кителе или гимнастерке, капут. А так спасся.
Руку только вот жалко. Меня ведь только на третий день по-настоящему перевязали. Доктор говорит, хоть бы на сутки раньше. Но чего мелочиться – все равно несказанно повезло. Очень возможно, что из всего батальона, четыреста душ, я один живой остался. А в Швейцарии, сказали, умеют протезы делать – хоть письма пиши. На пианино, конечно, больше не поиграешь. Я, между прочим, неплохо играл, даже способности находили…
Так он говорил долго, без умолку, час за часом. Антон слышал не всё, иногда отключался, начинал думать о завтрашнем дне.
Наконец Митя заклевал носом, дал себя уложить в постель и немедленно уснул.
Антон же только поддремывал, кажется. Только начнет проваливаться – вскидывался. То перед глазами, близко, чавкала жирная, липкая земля, то моргали голые веки профессора Шницлера. И одно было жутко, и другое.
Перед «Эрмитажем» нужно было наведаться в Фонд. Все равно еще рановато – с Рэндомами условлено, что он придет в двенадцать. И все-таки служба есть служба. Герр Нагель несомненно уже изучил бумаги, привезенные Василевским, подготовил платежки на подпись.
Формально Гебхардт Нагель являлся вице-директором Фонда «Помросс», а директором числился Антон Клобуков. На самом же деле все дела вел заместитель, Антон лишь подписывал счета и заявки. Его директорство было фикцией, синекурой, вернее сказать – благотворительным жестом Петра Кирилловича. Нагель отлично справился бы со всеми делами и без своего горе-начальника.
Фонд «Помощь России», существующий чуть менее года, был создан для обеспечения насущных потребностей Белого Движения. В цюрихском банке хранились зарубежные авуары Бердышева, на эти деньги он собирался содержать семью. Однако еще в финляндском карантине Антон получил письмо, в котором Петр Кириллович сухо и лаконично сообщал, что след жены и дочери наконец найден. Еще минувшей весной они обе были высажены из поезда в Екатеринославе из-за признаков зараженности тифом. Похоронены в общей могиле, что подтверждается свидетельствами о смерти. «Они умерли в один и тот же день, 18 апреля, – писал Бердышев. – Это годовщина нашей с Зиной свадьбы». И сразу после этого, безо всякой паузы и даже без красной строки, переходил к делу: теперь нет смысла попусту держать деньги в банке, они станут основой фонда, который поможет здоровым силам России в их борьбе, а возглавит учреждение Антон – если, конечно, у него нет других планов.
Кроме Бердышева внесли вклад еще несколько промышленников с известными всей России именами, и вот уже десять месяцев «Помросс» снабжал правительство юга России припасами невоенного назначения. Швейцарские власти, не желая ссориться с левыми партиями, запрещали экспорт оружия или боеприпасов, но этого добра генералу Деникину и так хватало. Мировая война закончилась, склады держав ломились от всевозможных орудий смертоубийства, и поделиться с русскими союзниками для стран Антанты было нисколько не обременительно. Пароходы с пушками, винтовками, снарядами, патронами шли в Новороссийск и Крым один за другим. Совершенно непонятно, почему в полку, где воевал Митя Василевский, не хватало оружия. Должно быть, следствие обычной российской нераспорядительности, когда на складах густо, а на передовой пусто.
Выполняя заказы Бердышева, который после бегства с советской территории возглавил Промышленный комитет при деникинском Особом Совещании, Фонд поставлял медикаменты для госпиталей, бумагу для казенных типографий, продовольствие, обувь, мыло – всё на свете. У герра Нагеля были прекрасные связи в самых различных областях оптовой торговли, он умел добиваться невероятных скидок, а фрейляйн Коль, помимо секретарских обязанностей, отлично разбиралась в математике морских и железнодорожных сообщений. Финансово-бухгалтерскую работу они делили между собой. При таких помощниках Антону делать было нечего, да и какой от него, неумелого, мог быть прок? Поначалу он честно пытался обучиться коммерческой премудрости, однако быстро понял, что только создает лишние хлопоты. Терзаясь сознанием своей никчемности, предложил герру Нагелю хотя бы поменяться должностями и кабинетами, однако швейцарец лишь недоуменно пожал плечами: «Правлению виднее, кого назначать директором, а наше с вами дело – добросовестно исполнять служебные обязанности. Я подготавливаю документы, вы их подписываете». Ни малейшей уязвленности своим положением Нагель не выказывал, и со временем Антон свыкся со статусом полубездельника. Приходил на работу поздно, подписывал накопившиеся документы и уходил. Свободного времени у него было много.
Квартиру для директора сняли недалеко от места службы. Всего пять минут требовалось, чтобы неторопливым шагом пройтись по зеленой улице, медленно поднимающейся вверх, потом взять влево, круче, и оказаться на Вайнбергштрассе, где в импозантном доме с колоннами, на приличном, третьем этаже располагалась контора «Помросса». Из окна директорского кабинета открывался вид на уютный сквер и католическую церковь Богоматери, выстроенную в экзотичном для Цюриха романском стиле.
Фрейляйн Коль подняла над «ундервудом» голову с высокой прической, механически улыбнулась, поздоровалась, спросила, нет ли у герра директора каких-нибудь специальных распоряжений. Этот ритуал ею неукоснительно соблюдался каждый раз. Антон, как обычно, ответил: нет-нет, благодарю, – и прошел к себе.
Почти сразу же, постучав и дождавшись приглашения, вошел заместитель.
Это был тихоголосый бритый человек с мясистым лицом, на котором к концу рабочего дня начинала проступать щетина, за что Нагель (если Антон к концу дня еще находился на месте) неизменно извинялся и виновато объяснял, что волосы у него растут неестественно быстро и, в сущности, следовало бы бриться дважды в сутки. По-русски он говорил очень хорошо, потому что до войны работал у Бердышева в экспортном отделе.
Вице-директор сказал, что разобрал заявки, доставленные «бедным юношей». Эпитет «бедный» относился к увечью Василевского, а не к его обтрепанному виду – гонцы из Промышленного комитета частенько выглядели оборванцами.
– На этот раз всё довольно просто. Нужно закупить шприцы трех разных емкостей с набором игл. Я расписал количество и спецификации, подготовил заявки. Прошу подписать вот здесь… Благодарю. Вот здесь… Благодарю. И вот здесь. Премного благодарен. Далее… – Нагель подкладывал бумаги одну за другой, Антон едва успевал обмакивать ручку в чернильницу. – Это перевязочные материалы – как обычно… Лекарства по приложенному списку… Триста биноклей – думаю, мы сможем получить хорошую скидку, это довольно крупная партия… Единственное, с чем возможны трудности – заказ на пять тысяч швейцарских армейских палаток. Предлагаю закупить обычные туристические. Разрешение министерства обороны не потребуется, качеством они не хуже, а цвет можно выбрать любой, в том числе хаки. Вы не возражаете? Благодарю… – Заявка на палатки была уже отпечатана, и вопрос Нагель задал исключительно в церемониальных целях. – А кроме того, я позволил себе назначить для бедного юноши рандеву на завтра в ортопедической клинике доктора Келлера. Протез ведь будет изготовлен за счет Фонда? Я так и думал. Прошу также подписать распоряжение о выдаче господину Василевскому суточных и гостиничных. Если у вас нет возражений, мы поселим его в пансионе «Алте Цюри», там после нового года будет пятидесятипроцентная скидка.
Подписав все документы, Антон сказал:
– Если это всё, я пойду.
В ответ на это заместитель обычно лишь кивал и почтительно говорил:
– Как будет угодно господину директору.
Но сегодня он повел себя непривычным образом. Кашлянул, потер переносицу над дужкой очков.
– Да, я знаю, какой сегодня в клинике ответственный день. Мы с фрейляйн Коль это обсуждали. И я очень надеюсь, что все пройдет благополучно… – Нагель запнулся, что было уж совсем на него не похоже. – И еще, если мне будет позволено высказать мое мнение, я хотел сказать, господин директор, что в высшей степени одобряю ваш интерес к научным занятиям.
– В самом деле? – удивился Антон. За весь год совместной работы помощник ни разу не говорил с ним в таком тоне – всегда соблюдал дистанцию.
– Вам нужно позаботиться о будущем, Антон Маркович.
Даже не «господин директор»? Это уж просто какая-то революция!
– Вам нужна хорошая профессия. Вы извините, что вмешиваюсь не в свое дело. Но я много старше вас и, честно сказать, успел за этот год к вам привязаться.
Вот тебе и раз! Антон давно привык считать своего заместителя ходячим швейцарским хронометром, а хронометр вдруг взял и заговорил по-живому, совершенно по-русски, и даже глаза оказались не оловянно-деревянно-стеклянными, а вполне человеческими.
– Благодарю… – Антон и сконфузился, и растерялся. – Мне тоже очень хорошо с вами работается.
– О да. Но работа Фонда, если не случится чуда, через два или три месяца закончится. Я-то найду себе место, у меня широкие связи. И госпоже Коль всё время поступают хорошие предложения. Но вам, тем более в статусе иностранца, будет много трудней.
Ах вот он о чем.
– Вы полагаете, что в России через два-три месяца всё закончится и наш Фонд станет не нужен? Это правда. Очень возможно, что крах произойдет даже раньше.
Нагель удивленно приподнял брови:
– Нет-нет, я не про это. В политике я совсем ничего не смыслю. Моя стихия – цифры, хотя они, в отличие от всего остального, совсем не стихия.
Он вдруг улыбнулся и стал уже совсем человекообразен. Достал из кармашка золотые часы, открыл крышечку.
– Это мне русские сослуживцы подарили к пятидесятилетию, перед самой войной. Смешная надпись, правда?
На внутренней стороне было выгравировано: «Нет, не пишу стихи я, цыфирь – моя стихия».
Нагель вздохнул.
– Это были очень хорошие люди. Я часто думаю, что с ними сталось.
– Но если вы говорили не о войне, тогда о чем же?
Вице-директор снова удивился:
– Вы не следите за состоянием нашего счета? За десять месяцев мы потратили три миллиона четыреста сорок тысяч франков. Новых поступлений было на тринадцать тысяч. То есть кроме первоначальных пожертвований практически нет пополнений. И не предвидится. Скоро наша касса опустеет. Вот почему мы с госпожой Коль стали за вас беспокоиться. Признаюсь, мы часто о вас говорим, когда вы отсутствуете… – Нагель поспешно прибавил. – Это я не в упрек. Наоборот, мы очень рады, что вы увлеклись таким прекрасным делом. Вы молоды, вам нужно хорошее образование. Надеюсь, вы были достаточно благоразумны, чтобы откладывать часть жалованья на черный день?
Нет, Антон не был достаточно благоразумен. Ему и в голову не приходило что-то откладывать. А его мысли о будущем в последнее время не простирались дальше 23 декабря.
Покинув контору, он сразу забыл и о добром совете герра Нагеля, и о надвигающемся финансовом коллапсе.
Половина двенадцатого.
Когда он поднимался по лестнице на университетский холм, отчаянно заколотилось сердце, и причина была не в крутизне подъема.
Клиника при медицинском факультете по праву считалась одной из лучших в мире, с превосходным персоналом и самым современным оборудованием.
Куно Шницлер, любивший бравировать цинизмом, часто повторял, что мировой войне врачебная наука должна сказать спасибо, и в особенности швейцарская. Какой прорыв в хирургии и всех смежных областях! Сколько открытий! А какой приток финансирования!
Швейцарская медицина и в самом деле очень развилась и разбогатела за годы европейского взаимоистребления. Клиники были заполнены, но не переполнены – не то что в госпиталях воюющих стран, где койки стояли в коридорах и не хватало ни врачей, ни сестер, ни медикаментов. О полевых лазаретах нечего и говорить: это был просто сплошной кровавый конвейер. Там было не до поиска новых методик и препаратов.
В Швейцарию же поступали раненые, требующие вдумчивого, сложного, часто экспериментального лечения. И, само собой, могущие за него заплатить. Если до 1914 года маленькая альпийская страна в медицинском отношении славилась разве что своими туберкулезными санаториями, то теперь авторитет ее клиник многократно возрос.
Антону всегда нравилась профессия врача, но сугубо умозрительно. Он даже попробовал работать в военном госпитале медбратом, но помешала проклятая чувствительность к виду истерзанной плоти и человеческим страданиям. Он думал, что никогда не преодолеет этот эмоциональный барьер. А Шницлер на одной из самых первых лекций сказал: «В мою бытность студентом в меня вдолбили, что пациент, которого ты режешь, не человек, а кусок говядины. Только так и можно относиться к оперируемому, когда он на столе. Иначе твои движения будут скованы, внимание расвеяно, ты лишишься легкости и вдохновения, а это губительно для больного. Учтите к тому же, господа, что во времена моего студенчества с анестезией было совсем скверно, и „кусок говядины“, случалось, орал у тебя под ножом дурным голосом. Сейчас-то резать одно удовольствие». Как ни странно, совет оказался неплох. Антон постепенно научился смотреть на оперируемого «как на объект, а не субъект» (это выражение ему нравилось больше, чем мясницкая метафора). Когда у человека под наркозом отключено сознание, он ведь, в сущности, и есть всего лишь физическое тело.
Анестезия была у Куно Шницлера любимым коньком, он ставил ее выше хирургии, которую часто сравнивал с портняжным делом, хотя сам был оператором от бога. Если правда, что у каждого человека есть одна главная черта, дающая ключ к пониманию личности, то Шницлера можно было свести к простой формуле: это был человек-движение, не способный останавливаться и успокаиваться на достигнутом. Тридцать лет он был счастлив и спокоен, осваивая и оттачивая искусство хирурга. Всё подчинялось этой цели. Он не завел семьи, не имел никакого хобби. Правда, виртуозно играл на фортепиано, но лишь для того, чтобы лучше разработать пальцы.
И вдруг на пороге пятидесятилетия Шницлер понял, что лучше оперировать он никогда не будет – достиг своего потолка. Всё, дальше двигаться некуда. Он – заведующий кафедрой, ведущий хирург университетской клиники, но ничем большим – в профессиональном смысле – уже не станет.
Захандрил, думал даже уйти из медицины и заняться чем-нибудь совсем другим, но тут грянула большая война, появилось очень много интересной работы, уникальных «казусов», и Шницлер воспрял. Никогда он столько не оперировал. И чем дальше, тем сильнее его раздражала неэффективность анестезионных методик.
Эта проблема в хирургии существовала всегда, с самого начала шницлеровской карьеры. Смертность от неправильного наркозоприменения, иногда при пустяковых операциях, была традиционно высокой. Шницлера бесило, если из-за плохо продуманной анестезии у него на столе умирал пациент – особенно когда блестяще проведенная операция уже подходит к концу. Однако до поры до времени Шницлер считал, что с этим ничего поделать нельзя.
И вдруг к нему пришло озарение. Однажды ночью он проснулся, сел в кровати, хлопнул себя по лбу и сказал (Антон не раз слышал эту историю): «Куно, ты идиот! Вся беда оттого, что анестезирование считают не самостоятельной врачебной специальностью, а лишь подсобным средством, облегчающим работу хирурга. Нельзя доверять наркоз медицинской сестре! Этим должен ведать полноправный, специально обученный врач!» Профессор говорил, что тогда же ему пришло в голову название для новой отрасли – анестезиология, по-гречески «наука о потере чувствительности». Специалист нового профиля будет называться гордым словом «анестезиолог». Пока, правда, никто кроме самого Шницлера и его учеников этот термин не использовал. Весь мир по-прежнему называл фельдшеров и ассистентов, которые отвечали за наркоз, «анестезистами».
Новому увлечению профессор отдался с таким же пылом, с которым некогда постигал тайны хирургии. Он говорил, что хирург – всего лишь закройщик: ножницы да нитки, режь да зашивай, вот и вся премудрость. Не то анестезиология. Здесь нужно знать и медицину, и химию, и психологию. А самое приятное – никаких великих предшественников, снег никем не затоптан.
Пожалуй, главное открытие Куно Шницлера заключалось в том, что анестезию ни в коем случае нельзя применять единообразно, без учета индивидуальных особенностей пациента – притом не только физиологических, но и психологических. Второе, не менее важное новшество состояло в том, что анестезиолог во время операции не использовался в качестве ассистента, «прислуги за всё»; он не помогал хирургу, а лишь следил за действием анестезии и реакцией организма, готовый в любую минуту вмешаться. Шницлер принципиально не желал работать в паре с врачом, который имеет хирургический опыт. Достаточно, если специалист умеет делать уколы, а больше никаких медицинских навыков от него не требуется.
Испокон века ассистент рассматривался как младший хирург, готовый помочь оператору, подстраховать его, и сначала коллеги восприняли затею Шницлера весьма неодобрительно. Однако скептики заткнулись, когда обнаружилось, что смертность на операциях новатора в несколько раз меньше, чем у хирургов, которые относились к наркозу фаталистски, по старинке. «То ли еще будет! – восклицал профессор, потирая свои огромные, на первый взгляд такие грубые руки с некрасиво обстриженными ногтями. – Через пятьдесят лет главным лицом на операции станет анестезиолог, а вместо хирурга шить и резать будет какая-нибудь высокоточная машина!»
С гениальным медиком Антон познакомился еще в самом начале своей фондовской деятельности. Поступила заявка от госпитального ведомства на хлороформ и эфир. В ту пору Антон еще был на работе новой метлой, которая старается чисто мести, ко всякому заказу относился с максимальной добросовестностью и поэтому решил проконсультироваться в университете, какие наркопрепараты сейчас считаются оптимальными для военно-полевых условий. Его направили к главному авторитету – профессору Шницлеру.
Авторитет поразил Антона своей отталкивающей внешностью. На голове у него не было ни единого волоска: бритый череп, голые надбровные дуги и, что было уж совсем неприятно, веки без ресниц. (Помимо анестезиологии у Шницлера имелась еще одна мания – стерильность. Он заявлял, что упавший в открытую рану волосок погубил не одну человеческую жизнь, и потому брил голову, а брови и ресницы выщипывал.) Урод был еще и крайне нелюбезен. Сказал, что у него нет времени на болтовню, а если молодой человек хочет получить общее представление о видах наркоза, то как раз сегодня вводная лекция для группы вольнослушателей, которые желают выучиться анестезиологии. «Полагаю, что это кучка любопытствующих бездельников, и со временем я всех их вышибу, – присовокупил профессор. – Если хоть один окажется толковым, уже удача».
Занятия он вел по собственной инициативе, студентов-медиков в группу принципиально не брал. Будущим анестезиологам не полагалось «отвлекаться на всякую ерунду», и уж тем более они не должны были «метить в хирурги». Шницлер говорил, что сначала человек должен проявить качества, необходимые анестезиологу: умение чувствовать пациента, крепость нервов и быстроту реакции. Если вольнослушатель окажется гож, профессор обещал составить для такого человека персональную программу общемедицинского образования и провести своего анестезиолога через университет ускоренно, экстерном, без отрыва от операционной работы.
Всего этого Антон тогда еще не знал, но вводная лекция Шницлера его потрясла.
Наука, ставящая своей задачей нейтрализацию острых болевых ощущений, по словам лектора, уходила корнями в древность. Предшественниками современных анестезистов были шаманы, знахари, ведуны с ведьмами, колдуны и колдуньи. Три основные направления обезболивания по своей сути остались теми же: травно-настойное, то есть химическое; заморозка – или, выражаясь по-научному, криогенная анестезия; наконец, заговор или колдовские чары, то есть психогенно-гипнотический метод. «Все исторические способы наркоза я изучал, и на первом этапе обучения мы внимательно их рассмотрим, чтобы следовать за развитием нашей науки из прошлого в настоящее, а затем и в будущее. Прежде чем вы станете анестезиологами, я сделаю вас чародеями», – сказал удивительный лектор, и его маленькая аудитория засмеялась, еще не зная, что Куно Шницлер никогда не шутит.
«Цель работы анестезиолога двояка. Во-первых, он должен подобрать оптимальный для конкретного пациента и конкретной операции вид обезболивания: местное или общее; инъекция, ингаляция или замораживание; кокаин, морфий, эфир, хлористый азот, хлороформ, веселящий газ или что-то комбинированное; дозировку и последовательность. Но сразу зарубите себе на носу: гуманность тут ни при чем. Мы применяем обезболивание не для того, чтобы облегчить страдания бедняжке пациенту, а чтобы этот болван своими воплями и судорогами не мешал хирургу спокойно работать. Вторая задача сложнее и важнее отключения болевого синдрома: во время операции анестезиолог следит за поддержанием надлежащих параметров жизнеобеспечения, в первую очередь дыхания и кровообращения…»
Антона поразили не сведения, которые он узнал на лекции, а величественность самой концепции. Оказывается, существует врачебная специальность, будто нарочно придуманная для него! Как это прекрасно – победить боль! И как это… по-человечески. Мир полон страданий, жизнь без конца ранит нас, заставляет кровоточить тело и душу. Устранить первопричину этих несчастий смертному не дано. Но облегчить муку, дать истерзанным нервам передышку, погрузить паникующий рассудок в спасительный сон медицине уже под силу. Миссия профессионального усмирителя боли – и страха перед болью – заворожила Антона своей красотой. Вот кем он должен стать: анестезиологом. Этому делу не жалко посвятить всю жизнь.
Сразу после лекции он подошел к профессору и спросил, не поздно ли записаться в группу. Шницлер самодовольно улыбнулся. «Поздно. Но я вас беру. Я видел, как вы меня слушали. И знал, что вы попроситесь».
И вот уже восьмой месяц Антон каждый день посещал лекции, практические и лабораторные занятия, а с недавних пор присутствовал и на настоящих операциях, наблюдателем. У Шницлера был свой анестезиолог, единственный слушатель из прошлогодней группы, которого профессор признал годным. Молодой человек (его звали Леопольд Кальб) считал Шницлера Господом Богом, во всем ему подражал и тоже истребил растительность у себя на голове, хотя за выщипанные ресницы расплачивался хроническим воспалением век. Ныне Леопольд числился студентом-экстерном терапевтического отделения и под опекой профессора уже сдал экзамены за пять из десяти семестров; еще год – и получит диплом, станет первым в истории врачом-анестезиологом (если к тому времени Шницлер сумеет убедить руководство факультета в легитимности этой специальности). Вольнослушатели взирали на Леопольда с почтением, а уж как ему завидовал Антон! Хоть он числился лучшим учеником в группе и профессор постоянно ставил его в пример остальным, в историю медицины фамилия Клобукова уже не войдет. Опоздал, уступил первенство маленькому педанту с кроличьими глазами.
Зато Антона уже допускали к настоящей работе: вместе с Леопольдом он участвовал в составлении «психологического диагноза». Согласно методике Шницлера, подготовку пациента к особенно сложной операции следовало начинать за две недели. Помимо обычных мер по соблюдению режима, требовалось предварительное заключение анестезиолога о психоэмоциональных параметрах больного: возбудимости, впечатлительности, способности к релаксации, подверженности панике. В зависимости от индивидуальных характеристик определялась вся структура и дозировка наркоза. Анестезиолог должен был обстоятельно побеседовать с пациентом, заполнив обширный вопросник. Значение придавалось не столько информации, которую сообщает о себе человек, сколько его нервно-психологическим особенностям. Если больной выказывал острый страх по поводу предстоящей операции, следовало провести курс «седативной психотерапии», чтобы снять лишнюю нервозность. Поистине никто в мире не относился к этому аспекту предоперационной подготовки так обстоятельно, как Куно Шницлер.
Вот как Антон познакомился с Рэндомами. Ровно две недели назад это произошло, 9 декабря.
– Намечается операция исторического значения. Вы знаете, я давно мечтаю произвести первую операцию на сердце – коррекцию митрального стеноза, – объявил Шницлер на очередной лекции. Он выглядел возбужденным и, кажется, даже забыл обрить череп – макушка отливала синевой.
Леопольд Кальб с важным видом кивнул, он был в курсе дела. Остальным профессор объяснил, что митральный стеноз – это врожденный или приобретенный порок сердца, при котором происходит сужение левого атриовентрикулярного устья – отверстия между предсердием и желудочком. Научное название заболевания – Stenosis ostii atrioventricularis sinistra. Теоретически этот дефект исправить можно. Для этого довольно разъединить спайки, которые образовались в устье клапана в результате болезни. Отверстие расширится, после чего нормальный кровоток должен полностью восстановиться либо, по крайней мере, значительно улучшиться. Но и врачи, и больные приходят в ужас от одной мысли, что скальпель вскроет сердце, поэтому больные предпочитают жить инвалидами и в конце концов умирают, «не изжив своего биологического ресурса».
Но вот нашелся некий молодой англичанин, который прочитал статью Шницлера о теоретической возможности коррекции стеноза и готов лечь под нож. Он заплатил за операцию и подписал бумаги, что освобождает клинику от всякой ответственности за неудачный исход.
– Такой шанс упускать нельзя! – восклицал профессор, рисуя мелом на доске схему сердца. – Это было бы преступлением против науки! А ну-ка, господа, всем слушать очень внимательно! После того как я опишу клиническую картину, вы сделаете свои предложения по анестезионному сопровождению. Итак. У пациента порок сердца развился в пубертатном возрасте вследствие ревматической лихорадки. Как вам известно (а кому не известно, пусть стыдится), митральный стеноз чаще наблюдается у девочек и молодых женщин, но в данном случае мы имеем дело с юношей. Ему сейчас двадцать второй год, а первые признаки болезни были зафиксированы еще пять с половиной лет назад, то есть порок запущенный. Налицо все характерные симптомы сердечной недостаточности с высокой легочной гипертензией: сухой кашель, нередко и с кровью, сердцебиения, малейшие физические нагрузки приводят к резкой слабости и одышке. При первом же взгляде на пациента заметна типичная «митральная бабочка» – facies mitralis: резко очерченный румянец, а также пепельный цианоз носа и губ. При пальпации межреберья в положении пациента на левом боку определяется диастолическое дрожание, вызванное затрудненным прохождением крови через узкое митральное отверстие. Этот симптом еще называют «кошачьим мурлыканьем». Одним словом, любой мало-мальски опытный врач и без электрокардиограммы не затруднился бы с диагнозом. Попросту говоря, насос качает кровь, но шланг так засорен, что влага почти не орошает дальних краев газона. Всего-то и нужно – как следует прочистить трубку, и молодой человек встанет с инвалидного кресла. Сейчас он может пройти не больше пяти шагов, а затем начинает задыхаться и терять равновесие вследствие головокружения. Вот с каким случаем, господа, мы имеем дело.
– Необходима комиссуротомия, – солидно молвил Леопольд, и все уважительно на него посмотрели. Никто не знал, что значит это слово.
– Да, – кивнул Шницлер. – Нужно убрать спайки, соединяющие комиссуры и мешающие нормальному току крови.
– Чем же вы их уберете, профессор? – спросил Антон, пытаясь сообразить, какой из известных ему хирургических инструментов может подойти для столь деликатной манипуляции.
Шницлер пожал плечами:
– Да просто пальцем. Вот так.
Он взял графин с водой, взял немножко пластилина, при помощи которого обыкновенно делал муляжи внутренних органов – прямо на глазах у слушателей, очень ловко. Залепил горлышко наполовину.
– Видите, я наклоняю – и вода едва льется в стакан. А теперь я сделаю так… – Он прочистил горлышко графина пальцем. – Видите? Элементарно. Вот, собственно, вся хирургическая операция. В данном случае главное будет зависеть от правильного режима анестезии и эффективного жизнеобеспечения во время моей работы на сердце. Что требуется от анестезиолога в первую очередь, господа?
– Психологический диагноз! – хором ответила выдрессированная группа.
Задание, которое обычно исполнял один Леопольд, на сей раз было поручено двоим. Профессор объяснил это особой важностью события, но Антон усмотрел тут обнадеживающий знак: Шницлер выделяет его из всей группы, а стало быть, есть надежда стать пусть не первым, но хотя бы вторым в истории врачом-анестезиологом. Тоже неплохо.
Диагностам было поручено провести психологическое обследование вместе, однако заключение составить независимо друг от друга. Нечего и говорить, что Антон отнесся к ответственному поручению очень серьезно.
Прочитав историю болезни, узнал, что Лоуренс Севилл Рэндом 1898 года рождения до пятнадцатилетнего возраста развивался нормально и даже опережал среднестатистические показатели по параметрам роста, активно занимался спортом. Ревматизм с осложнением на сердце, развившийся начиная с весны 1914 года, вероятно, объясняется наследственностью по обеим линиям. Отец пациента умер в 34 года «от разрыва сердца» (более точное заключение недоступно); мать скончалась от острой сердечной недостаточности 46 лет от роду.
Начиная с июня 1914 года пациент находился на лечении в женевской клинике «Асклепиус», где должен был пройти трехмесячный курс модной в то время электротерапии, однако из-за войны не смог вернуться на родину и с тех пор не покидал Швейцарию, потому что его состояние за минувшие годы существенно ухудшилось и путешествия ему противопоказаны. При больном постоянно находится старшая сестра, что очень хорошо, ибо, согласно доктрине Шницлера, правильно проинструктированные родственники могут оказать существенную помощь в подготовке пациента к операции. К тому же беседа с ними дает возможность получить более объективную информацию о психоэмоциональных характеристиках объекта.
Брат и сестра Рэндомы занимали лучшую палату в «Эрмитаже» – флигеле, предназначенном для состоятельных пациентов. Это была просторная комната с отдельным выходом в сад и собственной ванной.
Леопольд постучал, и через некоторое время раздались медленные шаги. Потом дверь открылась.
Худой юноша с огромными глазами и очень бледной, почти голубой кожей, в бархатной куртке, с большим бантом на шее, приветливо поздоровался и предложил войти.
Лоуренс Рэндом был очень красив странной, болезненной красотой. От его тонкого, будто полупрозрачного лица было трудно отвести взгляд. Впоследствии, прогуливаясь с ним по саду (верней, толкая перед собой его коляску), Антон не раз видел, как на Рэндома засматриваются встречные барышни и дамы.
– Разве вам можно вставать? Нехорошо! – нахмурил свои лысые брови Леопольд, изображая сурового эскулапа. – Где фрейляйн Рэндом?
– Вики вышла в сад покурить. Уж от кресла до двери я худо-бедно способен дойти. Милости прошу, господа анестезисты. Присаживайтесь. Меня предупредили, я готов.
По-немецки Лоуренс говорил совершенно свободно, лучше Антона, хотя последние пять лет прожил во французской части Швейцарии. Вопросы задавал Леопольд, сверяясь по анкете и старательно записывая в тетрадку всё сказанное. Больной отвечал очень точно – не длинно, но исчерпывающе. И всё улыбался, переводя взгляд с одного медика на другого и поглаживая свой пышный бант. (Позднее Лоуренс со смехом объяснил, что обзавелся этим дурацким аксессуаром, чтоб не пугать людей своей хлипкой синюшной шеей, которую он назвал «макарониной».)
Антон ничего не записывал, а лишь внимательно всматривался в больного, пытаясь понять, что это за человек. Удивительно, но в голосе и жестах Рэндома не ощущалось ни малейшего страха, абсолютно никакой нервозности.
Пожалуй, имело смысл пробить брешь в этой британской сдержанности.
– Вы, конечно, нервничаете из-за операции?
Леопольд недовольно покосился на коллегу. В анкете такого вопроса не было, и вообще зачем усугублять тревожные ожидания больного?
– Нисколько, – ответил Рэндом. – Жаль лишь, что подготовка растянется на целых две недели.
«Бравирует, – решил про себя Антон. – Значит, держит всё внутри, а это лишний стресс. К тому же от предоперационной инъекции релаксанта волевой контроль ослабнет, а это может привести к паническому кризису вследствие высвобождения накопившейся нервозности».
Должно быть, собеседник что-то прочел по его лицу, потому что счел нужным пояснить:
– Не думайте, что я храбрюсь и что-то изображаю. Я действительно совершенно спокоен, если не считать некоторого нетерпения. Но болезнь приучила меня справляться с этой слабостью, инвалиду она противопоказана. – Рэндом рассмеялся, блеснув чудесными белыми зубами. – Быть может, вы полагаете, будто я не отдаю себе отчет в степени риска? Профессор предупредил, что мои шансы очнуться после наркоза – один из десяти.
– Профессор Шницлер вам это сказал?!
Антон с Леопольдом в недоумении переглянулись. Невероятно! Разве можно больному перед операцией говорить такие вещи?
Англичанин снова засмеялся.
– Нет, конечно. Это сказал моей сестре профессор Лебрен, в Женеве. Он надеялся, что Виктория меня отговорит. И она пыталась. Но тщетно. Один шанс из десяти, конечно, маловато, однако больше чем ноль. – И опять беззаботная сияющая улыбка.
– Вы… очень смелый, – растерянно промямлил Антон.
И здесь Рэндом выдал ему одну из своих сентенций, которые Антон впоследствии так полюбил:
– Я не смелый, однако я и не трус. Это значит, что я иногда не делаю чего-то по недостатку храбрости, но я никогда не совершаю поступков из трусости. Я, знаете ли, с нравственной точки зрения этакое средненормальное существо. Мне не хватает благородства на альтруистическое поведение и недостает низости на законченный эгоизм. Я понял, что я такое, в довольно раннем возрасте. Знаете, когда половину времени проводишь в кровати, а половину в кресле на колесиках, легко стать философом. И до поры до времени этой вялотекущей мудрости мне вполне хватало…
«Я тоже таков? – спросил себя Антон. – Как это он сказал: „средненормальное существо“? Надо подумать».
Леопольд недовольно кашлянул и вернулся к перечню вопросов. Антон же размышлял над словами британца, оглядывая палату. Двойная стеклянная дверь, что вела в сад, создавала светлый фон, на котором тонкая фигура в кресле казалась силуэтом, наклеенным на бумагу. В двух противоположных углах – две кровати, каждая прикрыта ширмой. На правом экране, черно-золотом, изображен китайский дракон, на левом, серебристом – диковинные рыбы. Судя по накинутому сверху шелковому халату, за рыбами обитала сестра пациента. Каково это – иметь преданную и любящую сестру, существо женского пола, молодое и возможно привлекательное, родное, но не способное окончательно стать с тобой одним целым, как это происходит у мужа и жены?
Наверное, ухаживать за таким человеком, как Лоуренс Рэндом, не очень трудно, подумал Антон, переводя взгляд на улыбчивого юношу. Интересный субъект.
– Если вы так низко оцениваете шансы на успех, зачем идти на операцию? – спросил Антон и сам себе удивился. – Почему вам вдруг стало недостаточно мудрости, с которой вы спокойно жили все эти годы?
Леопольд вздохнул и опустил карандаш.
– Может быть, коллега, мы будем задавать господину Рэндому вольные вопросы после того, как покончим с обязательными?
Но англичанин охотно ответил:
– Кое-что переменилось. Во-первых, я достиг совершеннолетия и теперь могу распоряжаться как своим состоянием, так и своей судьбой. А во-вторых, я перестал ценить жизнь, которая прикована к инвалидному креслу. Она стала мне неинтересна. Вы знаете, в нынешнем состоянии я могу пройти на своих двоих максимум тридцать шагов, а потом начинаю задыхаться, и темнеет в глазах. Мне это надоело. Я решил: жить – так полной жизнью. Если же не получится – лучше никак не жить.
– А это не иллюзия? – спросил Антон. – Насколько я понимаю, вы обеспечены, можете читать книги, слушать музыку, любоваться природой, размышлять. И всего этого вы готовы лишиться, только чтоб иметь возможность «пройти на своих двоих» не тридцать шагов, а триста раз по тридцать шагов? Ну и что такого чудесного вы рассчитываете там обнаружить, на расстоянии в девять тысяч шагов? Ведь что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Не лучше ли ценить то, чем вы обладаете, нежели перечеркнуть всё ради призрачного шанса на жизнь, в которой вы, возможно, вскоре разочаруетесь?
«Как хорошо, как умно я это сказал», – подумал он, очень довольный – не своим красноречием, а искренним порывом спасти этого симпатичного юношу от смертельной опасности.
Вот теперь в глазах Леопольда читалось уже не раздражение, а негодование. Голые брови так и заходили. Эта мимика означала: «Ты хочешь, чтобы он отказался от операции?! А о профессоре ты подумал?! Я всё ему расскажу!»
Рэндом улыбался, но не весело, как прежде, а грустно.
– Дело не только в количестве шагов, хоть и в этом тоже. Уж вам ли не знать, герр Клобуков, ведь мы с вами оба молоды? – Ясные серые глаза смотрели с легкой укоризной. – Экклезиаст, которого вы процитировали, невыносимо пошл. Его нытье о суете сует – манифест неудачника, растратившего свою жизнь на ерунду. Ну, приобрел он себе слуг и служанок, крупного и мелкого скота, собрал серебра и золота и «драгоценностей от царей и областей», завел певцов и певиц плюс «разные музыкальные орудия». Иными словами, кинул лучшие годы псу под хвост, а на старости лет расхныкался про суету и томление, да еще имеет нахальство возводить свой неудачный жизненный опыт во всеобщий закон. А если человек совершил нечто, поднимающее душу ввысь? Или сотворил прекрасное произведение искусства? Или открыл новые земли? Или, как вы с профессором Шницлером, пытается раздвинуть границы возможного в науке? Разве всё это уже «было под солнцем»? Не было. Господи, да не в искусстве или науке дело. Если ты просто очень сильно любил кого-то? Если родил и воспитал детей? Прошел трудный путь и стал лучше, чем был вначале? Это, герр Клобуков, никак не «томление духа», а настоящая жизнь. Я целых пять лет проэкклезиастничал овощем в женевском огороде. С меня довольно. Через полгода увидимся – милости прошу побегать со мной наперегонки. Ну а коли не судьба, загляните ко мне на кладбище и выпейте рюмку в память о покойнике, который ни о чем не жалеет.
Громко звякнуло стекло – это об стопор ударилась прозрачная дверь. Антон повернул голову, думая, что подул сквозняк.
По ступенькам из сада поднялась женщина. Поскольку она стояла спиной к свету, лица было не видно, лишь силуэт, узким конусом расширяющийся книзу, следуя контуру длинного платья.
– Ты не смеешь так говорить, Лоуренс! – сказал по-английски гневный, грудной голос. – И думать так не смеешь!
Женщина быстро приблизилась. С каждым шагом черты проступали явственней, будто она поднималась из темного омута к поверхности. Несомненно, это еще больше усилило мистический флёр, так свойственный ее прекрасному лицу.
– Привет, Вики, – виновато засмеялся Рэндом. – Зачем так хлопать дверью? Позволь тебе представить господина Кальба и господина Клобукова, это ассистенты профессора Шницлера. Моя сестра, мисс Виктория Рэндом.
Антон резко поднялся. Опрокинул стул.
Вот так жизнь рассекается надвое. Всё бывшее прежде меркнет, тускнеет, утрачивает цвет, смысл, интерес. Вянет и уносится прочь, словно никчемный сухой лист с осенней ветки. И самому непонятно, как можно было прожить на свете столько лет, не зная этого лица, не слыша этого голоса.
Антон пробовал объяснить себе эффект ее взгляда рациональным образом. У Виктории очень длинные густые ресницы, а от постоянного недосыпания и нервного истощения – синеватые круги в подглазьях, из-за чего кажется, будто глаза смотрят из глубокой тени и матово мерцают. В первую минуту он подумал, что мисс Рэндом наверняка киноактриса. Только на серебряном экране можно увидеть столь невероятную, неземную красоту. Кроме того, Виктория была удивительно похожа на Веру Холодную, будто воскресшую из мертвых в другой стране.
В Виктории Рэндом безусловно было нечто потустороннее, иномирное. Она еще и одевалась не так, как другие женщины, а по-довоенному, в длинное и просторное. Когда зябла или выходила покурить в сад, набрасывала на плечи норковую горжетку, каких теперь уже не носили. Старомодной была и прическа: гладкие темные волосы стянуты на затылке в тяжелый узел. И, конечно, совершенно удивительный голос, контрастирующий с хрупкой, эфемерной внешностью: сильный, глубокий и слегка хрипловатый (вероятно, от папирос).
При первой встрече Виктория по-мужски пожала руку, посмотрела прямо в глаза (Антону показалось, что ее взгляд сначала отодвинул его, а потом так же мощно притянул к себе) и сказала:
– Я ждала вас. Вышла на пять минут и задумалась… Лоуренс, почему ты меня не позвал? Господа, задавайте мне любые вопросы. Я знаю о нем всё лучше, чем он сам.
Села, отложила в сторону длинный нефритовый мундштук. Антону еще предстояло узнать, как нестерпимо она прекрасна, когда отводит тонкую руку и медленно выпускает дым, так что узкоовальное лицо словно окутывается туманом…
– Он запретил мне бросать курение, – пожаловалась мисс Рэндом. – Говорит, что выходить в сад и медитировать в одиночестве мне полезно, чтоб хоть немного отдыхать от общения с инвалидом. Этот умник бывает чрезвычайно глуп – так и запишите в своей анкете.
В сердитом взгляде, который она бросила на брата, читалась нежность, для которой на свете, верно, не существовало подходящих слов. У Антона перехватило дыхание. Она любит своего брата! Это неземное создание умеет любить! А если так…
Рассудок, привычный к выстраиванию логических цепочек и причинно-следственных связей, тут дал сбой, потому что мисс Рэндом как раз улыбнулась – и Антон понял, что его, такого заурядного, абсолютно ничем не выдающегося, эта женщина не полюбит никогда. Потому что он – всего лишь он, а она – она.
В течение двух недель он виделся с Рэндомами каждый день и проводил в их обществе столько времени, сколько позволяли приличия. Устроить это было нетрудно. В заключении, которое представил профессору Леопольд, говорилось: у пациента исключительно крепкие нервы и феноменально сильная воля, поэтому специальной психологической подготовки не требуется, никаких проблем эмоциогенного свойства, могущих осложнить действие наркоза, не ожидается. Антон же сказал, что не готов представить диагноз, ибо картина ему не совсем ясна. Он желал бы продолжить обследование и даст свой анализ непосредственно перед операцией. Профессор был ужасно доволен такой дотошностью, поставил Антона в пример и Леопольду, и остальным, но самое главное – санкционировал общение с больным безо всяких ограничений. С Рэндомами затруднений тоже не возникло. Виктория была только рада столь серьезному отношению одного из профессорских ассистентов к операции. Лоуренс заявил, что ужасно любит поговорить и ему вечно не хватает вежливого слушателя, готового терпеть его болтовню, поскольку нельзя же в сотый раз рассказывать бедной Вики одно и то же.
Людей, подобных Рэндому, Антон никогда еще не встречал. Вероятно, до болезни это был обычный подросток английского upper middle class’a и, если б не инвалидность, вырос бы в такого же дюжинного молодого мужчину. Но давно замечено, что долгое страдание и ограниченность физической активности невероятно обостряют остроту детского или юношеского ума, развивают волю и тонкость чувств.
К двадцати одному году Лоуренс прочел несметное количество книг и составил твердые, всесторонне обдуманные, прекрасно аргументированные суждения обо всем на свете. Из-за того что он не окончил школы и не учился в колледже, а до всего дошел своим умом, его воззрения иногда выглядели экзотичными, даже диковатыми – но лишь на первый взгляд. Не раз и не два после беседы с Рэндомом Антон начинал сомневаться в правильности общепринятого взгляда на тот или иной предмет.
Ярче всего запомнился самый первый из их споров – и не потому что первый, а потому что тогда, один-единственный раз, Виктория поддержала Антона, не брата.
Желая вызвать к себе интерес, Антон стал рассказывать новым знакомым про то, какой важной и благородной работой занимается его Фонд. Отсюда разговор естественным образом перешел на несчастную Россию и на героическую борьбу, которую ведет белое рыцарство против сил Зла. Рассказывая о подвигах добровольцев, Антон, конечно, рассчитывал, что сияние их славы отчасти распространится и на того, кто им помогает. Ему казалось, что говорит он очень хорошо: увлекательно, прочувствованно, но при этом без славянской пафосности, без хвастовства. Брат с сестрой слушали заинтересованно (хотя, конечно, у благовоспитанных англичан не разберешь).
И вдруг Рэндом говорит: «В сущности, героизм – весьма прискорбное явление. Необходимость в героях и подвигах возникает лишь в критической ситуации, а в девяносто девяти случаях из ста таковые происходят вследствие человеческой глупости или недобросовестности. Почти все герои, которыми восхищается человечество – это герои войны, что естественно, поскольку трудно придумать ситуацию более критическую. И если в воюющей армии много героев, можно не сомневаться, что командует ею идиот. Хорошему генералу герои не нужны. Главный британский гимн героизма – стихотворение про атаку легкой бригады под Балаклавой:
Вообще-то эта катастрофа, как известно, случилась из-за двух болванов, лорда Лукана и лорда Кардигана, которые погнали шестьсот кавалеристов на бессмысленный расстрел. Обратите также внимание на то, что героев всегда больше в той армии, которая отступает или терпит поражение. Поэтому меня пугает то, что в вашей Белой Армии столь много подвигов. Это верный признак, что дела вашей партии плохи. Когда я слышу про героев, мне становится грустно – это лишнее подтверждение неустроенности жизни. Когда в мире наконец победит разум и закончится дикость, героев вообще не останется. Они вымрут, как динозавры, – и черт с ними, скатертью дорога».
В этом рассуждении по части логики всё было безупречно. Антон даже растерялся. Хотел сказать: «А как же Жанна д’Арк? И герои борьбы с Наполеоновским нашествием?» Но сам себе ответил: Орлеанская Дева понадобилась Франции, потому что королевская власть не смогла самостоятельно справиться с иноземным нашествием. А что касается русских героев наполеоновской войны, то все они – из 1812 года, когда мы отступали и терпели поражения. Во время похода на Париж, когда русские научились побеждать, все герои куда-то исчезли. Стали не нужны?
Внезапно на помощь пришла Виктория, до сего момента не участвовавшая в беседе. Глядя в окно, за которым лил нудный зимний дождик, она сказала:
– Я бы не хотела жить в мире, в котором не останется героев.
Спор сразу прекратился. Очень уж странным, чуть ли не трагическим тоном была произнесена эта короткая фраза. (Лишь позднее ее двойной смысл стал Антону понятен.)
Впоследствии почти всегда говорил Рэндом, Антон предпочитал слушать. Объяснялось это не только тем, что собеседник был образованнее, красноречивее и умнее, но еще и близостью Виктории. Она всегда находилась рядом: перелистывала журнал, смотрела в сад, писала письма, раскладывала какой-нибудь мудреный пасьянс, но при этом не упускала ни одного слова – если вставляла реплику, то всегда к месту. Однако по большей части все-таки молчала. Как-то, наедине с Антоном, она призналась, что для нее одно из главных наслаждений в жизни – слушать рассуждения Лоуренса.
Ну а для Антона наслаждением (не одним из главных, а в этой его новой жизни единственным) было ощущать присутствие Виктории, время от времени посматривать в ее сторону. Он дозировал эти осторожные взгляды, чтоб не показаться назойливым: иногда считал до ста, прежде чем позволит себе снова повернуть голову. И не раз замечал, что жульничает, начинает частить: семсьвосемь, семсьдевять, восьмсь, восьмсдин…
Через две недели Антон знал о Лоуренсе Рэндоме, его жизни, его взглядах всё или почти всё. О Виктории – ничего или почти ничего. Лишь то, что ей двадцать четыре года, то есть она тремя годами старше брата и двумя – Антона. Еще что у нее был жених или, быть может, возлюбленный (уточнять и выспрашивать показалось неловко), который погиб на фронте. Это было хорошо, даже очень хорошо.
В последние дни Антон открыл для себя давнюю истину, о которой читал в романах: сильная любовь, как и сильный голод, делают человека безжалостно, хищнически эгоистичным. Раз у Виктории был жених, значит эта неземная женщина способна не только на родственную, но и на чувственную любовь.
Кроме того, невероятное везение, что сердце Виктории свободно. Из-за траура по жениху и ухода за больным братом она не имела возможности кого-нибудь полюбить. А скорбь по убитому жениху уже давняя, рана успела затянуться.
Антон оказался рядом с Викторией в самый правильный момент: она тревожится о брате, ей страшно, она нуждается в психологической поддержке. Это давало надежду.
Но только это. В самих отношениях с Викторией ничего обнадеживающего не было. И какие отношения? Мисс Рэндом была с ним открыта, мила, даже разговорчива, когда Лоуренса увозили на очередную процедуру и они ненадолго оставались наедине. Но говорила Виктория почти всегда о брате, очень редко о себе и никогда об Антоне. Какие уж тут надежды?
А время шло, день операции, двадцать третье число, приближался, и Антону казалось, что надвигается миг Страшного Суда, после которого будет либо рай, либо ад, а третьего не дано.
Если профессору удастся его дерзкая затея, Лоуренс выздоровеет. Сестра перестанет сходить с ума от страха, у нее появятся душевные силы думать о себе – а он, Антон, будет рядом. Это он делил с ней и трепет ожидания, и ужас рокового дня, и волнения реабилитационного периода. Антон уже пообещал, что после операции будет дежурить у постели днем и ночью. «Я тоже», – ответила Виктория и благодарно сжала ему руку.
Нет, неправда, что меж ними ничего нет! Они очень сблизились. Если не считать брата, у Виктории сейчас нет на свете человека ближе, чем Антон. И, кажется, она оценила его верность, надежность, сопричастность.
Просто не нужно торопиться. Ни в коем случае не допустить опасной ошибки – нельзя выдать свои чувства раньше времени. Да он ни за что и не осмелится! Будет ждать год, два, десять – хоть всю жизнь.
Если только она будет – жизнь.
Ведь девять шансов из десяти (не солгал женевский профессор) за то, что Лоуренс не перенесет комиссуротомию. После того как у великого хирурга Дуайена, первым попытавшегося сделать эту операцию, пациент умер прямо на столе, медицинское сообщество пришло к заключению, что время для кардиохирургии еще не настало.
Что будет с Викторией?
Есть женщины, которые концентрируют всё электричество своей души в любви. Это лучшие из женщин, они – источник силы для тех, кого любят. Но насколько же уязвимым и хрупким становится существование этих ангелов-хранительниц! Если тот, кого любила такая женщина, исчез, она лишается смысла бытия.
Ужасно! Девять – девять – шансов из десяти, что Лоуренс Рэндом не перенесет операции или ее последствий. И те же девять шансов из десяти, что в этом случае Виктория не переживет смерти брата. Лоуренс ее кумир, ее герой. А тогда, в первый день, она сказала, будто приговорила: «Я не хотела бы жить в мире, в котором не останется героев».
Дальше – ясно. Если не станет Виктории, то не девять, а десять шансов из десяти, что не будет и Антона Клобукова.
Вот какой сегодня был день, двадцать третье декабря.
По дороге в «Эрмитаж» – до двенадцати еще оставалось время – Антон заглянул в третью операторскую. Вся команда кроме самого профессора уже была там и вовсю готовилась.
Шницлер принципиально не контролировал своих ассистентов, никогда их не перепроверял, утверждая, что каждый должен отвечать за свою работу, и тогда всё на свете устроится само собой. Он и в «Эрмитаже» ни разу не был, а Лоуренса Рэндома осматривал всего один раз. Антон знал, что Шницлер всегда избегает ненужного общения с пациентами перед операцией – хочет видеть на столе не человека, не личность, а пресловутый «кусок говядины».
В зал великий хирург всегда входил точно в назначенный час: пациент на столе и готов к наркозу, анестезиолог на своем месте – у изголовья, старшая медсестра с одной стороны, младшая – с другой.
Все необходимые инструкции разданы накануне, нарушать тишину посторонними разговорами не разрешается – это может сбить оператору настроение.
У Шницлера существовал целый ритуал, которого он свято придерживался. Сначала он принимал душ. Затем четверть часа, в халате на голое тело, играл на пианино (в кабинете у него стоял старый облезлый «Шидмайер») и лишь после этого, в стерильно чистом тамбуре, облачался в операционный костюм красного цвета. В клинике над этой причудой посмеивались, но причина была вполне рациональна: профессор говорил, что брызги крови на белом отвлекают периферийное зрение и мешают абсолютной концентрации.
Антон поздоровался, заглянув в операторскую через щелку. Входить внутрь в нестерильном строжайше воспрещалось.
– Всё утвердил! – Леопольд помахал листком с анестезионной программой. Он выглядел совершенно счастливым, только голос был какой-то гнусавый. – Ничего не исправил, единственно – велел на случай повтора чуть-чуть подбавить процент кислорода.
И закрылся платком – чихнул.
– Простудился? – быстро спросил Антон.
– Нет-нет, я в порядке.
Анестезиолог оглянулся на сестер. Старшая, фрейляйн Нольде, возилась с машинами: кимографом, электрокардиографом, кислородным насосом – оборудование у Шницлера было самое передовое, по последнему слову медицинской техники. Младшая, итальянка, вынимала из стерилизатора инструменты.
Антон поежился: ему вдруг показалось, что это подручные палача готовят эшафот к казни.
Честно говоря, он малодушно надеялся: вдруг кто-то заболел или еще что-то стряслось, и операцию перенесли. Хотя бы на сутки. Подумать только – целые сутки жизни и надежды.
Но отсрочки приговора не будет. Всё готово к операции. Апокалипсис неизбежен. До него остается два часа.
В дверь палаты он постучал не сразу. Несколько раз глубоко вдохнул, успокаивая сердцебиение. Растянул губы в улыбке, и только тогда бодро, энергично: тук-тук-тук.
Открыла Виктория. Сегодня ее лицо, и всегда-то бледное, было словно покрыто белилами, а глаза казались двумя впадинами, в глубине которых мерцал ужас. Если бы Антон увидел ее такою впервые, вряд ли счел бы красавицей. Но смотреть на Викторию объективно и отстраненно он разучился. Все женщины, не похожие на Викторию Рэндом (то есть, собственно, все женщины), были отталкивающе безобразны: какие-то красномордые, пучеглазые окорока.
– Это вы, Антуан, – сказала мисс Рэндом (она произносила его имя на французский манер). Голос неестественно оживлен, а в расширенных зрачках – чернота отчаянья. – Вообразите, мы играем в шахматы.
Правила игры Лоуренс освоил всего два дня назад, по учебнику, и очень увлекся. У него были большие планы: изучить все этюды и не поздней чем через полгода достичь уровня вельтмейстера. Рэндом вообще очень любил помечтать о будущем. Он обязательно научится водить автомобиль, сдаст экзамены за университетский курс, только еще не решил – по философии или математике, совершит кругосветное плавание. О том, что операция может закончиться скверно, Лоуренс никогда не говорил и, кажется, даже не думал. Зная Рэндома, Антон уже понимал: подобный исход больному был просто неинтересен. Если спросить в лоб, пожмет плечами: «Ну, окочурюсь так окочурюсь, о чем тут говорить?»
Однажды подумалось: только так и имеет смысл жить на свете. Ничего не бояться и строить планы на вечность вперед, как если бы смерти вовсе не существовало.
Рэндом привстал с кресла, пожал руку своими костлявыми холодными пальцами. Сегодня он был без обычного банта. Поймав взгляд, устремленный на его голую шею (у двенадцатилетнего мальчика и то, наверное, толще), Лоуренс сделал комичную гримасу:
– Это вы еще моей груди не видели. Вики ее называет «мощи святого Лаврентия», а тут еще пришла строгая фрау и обрила всю хилую растительность, которой я так гордился.
Виктория резко отвернулась. Прячет выступившие слезы, догадался Антон.
– Извините, мальчики. – (Ему очень нравилось, когда она обращалась так к ним обоим.) – Я вижу, Антуан, вы не забыли про фотоаппарат. Нужно привести себя в порядок.
И ушла за ширму с китайскими рыбами.
В «Эрмитаже» имелись и двухкомнатные палаты, но Рэндомы предпочли эту. Виктория однажды объяснила, что ночью часто просыпается, прислушиваясь к дыханию брата: не нужно ли дать капли.
Антон тогда подумал: если бы Виктория спала с ним в одной комнате, за невесомой ширмой, он вообще не сомкнул бы глаз, лишь слушал бы, замирая, как она дышит.
– Жаль, что вы не играете, – сказал Лоуренс, кивнув на доску. – Вики совершенно безнадежна. Слышишь, Вики? – Он повысил голос. – Ты тупица!
– Кто так обзывается, тот сам так называется.
Она, видно, хотела поддержать шутку, но голос сорвался на всхлип. Рэндом слегка поморщился. Все-таки поразительно, что сегодня он держался точно так же, как в любой другой день.
Антон наклонился и шепотом сказал:
– Я восхищаюсь вашим бесстрашием.
Угол тонкогубого рта чуть искривился.
– Бесстрашным со стороны может выглядеть человек, у которого один из страхов настолько силен, что полностью подавляет все остальные, – так же тихо, чтоб не услышала сестра, ответил Лоуренс.
– Какой?
– Страх потерять самоуважение. Ладно, никто не хочет играть – складываем фигуры.
Антон молчал, обдумывая услышанное. И всё? Это и есть ключ к пониманию Лоуренса Рэндома? Всё так просто?
Вернулась Виктория. Она причесалась, слегка припудрила тени в подглазьях.
– Ну, фотограф, – весело сказал она. – Снимите на память двух скелетов. Чтобы потом, когда мы оба станем толстыми и румяными, было над чем посмеяться.
Вот теперь уже ему пришлось поспешно отвернуться, чтобы спрятать увлажнившиеся глаза. Он долго расстегивал футляр «кодака», но слезы не унимались. Пришлось прикрыть лицо камерой. Виктория ни в коем случае не должна была увидеть – она и так на грани срыва.
Снял два раза: со вспышкой и без вспышки.
– Давайте теперь я сфотографирую вас двоих, – предложил Рэндом.
Виктория поспешно сказала:
– Не нужно. – («Почему? Не хочет быть со мной вдвоем даже на фотоснимке?») – Лучше расскажи, куда мы с тобой поедем в самое первое путешествие. Ты решил, что это будет: Италия или все-таки Америка?
Лоуренс с удовольствием переключился на новую тему:
– И то, и другое. Я придумал отличный маршрут. Дай-ка карту, она у меня на столике, около кровати. Не разрешает вставать с кресла, – пожаловался он Антону. – Мне велено сегодня поменьше двигаться, и Вики бесится, если я хотя бы потянусь взять стакан воды. Пить, кстати говоря, мне сегодня тоже нельзя.
Он стал увлеченно показывать по карте, как они поедут от Венеции до Неаполя, а там сядут на океанский пароход и уплывут в Новый Свет.
Виктория держалась героически. Участвовала в разговоре, даже смеялась. Один Антон сидел молча, покашливал – проталкивал и не мог протолкнуть застрявший в горле ком.
Без четверти час пришли санитары с каталкой.
– Ну, не прощаемся, – хрипло сказала Виктория, поднимаясь. – Выйду покурю. Очнешься – первый, кого увидишь, буду я.
Очень быстро, почти бегом, вышла за стеклянные двери, спустилась по ступеням в сад. Ни разу не оглянулась.
Рэндом смотрел ей вслед, сосредоточенно прищурившись. Потом зажмурился и несколько секунд оставался с закрытыми глазами.
Хочет сохранить в памяти образ: фигура уходящей девушки на светлом фоне, догадался Антон.
– Я провожу вас до операционной, – сказал он вслух, когда санитары помогли больному улечься.
Рэндом легким движением коснулся его рукава.
– Не нужно. Лучше будьте с ней. Всё время. Не отходите от нее. – Он подмигнул. – И не смотрите на меня так, старина. Операция пройдет успешно, я это чувствую.
Едва за каталкой закрылась дверь, Антон бросился в ванную. Промыл распухшие глаза, высморкался, главное – постарался придать лицу выражение уверенности и оптимизма. Лишь после этого пошел за Викторией.
Она стояла под каштаном. Возникла совершенно неуместная в такой момент мысль. Вот картина невероятного изящества: блеклый декабрьский сад и женщина, зябко обхватившая плечи тонкими руками, меж пальцев зеленеет нефрит, вверх тянется струйка голубоватого дыма.
Хорошо, что не забыл взять накидку – ведь простудится. Виктория такая хрупкая, беззащитная, не приспособленная к жизни.
Мелькнула еще одна мысль, теперь уже не просто неуместная, а гадкая – задняя. И обожгла: «Теперь у нее остался только я. Лоуренс вряд ли вернется. Никто больше между нами не стоит. Нас на свете двое!»
Задней мысли Антон очень испугался. Немедленно ее прогнал. Будто увидел, как по груди ползет отвратительный паук, скинул наземь и растоптал. Даже непроизвольно топнул ногой, по-настоящему.
Виктория обернулась на звук с вымученной улыбкой на мокром лице. Увидела, что это Антон, – и улыбка сразу исчезла. Это было отрадно. Это означало: «При вас можно не притворяться». И потеплело внутри, здорово потеплело. Пришлось даже прикрикнуть на разнежившееся сердце: «Смотри! Сейчас для этого не время! Всё погубишь!».
– Увезли? – спросила Виктория срывающимся голосом.
Он кивнул.
Вдруг она будто переломилась пополам. Безо всякой грациозности, неуклюже и тяжело села на блеклую зимнюю траву. Вероятно, именно это имеют в виду, когда пишут: подломились ноги.
Женщина закрыла ладонями лицо и безнадежно, некрасиво, с собачьим подвыванием зарыдала.
Антон бросился к ней, опустился рядом на колени. Залепетал, что всё будет хорошо, что профессор Шницлер – гений, и дело даже не в том, что гений, а в том, что он очень честолюбивый человек и не взялся бы оперировать, если б не имел хороших шансов, потому что у Шницлера репутация и много завистников, он всё время говорит, что ему нельзя радовать завистников и он скорее сам сдохнет, чем даст умереть своему больному, так что тревожиться не из-за чего, ведь у Шницлера такая анестезия и такие требования к стерильности, что любые случайности исключены…
Думал, что она ничего не слышит, рассчитывал лишь на успокаивающий тембр своего голоса, но Виктория вдруг подняла голову. Пудра слиплась комками, на щеках образовались потеки, текло из носу, с губы свисала нитка слюны. Ничего таинственного, ничего красивого. Просто измученная долгим страданием, потерявшая самообладание женщина, которой страшно и скверно.
У Антона будто остановилось сердце. Господи, такой она была ему еще дороже! «Потому что земная, тебе под стать», – шепнула задняя мысль – и была с презрением перечеркнута.
– Вы правда так думаете? – всхлипнула Виктория, вытираясь платком. – А как же доктор Лебрен из Женевы? Он же сказал: десять против одного?
– Ваш доктор преувеличил степень риска. Наверное, не хотел отдавать другому врачу выгодного пациента. Поверьте, Вики… – Первый раз ее так назвал, и ничего – оказалось, можно. – Поверьте, Вики, Куно Шницлер ни за что не стал бы оперировать при десятипроцентном шансе на успех, – заявил Антон со всей уверенностью, какую только мог изобразить.
На самом деле стал бы, еще как стал бы. Чем выше степень риска, тем больше славы и тем меньше критики за неудачу.
Но Виктория поверила. И сказала нечто такое, от чего в хмуром саду словно сделалось светлее:
– Антуан, прошу вас, не оставляйте меня одну. Будьте рядом. Я должна за кого-то держаться, иначе…
Приподнялась, обняла его, прижалась к груди и снова заплакала, но уже без раздирающего сердце воя.
Очень осторожно, медленно Антон положил руку на ее плечо. Оно оказалось неожиданно мягким. Шелковистые волосы щекотали ему подбородок, от них пахло лавандой и чем-то нежным, немного пряным.
Невероятно!
Она сама попросила не оставлять ее! Они обнимают друг друга!
Сколько раз он пытался представить, как это будет, но буксовало воображение.
Виктория подняла заплаканное лицо:
– У вас сердцебиение. Вы тоже волнуетесь. Господи, я замочила вам слезами рубашку.
И внезапно Антон понял: сейчас! Нужно сказать ей всё именно сейчас! Это не будет бестактностью или коварством. Он не воспользуется моментом, когда она открыта, слаба и беззащитна. Здесь иная, более могучая логика.
Когда ведет наступление Беда, когда угрожает Смерть, силы Жизни и Любви должны смыкаться. (Именно таким возвышенным слогом и подумалось.) Виктория боится потерять единственного человека, которого любит и который любит ее. Так пусть же знает, что есть еще кто-то, любящий ее не меньше Лоуренса.
Должно быть, у Антона напряглись мышцы. Или, может быть, по телу прошла дрожь. Во всяком случае Виктория что-то почувствовала.
Немного отодвинувшись, она смотрела на него пристально, словно только что разглядела по-настоящему.
– Я вижу теперь, что вы ходили сюда не только из-за подготовки к операции, – сказала она. – Ну конечно! Иначе у вас так не билось бы сердце. Какой вы… милый. Как мне повезло, что вы сегодня со мной. Я… я хочу вам сказать что-то очень важное. Пойдемте в комнату, здесь холодно. Пойдемте.
Взяла его под руку, сама!
Они поднялись и пошли к стеклянным дверям. Медленно, потому что теперь и у Антона подкашивались ноги.
Это сон. Чудесный сон!
Виктория отвела его в свой закуток, словно хотела заслониться шелковой ширмой от всего и всех.
– Садитесь на стул, я сяду на кровать. Ничего, если я сниму туфли? Ноги заледенели.
Села по-турецки (какая она, оказывается, гибкая!), стала растирать узкие ступни.
«Сейчас, – сказал себе Антон. – Нужно просто обнять за плечо и шепнуть на ухо: „Я тебя люблю. Я с тобой“. Как хорошо, что мы говорим по-немецки, а не по-английски. Ich liebe dich звучит гораздо нежнее, чем I love you – не поймешь, „тебя“ или „вас“».
Он так и сделал. Поднялся, сел рядом, обнял ее – и Виктория благодарно прислонилась головой к его плечу. Сказать он ничего не успел, она заговорила первой – на «ты».
– Знаешь, Антуан, я люблю его, я ужасно люблю его. Я раньше и не подозревала, что можно так любить. Когда-то думала, что люблю Реджи, я рассказывала, это мой жених, которого убили на Марне. Только то была никакая не любовь. Это я уже потом себе напридумывала и полюбила посмертно. Чтоб в собственных глазах выглядеть интересней. Реджи был славный, его ужасно жалко. Но, знаешь, я его почти не помню. С тех пор, как полюбила Лоуренса, я про Реджи почти не вспоминаю. Так, мелькнет кто-то в белом костюме, с золотой прядью, и ракетка подмышкой…
– С тех пор, как полюбила Лоуренса? – переспросил Антон.
– Про это я и хочу тебе рассказать. Тебе – можно. Мы тут в клинике всех обманываем. Мы с Лоуренсом не брат и сестра. Мы любим друг друга.
У Антона в ушах возник странный звук. Будто загудели рельсы, откликаясь на приближение поезда.
– Значит, твоя фамилия не Рэндом? – только и нашелся он спросить. – Нет, это невозможно! Ты подписывала договор с госпиталем как родственница пациента, и документ нотариально заверен!
– Родственница. И фамилия моя Рэндом. Но я не родная сестра, а двоюродная. Рэндомы – довольно разветвленное семейство. У меня кузенов и кузин не меньше дюжины. Лоуренса я не видела с довоенного времени. Знала, что он заболел, что его увезли в Швейцарию. Никогда им особенно не интересовалась, ведь в детстве мальчик на три года младше не представляет никакого интереса. Мне было семнадцать, взрослая барышня, а он кто? Щенок! – Она улыбнулась, и у Антона в ответ рефлекторно тоже растянулись углы рта. Гуд в ушах становился громче – поезд приближался, но сойти с рельсов было невозможно. – Когда закончилась война и стало можно ездить в Европу, я отправилась в путешествие. В Женеве навестила больного кузена – и мы полюбили друг друга. Я не думала тогда, чем это может кончиться. Если б я только знала, если б могла предположить, я бы сразу уехала. Но всё произошло так внезапно. Знаешь, ты пересекаешь какую-то невидимую границу – и вдруг словно рассеялся туман. Смотришь на знакомого человека, которого много раз уже видел, и понимаешь: это он, он, другого никогда не будет, и без него ничего не будет! Вот это со мной и произошло. С нами произошло. Я погубила его!
Она оттолкнула Антона, упала лицом в подушку и зарыдала. Узкие плечи тряслись, дрожали острые лопатки. Но прикоснуться к ней, чтобы погладить, утешить, Антон уже не смел.
Господи-боже, разве можно быть таким слепцом? Эти взгляды, улыбки, это электричество, от которого дрожал воздух, – разве бывает такой родственная любовь? И совершенно ясно, почему Рэндомы выдали себя за брата и сестру. Кузена с кузиной клиника не поселила бы в одной палате. Но… но разве Лоуренс в его состоянии способен любить?
– Почему вы говорите, что погубили его? – спросил он почти враждебно.
– Потому что прежде Лоуренс жил спокойно. Он относился к своему состоянию философски и умел ценить те радости, что были в его распоряжении: читал, размышлял, любовался природой. Он мог бы так прожить еще десять, двадцать, тридцать лет. Некоторые достигают старости даже с очень тяжелой формой стеноза! Но мы полюбили друг друга, и Лоуренс захотел, чтобы я стала его женой. – Виктория снова села. Посмотрела на застывшее лицо собеседника и, должно быть, решила, что он не понял. – Женой или любовницей – неважно, ты же понимаешь, что я имею в виду. Он сказал мне сразу, в тот же день, когда мы всё поняли… Помню слово в слово: «Такой я тебе не нужен. Я ни на что не годен. Если мы, как пишут в романах, упадем друг другу в объятья, мой дефективный мотор сразу заглохнет, и ты окажешься в постели с хладным трупом». Ты знаешь эту его манеру даже о самых ужасных вещах говорить иронически. Сразу после этого Лоуренс показал мне статью из цюрихского медицинского журнала, где обосновывалась возможность операции на митральном клапане. Вырезка лежала у него уже давно. Потом я узнала, что Лоуренс даже собрал дополнительные сведения об авторе, Куно Шницлере, и о его методике. Как следует всё обдумал и пришел к выводу, что время подобных операций еще не настало. Понимаешь, Антуан? Если бы не я, он бы жил так и дальше. Пускай в коляске, пускай инвалидом, но жил бы!
Она содрогнулась.
– Господи, как же я испугалась! Я умоляла, говорила, что мне ничего такого не нужно, что мы выше обычных отношений, что один его взгляд, звук его голоса мне дороже любых чувственных экстазов. А он сказал: «Любовь и благоразумная осторожность понятия несовместимые. Мы будем любить друг друга душой и телом. Инвалид и верная сиделка – это не для нас». Ты его уже достаточно знаешь, Антуан. Когда Лоуренс что-то решил… Он говорил: «За последние годы на наших глазах погибло столько молодых, полных сил мужчин, что с моей стороны было бы чудовищной вульгарностью цепляться за жизнь, которой во мне так мало, она едва сочится через мой скупердяйский клапан». И в конце концов мне пришлось смириться. Иначе он отправился бы к профессору Шницлеру один…
Немного помолчав, Виктория сказала еще:
– Теперь ты сам видишь: это целиком моя вина. И если… Если он умрет, я последую за ним. Это совершенно очевидно. Без него я жить не смогу.
За время этого мучительного рассказа – сколько он продолжался: пять минут? десять? – Антон будто прожил целую жизнь, беспросветную, состоящую из одних несчастий и падений. Негодование сменилось отчаянием, отчаяние – горем, горе – печалью, печаль – тоской. Каждая следующая эмоция была градусом ниже и тусклее предыдущей.
Сейчас он чувствовал себя дряхлым, разбитым жизнью стариком, не способным ни на какие сильные чувства. Разве что на жалость.
– Не делайте этого, – сказал он. – Пожалуйста. Убивать себя нельзя, что бы ни случилось. Самоубийца оставляет после себя зияющую рану, черную дыру в мире… Я не знаю, не могу вам объяснить… Я лучше расскажу вам, как покончила с собой моя мать.
Он впервые говорил с кем-то про это.
– Мой отец был тоже тяжело болен, обречен. У него не было и одного шанса из десяти… Никакой надежды, впереди только мучительная агония, поэтому его осуждать невозможно. Но моя мать… Теперь всю жизнь я буду знать, что меня она любила меньше, чем отца… И у меня осталось – ужасно говорить, но это правда – послевкусие предательства. – Он поправился. – Не во мне дело! У меня такое ощущение, иррациональное, что из-за самоубийства матери распалось всё остальное: нормальность бытия, страна, порядок вещей… Потому что когда такие люди, как моя мать – или как вы, Виктория, – перечеркивают свою жизнь, в мире что-то нарушается, ломается, вянет. Черт, я не умею объяснить!
Он очень разозлился на свое косноязычие, на недостаточное знание языка. Еще никогда и никому он не говорил ничего до такой степени важного, а она слушала – и не понимала, это было видно! Вот Лоуренс наверняка нашел бы нужные слова.
Поэтому всё так, как должно было быть. Эта необыкновенная девушка ни при каких обстоятельствах не могла ответить взаимностью обыкновенному мужчине. Ей пара человек масштаба Лоуренса Рэндома – или никто.
Так и есть – не поняла.
– Пожалуйста, Антуан, говори мне «ты». Я не хочу, чтоб между нами была дистанция, не сегодня! – Виктория ласково погладила его по руке. – Спасибо, что рассказал о своей семейной трагедии. Но ты зря тревожишься. Я не имела в виду самоубийство. Убить себя – это слишком мелодраматично. И потом, у меня не хватит на это смелости. Всё будет гораздо скучнее. Если Лоуренс… умрет, – с усилием, но твердо выговорила она и повторила страшное слово еще раз. – Если он умрет, я этого не переживу. В буквальном смысле слова: не выживу. Как говорят врачи, это будет травма, не совместимая с жизнью.
Она слабо улыбнулась, и это его испугало еще сильней.
– Не говори так! – Он сжал ее запястье. Оно было ледяным. – Потеря любимого человека – это рана, тяжелая рана. Но раны со временем заживают. Иначе кладбища всего мира были бы заполнены двойными могилами!
– Раны бывают разными, – возразила она.
– Это правда. Если человек значил для тебя много, в душе остается большой шрам. Если очень много – живешь потом инвалидом, словно тебе ампутировали руку или ногу. Ковыляешь на деревяшке или обходишься протезом, но все равно как-то приспосабливаешься, живешь.
– А если Лоуренс для меня не рука и не нога, а сердце? – спросила Виктория. – Разве кто-нибудь выживал с ампутированным сердцем?
Шелковая ширма качнулась и отъехала.
За ней стоял Шницлер, в красном халате похожий на Мефистофеля. По-сатанински сверкал и яростный взгляд профессора. Антон и Виктория не слышали, как он вошел, потому что хирург был обут в мягкие операционные бахилы.
– Никто никому не собирается ампутировать сердце, сударыня! – рявкнул Шницлер, должно быть, услышавший последнюю реплику. – Что за глупости! А вы, Клобукофф, извольте идти со мной! Это черт знает что такое!
Виктория вскочила с кровати:
– Что случилось? Боже, Лоуренс!
– С ним всё в порядке. Блаженствует под морфием. – Профессор не говорил, а рычал. – Операция перенесена на полчаса.
– Почему?
Он не ответил. Задел плечом ширму, взъярился еще пуще и пнул ее ногой – китайские рыбы полетели на пол.
– Что вы застыли, Клобукофф?! Я сказал: марш за мной!
В такой ярости Антон видел профессора лишь однажды – когда директор клиники отказался потратить десять тысяч франков (действительно неслыханную сумму) на американский операционный стол новейшей конструкции.
Хотя, пожалуй, нет – тогда Шницлер всё же дал волю гневу лишь наедине с учениками. «Первый хирург современности вынужден кромсать пациентов на допотопном, паршивом „циммерманне“! – кричал он. – Подумаешь – десять тысяч! Что такое десять тысяч?!» Леопольд имел глупость ответить: «Половина квартального бюджета всей клиники на закупку оборудования» – и в беднягу полетел увесистый медицинский справочник.
Но сейчас Шницлер не кричал, а шипел. Его налитое кровью лицо по цвету соперничало с халатом.
Профессор задыхался, бормотал бессвязное, и Антон не сразу понял, что, собственно, стряслось. Перенос операции на полчаса – для Шницлера это было нечто небывалое.
– Идиот! Хуже, чем идиот, – предатель! Вот именно: предатель! Я со всех сторон окружен врагами, они только и ждут… Нож в спину! – кудахтал Шницлер, когда они шли по коридору в сторону операционного зала.
Антон оставался в полном недоумении.
Навстречу распахнулась дверь, выбежал Леопольд. По его лицу текли неправдоподобно крупные, прямо кинематографические слезы.
Он умоляюще сложил руки:
– Сжальтесь, профессор! Я не мог пропустить такую операцию! И потом, на мне ведь марлевая повязка!
– Во-он! – завопил Шницлер. – Вы не только идиот и предатель! Вы еще и невежда! Вы не читали мою статью о том, что при выраженных симптомах гриппа марлевые повязки во время операции не дают гарантии стерильности! Я не желаю вас больше видеть! Никогда! Из-за своего кретинского эгоизма вы хотели подвергнуть риску мою репутацию и честь науки!
Только теперь Антон начал догадываться, в чем дело. Должно быть, войдя в операторскую, профессор усмотрел своим зорким взглядом, что Леопольд хлюпает носом и гнусавит. Ну а что у Шницлера паранойя по поводу стерильности – всем известно.
– Простите меня, простите… – лепетал несчастный Леопольд. – …Я надену двойную, тройную повязку! Хотите, я возьму в химико-токсикологическом отделении противогаз!
– И огнемет в придачу! – загремел хирург. – Нет, господин Кальб, с вами покончено. Прощайте навсегда!
– Но как же операция! Кто займется анестезией?!
Профессор оттолкнул ассистента и прошел мимо.
Антон на ходу сочувственно сжал Леопольду локоть.
Бедняга! Шницлер не из тех, кто кипятится, а потом отходит. Если сказал «прощайте навсегда» – значит, навсегда. А кому нужен недоучившийся медик, который не знает ничего кроме анестезии?
– Что вы застряли, Клобукофф! – обернувшись, рявкнул профессор. – Время не ждет! Пока я буду снова настраиваться на операцию, заново переодеваться и прочее, еще раз просмотрите программу анестезирования. У вас есть полчаса, я велел вколоть пациенту дополнительно четверть дозы релаксанта.
Антон так и обмер.
– Что?!
– Что слышали! Вы – лучший в моей группе и знаете уже не меньше, чем этот болван. Не стойте, шевелитесь! И не нервируйте меня упрямством! Я и так совершенно выбит из колеи! Не знаю, вернет ли меня в рабочее состояние даже prestissimo!
Казалось, после разговора с Викторией ничто уже не способно потрясти Антона. Притупились мысли и чувства, по-стариковски согнулись плечи.
Но объявление Шницлера подействовало, как нашатырь на человека в полуобморочном состоянии. Ошарашенный, потерявший дар речи, Антон хватал воздух ртом.
«Вы с ума сошли, профессор! Я – никто, я даже не студент! Это просто незаконно! Это противоречит всем существующим правилам!» – вот что крикнул бы он Шницлеру, задержись тот в коридоре хоть на секунду. Но мефистофельский халат скрылся за углом, оглушительно хлопнула дверь, скрежетнул ключ. Профессор заперся у себя.
Что ему правила? Разве Шницлер их когда-либо придерживался?
И вообще – он прав, что отстранил анестезиолога от операции. Вдруг у Леопольда действительно грипп, испанка? Пациент и так очень слаб.
Что не стал переносить операцию на другой день – тоже прав. Подготовительный укол морфия уже сделан. Для организма больного это потрясение, и оно может быть оправдано лишь, если предваряет последующий наркоз. И наконец, жалко Викторию. Что ей, терпеть муку нового ожидания?
О себе же думать нечего. Мало ли что ты боишься ответственности. А самоуважение потерять не боишься?
Насчет того, что протокол анестезии ты знаешь не хуже Леопольда, Шницлер опять-таки прав. Нечего и зубрить, сто раз прочитано, изучено, перепроверено. Ты не раз видел, как это делается. А если что – профессор подскажет.
Но сколько Антон себя ни успокаивал, надевая светло-зеленый халат и протирая руки дезинфектантом в предоперационном отсеке, а поверить все-таки не мог.
«Я буду участвовать в операции Лоуренса? Нет, это совершенно невозможно! А вдруг от нервов что-то перепутаю или замешкаюсь? Ведь тогда вся вина ляжет на меня!»
Яростно полируя очки, чтоб на стеклах не осталось ни пылинки, повязывая шлем, обязательный для всех, кто не обрит наголо, заклеивая брови, Антон отчаянно паниковал.
Из-за стены глухо рычало пианино – профессор в яростном темпе играл Первую сонату Бетховена.
Забыть обо всем постороннем. Сосредоточиться на деле. Нет никакого Лоуренса Рэндома. На столе не он, а говяжья туша на мясном прилавке. Виктории же вообще не существует. И сам Антон – не еж, ощетинившийся нервами, а бесчувственная, не ошибающаяся машина, ходячий наркоаппарат Рот-Дрегера.
Он всё же просмотрел план анестезии еще раз. Последовательность действий, все дозировки и пропорции были аккуратно, по графам, расписаны злосчастным Леопольдом – и внизу стояла завитушистая подпись Шницлера.
Из операторской выглянула фрейляйн Нольде, старшая сестра. Она работала с профессором уже лет пятнадцать. Вряд ли у какого-нибудь хирурга когда-либо была столь преданная помощница. Какая женщина согласилась бы ради стерильности выщипать ресницы и выбрить брови? Неудивительно, что операционная сестра так и осталась «фрейляйн».
– Вы готовы, доктор? Прошу проверить аппаратуру, – сказала она.
Даже сквозь повязку было видно ободряющую улыбку. И «доктором» его, конечно, она назвала с той же целью – ободрить.
– Да-да, иду.
Операционный зал номер три, закрепленный за Шницлером, считался лучшим в клинике. Стены слепили белизной, аппаратура содержалась в идеальном порядке и сверкала, как столовое серебро у хорошей хозяйки, да и стол с переменным углом наклона был совсем неплох – зря профессор ругался.
Антон проверил калибровку на наркозной машине. Всё было точно: 81 % закиси азота, 17 % кислорода, 2 % эфира. Бедный добросовестный Леопольд приготовил целых три ингаляционных маски, не забыл и про запасную трубку. Отдельно лежали два заправленных шприца: один на случай шока, другой – на случай коллапса. Если, не дай боже, понадобятся, колоть будет кто-то из сестер: фрейляйн Нольде или фрейляйн Нитти. У них рука не дрогнет.
Младшая, итальянка, склонилась над пациентом, который уже лежал на столе, и что-то ворковала нежным голосом с мягким, приятным акцентом. Подходить к ним сейчас было нельзя, это могло вывести Лоуренса из полузабытья, в которое погрузил его релаксирующий укол.
Итальянка была тоже в шлеме наподобие летчицкого и с залепленными бровями. Кстати сказать, Антон ни разу не слышал, чтобы профессор уговаривал хорошенькую фрейляйн Нитти «удалить волосяной покров». Может быть, Шницлеру всё же не чуждо что-то человеческое?
Мысль была неуместно легкомысленная, но Антон ей даже обрадовался – сам чувствовал, что излишне напряжен, хоть чуть-чуть бы расслабиться.
– Герр доктор… – Младшая медсестра тоже обратилась к нему с небывалой почтительностью. Интересно, это они с фрейляйн Нольде между собой договорились его так называть или Шницлер велел? – Можете приступать. Герр Рэндом готов.
«Уже?! А профессор?!» – едва не вскрикнул Антон, охваченный паникой.
Но пианино уже умолкло. Это значило, что Шницлер переодевается. Он любит приступать к операции сразу, «на волне вдохновения».
На лицо Лоуренса лучше было не смотреть. Но краем глаза Антон увидел, что пациент рассеянно, мечтательно улыбается.
– Антуан… – пролепетал полусонный Лоуренс. – А где Вики? Вики, я тебя не вижу…
Да, фрейляйн Нитти права. Самое время.
– Всё будет хорошо, спите, – сказал Антон.
Надел на Рэндома маску, повернул краник, сосредоточенно следя за шкалой.
Сестры сами знали, что делать: крепко взяли пациента с двух сторон – «веселящий газ» мог вызвать конвульсии. Это еще ничего, главное, чтоб не начался кашель или, того хуже, рвота. «Плавнее, медленнее», – шептал Антон, прибавляя газа.
При помощи ларингоскопа ввел трубку в трахею. Манипуляция прошла идеально – как на муляже.
Раз, два, три, четыре…
– Кажется, всё нормально? – неуверенно сказал Антон, приподняв пациенту веко.
Старшая медсестра подтвердила:
– Всё отлично, герр доктор.
Шницлер будто подслушивал под дверью – она стремительно распахнулась, и профессор вошел быстрым беззвучным шагом. Его развевающийся халат был похож на пурпурную тогу. Лысые брови сдвинуты, глаза над маской слегка затуманены, будто у сомнамбулы.
– Дыхание автономное, ритмичное, – доложил Антон. – Тонус зрачков и мышц в норме.
– Датчики подключены, – подхватила фрейляйн Нольде. Она отвечала за работу следящей аппаратуры – электрокардиографа и кимографа. – Давление в норме. Пульс сто восемьдесят, но постепенно падает. Дыхание тридцать.
Младшая сестра, в обязанности которой входила подготовка инструментов, не сказала ничего – это было лишнее.
– Сто восемьдесят и тридцать? – хмыкнул Шницлер. – Подождем. Установите пока угол. И приготовьте материал.
Он не объяснил, как именно поднять и повернуть операционный стол – сестры и так знали. Противным словом «материал» профессор называл во время операции пациентов. Ну всё-таки не «кусок говядины».
Лоуренса перевернули на правый бок, левую руку подняли, пристегнули к дуге.
– Операционное поле…
Старшая сестра смазала костлявый бок йодом. Младшая прикрыла периферию полотенцами.
– Пульс девяносто, дыхание двадцать, – сказал Антон, которому сейчас полагалось следить за приборами.
Шницлер кивнул:
– Начинаем.
У него была привычка – во время операции проговаривать вслух всё, что он делает. Нечто вроде магического заклинания. Ассистентам же разрешалось открывать рот лишь в случае крайней необходимости.
– Начали. Оп-ля.
Он ловко сделал надрез скальпелем вдоль межреберья. Фрейляйн Нольде быстро ухватывала кровоточащие сосуды зажимами, перевязывала, отрезала концы ниток.
Антон поймал себя на том, что даже не морщится от вида крови – так завораживала эта слаженная, почти механическая работа.
Инструменты хирургу подавала фрейляйн Нитти, по-кошачьи быстрая и точная в движениях. Приняла окровавленный скальпель, сунула прямо в пальцы Шницлеру нечто, по виду похожее на разводной ключ. Как он называется? Ах да, реберный расширитель.
Шницлер решил не перепиливать ребра, чтобы облегчить процесс послеоперационной реабилитации. Он просто их раздвинет, хоть это и сильно усложнит его задачу.
– Держалки на перикард!
Медсестра подала пинцет и иглодержатель с шелковой нитью. Через десять секунд уже были готовы два специальных шва – «держалки».
– Еще разре-език… – промурлыкал профессор, разрезая ножницами перикард между швами.
Если он начал говорить нараспев, значит, доволен ходом операции. Антон шумно вздохнул, лишь сейчас заметив, что до сего момента еле дышал.
– А вот и левое предсе-ердие… Ого, ну и размерчик!
Антон покосился на операционное поле. Оно почти целиком было занято огромным малиновым предсердием, а желудочка видно не было – он там, в глубине, маленький, темно-синий, придавленный гигантским предсердием: типичная для митрального стеноза картина.
Сердце судорожно сокращалось – и Антон поскорей отвернулся. В конце концов, его дело сейчас – следить за показаниями приборов.
Ох! Нельзя было отвлекаться!
– Пульс учащается, профессор!
– Умеренный коллапс правого легкого, – спокойно ответил Шницлер. – Это нормально, коллега. Что нужно сделать?
Нашел время экзаменовать!
– Провентилировать! – вспомнил Антон и увеличил подачу газа.
Шницлер застыл, не сводя глаз со шкалы аппарата.
– Клара! – приказал профессор.
Фрейляйн Нитти быстро подошла к Антону, и он с облегчением посторонился. Шницлер прав – у итальянки больше опыта и чувствительней пальцы. Сейчас требовалась абсолютная точность и плавность.
– Ждем пять минут, потом приступаем.
Пока пульс приходил в норму, профессору промокнули мокрый лоб.
Антон смотрел на круглые настенные часы и думал: сейчас начнется самое опасное.
Во-первых, может произойти остановка сердца из-за шока. В этом случае Лоуренса еще, возможно, удастся спасти. Но если там тромб, и он оторвется…
Или же хирург, действующий вслепую, наощупь, слишком сильно расширит отверстие, и возникнет регургитация, обратный ток крови…
– Продолжаю. – Шницлер сунул палец в рану. – Нащупал границу предсердия и желудочка… Ощущаю отчетливое диастолическое дрожание… Шить кисет!
Фрейляйн Нольде быстро и мелко задвигала руками – клала на ушко предсердия круговой шов в виде кисета.
– Хорошо. Зажим на ушко! Теперь пинцет. Ножницы…
Профессор дернул ухом в сторону Антона – и тот спохватился. Сейчас место анестезиолога по правую руку от хирурга, у изголовья. Фрейляйн Нитти осталась у кислородной машины.
– Отсекаю выше зажима… Мыть палец!
Самую ответственную часть операции Шницлер собирался провести голым пальцем.
Медсестра стянула с его правой руки перчатку и подала металлический стакан, наполненный спиртом. Профессор поболтал указательным пальцем в стакане, потом на мгновение разжал зажим и быстро скользнул пальцем внутрь сердца.
Медсестра сразу же аккуратно затянула «кисет» – у высококлассного хирурга пациент не должен потерять ни единой лишней капли крови. Теперь палец хирурга, обтянутый кисетом, плотно закрывал отверстие в предсердии. И полностью находился внутри сердца.
– Провожу пальцевую ревизию… Отлично выраженный стеноз, без ревматических бляшек, и тромба вроде нет, – с удовольствием объявил Шницлер. – Внимание. Делаю!
Этот сигнал адресовался Антону. Сейчас палец перекроет кровоток. Анестезиолог должен быть начеку.
Фрейляйн Нольде, глядя на секундомер, начала считать:
– Один… Два… Три… Четыре…
– Передняя комиссура пошла… хорошо… – приговаривал доктор, будто сам себя убеждая. – Это очень простая, совсем простая процедура… Так, так… Есть… Заднюю не успеваю…
Антон и остальные неотрывно следили за кимографом.
– …Двадцать, – сказала сестра, и хирург немедленно вынул палец.
После двадцати секунд, согласно плану операции, сердцу нужно было дать поработать, пока не восстановятся давление и пульс.
Младшая медсестра выжидательно смотрела на Антона. Он спохватился: кислород!
Через пять минут Шницлер продолжил. Следующие двадцать секунд он убирал спайки уже задней комиссуры. Потом опять – кислород и перерыв.
– Запущенный случай, – сказал он, пока фрейляйн Нольде любовно обтирала ему лоб и глаза. – Задняя комиссура ригидна, плоховато поддается. Понадобится третий заход…
И всё повторилось еще раз.
Но вот профессор закатил глаза к потолку, будто к чему-то прислушиваясь.
– Пожалуй, можно закругляться. Чисто. Пациент молодец, и мы молодцы. Сейчас будем зашивать.
Два чувства испытал Антон в эту секунду. Первое было на поверхности, лучезарное и сильное: неимоверное облегчение. Но где-то позади паучьей тенью маячило и другое.
И стоило ему вытащить на свет, расшифровать этот иероглиф (он означал: «Теперь уж надеяться не на что…»), как стрелки приборов разом закачались, поползли справа налево.
– Черт! Черт! – вскричал Шницлер. – Давление упало! Мне не добраться до желудочка!
При кардиогенном шоке во время операции хирург – Антон помнил по лекции – может прокачать сердце рукой, но только не при боковом доступе – рука просто не дотянется до желудочка.
Здесь спасет только укол.
Теорию он помнил очень хорошо. Да и в предоперационной инструкции этот случай был предусмотрен. Но стоял – и не мог пошевелиться.
– Инъекцию, живо! – крикнул профессор.
Антон посмотрел на медсестер. Уколы – это по их части.
Но фрейляйн Нольде держала зажимы, а фрейляйн Нитти подавала кислород.
Свободной рукой Шницлер щелкнул Антона по носу.
– Коллега, очнитесь!
Я?!
Ну а кто же еще?
Вот и шприцы лежат: камфора с кофеином на случай коллапса и морфий на случай кардиогенного шока.
Антон бросился к столику. Черный иероглиф закачался перед глазами. Теперь он означал: «Перепутай шприцы. Никто тебя не обвинит – ты никакой не анестезиолог и не должен быть на операции. Перепутай – и она будет твоей». Он лишь головой качнул: ну, душа, ну потемки! Схватив шприц с морфием, кинулся обратно, под правую руку хирурга.
– Колите! Просто в мышцу, это же просто! – Шницлер кивнул на руку пациента, пристегнутую к дуге.
Антон выдохнул, ввел иглу, плавно нажал на поршень.
– Что там? Не вижу! – крикнул профессор итальянке.
– Давление пятьдесят! – ответила она через несколько мгновений. – Поднимается!
Всё, что происходило потом, Антон наблюдал словно через аквариум с водой: замедленные движения, покачивание цветных пятен – красного (Шницлер) и двух розовых (медсестрам полагались халаты розового цвета). Работа анестезиолога закончилась, навалилась опустошающая расслабленность. «Всё, больше от меня ничего не зависит, – лениво думал Антон. – Как выйдет, так и выйдет».
– Шов на ушко… Шить перикард… Шить мышцы… Шить кожу… – доносились команды профессора. Он тоже ничего не делал, лишь смотрел, как работает иглой фрейляйн Нольде – по части швов она была виртуозом. Звякнул в тазу ненужный уже реберный расширитель – верный признак скорого окончания операции.
Очнулся Антон, только когда Шницлер хлопнул его по плечу.
– Поздравляю с первой операцией, коллега. И с какой! Не знаю, перенесет ли пациент восстановление, но результат виден уже сейчас. Глядите: конечности теплые и порозовели. Цианоз исчез. Нормальное кровообращение восстановлено.
Антон механически потрогал руку Лоуренса. Она, всегда ледяная, действительно, была теплой.
– Герр профессор, – торжественно произнесла фрейляйн Нольде, – вы лучший хирург современности!
Вторая медсестра не осмелилась говорить комплименты, но протирала Шницлеру голый череп с такой нежностью, что Антон подумал: а ведь итальянка, пожалуй, влюблена. Они обе влюблены в Шницлера. Как много вокруг любви…
– Радоваться преждевременно. – Профессор сделал строгое лицо. – Давайте посмотрим, как он будет выходить из наркоза и переживет ли ночь. И не забывайте про возможность инфекции. Всё возможно и даже весьма возможно. Но если раньше у нас был один шанс из десяти, то теперь – один из двух. Если, конечно, никто здесь не допустит ошибки…
И выведением из наркоза, и ночным дежурством будут заниматься медсестры, в специальном реанимационном блоке, которым Шницлер очень гордился.
– …Не отлучаться от пациента ни на шаг, – инструктировал он помощниц. – Я часок посплю и присоединюсь к вам. Но если что – немедленно будите.
Физиономия у него была сонная, глаза слипались. После операции профессор всегда заваливался на диван у себя в кабинете – «регенерировал энергетические потери».
– Проводите меня, Клобукофф. Потом переоденетесь.
Он взял Антона под руку, повел за собой.
– Вам тоже нужно отдохнуть. После своей первой операции я, знаете ли, упал в обморок… Не беспокойтесь о вашем англичанине. Теперь всё зависит от крепости его организма, а уж мои барышни, будьте уверены, оплошки не сделают. Я тоже буду ночевать в клинике. А вы идите к прекрасной мисс Рэндом и порадуйте ее хорошей новостью.
– Разве вы не хотите сделать это сами, профессор?
– Мне ее охи и благодарности ни к чему. – Шницлер лукаво подмигнул своим ящеричьим веком. – А вы, я заметил, к красотке неравнодушны. Можете даже сказать, что это вы спасли ее братца. До некоторой степени так оно и есть. А про то, что опасность остается, не говорите. У англичанки, судя по синюшности кожи, у самой сердечная недостаточность. Понервничала – и хватит. А то, не приведи Господь, свалится с приступом.
Антон рванулся бежать к Виктории – скорей, немедленно, но профессор цепко удержал его за рукав.
– Погодите. Прежде, чем я лягу, мне нужно кое-что вам сказать. Не вертитесь, слушайте меня внимательно. Есть вещи поважнее вашей англичанки.
Важнее Виктории?! Что за чушь! Опусти же ты меня, старый зануда!
Но пришлось изобразить вежливый интерес.
– Да, профессор?
Усталость была странная. Будто переутомились не мышцы, а эмоции. Поэтому хотелось двигаться, куда-то бесцельно идти, рассеянно смотреть по сторонам, размышлять о чем-нибудь важном, но не терзающем чувства. И, кажется, никогда еще мысль не работала столь ясно и зрело.
Он спустился от клиники по длинной Ремиштрассе к озеру, размеренным шагом прошелся по Альпийской набережной. Справа стояли пышные дома: по-парижски затейливое здание концертного зала, причудливо-готический «Красный замок» – это всё была красота рукотворная, сомнительная. Но слева переливалось мирными предвечерними красками озеро, на дальней его стороне мягко прорисовывались некрутые овцеобразные горы. До заката еще оставалось время. Когда операция закончилась и Антон посмотрел на часы, не поверил своим глазам: она длилась всего 52 минуты.
Трепет и надежда – вот настроение, с которым начинался день. Печаль и умиротворенность – этим он кончался. Пока солнце добиралось от холма Дольдер до горы Ютлиберг, Антон совершил путь куда более протяженный. Из влюбленного юнца превратился в вялого старичка, но стал от этого не слабее, а сильнее. Потому что избавился от исступленных желаний, а значит и от парализующего страха. И понял очень важную вещь: человеку следует быть одному. Только тогда он будет свободен и независим. Вот удивительно – час назад чувствовал себя самым несчастным существом на свете, а сейчас находил в этой грустной отрешенности даже удовлетворение. Прав, выходит, Шницлер со своим Ларошфуко.
Даже о последнем разговоре с Викторией думалось без тоскливого холода в груди. Наоборот, припоминались детали, которые – Антон знал – сохранятся в памяти как нечто драгоценное, ничуть не травмирующее.
Самое чудесное зрелище, которое он наблюдал в своей жизни, – видеть, как померкшее женское лицо в считанные мгновения наполняется счастьем и сиянием. Как воскресает, казалось, навсегда угасшая красота. Однажды он видел в кинематографе интересный кадр: убыстренная съемка раскрывающейся лилии. То же произошло и с лицом Виктории Рэндом, когда он сообщил ей об успехе операции.
– Я должна быть с ним, – сказала Виктория. – Я не отойду от него ни на секунду. Я знаю, я читала – опасность еще не миновала. Теперь необходимо всё время следить за пульсом, давлением, дыханием. Прошу вас, отведите меня к Лоуренсу!
Она снова обращалась к нему на «вы». Ужасный и сладостный момент, когда он и Виктория остались на свете вдвоем, миновал. Теперь их снова было трое. То есть, нет. Это их было двое, а надобность в третьем отпала…
– Вас туда не пустят. Вы же знаете, как профессор относится к стерильности. В послеоперационном боксе почти такие же строгости, как в операторской. И потом, не беспокойтесь, за Лоуренсом очень хорошо следят и ухаживают.
Виктория нетерпеливо качнула головой.
– Нет, я никому не доверяю. Я буду с ним и не сомкну глаз, не отвернусь, не отвлекусь. Если ваш полоумный, гениальный, несравненный Шницлер потребует, я обреюсь, с головы до ног оботрусь спиртом, выщипаю ресницы и брови – что угодно. Я сама с ним поговорю. Он мне не откажет. Но сначала, конечно, я скажу, как безмерно я ему признательна… Нет, Антуан. Прежде всего я хочу поблагодарить вас. Вы даже не представляете, что значила для меня ваша поддержка!
Она обхватила его шею руками и поцеловала в губы. Но это ничего не значило. Точно так же поцелует она и Шницлера – если он, разумеется, позволит подвергнуть себя столь антигигиеничной процедуре.
Лишь в этот миг Антон, жалкий тупица, окончательно понял, что Виктория Рэндом никогда не станет его женщиной. Даже если Лоуренс все-таки умрет, а она справится с потрясением и выживет, и пройдут годы, и Антон всё время будет рядом. Одно прикосновение холодных губ стало красноречивей любых доводов рассудка.
И что-то в Антоне погасло, успокоилось – или, как писали в старых книгах, упокоилось. Он посмотрел на прекрасную женщину, словно видел ее не вживую, а на киноэкране. Отдал должное ее прелести, душевным качествам, храбрости. Даже испытал восхищение – но отстраненное, как при созерцании блистательного произведения искусства.
Оказывается, быть мудрым очень грустно. Хотя что значит «оказывается»? Еще презираемый Лоуренсом древний царь говорил: «Во многой мудрости много печали». Но одно дело прочитать это в книге, и совсем другое – прочувствовать самому.
И он перестал думать о Виктории Рэндом. Будто плыл мимо неописуемо красивого острова, был околдован пейзажем, но корабль проследовал своим курсом дальше, и остров скрылся за горизонтом, как соблазнительный мираж, и ничего от него не осталось кроме черно-белого снимка на память.
Вот о чем действительно стоило задуматься, так это о предложении Шницлера.
Профессор сказал: «Послушайте, Клобукофф, хватит вам тратить жизнь на канцелярскую работу, которую может делать кто-то другой. Бросьте свой фонд или что там у вас. Я возьму вас в свою команду. Под моим руководством вы через два года сдадите экзамены на звание врача, а через пять лет станете лучшим специалистом в области, которая, гарантирую, с каждым годом будет все больше востребована. Я чувствую в вас задатки выдающегося анестезиолога, а инстинкт никогда меня не обманывает».
Последнее письмо, пришедшее от Бердышева, было угнетающе мрачным. Петр Кириллович писал не о скором крахе «Помросса», а о вещах гораздо более трагичных. О том, что надежды на победу Белого Движения почти нет и что вообще с надеждами дело швах. Двадцатый век будет столетием тяжелейших испытаний для всего мира и в особенности для Европы. Очень возможно, что единственным островком покоя на континенте останется Швейцария, и Антон умно поступит, если уже сейчас начнет ходатайствовать о гражданстве.
«Всё один к одному. Всё к лучшему. Всё устраивается само собой, – говорил себе постаревший и помудревший за сегодняшний день Антон. – Судьба ко мне благосклонна. Она позаботилась обо мне. Я вытянул выигрышный билет. Настоящая жизнь здесь, а не в России, потому что никакой России уже нет, а та, что есть, меня изгнала. И совершеннейшая чушь про блаженство тех, кто посетил мир в его минуты роковые. Неправда, что только в страшных испытаниях человек может узнать, чего он на самом деле стоит. Жизнь найдет возможность и в тихом Цюрихе проверить тебя на прочность. Драм, трагедий, нравственных головоломок хватает и здесь. Только испытания эти человеческие, а не звериные: безответная любовь, неправильно выбранный путь, болезнь, утрата, смерть. Разве мало?
Виктория – это тоже ненастоящее. Она, конечно, прекрасна, но как делить жизнь, существовать изо дня в день рядом с такой женщиной? Закружится голова, как от высоты, и сверзнешься в бездну, и пропадешь. Не говоря уж о том, что Виктории, как и России, я совершенно не нужен.
Вот Магда – иное дело. Мой калибр: не больше меня, но и не меньше. Нормальная, естественная, ясная. Не вульгарная Паша и не потусторонняя мисс Рэндом, а просто хорошая, надежная девушка, которая будет верной женой и, можно не сомневаться, замечательной матерью.
Она ждет меня. Слава богу, я не оттолкнул ее и не потерял. Сегодня ночью я постучусь к ней в дверь, и всё произойдет, я знаю, очень мило, без жеманства и ханжества.
Запомним этот день, 23 декабря 1919 года. Сегодня жизнь преподала мне бесценный урок: нельзя навязывать себя тем, кто тебя отталкивает. И нужно быть благодарным тем, кто тебя принимает: чудесной стране Швейцарии, чудесной девушке Магде.
Завтра передам дела герру Нагелю, подписывать бумажки он может и сам. Петр Кириллович меня не осудит. Завтра же скажу Шницлеру, что с благодарностью принимаю его щедрое приглашение. Через два года стану полноправным доктором. Через двадцать лет – профессором. Впереди достойный, прямой путь. Может быть, даже счастливый. Всё зависит от дефиниции счастья.
Немножко странно в двадцать два года достичь мудрости. Но разве не в этом состоит цель всей эволюции: преодолеть пагубные страсти, избавиться от неисполнимых вожделений, освободиться от страхов и обрести мудрый покой?»
Развитие автаркистского направления
Рассматривать это направление аристономической мысли следует как свидетельство постепенного созревания человечества, на всех этапах повторяющее внутренний рост отдельного человеческого существа, которое медленно переходит из возраста в возраст к всё большей самостоятельности в суждениях и решениях. Вот вчерашний младенец, всецело зависевший от воли Родителя, выдернул ручонку из надежной Отцовской длани и сделал первые неуверенные шажки; вот он упал, ушибся и с плачем просится назад на ручки; вот снова осмелел – зашагал, зашагал, сначала поминутно оглядываясь на Старшего, потом всё уверенней, всё смелее; а вот ему кажется, что он уже большой и совсем-совсем взрослый, он начинает дерзить Отцу, самоутверждаться… Как тут поступает мудрый Родитель? Боясь и волнуясь за Свое чадо, всё же не вмешивается в процесс становления личности – сознает, что Свою миссию, как мог, уже выполнил. Так современные взаимоотношения между человеком и Богом рассматривают деисты. Автаркисты же полагают, что Родитель весь период человеческого младенчества существовал только в нашем воображении, а теперь, когда ребенок подрос и перестал на Него оглядываться, Бог и вовсе утратил всякое значение.
Правильнее было бы вести эту философскую линию от эпикуреизма и стоицизма, которые в своем мировоззрении были, в той или иной степени, независимы от фигуры Родителя. Взгляды этой школы я, однако, проанализирую в отдельной главе, посвященной первому в истории идеалу протоаристономической личности. Однако впоследствии нить, идущая от Эпикура, Сенеки или Марка Аврелия, надолго прервалась. Поэтому корректнее вести развитие современной автаркистской философии не от стоиков, а от гуманистов Возрождения – именно они в сравнительно недавнем прошлом первыми спустились с Родительских рук на землю и сделали первые, очень осторожные, но уже самостоятельные шаги.
Причины, по которым на исходе долгого средневековья Италия – вернее самые лучшие и самые смелые ее умы – ощутили потребность в большей умственной и нравственной самостоятельности, вполне понятны. В силу определенных исторических причин именно в этой части Европы быстрее всего развивались науки, ремесла, техника, искусство – и у человека впервые со времен античности появились основания претендовать на некоторое самоуважение. Концепция гуманизма сводится к тому, что в фокусе философской мысли после тысячелетнего перерыва вновь оказывается не Бог, а человек. Что он такое? В чем его природа? Так ли он низок и жалок, как утверждают христианские вероучители? Так ли уж греховен? Разве успехи, которых он добился в производстве, архитектуре, медицине, живописи, скульптуре, не его собственная заслуга? А если его, разве не достойно всё это восхищения? Точно так же гордится собой маленький ребенок, которому удалось пройти через комнату на собственных ножках или накалякать на бумаге рисунок. И, подобно ребенку, первые гуманисты прежде всего ищут одобрения своим достижениям у Родителя.
В моем уподоблении этих мыслителей малым детям нет ни малейшей снисходительности или насмешки. Меня поражает и восхищает смелость их мышления, к тому же я помню, что почву для аристономической эволюции человечества во все времена подготавливали люди именно этого направления, а не теисты, среди которых много светлых умов и высоких сердец, однако автаркисты по самой своей сути деятельнее и самостоятельнее – они изначально нацелены на большую взрослость.
Как это обычно случается со всем новаторским, грядущую перемену в самоощущении человека первыми учуяли поэты. В начале четырнадцатого века, эпоху грубую, жестокую, невежественную, Данте написал:
Петрарка в «Secretum meum», воображаемых диалогах с Блаженным Августином, вставляет в уста святого определение идеального человека как существа, всецело управляемого своим разумом (что вообще-то довольно далеко отстоит от августинианской традиции): «Всё его поведение управляется Разумом, все желания подчинены ему одному; такой человек покорил все движения своего духа воле Разума, ибо знает, что лишь Разум отличает его от дикости животного и лишь послушание голосу Разума дает право называться человеком».
Из этого манифеста интеллектуальной автономии впоследствии выросла вся идея человеческого достоинства как результата деятельности самого человека. Со временем Разум, поначалу постоянно проверявший свои открытия на соответствие законам Бога, осмелеет настолько, что вовсе выведет концепцию Всевышнего из своей системы координат как фактор недостоверный, а стало быть, в расчет не принимаемый.
Конечно же, как это бывает и с делающим первые шаги ребенком, от сознания внезапной свободы пробудившийся Разум испытал некоторое головокружение, переоценив свои возможности. Проявилось это поначалу в виде страшноватой политической теории Макиавелли, образце голой рассудочности, отказавшейся от морали как чего-то избыточного. Различные умозрительные теории имморалистского толка, оперирующие только логикой и целесообразностью, будут появляться и в дальнейшем, воплотившись художественно в Иване Карамазове. Все эти упражнения быстро развивающегося ума хорошо знакомы большинству из нас по собственному переходному возрасту и со временем уравновешиваются соответствующим взрослением нравственного чувства. Произошло нечто подобное и с человечеством, но, конечно, не в эпоху Возрождения, а гораздо позже.
В пользу Разума надо сказать, что голоса, призывавшие относиться к свободе выбора с достоинством, звучали и во времена междоусобий, когда европейские государи с энтузиазмом воплощали в жизнь идеи макиавеллизма.
Именно в эту эпоху у философов и просто ученых людей становится популярен цицероновский трактат «De officiis», в котором изложена моральная доктрина, опирающаяся на понятие личного достоинства. К концу пятнадцатого столетия – сначала в Германии – в обиходе появляется первый перевод латинского выражения dignitas hominis с мертвого языка на живой: Würde des Menschen[9]. Идея достоинства начинает выводиться не только из богоподобия души, но и из способности человека делать выбор между достойными и недостойными поступками, тем самым увеличивая или уменьшая свое Würde.
Пожалуй, главная заслуга в зарождении (или, вернее, возрождении) европейского аристономического направления мысли принадлежит итальянскому гуманисту Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494). Это был один из тех естественно, от рождения, аристономичных людей, которые появляются на свет во все времена и без которых человеческий род давно бы оскотинился или уничтожил сам себя. По счастью, основоположник современной концепции человеческого достоинства принадлежал не к угнетенному классу, где врожденное самоуважение могло сильно осложнить жизнь своему обладателю, а родился в семье владетельного графа моденского и поэтому мог более или менее свободно пестовать свои идеалы, свободомыслие и страсть к познанию. Судя по сохранившимся свидетельствам, молодой человек обладал уникальными дарованиями. За свою короткую жизнь Мирандола выучил двадцать два языка, постиг тайны Каббалы и превзошел все доступные тогдашнему европейцу науки, но в истории его имя осталось благодаря публикации «Речи о человеческом достоинстве», точнее, тезисов к этой «орации». Текст, написанный двадцатилетним юношей, означал, что взгляд человека на самого себя отныне меняется.
По форме трактат вполне почтителен к Господу. Самая рискованная его часть намеренно изречена как бы устами Всевышнего, поучающего Свое творение – Адама: «Не огражденный никакими пределами, следуя собственной свободной воле, коей Мы тебя доверили, будешь ты сам определять границы твоей природы. Мы поместили тебя в средину мира, чтобы оттуда тебе было удобнее озирать его весь. Мы сотворили тебя не земным и не небесным, не смертным и не бессмертным, дабы ты мог быть собственным создателем и скульптором, мог придать себе тот образ, какой пожелаешь. Тебе дано переродиться в низшие, скотские формы жизни. Но есть в тебе и сила, чтобы, внимая суждению своей души, ты мог переродиться в высшие, божественные ее формы. О несравненная щедрость Бога-отца! О несравненное, чудесное счастье человека, который может владеть всем, чем пожелает, и стать всем, чем захочет!»
Пафос этих речений очень характерен для раннего гуманизма, делающего обязательный реверанс в сторону Бога-отца и тут же с большей или меньшей откровенностью дающего понять, что человек готов обойтись без помощи Родителя, собственным разумением. Для Мирандолы и его последователей человек – существо, которое, к добру ли, к худу ли, но само себя «перерождает». А для той трактовки аристономии, которую предлагает моя книга, взгляды моденца важны еще и вот чем: они принципиально отличаются от современной религиозной или юридической доктрины человеческого достоинства. У Мирандолы это качество не считается чем-то безусловным, достающимся каждому по праву рождения; оно появляется и развивается в результате поступков, сознательных действий, внутренней эволюции – именно так трактует его и данная книга.
Несмотря на подчеркнуто благочестивый тон «Орации», обмануть церковные власти автору не удалось. Папа римский унюхал сквозь весь этот ладан запах опасной ереси и велел внести сочинение высокоученого контино в список запрещенной литературы.
Однако с восемнадцатого века, когда церковная цензура перестала быть опасной, в работах мыслителей автаркического направления к Всевышнему больше не взывают, а затем и вовсе перестают его упоминать. Упор в обосновании духовного развития человечества делается только на чувство ответственности, рациональность и добрую волю. Со стремительным прогрессом экономики, просвещения и наук влияние церкви во всех сферах жизни ослабевает, силу набирает воинствующий антиклерикализм, со временем сменяющийся презрительным равнодушием к идеалистическому мировоззрению, которое некогда почиталось единственно возможным.
Французская революция предложила в корне пересмотреть представление о человеческом достоинстве, выводя его не из социального статуса и сословных привилегий; а из личных качеств человека. Как это обычно происходит при общественных переворотах, сопровождаемых насилием, прекрасные идеи вылились в немыслимое при Старом Режиме зверство и жестокое попрание провозглашенных «прав человека и гражданина». Но такова уж природа революций: за прорывом в общественном сознании всегда следует ужасающий регресс – террор, братоубийство, диктатура, однако через некоторое время общество излечивается от лихорадки и начинает жить на новой, более высокой стадии – более высокой именно в аристономическом отношении. Так случилось во Франции после Робеспьера, термидора, Директории, Бонапарта и реставрации. Так, уверен, будет и в моей стране.
В девятнадцатом веке идея республиканского устройства как наиболее соответствующего человеческому достоинству окончательно утвердилась и с тех пор всерьез никем не оспаривается. «Республика – это государство, в котором наилучшим образом примирены интересы и достоинство каждой личности с интересами и достоинством общества», – писал во время революции 1848 года Шарль Ренувье. Итогом же общественной дискуссии между сторонниками религиозного и автаркистского взгляда на развитие человечества, несмотря на сильную аргументацию Канта и его последователей, все же стала победа второй точки зрения, имевшая в следующем, то есть, нашем столетии обширные последствия.
Сегодня всем очевидно, что эта победа принесла не только благие, но и трагические последствия. Многие властители дум, увлекшись логическими умопостроениями, выплеснули вместе с водой ребенка – то есть, ратуя о прогрессе человечества, исключили из своих теорий фактор человечности. В дальнейшем я буду подробно рассматривать эти проявления голой рассудочности, чтобы полнее выявить причины, по которым они привели некоторых своих последователей к тяжелым ошибкам, а иногда и чудовищным злодеяниям. Пока же просто обозначу основные ветви внутри автаркистского лагеря.
Исторически первой оформилась идея, предполагавшая, что весь корень проблемы – в условиях материального существования человека. Отсюда произошла вся вульгарная социология, сводившая рост человечества к условному рефлексу: лучше корм и мягче подстилка – выше духовная организация. Шиллер так спародировал эту немудрящую концепцию:
Пожалуй, в нашем столетии подобные взгляды могут встретиться разве что у общественно-политических деятелей, но не у философов или антропологов.
Большое хождение в девятнадцатом веке имела спенсерианская идея о том, что «добрая воля» (она же эмпатия) для человека менее важна, чем рациональность и чувство ответственности. Развитие человечества уподобляется естественному отбору в природе. Имеет смысл помогать лишь тем членам общества, кто в принципе способен к развитию, а паразитизм поощрять незачем. «Нищета неспособных, бедствия непредусмотрительных, голод лентяев, оттирание слабых сильными, из-за которого столь многие остаются „на мели“, – всё это законы блага, умеющего глядеть вдаль… – пишет безжалостный рационалист Спенсер. – Всему этому должно подвергаться, эти страдания необходимо вынести». Эта линия автаркизма после потрясений, перенесенных человечеством в первой половине двадцатого века, тоже может считаться иссякшей. Рационализм без эмпатии, принявший в конечном итоге вид фашизма, будем надеяться, навсегда себя дискредитировал.
Чего нельзя сказать об учении марксизма, в антропологическом отношении являющегося одной из разновидностей автаркизма. Здесь прогресс человечества отождествляется с идеей социальной справедливости и предельно рационализированного общественного устройства, в котором каждому члену отведены свое место и своя функция. Бесперспективность этой модели в наши дни далеко еще не очевидна, несмотря на все сбои и трагические издержки подобного пути.
Наконец, существует и активно наращивает силу идея всеобщего равенства людей, достоинства как неотъемлемого и естественного права каждой личности вне зависимости от ее усилий и заслуг. Современный западный мир, далее всего продвинувшийся на пути к аристономическим идеалам, придерживается именно этого принципа, в котором несомненно многое верно (а о том, что представляется мне неверным или недостаточным, я буду говорить в соответствующем разделе книги).
В заключение же этой главы ограничусь констатацией, что к нынешнему периоду истории преобладающим[10] стал взгляд на человека как на полностью автономное, свободное в выборе решений существо, для которого религиозные убеждения большой важности не имеют. Идея личного достоинства сменила идею Бога в качестве главной общественно-этической ценности.
(Из семейного фотоальбома)
– Ваша страна очень красивая, мсье. Именно такой я представлял себе Россию! – взволнованно произнес мсье Шомон.
Земля, медленно поднимавшаяся из моря навстречу кораблю, была нисколько не похожа на Россию. Во всяком случае, на Россию, которую знал Антон.
Родина вспоминалась ему плоской, бедной на цвета – что-то бледно-зеленое, серое, тусклое, – а тут над синей муаровой лентой изумрудные горы, и белоснежным амфитеатром дома. Не Россия – Эллада. И все равно ком в горле. Хотел Антон что-то ответить французу и не смог.
– Се-ба-сто-по́ль… – мечтательно пропел Шомон. – Прекрасный храм смерти! О, мсье Клобукофф, теперь я вижу. Вашим героическим предкам было из-за чего сражаться, а моему деду было за что отдать свою молодую жизнь!
Он был скромный конторский служащий из глухой провинции, о поездке в Sebastopol мечтал много лет. Здесь окончил свои дни его дед. «Пал при штурме Малакофф, – сказал Шомон, но застеснялся и прибавил. – Скорее всего, это семейный миф, и на самом деле дед просто умер от холеры, как большинство жертв той войны. Подумать только, он был вдвое моложе меня!» Давняя война в экзотическом краю волновала воображение жителя Оверни с самого детства. Он прочитал множество книг про Севастопольскую осаду, знал массу подробностей. Наконец скопил достаточно денег для путешествия – как раз к лету четырнадцатого года. Осуществить мечту Шомону удалось лишь теперь. Вероятно, это единственный турист, решившийся посетить Россию в 1920 году, думал про спутника Антон.
Английский пароход шел из Константинополя в Севастополь с грузом продовольствия. Немногочисленные пассажирские каюты были заняты коммерсантами, владельцами карго. Черноволосые люди (во рту золотые коронки, на толстых пальцах массивные перстни) за столом в кают-компании возбужденно разговаривали между собой по-гречески. Дельцы подобного сорта всегда слетаются, как вороны, туда, где война, беда и разруха. Кроме мсье Шомона общаться было не с кем. За два с половиной дня Антон почти подружился с трогательным французом.
Пока корабль приближался к берегу, низкое вечернее солнце, выглядывая из-за расплющенных о горизонт облаков, озаряло город косыми лучами, и Севастополь толком было не рассмотреть. Будто присыпанный искристой пыльцой, он действительно выглядел каким-то языческим храмом. Но когда горло большой бухты, с двух сторон сдавленное каменным воротником казематов, осталось позади, мир съежился, заодно и светило спряталось в багровую тучу – чародейству настал конец. Переливчатая кисея соскользнула, и Антон увидел город в жалкой наготе. Еще это напоминало внезапное наведение на фокус. С безжалостной резкостью проступили детали, они были неприглядны.
Старинные стены фортов облупились, дома оказались не белыми, а пыльными и грязными, на рейде унылыми, безобразными наростами торчали ржавые корабли. Некоторые были полузатоплены, вдали же из воды высовывалось гигантское днище, облепленное гнилыми водорослями. Антон догадался, что это линкор «Императрица Мария», взорвавшийся и перевернувшийся в конце шестнадцатого года.
Пароход еще не встал на якорь, а от причала уже плыла неряшливая стая лодок. Весла суетливо разбрызгивали воду, гребцы что-то орали пронзительными голосами, пытаясь привлечь внимание пассажиров. Это напомнило Антону картинку из книжки детских времен: корабль капитана Кука прибывает на Сандвичевы острова.
Хорошо, мсье Шомон ушел в каюту собирать вещи и не видел этого позорного зрелища. Ребячество, конечно, но Антону было бы стыдно перед восторженным французом за свою родину.
Из глупой мысли синтезировалась другая, нетривиальная, достойная того, чтоб положить начало дневнику. Перед отъездом Антон купил в канцелярском магазине на Банхофштрассе чудесную тетрадочку: красивый шагреневый переплет, тонкая, но прочная бумага – приятно взять в руки. Блокнот предназначался для записи впечатлений, регистрации чувств и мыслей.
Вот и первая: «Издали Россия кажется прекрасным храмом, но по мере приближения теряет свое очарование и оказывается свинарником».
Подумал, засомневался. Ах нет же, всё ровно наоборот!
Зачеркнул. Хотел вырвать страничку, чтоб не начинать дневник с помарок, но не стал. Пусть сохранится вся траектория переживаний, это очень важно.
«Если разглядывать Россию издали, отстраненно, она выглядит сумасшедшим домом или свинарником. Но стоит всмотреться в нее взглядом, полным любви и понимания, как видишь за коростой и грязью именно что храм, исполненный скромной, печальной и щемящей красоты, – как Покрова на Нерли». Прославленный памятник древнего зодчества Антон видел только на открытке, но нежное слово «Нерль» придало фразе мелодическую завершенность. Хорошее начало для дневника. Готовый эпиграф.
Пыхтя и чихая, подошел катер пограничной стражи. Он заметно кренился набок, словно прихрамывал, краска свисала с бортов лохмотьями, труба в нескольких местах зияла дырами. Антон страдальчески скривился, прочтя название славянской вязью: «Россiянинъ». «Господи, ну почему у них всё с перебором, с пафосом?» – подумал он и укорил себя. У них? Еще не ступил на родную землю, а уже отгораживаешься?
По трапу вихлясто поднимался офицер, за ним два солдата. Если начальник был обмундирован не без щегольства, нижние чины смотрелись оборванцами. Они сели у борта на корточки, пристроили винтовки между колен и стали крутить самокрутки. Офицер был в низкой кубанской папахе – то есть, учитывая три звездочки на погонах, вероятно, казачий сотник, однако представился старпому поручиком. Один передний зуб у пограничника отсутствовал и говорил он с присвистом: «порусик».
Пошептавшись с помощником и получив от него какой-то конверт, офицер поглядел на коммерсантов. Те ждали, выстроившись в некое подобие очереди. Каждый кланялся, что-то совал, получал от «порусика» какую-то бумажку и отходил.
Новая заноза вонзилась в Антоново сердце: он разглядел, что офицеру дают не документы, а денежные купюры. В открытую, не скрываясь!
Ужасно захотелось сойти на берег поскорее. Чтоб не видеть, как округлятся глаза у мсье Шомона. Он так влюблен в Россию!
Малодушие и глупость, но чтоб избежать этого унижения, Антон сам подошел к пограничному начальнику и протянул ему паспорт.
Книжечкой с двуглавым орлом «порусик» не заинтересовался, зато внимательно посмотрел на хороший чемодан и светлый чесучовый костюм, купленный в расчете на крымский климат.
– Приятно видеть соотесественника, – прошепелявил офицер, улыбаясь. – Все бегут, а вы, господин… э-э… Клобуков, возврасяетесь. Похвально. – Он улыбнулся еще шире, доверительно понизил голос. – Позвольте дать добрый совет. На пристани на вас накинутся спекулянты, будут выменивать валюту. Безбозно надуют. Безбозно! Моя воля, я бы всех их к стенке ставил, слово офисера.
– Благодарю. А где посоветуете?
– Только в банке. Правда, сегодня суббота и до понедельника все конторы будут закрыты… Однако я могу вас вырусить. Как раз всера выиграл в преферанс. У вас какие деньги? Лиры?
– Мне сказали, что в Крым лучше ехать с фунтами.
Пограничник почтительно поклонился.
– Правильно сказали. Фунты и доллары луссе всего. Офисиальный курс 2800 рублей за фунт стерлингов. Извольте убедиться. У меня по слусяйности и газетка есть…
Он, действительно, достал из-за отворота мятый газетный листок.
– Видите? Вот курсы валют. Комиссии я не возьму, офисеру это не к лису. Если меняете десять фунтов или больсе, в касестве любезности освобоздаю от тамозенных формальностей и предоставляю лисьный ялик для бесплатной доставки на берег. Прямо сейсяс, без промедления. – Поручик широким жестом показал вниз, где у трапа теснились лодки. – У меня не гребес, а прямо лихась.
У Антона денег было двадцать фунтов и несколько шиллингов, поэтому он согласился на выгодное предложение, особенно прельстившись возможностью попасть на берег без проволочек. Конечно, это будет невежливо по отношению к Шомону, но можно потом послать записку с извинениями – у француза забронирован номер в «Гранд-отеле».
Через минуту Антон уже спускался по трапу – в ялик, подозванный вороватым, но услужливым поручиком: «Эй, братес! Принимай пассажира!»
Лодочник взял чемодан с кряхтением, хотя ноша была не особенно тяжелая: смена одежды, несколько медицинских книг, фотоаппарат и разные мелочи. Правда, «лихач» был немолод и одышлив, с болезненными отеками в подглазьях. Странный субъект: в соломенной шляпе, грязной русской рубахе и еще более грязных парусиновых портках, закатанных по колено, но при этом хорошо выбрит и в серебряном пенсне.
Вместо ответа на приветствие лодочник спросил:
– Валюту у поручика поменяли? Эх! И много? Целых десять фунтов? По сколько? Ну, повезло щербатому! – Покачал головой. – Я бы вам дал по восемь пятьсот.
– Но он мне показал газету!
– Ага. Месячной давности.
Антон вспомнил, что верхнюю часть листка офицер действительно прикрывал рукой.
– Вам на Графскую? – Перевозчик сел на весла. – Это восемьсот. На Корабельную полторы. На Северную – две. Деньги вперед.
– Позвольте, но пограничник сказал, что вы меня доставите на берег бесплатно!
– И поцелую впридачу. – Господин (уж никак не «братец») желчно ухмыльнулся. – Я ему, прохиндею, за пассажира по две сотни даю. Не хотите платить – лезьте обратно, объясняйтесь. Только не посоветую. Придерется к чему-нибудь в документах, и будете ночевать в каталажке. Или вообще высадиться не даст. – Лодочник поглядел на Антона, жалостливо вздохнул. – Оно бы для вас, впрочем, и лучше. Все отсюда, а он сюда. Что вам в Константинополе не сиделось? Вы ведь не коммерсант, по вам видно.
– Я приехал из Швейцарии, – мрачно сказал Антон. Он выбрал из вороха блеклых бумажек желтую купюру с георгиевской ленточкой. – Вот вам тысяча. Мне на главную пристань. – Он кивнул на причал, над которым возвышалась античная колоннада. – Если довезете быстро и не обрызгаете, сдачу можете оставить.
Не переться же назад по трапу с чемоданом, чтоб предъявлять претензии бесстыжему поручику. Бессмысленно, да и, наверное, в самом деле небезопасно. В конце концов перевоз стоил всего десять пенсов.
Получив деньги, лодочник немедленно подобрел.
– Останетесь довольны. Я, знаете ли, в свое время на университетской регате призы брал. Как, бывало, запустим вдоль Каменного острова – только ветер свистит.
Греб он действительно виртуозно. Только болтал без умолку, мешал сосредоточиться на внутренних ощущениях – ведь еще минута, другая, и под ногами наконец окажется русская земля!
– Эх, милостивый государь, мог ли я предположить, что на склоне лет буду на жизнь зарабатывать подобным манером? Статский советник, без пяти минут действительный! А что прикажете делать? Жена, две дочери, теща-инвалидка. Казалось бы, и должность видная – начальник департамента образовательных учреждений, но при таком жаловании разве проживешь? Хорошо, ялик выручает. Приобрели с сослуживцами, на паях…
Услышав про «начальника департамента», Антон перестал обращать внимание на вранье лодочника. Видимо, тот считал пассажира совсем идиотом – набивал себе цену в надежде слупить еще что-нибудь.
Записал в книжечку интересное наблюдение: «Несоответствие прежних понятий и речевых оборотов („слово офицера“, „милост. государь“ и пр.) изменившейся действительности и новым чел-ским отношениям».
Пристань быстро приближалась, уже можно было рассмотреть лица толпившихся там людей.
Всё сильнее волнуясь, Антон приподнялся со скамейки, готовый замахать рукой, как только увидит Петра Кирилловича.
Антон уехал из Швейцарии не из-за сердечной смуты. Честное слово, не поэтому. Слишком банально это было бы, даже пошло. Полный крах любовных надежд тоже сыграл какую-то роль, но не главную, совсем не главную.
Что-то помешало ему в ту переломную ночь постучаться к Магде. Он даже и до двери дошел, но остановился, повернул назад. Тогда вообразилось, что это порядочность: скверно вступать в серьезные отношения с чудесной девушкой, не любя – из сугубо головных мотивов. Однако наутро Антон сел за стол и неожиданно для себя сел писать Бердышеву. Строчки ложились на бумагу сами, без помарок и очень быстро. Эмоционально и запальчиво житель мирного Цюриха просил у покровителя и благодетеля позволения вернуться на родину.
«Безнравственно искать тихой гавани и личного благополучия, когда твоя страна истекает кровью, рушится, гибнет, – решительно выводило стальное перо. – И дело даже не в нравственности. Это я, пожалуй, красуюсь. Дело в том, что Европа при всем ее очаровании мне чужая и никогда полностью своей не станет, а Россия, пускай дикая и кровавая, это мой дом. Бегство из нее равнозначно трусливому бегству от самого себя, эмиграции из настоящей жизни в суррогатную.
Серьезные сомнения мешали мне принять это решение прежде. Вы знаете, что отец воспитывал во мне неприятие всякого насилия. Он всегда говорил, что, даже защищаясь от убийцы, нельзя хвататься за нож, потому что тогда ты сам опускаешься до уровня примитивного хищника. „Лучше умереть, чем убить“, – говорил он.
А еще я никак не мог удовлетворительным образом ответить себе на простой вопрос: как может меньшинство, каковым в России безусловно являются сторонники Белого Дела, навязывать свою волю большинству? „Народ всегда прав, – говорил отец. – Мы, образованцы, начитанней и умнее, а он мудрее. Мудрость выше ума“.
Я всегда принимал это утверждение за аксиому. Но сейчас у меня словно открылись глаза.
Чем мы, „образованцы“, то есть образованные или, проще говоря, культурные россияне хуже крестьянско-рабочей массы? Да мы несравненно лучше, мы высший продукт национальной эволюции! Никогда бы раньше я не осмелился такое написать на бумаге, но вы-то, я знаю, меня поймете. Нас меньше, но мы во всех отношениях лучше! Да, отчасти это произошло вследствие исторической несправедливости: наши предки поработили их предков. Но лишь отчасти. Значительная часть современной русской интеллигенции – дети или внуки крепостных, мещан, деревенских дьячков. Просто эти люди стремились к свету и достигли его, а не пьянствовали, не жаловались на судьбу, не опускали руки.
Пишу без оглядки то, что знал всегда, но не решался произнести вслух. Мы в массе своей порядочны, честны, отзывчивы, чувствительны к красоте и терпимы к инакости. Они же в массе своей грубы, жестоки, примитивны, раболепны перед сильными и безжалостны к слабым. Кроме того – и это самое важное – они хотят нас истребить до последнего человека (я знаю это по собственному опыту, я видел красный террор в действии); мы же им, недоумкам, желаем только добра. Конечно, здесь я говорю не про вешателей, сатрапов и нагаечников, а про таких людей, как вы и мой отец. Я и сам таков или, по крайней мере, желал бы таким стать».
Дальше было еще решительней:
«Знаете, дорогой Петр Кириллович, я вдруг понял, в чем заключается ошибка и, простите меня, преступность – я настаиваю на этом слове – преступность Белого Движения. Во главе его оказались люди, сделавшие ставку на фонарный столб, расстрел и публичную порку. По родной земле они шли карательным отрядом – мстителями и завоевателями. Я не толстовец и, в отличие от покойного отца, отлично понимаю, что в схватке со злой силой без оружия не обойтись. Но залог победы не в пулеметах и пушках, не в военных победах, которых у Белой армии было множество, да только ничего они не дали.
Победу в гражданской войне приносит не стрельба, а убеждение: словом, в еще большей степени – делом. Примером бескорыстия, самоотвержения, великодушия, героического служения. Должно быть, мои слова кажутся вам наивной маниловщиной, но они верны. Я чувствую это!
Дорогой Петр Кириллович, я желаю принять участие в судьбоносной борьбе за будущее моей страны.
Стрелять в „красных“ я не стану. Не оттого, что не умею – можно бы научиться. Но я сознаю, что у моего дикого и темного народа есть своя правда, а у нашего с вами сословия много вин, взыскующих искупления. Да и память отца, посвятившего свою жизнь народному служению, не позволяет мне взяться за оружие. Однако я мог бы помогать делу по-другому, в меру своих сил.
„Красных“ надо не убивать, им необходимо ясно и доходчиво объяснять, что настоящий их враг – большевизм, а не мы с вами. Судя по печатной продукции ОСВАГа, попадавшейся мне на глаза, агитационно-пропагандистская работа у вас ведется бездарно, из рук вон плохо. Я малоразвит, одолеваем вечными сомнениями, но у меня есть идеи и предложения, которые могут оказаться полезны…»
И дальше, еще на четырех страницах убористым почерком, с подчеркиванием ключевых слов и фраз, Антон излагал свои соображения о том, как, по его мнению, следовало бы взывать к простым людям, чтобы преодолеть глухой барьер недоверия и враждебности.
Отправив письмо с очередной корреспонденцией Фонда, Антон словно перешел Рубикон, отрезал путь к отступлению. Он запретил себе бояться, что когда-нибудь пожалеет о принятом решении, и начал готовиться к отъезду. Но шли недели, месяцы, а ответа из России всё не было.
Там творилось страшное. Белый фронт, попятившийся от Москвы еще с осени, рассыпался в прах, покатился на юг, к самому морю. Петр Кириллович затерялся где-то в этом селевом потоке, среди многих тысяч погибших, замерзших, умерших от тифа и канувших без вести. А если и уцелел, то ему, конечно, было не до слюнявого цюрихского идеалиста.
Работа в «Помроссе» закончилась – даже не потому что у Фонда иссякли средства, а просто некому стало посылать помощь. И некуда: пароходство объявило, что до стабилизации внутрироссийской политической ситуации грузов принимать не будет.
Из пансиона Антон съехал. Он собирался поговорить с Магдой, всё ей объяснить, как только придет письмо от Бердышева. Она с ее идеализмом поняла бы этот порыв. Но ответ всё не приходил, прятаться от Магды было унизительно и глупо. В конце концов он оставил невнятную записку и сбежал, не дождавшись конца оплаченного месяца.
Рэндомы уехали. Как только Лоуренс стал транспортабелен, Виктория увезла его в горный санаторий, на итальянскую границу. Прислала открытку сдержанно-оптимистического содержания, приглашала навестить. Антон ответил, что сейчас очень занят. А больше открыток не было.
Что это означает, лучше было не задумываться. Одно из двух – и в любом случае ничего хорошего: либо организм больного не справился со стрессом, Лоуренс умер, а Виктория вслед за ним; либо он поправился, у них там любовная идиллия, и про своего цюрихского знакомого они просто забыли.
Эта страница перевернута, эта книга закрыта. Судьба написала ее не для Антона Клобукова.
Зима сменилась весной, и переход был не шумно-пассионарный, как в России, когда трещит лед, оседают сугробы и несутся потоки талой воды, а плавный, почти незаметный: смена нюансов, деликатный сдвиг в балансе светло-серого и светло-зеленого. Все дни были заполнены одним – учебой. С утра до поздней ночи Антон пропадал в клинике, сидел в библиотеке, писал конспекты. Медицина – утешительнейшая из наук. Определенное, надежное, ясное дело с видимым результатом и ни у кого не вызывающей сомнений пользой. Даже ошибки – и те благотворны, потому что на них учишься.
Профессор Шницлер всё чаще приглашал Антона участвовать в операциях и даже начал за это платить – немного, но теперь, когда служба в Фонде завершилась, эти деньги были кстати.
Никакой России не существовало. Она, невидимая, грохотала раскатами глухого грома где-то за дальними горизонтами, и шум этот начинал стихать. Зато предстояло трудное лето, и вот это была настоящая реальность. Шницлер пообещал, что к осени пробьет на факультете легитимизацию новой врачебной специальности «анестезиолог», и Антону нужно будет сдать экстерном все дисциплины университетского курса. Через каких-то полгода – много раньше обещанного – он мог стать дипломированным медиком, герром доктором Клобуковым.
Письмо пришло через четыре с половиной месяца, когда Антон давно уже перестал ждать.
Конверт принес герр Нагель, отлично устроившийся в международной финансовой корпорации, однако из добросовестности продолжавший присматривать за корреспонденцией усопшего «Помросса»: еще приходили запоздавшие счета, требовавшие оплаты, письма от партнеров и прочее.
Хотя Антон писал в Новороссийск, штамп на конверте был севастопольский. Письмо дошло всего за шесть дней.
На листке две строки: «Коли так, приезжай. Пригодишься. Телеграфируй прибытие, встречу. Бердышев». Антон в жизни не видывал столь короткого письма – обычно так лапидарно пишут только в телеграммах. Очень вероятно, что Петр Кириллович вначале и послал телеграмму – в пансион фрау Талер. Но Антон съехал оттуда, не оставив нового адреса.
В тот же вечер он зашел в агентство «Кук», где ему составили маршрут: по железной дороге с двумя пересадками, потом на грузовом пароходе.
Профессору Антон решил написать с дороги. Побоялся личного объяснения. Характер у Шницлера был взрывной, все дела на свете кроме медицинских он считал чушью и несомненно воспринял бы отъезд любимого ученика как подлое предательство.
Или, быть может, Антон побоялся не бурного разговора, а того, что учитель его отговорит.
Проявишь слабость, останешься в Швейцарии и потом всю жизнь будешь себя корить.
С толпой на пристани произошел тот же казус, что с городом. Издали она смотрелась вполне прилично: котелки и канотье, дамские шляпы, мундиры, зонтики. Вблизи же стало видно, что дамы и штатские одеты скверно – в сильно ношеное и вышедшее из моды. Удивляться нечему. Откуда взяться новой одежде в стране, которая четвертый год ничего не производит, не имеет импорта за исключением грузов военного назначения? У самой кромки причала, правда, яркой клумбой средь пыльного газона выделялась стайка чрезвычайно нарядных барышень, хоть сейчас на набережную Цюрехзе, но их профессия не вызывала сомнений даже у Антона, не отличавшегося особенной проницательностью.
С мундирами тоже странно. Большинство военных выглядели так, будто сошли с экрана разухабистой американской фильмы про царскую армию. У многих, как у пограничного поручика в кубанской папахе, в форме сочеталось несочетаемое. Антон разглядел пехотного капитана в гусарских чикчирах, донского есаула в кавказской черкеске и офицера вовсе непонятной принадлежности – морская тужурка, черная фуражка с черепом, драгунская сабля на боку. На рукавах красовались невиданные нашивки и эмблемы, на погонах лихие зигзаги и небывалые вензели, на груди сверкали диковинные ордена.
Озираясь в поисках Петра Кирилловича, Антон заметил, что на него пялятся со всех сторон – большинство с любопытством, но были в толпе и субъекты, рассматривавшие приезжего хищно-сосредоточенным взглядом. Реэмигрант почувствовал, что похож в своем новехоньком летнем костюме на песочно-кремовый торт, выставленный в витрине булочной среди серых невзрачных буханок: налетай, ешь – пальчики оближешь.
Однако самое скверное, что Бердышева на причале не было. Антон вдруг осознал, что никого в этом абсолютно чужом мире, неубедительно прикидывающемся родиной, не знает. Если с Петром Кирилловичем, не дай бог, что-то случилось, совершенно непонятно, куда податься и как здесь существовать. От растерянности кинуло в пот. Антон снял светло-бежевую панаму (у него одного здесь был такой легкомысленный головной убор) и вытер платком испарину.
– Господин Клобуков?
Обернулся.
Снизу вверх на него смотрел военный очень маленького роста, с сабельным шрамом через всю щеку. Офицер был в обычном кителе, ни черепов с костями, ни фантастических шевронов. Пехотинец как пехотинец. Пожалуй, лишь один из орденов, висевший между «Владимиром» и «анной», Антону был незнаком: на георгиевской ленте колючий кружок, пронзенный мечом.
– Капитан Сокольников. Меня прислал Петр Кириллович Бердышев. Это все ваши вещи?
– Здравствуйте! Я уж боялся… – Антон облегченно заулыбался, протянул руку. Офицер после секундного колебания снял перчатку. Пальцы у него были холодные, жесткие.
– Как ваше имя-отчество, капитан?
Снова короткая заминка, тень недовольной гримасы на малоподвижном лице.
– Тихон Андреевич.
Вскоре стало ясно, что у капитана такая манера общения. Очевидно, он не любил, когда ему задают вопросы, и всякий раз отвечал будто после секундного раздумья – не промолчать ли.
Был он молод, но в темных волосах виднелась проседь, а глаза смотрели на собеседника с такой неистовой интенсивностью, что Антон не мог в них глядеть долее секунды – отводил взгляд. Через что же должен пройти человек, через какие муки и испытания, чтоб смотреть на окружающий мир с неугасающей ни на миг яростью?
Проигнорировав протесты, Сокольников взял чемодан, пригласил жестом: следуйте за мной.
Антона распирало от возбуждения, хотелось задать тысячу вопросов – ну и вообще, наконец-то всласть наговориться по-русски.
– Вы адъютант Петра Кирилловича?
Пауза.
– Нет, господину Бердышеву адъютант не полагается.
– А какую он теперь занимает должность?
– …Никакой.
– Значит, вы просто его… – Антон хотел сказать «друг», но у человека с такими глазами вряд ли могли быть друзья. Казалось, он существует в мире, где не может быть ни дружбы, ни любви – никаких обычных и теплых чувств. – … его знакомый?
– …Я начальник его охраны.
Они поднялись по длинной лестнице, прошли под колоннадой и вышли на небольшую площадь, в центре которой высился памятник какому-то полководцу или адмиралу – должно быть, Нахимову. Справа, у красивого, довольно большого здания с вывеской «Гостиница» стояли в ряд автомобили.
– Мы куда-то поедем?
– …Нет. Нам сюда, в гостиницу «Кист».
Капитан шел не рядом, а на два шага впереди. На вопросы отвечал не оборачиваясь.
Антон умолк и задумался. Он читал в газетах, что в гостинице «Кист» временно разместилось правительство Юга России и находится ставка правителя барона Врангеля. Значит, никакой должности Петр Кириллович не занимает, однако живет или работает бок о бок с диктатором? Адъютант ему не положен, а начальник охраны – да? Очень интересно.
Провожатый миновал главный вход, у которого стояли караульные солдаты, повернул за угол. В торце гостиничного здания было крыльцо, перед ним дежурил часовой. Один – но зато подпоручик. Он молча откозырял Сокольникову.
Из небольшого коридора направо и налево вели двери с матовыми стеклами. Оттуда доносились невнятные голоса, стучали пишущие машинки. Капитан дошел до конца, остановился перед лаконичной табличкой «П. К. Бердышев», потянул обитую кожей створку.
Антон заранее широко улыбнулся, готовясь к долгожданной встрече. Но внутри оказалась проходная комната. В ней что-то попискивало – это крутил ленту телеграфный аппарат. Двое мужчин – полковник с красными от усталости глазами и штатский в бухгалтерских нарукавниках – мельком, без интереса оглянулись на вошедших и вернулись к своим занятиям. Полковник строчил вечной ручкой по бумаге; справа лежал целый ворох исписанных листков. Господин в нарукавниках (он сидел спиной) наклонился и чем-то щелкнул.
В следующую дверь, тоже кожаную, капитан постучал.
– Секунду, – донесся знакомый голос.
Сокольников застыл без движения. Он был все-таки не вполне живой. Антон же, часто мигавший от волнения, не мог устоять на месте. Повернулся посмотреть, чем это щелкает штатский. На столе лежали не бухгалтерские счеты, а разобранный «маузер».
В кабинете громко сказали:
– Да.
Тогда капитан качнул головой: проходите. Сам остался снаружи. Дверь мягко и плотно затворилась.
– Приехал? Дай я на тебя посмотрю.
Зная всегдашнюю бердышевскую сдержанность, Антон не ожидал объятий, но Петр Кириллович даже не поднялся со стула, не протянул руки – лишь кивнул на одно из кресел. Как будто они расстались не полтора года назад, при вполне драматических обстоятельствах, а виделись каждый день и сегодня уже разговаривали.
Боже, как изменился бывший промышленник и контрреволюционный заговорщик! Сухое лицо стало еще резче, будто фотография превратилась в гравюру. Где раньше были едва намеченные морщины, теперь легли глубокие складки. Бобрик волос остался, но стал совершенно седым. Петр Кириллович сделался тощ и желт, а в прежние времена был довольно плотного сложения. Под глазами набрякли мешки, на лбу и висках вздулись жилы. Он выглядел тяжело больным или до последней крайности изможденным. Всегда, даже в большевистском Петрограде, Бердышев одевался с безукоризненной аккуратностью, а тут воротничок несвеж и на пиджаке пятна. Но главным потрясением был взгляд – точно такой же, как у жутковатого капитана: пронизывающий и неистово холодный.
Сердце сжалось. Вот как выглядит человек, в котором умерло сердце, остались лишь ум и воля. При встрече Антон собирался сказать что-нибудь прочувствованное про Зинаиду Алексеевну и девочку (в апреле исполнилось два года, как они умерли), однако понял, что делать этого не следует.
Бердышев тоже рассматривал Антона.
– Ты стал совсем европеец. – В голосе звучало одобрение. – Возмужал. Что приехал – это в тебе отцовское проступило. Кровь, брат, не водица.
Только манера говорить осталась той же. Все буквы Петр Кириллович произносил, как они пишутся: «чьто», «ОтцовскОе».
– Давай поговорим. Введу тебя в наши обстоятельства. Сиди, мотай на ус. После скажешь, что ты обо всем этом думаешь, и в зависимости от твоего отношения… – Фразу закончил неопределенный жест.
С места, безо всяких вступлений, без обычных в такой ситуации расспросов, Бердышев заговорил о том, что, видимо, составляло весь интерес и смысл его существования. Лишенная интонационных перепадов речь звучала странно. На растерянного слушателя смотрели пристальные и почти немигающие, мертвые глаза. Дольше нескольких мгновений Антон этого взгляда не выдерживал, как перед тем не мог смотреть в глаза маленькому капитану. Так и сидел: поглядит на Петра Кирилловича – и опустит взор; поглядит – и снова уставится на суконный верх стола.
Скупо, бесстрастно излагал хозяин кабинета сведения, значительность которых ошеломляла и подавляла.
– Я верю в Петра Николаевича. – Вот с чего начал Бердышев и пояснил, когда Антон наморщил лоб. – Врангеля. Он последняя надежда России. Самая последняя.
Когда говоривший хотел что-то подчеркнуть, он не повышал голоса, не жестикулировал – просто повторял ключевую фразу еще раз, будто хотел лишний раз проверить, точна ли формулировка.
– После краха авантюрного деникинского наступления мы зацепились здесь, в Крыму, за самый краешек русской земли. Если бы нас прогнали и отсюда, для России всё было бы бесповоротно, навсегда потеряно. Спасло нас лишь стечение удачных обстоятельств. Я бы сказал «чудесных», но я не верю в чудеса. Видимо, нам так долго и фатально не везло, что рано или поздно удача должна была нам улыбнуться. Должна была.
Он кивнул, как бы признавая математический факт.
– Два месяца тому, когда остатки нашей разбитой армии эвакуировались из Новороссийска в Крым, ситуация выглядела безнадежной. «Красные» уже подходили к Перекопу, Деникин утратил всякое доверие людей и объявил, что отказывается от руководства. Руководить, собственно, было некем. Вместо армии в Крыму высадилась деморализованная толпа, потерявшая артиллерию и лошадей. Союзнички-англичане нанесли нам удар в спину, предъявили ультиматум: или мы сдаемся большевикам, а Европа похлопочет об амнистии, либо больше никакой помощи. Ллойд-Джордж открыто выступил за признание советской власти как единственной реальной силы, с которой в России можно иметь дело. Единственной реальной силы.
– Это была нижняя точка падения. – Петр Кириллович опустил глаза, и Антону стало легче на него смотреть. – Если в те мартовские дни я не застрелился… – Сухо кашлянул – и только. – Если я не застрелился, то лишь потому, что чувствовал ответственность за моих сотрудников. – Кивок в сторону двери. – Я должен был их как-то устроить в эмиграции, на последние еще остававшиеся деньги.
В этом весь Бердышев, подумал Антон. «Если могу – значит, должен». И ответственность за своих. Я для него тоже свой. Поэтому он вытащил меня из залитого кровью Петрограда и «устроил» в Швейцарии. Конечно, позаботится обо мне и сейчас.
В носу защекотало от нестерпимой жалости к этому сильному, глубоко несчастному человеку. Антон заморгал, боясь, что прослезится, а Бердышев заметит и догадается, что его жалеют. Он гордый человек, будет уязвлен.
– …И здесь судьба послала нам несколько бесценных подарков. Во-первых, поляки пошли в наступление на Советы – и очень успешно, так что Троцкому пришлось срочно перебрасывать с нашего направления войска. Во-вторых, подобно чуду на Марне, у нас случилось чудо на Перекопе: отряд генерала Слащева, единственная часть, сохранившая боеспособность, отшвырнула от перешейка красные полчища. А третья и главная удача – Врангель. Такого вождя у нас еще не было. Если б в начале восемнадцатого Белое Движение возглавили не рыхлый Алексеев с солдафоном Корниловым, а Петр Николаевич, большевиков в Москве давно бы уже не было. Это человек огромного честолюбия и неисчерпаемой энергии. Маневренный, гибкий. Способен договориться с кем угодно. Когда нужно для дела – тверд, когда не во вред делу – милосерден. Он в высшей степени наделен редким для русского человека талантом организовывать окружающую среду.
Вот про главнокомандующего Бердышев, пожалуй, говорил с чувством. Даже взгляд сделался поживее.
– За короткий срок барон совершил невероятное. Искоренил мародерство, восстановил дисциплину, слепил из вооруженного сброда небольшую, но крепкую армию. И – что казалось совсем уж невозможным – навел элементарный порядок в снабжении и жизни тыла. Тебе по контрасту со Швейцарией покажется, что у нас здесь хаос и сплошное безобразие. Но ты просто не видел, какой ад царил в Крыму в начале весны.
Петр Кириллович перевел взгляд на стену, где висела большая фотография неестественно узкого, вытянутого вверх генерала в белой папахе и стянутой в рюмку черкеске.
– Врангель – тот вождь, по которому истосковалась Россия. Вся Россия, а не только люди вроде нас с тобой. Даже его полунемецкость символична. Обрусевший немец лучше, чем обнемечившийся русак. Пожалуй, это наивысший продукт послепетровской цивилизации. Если бы Россией правили штольцы, империя бы не рухнула. Разумеется, с точки зрения пропаганды жаль, что Врангель – барон. Но, как говорят англичане, nobody is perfect.
Что-то похожее на улыбку, на привидение улыбки, слегка смягчило каменное лицо, и Антон подумал: если Бердышев способен шутить, может быть, есть надежда, что когда-нибудь рана заживет.
– Вначале из-за этого проклятого титула я был решительно против кандидатуры нового главкома. Но мое отношение к Врангелю переменилось, когда я услышал, как Петр Николаевич разговаривает с войсками. На Благовещенье, едва вступив в должность, он собрал войска вот на этой площади, – Петр Кириллович показал на окно, – поднялся на пьедестал нахимовского монумента и громовым голосом прокричал слова, которые так необходимо было услышать солдатам разгромленной армии. Я запомнил слово в слово: «Грудь против груди стоим мы против наших родных братьев, обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное море. Исхода нет. И в этот грозный час я призван был стать во главе вас. Без трепета и колебания я сделал это. Я твердо знаю, что Россия не погибла. Мы увидим ее свободной и счастливой. Я верю, Господь Бог даст мне ум и силы вывести армию из тяжелого, безвыходного почти, положения…»
Очень странное впечатление произвела на Антона эта прочувствованная речь, процитированная голосом, которым впору зачитывать биржевую сводку.
Покашливая, Бердышев всё смотрел на портрет.
– В тот день я решил, что буду помогать Петру Николаевичу всеми своими ресурсами. Денег у меня уже почти не оставалось, но были связи, некоторое влияние, а главное – люди, которые думают так же, как я, и которые, смею думать, в меня верят. Однако когда барон предложил мне возглавить его правительство, я отказался.
Антон вздрогнул. Даже так? Возглавить правительство?
– Но почему?
– Время не пришло. Сейчас, в переходный период, на эту роль лучше подойдет другой человек – Александр Васильевич Кривошеин. Тот самый, ближайший помощник Столыпина. Он, как и ты, жил в Европе. И тоже приехал в Крым. По первому же зову, оставив все свои дела – а человек он весьма обеспеченный. Сейчас Александр Васильевич здесь. Мы встречаемся каждый день, готовим административную реформу. Полагаю, через две-три недели государственная структура нашей Южнорусской республики окончательно определится, и можно будет перейти к следующему этапу.
– И все-таки почему не вы? – повторил свой вопрос Антон, чувствуя себя менее скованным теперь, когда Бердышев не замораживал его своим ледяным взглядом. – Я не могу себе представить человека, более подходящего для этой миссии. Вы столько лет ведете эту борьбу, не сбегая ни в какую Европу. Вы организованней любого штольца. Наконец, вы пожертвовали… столь многим.
Про погибшую семью сказать всё же не решился. Можно было понять эти слова и так, будто они относились к потраченному на Белое Дело состоянию.
Но Петр Кириллович превосходно понял, ответил безо всякой неопределенности:
– Александр Васильевич принес Движению не меньшие жертвы, чем я. На этой войне погибли двое его сыновей, офицеры. Один из них застрелился, чтоб не попасть в плен к красным. Однако про жертвы говорить нечего. Меня занимает только целесообразность. Только польза дела.
Антон опустил голову, подумав: кто я такой, чтобы высказывать сомнения такому человеку? Нужно сидеть молча и просто слушать.
– Я отказался возглавить правительство не из скромности. Безусловно я знаю, чувствую российскую ситуацию лучше, чем Кривошеин. И потом, он – администратор, а я – боец, привыкший находить выход из невозможных ситуаций. Однако в нынешний период мое назначение привело бы к расколу в наших рядах. У Александра Васильевича есть одно важное преимущество. Он считается нейтральным, за ним не стоит никакая сила. Я же являюсь предводителем, идеологом – называй как угодно – одного из двух лагерей, между которыми приходится лавировать барону Врангелю. Мне достоверно известно, что внутренне Петр Николаевич согласен с моей позицией, однако открыто принять нашу сторону он пока что не может. Я обещал барону, что возьму на себя всю полноту ответственности, когда в армии и обществе идея, которую я отстаиваю, станет преобладающей.
– В чем заключается эта идея? – спросил Антон, потому что Бердышев замолчал, о чем-то задумавшись.
– Что? – Петр Кириллович слегка поморщился – он не был намерен менять ход повествования. – Сначала изложу взгляды моих оппонентов. Это те самые круги, которые задавали тон при Деникине. Им нужен Кремль, Петроград, нужна Россия в границах 1914 года, на меньшее они не согласны. Чертовы дуболомы не дали нам договориться с поляками, с Петлюрой, с закавказцами, вбили клин между добровольцами и Кубанью. Партия эта почти целиком состоит из военных – так называемые «неделильщики». Моих единомышленников называют «крымцами». Мы признаем установленным фактом то, что население России твердо стоит за большевиков, а национальные окраины империи сделали выбор в пользу независимости. Силой тут ничего не изменишь – пробовали. Значит, нужно менять стратегию.
Понимая, что разговор переходит в ключевую фазу, Антон подался вперед. Да-да, именно что менять стратегию!
– Пока Ленин увяз в войне с Пилсудским, мы должны воспользоваться передышкой и превратить полуостров в неприступную крепость. Географические условия этому благоприятствуют. Перекопский перешеек в самом широком своем месте не длиннее семи километров, там еще с древних времен сохранился вал. Конечно, сначала придется выйти в Северную Таврию и нанести красным несколько чувствительных поражений. Во-первых, нам необходимо захватить артиллерию и боеприпасы. Во-вторых, большевики должны понять, что мы снова сильны. На масштабную вылазку ресурсов у нас, пожалуй, хватит. Но после военного успеха мы ни в коем случае не должны повторить ошибку Деникина.
Бердышев вынул из кармана часы, щелкнул крышкой и стал говорить чуть быстрее. Антону стало совестно, что большому человеку приходится тратить на него, мальчишку, столько драгоценного времени. Совестно – но и лестно.
– Мы не пойдем на Москву. Мы предложим Совдепии мир. В тот момент, когда наше военное положение будет находиться в высшей точке. Это будет очень выгодный для них мир. Мы вернем все захваченные территории к северу от Перекопа – все равно удержать их невозможно. Мы декларируем, что отказываемся от попыток свергнуть большевистскую власть вооруженным путем. От войны на уничтожение переходим к мирному сосуществованию. Стороны соглашаются на свободную миграцию населения. Кто из крымских пролетариев захочет уехать в коммунистический рай – пожалуйста. Советской республике не нужны паразиты и внутренние контрреволюционеры из числа «бывших»? Мы с удовольствием всех их примем. Если эти условия будут предложены в трудный для большевиков момент и активно поддержаны Западом, Ленин согласится. Он – отменный тактик. Решит, что уничтожит нас позднее, когда будет покончено с другими врагами, а с потоком эмигрантов можно заслать в Крым орду шпионов и агитаторов. Неделю назад Москва признала Дальневосточную республику. Признает и Крымскую. А когда через полгода или через год большевики развяжут себе руки, чтоб нас задавить, будет уже поздно. Мы укрепим свой фронт и тыл, учредим в Севастополе базу британского флота, намертво заминируем Перекоп и Сиваш, оставив одну-единственную трассу. Поди-ка нас, возьми. Но обороной ограничиваться мы не будем.
Худая рука сжалась в кулак, который поднялся и глухо стукнул о поверхность стола. Речь Бердышева при этом оставалась такой же монотонной. Это мешало Антону, диссонировало с возбуждением, которое охватывало его всё сильней.
– Мы соберем на полуострове всех эмигрантов из Совдепии, сливки нации. И построим в Крыму нашу Россию. Нашу. Она станет предметом зависти для России большевистской. У коммунистов будут насилие, кровь, скудость и голод. У нас – цивилизованная жизнь, свобода, уважение прав личности и процветание. Крым превратится в прекрасную розу, от аромата которой у остальной России закружится похмельная голова. Нас здесь поселится миллион или, может быть, два: интеллигенция, предприниматели, военные, студенты, духовенство. Со временем, когда утихнут бои и нормализуется жизнь, к нам присоединится большинство уехавших в Европу – как это сделал ты. Там им никто не рад, а здесь и встретят, и помогут. Скоро, очень скоро девяносто девять процентов россиян позавидуют одному проценту. И захотят жить так же. Вот единственно верный способ победить чудовище большевизма. Хватит убивать плебс. Нужно продемонстрировать ему, как хорошо обходятся без так называемого народа «кровопийцы-эксплуататоры». Придет время, когда они сами взмолятся, как славяне Рюрику: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».
Потрясенный, Антон больше не мог молчать. Это была та самая идея, с которой он приехал в Крым, но только доведенная до логического завершения и переведенная в практическое русло. Мало того: мечта о второй России, всегда казавшаяся Антону полнейшей утопией, в изложении Бердышева выглядела вполне осуществимой.
– Если бы только всё это получилось! – воскликнул Антон. – Если бы только получилось!
– Получится. При следующих условиях. – Бердышев стал загибать сухие пальцы. – Первое: большевики должны крепко увязнуть в Польской войне – это практически неизбежно. Второе: они должны понять, что крымский орешек им не по зубам. На этот счет я тоже спокоен. Барон уже собрал четыре сильных корпуса, в июне будет готов пятый. Начали поступать аэропланы и танки. В наступление мы сможем послать всего тридцать две тысячи штыков и сабель, но эта армия качественно превосходит деникинскую. В Крым эвакуировались только те, кто желает драться. Ни насильно мобилизованных, ни поставленных под ружье военнопленных. Как ни странно, главную угрозу для моего плана представляют не красные, а свои. От военных побед у «неделильщиков» может закружиться голова, и они не дадут барону вовремя остановиться. Но это уже вопрос внутренней политики…
У окрыленного Антона мысли так и понеслись. Если б он не робел, сказал бы: «Я так счастлив, что приехал сюда! То, что вы говорите, правильно и прекрасно! Мы оставляем народу России всё: каменные города и пышные дворцы, полезные ископаемые и заводы. Мы уходим нищими и нагими! Тем самым мы разом выплачиваем долги, накопленные нашими предками! Большевики заявляют, что всё национальное богатство создано руками пролетариата? Что ж, забирайте! Вы забыли, что были лишь исполнителями, а проектировали, изобретали, придумывали мы? Вы не понимаете, что мы – мозг, дух и воля, а вы – всего лишь тело? Что ж, поживите телом без головы. Или попробуйте отрастить себе новую голову. А мы попробуем, не получится ли у нас обзавестись собственным телом».
Отличная получилась речь. Надо будет потом ее записать, подумал Антон. Или все-таки произнести?
Правильно сделал, что сдержался. Иначе Бердышев счел бы его человеком несерьезным и беседа не получила бы дальнейшего развития.
Петр Кириллович с минуту внимательно смотрел на раскрасневшегося, но стоически хранящего молчание Антона. Сам себе кивнул, слегка усмехнулся.
– Тебя не удивило, что я сравнил Крым с розой?
– Немножко, – признался Антон. – Такая манера выражаться вам не очень свойственна.
– А это не манера. Белая роза – эмблема нашей организации. Пока мы этот символ не афишируем, но со временем он, вероятно, украсит красно-сине-белый триколор Южнорусской республики Крым.
– Вы имеете в виду организацию ваших единомышленников, «крымцев»?
– Нет. Единомышленников много, но лишь избранные входят в «Братство Белой Розы». Это люди, твердо верящие в нашу идею, не болтающие и непременно занимающие должность, на которой могут приносить конкретную пользу. Я бы назвал это сообщество «орденом», просто не люблю громких слов. Насчет «белой розы», как ты догадываешься, тоже была не моя идея. – Петр Кириллович улыбнулся чуть шире, чем прежде. Кажется, говоря о своем детище, он понемногу оттаивал. – Я прагматик, но у нас есть и поэтические натуры. «Белая» – понятно почему. А «роза» – потому что Крым должен быть цветком с очень острыми шипами. Любоваться можно, но кто захочет сорвать – поранится. Поэтому внешним и внутренним врагам мы будем давать жесткий, даже безжалостный отпор.
Антон был ошарашен. Такого он все-таки не ожидал. Нечто вроде масонской ложи? Ордена розенкрейцеров?
– Безжалостный отпор внутренним врагам? – нерешительно повторил он.
Бердышев понимающе кивнул.
– Не беспокойся, инквизиций и пыточных застенков у нас не будет. Когда я говорю о внутренних врагах, я имею в виду лишь террористов, диверсантов, активных саботажников. Шипы розы не направлены против инакомыслящих. Один из первых указов Петра Николаевича был знаешь про что? Тебе, непротивленцу, понравится. – По этой шутливой фразе впервые стало ясно, что цюрихское письмо на шести страницах Петр Кириллович внимательно прочитал и содержание помнит. – Барон распорядился за сочувствие большевикам не сажать в тюрьму, не вешать, не расстреливать, как это бывало в деникинские времена, а высылать красных симпатизантов на советскую территорию. Не нравится – убирайтесь.
– Но это… это замечательно! – с облегчением воскликнул Антон. – А на фоне всеобщего озверения даже феноменально!
Во второй раз Бердышев достал часы. Судя по озабоченной тени, пробежавшей по аскетическому лицу, разговор пора было заканчивать.
– После длинного объяснения короткий вопрос. Ты хочешь стать членом Братства?
– С вами – куда угодно!
Но пылкость ответа Бердышеву не понравилась.
– Это не то, что я хочу услышать. Людей исполнительных, в том числе беззаветно мне преданных, в ББР хватает. От тебя мне нужно другое: незамутненный взгляд, свежие мозги. И я, и мои соратники слишком долго варились в этом кипятке. Очень может статься, что за деревьями мы не разглядим леса. Готовится проект государственного, политического и экономического устройства небывалой прежде страны. К тому моменту, когда крымская идея возобладает и Петр Николаевич предложит мне возглавить правительство, я должен быть стопроцентно уверен в правильности нашей стратегии. Антон, я хочу поручить тебе дело огромной важности. Ты идеалистичен, но практичен. Начитан, целеустремлен, стараешься жить своим умом. Ты очень недурно руководил Фондом, в твои годы это удивительно…
Антон открыл было рот сказать, что все дела «Помросса» вел герр Нагель, но очень уж не хотелось перебивать. От удовольствия, кажется, запылали щеки.
– …Главное же – ты один из немногих, кто жил в послевоенной Европе и знает ее. Все мы, заскорузлые вояки, помним лишь довоенный парадиз, однако прежней Европы, насколько я понимаю, более не существует.
– Вы совершенно правы, – горячо согласился Антон. – Там тоже зарождается другой мир, мало похожий на Belle Époque. Военные потери огромны. Всё изменилось: человеческие отношения, этические нормы, идеология, темп жизни – всё.
– Наша программа должна быть понятна и «приятна» новому Западу. Ты нужен мне в качестве советника, консультанта.
– Я?!
– И не только консультанта. Хочу, чтобы ты сел и написал мне свое видение будущего крымского государства. Фантазируй, твори, прожектерствуй. Не бойся показаться смешным. Все нереалистичное мы отсеем, но если в твоем проекте окажется хоть одна полезная идея, мы обязательно возьмем ее на вооружение. У меня еще десяток людей, разного жизненного опыта, разных профессий сейчас сидят и выполняют ту же работу. Каждый сам по себе. Все они числятся советниками правительства, все – члены Братства. Я распоряжусь, чтобы тебе предоставляли любые сведения хоть экономического, хоть военного характера. Вообрази, что ты пишешь университетский реферат на тему «Республика Крым». Срок – один месяц. Объем произвольный. Ну что, согласен?
– Я… я не знаю, справлюсь ли… – залепетал Антон, которому невероятно, просто до дрожи понравилось бердышевское предложение. О такой работе он и не мечтал. – Я никак не ожидал… Но я буду очень стараться.
– Хорошо, – остановил его жестом Петр Кириллович. – Приступай к делу немедленно. Боюсь, у меня не будет времени с тобой видеться. Я то на совещаниях, то в разъездах. Распоряжусь, чтобы тебя обеспечили всем необходимым. Здесь, в гостинице, к сожалению, разместить тебя невозможно. «Кист» переполнен. Это единственное во всем городе здание с автономным электроснабжением. Даже кладовки все заняты под кабинеты. Но не беспокойся. Сейчас мы решим вопрос твоего проживания.
– Что вы, не нужно. Не хватало еще вам тратить время на чепуху! Я подыщу что-нибудь сам.
– «Сам»! – Бердышев ткнул пальцем в кнопку звонка. – Ты не представляешь масштабы жилищного кризиса в Севастополе. На семьдесят тысяч местного населения не то двести, не то триста тысяч беженцев – никак не можем всех сосчитать. Найти угол за занавеской считается огромной удачей.
Вошедшему капитану Петр Кириллович велел:
– Подыщите господину Клобукову приличное размещение. Отдельную комнату с письменным столом.
– Будет исполнено, – кратко молвил Сокольников и сделал Антону жест: уходим.
– До свидания, Петр Кириллович, я постараюсь вас не подвести…
Но Бердышев уже не смотрел, не слушал. Он тянулся к телефону. Костлявая рука подрагивала.
Оглушенный всем услышанным, потрясенный фантастическим заданием, Антон шел за капитаном и думал: «Кажется, Петр Кириллович немножко сошел с ума. Он все-таки очень странный. И поручение очень лестное, но тоже странное…»
У маленького офицера, вышагивавшего впереди, от тика слегка водило голову; вправо – влево, вправо – влево.
«Тоже человек с явными симптомами тяжелого нервного расстройства. С таким взглядом нужно отправлять на психиатрическое обследование».
Это всё были мысли мимолетные, бесполезные. Но затем появилась очень неглупая, достойная записи в дневник: «В безумные времена выживают только те, кто в качестве прививки получил легкую дозу сумасшествия».
«Значит, я тоже должен слегка тронуться рассудком. Иначе я здесь не выживу», – сразу вслед за этим сказал себе Антон.
И поежился.
На площади капитан махнул рукой, и сразу подъехал автомобиль, потрепанный, но вычищенный до антрацитового блеска.
Шоферу, немолодому прапорщику в кожаной куртке, Сокольников сказал только:
– К Патрикееву.
– Соборная, тридцать восемь? – не спросил, а как бы подхватил водитель. Ему надоело сидеть в машине, и он охотно перекинулся бы парой слов, однако неразговорчивость капитана, видимо, была ему хорошо известна и обратился он скорее к Антону.
Тот лишь пожал плечами.
Ехали в молчании, недолго.
Еще не начало смеркаться, и у Антона появилась возможность составить первое впечатление о Севастополе.
Очевидно, до войны он был очень хорош: благоустроенный морской город – новый, зажиточный, красиво и с любовью выстроенный. Но фасады обветшали, с них осыпалась штукатурка. Булыжную мостовую давно не чинили, автомобиль то и дело подскакивал на выбоинах. Самым верным, памятным еще по коммунистическому Питеру признаком разрухи были окна. Если люди не заменяют разбитое стекло, а прикрывают его фанерой или заклеивают бумагой, это значит, что город болен. Жители смирились с ненормальностью бытия и не знают, каким будет завтрашний день.
Зато на широкой улице (она называлась Нахимовским проспектом) повсюду были рестораны и кафе, за столиками сидели люди. А в газетах писали, что Крым голодает и хлеб распределяют по карточкам.
По меньшей мере половину прохожих составляли военные – еще один симптом нездоровья. И повсюду, на стенах, тумбах, столбах расклеены листки с объявлениями официального вида: то ли бюллетени, то ли указы. Надо будет пройтись и внимательно почитать, сказал себе Антон. Посмотрим, в каком тоне разговаривает с населением власть.
Свернули в тенистый переулок, поднимающийся кверху. Еще один поворот, минута лавирования по выщербленной мостовой, и автомобиль остановился у двухэтажного особняка.
«Наблюдательный пункт № 51», – прочитал Антон непонятную вывеску – белой краской на дощечке. Судя по часовому, что-то военное или во всяком случае казенное.
– Что это?
– Контрразведка, – объяснил Сокольников и показал жестом, что чемодан остается в машине.
– Контрразведка? Зачем?
– Помогут с квартирой.
Капитан говорил так же лаконично, как раньше, но без пауз и недовольной гримасы. «Он, конечно, тоже член Братства, – подумал Антон. – И догадался, что теперь я свой». Это придало ему смелости.
– Причем здесь контрразведка?
Кажется, степень капитановского братолюбия он переоценил. Вопрос остался без ответа.
Они уже поднимались по широкой и когда-то, видно, нарядной лестнице. В стенной нише стояла нагая Фемида с мечом и весами, из чего можно было заключить, что прежде здесь располагалось судейское учреждение. Но ступени были замусорены, под ногами хрустело стекло, а богине правосудия кто-то пририсовал углем поверх повязки глазищи с длинными ресницами, огромные соски и черный треугольник внизу живота.
В темном коридоре стояли и сидели люди. Много, в основном женщины, и все какие-то одинаково ссутулившиеся. Когда открывалась дверь в один из кабинетов, все в очереди одновременно поворачивали головы. Стульев в коридоре не было, лишь несколько длинных грубых скамеек да пустые ящики.
– Подождите, – сказал Сокольников и вошел в дверь, перед которой толпились гуще всего.
Господин в мятой войлочной шляпе неприязненно покосился на Антона:
– Я последний. Будете за мной, – сказал он почему-то шепотом. – Очередь живая, все прежние записи отменены.
Антон пожал плечами, и войлочный, успокоившись, уткнулся в исписанный листок, зашевелил губами.
– …В девятьсот одиннадцатом году отмечен благодарностью его высокопревосходительства первоприсутствующего… – разобрал Антон.
Еще один ненормальный?
С любопытством осмотрелся.
Ненормальных вокруг было немало. Пожалуй, большинство. Кто-то нервно расхаживал взад и вперед, разговаривая с невидимым собеседником; кто-то суетливо переминался с ноги на ногу, несколько женщин всхлипывали. Но все вели себя очень тихо, и никто, ни один человек, не разговаривал с соседями.
Эта картина Антону что-то напомнила. Ах да, очередь на лестнице в ЧК, на Гороховой улице. Там тоже каждый стоял, будто отгородившись от остальных, царило такое же шелестящее молчание и в воздухе ощущался острый запах беды.
Все снова повернули головы.
Из дальнего конца конвоир вел лысоватого толстячка в очках и приличной костюмной паре, но без галстука и воротничка. Он вытирал багровый лоб платком.
– Александр!
Со скамьи поднялась женщина в черном, кинулась навстречу.
– Что? Александр, что? – плачущим голосом повторяла она. – Говори, что?
– Высылка! – полное лицо арестанта тоже плаксиво искривилось. – Иди, умоляй! Пиши в департа…
Солдат толкнул мужчину прикладом в спину:
– Не положено!
Хотя удар был несильный, толстяк жалобно вскрикнул. Его увели за угол.
– Они сошли с ума!
Дама заломила руки – раньше Антон этот жест видел только в театре. Он не мог понять, в чем, собственно, трагедия. Если лысого высылают, значит, он враг Белого Дела и «красный симпатизант». Зачем же тогда умолять и почему рыдает женщина?
– Боже, я ведь говорила ему! – Дама обращалась к Антону – он был единственным, кто от нее не отвернулся. – Какая еще газета? В такие времена нужно сидеть тихо! Мы еле выбрались из Совдепии, мы столько вынесли, столько вынесли! Большевики Александра немедленно расстреляют!
– В департамент писать нечего. Пустое дело, – веско сказал старичок, сидевший на ящике и опиравшийся подбородком на трость. – Лучше продавайте что есть, в долг берите. Все люди, всем жить надо. Контрразведчикам тоже. Вы меня понимаете?
– Прекратите провокационные разговоры! – нервно воскликнул бормотун в войлочной шляпе. – Я пожалуюсь дежурному офицеру!
Вроде бы всё было произнесено по-русски, однако же Антон ничего не понял: что означает «всем жить надо» и почему войлочный назвал эти слова провокационными. Однако в коридоре сразу стало тихо. Рыдающая дама побрела к выходу, ей молча смотрели вслед.
Из двери выглянул Сокольников, нашел глазами Антона, кивнул: заходите.
– Это решительно невыносимо! – закричал тогда дрожащим голосом войлочный. – Я жду с утра! Зачем существует очередь, если кто угодно может…
– А вы пожалуйтесь дежурному офицеру, – ехидно перебил его давешний старичок. – Или, еще лучше, прямо полковнику Патрикееву.
Хозяин кабинета представился Аркадием Константиновичем, очень мягко и в то же время очень плотно пожал руку. Был он улыбчив, на кителе среди прочих регалий посверкивал университетский ромбик. Крайне неприятное впечатление от скорбной очереди в коридоре несколько рассеялось. Обходительный, с интеллигентными манерами полковник был совсем не похож на красных тюремщиков и следователей петроградского «домзака». Большая голова казалась еще крупнее из-за обширной плеши, под английскими усиками блестели хорошие, здоровые зубы, а глаза у полковника были светлые, внимательные, припухшие от недосыпания – именно такие, какие и должны быть у начальника контрразведки прифронтового города. В конце концов, сказал себе Антон, из кабинетов не слышатся вопли, во дворе никого не расстреливают, а что газетного господина приговорили к высылке – так, верно, за дело, да и отмолит, отобьет его черная дама. Даже замусоренность лестницы вкупе с опоганенной статуей, пожалуй, следовало истолковать в пользу контрразведки. Люди перегружены работой, им и выспаться некогда, не то что заботиться об опрятности. А въехали, должно быть, недавно.
Это последнее предположение немедленно подтвердилось. Патрикеев рассказал, что до недавнего времени здесь, в здании бывшего суда, располагался штаб разложившегося батальона, который почти в полном составе ушел в горы, к «зеленым».
– Видали нашу порнографию? – засмеялся Аркадий Константинович. – Всё забываю сказать, чтоб бензином протерли. Перед дамами неудобно, ей-богу.
В отличие от молчуна капитана говорил он много и охотно. Моментально выяснил, что Антон тоже учился на юридическом, и стал называть «коллегой». У полковника была своеобразная манера вести беседу. Он вроде бы все время что-то рассказывал, сообщая массу интересных или забавных сведений, ни на минуту не умолкал, но иногда вставлял короткий вопросец – и всякий раз непустяшный.
Меж уверениями в готовности «расшибиться в лепешку ради Петра Кирилловича», сетованиями о повсеместном падении моральных норм и юмористическими заметками об уродствах жилищного кризиса Патрикеев успел выяснить, откуда прибыл «коллега», чем занимался прежде и давно ли имеет счастье знать Бердышева. Услышав скупой ответ, что очень давно, с раннего детства, приятнейше улыбнулся и снова затараторил.
Пускай Антон был небольшой психолог, но все-таки догадался, что этот офицер – по повадкам видно, немаленький начальник, а по очереди ясно, что очень занятой – неспроста тратит на посетителя столько времени. Хочет уразуметь, почему мальчишке такое внимание от самого Бердышева.
– Скажите, почему ваше учреждение так странно называется? – спросил Антон, когда хозяин сделал паузу.
– Издержки реорганизации. У нас ведь в Крыму целый винегрет из прежних структур. Все путаются друг у друга под ногами, устраивают неразбериху, ну и не без междоусобицы, конечно. – Полковник комично развел руками. – Вообразите: в Севастополе действует Особая часть при начальнике военного управления, работает отдельная морская контрразведка и есть несколько армейских органов, по старинке именуемых «наблюдательными пунктами». Наш 51-й прежде состоял при Добровольческой армии. Скажу без ложной скромности, опыта у нас побольше, чем у всех прочих купно взятых. Имею основания полагать, что в самом скором времени мы всех их проглотим и переварим. Не без помощи Петра Кирилловича и его розария.
Патрикеев подмигнул и как бы между прочим, без нажима, осведомился:
– Вы ведь из наших? Ну, разумеется.
Он сложил два пальца, средний и указательный, приставил их к подбородку и подмигнул опять.
В некоторой растерянности Антон взглянул на капитана. Тот как сел на стул, так за все время ни разу и не шевельнулся. Не дрогнул ни единым мускулом и теперь.
– Нет, – засмеялся Аркадий Константинович, – капитан ничего такого мне не говорил. Он у нас вообще, как вы знаете, не из болтунов. Обычная дедукция. И про членство в ББР я спрашиваю единственно из заботы о вашей безопасности. Знаю, что Петр Кириллович считает ритуалы ребячеством, и вижу по вашей реакции, верней ее отсутствию, что этого жеста он вам не показал.
– Жеста?
Два пальца снова легли на подбородок.
– Знак принадлежности к Братству. Оно, может быть, и отдает бойскаутством, однако эта жестикуляция уже спасла жизнь нескольким человекам. Запомните сию несложную комбинацию. Можете угодить в облаву – для проверки документов или просто с целью вымогательства (бывает, у нас, увы и такое). Если вас взяли в серьезный оборот, немедленно требуйте сопроводить вас к главному начальнику – у вас-де имеются секретные сведения. Начальнику сделаете пальчиками вот этак. Очень возможно, что он окажется из наших. А коли нет – ну тогда говорите, что вы племянник полковника Патрикеева. По крайней мере, с ходу не шлепнут. В наши времена, коллега, жизни цена копейка, очень легко погибнуть из-за пустяка. Вот я вам занятную историйку поведаю из личного опыта.
И поведал – действительно занятную.
– В восемнадцатом году пробирался я из Совдепии на юг. И уже перед самой украинской границей попался-таки красному патрулю. Обшарил меня пролетарий, ловкий такой, не иначе из воров-карманников. Нащупал за подкладкой документ, удостоверяющий мою личность. Ну, думаю, со святыми в рай. – Патрикеев поднял глаза к потолку, сделал постную мину, перекрестился. – У меня ведь там: «товарищ окружного военного прокурора, полковник» и прочее… На мое счастье, патрульный начальник оказался малограмотный. С грехом пополам осилил только первое слово «товарищ» – и на том успокоился. Ну, коли товарищ, то иди себе… Вам смешно? – оскалился полковник, хотя Антон и не думал смеяться. – Это еще не вся история, я вам дальше расскажу. Уже на нашей стороне, близ Ростова, останавливает меня казачий патруль. Этим я подал удостоверение сам, уверенно. Свои же! Урядник, представьте, тоже оказался не особенный книгочей. Глянул в бумагу – ах, това-рищ, – и нагайкой по физиономии. Хорошо, шашкой башку не распетрушил… Погодите-ка, коллега, да вы не тот ли Клобуков, который возглавлял «Помросс», поставлявший в армию чудесную швейцарскую продукцию? – по обыкновению неожиданно сделал зигзаг Аркадий Константинович.
– Почему только швейцарскую? Мы закупали товар по всей Европе.
– Отличная должность, высокозавидная, – почтительно склонил голову Патрикеев. – И ответственность огромная, не по летам.
Тут же он быстренько свернул затянувшуюся безо всякой нужды беседу.
– С квартирой проблемочку решим. Есть у меня человек, на все руки дока. Устроит в превосходном виде – насколько сие возможно в нашем вавилоне. А если не потрафит, милости прошу не Петру Кирилловичу жаловаться, а отнестись прямо до меня. Подыщем вам, коллега, другое жилье. Для воспитанника дорогого Петра Кирилловича сережку из ушка и даже обе. – Широкий лоб полковника собрался горестными складками. – Полагаю, у него, бедного, кроме вас на всем белом свете никого и не осталось.
Вот какое, выходит, сделал Патрикеев заключение из своего хитрого опроса? Но удивился Антон только в первое мгновение. А потом сказал себе, что полковник чертовски умен и, очень возможно, разобрался в психологии Бердышева лучше, чем ее понимал Антон. Ведь действительно: получается, что он – единственное звено, которое связывает Петра Кирилловича с навсегда ушедшей жизнью.
Наголо бритый человек неопределенного возраста зашевелил бровями, что-то соображая. От этого весь скальп и даже уши у него задвигались. «Дока на все руки» звался Шишковым, одет был в мятый френч без погон, полосатые брюки и штиблеты с кожаными галошами, хоть погода стояла теплая и сухая.
– Меньше обувка стаптывается, – объяснил он, поймав взгляд Антона. – Скажите, сударь, вам обязательно с отдельным входом?
Нет, хотел сказать Антон, но капитан опередил его:
– Обязательно.
Уютно мурлыкая, бритый зашелестел грязненькой тетрадочкой, где вместо букв были какие-то значочки, будто воробей наследил. В маленькой комнате, куда Сокольников с Антоном попали от разговорчивого полковника, на тесно сдвинутых столах громоздились канцелярские папки, тут же почему-то лежало велосипедное колесо.
И опять ответ прозвучал, едва лишь Антон перевел взгляд на неуместный предмет.
– Отвинчиваю. Отчаянный народ – прямо от крыльца контрразведки тырят. – Шишков сложил толстые губы коромыслом. – Раньше только седло снимал – все равно угнали. Велосипед я, конечно, вернул, а вору сделал чики-чики. – Он провел большим пальцем по шее, будто перерезая горло. – Но этим сейчас мало кого напугаешь. А колесо – иное дело, без колеса не уведут.
В каком смысле «чики-чики»? – хотелось спросить Антону. Не в буквальном же? Но спросил про другое:
– Скажите, а почему квартирным вопросом занимается контрразведка?
– Контрразведка, сударь мой, должна знать всё, – промурлыкал Шишков, ведя пальцем по закорючкам. – Не про тайны науки, конечно, иль про бездны мирозданья, но про город – всё. Средь прочего и про жилищные резервы… – Палец остановился. – Вот, то что нужно. Правда, далеконько, за Корабельной. Но на Городской стороне с отдельным входом и письменным столом вообще ничего.
Капитан вопросительно посмотрел на Антона. Тот кивнул. Ему и так было неловко, что занятые люди тратят на него столько времени.
– Это неважно. Я собираюсь не гулять, а работать.
Сокольников взглянул на свои наручные часы.
– Тогда едем.
– Тихон… Андреевич, – не сразу вспомнил отчество Антон (имя-то тихого офицера запомнить было нетрудно), – вам совершенно незачем… Господин Шишков меня проводит.
– Приказано устроить. Должен убедиться, – отрезал капитан.
И поехали.
В самом деле, дорога оказалась неблизкой – минут на двадцать. Машина сначала поднялась по улице, потом покатила по крутому спуску вниз. Уже почти совсем стемнело, уличные фонари в этой части города не горели, лишь тускло светились окна, и Антон мало что мог разглядеть. Вот слева заблестела вода – автомобиль мчал по краю неширокой бухты. Где-то неподалеку гуднул невидимый паровоз. Затем потянулись длинные и громоздкие постройки, вовсе неосвещенные – склады или, может быть, мастерские.
Снова начался жилой квартал, но не городского, а деревенского вида. Улица была немощеной, по обе стороны, за плетнями, торчали соломенные и дранковые крыши, колодезные журавли.
Сотрудник контрразведки показал:
– Вон он, номер шестнадцать. Здесь и проживают Пасюки, где мы вас славно разместим.
Вылезли. Антон вдохнул аромат сирени. Дом был с белыми мазаными стенами, за ним, кажется, находился сад. Лязгнула цепь, гавкнула собака. Словно в ответ, встревоженно закудахтали куры.
Буколическая идиллия, прямо «Новая Элоиза», подумал недавний швейцарец, стараясь настроиться на иронически-этнографический лад.
– Эй, хозяева! – Шишков толкнул калитку, цыкнул на рычащего пса – тот сразу умолк. Собаки знают, на кого можно щериться, а на кого нельзя. – Встречайте гостей!
Из хаты вышел мужчина в темной рубахе, у него из-за спины выглядывала женщина, наскоро повязывая платок. Кто-то еще подсматривал из окна.
– Постояльца к вам привел! – весело крикнул контрразведчик. – Казенного. Оплата согласно тарифу.
– Хтой-то? – настороженно сказал хозяин, не двигаясь. – Вы хто такие будете?
Баба визгливо:
– Якого ще постояльца? Куды нам его?
– А шо ж, никак Петро вернулся? – всплеснул руками Шишков, немедленно переходя на певучий южный говор. – Ай, батьке с мамкой радость!
Мужчина замахнулся на жену:
– Тихо ты, дура. – И Шишкову, изобразив неуклюжий поклон. – Звиняйте, не признал. Тёмно. Та вы заходьте до дому, милости просим.
– Заходить нам к тебе, Пасюк, недосуг. Покажи-ка лучше господину ваш «выселок». – Бритый объяснил Антону. – Они сынку старшему, Петру, во дворе «выселок» поставили, это такой отдельный домик. Там и стол есть, потому он, Петро этот, в коммерческом училище обучается. То есть обучался.
Хозяева подошли ближе.
– Так где Петро-то ваш? – лениво спросил агент. – Не сыскался?
– Бог его знает. Сгинул и весточки нет. – Хозяин локтем подпихнул жену. – Иди, показывай. Зараз лампу принесу.
Позади хаты стоял маленький дом в одну комнату. Снаружи и изнутри он был белёный, чистенький. Из мебели только кровать да самодельный стол, сколоченный из досок. Вместо платяного шкафа в стену вбито несколько гвоздей. Антону эта опрятная спартанская обстановка даже понравилась – он ожидал чего-то совсем убогого, негигиеничного.
– Прелесть, а не квартирка, – причмокнул Шишков. – Из моего золотого запаса. Устроит вас или как?
– Да, очень хорошо.
Капитан, ни на шаг не отстававший от Антона, спросил:
– Могу доложить Петру Кирилловичу?
Если раньше хозяева пугливо смотрели на контрразведчика и офицера, то теперь так же тревожно уставились на Антона. Должно быть, вообразили, что он тут начальник и, значит, представляет главную опасность.
– Да-да, всё превосходно.
Он приветливо улыбнулся сначала мужу, потом жене, но выражение их лиц не изменилось.
– Завтра вам доставят всё необходимое.
Сокольников поставил чемодан, козырнул, вышел.
Ушел и Шишков, попрощавшись с Антоном и пожелав «спокойнейшей ночи». Рукопожатие у него было такое же, как у полковника, – мягкое, но крепкое. Должно быть, профессиональное.
Антон остался наедине с лэндлордом и лэндледи (он мысленно всё продолжал иронизировать, что с точки зрения психологической теории несомненно являлось попыткой компенсировать внутренний дискомфорт).
Состоялось знакомство, но комфортней от этого не сделалось.
Мужчина сам ни о чем не спрашивал, а отвечал, будто рапортовал начальству. Лицо у него было скуластое, вислоусое, с глубокой складкой между бровями. Звали его Павло Семенович. Жена на вопрос, как ее величать, сказала: «Та шо меня величать. Кажете „тетка“, и ладно. Других теток у нас на дворе нема».
Антону показали, где колодец, где отхожее место (деликатно обозвав его «латрына»), дали постельное белье. Были предупредительны, даже услужливы. Смущали только глаза хозяина. Кроме страха в них читалось еще что-то. Неужели ненависть? Но почему?
Антону хотелось остаться одному, он вдруг почувствовал себя неимоверно уставшим, но Пасюки всё стояли у порога, не уходили, будто ждали еще чего-то.
А, видимо, вот в чем дело.
– Плата по казенному тарифу это сколько? Наверное, немного? Я могу доплачивать.
Павло Семенович, сдвинув косматые брови, сказал:
– Ничого не треба. Всем очень довольны.
И опять стоят. Как сделать, чтоб они перестали бояться?
– Вы не думайте, я не из контрразведки.
– Ага, – кивнула тетка.
– То не наше дило, – сказал хозяин.
Не тронулись с места.
Наконец Антон понял: они ждут разрешения удалиться.
– Ну, спокойной вам ночи.
Немедленно, чуть не столкнувшись в проеме плечами, чета Пасюков исчезла.
Он развесил одежду, сложил на столе книги. Фотоаппарат пристроить было некуда. Пришлось оставить в чемодане вместе с набором разнокалиберных шприцов, новогодним подарком профессора Шницлера.
Стук в дверь.
Снова хозяин.
– Вот. – На заскорузлой ладони лежал ключ. – На ночь снутри запирайтеся. Когда уходите тож. Жиганов полно. Если не дай боже шось пропадет, с нас не спрашивайте. Во другого ключа нету, только ваш… Керосину много не жгите. Который в лампе догорит – другого нема.
– Хорошо. Я завтра куплю что-нибудь для освещения, а лампу вам верну.
Всё, теперь уж точно один. Антон сгрыз остаток цюрихских галет, закусил шоколадкой, запил холодной, чуть солоноватой водой.
Нужно было собраться с мыслями. От событий и впечатлений голова шла кругом. Лучший способ систематизации и анализа сумбура – запись на бумаге.
Он вынул девник, огляделся. Стол есть, а сесть не на что. Завтра надо будет добыть стул или хотя бы табуретку. Пока пристроился на подоконнике, переставив туда лампу.
Поглядел в окно, но увидел лишь собственное отражение. Вот тебе на: лицо напуганное, прямо как у Пасюков. Не очень-то помогла внутренняя ирония.
«Что ты натворил? – будто вопрошало призрачное лицо. – Зачем ты сюда приехал? Это Цюрих тебе казался чужим городом? Это с швейцарцами ты не мог достичь взаимопонимания? А что у тебя общего с этой дырой? С Пасюками, похожими на жителей дальней планеты, с которыми непонятно, как и о чем говорить? С полковником Патрикеевым и капитаном Сокольниковым? Да, есть Петр Кириллович, но как нехорошо он изменился! Это тень прежнего Бердышева. Профессор Шницлер, герр Нагель, Магда тебе в тысячу раз ближе, понятней, милее, чем соотечественники!»
Чтоб лицо перестало мучить и задавать бесполезные вопросы, Антон распахнул окно.
Из сада потянуло свежим ветерком. И пришла мысль, хоть недостойная записи, но успокоительная.
«Эх, утро вечера мудренее».
Он зевнул, сладко потянулся.
Потом быстро разделся, сел на колкий матрас, пощупал его (кажется, сено), стал ложиться и уснул, еще не коснувшись головой подушки.
Так и вышло. Утро оказалось мудренее.
Проснувшись, Антон зажмурился от яркого солнца. Прямо за окном качались светло-зеленые ветви с мясистыми белыми цветами. Яблони.
Удивительно, что мысль, едва пробудившись, заработала живо и ясно, будто голова всю ночь решала поставленную задачу и теперь была готова к ответу.
Всё очень просто. Есть два способа существования: человек может выбрать маленькую жизнь или Большую Жизнь. В маленькой жизни (той, что осталась в Цюрихе) маленькие победы и маленькие поражения, маленькие злодейства и крошечные подвиги. В Большой Жизни амплитуда совсем иная, масштаб потрясений несопоставим: гибнут и зарождаются государства, сменяются исторические эпохи; злодей не уводит жену, а уничтожает целый город; герой спасает не утопающего, а нацию. У тебя была возможность уютно устроиться в маленькой жизни. Ты мог занять похвальную, отлично оплачиваемую нишу в обществе, обзавестись славным семейством и спокойно, бестрагедийно дожить года этак до одна тысяча девятьсот восьмидесятого. Но ты сам, не по принуждению, выбрал другой путь. Так не сбивайся с него. Не трусь, не ной. В Большой Жизни очень легко погибнуть, но зато, если найдешь здесь счастье, оно тоже будет большим. И может быть, тебе встретится женщина, идущая той же дорогой. Не уютная и простая, а сложная, непредсказуемая, размашистая – как твоя страна, в которую ты вернулся, чтобы здесь жить и чтобы здесь умереть.
Тебе всего двадцать третий год. Странно быть благоразумным в таком возрасте, а низко и мелко целить – стыдно. Да, в России очень страшно, но здесь интересно и всё по-настоящему. В Цюрихе ты мог бы дожить до своего девятьсот восьмидесятого года, так и не узнав, чего ты на самом деле стоишь. В России же – можешь не сомневаться – жизнь попробует на зуб, так что захрустят кости, и ты поймешь, из какого ты слеплен теста. Есть ли на свете что-то важнее этого?
Он вскочил, чтобы немедленно записать это открытие, очень важное и духоукрепляющее, но не мог вспомнить, куда ночью положил дневник, хотя в пустой комнате ему вроде и деться было некуда. Ладно, отыщется. И вообще – хватит тратить порох на самокопание и нарциссическую писанину. Впереди серьезная работа совсем другого жанра.
Вчера задание Петра Кирилловича при всей лестности произвело на Антона впечатление некоторого безумия. Поручить мальчишке, недоучившемуся студенту, составление докладной записки о будущем государстве? Бред! Однако в том и состоит гениальность Бердышева, что он вычитал между строк цюрихского письма – или прозрел в глазах своего увлеченного слушателя – нечто особенное и сказал себе: «От этого парня может быть польза. Нам не помешает пусть наивный, но свежий взгляд на ситуацию». В свежести своих идей Антон не сомневался, а насчет наивности – тут Петра Кирилловича, очень возможно, ждал сюрприз. К своему проекту Антон намеревался приступить с педантичной обстоятельностью, которой научился у профессора Шницлера.
На свежую голову поставленная задача рисовалась еще более величественной и волнующей. Речь шла не просто о создании страны нового типа – интеллигентской республики. Тут просматривались контуры модели, применимой и в глобальном масштабе: конец эпохи межклассовых войн, переход социальной эволюции из примитивно-истребительной фазы в соревновательную…
Но здесь Антон придержал полет мысли, чтоб вовсе не оторваться от земли – он знал за собой этот грех. Витать в облаках в таком деле было непозволительно. И хоть не терпелось сразу сесть к письменному столу, наложил 72-часовой мораторий на всякое писательство. Сначала требовалось собрать необходимую информацию о Крыме, ну и, конечно, хоть немного осмотреться – ощутить пульс и дыхание местной жизни.
В городской библиотеке того, что нужно, Антон не нашел. Сведения были старые, совершенно бесполезные – даже не дореволюционные, а довоенные. Получить доступ к данным по сегодняшнему состоянию Крыма можно было бы через Бердышева (тот ведь и предлагал), но совестно докучать государственному человеку, а кроме того, если честно, хотелось его удивить: положить на стол не школьное сочинение – подробный доклад с цифрами и выкладками.
Непростую задачу Антон сумел решить сам – в первый же день. Помогли наблюдательность и сообразительность.
Утром шофер доставил от капитана Сокольникова пакет. Там кроме хлебных карточек, «подъемных», пачки бумаги, коробки химических карандашей и связки стеариновых свечей (всё, как вскоре выяснилось, дефицитнейшие вещи) было удостоверение «советника правительства Юга России». Книжечку с двуглавым бескоронным орлом Антон счел чем-то вроде охранной грамоты на случай проверки документов. Однако, гуляя по Екатерининской, самой оживленной улице Севастополя, случайно увидел вывеску «Статистический комитет Управления внутренних дел правительства Юга России». Вошел, предъявил удостоверение – и был немедленно препровожден в кабинет к начальнику, который принял посетителя со всей почтительностью и распорядился предоставлять господину советнику любые сведения по первому требованию, без задержек.
Составился рабочий график.
Проведя утро в ознакомлении со статистическими материалами, Антон отправлялся на рекогносцировку в город. Ходил по магазинам и рынкам, записывал цены, составлял список наличных и дефицитных товаров. Побывал на бирже труда, потолкался на «черном рынке». Ну и просто смотрел, слушал, мотал на ус.
Севастополь уже не казался ему грязным, убогим и нищим. Вероятно, по сравнению с другими областями страны, которая четвертый год пребывала в смуте и разрухе, город мог считаться благополучным. На улицах стреляли только по ночам, нечасто, голода же не ощущалось вовсе. Нечего и сравнивать с коммунистическим Петроградом. Все-таки юг, и разрешена торговля. По карточкам выдавали только хлеб, по фунту в день – не так мало. Дешевой еды хватало. Уж хамсу или селедку с «шрапнелью», то есть перловой кашей, себе мог позволить всякий.
Но все продукты за пределами сей скромной диеты считались роскошью и день ото дня дорожали. За фунт сахара на базаре просили тысячу рублей, за литр молока две тысячи. Еще хуже обстояло дело с одеждой. Новые сапоги стоили не меньше пятнадцати тысяч, брюки – от сорока.
В то же время на Большой Морской и Нахимовском, вдоль парадной Корниловской набережной до самого комендантского часа бурлила жизнь в ресторанах и кафе. Дамы по новой американской моде тянули через соломинку оранжад и лакомились мороженым, коммерсанты с брокерами обсуждали экспортные квоты и валютные операции.
На улице – это Антон сообразил быстро – следовало держать ухо востро, глядеть в оба. Петроградские навыки существования в опасной среде вспомнились быстро, хотя, как и с продовольственным вопросом, севастопольская действительность от сравнения безусловно выигрывала. Патрулей и облав Антон со своим чудесным документом (а для подстраховки был еще и тайный жест) мог не бояться. Угрозу представляли лишь офицеры, ходившие крикливыми, нередко подвыпившими компаниями, никому не уступавшие дорогу и с подчеркнутым презрением относившиеся к «шпакам». Особенно задиристы были казаки и офицеры так называемых «цветных» полков, новая гвардия: корниловцы, марковцы, дроздовцы. Завидев впереди черные мундиры, обыватели спешили перейти на другую сторону улицы. Так же научился поступать и Антон.
Разобраться в подводных течениях и неочевидных законах севастопольской жизни помогло общение с квартирными хозяевами. Многое, казавшееся загадочным, прояснилось.
В первое утро хозяйка подала завтрак: яичницу, сало, зеленый лук. На деньги замахала руками: «Шо вы, шо вы! Кушайте на здоровьичко!» Как и давеча, смотрела на постояльца с испуганно-угодливой улыбкой. Он спросил, как добраться до центра – тут же кликнула сына.
– А вот Савка вас до транвая проводит. Чого ж вам плутать, а ему всё одно делать нечего.
Ужасно это Антону не нравилось.
Мрачный подросток лет четырнадцати появился в окне, сплюнул в сторону.
– Идем, что ли.
Вот в мальчишке подобострастия не было нисколько. Наоборот, он поглядывал на жильца дерзко и неприязненно, с вызовом. За калиткой вынул кисет и, внимательно глядя в глаза, свернул цигарку из мелкоклетчатой бумажки, которая показалась Антону знакомой.
Вот куда подевался дневник, вечером оставленный на подоконнике! Блокнота было жалко, но Антон не сказал ни слова – слишком уж явно мальчишка провоцировал скандал. «Всё самое ценное носить с собой, – мысленно решил Антон. – Деньги, письмо матери, самые памятные фотокарточки. А „кодак“ отдать на хранение хозяевам».
– Эта бумага для курения не годится, – сказал Антон, усмехнувшись. – От нее будет сажа в легких. Гляди, от чахотки не помри.
– Кому помирать, это оно видно будет, – ответил Савка и опять сплюнул.
Можно было это расценить и как угрозу.
Идти и молчать Антону показалось скучно, а поведение мальчугана интриговало.
– «Савка» это Савелий или Савва?
Ответ опять прозвучал загадочно:
– Савватей пока что.
– Почему «пока что»?
Светлые глаза надменно скосились на Антона.
– А вот когда придут советские и ваших в море покидают, буду я Советий.
Мальчишка определенно нарывался на ссору. Однако кое о чем Антон начал догадываться.
– Твой старший брат, Петр, ушел к красным?
– Не, Петька в горы, к зеленым побег. У нас сейчас красных немае, – спокойно сказал Савка. – Но когда офицерьё на Перекопе юшкой умоется, зеленые враз покраснеют.
– Вот почему твои родители так легко меня пустили! Они не могли отказать контрразведке, потому что она знает про Петра! – Антон остановился. – Одного не пойму. Почему они боятся, а ты нет?
Паренек скучливо зевнул:
– Та ну их. А я коли шо, к Петьке сбегу. Есть у меня за это крепкая думка. В горах очень прекрасная жизнь. Получше, чем тут.
– Правильно делаешь, что меня не боишься. Я не из контрразведки. Я совсем по другой части.
– Чурався навоз говна, – буркнул на это маленький грубиян, не проявив никакого интереса к Антоновым занятиям.
Вечером, однако, стало понятно, что родителям трудный подросток эту новость передал. Страх в глазах хозяев пропал, услужливости тоже сильно поуменьшилось, а «тетка» завела разговор о доплате: «Во вы сами за то предлагали, а тариф ихний срам один».
Зато с Пасюком-отцом стало возможно разговаривать. Он теперь держался с постояльцем совсем иначе. Оказался неглуп, словоохотлив, себе на уме и даже не без спеси.
– Я в порту лебедочник, так? – говорил он, недоверчиво надкусывая цюрихский шоколад. – Сто пятьдесят тыщ в мае месяце получил, за меньше нехай им Врангель майнает. А офицера ихние, белая косточка, тридцать-сорок тыщ жалованья имеют. Есть которые к нам по ночам ходют корабли разгружать, не брезгуют – копеечка им не лишняя. За гроши ничего не скажу, плотют нашему брату рабочему культурно. А, с другой стороны, куда им деваться? Устрой мы, скажем, стачку – и всё, встал порт. Конец Севастополю. Чего ихние благородия со своими мамзелями шамать станут? Чем будут пушки палить? То-то. Вот и плотют, лебезничают.
Антон слушал с огромным интересом.
– Постойте, Павло Семенович, а вот вы рассказывали, что ваш родственник из Николаева, который сварщик, на нищету жалуется. Пишет, что при большевистской власти еле сводит концы с концами. И от собраний, митингов продыха нет. Получается, что рабочему при белых живется лучше, чем при красных?
– Тьфу ты! – рассердился Пасюк. – Я ему про Фому, а он мне про Ерему! Ничего не лучше! Василий резолюции голосует, ему как пролетариату почет, а мне всякая тля с погонами запросто может рожу наваксить, и не пикни.
– Ну так и комиссар, если что, церемониться не станет. Я жил под большевиками, знаю.
– Комиссар, конечно, тоже в харю может. Но он свой человек, трудовой. А паразиты – никогда. – Павло Семенович неожиданно закончил спор цитатой из «Интернационала». – Та шо с вами толковать! Хто на перине спал, какаву пил, не поймет.
И все же кое-что существенное Антон из этого разговора понял. В благодарность за науку сфотографировал «кодаком» всё семейство Пасюков на фоне их хаты. Отпечатал в ателье два снимка: большой отдал хозяевам, маленький оставил себе – на память о важном открытии.
«Мой народ похож на черноземную почву, таящую в себе мощный ресурс плодородия, но издавна удушенную сорняками, заваленную мусором. Здесь могли бы произрастать чудесные злаки, прекрасные цветы и сочные плоды, но никто и никогда эту землю толком не возделывал, не облагораживал, не засеивал – только сосал из нее соки и терзал. С чего бы народу получиться лучше, чем он есть? Да, он груб, примитивен, даже свиреп. Но в нем, как в Павло Семеновиче, живет сознание своей значительности, достоинство трудящегося человека, знающего, что без него ничего не будет – ни общества, ни государства. Вот сейчас, при бароне Врангеле, рабочие живут совсем неплохо, сытно, а все равно враждебны к власти. Потому что она перед ними заискивает, но за ровню не держит. Человеку нужно уважение, поэтому люди и пошли за большевиками. У тех голодно и страшно, но зато декларируется почтение к пролетариату. Оказывается, русский человек за уважение готов платить большую цену, оно дороже благополучия. И это, наверное, неплохо говорит о русском человеке…»
За неимением дневника записать мысль было негде. И не надо. С четвертого дня севастопольской жизни Антон уселся за сочинение проекта, и эта работа поглотила его писательский зуд целиком, без остатка.
Первая глава посвящалась расчету потенциального населения Южнорусского государства – в количественном и структурном аспектах.
В канун революции образованная страта общества, в которую следовало включать потомственное и личное дворянство, почетных граждан и духовное сословие, насчитывала в Российской империи два с половиной процента, или без малого четыре миллиона человек. Часть этого сословия погибла в ходе гражданской войны и красного террора, часть попала в подданство новообразованных государств, часть сделала выбор в пользу большевизма. Если отнять тех, кто поддерживает большевиков или просто не захочет трогаться с места, речь может потенциально идти о двух миллионах человек. Эта цифра, конечно, была слишком вольным допущением, но при нынешней неразберихе никто не взялся бы определить ее точнее. Если план Бердышева осуществится и между двумя Россиями начнется свободная миграция, как бы не пришлось через некоторое время вводить квоту на приезжих. Кроме «паразитов» и «бывших» наверняка найдется много взыскующих лучшей жизни из числа тех же пролетариев. На нынешний же момент население полуострова состоит из полумиллиона местных обитателей и трехсот или четырехсот тысяч беженцев.
Вопрос: сможет ли полуостров в будущем прокормить два с половиной или даже три миллиона граждан?
Этой теме Антон отводил второй раздел доклада.
Площадь Тавриды – 23600 квадратных километров. Получится примерно сто жителей на километр. Не так уж тесно, в Нидерландах плотность населения выше. Но проблема в том, что основную территорию занимают скудные водой степи. Пахотных земель немного. Для экспорта есть рыба, лес, соль, вино и фрукты, но транспортные средства ограничены, от прежнего Добровольного флота остается всего девять пригодных к плаванию грузовых пароходов.
С такими ресурсами прокормить три и даже два миллиона, разумеется, невозможно. Но ведь они соберутся в Крыму не сразу. Пока длится война, пока будут идти непростые переговоры о мире, минует, вероятно, не меньше года. В этот срок приток иммигрантов будет ограничен теми, кто сейчас бедствует за границей. По данным Статистического комитета, в Турции нашли временный приют 35 000 беженцев, 20 000 в Сербии, 6000 в Греции, 6000 в Грузии, около 4000 в Египте. Вот кто вернется в первую очередь, потому что счастливцы, добравшиеся до западной Европы, торопиться не станут – подождут, пока жизнь в новом государстве стабилизируется. Таким образом, в первый период существования республики ее население составит чуть более одного миллиона человека, а это совсем другое дело.
Третий раздел назывался «Жизнеобеспечение страны в краткосрочной перспективе». Для наполнения годового бюджета, который, по оценке Статистического комитета, должен был составить порядка 40–50 миллионов фунтов стерлингов, Антон предлагал пополнить доходы от экспорта за счет двух дополнительных источников.
Во-первых, добиться передачи правительству зарубежного имущества и авуаров Российской империи. Для этого требовалось взять на себя ответственность за внешний долг, прежде всего французский. Там миллионы семей разорились на русском займе, и Россия стала для французов бранным словом. Признание долга сразу изменило бы отношение европейцев к новому государству. При этом никто, разумеется, не ждал бы немедленной оплаты по счетам. Таврия, одна из пятидесяти губерний старой России, могла бы начать выплату своей доли, двух процентов долга, пообещав вернуть остальное после мирной победы над коммунизмом.
Во-вторых, можно продать на металлолом ржавые останки Черноморской эскадры. В Европе индустриальный бум, спрос на сырье огромен. Да за одну «Императрицу Марию», перегородившую северный край бухты, можно с ходу получить 3 миллиона, а есть ведь еще три линкора на плаву, и маленькой стране они совершенно ни к чему.
В четвертом разделе своего трактата («Направления среднесрочного и долгосрочного развития») Антон писал о том, что процветание будущей страны будет держаться на четырех опорах.
Первое: нужно культивировать, сделать пригодными для обитания и сельскохозяйственного использования степные пространства.
Второе: решить задачу самообеспечения топливом, для чего требуется создать шахтно-разрезный комплекс в Бешуе, где обнаружены залежи высококачественного каменного угля.
Третье: превратить Таврию в высокотехнологичное государство, которое будет торговать не промышленной продукцией, а научными разработками и патентами. Заводы здесь строить негде и работать на них некому. Но такой концентрации людей с высшим образованием – инженеров, ученых, исследователей – еще не знала история. Необходимо развернуть многопрофильный научный центр на базе Таврического университета в Симферополе, а Ялту превратить в форпост лечебно-оздоровительной медицины.
Отсюда четвертое: использовать благословенные природные условия южного побережья для создания курортной зоны. Она будет успешно конкурировать с Лазурным берегом благодаря целебным свойствам своего сухого субтропического климата. Ну и, конечно же, Крым должен стать Меккой туберкулезной терапии, отобрав первенство у чрезмерно дорогой и лишенной моря Швейцарии.
Когда работа над бумагой шла уже вторую неделю и переключилась с области экономической на общественно-политическую, еще более интересную, случилось одно событие, выбившее прожектера из колеи.
Как обычно, в первой половине дня он писал, а после обеда отправился в Статистический комитет, где должны были приготовить очередную порцию документов.
В Севастополе понемногу восстанавливалась нормальная жизнь. Почти по всем линиям вновь ходили трамваи, два года проторчавшие в депо. Антон ехал от Корабельной слободы в сторону железнодорожного вокзала, обдумывал непростую проблему: возможно ли в стране, находящейся на положении осажденной крепости, исключить из системы наказаний смертную казнь.
Жара еще не началась, солнце грело и радовало, но не пекло, а трамвайчик был не похож на питерские. Маленький, будто игрушечный, прицеп, всего на четыре ряда скамеек, насквозь продувало бризом, белые занавески легкомысленно полоскались в воздухе. Дверей в вагончике не было, к каждой скамье сбоку вели кокетливые ступеньки.
У Корабельного спуска вагоновожатый тренькнул, замедляя ход перед остановкой. На ней ждало что-то очень уж много людей. Антон рассеянно посмотрел на них и удивился. Впереди обмахивался шляпой полковник Патрикеев, очень элегантный в штатском костюме. Он радостно улыбался, глядя в вагон. Антон вежливо улыбнулся в ответ, но вдруг понял, что улыбка Аркадия Константиновича адресована не ему, а мужчине в кепи, который сидел на передней скамье.
Маленький поезд остановился.
– Ну здравствуй, голуба, – громко сказал Патрикеев своему знакомому. – Приехал, слезай!
Потом поднял два пальца, и люди на остановке разом задвигались, обходя полковника с двух сторон. Это всё были мужчины с одинаково сосредоточенными лицами. Антон узнал среди них бритого Шишкова.
Дальше случилось невероятное. Человек в кепи сорвался со скамьи, протиснулся через двух завизжавших дам, вывалился прямо на мостовую, уронил свой головной убор, но не обернулся, а побежал в сторону пакгаузов.
Что-то громко треснуло. Антон не сразу понял, что это стреляли. Но у бегущего подломилась – нет, переломилась – нога, на которую он как раз наступил. Так хрустит и трескается палка или сук.
Человек снова упал. В трамвае закричали.
Оставляя красный след, раненый пополз. Антон не мог шелохнуться.
К ползущему без особой спешки шли люди Патрикеева.
Тогда раненый замер. Оглянулся. На совершенно белом лице сверкнули оскаленные зубы. Рука потянула из кармана что-то, цеплявшееся за подкладку.
Пистолет!
Снова хлопнуло.
Оружие отлетело в сторону, а беглец схватился за локоть и сдавленно, страшно заревел.
Антон тоже вскрикнул, представив себе эту невообразимую боль: в этом месте проходит ulnaris nervus!
Преследователи встали вокруг лежащего, но расступились, когда приблизился полковник.
Он, нагнувшись, сказал что-то веселое, слов было не разобрать. А потом наступил штиблетом на раздробленный локоть. Раздался вопль, полный такой муки, что женщины в вагончиках перестали визжать.
Шишков махнул вагоновожатому:
– Что встал? Давай отсюда, давай!
Трамвай дернулся, Антона кинуло на переднюю спинку, где еще полминуты назад сидел человек в кепи.
Никто не оборачивался. Но стоило трамваю повернуть за угольные склады, как все одновременно заговорили.
– Большевик или зеленый, – сказала дама, визжавшая громче всех. – Ужас какой. Я ночью не усну!
Мужчины обсуждали поразительную меткость выстрелов:
– Каково? Сначала в ногу: не бегай. Потом в руку: не шали. Контрразведка. Мастера!
Антон был вынужден подпереть кулаком челюсть. Она прыгала.
В тот день до Статистического комитета он так и не доехал. Вечером не написал ни строчки. Ночью ходил по комнате, не мог спать.
Конечно, сказывалось потрясение. Антон впервые видел вблизи, как стреляют в человека. Однако дело не только в эмоциях. Случившееся на трамвайной остановке поставило под сомнение всё, чем он с таким увлечением занимался, во что верил.
Контрразведка – та же боевая часть, говорил себе Антон бессонной ночью. Полковник Патрикеев ведет войну с опасным врагом, у этого врага есть оружие. Всё так, всё правильно. Но зачем наступать ботинком на раненый локоть? Если полковник вытворяет такие вещи на улице, при многочисленных свидетелях, что же он делает с арестованными, когда никто не видит? И это – член Братства Белой Розы, соратник Петра Кирилловича, столп будущей идеальной республики?
Сам себе возражал: ты интеллигентик, слюнтяй, цюрихский мечтатель. Увидел краешек кровавой схватки, идущей уже третий год, и заахал. Чекисты тысячами расстреливают совершенно мирных людей, ты сам был этому свидетелем. А ведь красный террор восемнадцатого года был еще цветочками, разве мало ты видел в газетах фотографий с истерзанными телами большевистских жертв?
Но этот аргумент не успокаивал, не давал ответа на коренной вопрос. Если мы не лучше их, зачем тогда всё?
Наутро Антон поехал к Бердышеву, чтобы задать этот вопрос напрямую. Что это будет за новая Россия, если в ней возможны люди вроде Патрикеева? Знает ли Петр Кириллович, какими методами действует полковник? А если не знает, то не следует ли избавиться от такого «единомышленника», пока он и ему подобные не скомпрометировали идею?
Но Бердышева в «Кисте» не было. В секретариате сказали: выехал с главкомом на фронт.
Наступление началось еще неделю назад, весь город был обклеен афишами: во вражеском тылу высажен десант, красные полчища бегут, захвачены тысячи пленных, десятки орудий, огромные запасы зерна.
Прогнозы Бердышева начинали сбываться. Происходили колоссальные события. Возможно, это был перелом в титанической битве двух Россий, и Петр Кириллович находился там, в гуще сражения, где никто не считал убитых, никто не охал над ранеными.
«Ах, злой полковник жестоко поступил с подпольщиком, наступил бедняжке на больную ручку! Мое нежное сердце содрогнулось! – издевался над собой Антон. – И с этим кудахтаньем я собирался отрывать большого человека от великих дел?»
Устыженный, он вернулся к себе, но работа шла вяло, без былого вдохновения. Часто он ловил себя на том, что не пишет, а сидит и смотрит в стену.
Разве проблема в полковнике и его отвратительном поступке?
Здесь вопрос вопросов, на который лучшие, благороднейшие умы ищут ответ и не могут найти.
Как побеждают Зло? И возможно ли его победить, не прибегая к помощи другого зла? Христианство бьется над этой задачей две тысячи лет, но ничего не добилось.
Вся штука в том, что Зло это не что-то внешнее, чужеродное. Оно существует не само по себе, оно живет в душах – там же, где обитает Добро. В одном и том же человеке, всяком человеке, присутствуют оба начала. Вот почему к врагам нельзя относиться, как к мишеням для стрельбы. В душе каждого человеческого существа, пускай большевика или даже чекиста, живет твой союзник – Добро. Ты убиваешь и его, когда насмерть поражаешь своего противника. Значит, нужно не уничтожать оппонентов, а находить ключ или отмычку, которая отопрет запертое в их душах Добро.
Идеологи большевизма отлично понимают, что имманентное Добро, заложенный в человеке нравственный закон – главный враг их системы. Вот почему они еще со времен Нечаева упорно пытаются вытеснить общечеловеческую мораль классовой. Что на пользу революции и пролетариата, то и есть Добро, говорят они. Всё вредящее партии – Зло. С этой точки зрения в высшей степени нравственно умертвить царских детей, расстрелять сколько-то тысяч заложников, отобрать последний хлеб у крестьянина.
Борьба белых с красными – это война двух моралей. У нас тоже хватает злодейств и преступлений, но мы, по крайней мере, не заявляем, что так и надо, что это – Добро.
Именно в этом различии, возбужденно ерошил волосы Антон, и находится точка опоры, с помощью которой можно поставить мир обратно с головы на ноги! В этом суть!
Как бы ни были мозги одурманены большевистской пропагандой, всё равно средненормальный человек продолжает держаться за какие-то коренные нравственные понятия. Маленьких детей нужно защищать, стариков бить нехорошо, родителей надо любить, самоотверженность – это красиво, делиться с обездоленными похвально, эт сетера. Не так-то просто будет коммунистам вытравить из душ эту азбуку.
Вот карта, на которую нужно делать ставку.
Прекраснодушно? Умозрительно?
Ничего подобного! Эту идею не так трудно претворить в жизнь.
Первое, что необходимо сделать – отобрать у большевиков их главное оружие, извечную мечту о равенстве и справедливости. Нужен «белый коммунизм». В нашей армии солдаты и офицеры должны получать одинаковое содержание и обеспечение, вне зависимости от должности и чина. Выше занимаемое положение – выше ответственность, и только. За рукоприкладство выгонять с позором, невзирая на заслуги. К рядовым относиться как к братьям. А вожди Белого Движения пусть станут образцом бескорыстия. Пусть по примеру Петра Кирилловича пожертвуют на общее дело всё, что у них есть. И откажутся от всяких притязаний на оставшееся в России имущество: дома, поместья и прочее. Говорят, у барона Врангеля есть имение в Таврии. Очень кстати! Правитель первым сделает этот символический жест. Только нищими, добровольно отказавшимися от привилегий своего класса, можем мы победить в этой борьбе! Честно говоря, не очень-то велика будет жертва, поскольку у подавляющего большинства крымских беглецов все равно ни гроша не осталось.
Но как быть с полковником Патрикеевым? Не персонально с ним, а шире – с необходимостью защиты государства. Петр Кириллович прав: если у розы нет острых шипов, ее сорвут.
Во время войны без смертной казни вроде бы нельзя. Ее смысл не столько в возмездии, сколько в профилактике. Страшась расстрела, солдаты меньше мародерствуют, а тайные сторонники красных не осмеливаются перейти к открытым действиям.
Но Антон нашел решение и для этой трудной задачи.
Да, острастка необходима. Пускай суды и военные трибуналы выносят смертные приговоры, и об этом широко оповещают всех.
Будет еще страшней, если осужденных станет увозить в море некий специальный корабль, для эффектности его можно покрасить в черный цвет.
Корабль уплывает за горизонт, провожаемый испуганными взглядами, а возвращается пустой. Понятно, что приговоренных расстреляли, а трупы скинули в море. В перерывах между жуткими экспедициями черное судно стоит на рейде, самим своим видом предостерегая и увещевая. Суровая команда никогда не сходит на берег, имени капитана никто не знает, все зовут его «Харон», вдохновенно фантазировал Антон.
Но фокус в том, что на самом деле преступников не казнят. Их переправляют на хорошо охраняемый остров и держат там в тайном заключении. Когда же война закончится, будет объявлено: «Мы никого не убивали, все живы».
Антону так понравилась идея, что он решил изложить ее в отдельном документе. Ничего утопического в этой затее не было. У румынских берегов – он выяснил – есть подходящие острова. На некоторых даже имеются заброшенные казармы еще довоенного времени.
С Бердышевым они увиделись три дня спустя.
Произошло это неожиданно. Просто на улице гуднул клаксон, хлопнула калитка, Антон выглянул в окно и увидел капитана Сокольникова. Вечернее солнце окрашивало погоны кителя в цвет меди.
– Доклад еще не готов, – сразу сказал Антон, когда Бердышев пожал ему руку. – Но очень хорошо, что вы меня вызвали. Я хотел бы с вами говорить об одной принципиально важной вещи…
– После, не сейчас. – Петр Кириллович разглядывал своего протеже, пожалуй, пристальней, чем во время первой встречи. Будто желал найти ответ на какой-то непростой вопрос. – Я пригласил тебя по неотложному делу.
От Сокольникова по дороге Антон так и не узнал, чем объясняется внезапный вызов в вечернее время, поэтому выжидательно умолк. Но Бердышев молчал, нервно постукивая по столу и покачивая головой, как бы в сомнении.
– Жду полковника Патрикеева. Он будет с минуты на минуту, – объяснил он паузу.
Антон встрепенулся:
– Но о нем-то я и хотел с вами говорить!
Волнуясь и торопясь, он рассказал про мерзкую сцену, свидетелем которой стал несколько дней назад.
Лицо Бердышева застыло в недовольной, даже брезгливой гримасе.
– А ты не догадывался, что на войне стреляют? – перебил он. – Откуда ты знаешь, сколько крови на руках у того подпольщика? Очень может быть, что у Аркадия Константиновича с ним давние счеты. Обезвреживая большевистское подполье, полковник потерял несколько ценных сотрудников, своих соратников. Я не знаю, что бы я сделал, если бы мне попались мерзавцы, ссадившие с поезда, на верную смерть…
Он заперхал, не договорил, щека задергалась. Антон понял, что Петр Кириллович не может произнести вслух имена жены и дочери.
– Да, конечно, все живые люди, пролилось много крови, есть жажда мщения и прочее, – еще быстрей заговорил Антон, чтоб отвлечь собеседника от мучительной темы. – Но этот хоровод смерти кто-то должен остановить.
Как мог коротко, он изложил свою идею о секретном острове. Многие детали пришлось опустить. Антон боялся, что заявится Патрикеев и не даст рассказать суть.
Черты Бердышева понемногу смягчались.
– Неплохо придумано, – кивнул он. – Особенно про черный пароход на рейде. Можно было бы тайком отвезти в секретную тюрьму европейских союзников, чтоб успокоились, а то они всё заявляют нам гуманитарные протесты из-за «эксцессов». Однако этот метод пригоден для следующего, более спокойного этапа. Пока что мы деремся за выживание и вынуждены действовать с предельной жесткостью. Любая нерешительность будет расценена как слабость. Наказание должно происходить не за горизонтом, а на глазах у всех, публично. Гадость, но необходимо. – Петр Кириллович перегнулся через стол. Его воспаленные глаза магнетизировали собеседника. – Ты ведь без пяти минут врач. Тебе отлично известно, что есть травмы и болезни, не поддающиеся медикаментозному или терапевтическому лечению. Требуется хирургическое вмешательство, радикальное и срочное, пока не погиб весь организм. Крым достался нам насквозь больным, прогнившим, червивым. В горах бродят банды «зеленых», в городах бесчинствуют уголовники, но главную опасность представляет большевистское подполье. Ты плохо понимаешь шаткость нашего положения. Севастопольские рабочие – мощная сила. Если врагу удастся их организовать, затеять восстание или хотя бы просто стачку, мы погибли. Не будет ни продовольствия, ни боеприпасов. Тыл рухнет, армия развалится. Раз полковник задерживается, давай-ка я пока введу тебя в курс дела. Это сэкономит нам время.
Он стал рассказывать о жестокой, невидимой для обывателей борьбе, которую приходится вести с большевистским подпольем. Говорил деловито и сдержанно, но пальцы дрожали и зачем-то всё поглаживали пиджак. Антон не мог отвести глаз от этой нервной руки. Вдруг вспомнилось странное слово, когда-то где-то вычитанное и выплывшее из памяти: «обирается». Характерный жест, по которому определяют, что больной при смерти – пальцы судорожно шарят по груди, будто стряхивая с нее невидимые крошки. Придет же чепуха в голову!
Отгоняя скверную мысль, он дернул подбородком, и Бердышев понял это движение по-своему.
– …Понимаю, в это трудно поверить. Но всё это время в Крыму фактически существовало два правительства: на поверхности – наше, в подполье – большевистское. Еще в марте с той стороны прислали группу опытных конспираторов, которые создали на всем полуострове тайную сеть. Управлял ею Севастопольский подпольный горком ВКП(б). Его ячейки охватывали не только порт и судоремонтные мастерские, но железную дорогу, армию, флот. Даже в ставке главкома были вражеские агенты. В заговор входили офицеры бронеавтомобильного дивизиона и личный шофер барона. Если бы им удалось убить Петра Николаевича, белому Крыму настал бы конец. И спас всех нас полковник Патрикеев, которого ты давеча обозвал «палачом и садистом». Его люди выследили и обезвредили всю верхушку большевистского подполья. В мае прошли аресты в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Ялте, Керчи. Взяли далеко не всех, но это и не нужно. Достаточно было уничтожить органы, осуществлявшие центральное руководство и координировавшие действия местных ячеек. Сцена, случайным свидетелем которой ты стал, была завершением большой операции. Патрикееву удалось взять живьем самого Голубева, начальника всей крымской большевистской сети. Этот паук долго скрывался после того, как его паутина была разорвана, но в конце концов попался…
Антон обернулся на стук в дверь.
– Это полковник. Войдите!
– Про Голубева рассказываете? – Полковник вошел, хитро посмеиваясь и еще на ходу протягивая свою большую мягкую ладонь. – Я с полминуточки подслушивал – привычка. Исключительно из тактичности, чтоб не встрять не ко времени.
Помедлив долю секунды, Антон вяло ответил на рукопожатие. А что было делать? Не фрондировать же в присутствии Петра Кирилловича. И потом, «с полминуточки» – это сколько? Достаточно, чтоб услышать про «палача и садиста»?
– Извините, не поприветствовал вас тогда, в трамвае, – сказал контрразведчик, всё так же посмеиваясь. – Служба.
Оказывается, видел! Или Шишков ему потом доложил.
– Спросили? – фамильярно спросил Аркадий Константинович у Бердышева и сел в кресло, не дожидаясь приглашения. Было ясно, что он в кабинете частый гость и вообще свой человек.
– Нет еще.
Непонятный обмен короткими репликами Антона насторожил. «Спросили»? О чем?
– Что Голубев?
– Поет соловьем. – Добродушная улыбка исчезла, Патрикеев поглядел на Петра Кирилловича озабоченно и, пожалуй, тревожно. – Беда в том, что песни эти устарели, проку от них мало. Кого он знает, тех мы уже того…
Мясистый кулак свернул шею невидимой птахе.
Антон решил, что будет смотреть только на Бердышева, вопросительно: мол, какое это всё имеет отношение ко мне?
Петр Кириллович кивнул ему.
– Сейчас поймешь, зачем я тебя вызвал. В Петрограде ты рассказывал мне о своих приключениях на Гороховой. В том числе про некоего чекиста, который состоял адъютантом при моем приятеле Рогачове… Не припомнишь, как звали того субъекта?
– Конечно, помню. Он мне жизнь спас. Бляхин. Филипп Панкратович Бляхин.
Хозяин кабинета и полковник быстро переглянулись.
– Филипп! – повторил Патрикеев с торжеством. И поднял ладонь, как бы говоря Бердышеву: позвольте, дальше я сам. – Скажите, дорогой Антон Маркович, а узнали бы вы вашего ангела-спасителя, если б встретили его на улице?
– Безусловно.
Полковнику Антон ответил с предельной лаконичностью, очень сухо. Зато Аркадий Константинович улыбался ему прямо-таки с обожанием.
– Прочтите-ка вот эту депешку. – Ловко, как фокусник, Патрикеев вытянул из-за отворота листок. – Перехвачена нашей радиостанцией, настроенной на волну штаба красных в Новороссийске. Вероятно, адресована партизанам, скрывающимся в горах близ Судака. Не хватает сил уничтожить эту заразу, все войска заняты на фронте. Читайте, читайте.
«Новым, руководителем Крымского комитета назначен товарищ Долотов. В полночь 30-го в известное вам место из Тамани катером прибудет его помощник товарищ Бляхин. Как только от товарища Бляхина придет подтверждение, что севастопольская база готова, переправим и товарища Долотова. У него будут все полномочия, а также необходимые денежные средства и сведения о всей сети. Первый».
– «Первый» – это председатель Реввоенсовета, то есть сам товарищ Троцкий, – пояснил полковник Антону. – Что за Долотов, неизвестно. Наверняка какая-то коммунистическая шишка, но у них заведено для подпольной работы брать псевдоним.
– Но может быть, «Бляхин» – тоже псевдоним? С чего вы взяли, что это тот самый, питерский чекист?
– Во-первых, мелкие сошки у них обычно фигурируют под собственной фамилией. А во-вторых, взгляните на радиограмму, отправленную из партизанского отряда двое суток спустя.
Откуда ни возьмись появилась вторая бумажка. «Все готово, ждем завтра в тот же час, на том же месте. Филипп», – говорилось в ней.
– Три дня промучились с расшифровкой. Из чего следует, что Долотов скорее всего уже в Севастополе. С полномочиями, деньгами, а главное – с информацией обо всей подпольной сети. Голубев подобными сведениями не располагал, он знал только ближайших помощников, дальше связь шла по цепочке. Поэтому все ячейки залегли на дно. Без единого руководства они неопасны. Но с переброской сюда чертова товарища Долотова у дракона отросла новая башка, и всё его змеиное тело сейчас оживет. Будут стачки, саботаж, диверсии на железной дороге и прочие удовольствия. Мы с господином Бердышевым голову себе сломали, что нам делать с этой напастью. И вдруг Петр Кириллович говорит: «Постойте-ка. Филипп Бляхин? Где-то я слышал это имя…»
Хозяин кабинета поднял палец, и Патрикеев замолчал.
– Ты можешь нам помочь, Антон. Взять Долотова – дело первостепенной важности. Я не преувеличу, если скажу, что от этого сейчас зависит успех всего нашего дела. Твой Бляхин – единственная ниточка, которая может вывести нас к московскому эмиссару.
У Антона засосало под ложечкой. Воображение живо нарисовало картину. Вот он идет по Екатерининской, вглядывается в лица прохожих, а сзади вышагивают люди в штатском, и вдруг навстречу – тот круглолицый парень, и приступ паники: что делать? Кого предавать – Петра Кирилловича или человека, который вытащил тебя из тюрьмы?
– Я, конечно, помню этого человека в лицо, но не до такой степени, чтобы узнать с первого взгляда в толпе людей или, скажем, на улице… – пролепетал он.
– Зачем на улице? Не надо на улице! – заполоскал руками полковник. – Из агентурных каналов нам известно, что подпольщики используют для связи кафе «Норд» на Нахимовском проспекте. Очень неглупо придумано. Место бойкое, столиков много, всё время кто-то входит, выходит, подсаживается, раскланивается. Можно незаметно передать записку, обменяться парой слов. Вчера мои люди посчитали: за день через «Норд» продефилировало 584 человека обоего пола. За каждым слежку не установишь. По нашим предположениям, сам товарищ Долотов рисковать своей драгоценной особой не станет. Скорее всего, для контакта со связными от ячеек он использует своего помощника, Бляхина. Мы оборудуем для вас удобнейший наблюдательный пункт. Посидите там денек-другой. Появится Бляхин – покажете нам его. Вот и всё. Проще, чем дважды два. Разумеется, было бы совсем прекрасно, если б вы вступили с Бляхиным в контакт…
– Петр Кириллович! – вскричал Антон в ужасе и негодовании. – Вы хотите, чтобы я выдал человека, спасшего мне жизнь, на муки и смерть? Вы этого от меня хотите? Может быть, мне еще его поцеловать, как Иуда Искариот?
Бердышев насупился.
– Нашел Иисуса Христа! О каком поцелуе ты говоришь? Скажи, если ты опознал опасного преступника – убийцу, маньяка, душегуба, растлителя детей, – разве ты не сдашь его защитникам закона? Бляхин и Долотов вдесятеро страшнее любого Джека Потрошителя. И в миллион раз опасней.
А дальше он неожиданно заговорил о том же, про что Антон думал все последние дни.
– Большинство людей не злодеи. И те, что поддерживают красных, тоже никакие не выродки. С ними можно и нужно разговаривать, находить правильные слова, чтобы достучаться до умов и сердец. Не сомневаюсь, что рядовые подпольщики в основной своей массе обыкновенные люди, замороченные коммунистической пропагандой. Я не то что убивать – я и арестовывать-то их не хочу. Пусть только не вредят, пусть подождут и посмотрят, какое мы здесь построим государство. Потом сами разберутся, где правда. Однако есть на свете особы, разговаривать с которыми бесполезно. Их души черны беспросветно. Ты думаешь, Ленин с Троцким не знают, чем Зло отличается от Добра? Отлично знают, это весьма образованные господа. Знают, но намеренно переворачивают мораль и истину с ног на голову. Таковы все твердокаменные большевики. Они как раковые клетки, их нужно выжигать и вырезать, пока они не заразили всё вокруг…
– Рак не заразен, – буркнул Антон, чувствуя, что поддается доводам, а еще больше голосу, к которому привык относиться с абсолютным доверием.
– Забыл, что имею дело с медиком. – Бердышев рассмеялся, но взгляд остался холодным. – Черт бы побрал все метафоры, но коли уж начал… Хорошо, представь, что Долотов – инъекция смертоносной бациллы. С каждым днем действие этого яда будет бесконтрольно расширяться. И ты – единственный эпидемиолог, способный локализовать вспышку чумы. – Он грустно покачал головой. – Я знаю, тебе отвратительна роль филера. Ты ведь про себя именно так это называешь? Не буду скрывать, что глубоко презираю интеллигентское чистоплюйство. Это из-за него мы профукали Россию и теперь расплачиваемся миллионами жизней, неисчислимыми страданиями. Из-за того, что чудесные витии вроде покойного Знаменского не решились пролить немного крови, вовремя применив скальпель, сейчас по всей России рубят топорами по живому мясу…
Вдруг Бердышев, словно рассердившись на себя, махнул рукой.
– Что я тебя убеждаю? Ты взрослый человек. Решай сам. Не хочешь помогать – возвращайся к себе. Не будем тратить драгоценное время.
Неизвестно, поддался бы Антон, если б Петр Кириллович продолжал его уговаривать. Наверное, начал бы возражать, выдвигать контраргументы, но брезгливая гримаса, исказившая лицо самого важного в Антоновой жизни человека, сделала всякие споры невозможными.
– Тогда вот что… – Медленно, удивляясь твердости собственного голоса, Антон стал излагать идею, только что пришедшую ему в голову и на ходу облекавшуюся в слова. – Я согласен, но у меня два условия.
Никогда бы не подумал, что способен выдвигать условия Бердышеву. Тот смотрел уже не брезгливо, а удивленно.
– …Указать Бляхина исподтишка, из безопасного укрытия – на это я не пойду. Вы ставите меня в невозможную ситуацию, и оправдание здесь может быть только одно: если я поставлю на кон свою жизнь…
Мысленно поморщился: «на кон» – что за дешевый драматизм! Момент, однако, был не такой, чтобы оттачивать стиль.
– Если появится Бляхин, я подойду к нему. Будто это случайная встреча. Обрадуюсь, еще раз поблагодарю за спасение. Пообещаю никому не говорить, что он чекист. Предложу любую помощь. Очень возможно, что он заинтересуется. У меня ведь есть удостоверение правительственного советника. Подпольщикам нужны такие связи.
– Гениально! – вскричал полковник. – Мы можем назначить вам должность и поаппетитней! Я восхищен вашим протеже, Петр Кириллович!
Но не от Патрикеева ждал Антон одобрения. Бердышев же пока молчал.
– Ты сказал «два условия». Какое второе?
– Сначала примите первое.
Оказывается, проявлять твердость приятно. Разумеется, Петр Кириллович примет первое условие, но пусть проговорит это вслух. Антон смотрел на своего покровителя с вызовом.
– Петр Кириллович, гарантирую вам, мы позаботимся о безопасности нашего героя. Я задействую самых лучших людей и буду лично руководить операцией прикрытия! – Полковник умоляюще сложил руки. – Идея – чистое золото! Я всегда говорил, что самые лучшие агенты получаются из интеллигентов, ибо тут изобретательность ума и твердые моральные принципы.
«Что я делаю?!» – метнулась мучительная мысль.
– Я… я горжусь тобой, Антон.
Невероятная вещь – глаза Бердышева повлажнели.
И отступать стало некуда.
Весь следующий день Антон предавался исконно интеллигентскому виду самоистязания: полемизировал с собой. Диспут происходил в месте, будто специально придуманном для подобного занятия – можно даже сказать, символическом. Наблюдателя усадили в подсобку кофейни «Норд», по сути дела в большой посудный шкаф, приспособленный контрразведкой для присмотра за посетителями. В каморке имелось большое окно, которое со стороны зала прикидывалось зеркалом. Антон пытался иронизировать: интеллигенция, запертая в чулан истории, – но легко отнестись к ситуации не получалось. Было тесно, душно, а более всего унизительно.
В середине дня сотрудник Патрикеева, работавший в кафе официантом, принес обед, очень недурной, и ужасно удивился, когда клиент потребовал счет. Спорить не стал и деньги взял, однако можно было не сомневаться: положит себе в карман, и об Антоновой принципиальности никто не узнает. Наплевать! Антон сделал этот жест не для полковника Патрикеева, а ради самого себя. Он не за харчи у них тут служит, а по собственному выбору и на определенных условиях, которые всё меняют.
Второе условие было спасательным кругом, который удерживал на плаву чувство собственного достоинства.
– Этого я гарантировать не могу, – рассердился Бердышев. – Что если у твоего Бляхина руки по локоть в крови?
Антон даже обрадовался.
– Не можете гарантировать – тогда ловите его без меня. Но если в вашей операции участвую я, вы должны дать слово, что этот человек будет выпущен из Крыма целым и невредимым.
– С моей стороны возражений нет, – быстро сказал Патрикеев. – Если, конечно, Бляхин будет вести себя разумно и поможет следствию.
– Он и так вам поможет. Через него вы доберетесь до товарища Долотова. Поэтому никаких допросов. Просто отпускаете, и всё. Если не согласны – прощайте.
Должно быть, полковник прочел в глазах молодого человека надежду, потому что спорить больше не пытался.
– Хорошо, условие принято. По-человечески я вас понимаю. Наверное, и сам поступил бы так же.
Но этому лису патрикеевичу доверия никакого не было, Антон смотрел только на Бердышева.
Тот, помолчав, отчеканил:
– Ладно. Если Бляхин вольно или невольно выведет контрразведку на большевистского эмиссара, твоего знакомого отпустят, не причинив ему вреда. Обещаю.
Слову Петра Кирилловича не поверить было невозможно. Последняя надежда угасла. Вот результат: сиди в темном закуте, где на стеллажах поблескивают тарелки, блюдца, чашки, и занимайся самоедством.
В этих пародийных декорациях доводы Петра Кирилловича уже не казались убедительными. Какой к черту эпидемиолог! Шпик с потугами на благородство. Иуда, ради успокоения совести жертвующий тридцать сребреников на благотворительность.
Несколько раз Антон порывался сбежать, но удерживало соображение, от которого не отмахнешься.
Если сведения контрразведки верны и большевистский эмиссар восстанавливает контакты с ячейками именно через своего помощника, Бляхина в конце концов вычислят и без опознавателя. Люди Патрикеева будут брать на заметку всех посетителей кафе, кто активно общается с разными людьми; отсеют маклеров со спекулянтами, установят слежку за подозрительными. Рано или поздно Бляхин все равно попадется. Но, во-первых, из-за проволочки оживет часть большевистской диверсионной сети, что будет губительно для Крыма. А во-вторых, если Бляхин угодит в лапы полковника Патрикеева безо всяких условий, то живым не выйдет. То есть участие Антона в операции не только поможет делу белой республики, но и спасет человека от гибели.
Подобные резоны на время успокаивали. Но потом стрельнет мысль: «Знала бы мать. Что бы она сказала? А отец?» – и все логические оправдания обесценивались.
Однако представить Марка Константиновича и Татьяну Ипатьевну живущими в России 1920 года было совершенно невозможно. Всё равно что вообразить, будто Чехов по-прежнему гуляет по Ялте, а Толстой в Ясной Поляне ведет переговоры с местным комбедом. Та Россия отправилась на музейное хранение; эпоха, в которой жили родители, окончилась. В сущности, они превосходно сделали, что умерли.
Ужасное умозаключение – верней, легкость, с которой оно сформулировалось, – испугало Антона. Он сказал себе, что устал, зарапортовался. Еще бы, целый день взаперти, наедине с тяжелыми раздумьями. Уже без десяти десять, скоро эта мука закончится. Бляхин, слава богу, не пришел.
Чтобы встряхнуться, он стал мять виски, массировать глазные яблоки. Из-за этого и пропустил момент.
Когда снова открыл глаза, увидел Бляхина.
Бывший адъютант Панкрата Рогачова уже сидел за столиком, в дальнем углу. Он был не в черной коже, как в тот раз, а в легкомысленном полосатом костюме, но Антон сразу узнал человека, который приехал за ним на Шпалерную.
Прервалось дыхание, на лбу выступила испарина, в горле заклекотал нервический кашель. Наверняка и кровь от щек отлила. Выходить к Бляхину в таком виде было невозможно. Требовалось успокоиться.
Раз, два, три, четыре… Антон стал регулировать дыхание, а пальцами сжал запястье. Ну и пульс!
Молодой чекист вел себя крайне неосторожно. Зачем он положил на тулью шляпы такой приметный желтый платок? Профессиональный филер сразу догадается, что это условный знак.
И что ж это он так настороженно озирается?
Здесь полно людей из контрразведки. Они наверняка уже впились глазами в подозрительного субъекта.
Нужно поскорей идти к Бляхину, пока шпики на него не накинулись, сообразив, что это и есть большевистский агент.
Антон вскочил. Снова сел.
Спокойно, спокойно. Не суетись!
В кафе полно сомнительных личностей, которые дергано озираются. «Норд» – излюбленное место встречи для дельцов черного рынка, валютчиков, торговцев кокаином и прочих проходимцев. Бляхин ведет себя ничуть не подозрительней остальных. А вот если приблизиться к нему с бегающими глазками и дрожащими губами, точно всё дело загубишь.
Полковник во время инструктажа вообще велел подойти к «объекту», только когда тот засобирается уходить. Контрразведке нужно установить того или тех, кто встретится с помощником Долотова.
Спорить Антон не стал, но про себя решил, что лишних жертв на совесть не возьмет. Если подпольные ячейки «лежат на дне» и без контакта с центром неопасны, зачем зря губить людей?
Без шести минут десять. Вероятно, встреча назначена на двадцать два ноль ноль, а значит, надо торопиться.
Пульс спустился до девяноста, уже ничего.
Антон вышел через черный ход, чтобы войти в кафе с улицы.
Остановился на пороге, рассеянно обвел взглядом зал, как бы выбирая, куда сесть.
Бляхин повернул голову, но отвернулся. Не узнал.
Сделать несколько шагов вправо. Передумать, повернуть влево. Оглядеть соседние столики.
Пора!
Антон остановился неподалеку от Бляхина и наморщил лоб, будто что-то припоминая. Чекист снова посмотрел, в маленьких глазах мелькнуло беспокойство – и все-таки не узнал. Естественно: для него мелкий эпизод полуторалетней давности ничем особенным не памятен.
Вжав голову в плечи (не перебор ли?), Антон огляделся. Как будто сопоставил лицо, показавшееся знакомым, с конкретным воспоминанием и сообразил: чекисту здесь находиться опасно.
Заодно попытался определить, кто из посетителей подсадной и работает на полковника. Но на Антонову пантомиму пялились сразу несколько человек – вроде без особенного интереса, но черт их знает.
– Вы?! – прошептал он, приблизившись к столику и наклонившись. – Вот так встреча. Никак не ожидал вас увидеть здесь…
Бляхин заморгал. В глазах что-то мелькнуло: крайняя степень тревоги и мучительное напряжение памяти.
Еще раз оглянувшись, Антон без разрешения сел.
– Вы меня забыли? – Шепотом, шепотом. – Я Антон Клобуков. Осень восемнадцатого, Петроград. Вы меня забрали из «домзака» на Шпалерной и отвезли на Гороховую к Панкрату Евтихьевичу.
Светло-серые, почти бесцветные глаза чекиста остекленели от ужаса. Что ж, всякий в его положении испугался бы.
– Обмишурились вы, господин, – пролепетал Бляхин. – Отродясь в Питере не бывамши…
«Паршиво у большевиков с конспирацией, – отметил Антон, делаясь всё спокойнее. – Нарядили его, как заправского щеголя, а разговаривает по-плебейски».
– Вы не бойтесь! Я никому не расскажу.
Невесть откуда снизошедшая уверенность не мешала Антону изображать волнение. Конечно, он тоже взволнован такой встречей, а как же?
– Вы же мне жизнь спасли. – Антон наклонился над столом. – Ну, вспоминаете?
Ужаса в глазах собеседника стало меньше, но Бляхин все еще был, как натянутая тетива. Того и гляди рванется к выходу – испортит всю операцию и себя погубит.
– Вы от них ушли, да? От чекистов? – совсем тихо прошелестел Антон. – Раз вы здесь, понятно, что ушли… Не тревожьтесь. Я помню добро.
Стеклянный блеск угас. Страх схлынул. Однако настороженность осталась.
– Теперь припомнил, – медленно произнес Бляхин. – Как же. Прямо из-под стенки тебя вытащил…
Он посмотрел вокруг. Антон тоже обернулся – так было достовернее.
В кафе, обмахиваясь шляпой, входил Аркадий Константинович. Очевидно, находился где-то неподалеку и примчался, вызванный агентами.
Полковник направился к столу, за которым сидели двое мужчин, пожал им руки, сел, и они немедленно погрузились в какую-то оживленную беседу. У Бляхина троица подозрений не вызвала. Он теперь целиком сосредоточился на Антоне.
– Ага, сбежал я от них, дьяволов. Давно уже… Теперь вот тут. – Сделал неопределенный жест. – Но про ту службу скрываю, конечно. Сам понимаешь.
Антон кивнул: еще бы.
– С семьей?
После заминки Бляхин ответил:
– Само собой.
– Может, нужна помощь? Нет, правда, мне ужасно хотелось бы вас отблагодарить.
Чекист потер лоб. Пятерня у него была короткопалая, с нечистыми ногтями.
– А ты чего можешь? Ты кто тут?
– Учился в Швейцарии на врача. В Крым приехал по вызову Петра Кирилловича Бердышева. Слышали про такого?
– Как не слыхать. – Белесые, как свиная щетина, ресницы дрогнули. – Человек известный.
– Ваш бывший шеф Рогачов его тоже знает, они вместе учились. У моего отца. Петр Кириллович меня с детства знает. Должность мне дал. Вот: советник правительства. – Антон не без важности показал удостоверение. – Так что я многое могу.
И сам подивился, как легко и убедительно он актерствует.
Бляхин взял книжечку, внимательно в нее уставился. Воспользовавшись этим, Антон покосился на полковника. Аркадий Константинович ободряюще прищурил глаза: всё идет чудесно. Во всяком случае, арестовывать большевика он, кажется, не собирался, то есть первое условие Антона было соблюдено.
– Может быть, вам нужно денег? – спросил он.
– Не, гроши есть. – Бляхин сосредоточенно размышлял, пошмыгивал носом. – Вот кабы пропуск ночной, а то у меня… жена хворает. Станет плохо, даже в дежурную аптеку не сбегаешь.
– Пропуск достать можно. Но чем больна ваша жена?
– А? – Чекист посмотрел на часы, потом на дверь и быстро убрал с шляпы желтый платок. – Не знаю, доктора еще не вызывал… Брюхом мается. Пора мне. А то как она там… – И поднялся.
Очевидно, ему показалось мало убрать условный знак. Хочет поскорей уйти. Не исключено, что связной уже сидит в кафе и просто медлит подойти, пока человек с желтым платком занят.
«Даже удивительно, как это я, не имея никакого опыта, так хорошо всё понимаю, – подумал Антон с гордостью. – Сейчас он назначит следующую встречу. Ему нужно посоветоваться с Долотовым, следует ли использовать эту неожиданную возможность… А вдруг начальник запретит? Нет, не может он запретить. Свой человек в окружении самого Бердышева для подполья находка».
Как только Бляхин уйдет, нужно будет попросить полковника отказаться от слежки – ее могут заметить, и пиши пропало.
Вдруг Антон разозлился на себя. Никак азарт ищейки пробудился? Стыдно. А кроме того, нечего учить ученого. Полковник не хуже тебя знает, как действовать.
Бляхин уже надел шляпу, но не уходил, медлил. Ясно одно: самому напрашиваться на встречу ни в коем случае нельзя.
– Слушай, Клобуков… Коли ты доктор, может, поглядишь, что с моей… Маней? По старому знакомству, а? – сказал вдруг чекист. – Сейчас прямо и съездеем. А побалакаем по дороге.
У Антона сжалось сердце, но не от страха, а от какого-то другого, не сказать чтобы неприятного чувства. Кажется, все-таки азарт? Ну и ну.
– Конечно, едем. (Убедительно сморщить лоб.) Боли в животе – симптом тревожный. Могут означать что угодно, в том числе тиф.
Идя за Бляхиным к выходу, Антон коротко взглянул на Патрикеева. Аркадий Константинович – благо большевик был к нему спиной – беззвучно поаплодировал и закатил глаза. Видно, и он не ожидал такого развития событий.
Еще один сюрприз: Антону восхищение контрразведчика польстило.
«Может, вы, майн херр, не тот путь в жизни избрали? Шпионский талант в землю зарываете?» – смазохистничал он.
На углу Большой Морской они сели в трамвай Лагерной линии и поехали куда-то в сторону Куликова поля, где Антон прежде не бывал.
Ехали долго.
Немного рассказав о швейцарской жизни, Антон начал расспрашивать спутника, как тот из Питера попал в Крым. Было бы странно, если б разговор обошел эту тему.
Бляхин врать оказался не мастер. Косноязычно, явно сочиняя на ходу, он поведал, как ему опостылела чекистская служба, потому что там один был стоящий человек – Панкрат Евтихьевич, а как того в Москву перевели, остались сплошь жиды и кровопийцы, прямо мочи от них не стало. Сбежал он от них, окаянных. Сколько лиха хлебнул, куда только жисть-сука не бросала – всего не пересказать. А про жену высказался еще неопределенней: баба золото, только здоровья слабого.
Сошли на конечной, у каких-то казарм, и потом еще порядочно петляли. Приличные кварталы давно остались позади, потянулись деревенские улицы, как в Корабельной слободе, потом вовсе начался пустырь.
Если Патрикеев и приставил слежку (хотя Антон никого не заметил), то тут филерам хочешь не хочешь пришлось бы отстать. Место голое, не спрячешься, а Бляхин поминутно оглядывался.
Время было уже к одиннадцати, длинный июньский день мерк, с ближних холмов задуло прохладным ветерком.
Вдруг Антону пришла в голову мысль, от которой он споткнулся.
Чекист ведет его не к мифической жене и не к Долотову! Заводит подальше от домов, чтобы убить! Всякий подпольщик поступил бы в подобной ситуации так же: убрал бы человека из прошлого, чтобы обезопасить организацию.
Уверенный, что угадал, Антон посмотрел вокруг в тоске и панике. Умереть сейчас? Здесь? На замусоренной выгоревшей траве, средь битого кирпича и бутылочных осколков? Не может быть! Зачем же тогда было всё: детство, прочитанные книги, странствия? Зачем думал и чувствовал, любил, боялся, надеялся? Неужто предчувствие большой, особенной жизни было обманом?
Будешь валяться тут куском неодушевленной материи, и вон та облезлая кошка подойдет, понюхает мертвое лицо…
Предчувствие смерти было таким несомненным, что Антон зажмурился, когда Бляхин к нему поворотился.
– Пристал? – сказал тот. – Близко уже. Вон там мы проживаем.
Открыв глаза, Антон посмотрел, куда указывал палец.
На дальнем конце пустыря к длинному невысокому утесу лепилась кучка домов. Их серо-желтые крыши почти сливались с монохромным обрывом.
– Жигановка называется. Не знаю, почему. Может, когда-нибудь жиганы жили.
Тряхнул Антон головой, отругал себя за мнительность и чрезмерную живость воображения.
Через несколько минут они оказались у глухого дощатого забора. Бляхин, еще раз оглянувшись, стукнул в калитку хитрым манером: тук-тук, тук-тук-тук и после паузы еще раз.
Наверху отодвинулась половинка доски. Оттуда с любопытством смотрели синие глаза с пушистыми ресницами – несомненно девичьи, у мужчин таких не бывает.
– Открывай, Сашка. Свои.
Калитка открылась без скрипа. Антон увидел перед собой худенькую девушку в линялом ситцевом платье и грубых сапогах. Она улыбнулась им обоим, и страх окончательно пропал. Есть на свете люди, про которых как-то сразу ясно, что ничего скверного в их присутствии произойти не может. Лет восемнадцать ей было, никак не больше.
– Заходьте, я вас в щелку бачила, – сказала она, и Антону впервые южный говор показался красивым.
– А чего не открыла? – бросил Бляхин, идя вглубь двора. Там, прямо под скалой, белела крохотная избенка.
– Не положено, пока по всей форме не отстукаете, – засмеялась девушка. – Я на посту или как?
– Это ваша жена? – спросил Антон.
Бляхин лукаво ухмыльнулся.
– Не, набрехал я про жену. Рано мне жениться. Идем-идем, не робей.
Чекист теперь держался и разговаривал иначе. Будто, войдя во двор, оказался на территории, где хозяин – он, и прикидываться уже незачем.
Хотел Антон изобразить изумление, но решил, что будет естественней принять растерянный вид и помалкивать.
Он действительно был растерян. Неужели здесь и находится логово страшного большевистского подполья, ошеломленно думал Антон, глядя на домишко. На скамейке дымил цигаркой парень с облупившимся носом. Строгал щепку большим самодельным ножом.
Филипп пожал ему руку, кивнул на Антона.
– Пригляди за товарищем, Ефимка. Я скоро.
В избушку не вошел, а почему-то обогнул ее, скрылся за углом.
Парень поднялся. Глаза у него были такие же, как у девушки, только ресницы обыкновенные, непушистые. Медленно, со значением Ефимка оправил рубаху навыпуск – чтоб было видно, как она оттопыривается на животе. Очевидно, за пояс штанов был засунут револьвер или пистолет.
Однако ни угрозы, ни враждебности в этом движении не чувствовалось. Скорее, горделивость или желание похвастаться.
– Ефим Гольцов, – сказал парень, протягивая прямую жесткую ладонь.
– Антон. Клобуков.
Подошла девушка, с интересом уставилась.
– Это Александра, сестренка.
– Очень приятно. Антон Клобуков.
У девушки ладошка была такая же шероховатая.
– Ты на посту или как? – Парень сурово сдвинул выгоревшие брови. – Поздоровкалась – дуй на место.
Но Александра не тронулась.
– Чудно вы говорите. Сами не с Севастополя будете?
«Никакой большевистской базы и грозного московского комиссара быть здесь не может, это ясно. Какая-нибудь промежуточная явка?»
– Я из Петрограда. А вы тут живете?
Девушка хихикнула.
– Тут, где ж еще? Я да Фимка. Еще мамка была, но она в прошлый год померла.
В ясных глазах мгновенно выступили слезы, но Александра их смахнула – и снова улыбнулась. Как летняя тучка, подумалось Антону: брызнула дождиком, и снова солнце.
– Вы из образованных? – Девушка смотрела на его очки. – У вас батя, наверно, генерал или купец?
Было понятно, что для нее генерал и купец примерно одно и тоже. Не восемнадцать, шестнадцать, мысленно скорректировал Антон возраст подпольщицы.
– Сашка!
Брату за нее было неудобно.
– Мой отец был адвокат.
– Ну все равно богатый.
– Сашка! – Ефим дернул сестру за рукав. – Человек подумает, ты дура совсем. Дура и есть!
– Адвокаты богатые, а то я не знаю! Я вот чего не пойму. – Девушка пытливо смотрела прямо в глаза. – Если вы из богатых, почему за бедноту вступаетесь? Я когда вижу таких, ужасно удивляюсь. У нас тут один был, Миша, он вообще был офицер… – Синие глаза вновь заблестели от слез. – Я его тоже спрашивала, но он веселый был, всё шутки шутковал. Мишу заарестовать хотели, а он не дался, и его застрелили. Сам Патрикеев-полковник, ужасный гад.
Слезы – большие, прозрачные – скатились по щекам.
– Ничего, дай срок, – сказал Ефим. – За всех товарищей ответят. С каждой отдельной гниды спросим. Ты, Санька, не плачь.
Он задрал рубаху и похлопал по рукоятке «нагана».
А девушка уже и так перестала плакать.
– Так вы мне объясните. Почему Миша и вот вы за простой народ пошли?
Антон молчал, не зная, что сказать. Ему хотелось отвести глаза, но это было бы подозрительно.
– Глупости спрашиваешь. Потому что совесть есть. Кусок в горле застревает. – Брат солидно поглядел на Антона, будто ожидая одобрения своим словам. – Правильно я говорю, товарищ Клобуков?
Пораженный формулировкой, Антон кивнул. «Кусок в горле застревает». Как ёмко и коротко эта простая фраза вобрала в себя всю жизненную историю отца и многих таких, как он! Нравственному человеку невозможно быть счастливым или хотя бы спокойным, невозможно витать в облаках и заниматься любимым делом, когда вокруг голодают, подвергаются унижениям, прозябают в рабстве другие люди.
– Вы тоже с Тамани приплыли? – почтительно спросила Александра. – Как товарищ Долотов и товарищ Бляхин?
– Нет, я живу в Севастополе.
– А у вас какая легенда?
Это слово она произнесла с удовольствием – видимо, недавно узнала. Ефим настырную сестренку не одернул, ему тоже было интересно.
– Я советник при правительстве Юга России, – промямлил Антон. Ему было неловко своей пышно звучащей должности.
– При чего правительстве?
Александра удивилась. Кажется, она и знать не знала, как называется ненавистная ей власть.
– Ты чего, Санька? – укорил ее Ефим. – Это которые в «Кисте» сидят.
– А-a. – Она глядела на Антона с восхищением. – Прямо у Врангелей? Ну вы храбрый! И хитрый! Я бы сразу запалилась.
Вдруг представилось: вот сейчас от мощного удара слетает с петель калитка, во двор врываются уверенные, хмурые люди, выкручивают руки этой ясноглазой Саньке и ее важничающему брату.
Невозможно, чтоб Патрикеев не приставил «хвоста». Он что-то говорил про операцию прикрытия, которой будет руководить сам.
Проследить за трамваем нетрудно. Пока шли по улицам – тоже. А на пустыре агенты могли отстать и в бинокль подсмотреть, в какой двор вошли Антон с Бляхиным.
Если всё так (а иначе не может и быть), то в эту самую минуту уже мчатся грузовики с солдатами, чтобы оцепить весь район. Опытные агенты – те самые, что брали человека из трамвая, – готовятся к штурму подпольного центра.
А здесь всей охраны паренек с «наганом» и девчонка.
Из-за угла высунулся Бляхин.
– Антоха! – позвал он уже совсем попросту. – Давай сюда!
Идти там было особенно некуда. Почти сразу за домом поднималась серо-белая стена каменного обрыва. Но, обойдя избушку, Антон увидел ржавую железную дверь, врезанную прямо в скалу.
– Тут много нор понарыто, – объяснил Бляхин. – В стародавние времена камень резали, с него весь Севастополь построен. Заходь, не робей.
Он потянул створку, за ней открылся узкий проход, в котором густела тьма.
Бляхин затворил за собой дверь. Стало совсем темно. Как идти дальше, непонятно. На ощупь?
Но Бляхин придержал Антона за плечо.
– Мы это, товарищ Сердюк!
– Вижу, – ответили из мрака, непонятно кто и непонятно, как тут можно было что-то видеть.
Щелчок. Вспыхнул свет. От неожиданности Антон зажмурился.
Откуда здесь электричество? Значит, есть собственный генератор.
Оказалось, что за проходом расположено большое помещение, целый зал, вырубленный в горной породе.
Посередине стол. За столом седой человек. Перед ним револьвер, две «лимонки». Лицо у человека неподвижное, землистого цвета.
– Шагай, шагай.
Бляхин подтолкнул Антона к одной из четырех дверей: две слева от стола, две справа.
Опасливо поглядывая на седого, Антон шепотом спросил:
– Он тут в темноте сидит?
– Так надежней. Товарищ Сердюк из шахтеров, всю жизнь под землей. Лучше кота видит. Нас просто не возьмешь. Сейчас сам увидишь.
– Кого «нас»? – спросил Антон, чтоб не выбиваться из роли.
Бляхин только хмыкнул.
За дверью была длинная штольня, однако рассмотреть ее не хватило времени. Едва Бляхин потянул за ручку, свет опять погас.
– Я это! – снова крикнул Филипп в темноту.
– Ага, – ответили глухо, словно из-под земли.
Опять загорелось электричество. Сверху длинный коридор был освещен несколькими лампами, а заканчивался он кирпичной стеной, и в ней чернела щель. Голос мог ответить только оттуда.
Они пошли вперед, прямо на стену. Вскоре стало видно, что из дыры высовывается дуло ручного пулемета.
Действительно, их тут взять непросто, соображал Антон. Избушка с братом и сестрой – только фасад. Ефим и Санька местные жители, не привлекают внимания, не вызывают подозрений. А настоящий штаб спрятан в бывшей каменоломне. Без кровопролитного боя сюда не ворвешься.
В десяти шагах от стены стало видно, что вправо ведет еще один коридорчик, упирающийся в стальную перегородку.
Бляхин крикнул в дырчатое окошко:
– Привел!
Что-то щелкнуло, створка приоткрылась.
– Заходь, я снаружи останусь. – Бляхин подмигнул. – Да не жмись ты.
Антон увидел еще один большой зал. Свод и стены терялись во мраке. Свет давала только лампа на столе.
По каменному полу скрежетнуло. Человек, у которого вся верхняя половина тела была отрезана тенью, поднялся из-за стола.
– Что, брат? Интересная штука жизнь?
Навстречу Антону, посмеиваясь, шел Панкрат Рогачов.
– Вот тебе на, глазами хлопает. А я думал, ты по Бляхину догадался, к кому тебя ведут. Раньше ты, Антон Маркович, посмышленей был. Отупел в Швейцариях, отупел. У меня, брат, когда в Женеве кис, тоже от скуки мозги заржавели…
В черной рубашке под горло, с усами и отросшими волосами Панкрат Евтихьевич был похож на Максима Горького с известного серовского портрета, только глаза у Рогачова были не скорбные, а веселые.
– Надо же, где довелось свидеться… – Он с любопытством разглядывал Антона. – Повзрослел. Но всё такой же. Тихоня. Что моргаешь? Хочешь ведь спросить, какого беса я тут делаю. Спрашивай, не стесняйся.
Антон спросил про другое – про необъяснимое, поразительное.
– Мне и правда в голову не пришло, что вы тут… Когда я вас видел в ноябре восемнадцатого, вы были очень большой начальник. И Бляхин сказал, что вас в Москву перевели…
– Ну, Филя у нас знатный конспиратор. – Рогачов фыркнул. – Это, брат, в старой России начальники либо сидели в кабинете, либо парадировали на белом коне, а думали только о карьере. У нас по-другому. Где ты нужнее, туда и идешь. От служебного роста никаких тебе удовольствий, а совсем наоборот. Чем выше должность, тем больше работы и жестче спрос. Зачем же я буду вверх карабкаться, если мне за это не светит ни богатств, ни дворцов, ни поместий? – Он подмигнул. – Скучно живут большевистские начальники. Сейчас вот партмаксимум ввели. Коли ты член партии, не можешь получать зарплату больше, чем у квалифицированного рабочего. Для меня, если желаешь знать, эта командировка навроде вакации. Крым, май, казаки-разбойники, романтические катакомбы. – Он обвел рукой сумрачный зал. – Чем я не Луиджи Вампа?
С неуверенной улыбкой Антон посмотрел вокруг. Глаза начинали привыкать к полумраку. Теперь было видно, что у стен сложены какие-то ящики. Неподалеку ритмично и звонко капала вода.
– Лучше про себя расскажи. Каялся я потом, в Питере, что упустил тебя из виду. Стыдно перед Марком Константиновичем. Чертово было времечко, работы невпроворот. А когда немножко разгреблись и послал за тобой, сказали, что ты уехал. Значит, в Швейцарии был? На врача учился? А в Севастополь тебя мой заклятый дружок Бердышев вызвал, так?
– Нет. Я сам приехал.
Панкрат усмехнулся:
– Скучно стало? Понимаю. Я в эмиграции тоже с тоски чуть не спятил. Ты где обретался, в лучезарной Женеве?
– В Цюрихе.
– Ну, это совсем склеп. В Крыму, конечно, веселее…
Не выдержав цепкого взгляда, Антон опустил глаза.
«Грузовики с солдатами. Оцепление. Агенты. Что же будет?»
– Значит, состоишь советником при лютом враге советской власти? И, конечно, братствуешь в Белой Розе. – Рогачов небрежно махнул рукой. – Не удивляйся, дедукции тут на копейку. Знаю, знаю про эту благоуханную организацию. Бердышев – вражина поопасней атаманов и генералов. Ничего, мы ему устроим войну Алой и Белой Розы.
Когда Антон ничего не ответил, Панкрат вздохнул.
– Выходит, ты в бердышевскую веру перешел? Жаль.
– А если и так? Убьете? На цепь посадите в этой вашей пещере? – спросил Антон и сам себе удивился – уже не в первый раз за этот день.
– Зачем это? – удивился Панкрат. – Поговорим, и иди себе. Не выдашь же ты меня. Сын Марка Клобукова? – Он пожал плечами. – Невозможно. Это Филя, который вашей семьи не знал, может так думать. Говорит: «Если я барчука зря привел, тут его и похороним». Филя парень старательный, но по молодости еще глупый. Людей не чувствует. Обязательно нам с тобой надо поговорить, раз судьба вновь свела. Потолкуем – и отправляйся на все четыре стороны. Если же я в тебе ошибся, улечу со своими товарищами в небо, полковнику Патрикееву не достанусь.
Он со смехом кивнул на штабель ящиков. Антон догадался: это динамит или какая-то другая взрывчатка.
– Ну, рассказывай, швейцарец, како веруеши. Что думаешь про наш веселый хоровод? С кем танец танцуешь – с ними, с нами? Или так, у стеночки стоишь? Может, я промахнулся насчет Белой Розы?
– Нет, не промахнулись!
Глупо было бы упустить такой шанс. Высказать идею о мирном сосуществовании двух Россий человеку умному, масштабному, бескорыстному, совсем не похожему на когтистое и зубатое чудовище, каким изображают Большевика на агитационных афишках.
Антон заговорил горячо и, как ему самому показалось, складно – ведь идея была выстраданная, продуманная до мелочей.
Он говорил про то, что коммунистическая доктрина в России победила, это уже ни у кого не вызывает сомнений. Враги большевизма обессилены и повержены, красная правда для народа оказалась убедительней белой. Но стоит ли уничтожать последний лоскут, оставшийся от прежней России? Это принесет пролетариату больше вреда, чем пользы. Идеологи Третьего Интернационала не дорожат наследием великой и гуманной русской культуры, они хотят сбросить с корабля современности Пушкина с Лермонтовым, Достоевского и Чехова, православие, всякое инакомыслие. Хорошо, сбрасывайте, но позвольте людям, которым дороги эти обломки, жить на острове – верней, на полуострове. Стройте новый мир по-своему, но и нам дайте возможность выстроить жизнь по нашей правде. Будущее продемонстрирует, какой путь для России лучше. И, скорее всего, произойдет конвергенция, естественное слияние позитивного опыта обеих моделей.
Слушатель не перебивал, лишь хмурился. Особенно когда Антон стал расписывать преимущества свободной состязательности двух социально-политических систем.
Чувствуя, что тратит красноречие попусту, Антон растерянно умолк.
– Этого-то я и боялся, – мрачно сказал Рогачов. – Потому и отпросился в Крым. Спасибо тебе. Теперь я окончательно понял смысл бердышевской каверзы. Хитер Петруша, умен – ничего не скажешь. Если Врангель его послушает, злокачественную крымскую опухоль удалить не получится. Будет набухать этот чирей, сосать из советской республики кровь и соки, светить внутреннему врагу ясным солнышком, смущать слабых и колеблющихся.
И этот, как Бердышев, с медицинскими метафорами, раздраженно подумал Антон. При том что ни один ни другой в медицине ни черта не смыслят. Чирей, то есть фурункул, – какая ж это злокачественная опухоль?
– …А уж мировой капитализм не поскупится, вольет сюда миллиарды, чтоб превратить белый Крым в витрину мещанского благополучия.
Вот это была мысль верная. Даже странно, что в своем трактате Антон совершенно упустил из виду такой важный источник финансирования будущей Таврии, как помощь мирового сообщества. Конечно же, страны Антанты не поскупятся на поддержку демократического российского государства – как только поймут, что Крым устоял под натиском большевиков и доказал свою жизнеспособность.
Но ведь это неправильно – полагаться на иностранные ресурсы? Вредно для развития собственных производительных сил, и вообще паразитизм?
– Не будет у нас с белыми никакого сосуществования, – рубил кулаком воздух Рогачов. – Каждую нашу ошибку, всякую беду бердышевы будут использовать нам во вред. Оставь Врангелю полуостров, здесь немедленно появится британская военная база. Мы знаем, об этом уже идут переговоры. Будут белые мутить отсюда и Польшу, и Кавказ, и Украину, подкармливать заговорщиков в Москве и Питере. А еще вот что я тебе скажу, сахарный мечтатель. – Панкрат ткнул Антона пальцем в грудь, словно гвоздем приколотил. – Глуп ты, если рассчитываешь, что у вас тут образуется либеральненькая демократия со свободой слова. Смысл твоей Белой Розы – воткнуть шип в подбрюшье Советской России. Это пушка, нацеленная прямо на нас. Парламентов здесь не будет, потому что в военном лагере демократий не бывает. И у власти в стране твоей мечты окажутся генералы и жандармы, а не Струве с Кривошеиным и даже не Бердышев. Придется Петру либо под держиморд ложиться, либо катиться к черту.
«Он прав, он абсолютно прав! – У Антона похолодело в груди. – Верх возьмут деятели вроде Патрикеева. Довольно посмотреть на полковника и на Петра Кирилловича: первый цветет, второй похож на ходячего мертвеца».
– Помню я тот наш разговор, на Гороховой. – Рогачов уже не тыкал железным пальцем, а поглаживал по плечу. – Видел, что не слышишь ты меня, что не соглашаешься, а побеседовать не вышло. Вот ты про великую и гуманную русскую культуру сказал. Звучит красиво. Только знаешь, что это была за культура? Культура бактерий, вредоносных бацилл-паразитов. Зеленая плесень на теле страны. Меня с детства тошнило от Тургенева с Лермонтовым и прочих барышень-крестьянок. Ах, какие тонкие чувствования, ах, какие умилительные нежности! Тут главное – глаза прикрыть кисейным платочком, чтоб не видеть, какой ценой оплачены эти красивости. Рабским трудом крепостных, кнутами и шпицрутенами, несчастьем миллионов. Чтоб Онегин с Татьяной существовали на благородный манер, сколько судеб понадобилось в навоз втоптать? Это я тебе, Антон, прописи азбучные пересказываю, ты их и без меня знаешь. Но вот чего ты никак в толк не возьмешь. Казнь, которую претерпевает ныне твоя Россия, – это расплата за кисейный платочек. И ты мне про гуманность с человеколюбием не проповедничай, ни черта ты в этих материях не смыслишь. Ты полюби человека таким, какой он есть: не мяконький, приличненький эпителий, а мясо, жилы, кости, кишки. И страну свою тоже полюби всю, целиком. Не вороти носа от живой крови, вони и грязи.
Он повысил голос, видя, что Антон хочет возразить.
– Погоди! Я тебя выслушал, теперь ты меня слушай. Пролетарии отвратительны тебе тем, что они грубые, грязные, жестокие. Вот когда у нас в России все люди до последнего будут сыты, одеты, образованы, когда все девчонки станут тургеневскими барышнями, а все парни распрекрасными лицеистами да гардемаринами, вот тогда не стыдно станет тонко переживать, щадить чувства и сдувать друг с друга пылинки. Это произойдет само собой, естественным путем.
Смотрел Панкрат уже не на собеседника – вверх, в тьму под сводом пещеры. Эхо подхватывало взволнованную речь, будто соглашаясь с каждой фразой и с удовольствием ее повторяя.
– …Перед нами стоит великая, небывалая в истории задача. Никакому Иисусу Христу такая не снилась! Мы должны превратить забитый скот в людей, стадо – в народ! Ради того чтоб хоть на чуточку приблизиться к этой цели, не жалко жизнь отдать. Но я не чуточку, я намерен, пока жив, много чего успеть. И сделал уже не так мало. А ты-то обязательно доживешь, увидишь новую Россию собственными глазами. Должно смениться одно или, может, два поколения, и появятся новые Тургеневы и Пушкины, но без кисейных платочков, без подлости. Надо только сначала чирей этот крымский сковырнуть, гной выдавить. Чтоб не отравлял наш организм, не мешал заниматься настоящим делом – строить новую жизнь…
В дверь стучали – уже с полминуты, но Панкрат услышал только сейчас.
– Что там? – крикнул он, повернувшись.
– Из Симферополя связной! – донесся приглушенный голос Бляхина. – К вам вести или как?
– Покорми человека с дороги, я сейчас освобожусь. – Рогачов виновато развел руками. – Черт, опять не договорили. Извини, брат, дело ждать не может. Ты адрес свой оставь. Будет возможность – встретимся. Не думай, я тут, в пещере Лейхтвейса, не вечно сидеть собираюсь. Выберусь и в город. А сам сюда больше не приходи. У Патрикеева с твоим шефом отношения непростые. Не удивлюсь, если полковник за бердышевскими сотрудниками подслеживает.
Антон вздрогнул.
– А вдруг уже выследил? – быстро проговорил он. – Это было бы ужасно. Может быть, имеет смысл…
– Не бойся, нас тут так легко не возьмешь, – перебил его Рогачов и рассмеялся. – И про улет в небо – это я пошутил. У меня пока на земле дел хватает. Отсюда есть запасной выход. – Он показал вглубь пещеры. – Там лесенка, на верх холма. Если тревога – все уйдем. Здесь, в бывшей каменоломне, у контрабандистов схрон был. Лет пятьдесят, что ли, назад – когда после Крымской войны Севастополь стал вместо военного порта торговым городом. Так где тебя найти?
Назвав адрес, Антон медлил уходить. Панкрат подтолкнул его к выходу.
– Давай-давай, топай. Черт, до чего же на отца становишься похож!
Как вышел на свежий воздух, Антон не запомнил. Бляхин ему не встретился. Снаружи было уже совсем темно.
Во дворе он попрощался за руку с Ефимом. Девочка о чем-то спросила – промычал невнятное и отвернулся, боясь смотреть в ее восторженные глаза.
Наконец, за спиной захлопнулась калитка.
Антон сдернул очки, яростно потер переносицу.
Что делать? Что?
«Прототипы». Идеальный человек античности: философ
На разных этапах истории, в различных культурах и субкультурах возникало свое представление о том, какими качествами должен обладать «правильный» человек. Я не намерен затевать экскурсию по всей этой картинной галерее, в которой хватает и откровенной дряни вроде байронической личности или «белокурой бестии». Для меня представляют интерес лишь типы, близкие или родственные аристономическому человеку, формула которого выведена в начале книги. Всё это его предшественники, его прототипы, поэтому я называю их «протоаристономами».
Очевидно, что начинать придется с античности. Именно к этой исторической эпохе относятся первые сохранившиеся в памяти человечества попытки саморефлексии, неизбежно приведшие к созданию некоего умозрительного образца, по которому можно было себя сверять, к которому следовало стремиться. Мне могут возразить, что Конфуций с его доктриной «благородного мужа» жил раньше мудрецов Эллады, однако конфуцианский кодекс в том виде, который мы знаем, сложился не при жизни древнего мыслителя, а в более поздние века, так что корректнее всё же начать с греков.
Представление о том, что понятие арете (идеального качества) может быть применимо не только к скакуну, кораблю или зданию, но и к личности, возникло в V–IV веках до христианской эры. Пошедшая из Афин мода на философию означала, что человеку захотелось разобраться в устройстве своей души, посмотреть на себя со стороны. В общем и целом, как это обыкновенно случается с маленькими детьми, разглядывающими себя в зеркале, человек себе понравился.
В софокловой «Антигоне» (середина V века) хор поет[11]:
И далее в том же духе:
Но в то же время приходится признать, что образ не идеален. Кое-что человеку в себе решительно не нравится. Например, страх перед смертью:
А что-то вызывает сомнения:
Именно в связи с такого рода «сомненьем» и возникла необходимость разобраться, что в человеческой природе хорошо, а что плохо. Первое – поощрять, второе – подавлять, и тот, кому удастся осуществить эту внутреннюю работу, будет обладать идеальным арете.
У философов разных направлений были серьезные разногласия по поводу параметров идеальности, но все простодушно сходились в одном: идеальный тип людей – это, конечно же, сами философы. Поскольку мнение других древнегреческих сословий до нас не дошло, приходится считать эту точку зрения общеэллинской.
Сократ: мудрость
Начать следует с воззрений Сократа, дошедших до нас в пересказе Платона и, очевидно, переработанных последним ради соответствия собственным убеждениям, так что правильнее было бы назвать эту систему взглядов сократо-платоновской. Согласно ей, человек от природы обладает некоторым набором добродетелей, важнейшей из которых является способность к философствованию. Правильно устроенная («философская») душа сочетает в гармоническом равновесии Волю, Разум и Желания. Идеальный человек-философ наделен умеренной любовью к мудрости, а также мужеством, достаточным для того, чтобы поступать в соответствии с голосом мудрости. Мудрость же – это понимание Добра, которое есть гармония между всеми элементами сущего.
Верный путь в жизни – не гоняться за богатством и успехом, а концентрироваться на самоусовершенствовании.
Философ должен участвовать в общественной жизни. Более того, здоровое государство может управляться только философами, ибо лишь они способны определять идеалы и укреплять в республике дух истинного дружества и общинности. Платоновскую концепцию царя-философа я опускаю как напрямую к теме не относящуюся. К тому же известно, что попытки Платона осуществить эту власть на практике (в Сиракузах) закончились плачевно: идеал не выдержал испытания реальностью.
В целом же первая модель идеального человека почти по всем своим пунктам совпадает с формулой аристономии, какой она видится мне через двадцать четыре века после Сократа.
Аристотель: умеренность
Умеренность, которой Сократ придавал важное, но не первостепенное значение, обретает главенствующий статус в этической системе Аристотеля и торжественно именуется «золотой серединой». Идеальный человек Аристотеля прежде всего избегает крайностей. В «Никомаховой этике» философ следующим образом изображает образец человека.
Он мужествен: не безрассудно храбр, но и не труслив.
Он разумно щедр: не расточителен, но и не скуп.
Он высокомыслен: не тщеславен, но и не принижен в чаяниях.
Он сдержан в проявлении чувств: не гневлив, но и не податлив.
Он остроумен: не записной шут, но и не зануда.
Он дружелюбен: не заносчив, но и не угодлив.
Он скромен: не бесстыден, но и не застенчив.
Он правдив: не хвастлив, но и не ханжа.
В этих предписаниях смущает сходство с молчалинским приматом «умеренности и аккуратности» либо с наставлениями, которые пронырливый Полоний дает Лаэрту («Будь прост с другими, но отнюдь не пошл… Шей платье по возможности дороже, но без затей – богато, но не броско» и т. д.), однако следует учитывать, что трактат Аристотеля, вероятнее всего, был адресован сыну Никомаху и представляет собой нечто вроде практического пособия, свода поведенческих правил, на которые следует ориентироваться юноше.
Эпикур: победить страх
После окончательного краха демократического правления интерес философии к общественной деятельности в Элладе почти полностью исчезает. Один из самых симпатичных жизнеучителей античности, Эпикур, ставит очень скромные задачи: забыть об улучшении мира, озаботиться улучшением самого себя. Таков и идеальный человек эпикуреизма (не путать с эпикурейством, вульгаризованным и опошленным изложением системы). Философ-эпикуреист признает, что жизнь нехороша и, вероятно, неисправима; что боги, если они есть, совершенно не заботятся о людях; что миром правит страх – но, несмотря на это, хочет быть счастливым и получать удовольствие от своего существования, не требуя от него слишком многого. Формула правильной жизни, по Эпикуру, складывается из атараксии, то есть отсутствия страха, и апонии, отсутствия страдания. Нужно ни от кого не зависеть, но хорошо бы жить в окружении друзей. Вот, собственно, и всё.
Ключевое понятие здесь «страх». Философ должен научиться победе над самым главным страхом – страхом смерти – и над сонмом второстепенных страхов. Именно для этого ему нужно знание: ведь страх чаще возникает из-за неосведомленности и смутной тревоги. Бесстрашный человек внутренне свободен, а стало быть, ничто не мешает ему жить в блаженстве. Под удовольствиями Эпикур имеет в виду не радости плоти, а духовные наслаждения: мыслью, умной беседой, благожелательным приятием мира во всей его полноте. Не нужно желать многого. Чем меньшим ты довольствуешься, тем счастливее твое существование. Человек, живущий по этому принципу, истинно свободен. У Эпикура был сад, в котором он вел умные разговоры с друзьями, и большего он от жизни не требовал.
Эпикур пытается логически убедить людей, что быть благородным разумно и выгодно. В этом смысле «разумный эгоизм», о котором толкуют герои Чернышевского, позаимствован прямиком из эпикуреизма. «Невозможно жить с приятностью, если живешь не мудро и не добродетельно, – утверждает Эпикур. – Невозможно быть мудрым и добродетельным, если твоя жизнь неприятна».
Философ этого склада существует по принципу «живи уединенно», воздерживаясь от всякой общественной деятельности. Не рекомендуется обзаводиться семьей и пускать в свое сердце любовь – чтобы не испытывать постоянного страха за любимых. Сила разума позволит преодолеть не только физическую боль, но и мысли о неизбежном конце, от которого Эпикур отмахивается с восхитительной небрежностью: «Нам нет дела до смерти – пока мы живем, ее нет, а когда она заявится, не станет нас». Это не поза и не бравада. Умирая от мучительной болезни почек, Эпикур писал своему другу и ученику: «Пишу тебе это письмо в счастливый день, последний день моей жизни. Меня измучили боль из-за невозможности помочиться и кровавый понос, так что худших страданий невозможно представить. Но ум мой радостен, ибо воспоминание о всех наших философских рассуждениях перевешивает муку».
Эпикуреист – идеал пессимиста, который убедил себя смотреть на этот мрачный мир с доброжелательной улыбкой, без надежды, но и без страха. Можно сказать резче: это философия труса, уговорившего себя быть мужественным. В идеальном человеке Эпикура Разум одержал победу над Страхом, но это пиррова победа. В самые тяжкие моменты истории сохранить достоинство возможно, только если ты добровольно отказываешься от любви, от сильных чувств, от стремления изменить мир к лучшему.
Правильно устроенный человек стремится к счастью здесь и сейчас, утверждает Эпикур; для достижения этой цели нужно быть умно мужественным и предельно умеренным в запросах. На протяжении истории всякий раз, когда условия общественной жизни резко ухудшались, именно так выглядел этическо-поведенческий кодекс порядочного человека. Система Эпикура – абсолютный минимум этического выживания. Можно сказать, что все мои соотечественники, кто уцелел в испытаниях последних десятилетий, не утратив при этом чувства собственного достоинства, являются стопроцентными эпикуреистами.
Стоики не выживали.
Стоицизм: мужество
Всё дело в том, что уровень требований к личности у стоического идеала гораздо строже. Нравственный образец Стои – не философ, то есть «любящий мудрость», а софос, то есть «мудрец», существо законченное и совершенное. Ему не надо любить мудрость или стремиться к ней, ибо он ею уже обладает. Такой человек неуязвим для ударов судьбы. Его не способны испугать или хотя бы просто опечалить нищета, злоба, болезни или смерть. Всё, чего так жаждут обычные люди – богатство, наслаждения, любовь, долголетие, – в глазах софоса не имеет ни малейшей ценности. Он и так обладает эйдемонией, то есть абсолютным счастьем. Оно заключается в понимании добродетели и следовании ее нормам. Софос немыслим без жесткой нравственной дисциплины, высокого ума, беспристрастия и неколебимого мужества. Он неподвластен ни одному из четырех «аффектов»: жажде удовольствий, отвращению, вожделению, страху. Разум для того и нужен человеку, чтобы развенчивать ложную значимость этих низменных страстей. Тот же, кто попадает под власть любого из аффектов, неминуемо позволяет ему разрастись до масштабов «пафоса», то есть одержимости, разъедающей человеку душу. Идеальный человек должен стремиться к полной «апатии», свободе от аффектов.
В общем, софос – состояние, практически недостижимое. Сами стоики признавали, что таких людей на свете очень мало, а, возможно, и вообще нет. Разве что полулегендарный Диоген, которому от земного владыки нужно было лишь одно – чтоб не загораживал солнце.
Но зрелый стоицизм не замыкается в пределах бочки, не прячется от зла внутрь себя. Внешний мир, он же всевластная судьба, этим учением не отторгается, и внутренняя свобода рассматривается как ответ на вызов рока. Для того чтобы выдержать это испытание, человеку более всего потребно мужество, основное условие сохранения достоинства (как я уже писал, этот термин в его современном значении впервые использовал стоик Цицерон). Стоический человек сильнее и деятельнее эпикурианца. На мир он смотрит так же пессимистично, но не живет уединенно (хоть и желал бы); его зона ответственности шире пределов эпикурова Сада.
Следует учитывать, что, в отличие от эпикуреизма, стоическое учение с веками сильно менялось. Поздний, римский этап развития стоицизма полней всего оформил кодекс правильного человека, притом не отшельника-софоса, а ответственного и активного члена общества. Именно такими были Цицерон, Сенека и Марк Аврелий – государственные деятели стоического мировоззрения.
Цицерон: чувство долга
Ко временам Цицерона образ безупречного софоса как личности прекрасной, но для общества бесполезной, принял вид путеводной звезды, сияющей где-то в недостижимых небесах, а между «блаженным» мудрецом и «человеком порочным» возник вполне земной тип «человека стремящегося». Именно он и стал практическим воплощением стоического идеала. Путь от порочного состояния к блаженному лежит в исполнении нравственного долга, который складывается из набора определенных обязанностей. Этический трактат Цицерона так и называется – «De officiis» («Про обязанности»).
Жизнь всякого человека сопряжена с исполнением долга, в чем и заключается нравственный смысл человеческого существования. Главная коллизия, подстерегающая нас, это столкновение «нравственно-прекрасного» с «полезным»; правильно устроенный человек обязан сделать выбор в пользу первого, а не второго.
«Нравственно-прекрасные» добродетели подразделяются на четыре категории: познание истины, справедливость в сочетании с благотворительностью, великодушие (мы сегодня назвали бы это качество «масштабом личности») и приличное поведение (decorum).
Вклад римского стоицизма в развитие аристономии безусловно связан с добродетелями второй категории, ибо все они касаются взаимоотношений личности и общества: помощь нуждающимся, справедливая требовательность к нижестоящим, человечное отношение к побежденным и так далее. Цицеронов «муж добрый» (vir bonus) – не просто идеальный человек, но еще и идеальный гражданин. Более того, долг перед отечеством и родителями (что для римлянина понятия неразрывные) ставится на первое место среди человеческих обязанностей. Эта нравственная иерархия приведет к гибели множество людей стоического мировоззрения, включая самого Цицерона.
Стоический идеал очень близок к формуле аристономии – за одним существенным исключением, о котором я скажу позже.
Сенека: стойкость
Важный и меткий укор воззрениям Эпикура делает в одном из своих текстов Сенека, очень точно подметив принципиальное различие между двумя учениями. Симпатичная доктрина «веселой бедности», которую проповедовал афинянин, вызывает у римлянина скепсис. Беден тот, кто считает себя бедным, пишет Сенека, а истинный мудрец ни в чем нужды не испытывает, он богаче любого богача. Не будем придираться к тому, что миллионеру Сенеке, возможно, не к лицу было читать нотацию нищему Эпикуру. Подмечено-то верно: сугубый индивидуализм эпикурианцев происходит от недостатка (то есть бедности) душевных сил, когда у человека нет намерения взваливать на свои плечи ответственность за нечто большее, чем собственная жизнь. Человек стоического идеала не считает своим долгом уходить в свой панцирь, прячась от ударов судьбы. Чувство достоинства требует от него стойкости.
По Сенеке (потом эту идею разовьет Кант), необходимо проводить различие между понятием «цены» (pretium) и «ценности» (dignitas). Ценой обладают блага тела, которые относительны, ибо могут быть большими или меньшими. Ценность добродетели абсолютна, неизменна и не имеет эквивалента для обмена. Цель человеческой жизни – совершенствовать в себе лучшую часть своей натуры, где обитает достоинство. «Добродетель свободна, неуязвима, неподвижна, безмятежна; любой случайности она противостоит настолько твердо, что не только одолеть, но и поколебать ее невозможно. Не опуская глаз, она смотрит на орудия пытки и не меняется в лице, являются ли ей вещи страшные или приятные. Итак, мудрец не может потерять того, потеря чего была бы для него чувствительна. Единственное его достояние – добродетель, которую нельзя отнять; все остальное дано ему во временное пользование; кого может тронуть потеря чужого имущества?»
Однако Сенека не требует от своего «мудреца» невозможного – чтобы тот еще и оставался неуязвимым для страдания. «Есть вещи, которые задевают мудреца, хотя и не могут его победить: телесная боль и слабость, утрата друзей и детей, крушение отечества, охваченного пожаром войны. Я не стану отрицать, что все это мудрец чувствует: мы же не приписываем ему твердость камня или железа…Но, получив рану, он одерживает над ней победу, зажимает ее и залечивает». Не бесчувствие и не равнодушие, а стойкость – вот главное качество идеального человека. Стоик, в отличие от эпикурианца, не боится любить кого-то или дорожить чем-то истинно важным, но должен быть готов вынести боль утраты.
Забота не только о внутреннем, но и внешнем достоинстве – еще одна отличительная черта стоика. Поэтому Сенека много внимания уделяет тому, как должно реагировать на обиды и оскорбления. Самый лучший рецепт – относиться к людям, как мудрец относится к больным. Им простительна несдержанность, ему – нет. «…Он не раздражается, если болезненное возбуждение заставит их нагрубить своему целителю, и так же ни в грош не ставит их малопочтенные выходки, как и их почетные звания». Пожалуй, в стоической идеологии довольно силен элемент высокомерия, заведомого сознания превосходства «целителя» над «больными», в число которых попадает большинство мужчин и все без исключения женщины. «Некоторые помешались уже до такой степени, что считают возможным быть оскорбленными женщиной», – с комичным недоумением пишет Сенека о представительницах «несдержанного» и «нестойкого» пола.
Здесь нельзя не упомянуть существенный дефект, свойственный всем античным концепциям идеального человека. Эти прекрасные нормы адресованы не всему человечеству, а лишь свободным гражданам, то есть привилегированной касте общества. До «варваров» грекам и римлянам не было никакого дела, а требовать от женщин или рабов, чтобы они следовали в своей жизни философскому идеалу, не пришло бы в голову даже самому смелому мыслителю.
Марк Аврелий: пусть меньше, но лучше
И Цицерон, и Сенека в определенный период своей жизни были крупными государственными деятелями, от воли которых зависела жизнь общества, однако в полной мере роль «царя-философа», о которой мыслители мечтали еще со времен Платона, выпала властелину огромной империи Марку Аврелию. Это поистине уникальный в истории пример соединения в правителе сильной воли с мудростью и добродетельностью.
Взгляды императора изложены в его записках, предназначенных не для публикации, а для самого себя, что явствует из названия: «Наедине с собой». У абсолютных монархов во все времена была одна и та же проблема: не с кем поговорить по душам, не с кем откровенно поделиться мыслями. Размышления Марка Аврелия давно растащены на цитаты, что несомненно свидетельствует о ценности этого внутреннего диалога с самим собой. Формулировки точны и безукоризненны.
Суть человеческого бытия изложена с римской лаконичностью: «Сел, поплыл, приехал. Вылезай!» В зрелом возрасте я повторял это простое и мужественное Exscende! всякий раз, когда оказывался в смертельной опасности, и, словно мантра, оно придавало мне сил, помогало взять себя в руки.
Не хуже звучит и девиз человеческой жизни: «Покуда жив, покуда можно – стань хорош».
Пожалуй, правильнее всего будет изложить воззрения самодержца-стоика на человеческий идеал его же собственными словами.
Вот краткая характеристика личности, которой если и не был, то стремился стать Марк Аврелий:
«…Человек этот наслажденьями не запятнан, не изранен никакой болью, ни к какому насилию не причастен, ни к какому не чувствителен злу;…ни единой не покорился страсти, справедливостью напоен до дна; от всей принимает души всё, что есть и дано судьбой».
Главная цель жизни – духовный поиск и самоусовершенствование:
«Нет ничего более жалкого, чем тот, кто всё обойдет по кругу, кто обыщет, по слову поэта, „всё под землею“ и обследует с пристрастием души ближних, не понимая, что довольно ему быть при внутреннем своем гении и ему служить искренно».
Непременное условие этого поиска – самодостаточность:
«Люби скромное дело, которому научился, и в нем успокойся. А остаток пройди, от всей души препоручив богам всё твое, из людей же никого не ставя ни господином себе, ни рабом».
Надо быть стойким под ударами судьбы:
«Быть похожим на утес, о который непрестанно бьется волна; он стоит, – и разгоряченная влага затихает вокруг него».
Чтобы достичь этого, следует руководствоваться безошибочным принципом:
«Поступать во всем, говорить и думать, как человек, готовый уже уйти из жизни».
Делу следует посвящать себя с полной самоотдачей:
«С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений».
Нужно быть проще, естественней:
«Пусть вычурность не изукрасит твою мысль; многословен и многосуетен не будь».
Ни в коем случае нельзя цепляться за жизнь:
«И пусть бог, что в тебе, будет покровитель существа мужеского, зрелого, гражданственного, римлянина, правителя, того, кто сам поставил себя в строй и по звуку трубы с легкостью уйдет из жизни, не нуждаясь ни в клятвах, ни в людском свидетельстве…»
Конечная цель твоей деятельности не столь уж существенна; главное – идти к ней с достоинством:
«Главное – станет он жить, не гоняясь и не избегая, а будет ли он больший отрезок времени распоряжаться душой и объемлющим ее телом или же меньший, это ему ничуть не важно. Да хоть бы и пора было удалиться – уйдет так же легко…»
Из этого проистекает и вывод, которым Марк Аврелий очевидно руководствовался в своих действиях:
«Положив себе эти имена: добротный, достойный, доподлинный; осмысленный, единомысленный, свободомысленный, – смотри, держись, не переименовывайся, не нарушай их и поскорее к ним восходи… Ну а почувствуешь, что соскальзываешь и что не довольно в тебе сил, спокойно зайди в какой-нибудь закоулок, какой тебе по силам, а то и совсем уйди из жизни – без гнева, просто, благородно и скромно, хоть одно это деяние свершив в жизни, чтобы вот так уйти».
В этой максиме звучат пессимизм и глубокое разочарование в мире, в собственных силах. «Царь-философ», управляющий великой империей, не ставит перед собой великих задач.
В этом-то идеальный человек стоицизма и расходится с человеком всецело аристономическим. Аристоном наступателен, он верит в победу над любыми обстоятельствами и знает, как ее достичь. Стоик же заведомо оборонителен по отношению к жизни; он знает, что проиграет в битве с действительностью, и озабочен лишь тем, чтобы и в поражении не потерять лица.
В самом деле: несмотря на то, что по счастливому стечению обстоятельств на римском престоле оказался человек в высшей степени достойный, он не предпринял попытки улучшить действительность путем масштабных преобразований или принятия аристономических законов. Марк Аврелий довольствовался соблюдением стоического минимума: по мере сил старался сохранять порядок, мужественно сносил удары судьбы и стойко противостоял напастям, в которых, разумеется, нехватки не было, – эпидемии, неурожаи, нашествия варваров. А когда царь-философ – вероятно, почитая свой долг честно выполненным, – «без гнева, просто, благородно и скромно» ушел, все мерзости жизни вернулись на круги своя, и Рим покатился дальше, к своему краху.
Нелепо было бы упрекать античных стоиков в заниженности жизненных задач. Условия тогдашнего существования человечества, уровень его развития и не позволяли рассчитывать на многое. Победить Зло и Хаос, царствующие в мире, невозможно, поэтому нечего и пытаться; совершенно достаточно одержать эту победу внутри самого себя – вот лозунг протоаристономического человека античности. В эпоху Греции и Рима считалось, что задача эта хоть и трудна, но личности разумной и волевой она под силу.
В последующее тысячелетие эта, в общем-то, скромная планка, покажется недостижимо высокой. Вслед за погружением в дикость и варварство «темных веков» у европейца сильно поубавится самомнения. Этический идеал Средневековья по аристономической шкале будет стоять существенно ниже античного.
(Из семейного фотоальбома)
Поверху исправил число – простым карандашом, толсто. Вторую цифру, шестерку, стер резинкой, остальные не тронул. Получилось «17/VIII 1920 г.». Латинские закорючки для обозначения месяцев Филиппу нравились: солидно. Сразу видно – не пентюхом писано.
Потом, подтирая и сдувая катышки от ластика, стал вносить изменения в расположение частей и обновлять линию фронта, который еще ближе подобрался к коричневому пятну, городу Львову, загнулся полукружьем сверху, справа, снизу. Если по правде, никакой линии фронта не было. В одних селах стояли наши, в других ихние, в третьих непонятно кто. Но это в жизни бывает разножопица и неясность, а на карте всё должно быть четко, наглядно: тут красные кружочки, тут синие, тут – передовая.
Ужасно нравилось Бляхину с картой работать. Не зря весь июль месяц на ускоренных курсах при Генштабе РККА отзанимался. Между прочим, сам на учебу напросился. Надо расти над собой, если хочешь чего-то в жизни добиться.
За рвение была Филиппу награда. Во-первых, Панкрат Евтихьевич похвалил, а это редко бывает, дорогого стоит. Во-вторых, получил Бляхин звучную должность. Адъютант – это вам не «порученец», это звучит. В-третьих, если говорить о нерадостном: кабы не ежевечерняя работа по карте, положение было бы вовсе зазорное. Распоряжения за товарищем Рогачовым в тетрадку строчить – Антоха, он стенографию знает. Донесения составлять и на машинке печатать – опять Антоха. Шифровки расколдовывать – тож. А Бляхин, даром что зовется адъютантом, давай по хозяйственным надобностям хлопочи. Насчет чаю распорядиться, ночлег обустроить, одёжу Панкрат Евтихьевичу почистить. Освежить большому человеку китель или сапоги наваксить – работа незазорная, не о том речь. Обидно, если тебя только для «принеси-подай» пользуют.
Но когда вечером сядешь за стол, достанешь из скрипучего-пахучего планшета трехверстку, разложишь карандаши, сразу всем видно, кто у товарища Рогачова военный адъютант, а кто шпак-секретаришка, навроде пишбарышни.
Филипп нанес красным сегодняшнюю дислокацию бригад и полков шестой кавдивизии, сверяясь по Антохиным каракулям. Тем же скакучим некрасивым почерком были записаны две секретные депеши из Полештарма, Полевого штаба Конармии. Оттуда доносили, как за истекший день поменялась ситуация на всем «театре военных действий» (хорошее выражение, Бляхин его с курсов запомнил). На то имелась в планшете еще одна карта, стратегическая. И там всё в доскональности видно, до самого Балтийского моря: как рвутся к Варшаве войска героического Запфронта, как забирает в жменю вражеский Львов еще более героическая Конармия, как клубятся синими тучами, пятясь в бессильной злобе, полчища белополяков.
То есть, недавно еще пятились. А ныне пришлось подвинуть красную линию от Варшавы вправо – отступает чего-то наша четвертая армия. И посередке, у города Люблина неладно – на целый дюйм фронт к востоку отодвинулся.
Товарищ Рогачов давеча сказал: «Послезавтра Львов возьмем – поворачиваем на север, помогать Тухачевскому».
Антоха, будто его ума дело, влез с вопросом:
– А если не возьмем?
– Все равно поворачиваем. Главное сейчас – Варшава. Там решается судьба мировой революции.
Глядя на карту, Филипп поражался Антохиной дурости. Как это «не возьмем»? Если линейкой мерить, пятнадцать километров до Львова отсюдова, от Неслухова этого. Час ходу на рысях. Не позднее послезавтрева будет Львов советским!
Эх, попасть в настоящий большой город! Помыться, поспать на кровати – без блох, без порскающих по земляному полу мышей. Прошлую-то ночь вообще в сарайке ночевали, на сене, под капающим через дырявую крышу дождем.
Совсем иначе эта война воображалась, когда отправлялись из Москвы. В литерном поезде на два вагона, с платформой для автомобиля, положенного Панкрату Евтихьевичу по высокой должности. Бляхин думал, всё иначе будет, не как в лихие времена. Всё ж таки порядку в рабоче-крестьянской республике стало больше. Людишки понемногу начали расставляться по местам, как положено в государстве – в согласии с положением, чином, заслугами. Ордена выдают, скоро повсеместно введут знаки различия (Филипп себе на рукав уже пришил лоскут с тремя квадратиками, согласно табели). В общем, не восемнадцатый год. И война нынешняя – не с беляками, не с Махной сиволапым, а европейская, первый шаг на пути к мировой революции. Панкрат Евтихьевич – член Реввоенсовета всей РСФСР, шутка сказать. По старорежимному считать – полный генерал. Хватит себя-то ронять. Незадачная крымская командировка для человека такого масштаба была глупость, ребячество.
Когда вернулись в Москву, хорошо стало. Нравилось Бляхину в столице пролетарской революции. Казенный особняк, заседания, обмундирование по первой категории, паек – по высшей.
Ничего плохого от поездки «на театр военных действий» он не ждал. Заселился в отдельное купе салон-вагона, чайку с лимоном отхлебнул – сказал себе: «Вот так воевать можно».
Ошибся. На польском фронте оказалось похуже, чем в Крыму.
Поезд литерный остался в Буске, на станции. Дальше пути были подорваны. И пошла болтанка-моталовка по разбитым проселкам, по лесам-полям, по вшивым деревенькам, где ни помыться, ни обсушиться, ни пожрать по-человечески. Три дня прожили этой поганой жизнью, а кажется – три месяца.
И товарищ Рогачов недоволен. Тревожен товарищ Рогачов. А Панкрат Евтихьевич не такой человек, чтоб по пустякам переживать. На неустрой и бесприют ему плевать, он к удобствам равнодушный. Конная армия ему не нравится – вот что. Ругается он сильно на красного героя товарища Буденного и на прочих здешних начальников.
Члена РВС Рогачова на Конармию почему срочно кинули? Есть в Москве мнение, что заволынились Буденный с Ворошиловым на Львовщине. Не о победе над врагом думают, а о своей славе. И о том, чтоб распотрошить богатейший город, каких в разоренной России не осталось. Панкрату Евтихьевичу положено разобраться на месте: возможно ли взять Львов в два, много три дня, невеликой потерей. Если нельзя – брать товарища Буденного за шиворот и скорей тащить на северо-запад, где истекают последней пролетарской кровью измученные дивизии Запфронта. А еще товарищ Рогачов должен был проверить, правду ли доносят политработники, будто Конармия на грани разложения, дисциплина в ней ни к черту, тон задает махновский элемент, а честные партийцы из опасения за свою жизнь не смеют рта раскрыть.
Трое суток по передовой отъезжено – туда, сюда, обратно. И с каждым днем Панкрат Евтихьевич всё мрачней. Не армия это, говорит, а разбойничья орда. Грабят, женский пол насилуют, над пленными измываются, населенные пункты захватывают не какие по плану положено, а какие побогаче. У каждого конармейца конь еле бредет – в мешках хабару понапихано. Чем старше начальник, тем добычи больше. Иной комбриг целую повозку барахла в обозе держит, а у комдивов по двадцать-тридцать трофейных лошадей, главное казацкое богатство.
Нынче с утра обследовали шестую дивизию – самую боевую, ближе всех к Львову подобравшуюся, но и самую разболтанную. Под селом Задворье наблюдали в бинокли сражение: как красная конница чехвостит панскую пехоту. Впечатлительно. Герои конармейцы, нечего сказать. Но когда стрельба-рубка кончилась, когда казаки спешились, стали раненых поляков добивать, с мертвецов сапоги и одёжу стаскивать, потемнел лицом товарищ Рогачов. Велел ехать в штаб бригады – сюда то есть, в этот самый Неслухов.
Ох, крутенько поговорил Панкрат Евтихьевич с комбригом товарищем Гомозой, славы у которого не меньше, чем у самого Буденного. Они с товарищем Буденным друг на дружку очень похожи: морды у обоих красные, брови густые, усищи вразлет, только товарищ Гомоза еще кряжистей командарма, шире, круглее – будто Буденного насосом надули, как автомобильное колесо.
Героем товарищ Гомоза еще в германскую стал. В газетах про него писали, даже на лубках рисовали, вровень с казаком Кузьмой Крючковым, что на пику разом двух германцев вздел. Сам царь Николашка принимал вахмистра Гомозу во дворце, обнимал, в уста лобызал, велел в офицерский чин произвесть.
И вот такого человека – богатыря сказочного – товарищ Рогачов последними словами крыл, за ворот тряс. Ты что, рычал, мерзавец, делаешь. Во что бригаду превратил. Мы-де в Европу факел революции несем, хотим порабощенный рабочий класс освободить и на свою сторону привлечь, а твои волки кровавые Красную Армию позорят, население в врагов наших превращают. Дело пролетарской революции погубить хочешь, гад. Насмотрелся я, шипел, как вы тут воюете. К стенке тебя, комбриг, надо.
Долго ругался, даже по-матерному. Гомоза слушал молча, только лицо, без того багровое, всё гуще наливалось. Френч у комбрига генеральский, даром что без погон. На груди, рядом с двумя орденами Красного Знамени, полный георгиевский бант – никогда прежде Филипп не видывал, чтоб в Красной Армии кто-то дерзал царские награды носить. Гомозе – ему можно.
– Желаешь меня к стенке? Валяй, – сказал комбриг, когда Рогачов от ярости захлебнулся. – Я смерти не боюся. – Зажатая нагайка мерно щелкала по лаковому сапогу. – Только я вам, товарищ член Реввоенсовета, вот чего скажу. Дисциплина у меня в бригаде есть. «Ужас» называется. Глянут бойцы на меня – должны от ужаса дрожать. Никакой другой дисциплины с ими, бесами, не бывает. У меня три взыскания: малое, среднее и большое. Всякая собака про то знает. Малое – вот. – Он поднял пудовый кулачище. – До четырех зубов смаху вышибаю. Среднее – вот. – Нагайка со свистом рассекла воздух. – А большое – тута. – И похлопал крышку «маузера». – Плохо держу бригаду, сам знаю. Но не стань меня – в какую сторону хлопцы повернут, кого резать станут? Так что, расстреляешь меня иль повременишь?
Вздохнул Панкрат Евтихьевич, замолк. Минуту или две глядели они друг на друга исподлобья: один прямой, сухой, железный; второй – бык быком.
Наверное, случись это сразу по приезде товарища Рогачова в Конармию, не сносить бы комбригу головы. Не раз и не два видел Бляхин, как Панкрат Евтихьевич своею рукой, без трибуналов, вредных для революции элементов карает. Страшен усатый комбриг, а и он настоящую силу почуял. Стоял, ждал – не шелохнется.
А потому что одно дело – просто герой, и совсем другое – истинно капитальный человек. На этой войне, которую называют Гражданской, Филипп по своей ответственной, при товарище Рогачове, должности повидал вблизи много больших людей. Когда революция, наверх выдвигаются не генеральские сынки, а природные вожди, кто имеет дар за собой людей вести. Видывал Филипп и лихих, и удачливых, и грозных, и будто пламенем охваченных, и тех, которые умеют речи говорить – заслушаешься, однако ж всё это были качества временной ценности. Только для революционного времени. Отгрохочут пушки, кровь подсохнет, муть осядет, и тогда окажется, что большинство шумных героев в новой жизни ни за чем не нужны. Гомоза этот, ужас вселяющий, будет в память о прошлых заслугах какую-нибудь почетную, но не важную должность занимать и, поди, сопьется на ней от скуки. Или Буденный тот же. Это сейчас он со своей конницей птица большого полета, а на что он в солидном государстве? Вот товарищ Ворошилов, главный конармейский комиссар, этот далеко пойдет. Глаз у него хитрый, спокойный. Буденный зыкает, а Ворошилов тихонько говорит да посмеивается. Это знак силы – Бляхин по Панкрату Евтихьевичу научился такие приметы распознавать.
Капитальный человек никогда горло не дерет. Но когда говорит – все его слышат. Крепко повезло Филиппу с товарищем Рогачовым. Как есть орел – спокойного, мощного полета. Держись за крыло да не падай, и всё у тебя будет.
Один только недостаток у благодетеля. Тяжкий. Никак Панкрат Евтихьевич не поймет, что орлиный полет должен всегда вверх быть, к солнцу. Не ценит товарищ Рогачов своего исключительного положения, не брезгает с высот до самой земли спускаться. Совсем нет у человека представления о служебном росте. Как закончится война, запросто может министром, то есть народным комиссаром стать, а может вместо этого какую-нибудь ерундовую должность себе выпросить. В поезде, четыре дня тому, в хорошем настроении, стал Рогачов рассказывать, как в мирной жизни мечтает большую электростанцию построить, потому что учился где-то за границей на инженера-электрика. Электростанцию, твою мать! Антоха, дурак, слушал-поддакивал. Филипп возьми и вверни: «Электростанцию много кто построить сумеет. Дело техническое. Вот кто будет всю страну на коммунистические рельсы ставить – таких мастеров днем с огнем». Научился он такие слова находить, чтоб на Панкрата Евтихьевича действовали. И сработало. Про электростанцию эту глупую разговора боле не было.
Вывод отсюда какой? Не только Бляхину от близости к товарищу Рогачову профит, но и капитальному человеку от помощника польза. Кое в чем Филипп, пожалуй, не дурее начальника. И подскажет аккуратно, и осторожно в нужную сторону повернет. Нужны они друг дружке, как нитка иголке, а иголка нитке.
– Ладно, комбриг. Поехали, покажешь свои полки, – сказал Панкрат Евтихьевич хмуро, но уже без мертвенного блеска в глазах. – Поглядим, достаточно ли ты ужасный. Или на твое место надо кого поужасней найти.
Кирпичная морда героя не дрогнула, и голос остался таким же, но налитая фигура будто раздалась шире, чуть обмякла. Понял комбриг, что поживет еще.
– Ужасней меня, товарищ член Реввоенсовета Республики, на свете людей мало. А полки мои по-за лесом расквартированы. Напрямки надо, дорога всё одно разбитая. Не проедет ваше авто. И куда на ночь глядя? Повечеряли бы, в баньке попарились. А на рассвете покажу.
– … тебе в…, а не баньку! – гаркнул тут товарищ Рогачов. – Каждый час дорог! Дай мне коня, Гомоза, я верхом поеду.
И уехали они в густеющие сумерки, с личной сотней комбрига, с конвойным полувзводом члена РВС.
Оставив поезд, товарищ Рогачов ездил промеж частей так: в автомобиле с шофером, впереди – Филипп в кожаной фуражке с красной звездочкой, сзади сам начальник с секретарем. Потом тачанка с личными вещами, а конная охрана – то спереди, то сзади, то по бокам, в зависимости от обстановки.
Лесными тропами на четырех колесах не проедешь, поэтому шофер Ганкин остался при машине, кучер Лыхов при коляске, а Бляхин с Клобуковым – как не умеющие сидеть в седле. То есть Филипп-то умел, худо-бедно научился за два года цыганской жизни, но товарищ Рогачов сказал:
– Не возьму. Сидишь, как кошка на трубе, будешь меня позорить.
Сам-то он хорошо ездил. Хоть не по-казацки, но ладно.
– Остаешься за старшего. Тачанку не распрягать, Ганкин пусть в машине спит. Вернусь ночью – дальше поедем. Пожрать сообрази что-нибудь. Я у них там есть не стану. Для строгости.
То-то: за старшего. Филипп сказал про это шоферу, кучеру и Антохе. Последнему строго наказал далеко от хаты не отлучаться. И никто не взбрыкнул, а дисциплинированный Ганкин даже ответил по-старорежимному «есть». Признали в Бляхине начальство. Это было приятно.
Над картой он трудился в исключительно хорошем расположении духа. Думал: а ведь я теперь, если по-военному смотреть, во всем Неслухове главный командир. Комбриг с начальником штаба уехали вместе с Панкратом Евтихьевичем, так? Остались штабные, хозвзвод, обозные. Случись что – кто ими командовать будет? Адъютант товарища члена Реввоенсовета Республики, больше некому.
Дорисовав карту, Филипп озаботился ужином для Панкрата Евтихьевича. Сам наскоро попил молока, покушал хлеба с салом, но для товарища Рогачова требовалось добыть что-нибудь поосновательней. Курятины хорошо бы или колбасы, картошек отварить несколько. И самовар держать наготове, горячий. Чтоб мог Панкрат Евтихьевич чаю выпить, даже если сразу уезжать надо.
Невместные для адъютанта это были хлопоты, но Филипп их никому не уступил. Хорошо, что в Красной Армии денщиков не заведено. Никто Бляхина этой мудрости не учил, сам ее превзошел: кто о человеке, о самых главных его надобах заботится, тот ему и роднее. Сроднились они с товарищем Рогачовым за два с лишним года. Нет у Панкрата Евтихьевича на всем свете никого ближе Филиппа Бляхина. По меньшей мере еще недавно так было.
В соседней комнате зашелестела бумага. Это Антоха сидит у керосиновой лампы, книжку читает. Барчук, белоручка!
Потускнело хорошее настроение от всегдашней обиды.
Два с половиной месяца назад, когда драпали из Севастополя, Филиппу и в голову не могло придти, что кто-то втиснется между ним и товарищем Рогачовым. Тревожно было думать, что Панкрат Евтихьевич когда-нибудь возьмет да женится, а от очкастого, картавого глистеныша, который нежданно-негаданно вылез из прошлого, как из задницы, Бляхин никакой опасности не ждал.
Там как вышло?
Проводил Филипп товарищрогачовского знакомца до калитки, поручкались на прощанье, а через минуту – стук. Вернулся. Рожа белая, в красных пятнах, глазенки под очками моргают. Сказал, что на пустыре люди подозрительные – слежка.
Побежали к Панкрату Евтихьевичу. Тот с укором: «Эх, Филя. Антон-то ладно, какой с него спрос, а как ты мог слежку прошляпить?» Вот с того первого попрека всё и пошло наперекосяк.
Лазом поднялись на холм. Сверху увидели: точно, пылят по дороге грузовики с солдатами, впереди закрытый легковой автомобиль мчится. Выследили беляки руководителя всекрымского подполья!
Ушли в горы, вызвали оттуда по рации катер. Пришлось уходить обратно в Тамань. Филипп, честно сказать, радовался. Ну их к лешему, такие приключения.
Но Клобуков с того дня прилип к Панкрату Евтихьевичу, как репей. Не отдерешь. Бляхин с начальником редко когда про постороннее разговаривал, только по делу. А с Антохой товарищ Рогачов, бывает, подолгу беседы беседует. Иногда и не поймешь, о чем. В машине ехать: Филипп, значит, впереди, с шофером, а Клобуков барином, сзади. Получается, что с ним Панкрату Евтихьевичу интересней. А может, и приятней. Явился очкастый на готовенькое. Ототрет, отодвинет верного человека. Что-то с этим надо делать, пока не поздно.
На постой члену РВС выделили хорошую хату, чистую. Поповскую, что ли: в горнице одна стенка вся в иконах, другая в фотографиях, и на них сплошь попы бородатые. Две большие комнаты, спальня. Но в спальню Филипп только заглянул, больше не совался. На полу лужа засохшей крови, в ней пух и перья. То ли гуся резали, то ли человека, а пух – на кровати перина распоротая. Стояли тут, пока комбриг не выгнал, какие-то кавалеристы.
Филипп вышел во двор, где шофер Ганкин, который не мог сидеть без дела, возился с «фордом». Из-под машины торчали ноги в кожаных штанах и высоких желтых ботинках. Рядом лежало снятое колесо.
– Гляди, чтоб к возвращению товарища Рогачова авто было на ходу, – сказал ботинкам Бляхин.
– Будет, – глухо ответили из-под «форда».
Тачанка во двор не поместилась, стояла за воротами.
Нераспряженные кони хрупали зерном из привешенных к мордам мешков. Возница Дыхов чистил пулемет «гочкис», закрепленный на задке. Масляный ствол поблескивал в лунном свете.
Кучеру Бляхин ничего не сказал, опасаясь нарваться на неуважение. Дыхов был человек отсталый, грубый. Когда отрывают от работы, не любил. Но за него, как и за Ганкина, можно было не беспокоиться. Товарищ Рогачов подле себя пустых людей не терпел.
Штаб, где Филипп думал разжиться насчет шамовки, был в двух шагах, на площади, в каменном доме нерусской постройки. Хотя местечко было не польское, а украинское. И церковь на площади стояла не с католическим, а с православным крестом.
Обходя лужи, сверкающие, будто серебряные подносы, Бляхин упруго шел к крыльцу. Там, конечно, никакого часового. Прямо на ступеньке, перегородив проход, вразвалку сидели двое: какой-то мордатый, в кубанке набекрень, и тетка в военном. Боец гудел ей что-то на ухо, тиская пятерней грудь. Баба похохатывала.
Штаб бригады, нечего сказать.
– Комендант где? – строго спросил Филипп. – Я вас, товарищ, спрашиваю. Встаньте, с вами говорит адъютант члена Реввоенсовета Республики.
На освещенном луной плоском лице глаза сомкнулись в щелки, а рот наоборот раззявился, там блеснул железный зуб.
– Щас я зараз встану, – сказал хриплый голос. – Я встану.
– Ладно тебе, Харитош, – удержала его баба. – Не чепляйся, ты выпимши. У себя комендант, вы проходьте.
Бляхин начал злиться. Во-первых, как пройдешь, когда этот со своей шалавой раскорячился и шашка поперек ступеней? Во-вторых, вольница вольницей, но всему же есть предел? Ох, вернется товарищ Рогачов!
– Вы кто такой, товарищ боец? Часовой? Отвечайте по уставу!
– Хто я такой? – медленно повторил мордатый и с неожиданной легкостью поднялся. – Я смерть твоя, гнида.
Липкая ладонь ухватила за лицо, сжала так сильно, что Филипп вскрикнул от боли. От толчка он отлетел на несколько шагов, еле удержался на ногах.
На него с крыльца надвигалась черная, перепоясанная ремнями фигура. Только теперь Бляхин ощутил сильный запах перегара.
– Я тебя сейчас кончать буду, адъютант сучий. Вот этой вот рукой до нижней кишки разрублю.
Баба повторила:
– Ладно тебе, Харитош. Опять ты. Скушно!
– Щас антиресно будет, – пообещал боец. – Щас с его хавно потекет.
«Убьет. Этот – убьет, – понял Филипп даже не умом, который от ужаса весь съежился, а брюхом, печенкой, всем помертвевшим нутром. – Очень просто! А потом снова сядет бабу тискать».
– Я тя поучу, как с трудовым народом хутарить. – Жуткий человек покачивался, бессмысленно щурясь. Рот расползался, усы шевелились и сверкала, сверкала меж слюнявых губ железная искорка – почему-то от этого было особенно страшно. – Ховоришь, адъютант? Значит храмотный?
– Грамотный, – пролепетал Бляхин. Сил пятиться больше не было. И что проку? Рука кавалериста лежала на рукояти. Повернешься бежать – шашкой достанет.
– Кру-хом! – скомандовал буденновец. – Дывысь, Самохина, шо щас будэ.
Филипп развернулся на каблуке, застыл по стойке «смирно». Хоть что – только не клинком наискось, от плеча к бедру! Днем, в Загорье, он видел в бинокль, как всадник, свесившись с седла, рубит в оттяжку бегущего поляка – голова с плечом и рукой в одну сторону, туловище с ногами – в другую.
– «Храмотный» – это на какую букву?
– На «гэ», – отрапортовал Бляхин.
– «Хавно» тож на «хэ». Захнись-ка зараз пополам, на букву «хэ».
– 3-зачем?
Сзади легонько вжикнуло. Филипп полуобернулся. Двумя пальцами, будто хворостинку, пьяный держал в руке обнаженную шашку. Узкая белая полоска покачивалась, ловя лунные лучи.
Рывком Филипп согнулся пополам, стараясь при этом удерживать руки по швам. Колени дрожали и подгибались.
– Ховори: «Я – хавно».
Бляхин повторил. На крыльце заливисто хохотала Самохина.
– Дурак ты, Харитоша! Чего к человеку прицепився? Ой, не можу!
От мощного удара носком сапога в зад Бляхин полетел так, что едва через голову не перевернулся. Теперь сзади реготали в два голоса.
Еще не веря, что жив, жив, он подобрал упавшую фуражку и побежал прочь со всех ног. Тяжелая кобура колотила по бедру, пришлось ее придерживать. Разбойничий свист напугал бегущего. Он споткнулся, чуть сызнова не грохнулся.
За углом отдышался. Стряхнул пыль с френча. Уф, верил бы в бога – перекрестился бы. На вершок смерть прошла. Пустяками отделался. Такому зверюге человека зарубить, что комара хлопнуть.
А потому что сам виноват. Не трогай бешеную собаку – не укусит.
Филипп осторожно высунулся. Несостоявшийся убийца тянул куда-то свою Самохину. Та не хотела вставать, упиралась.
Ясно. Пока эта парочка с крыльца не ушьется – беса тешить, в штаб не попадешь, жратвой не разживешься.
Чтоб не тратить зря времени, решил Бляхин покамест за околицу сходить. Когда подъезжали к Неслухову, видел он луг, весь лиловый от чабреца. Его нарвать, натолочь, завтра на солнышке просушить – и в чай. Духовито и для здоровья польза. Панкрат Евтихьевич любит.
Ох, Конармия, Конармия, думал Филипп, сторожко идя по улице. Если видел где слоняющихся бойцов – обходил стороной. Ничего, Рогачов рога вам обломает. Не знаете вы товарища Рогачова.
Если ночью дальше ехать – ладно, плевать на мордатого. Но если тут до завтрева оставаться, надо будет про Харитошу этого бешеного рапорт дать. Очень хорошо бы его, гада, к стенке поставить. И в смысле укрепления пролетдисциплины польза. Совсем обнаглели, хамье. «Трудовой народ», мать его.
Это Антоха, дурак, недавно разговор завел. Завидую, говорит, тебе, Филипп. Ты человек из народа, и всё тебе про народ понятно. А у меня будто барьер. Хочу перескочить – и не могу. Хочу стать своим – не выходит. Будто какую тайну не могу разгадать.
Смехота с интеллигенцией! Всё оттого, что жили они всегда не на земле, где простонародье, и не на небе, где настоящие господа, а посередке. Большим барам с высотищи мелочь всякую разглядывать недосуг, а эти, курицы-не-птицы, летают невысоко, вниз пялятся да кудахчут: «Народ то, народ сё». Если же человек, вот как Филипп, из грязи своим умом поднялся, ему ломать голову над тем, что такое народ и какая у него жизнь, не приходится. Народ – собака, жизнь у него собачья, и обращаться с ним тоже надо, как с дворовой собакой. Кормить не досыта, чтоб не жирела, по временам палкой охаживать – чтоб не задурила. И будет народ тебя любить, на свист подбегать да хвостом вилять.
Пока дошел до луга, совсем успокоился. Руки трястись перестали, коленки не подгибались. Гузница, зашибленная сапогом, ныла, но это плата за науку: помни, Бляхин, что ты тут среди волков зубастых, и держись тихо, когда рядом нет товарища Рогачова.
Луг начинался сразу за околицей и тянулся на добрых полверсты, до черной лесной опушки. По-над травами низко стелился туман, под луной он переливался белым и серебряным, будто не туман это, а кипенное озеро. Не сказать чтоб Филипп был сильно чувствительный на красоту, а и то залюбовался. Тихо, покойно, сказочно. Это мамка в детстве сказку сказывала: как из шипучих волн на берег Буяна-острова выходят тридцать три богатыря заколдованной царевне службу служить.
И только он это вспомнил – еще даже до места не дошел, где чабрец рвать, – вдруг видит: из серого, клубящегося выплывают черные точки. Беззвучно, страшно. И много – длинная вереница.
Точки вытягивались кверху, превращаясь в палочки, приближались. Что-то там поблескивало мелкой россыпью.
С полминуты Филипп стоял ни жив ни мертв: что за наваждение? Если это люди, почему у них квадратные башки?
Ахнул. Это не башки квадратные, это польские угловатые фуражки-рогатывки! Идет на Неслухов тайной ночной атакой польская пехота, растянувшись цепью от леса поперек поля! Блестят под луной штыки, и через пять, много десять минут ударит вся эта сила по сонному, пьяному Неслухову, возле которого и охранения не выставлено! Без боя возьмут паны местечко, всех штыками поколют!
За первой цепью показалась вторая, потом и третья.
Только тогда Бляхин очнулся. Низко пригнувшись (вспомнилась буква «Г»), побежал назад, к домам.
Оглянулся перед самой околицей и увидел, что вражеские цепи идут полукругом, охватывая Неслухов с трех сторон. Задумали поляки взять штаб красной бригады в мешок, чтоб никто не ушел. Тревогу поднимать надо!
Но вынутый было «наган» Филипп спрятал обратно в кобуру.
Неслухов будет взят, это ясно. Нету в местечке силы, которая под таким ударом устоит. О себе надо думать. Когда пальба пойдет, поздно будет.
На улице, уже не таясь, он побежал со всех ног. Успеть, только б успеть!
Через открытые ворота Бляхин глянул во двор. Эх, чертов Ганкин еще не поставил колесо на место, всё копошился под машиной.
Слава богу, Дыхов в тачанке. Пристроился на дне, под тулупом. Он был мерзлявый, Дыхов. Даже в августе всё кутался, накрывался.
Филипп толкнул его в плечо.
– Подъем! Уезжаем. Быстро!
– Товарищ Рогачов приказал?
Кучер потянулся, зевнул.
– Да, да! Живо ты! Дело срочное!
Где Антоха? Через освещенное окно Клобукова было не видно. Бес с ним, некогда искать. Так оно, может, и к лучшему выйдет.
Как потом оправдываться перед Панкратом Евтихьевичем – про это пока не думалось. Ноги бы живым унести, а там видно будет.
– Разгоняй, Дыхов! Кнутом их, кнутом! – поторопил он вялого возницу.
– Кого? Орлика кнутом? Я его отродясь не охаживал, – удивился Лыхов, но вожжами тряхнул.
Коренник пошел резвее, набирая скорость.
Еще пару минут тишины – и будем на шляху, думал Филипп, грызя кулак.
Едва тачанка выкатилась из местечка на дорогу, что вела в соседний Милятин, как сзади бухнул – в тиши оглушительно – выстрел. Сразу затем ночь будто взорвалась. Палить начали отовсюду, и еще закричали: по-звериному, в множество луженых глоток.
Сбоку, с поля донесся топот, свист. Дернул Бляхин головой – встрепетал. Справа, разворачиваясь полумесяцем, летела над белесым туманом, как по облакам, конница.
– Гони! Гони! – заорал Филипп. – Нам бы хоть до леса! Пропадем!
– Куды гони? – Дыхов натянул поводья. – Ляхи!
И полез, тупица, с козел в коляску.
– Ты чего? Порубят!
– А пулемет на что.
Кучер содрал чехол, развернул «гочкис» тонким стволом в сторону всадников.
– Помогай, товарищ Бляхин! Ленту примай!
Соскочить, в траву упасть, затаиться?
– Та-та-та-та-та-та-та!
Пулемет заплевался сердитым пламенем. Вдали кувыркнулся всадник, второй, третий. Остальные один за другим стали исчезать в молоке – спешивались.
Лыхов был знатный пулеметчик, не зря товарищ Рогачов его всегда с собой брал, когда по фронтам ездил.
– Держи! Заклинит!
Филипп схватился за горячую, маслянистую ленту.
Пустое! Всё одно не отбиться! От земли, невидимые во мгле, стреляли залегшие поляки, молоко окрашивалось сполохами. Били на пламя пулемета. Воздух вокруг зазвенел, завизжал.
Так на так конец! Или коней побьют, или нас. А нет – из села, сзади, пехота подоспеет. С той стороны стрельба всё ближе, ближе.
«Гочкис» задрал дуло кверху, дал очередь прямо в небо. А Лыхов всхлипнул, плеснул руками, повалился на спину.
Тогда Филипп, согнувшись в три погибели, подобрал вожжи, диким голосом закричал:
– Нно-о! Гони! Гони!
Привычные к войне кони, пока шла пальба, стояли смирно, с ноги на ногу переступали. А от истошного крика рванули. Бляхин чуть не опрокинулся.
Подхватил кнут – давай лупцевать.
Тачанка помчалась, скача по ухабам. Мертвый кучер болтался на дне, стукаясь головой о сиденье. Пули шкворкали прямо у Филиппа над ухом.
Расстреляли бы ляхи повозку, как пить дать изрешетили бы. Однако сжалилась над Бляхиным судьба, мачеха суровая, но своего пасынка от погибели не раз спасавшая. Зашла луна за тучу, померкло всё.
И понял Филипп, всхлипывая от пережитого ужаса, что спасся.
Спасся!
Для Антона заканчивался третий день войны. А той войны, на которой убивают и умирают, то есть войны настоящей – первый. Спать ночью не доведется, это без сомнений. Не из-за того, что, возможно, придется в одночасье подниматься и ехать, а просто не сомкнуть глаз. Пульс за сотню, кружится голова, подрагивают руки – все симптомы нервного потрясения. Удивляться нечему, после того, что сегодня было.
Он сидел в горнице за столом, пытался при свете керосиновой лампы читать «Севастопольские рассказы». Специально взял из Москвы эту книгу, про которую знал, что она правдивее всех других описывает обыденный ужас войны. Не смог читать, отложил. То ли война с тех пор стала другой, то ли Толстой щадил чувствительных читателей девятнадцатого столетия.
Бой под станцией Задворье Антон наблюдал издали. Сначала, пока не попросил у Панкрата Евтихьевича бинокль, зрелище казалось даже красивым. Во всяком случае величественным.
Они сделали остановку на небольшой высоте: автомобиль, тачанка, конвой. Увидели населенный пункт, овраг. Решили сориентироваться по карте. Только-только определили, по железной дороге, что скопление домов к северо-западу – село Задворье, вдруг один из сопровождающих (в штабе дивизии товарищу члену РВС Республики выделили аж троих) крикнул:
– Товарищ Рогачов, бачьте! Поляки! Заблукалы, чи шо?
С запада, прямо через поле, двигалась пехота. Местность была наша, отбитая у противника еще вчера. Полякам разгуливать походной колонной здесь никак не полагалось. Однако это были именно они, видно невооруженным глазом. В Конармии пехоты мало, и не ходит она так ровно, будто по струнке.
– Точно! – подтвердил Панкрат, подняв к глазам мощный бинокль. – Проше паньства! С батальон, пожалуй. Идут, словно по собственному тылу. Ну-ка, вестового в штаб, живо! Их отрезать надо – и в плен.
Но вестового посылать не понадобилось.
Буквально через минуту из-за ближнего леса показались кавалеристы. «Хлопцы с бригады товарища Гомозы», – сказал провожатый, узнав знамя. Быстро рассыпавшись по полю, конница с ходу пошла в атаку.
– Сейчас паны драпанут, – сказал один штабной.
– Поздно им драпать. Залягут, – предположил другой.
Но пехота не побежала и не легла. Бегом построившись в несколько густых шеренг, выставила штыки и двинулась навстречу атакующей кавалерии. Без выстрелов.
– Отроду про такое не слыхивал. Чтобы россыпью, в штыковую, против сабельного удара? – Рогачов пожал плечами. – С ума они сошли. А ну, подъедем ближе!
Машина, подпрыгивая на кочках, спустилась с холма, подъехала к оврагу. На той стороне, в сотне метров, уже вовсю шел бой. Верней сказать, побоище.
Конная лава в клочья разорвала пехотные цепи. На поле в клубящейся пыли кружили деловитые всадники, взлетали и опускались искрящиеся на солнце клинки, стоял неумолчный ровный вой.
«Зачем нужно было просить у Рогачова бинокль? Что за гнусный порыв? Теперь расплачивайся за свое мерзкое любопытство».
Антон влез на капот, чтоб было видно поверх кустов. Очки поднял на лоб. Сначала окуляры были мутные. Навел на резкость – окоченел.
Первое, что увидел, крупно: как офицер (белое лицо, черные усы) подносит к виску пистолет, зажмуривается. Голова мотнулась в сторону, будто попыталась сорваться с шеи. Отлетела конфедератка, мутным облачком выплеснулись мозги, костяная труха, брызги крови.
У Антона дернулись руки и уже не могли остановиться. Сдвоенные кружки поползли по полю, выхватывая картины одна страшней другой.
Сабля раскраивает затылок.
Кованые копыта пробивают грудь лежащего.
Вскинутые руки – и отсекающий их клинок.
Человек в серо-голубом кителе стоит на коленях и молится. Глаза возведены к небу, губы шевелятся, лицо сонное. Конный, проносясь мимо, перегнулся с седла, небрежно махнул шашкой – коленопреклоненный исчез.
– Прекратить! Немедленно прекратить!
Рогачов орал зычным басом, которым, бывало, перекрикивал тысячные митинги.
– Что делают, мерзавцы?!
Он ринулся напролом, через кусты, в овраг и минуту спустя вынырнул на той стороне.
– Прекратить резню! – надрывался Панкрат. – Вы бойцы Красной армии или мясники?
На локтях с обеих сторон повисли провожатые.
– Товарищ член РВС, вы чего? Порубают, не глянут!
– Товарищ Рогачов! Бойцы сейчас разбирать не станут! А мы потом отвечай?
Подскочил Бляхин. Втроем кое-как совладали с Панкратом Евтихьевичем, уволокли обратно в овраг. Антон опомнился, с отвращением швырнул бинокль – тот, хорошо, упал на сиденье, не разбился.
После боя, от немногих пленных, кого все-таки удалось отбить, узнали, почему вражеская колонна оказалась в нашем тылу и вела себя так нелепо. Это были не регулярные войска, а львовские добровольцы: служащие, коммерсанты, студенты, даже гимназисты. Шли на передовую, сбились с пути. А не стреляли, потому что не успели получить патроны.
– Это понятно. Но почему вы не сдались, если не было патронов? Кто ходит на конницу в штыковую? – допытывался Рогачов у молодого парня с мертвенно-серым, без кровинки лицом.
Одна рука у пленного была отрублена, веревочный жгут стягивал бурый рукав выше локтя. Взгляд у поляка был пустой, мимо большевистского начальника.
– Nie po tośmy szli na ochotnika, żeby się wam teraz poddawać, – безо всякого вызова, тускло ответил тот.
Когда сели в автомобиль, Рогачов сказал:
– Дураки, зазря сгинули. – Скрипнул зубами. – Но… твою мать, каков человеческий материалу них и каков у нас? Вот в чем беда, Антон. Правда у нас, а люди – у них. – Помолчал, бодро добавил. – Ничего. Правда, коли она правда, рано или поздно сделает наших скотов людьми. И тогда никая сила нас не остановит.
Как-то очень уж с нажимом это было произнесено. Будто Панкрат Евтихьевич убеждал не секретаря, а самого себя.
«Севастопольские рассказы» лежали на столе обложкой кверху. Антон думал про поляка с отрубленной рукой, про офицера-самоубийцу, про молящегося. И, конечно, про слова Рогачова. В них – истина. Просто Панкрат Евтихьевич не развил мысль до конца.
Что такое эта война и шире – война между белыми и красными? Люди более высокого качества сошлись в смертельной схватке с охлосом, с полуживотными. Однако парадокс в том, что первые сражаются за низкое дело, а вторые – за высокое. Большая Правда – грубая, грязная – схлестнулась с Маленькой Правдой, тоже не особенно чистой, но более прилизанной. Пожалуй, внешняя цивилизованность придает Маленькой Правде особенную фальшь, даже омерзительность. Взять севастопольского полковника Патрикеева. Вежливый, с университетским значком, а сам палач из палачей. С кого больше спрос – со вчерашних рабов, не знающих ничего кроме жестокой и подлой жизни, или с вежливых убийц-белогвардейцев? Кто, если не предки патрикеевых довели угнетенный класс до скотского состояния?
Сейчас Большая Правда выплеснулась за пределы российского государства. Она так мощна и напориста, что затопит белую Польшу и покатится бурными волнами дальше, на обескровленную войной Европу. Падет Львов, падет Варшава, дрогнет Берлин. Устоит ли буржуазный Запад против голодраных полчищ? Тут-то и проверится, насколько велика Большая Правда, всемирна ли. Может быть, выяснится, что она пригодна только для внутреннероссийского употребления – и потоп отхлынет.
Вот какая это война.
По пути на фронт, в поезде, был у них разговор с Панкратом Евтихьевичем.
– Я воюю давно, всякого навидался, – сказал Рогачов, – а тебя крепко по мозгам стукнет. Ты только гляди, в обычную интеллигентскую ересь не впадай – не отшатнись с отвращением от собственного народа. Народная война – штука страшная, гадкая. Ты должен научиться видеть красноармейцев не взглядом мальчика из культурной семьи, а исторически и диалектически.
– Как это «диалектически»?
– Тебе будет лезть в глаза грубая короста, в нос будет шибать смрад, но не забывай главного. Это схватка освобожденных рабов со своими вековыми мучителями. Рабы родились в грязи и унижении, поэтому они грубы, безжалостны по отношению к врагам. Такими же были повстанцы Спартака или ратники Пугачева. Всё одна и та же вечная война, растянувшаяся на тысячелетия. Только в этот раз победа будет на нашей стороне.
Третий день находился Антон на фронте, третий день пытался смотреть на красноармейцев исторически и диалектически. Иногда казалось, что начинает получаться.
Человек, с рождения лишенный достоинства, мало чем отличается от домашней скотины, думал Антон, глядя на обложку книги. Вся эволюция еще впереди. Собственно, пока лишь идет борьба за право пролетариев на эволюцию. Мы находимся в самом начале великой эпохи всеобщего равенства, на ее илистом, грязном дне.
Расстегнул ворот. Душно было в горнице. Бляхин велел закрыть окна, чтоб не налетело мух, а то разжужжатся – не уснешь. Филипп рассчитывал «подавить ухо» часок-другой, пока не вернется Рогачов.
Антон встал, заглянул в проходную комнату.
На большом обеденном столе лежала развернутая карта. Бляхина не было. Как он ушел, Антон не слышал.
А между прочим неплохая идея – пройтись по ночной прохладе. Способствует нервной релаксации. Может быть, потом в самом деле удастся уснуть?
Во дворе ослепительно сияла луна. Под автомобилем громыхал железками Ганкин. Лязгнуло что-то и в собачьей будке под крыльцом. Оттуда сверкнули две фосфоресцирующие точки. Здоровенный пес, удивительно тихий, смотрел на Антона, поматывая башкой.
За воротами, развалившись в тачанке, похрапывал Лыхов. Вот человек с идеально функционирующей нервной системой. Есть дело – работает. Нечем себя занять – моментально отключается и спит. В любое время суток, в какой угодно обстановке. Поэтому всегда бодр, спокоен, собран. Эх.
Подумав – направо, налево? – Антон повернул в сторону площади. Там посверкивала искрами огромная черная лужа, похожая на волшебный ковер. Ступишь на такой – и полетит в небо, к звездам.
Из-за угла, слегка пошатываясь, выкатило невиданное четвероногое. Антон замигал, поправил очки.
Никакой мистики. Просто боец в обнимку с женщиной. Шашка бьет по сапогу, кубанка на затылке. Женщина тоже военная, в широченных галифе – будто огромная груша.
– Дывысь, Самохина, – сказал боец, останавливаясь. – Ще один храмотный. В стеклах. А ну стой, сопля!
Антон остановился. Кавалерист был сильно навеселе.
– Харитош, ладно тебе, – сказала баба. – Пра, надоело.
– Давай, храмотный, встань буквой «Хэ»! – с угрозой потребовал пьяный, отодвигаясь от своей подруги. Он прижимал что-то правым локтем – то ли свернутое одеяло, то ли какую-то одежду.
Неожиданное требование показалось Антону забавным. Жалко, что ли? Он засмеялся, расставил ноги пошире, руки поднял над головой и тоже развел в стороны.
– Так, что ли? Похоже на букву «X»? А зачем это?
– Хра-амотный, – презрительно сказал боец и сплюнул. – Стекла начепил. А буквы «хэ» не знаешь. Вот как надо.
Он попробовал согнуться и чуть не упал носом в пыль. Спутница ухватила его за шиворот.
– Гляди, Харитон, – сердито сказал она. – Кончай дурить, нето спать пойду!
Посмеиваясь, Антон оставил комичную пару выяснять отношения и двинулся дальше – через пустую площадь. Настроение почему-то улучшилось, руки больше не дрожали, прошло головокружение. То ли помог свежий воздух, то ли подействовала величественная красота лунно-звездной ночи.
Неслухов, обычное украинское село, расположенное среди полей, плоских косогоров и лесов, в мерцающем этом освещении выглядело по-гоголевски мистическим. Деревянная церковь торчала над майданом зловещим напоминанием о чертях, виях, нечистой силе – вовсе не о Боге. Да и нет никакого бога – во всяком случае христианского. Теперь, на седьмом году войны, на четвертом году братоубийственной междоусобицы это, кажется, стало ясно даже самым истовым молитвенникам. Во всей России, может, один только Бах, ангельская душа, еще сохранил веру.
Незадолго перед отъездом на фронт Антон встретился со старинным другом семьи Клобуковых. Иннокентий Иванович, как многие, перебрался из полувымершего Петрограда в новую столицу, служил на какой-то скромной должности в Наркомпросе. Антон наткнулся на знакомое имя, когда по поручению Рогачова просматривал анкеты служащих центрального аппарата, владеющих польским языком. После победы над панской Польшей предполагалось направить в новую социалистическую республику опытных совработников.
У Баха в графе «Знание иностранных языков» среди десятка других языков значился польский. Правда, в пункте «Отношение к религии» наркомпросовский кадровик подчеркнул красным слово «православный», что делало кандидата заведомо непригодным (обычно писали «безбожник», «атеист», «материалист» или просто «неверующий»). Но Антон, конечно, разыскал доброго знакомого, с которым не виделся… сколько же? С семнадцатого года.
Иннокентий Иванович не то чтобы постарел, а словно высох. Считается, что истинно святые после смерти не истлевают, а превращаются в мощи. Бах же, подумалось Антону, мумифицировался еще при жизни. Об обычном, бытовом он не говорил, а невнятно кудахтал. Понять что-либо об обстоятельствах его жизни, о перипетиях, которые заставили тихого человека покинуть родной город, было невозможно. Но когда Иннокентий Иванович, накудахтавшись да наохавшись, успокоился, то заговорил членораздельно – о том единственном, что его, видимо, интересовало.
– Вот теперь, только теперь люди по-настоящему и уверуют, – убежденно говорил чудак. – Именно в этом и ни в чем другом вижу я истинный смысл ниспосланных человеку испытаний. Страдая и горюя, Всевышний подвергает чад своих строгому, но необходимому наказанию. Многие гордые сейчас, опалившись на огне, поняли, что ни ум, ни сила, ни сокровища не уберегут от погибели – едино лишь вера и упование. Без этой вселенской муки невозможно понудить нас, неразумных, опомниться. Так мудрый отец, внутренне плача, порет ремнем малолетнего проказника – ради его же воспитания и пользы.
Антон с полуюродивым и спорить не стал. Что толку? Счастье Баха, что он не бывал на войне. Посмотреть бы ему на резню под Задворьем. Кого там хотел вразумить добрый Боженька? Тех, кого убивали, или тех, кто убивал?
Но вдруг вспомнился человек на коленях, за секунду до смерти. И вздохнул Антон, стоя перед заколоченной черной церковью.
Про это еще надо будет подумать.
Пошел дальше – широкой улицей, мимо глухих безмолвных дворов.
Вот отчего Неслухов производит впечатление таинственного, заколдованного места! Луна луной, звезды звездами, но дело не в них. Просто в окнах не горят огни, нигде не скрипнет дверь, не залает собака.
Большущее село, в каждом дворе собака – и все молчат, как тот пес в будке.
Когда-то, не вспомнить в какой книге, прочитал, а теперь вынырнуло: собакам передается настроение хозяев. Местечко замерло от страха. Люди спрятались по домам, погребам, чуланам. Страшно и собакам.
И ведь не сказать, чтоб царила абсолютная тишина. Где-то наяривает гармошка, в противоположном конце местечка дурные голоса орут песню – почти без мелодии, слов не разобрать. Раздался девичий визг – не поймешь, игривый или испуганный.
Это не только Неслухов, это вся земля затаилась, думал Антон, а сам глядел на звезды. Съежилась земля, боится выдохнуть, и шатаются по ней из края в край лихие кочевники, орут свои варварские песни, жгут дома, убивают, жадно хапают женщин и добычу. Но во всей этой слизи, крови и мерзости рождается новое человечество. Едва роды завершатся, земля вздохнет с облегчением, вернется к жизни.
Дошел до конца улицы, повернул на дорогу, что вела за околицу. Стал думать про другое.
Вот дорога – если взять ее как метафору судьбы: это она выбирает человека или же человек выбирает дорогу? Вольны мы в выборе своего пути, либо же предуготованный путь сам ложится под ноги, а тебе только кажется, будто изгибы и повороты зависят от твоей воли?
Почти сразу же ответил себе: есть люди, меньшинство, кто выбирает свою дорогу сам, и есть остальные, кто следует случайным маршрутом, не пытаясь с него свернуть.
«Хорошо, пусть так. Но к какой категории отношусь я? Конкретно: это я сам, по собственной воле, ушел из родительской квартиры на Пантелеймоновской улице, ради того чтоб на исходе лета 1920 года оказаться в сжавшемся от страха Неслухове? До какой степени эта извилистая тропа – результат моих решений, и до какой – стечение обстоятельств?
Убежал бы я в Финляндию, если бы по случайности не столкнулся на улице с Петром Кирилловичем? Конечно, нет. Однако решение вернуться из Европы на родину никакими внешними факторами навязано не было. И то, что произошло в Жигановке, тоже было моим сознательным выбором. А значит, я не щепка, которую несет поток неведомо куда».
Антон сказал себе: «Не знаю, что со мною будет дальше, но свою судьбу я выбрал сам», – и посмотрел в небо с совсем иным чувством.
Небо тоже показалось ему не таким, как минуту назад. Звезды словно приняли Антона Клобукова в свое сообщество, почтительно и приязненно помигивая.
Он был неизмеримо меньше, но и неизмеримо значительнее любой планеты и любого светила. Во всяком случае свободней. Тоже двигался через Космос, но не по фиксированной траектории, которую задает гравитация небесных тел, а своей собственной дорогой. Прав замусоленный до отвращения Сатин: человек – это звучит гордо.
Антон вздрогнул – неподалеку, за последними домами местечка, раздался винтовочный выстрел.
Качнул головой на собственную нервозность. Подумаешь – кто-то выпалил спьяну. Вокруг столько пьяных и полупьяных остолопов с оружием. Даже странно, что до сих пор никому из них не приходило в голову устроить стрель…
Мысль оборвалась, заглушенная нестройным залпом. Трескучий грохот распорол ночь над темным полем – рваным огненным рубцом.
Что это?!
Всё поле озарилось сотнями вспышек. Антон вскрикнул – и не услышал сам себя.
Поле гремело и рокотало. Кто-то вдали крикнул, пронзительно:
– Do boju!!!
– Hurra-a-a! – откликнулась тьма множеством глоток.
От околицы бежал сильно кривоногий человек, будто катился на колесе.
– Полундра! Поляки! Черным-черно!
И пронесся мимо, размахивая карабином.
– Что? – растерянно спросил Антон.
И затоптался, закружился на месте.
Поляки? Как? Откуда? Ведь это же тыл!
Но кривоногий, наверное, был дозорный, ему лучше знать. И потом вот же – стреляют, кричат «хура!».
Нужно бежать на площадь, там штаб бригады. Какой-нибудь командир скажет, что делать. Вероятно, следует обороняться?
Спохватился, побежал. Уронил фуражку и не сразу заметил. Пришлось вернуться – пропало несколько драгоценных секунд.
Непонятно было вот что: стреляли не с одной стороны, а сразу отовсюду. Окружают? Или ночное эхо?
Где-то далеко застрекотал пулемет, но очень скоро умолк.
Задыхаясь, Антон бежал к центру местечка. Никого на улице не было, ни души.
Из-за плетня высунулся человек.
– Браток! Стой! Чего там?
Это был свой: богатырка со звездочкой, в одной руке револьвер, другая сжимает шашку – в обхват ножен.
– Поляки! Атакуют! На площадь надо!
Человек был коротко стриженный, в стороны торчали длинные усы с острыми концами, как у генерала Брусилова на портретах.
– Погодь, товарищ! Ты кто?
– Клобуков, секретарь члена эр-вэ-эс Рогачова!
– Оружие твое где?
Антон промолчал. Не будешь же сейчас объяснять, что, отправляясь на фронт, он твердо решил: оружия в руки не возьмет ни при каких обстоятельствах, ибо лучше дать себя убить, нежели убить самому.
Но усатый не ждал ответа. Он быстро вертел своей круглой головой.
– Я Бабчук, военком третьего кавполка. Зацепило меня утром. Вишь? – Антон заглянул поверх плетня и увидел, что одна нога у Бабчука в сапоге, а вторая обмотана толстым слоем бинтов. – Хлопцы уехали, меня сюда определили. Покуда госпиталь не подъедет. Вот и подлечился… – Военком выругался.
– Перелезайте сюда! Я помогу! – сказал Антон, оглядываясь на приближающиеся выстрелы. – На площадь надо! Там, наверно, будет оборона!
– Какая в… оборона? – Бабчук странно хохотнул, не переставая крутить головой. – Оглох ты, что ли? С трех сторон прут. Полк их, не меньше. Тикать надо, Каблуков. К Милютинскому шляху надо тикать, там тихо. Ты мне поможешь, Каблуков? Мне на одной ноге тикать погано. Лучше сразу пулю в лоб.
– Конечно помогу! – «Каблуков» так «Каблуков» – неважно. Антон привык к тому, что его фамилию перевирают. – Обхватывайте меня за шею!
Стал переволакивать раненого через плетень – плетень завалился. Черт с ним.
Побежали вперед. Бабчук держался за Антона, прыгал на одной ноге, опираясь на шашку и каждый раз вскрикивал от боли.
– Швыдче, швыдче! – приговаривал.
Метров двадцать они так проскакали, не больше.
– Стой!
– Что такое? Больно?
Раненый снова, как заведенный, мотал туда-сюда головой.
– Всё, парень. – Опять неестественно хохотнул. – Побегали, будя.
– Но почему? На площадь нужно!
– Оглох? Уланы впереди.
Со стороны майдана доносился топот копыт и лихой, разбойничий свист.
– Свистят, соловушки, ха-ха. Запечатали кубышку. Хана нам, товарищ.
Широкая улыбка кривила лицо усатого – у Антона губы тоже механически поползли в стороны.
– Что же делать? – крикнул он. Обычным голосом разговаривать было трудно – палили со всех сторон, близко уже.
– Гопак плясать.
Зачем Бабчук все время озирается, стало понятно, когда он сказал:
– Заховаться бы где. Самопозднее к полудню вышибут беляков наши с села. – И горько прибавил. – Эх, хлопцы, хлопцы. Определили на поправку! И я хорош. Через дурь свою загибаю.
Антон тоже стал смотреть вокруг. Да, нужно спрятаться! Пока темно, не найдут. А потом вернется товарищ Рогачов с подмогой.
– Смотрите, вон сарай!
– Нельзя. Хозяева враз поймут. Выдадут.
– Почему обязательно выдадут? Они трудовое крестьянство, они должны быть за нас.
– Галичане они, – сказал, будто сплюнул, Бабчук. – И собаки учуют. Это они, пока бой, тихие… А ну, давай за мной!
И запрыгал назад, чуть наискось, к ближайшему забору, за которым белели стены хаты.
– Так хозяева же, сами говорите!
– Пустая. Не видишь?
В самом деле – Антон разглядел – дом был нежилой: рамы выбиты, соломенная крыша наполовину провалена.
Внутри пусто, на земляном полу поблескивали лужи.
– Наверх!
По приставной лестнице на чердак. Осторожно наступая – не прогнили ли перекладины? – Антон вскарабкался первым. Бабчук, охая, лез следом. Револьвер он спрятал в кобуру, шашку засунул за ремень. Подтягивался на руках.
– Лестню подыми.
Правильно! Антон вытянул лестницу на чердак.
На полу грудами валялась гнилая солома, сильно пахло плесенью.
– В случае чего тут и смерть примем. – Бабчук сгреб солому в охапку, сел. – Устраивайся, товарищ Каблуков, удобней. Может, этот чердак – твой гроб.
Сам своей шутке посмеялся. Переполз поближе к оконцу, лег там.
Луна зашла за тучу. Улицы было не видно. Но, когда Антон выглянул, неподалеку с грохотом раскрылся и погас огненный куст.
– Пушка?
– Граната. Если к нам кинут, вся наша скворешня обвалится. Авось не кинут.
Военком сказал это шепотом, и Антон вдруг сообразил, что пальба почти стихла. Стреляли теперь не густо, одиночными. По всему селу, в разных местах.
Неужели бой уже кончился? Так быстро?
Наручные часы, еще цюрихские, показывали без двенадцати минут час. Когда выходил прогуляться, тоже посмотрел – была ровно половина второго. Прошло всего восемнадцать минут.
– Товарищ Бабчук, как вы думаете, а соседи ведь наверно услышали звуки боя? Может быть, подмога подоспеет еще до рассвета? Или же поляки, не дожидаясь, сами…
– Тсс! – цыкнул военком и осклабился. – Явились, родимые… Читай молитву, Каблуков, если слова не забыл. Я большевик, мне не положено.
Луна по-прежнему пряталась, но тем не менее Антон увидел, как во всю ширину улицы, от забора до забора, цепочкой движутся тени.
Раздалась какая-то неразборчивая команда по-польски – и во двор напротив, толкнув калитку, вошли двое.
– Ej, wy tam w chałupie, wyłaźcie!
Мгновение спустя стукнула дверь, выскочила юркая, сутулая фигурка, засеменила к солдатам. Донесся невнятный бубнеж.
– Интересуются, не сховался ли кто, – шепнул Бабчук. – Держись, парень, зараз у нас будут. – Он вынул револьвер, противно скрежетнул зубами. – Ну, пановьё, много не обещаю, но одного-двоих…
Шаги во дворе. Потом внизу – прямо под Антоном.
Военком одними губами: «Никшни!»
– Nikogo tu nie ma, panie chorąży!
Только когда застучало в висках и сжало грудь, Антон понял, что боится выдохнуть.
Шаги удалились. Цепь двинулась дальше.
– Еще поживем малость, – шепнул Бабчук, убирая оружие.
– Что будем делать теперь?
– Спать.
«Шутит?»
Но товарищ по несчастью улегся на бок, подложил локоть под ухо.
– Как это «спать»?
– Не хошь спать – лежи да дрожи. По мне лучше дрыхнуть, чем маяться.
Минуты не прошло – в самом деле уснул! Вот нервы – крепче, чем у кучера Лыхова! Быть может, дело не в крепости нервов, а в том, что у интеллектуально неразвитых людей скудное воображение и ослабленная способность к рефлексии?
Антон лег на спину, закрыл глаза.
Через пару секунд дернулся, сел.
Совсем близко несколько раз выстрелили. Кто-то закричал громко и жалобно.
– Слышите?!
– Кокнули кого-то. Хреново заховался. Спи ты, Каблуков, не ворочайся. И не трусь, а то вспотеешь. Собаки пот, который от перепуга, далеко чуют. Ну-ка ляж!
Антон откинулся на спину.
– Теперя спи!
Шершавая широкая ладонь вдруг накрыла лоб и глаза.
– Не надо, что вы!
– Тихо ты…! – выбранился Бабчук. – Не то я тебе и рот залеплю. Или придушу к… матери.
Подумалось: всё равно. Лежать так лежать. Придушит так придушит. Фантасмагорическая какая-то ситуация. Что-то из детства. Как будто простудился, пылаешь от жара, а мама сидит у кровати и держит ладонь на лбу. Только у мамы рука была прохладная и мягкая, а эта горячая и жесткая. Если сейчас умирать, то получится, что круг замкнулся.
Бред, бред. И голова кружится. Как на карусели.
Следующая мысль, шевельнувшаяся в оцепенелом мозгу, была чудная: «Рука у него не только горячая, но еще и светлая». Антон открыл глаза – зажмурился.
Никто не держал ладони на его лице. Это грело и сияло солнце, проникая через дыру в кровле.
Никогда в жизни не спал он таким мертвым сном. Вероятно, это был не сон, а вазовагальный синкоп – нервный обморок.
– Товарищ Бабчук…
Военком лежал на животе, возле самого окошка. Не оборачиваясь показал кулак. Антон подполз.
– Каюк дело, – засипел Бабчук. – Укрепляются, гады. Конная батарея на рысях прошла. Влипли мы, Каблуков. Не выберемся. Жрать охота, пить охота. Нога, сука, огнем горит. А не шелохнешься. Этот вон, говеныш, всё копошится…
На той стороне улицы крестьянин чинил поваленный плетень.
Мимо, переваливаясь, ходко ковыляла хромая старушонка в черном платке, опущенном до самых глаз.
– Помохай Боже! – поклонилась она хозяину.
Тот, разогнувшись, что-то ответил. Поговорили с минутку, и бабка захромала дальше.
– С ходу наши поляка́ не вышибут, – шептал Бабчук. – Тут пехота нужна, а где ее возьмешь? Спешо́нными хлопцы атаковать не пойдут.
– Что же будет?
– Известно что. Вызовет комбриг Гомоза артиллерию, за свой загубленный штаб раскурочит весь Неслухов в бога…ую мать. И тут уж, парень, как свезет. Либо шандарахнет трехдюймовым по нашей курятне, либо нет.
При свете дня Антон наконец смог рассмотреть своего случайного товарища. Лицо у Бабчука было широкоскулое, в оспинах. Глаза светло-карие. Усы не черные, как показалось ночью, а рыжеватые. На вид ему лет сорок, но у простых людей из-за трудной жизни молодость проходит быстро. Очень возможно, что Бабчуку было немногим за тридцать. Сам он на Антона ни разу не взглянул, не заинтересовался. Всё смотрел на желтую от утреннего солнца улицу, не отрывался.
– Вы откуда? До войны чем занимались? – шепотом спросил Антон.
Лицо военкома перекосилось, словно от ярости. Оспины побелели, а зрачки сузились в две точки. Антон испугался. Что сказал не так? С человеком из народа никогда не знаешь, о чем можно спросить, а на что собеседник вдруг возьмет и оскорбится. Не раз и не два приходилось обжигаться. Простые люди ужасно обидчивы, когда разговаривают с интеллигентами. Очевидно, сословное несовпадение этикетов. Или же чувствуют, что интеллигент очень боится их ненароком обидеть – и реагируют на это агрессией.
– Извините, если я что-то не то… – еще тише залепетал Антон. А Бабчук ответил ему обычным голосом, громко:
– Всё, парень. Теперь всё.
– Вы что! – Антон оглянулся на крестьянина. – Тише!
– Поздно шепо́тничать.
Лишь теперь Антон догадался повернуть голову туда, куда Бабчук пялился своими крошечными зрачками.
По ухабам, прыгая плечом, семенила давешняя старуха. За ней – полтора десятка солдат. Чуть сбоку – пожилой, седоусый. Наверное, унтер-офицер.
Бабка подняла клюку и ткнула ею вперед и вверх – показалось, что прямо на Антона.
– Высмотрела, сука старая, – простонал Бабчук. И не стал больше глядеть. Перекатился на спину, руки закинул за голову.
Удивительный человек, подумал Антон. Не человек – загадка. Так я теперь и не узнаю, что он такое, этот Бабчук, и почему таким получился.
Знал Антон за собой эту аномальную особенность – в самые роковые моменты жизни отвлекаться мыслями на несущественное. А может быть, это просто защитный механизм психики?
– Ej, Moskwa! Złaź na dół! – крикнули снизу.
Антон на миг выглянул – и снова спрятался.
Кричал седоусый. В руке у него было что-то черное, круглое. Солдаты стояли полукругом, выставив винтовки.
– Чего там? – вяло спросил Бабчук.
– Целятся. Что делать, товарищ военком?
– А чего хочешь…
Щелкнул металл. В руке у Бабчука матово поблескивал револьвер.
– Отстреливаться будете? – быстро спросил Антон, подумав: «Это не роман Майн-Рида, это происходит на самом деле. Со мной!»
– Пальну разок, – тем же безразличным голосом сказал Бабчук, глядя в прореху крыши. – Живым не дамся. Как я есть красный комиссар и какая-нито гнида на меня беспременно укажет, чтоб спасти свою вонючую шкуру. Только не будут паны с меня ремней резать.
– Raz, dwa, trzy… – начал считать во дворе унтер.
Бабчук стал прилаживать дуло между горлом и подбородком.
– Сигай вниз, Каблуков. Может, не кончат они тебя. Давай. Пожду, пока прыгнешь.
Не для того, чтобы спастись, а чтоб не видеть, как Бабчук себя убьет, Антон метнулся к люку и, не разбирая, что и как, прыгнул вниз. Больно ударился подошвами, упал.
Сверху донесся глухой треск, мало похожий на выстрел.
Седоусый смотрел, манил пальцем. Антон поднялся, вышел через пролом в стене. Защурился от солнца.
– Ilu was tam jest? – спросил унтер, глядя вверх. Круглое и черное в его руке оказалось гранатой.
«Спрашивает, сколько там нас».
– Один.
– Nie chce zleźć?
Антон покачал головой.
Унтер выдернул чеку, сделал несколько шагов назад. Солдаты тоже попятились. Сообразив, что сейчас произойдет, Антон кинулся за ними.
Ловко, без особенного размаха, будто ловя муху, унтер швырнул гранату – точнехонько в чердачное оконце.
Взрыв. Трухлявая крыша разлетелась щепками, клоками соломы. Обнажились гнилые, провисшие стропила.
Кто-то одобрительно крикнул:
– Us ładnie rzucił!
Двое тянули Антона в сторону. Начали вертеть, ощупывать. Он подумал: ищут спрятанное оружие – и только покорно поворачивался.
Один снял с руки «Лонжин», одобрительно поцокал. Другой сдернул с носа очки, вздохнул, но все-таки сунул себе в карман. Потом пощупал рукав френча.
– Ściągaj! – и кулаком, легонько ткнул в скулу: пошевеливайся.
Антон стал непослушными пальцами расстегивать пуговицы.
Тот, что отобрал часы, сидел на корточках, деловито ощупывал башмаки. Плюнул – не понравились. Новые ботинки, английские, выданные со склада перед командировкой, остались в поезде – не хотелось трепать ценную вещь по фронтовой грязи.
«Неужели в такую минуту можно радоваться подобной чепухе? Какая разница – в ботинках убьют или без?»
Солдаты оставили Антона, но в следующее мгновение кто-то больно стукнул его в ухо. Это наскакивала хромая старушонка и била, била острым кулачком.
– Стася зарiзали, краснюки! – выкрикивала она, разевая ведьминский рот с единственным желтым зубом.
Антон отворачивался, закрывался локтем.
Солдат, отобравший часы, оттолкнул старую фурию. По-приятельски подмигнул, сморщив веснушчатую физиономию:
– Wasi zarżnęli świniaka staruchy. Rozumiesz? Świnię.
– Zemsta krwi za świnkę! – сказал другой.
Все засмеялись. В чем заключалась шутка, Антон не понял, но оттого, что поляк подмигнул, а другие весело, без злобы, расхохотались, оцепенение немного ослабло.
«Кажется, не убьют? Нельзя же подмигивать и улыбаться человеку, а потом взять и убить?»
Начальник прикрикнул на солдат, те замолчали, подтянулись. Рыжему, который заступился за Антона, унтер что-то приказал. «Odprowadzić na plac»? То есть, отвести на площадь? А что там, на площади?
Но солдат уже подталкивал в спину.
Пошли по улице: Антон впереди, конвойный сзади.
Веснушчатый держал винтовку небрежно, на сгибе локтя, и что-то напевал, любуясь трофейными часами.
Собравшись с духом, Антон спросил:
– Куда вы меня?
Ответ был непонятным:
– Gdzie wy naszych jeńców, tam i my was.
«Енцов? Что это значит?»
Переспросить не осмелился. Так или иначе до площади оставалось недалеко.
Там постреливали, на площади. Правда, редко. Выстрел, через минуту еще два. Потом тишина.
«Так ведь не расстреливают? Расстреливают ведь залпами? И не в центре же села?»
Неслухов был мирный, утренний, сонно-солнечный. Собаки, правда, по-прежнему нигде не лаяли.
«Неизвестно, что будет. Наверное, будет скверно. Но самое страшное кончилось. Не убили сразу, прямо во дворе – значит, не убьют».
Вот и площадь. Она открылась разом, широкая и пыльная. Солнце светило в лицо, и Антон не сразу всё разглядел.
Первое, что бросилось в глаза: черное от копоти здание штаба с покосившимся крыльцом. Посередине майдана три полевых орудия. Зарядные ящики чуть поодаль; лошади у коновязи; ездовые курят, собравшись в круг, над ними сереет табачный дым.
Потом взгляд наткнулся на жуткое, и ни на что другое смотреть стало невозможно. Около церкви были свалены трупы. Большинство без сапог. Торчали раскинутые руки, черными лужами подтекала кровь. Сюда стаскивают убитых ночью красноармейцев, понял Антон. Неужели все наши убиты?
Нет, не все.
Ближе к церкви, в густой тени, шеренга. Человек тридцать. Спинами к площади. Все без ремней. Стоят, опустив головы. С двух сторон солдаты с винтовками.
Конвойный слегка пихнул замедлившего шаг Антона.
– No, idź. Wszyscy twoi już tam.
Приблизившись, Антон увидел, что по ту сторону шеренги кто-то медленно прохаживается. Кажется, двое. Сверкнул галун на воротнике. Офицеры.
Рогатые фуражки перестали двигаться – офицеры остановились.
Кто-то словно хлопнул в ладоши – гулко и сердито. Человек из шеренги опрокинулся навзничь. Стоявшие по соседству шарахнулись. Конвоиры бросились к ним, прикладами загнали обратно в строй. Из-под церковного крыльца выбежали двое сгорбленных, разутых, в нательных рубахах. Схватили убитого за ноги, поволокли к другим мертвецам.
«Это не убитые ночью! Это убитые здесь! Сейчас! Вот что за выстрелы доносились с площади! Самое страшное не кончилось. Оно только начинается!»
Антон вдруг вспомнил слова рыжего поляка: «Гдзе вы наших енцов, там имы вас» – и понял смысл. «Куда вы наших пленных, туда и мы вас». Вот она, звериная справедливость войны. Вчера буденновцы рубили безоружных волонтеров, сегодня поляки стреляют безоружных буденновцев.
И, как в расстрельной камере на Шпалерной – в миг, когда надзиратель вызвал на выход, – мысли замерли. Заработала милосердная анестезия разума.
Не упираясь, послушно, Антон встал туда, где несколько секунд назад стоял застреленный. Прищурил близорукие глаза.
Да, польских офицеров было двое – улыбчивый и хмурый. У обоих в руке по пистолету.
Лица хмурого было толком не разглядеть – он тер ладонью левую щеку, правая щека подергивалась в тике. Антон поскорее перевел взгляд на второго.
Тот был не такой страшный. Вообще не страшный. Красивый, в пенсне. Покачиваясь на каблуках, с добродушной улыбкой рассматривал огромного, в сажень, бойца с заросшим щетиной лицом. Верзила старательно тянулся, держал длинные руки по швам. Вместо уха темнел бугор запекшейся крови, и вся левая половина гимнастерки была в бурых пятнах. Вспомнился вчерашний поляк с отрубленной рукой – мелькнул в памяти и пропал.
Добродушный (одна звездочка на погоне – стало быть, подпоручик) сказал своему товарищу:
– Spójrz, Pierre, со za małpa. Łapy do kolan.
Второй (три звезды – капитан), не поднимая головы, проворчал:
– Chcę tę małpę do zoo zawieźć?
– Zagramy w «honnêteté», jak wtedy?
Капитан страдальчески сморщился, всё потирая щеку:
– Rób że chcesz.
Тогда подпоручик на чистом русском обратился к пленному:
– Признавайся, урод, ты польских женщин насиловал? Барышень польских …? – похабный глагол он выговорил с особенной отчетливостью.
Боец молчал, только помаргивал.
– Ты мне отвечай, солдат, а то я тебя в красный рай отправлю. Отвечай правду. Признаешься честно – не убью. А станешь брехать – сию секунду шлепну. Слово офицера. Ну?
Весело улыбаясь, офицер нацелил дуло верзиле в пах.
Небритый прикрылся обеими руками, весь сгорбился.
– Считаю до трех. Признаешься – не убью. Слово. Раз, два…
– Был грех, ваше благородие! – крикнул пленный.
Подпоручик убрал руку с пистолетом за спину.
– Молодец. За честность этот грех я тебе отпускаю. А слово свое сдержу.
Он двинулся вдоль строя дальше, хмурый офицер за ним. Будто припомнив нечто малосущественное, первый обернулся.
– Только вот пан капитан тебе никакого слова не давал… – И засмеялся.
Второй приподнял руку с пистолетом и выстрелил бойцу в пах, прямо через скрещенные ладони. Раненый с воплем рухнул на колени, ткнулся лбом в землю, повалился наземь, задергался всем телом. Опять шарахнулись соседи, опять сорвались с места караульные.
Антон не мог пошевелиться.
– Не ори. Башка болит! – тоже по-русски и тоже без малейшего акцента рявкнул капитан. Прицелился, выстрелил еще раз. Крик оборвался.
Двое в нательных рубахах потащили труп за ноги.
Остальные еще не вернулись на место, впереди стоял один Антон. Слева и справа была пустота. Из-за этой случайности что-то сдвинулось в часовом механизме судьбы. Стрелка, отмеривавшая последние минуты жизни, понеслась по циферблату, переведя счет на секунды.
Веселый палач смотрел на Антона.
– Гляди, Пьер, какой экземпляр. – Подпоручику, очевидно, было все равно, на каком языке говорить – по-польски или по-русски. – Ну-ка, ну-ка.
И повернул обратно!
Пьер, тоже по-русски, ответил:
– Давай заканчивать, надоело.
– Надоело – уходи. Кто тебя держит? – Подпоручик остановился перед Антоном и оказался в точности такого же роста. – А я люблю им в глаза посмотреть.
«Он пьян! Сильно пьян!»
За стеклышками щурились неистовые, бешеные глаза. Где-то Антон их уже видел. Или точно такие же.
Вспомнил: капитан Сокольников, помощник Петра Кирилловича. Такими становятся глаза человека, свихнувшегося от войны.
– Кто вы, милостивый государь? Вы ведь привыкли к обращению на «вы», это видно, – мягко, даже вкрадчиво произнес поляк.
И было абсолютно понятно: раз этот садист говорит ласково, значит, сейчас убьет. Хорошо еще, если сразу.
«Нужно скорей сказать что-нибудь! Чтоб не убил!»
– Господин офицер, меня взяли без оружия! Я ни в кого никогда не стрелял! – Заодно и соврал – получилось очень искренне: – Меня насильно мобилизовали!
– О, гуманист, – уважительно покивал подпоручик. – Непротивленец. Последователь Льва Толстого.
«Выстрелит! Сейчас выстрелит! Придумает, как поостроумней пошутить перед этим Пьером, а потом выстрелит! Не то я сказал, этим не спасешься!»
– Я врач! У меня диплом Цюрихского университета!
«Не потребуют же они предъявить диплом прямо сейчас! Только бы не убили здесь, на площади, а потом что-нибудь придумается. Только не сейчас!»
Ужасные глаза шарили по лицу Антона. Они были голубые, немного навыкате.
– Жид?
Второй офицер, про которого Антон уже забыл, подошел и встал рядом. Глаза у него были точь-в-точь такие же бешеные. Только не голубые, а карие.
– Дантист? – спросил он.
– Нет, анестезист.
А подпоручику, обезоруживающе улыбнувшись, Антон сказал:
– Что вы! Я славянин!
«Почему „что вы“? И „славянин“ вместо „русского“ выскочило само собой. Славянин – как и вы, поляки». Изворотливости своего оцепеневшего ума Антон поразился как-то отстраненно.
– Это что такое – «анестезист»? – спросил Пьер.
– Специалист по обезболиванию.
У подпоручика блеснули глаза. Он наконец придумал, как пошутить.
– Сейчас проверим, какой ты специалист. Прострелю тебе ногу, а ты обезболь.
И навел дуло на башмак. Антон быстро поджал ногу – офицер, довольный, засмеялся.
– Вторую поджать сумеешь?
– Погоди, Кшысь. – Капитан отвел пистолет приятеля в сторону. – Раз он врач, пускай сделает что-нибудь с флюсом. Всю ночь промучился! Сверлом вкручивает!
Он наконец убрал руку с лица. Щека внизу слева была раздута.
Но весельчак не слушал.
– «Славянин», – повторил он. – Что-то не видал я славян с таким носом. А ну сними портки, покажи залупу.
Много лет потом Антон не мог простить себе готовности, с которой схватился за ремень.
– Иди к черту, Кшысь. – Офицер с флюсом решительно отодвинул подпоручика. – По мне хоть Троцкий, только б помог. Вон тебе, развлекайся. – Он показал на остальных пленных. – Мало, что ли? А этого я забираю. Пойдемте отсюда, доктор.
Но Антон не мог пошевелиться. Тогда капитан Пьер взял его за локоть, потянул – и Антон чуть не упал. Забыл, что стоит на одной ноге.
– Можете вырвать его к черту? – спросил поляк, когда Антон закончил осмотр.
Солнце освещало полость рта не хуже, чем направленный луч электрического света. Они находились перед окном, в хате, неподалеку от площади.
– У вас одонтогенный периостит в гнойной стадии, – сказал Антон, сжимая и разжимая пальцы, чтоб перестали дрожать. – Удалять зуб не рекомендуется. Может произойти заражение. Нужно вскрыть десну и выпустить гной.
Капитан сморгнул, побледнел.
– Черт, с детства это ненавижу. Не поверите – два фронтовых ранения, а при мысли о любой стоматологической операции охватывает ужас. Глупо.
– Вас, должно быть, в детстве очень напугал первый визит к зубному врачу. Травмы детской психики сохраняются на всю жизнь.
«Головокружение прошло. И тремор меньше. Господи, я был на дюйм от смерти!»
Сколько раз попадалось ему в романах это дурацкое выражение – «на дюйм от смерти». Дюйм – это движение пальца, спускающего курок.
– Вы сумеете? Ну, разрезать десну и прочее?
«Надо же, и глаза уже не бешеные. Обычные глаза, человеческие».
– Попробую. Я теоретически знаю, как это делается, но на практике не доводилось.
Внезапно глаза капитана вновь почернели и стали страшными.
– Только гляди у меня, эскулап. Сделаешь хуже – брюхо прострелю!
«Ну вот. Опять пальцы затряслись. Надо успокоиться. Иначе…» Про «иначе» лучше было не думать. А то не получится успокоиться.
Благослови боже профессора Шницлера за курс лекции по истории обезболивания! Самый давний и простой способ – местная анестезия холодом. Если, конечно, можно добыть льда.
Лед притащил денщик – целую глыбу, из погреба. Антон отколол кусок, мелко раскрошил, завязал в бинт, велел держать.
– Уф, уже легче стало, – сказал больной через минуту.
– Держите-держите. До полного онемения.
Толстую иглу, одолженную у хозяйки, Антон прокалил на огне, прикидывая, из чего бы соорудить дренаж.
Придумал!
Денщик побежал в штаб, к связистам. Вернулся с самым тонким электрическим проводом, какой у них там был. Антон вытянул металлический сердечник, продул трубочку. Пожалуй, сойдет.
Продезинфицировать спиртом.
– Откройте рот как можно шире и не двигайтесь. Очень больно не будет. Вот так чувствуете что-нибудь?
Капитан отрицательно помычал.
Когда Антон проколол флюс и расширил ранку, больной даже не вскрикнул. Кустарная криоанестезия отлично работала.
Дальше было просто. Вставить дренаж. Подождать, пока капля за каплей, медленно, выйдет гной. Промыть спиртом (только теперь поляк вскрикнул).
– Всё, всё. Сейчас прижгу, и больше больно не будет. Вечером прополоскайте спиртовым раствором. Но при первой возможности покажитесь настоящему дантисту.
Пьер сосредоточенно подвигал челюстью – водил кончиком языка по десне.
– Не болит! И опухоль почти исчезла. Господи, какое счастье! Ну, доктор. Просто не знаю, как вас благодарить. То есть, знаю, конечно. Вы не беспокойтесь. С вами ничего плохого не случится. Через час пойду проверять оцепление и отпущу вас. Идите на все четыре стороны. Как же мне повезло, что я вас встретил.
От облегчения, от пережитого страха капитан сделался словоохотлив. Маленький страх обостряет чувства, большой – притупляет, думал Антон. Он-то говорить не мог совсем. Только слушать. И курить. Сигареты у поляка были хорошие, американские. Антон не видал таких с самого Цюриха.
Желудок был пуст, а есть не хотелось, хотя капитан поставил на стол тарелку с колбасой, фляжку водки. Сам он пил много и легко, не закусывая и не пьянея. Хоть Антон и молчал, беседа лилась без затруднений. Пан капитан задавал вопросы – и сам на них отвечал.
– Вы как у красных? Ладно, сам знаю. Так сложилось. И у меня «так сложилось». Останься я в семнадцатом в России, сейчас был бы у Врангеля. А может, был бы «красный военспец». По мобилизации, как вы… Я ведь тоже учился в университете. Плохо помню. Лекции, книжки, фортепьяно. Помню, плакал и застрелиться хотел из-за какой-то дуры. Будто не я. – Офицер задумался. – Или тот был я, а этот не я. Черт знает… Три года воевал с германцами, потом с украинцами, теперь с вашими. Впервые человека убил, в пятнадцатом году, в атаке – вырвало. Анекдот! А когда пленных при мне первый раз расстреливали – не мог смотреть, отвернулся. Сейчас что муху, что человека. – Подозвал денщика, показал опустевшую флягу. – …О чем я? А, да. Мы все сошли с ума. – Усмехнулся. – Сколько раз я слышал эту фразу. «Мы сошли с ума», «мир сошел с ума». Может, и не было никакого ума? Может, мы все просто проснулись и увидели, что мир – навозная куча, а мы в ней черви? А дорого ли стоит жизнь навозного червя?
От неумолчной болтовни полусумасшедшего капитана у Антона разболелась голова. Надо было что-нибудь съесть – ведь со вчерашнего утра ни крошки. Но при одном взгляде на колбасу накатывала тошнота.
Когда последний дозор остался позади, поляк пожал Антону руку.
– Идите. А лучше пригнитесь и бегом. Стрельнет еще какой-нибудь скот-часовой, со скуки.
Сунул флягу, несъеденную колбасу, полбуханки хлеба. Задумчиво сказал:
– Может, когда-нибудь всё восстановится. А может и нет…
С этим напутствием Антон затрусил к темнеющей вдали опушке – от ложбины к ложбине, от куста к кусту.
«Ну и день, ну и день», – повторял он задыхаясь.
И ведь еще не закончился…
Первое, что Антон сделал, добравшись до деревьев, – повалился на мох, лицом вниз. Совершенно выбился из сил, но оказалось, что лежать невозможно. Тело не желало расслабиться, оно требовало движения. Ноги бессмысленно шевелились, руки шарили по мягкому зеленому покрову.
Встал. Не разбирая пути пошел вглубь леса.
Напряжение выплескивалось рывками – то судорожными всхлипами, то икотой.
– Нужен релаксатор, чтобы смягчить последствия нервного потрясения, – вслух сказал Антон. – Водка. У меня есть водка.
Запрокинул голову, сделал несколько больших глотков из фляжки. Спиртное обожгло пищевод, просочилось в желудок и, словно, вытолкнутое пружиной, пошло обратно. Вырвало прозрачной жидкостью и желчью.
Эх, зря пропала водка. Очевидно, есть пока тоже нельзя. От слабости пошатывало, однако остановиться Антон не мог. Организм всё не мог поверить, что избежал смерти. Пульс частил, мышцы сокращались будто сами собой. Одной ходьбы было недостаточно – Антон поймал себя на том, что все время ощупывает себя, трясет головой, что-то бормочет.
Он шел, шел – наобум, не задумываясь. Может быть, час. Может быть, больше. Но вот заросли проредились, впереди снова простиралось поле. Вдали белели хаты какого-то населенного пункта.
– Стоп. Наугад идти нельзя. А то попадешь из огня в полымя. Пора начинать думать, – строго сказал он и порадовался, что голос такой рассудительный и больше не дрожит.
Местности Антон совсем не знал, вчера не успел заглянуть в карту. Только помнил, что Неслухов находится к северо-востоку от Львова. В любом случае нужно держать на восток.
Который час неизвестно, но явно за полдень. Нужно идти по направлению, с которого удлиняются тени, тогда не собьешься.
Но уходить в темную, душную чашу с места, где простор, обзор, свежий воздух, ужасно не хотелось. Антон медлил.
По желтому лугу безмятежно бродили два аиста. Аккуратные белые облачка казались вырезанными из бумаги. Звонко и ровно стрекотали цикады.
Не вместить в голове: как это можно в один и тот же день стоять под дулом пистолета, а потом смотреть на аистов, слушать цикад. Мир не един, он разделен на множество отсеков, и все они отгорожены один от другого непроницаемыми перегородками. Там ужас и смерть, здесь покой и жизнь.
Антон повернулся идти – и чуть не провалился в заросшую травой глубокую канаву. Зачем она здесь, на опушке леса?
Это же окоп. Выходит, и здесь не всегда царил покой. В пятнадцатом году под Львовом проходила линия фронта. Зоны смерти и зоны жизни не фиксированы, они постоянно меняются местами…
Чтобы как-то дисциплинировать скачущие мысли, Антон вспомнил полезное упражнение, которому некогда научил его Шницлер. «Моцион полезен для здоровья, – говорил профессор. – Однако мозг не должен оставаться праздным. Гуляете по парку или по лесу – идентифицируйте все растения, попадающиеся вам на глаза. Отличная тренировка памяти. Будущий анестезист должен хорошо знать ботанику. В природе нет ни одного растения, герр Клобукофф, которое, будучи должным образом препарировано и дозировано, не могло бы принести пользу медицине и фармакологии».
– Artemisia campestris, Centaurea albonitens, Plantago arenaria, Hyoscyamus niger… – стал перечислять Антон.
Продолжил, и углубившись в чашу.
– … Juniperus communis, Populus tremula, Picea abies…
Лес сразу перестал казаться враждебным. Идти через валежник, продираться через колючие кусты было трудно, но звук собственного голоса, безотказная работа памяти, музыка латыни придавали бодрости.
– Rubus fruticosus, Melampyrum, как его, nemorosum, Fagus sylvatica…
Гладкая кора Fagus sylvatica, бука обыкновенного, которую Антон, проходя мимо, рассеянно погладил рукой, вдруг треснула, брызнула колючими щепками прямо по пальцам. От грохота заложило уши.
Еще ничего не поняв, не осознав, лишь следуя нерассуждающему инстинкту, Антон бросился наземь. Отталкиваясь локтями, быстро отполз за ствол дерева, вжался в корни.
– Ты кто? А ну вылазь! – крикнул голос – грубый и одновременно дрожащий. Самое поразительное – женский.
Антон чуть высунулся.
Шагах в десяти или пятнадцати, по ту сторону маленькой лужайки, стояла женщина в военном, выставив вперед ходящий ходуном «наган». Женщина была коротко стриженная и какая-то противоестественно широкая. Возможно, так казалось из-за необъятных галифе, растягивавших в стороны и без того богатырские бедра.
Дуло рявкнуло дымом и пламенем. В землю с чмоканьем впилась пуля. Антон снова спрятался.
Чувство, которое он сейчас испытывал, совершенно не подходило к обстоятельством. Не испуг, не оторопь, а горькая обида.
После всего, что было – так абсурдно умереть? За последние сутки смерть столько раз подкрадывалась к нему, принимала разные обличья, словно меняя наряды перед трапезой – и в конце концов решила явиться грудастой, крутобедрой бабищей с выпученными глазами?
Сейчас подойдет и застрелит. А побежишь – получишь пулю в спину.
Всего мгновение смотрел Антон на непонятно откуда взявшуюся женщину, даже лица толком не разглядел, а всё же возникло твердое ощущение: где-то он ее уже видел. Эх, были бы очки!
– Не стреляйте! Что я вам сделал? – крикнул он, чтоб выгадать время.
– Ты кто?
Кажется, она боится приблизиться. Это хорошо, этим надо воспользоваться. Потихоньку пятиться, по-рачьи? Но трава зашуршит, выдаст…
И вдруг он вспомнил. Из-за галифе.
– Я свой, красноармеец! Вы меня видели в Неслухове! На улице! Ночью! Помните, я проходил мимо, а вы были с кавалером! Я букву «X» изобразил, помните? Вы еще за меня заступились!
«У пьяного было какое-то имя. А ее он называл по фамилии. Что-то на „С“?»
– Врешь, гад! Тот в стеклах был!
– Мои очки поляки отобрали.
Вспомнил! Спасибо тебе, оттренированная латынью память!
– Вы Солохина, правильно? А вашего товарища звали Харитоном!
Странный звук донесся с другой стороны лужайки: будто в глухой тоске завыла собака.
Антон осмелился выглянуть.
Женщина плакала, размазывая слезы руками. Револьвер был засунут за пояс.
– У-у… Помирает Харитоша. А может, помер уже…
Теперь можно было встать и подойти.
Самохина (не Солохина, точно, Самохина) оказалась ростом выше Антона и вдвое шире. Он осторожно погладил ее по твердому, как корень дерева, локтю.
– Где он? Что случилось?
Гнусавым от слез голосом женщина ответила:
– Тута он… Шел, шел да повалился. У-у-у. Я одна, а он лежит… Помер, нет, не пойму-у-у…
Взглянув поверх ее плеча, Антон увидел лежащего на траве человека. Голова неловко вывернута, сквозь приоткрытые веки поблескивают белки глаз. Передняя часть гимнастерки вся в крови.
Подошел, присел на корточки, стал искать пульс.
– Отошел? – боязливо прогудела сверху баба.
Сквозное пулевое в шею. Касательное, нетяжелое, но задет сосуд и, что хуже всего, ужасно грязная рана. Сознание, очевидно, потерял от кровопотери.
– Откуда в ране столько дряни? – Антон подцепил слипшиеся комки, шерстинки.
– Кровища хлестала. Харитоша клок ваты выдрал из фуфеля.
– Из чего?
Она показала на драный ватник, который валялся неподалеку.
– Мы с Харитошей в поле пошли, в копешку, за полюбовным делом, а фуфель взяли под жопу положить, – безо всякого смущения объяснила Самохина. – Через ту копеху и живые остались. Поляк на село попер, ну мы полем да к лесу. Бегли, бегли, а его, Харитона, пулей чикнуло.
– Ничего хуже нельзя было и нарочно придумать! – сердито сказал Антон. – Покровоточило бы и перестало. А от ваты будет нагноение. Если не заражение. От пустякового в сущности ранения ваш Харитон вполне может умереть!
Женщина шмыгнула носом.
– Не помер еще?
– Еще нет. Но если срочно не очистить рану, умрет. Тут такое место, опасное. Рядом наружная сонная артерия, нервные пучки.
– Ага, – сказала Самохина. – Чего делать-то?
Антон задумался.
Обморок неглубокий. Начнешь обрабатывать рану – непременно очнется, от боли. А нужно содрать запекшуюся корку, вынуть все ворсинки, шерстинки, обрывки ниток вплоть до мельчайших фрагментов. Процедура это долгая, мучительная. Без наркоза никто не выдержит. А если человек дернется – запросто можно повредить arteria carotis externa…
С польским капитаном было легче: в погребе нашелся лед, и с кипятком тоже проблем не возникло. Здесь, в лесу, вообще ничего нет. Правда, осталось с полфляги водки, но такому детине это количество спиртного как слону дробина.
– Чего делать-то, а? – тоскливо повторила Самохина. – Дождем, покуда помрет и закопаем? Ты меня только одну тут не бросай, а? Пожди со мной, а? Нехорошо живому человеку в одиночку помирать, как собаке.
Антон сердито качнул головой: не мешай думать. Но женщина поняла по-своему.
– Не хошь ждать, – сказала она упавшим голосом. – Тогда вот чего…
В плечо ткнулось что-то жесткое. «Наган», рукояткой вперед.
– Облегчи его. Пожалей мое женское сердце. Не смогу я. Мы с Харитошей…
Серые глаза наполнились слезами, белесые ресницы заморгали. Лицо у Самохиной было плоское, нос вроде нашлепки, растрескавшиеся губы – а глаза большие, даже красивые.
– Стрельни его в макуху, чтоб враз. И пойдем отседова. Вечер скоро. Хоронить, ладно, не будем.
– Отстань, дура! – огрызнулся на нее Антон, чтоб не мешала. Что там было еще в курсе по исторической анестезии, кроме криометодик? Грибы с выраженным наркотическим действием. Но не будешь же искать в лесу мухоморы Amanita muscaria, которых тут, скорее всего, не водится. А если каким-то чудом найдешь, то придется переждать эйфорическую стадию воздействия мускарина на мозг, это несколько часов. Еще были какие-то полевые растения. Стоп-стоп-стоп!
Попробовать? А что еще остается? Антон быстро поднялся, пытаясь сориентироваться.
– В какой стороне опушка? За ней еще такое поле, большое, и какое-то село вдали?
Женщина высморкалась двумя пальцами, вытерла их о штаны.
– Не знаю…
Шел он строго на восток. Значит, теперь надо двигаться прямо на солнце. Опушка недалеко. Минут десять.
– Значит так, Самохина. Разведи костер. Спички есть?
– А то. Без огня не покуришь.
– Наберешь хвороста, нетолстого. Мне понадобятся угли. Когда костер разгорится, растолкаешь своего Харитона. Долго быть без ему сознания вредно.
– А ты куда? – робко спросила бабища. – Ты меня не спокинешь?
– Скоро вернусь. Давай, Самохина, работай!
До старого окопа Антон дошел быстрее, чем за десять минут – быстро шагал. Куда больше времени понадобилось, чтоб найти Hyoscyamus niger. Где-то на холмике видел он невзрачные грязно-лиловые цветки.
Нашел.
Сорвал, с сомнением повертел, понюхал. Черт знает, подействует ли? Тропановый алкалоид в сочетании со spiritus vini в принципе должен дать нужный эффект…
Заодно прихватил валявшуюся на дне окопа австрийскую каску. Она заржавела, но это ничего, можно прокалить.
На обратном пути чуть не заблудился – взял в сторону. Но увидел меж деревьев огонь, повернул.
Раненый как ни в чем не бывало сидел, ворошил пылающие сучья.
– Гли, вернулся, – весело сказал он, обернувшись на шум шагов. – Самохина, ухажер до тебя, с букетом.
Был он бледен и, судя по блеску светлых глаз, в лихорадке, но ухмылялся, сверкал металлическим зубом.
– Чего это? – спросила женщина, глядя на блеклые цветы.
– Белена черная. – Антон дал ей каску. – Найди воды. Хоть из лужи, неважно.
У раненого спросил:
– Нож есть?
Тот вынул из кармана перламутровую штуковину, горделиво помахал ею, щелкнул – выскочило тонкое лезвие.
– Видал вещь? Сменял у одного урки в Херсоне.
Антон попробовал на палец – нож был остро отточен. Сгодится.
– Тебя как звать? Вроде рожа знакомая. В штабе, что ль?
Не отвлекаясь на пустые разговоры, Антон молча пожал протянутую руку. Сморщился от боли. Забыл, что у буденновцев полагается, здороваясь, стискивать ладонь со всей мочи, а сил этому Харитону было не занимать.
– А я Харитон Шурыгин, боец геройского второго эскадрона, временно назначенный в охрану штаба нашей краснозвездной бригады, от которого штаба теперя осталася красная звезда да рваная…, – похабно срифмовал боец и заржал.
– Храбрись, храбрись, – пробормотал Антон, мелко нарезая белену на плоском камне, который положил на край костра, чтоб как следует раскалился. Конечно, не настоящая сушка, но что поделаешь. – Стану рану обрабатывать, тогда погогочешь…
Харитон внимательно наблюдал за его действиями.
– Ты дохтур?
– Недоучился.
– Студент, значит. На мне доучиться желаешь?
– Не желаю, – огрызнулся Антон. – Сдался ты мне. Если твою рану сейчас не прочистить – подохнешь. Понапихал грязной ваты, идиот!
– Ругаешься, – удовлетворенно заметил Шурыгин. – Это правильно. Нас, дураков, ругать мало. Нас бить надо.
Вернулась женщина, поставила каску с водой прямо на угли. Антон шевелил ножом на горячем камне подымливающее крошево из белены. Ни в коем случае не пересушить. Пожалуй, довольно.
Взял еще камень, стал растирать белену. Получился не порошок, а какая-то серо-зеленая размазня. Антон скептически поглядел на сомнительное зелье, вздохнул.
– Вспомнил я тебя, – сказал Харитон. – Пьяный был, а помню. Хорошо, я тебя не кокнул. А мог. Когда во мне хмель забродит, я дурной становлюсь. Сколько через свой кураж неприятностев имел – не перечесть.
– Верю.
Толченую белену – в водку. Взболтать. Но сначала отлить немного спиртного для дезинфекции. Куда бы?
– Дай-ка.
Отобрал у Шурыгина портсигар – хороший, массивного серебра. Наверняка трофейный. Табак оттуда ссыпал горкой на камень.
– Вино? – потянул носом Харитон, хищно глядя на флягу и портсигар, куда Антон отлил немного водки. – Угости.
– Сейчас выпьешь всё. Через минуту.
Прокипятив в воде кусок ваты, выдернутой из того же фуфеля, Антон накалил лезвие. Посмотрел на свои пальцы – вроде не дрожат.
– Теперь так. По пояс разденься и ложись. Руки вытяни вверх. Но сначала выпей водку. Всю, залпом.
Всего три раза дернулся кадык на горле у раненого – и опустела фляга.
– Выпил водочки, можно и храпака, – беззаботно сказал Шурыгин, растягиваясь на земле.
Антон внимательно смотрел на его глаза. В белене содержится атропин. Если дурман подействует, зрачки должны расшириться.
На всякий случай уселся раненому на вытянутые руки, бабе велел взгромоздиться на ноги.
– Чегой-то вы? Верхом на мне поехаете? – пролепетал Шурыгин заплетающимся языком.
А зрачки-то в самом деле расширились, глаза стали будто черными.
– Так больно? – спросил Антон, дотронувшись кончиком ножа до раны.
Харитон не ответил.
– Ох хороша горилка-а, – протянул он. – Ох хороша-а! Где такую взял, студент? Душа порхает, по небу летает.
И запел:
Антон смочил кусочек ваты в водке, продезинфицировал пальцы.
На хирурга он не учился, на операциях только ассистировал, но технически процедура несложная. В любом случае, отступать поздно.
Раздвинул края раны, ожидая крика или хотя бы стона, но Харитон продолжал выводить визгливым, дурашливым голосом:
Анестезия действовала!
Пока Антон – кропотливо, долго – вычищал из раны налипшую дрянь, время от времени снимая мокрой ватой сочащуюся кровь, раненый орал свою дикую нескончаемую песню.
– Больно? – несколько раз спрашивал Антон.
– Щекочеть чего-то, – отвечал Шурыгин, блаженно жмурясь.
В конце операции чмокнул губами, уснул. Работать стало легче.
Завершив очистку, Антон промыл рану, смазал остатками водки, залепил листом подорожника. Наложил повязку – Самохина оторвала кусок от своей нижней рубахи. Ткань была сомнительной чистоты, но сверху ничего, сойдет.
– Слезай с него, Самохина. Кончено. – Рукавом вытер лоб. Вроде и не жарко было, а как вспотел. И совершенно выбился из сил. – Я, пожалуй, тоже посплю.
Он сполз наземь, привалился головой к плечу Шурыгина, зевнул.
Проснулся от тряски.
Харитон, наклонившись, теребил его за плечо.
– Итить надо. Завечеряет – дороги не найдем. Солнце низко, за ним надо итить.
Для человека, перенесшего мучительную, долгую операцию, вид у Шурыгина был отменный: и цвет лица, и блеск глаз, и динамика движений.
– Почему на закат? – спросил Антон, садясь. – Там же поляки.
– Наши там.
Кавалерист показал туда, где сквозь деревья просвечивало красноватое солнце, и Антон услышал рокот недальней канонады.
– Наша батарея, я ее на голос чую. Пожуй чего-нито, и пойдем. Извиняй, мы с Самохиной без тебя поснедали. Брюхо подвело.
На тряпке лежала аккуратно отрезанная треть колбасы и ломоть хлеба. «Взяли без спроса, но поделили честно, – понял Антон. – А будить не стали, чтоб отдохнул. Пожалуй, это следует назвать деликатностью».
Харитон сел рядом, скосил глаза – вертеть забинтованной шеей ему было трудно.
– Ты мне теперь знаешь кто? Ты мне теперь братуха будешь, понял? Как тебя звать?
– Антон.
– Эка! – удивился и как бы даже расстроился Шурыгин. – Есть у меня уже Антошка, меньшой. Нас у мамки четыре брата: я, Степка, Лёха и Антошка. – Махнул рукой. – Ну, будет у меня два брата Антошки. Ни у кого такого нету, а у Харитона Шурыгина будет.
Пришлось Антону отвернуться, потому что на глазах выступили слезы.
«Кажется, это самая важная минута моей жизни» – вот что подумалось. И еще: «Теперь всё будет по-другому».
Полковой лазарет был одно название. Кое-как приспособили для медицинских целей местную церковь: убрали мусор, помыли пол, поделили помещение занавеской на две половины – коечную и операционную. Хирург был под стать лазарету – из фельдшеров военного времени, а вообще-то коновал. Раньше занимался только первичной обработкой ран, но полковой лекарь неделю как сгинул – отстал при суматошном отступлении, нового не прислали и, наверное, не пришлют. Между тем у комэска-один Лазарчука гангрена поднималась от кисти к предплечью. Если срочно не сделать ампутацию, погибнет человек. Вот и уговорил Антон фельдшера сделать операцию – рука у Демочкина была хорошая, твердая. Демочкин долго отказывался, трусил. Не из-за раненого, который мог не выдержать, а из-за того, что сделают эскадронцы с незадачливым хирургом. Бойцы Лазарчука любили, около койки всегда дежурило по несколько человек.
«Грохнут, так нас обоих», – сказал Антон. Когда не подействовало, поговорил с эскадронцами, объяснил, что к чему. Они приволокли упирающегося фельдшера к операционному столу насильно.
И вот Демочкин, бледный, перебирал хирургические инструменты, Антон готовил хлороформ, а бойцы стояли вкруг стола и враждебно наблюдали за приготовлениями.
Было страшновато. С запозданием подумалось, что надо было кликнуть своих ребят, из второго эскадрона. Если что, они бы в обиду не дали. Эх, раньше бы догадаться.
Наголо бритый, пышноусый, толстый, Лазарчук был похож на Тараса Бульбу. Он лежал голый по пояс, нервно шевеля ступнями, но лицо было равнодушное. Никаких вопросов не задавал – чтоб бойцы не подумали, будто он боится.
– Нате, Трифон Иваныч, залейте. – Красноармеец с плохо сросшимся шрамом поперек брови подал баклагу.
– Спирта не давать! – прикрикнул Антон.
Бойцы заволновались.
– У, зверюга. Пожалел!
– Уйди, Брован, – сказал комэск. – Вишь, доктор не велит.
«Исключительно крепкий организм, – думал Антон, проверяя пульс. – В сущности, должен перенести наркоз нормально, но масса тела… Вводим полуторную…»
Врача в полку не было, зато инструментарий и набор медикаментов превосходные – трофейного происхождения.
– Давай, – кивнул Антон оператору, когда пульс и дыхание усыпленного вошли в норму. И подмигнул: не робей.
– Матушка-богородица, – пробормотал Демочкин под марлевой повязкой.
Но пилой отработал отлично. Несколько быстрых движений – и Антон принял отрезанную руку, бросил в таз.
Бойцы охнули.
Антон зажал сосуды, Демочкин быстро и ловко работал иглой. Не хуже настоящего хирурга.
Кавалеристы почтительно передавали друг другу ампутированную конечность – с лиловой, разбухшей пятерней, черными ногтями. Пошушукались, что с нею делать – решили, пускай комэск сам решает. Бережно завернули в тряпку.
– Готово, – сказал им Антон, убедившись, что всё в порядке.
Лазарчук лежал строгий, с насупленными бровями. Усы чуть подрагивали над раскрытым ртом.
Эскадронцы стояли у стола, смотрели.
– Спит… Товарищ доктор, будить его или сам?
Спросили не у Демочкина – у Антона. Видно, решили, что он главней.
– Через час будите. Станет просить попить – не давайте. Вырвет. Вечером можно дать кружку воды. Но ни в коем случае не спиртного.
Слушали его внимательно. Кивали.
Брован сказал:
– Мне в шашнацатом на румынском фронте тоже наркозию давали. Доктор пузо вчистую раскромсал, а я ничего. Знай дрыхну.
– Покуришь?
Антону сунули скрученную, подмокшую от слюны цигарку. Он поблагодарил, взял. С двух сторон поднесли спички.
– Эх, Трифон Иваныч. Какой рубака был. Ладно бы левая…
– Товарищ доктор, а скоро он поправится?
– Организм крепкий. – Антон нарочно сделал паузу, долго выпускал дым. Каждое его слово жадно ловят – приятно. – Может, уже через неделю на коня сядет. А левой рукой выучится владеть не хуже, чем правой.
– Это надо же, – подивился кто-то. – Ему руку оттяпали – а он хоть бы что.
– Мне в шашнацатом на румынском фронте осколок из кишок доставали – ничего не чуял, – снова встрял Брован.
– То осколок, а то цельную руку. Товарищ доктор, ногу тоже так отхватить можете, если с уколом?
– Хоть обе, – беспечно ответил Антон.
Все почтительно помолчали.
Бровану хотелось досказать про свое.
– Важно уколол. Мне вот в шашнацатом операцию делал самый главный лекарь – что твой генерал, бородища седая досюдова. И то с третьего раза только всадил. А наш чик – сразу в яблочко.
– Тогда не готовили специальных анестезистов, – объяснил Антон, усугубляя эффект. От коротенького словечка «наш» внутри потеплело. Когда люди из чужого эскадрона такое говорят – это дорогого стоит.
За последние недели жизнь радикально изменилась. Верней, радикально изменился он сам. Странно было бы назвать это душевное состояние гармонией – ибо какая может быть гармония среди хаоса, крови, ужаса? И всё же, всё же. Никогда еще Антон не чувствовал, что понимает жизнь. И принимает ее такою, какая она есть – без нытья, без ахов.
Он жил среди очень простых людей, с которыми прежде не умел найти общей речи, а теперь получилось. Никакой особенной тайны здесь, оказывается, нет.
С простыми людьми нужно быть простым. И нужным. А всё сверх того излишне и даже вредно.
Он выработал что-то вроде поведенческого кодекса, свода правил, жить по которым было совсем нетрудно.
Главное – понять: во время войны в мире остаются только два цвета, черный и белый. Есть свои и есть чужие. Держись своих, и не пропадешь. Свои – это не большевики, не красные, а совершенно конкретное сообщество: второй эскадрон 33-го кавполка. От всего остального человечества добра не жди.
Со своими же вести себя нужно так.
Первое: не прикидываться лучше, чем ты есть, – это только вызовет недоверие. Например, врач Лев Алексеевич, который потом то ли отстал от полка, то ли сбежал, получил из дома посылку и стал угощать лазаретских. Демократично собрал весь личсостав, нарезал присланное сало на одинаковое количество ломтей. И что же? После Антон слышал, как санитар Митрохин и ездовой Лапченко говорили между собой, что доктор «подлещивается к пролетарьяту» – знать, много «нагрубил» простому народу при «старом прижиме». А вот Харитон Шурыгин добыл где-то на дневке копченый свиной бок. Позвал только своих, из взвода. Отрезал здоровенный кус себе, остальным – много меньше, но поровну. И все отнеслись к такому понятному поступку с полным одобрением.
Второе: не изображай из себя то, чем не являешься. Не представляйся храбрее, умнее или образованней, чем ты есть. Раскусят – не простят.
Третье: разговариваешь с человеком – смотри в глаза, не отводи взгляд.
Четвертое: говори мало, а не умеешь правильно шутить – не пытайся.
И основное: найди в сообществе свое место, докажи полезность.
Антон доказал. Даже в двух смыслах. Первый определился сразу же, как только вышли к своим. Харитон сказал: «Где ты своего Рогачова сыщешь? Он, говорят, в Полештарм уехал. Гоняйся теперя за ним по лесам, по полям. Давай, Антошка, лучше со мной в геройский второй эскадрон. Свой лекарь завсегда нужон. За всяким поранением в полк не набегаешься». «Я же не настоящий лекарь», – стал возражать Антон. Шурыгин в ответ, справедливо: «А кто у нас настоящий? Эскадронный наш до войны сапожник был. Комполка товарищ Гайда коней ковал. А какой ты лекарь, Антошка, это я хлопцам скажу. Подходящий ты лекарь. Что умеешь – сделаешь. А если которому человеку судьба от раны загнуться – не твоя вина».
Так и вышло, что остался Антон при эскадроне. Определили ему место в обозе, поставили на довольствие. Харитон добыл где-то очки – с перебором по диоптриям, зато в золотой оправе.
– А если ты сумневаешься, что хлопцы тебя стеклами попрекать станут, то зря. Я им душевно сказал: «Кто Антошку, брата моего, пальцем тронет или за очки снасмешничает – вот этой вот рукой», – сказал Харитон.
Если б Антон даже и решил отправиться на поиски Панкрата Евтихьевича, сделать это после поспешного львовского отступления было бы невозможно. В армии началась полная неразбериха. Не то что члена РВС – штаб своего полка не всегда можно было отыскать.
Но Антону и не хотелось никуда ехать. Наконец-то он нашел свое место, он был по-настоящему необходим окружающим. Кажется, впервые в жизни. Секретарем при большом начальнике может быть кто угодно, желающие найдутся, а вот в эскадроне медика, уж какой он ни будь, заменить некем.
Со временем Антону выделили целую повозку с кучером из мобилизованных крестьян. Запас лекарств пополнялся в каждом городке, где имелась аптека. В шикарном кожаном саквояже лежал инструментарий, которым не побрезговал бы сам профессор Шницлер.
А еще хлопцы приволокли трофей, с которым не знали, что делать: лакированную фотокамеру «Инстантограф» на складной треноге. Аппарат был, конечно, хуже незабвенного портативного «кодака», что остался на севастопольской квартире, и не пленочный, а с комплектом пластинок, но пользы от него вышло много.
По медицинской части дел у Антона было негусто. Дивизия не столько дралась, сколько драпала на восток. Раненых почти не было, болели кавалеристы редко. Может, раз в два дня доводилось сделать перевязку или наложить шов. Чтоб чем-то себя занять и набраться опыта, Антон ездил в полковой лазарет, ассистировать на операциях. Его репутация в родном эскадроне от этого никак не выигрывала. Вот фотоаппарат – другое дело. С его появлением Антон стал одним из самых популярных людей во всей сотне. Едва поспевал делать групповые и индивидуальные снимки: всех вместе под знаменем, кого-то верхом и с саблей наголо, кого-то лежащим у пулемета и еще по-всякому.
Карточки удалось напечатать только однажды, в Буске. С тех пор опять набралась целая сумка отснятых пластин. Хлопцы рассказали, что в соседнем местечке есть фотомастерская. Антон собирался нынче же туда отправиться, но сначала нужно было сфотографировать Харитона – очень упрашивал, хотя и так уже был отснят в десяти разных видах.
Встретиться договорились в амбаре, неподалеку от пустыря, где стоял биваком обоз.
Харитон уже ждал, топтался у входа. Завидев Антона, тащившего на одном плече треногу с аппаратом, на другом – сумку с пластинами, замахал: давай сюда!
Затащил приятеля внутрь, прикрыл дверь.
– А чего здесь-то? Света мало. – Антон огляделся. В сарае, сидя на корточках, курила неулыбчивая Самохина, зачем-то укутанная по самую шею в одеяло. На земле, тоже непонятно для какой надобности, лежал расстеленный тюфяк. – Пойдем наружу.
Хитро подмигнув, Шурыгин сказал:
– Щас увидишь. Давай, Самохина!
Та выпустила струю дыма.
– А ну тебя.
– Ты чё? Уговорились же!
– Мал чё. А я не желаю.
– Танечка, кралечка моя! – Кажется, впервые Харитон назвал свою неженственную подругу по имени – во всяком случае при Антоне. – Я тебе гостинца добуду. Слово!
Плоское лицо буденновской амазонки расползлось в снисходительной улыбке.
– Оссподи, прям дитё малое. Ладно, не канючничай. Жалко, что ли.
Она распрямилась и сбросила одеяло. Антон заморгал. Женщина стояла абсолютно нагая.
Шурыгин шепнул, быстро расстегивая гимнастерку и одновременно подцепляя кончиком одного сапога каблук другого:
– Насилу уломал. Нащелкай побольше. Я такие фоты в Ростове видал.
В полном ошеломлении смотрел Антон на голую бабищу. Груди с громадными коричневыми сосцами свисали, будто два полусдутых мяча. На боках слоились складки жира. Внизу живота чернели буйные волосы. Ни малейшего стеснения Самохина не выказывала. Зевнула, обхватила себя за плечи.
– Давай шустрей. Зябко.
Женщин в полку было немного: по одной-две в каждом эскадроне да несколько милосердных сестер при лазарете. Все того же сорта, что Самохина, – с Антоновой точки зрения, не женщины, а ошибки природы. Вероятно, к этой же породе (можно было бы назвать ее «третьим полом») относились маркитантки и кантиньерки прежних времен: сильные, грубые самки, легкие на передок и жадные до барахла. У каждой в обозе непременно был свой возок, битком набитый гостинцами от многочисленных кавалеров. Самохина среди товарок считалась цацей и дурой, потому что никого кроме Шурыгина до себя не допускала.
– Лягай на перину! – велел Харитон, прыгая на одной ноге. – Я щас!
Самохина легла.
– Не на бок, дура! Я как велел?
– Так, что ль?
Она перевернулась и приподняла огромный зад.
Шурыгин уже вылез из подштанников.
– Сымай нас во всей очевидности, Антошка! Ближе подлезай, не тушуйся.
Антон сдвинул треногу, поднял камеру на плечо.
– Не буду я это снимать.
Толкнул дверь, вышел.
Шурыгин, в чем мать родила, выскочил за ним.
– Ты чего? Еле ее, лярву, уговорил. А теперь ты! Еще брат называется. Ты мне брат или падла?
– Падла. – Антон поставил аппарат к стене. – Пригляди за камерой, чтоб не сперли. Я в Новое, карточки печатать.
– Эх ты… – горько выругался Шурыгин. – Ладно… с тобой. Мне тож в Новое надо, пожди минуту. Щас дело справлю, а то, вишь, у меня уже пушка на прямой наводке.
– Вижу. – Антон рылся в сумке, проверяя, хорошо ли уложены пластины. – Я пойду, ты догоняй.
Шел по пыльной дороге, думал: как это – совокупляться с такой вот Самохиной? Паша по сравнению с нею была Ундина, принцесса на горошине. Нужно обладать поистине могучим, животным половым инстинктом, чтоб спариваться с полковыми красотками. Вероятно, в первобытном племени у Антона не было бы ни единого шанса попасть в число самцов-производителей. Значит, он – неполноценная мужская особь? Вот Харитону, как большинству остальных бойцов, все равно, кого покрывать: хоть Самохину, хоть Кити Щербацкую – была бы дырка. А не подвернется человечьей самки, они выплеснут свое кипящее семя куда придется. Шурыгин со смехом хвастал, как однажды в кузне «драл» кобылу – приварил ей копыта к железному листу, чтоб не лягнула.
Местечко, где встал полк, называлось Полонное, железнодорожная станция между Шепетовкой и Бердичевым. Оно было разделено на две части: одна погрязнее; другая, недавно отселенная, называлась Новое. Дома выглядели почище, побогаче – там в основном жили евреи. Фотомастерская, про которую рассказали хлопцы, находилась в Новом. Идти до него было с версту.
Большинство бойцов, как только распрягли и напоили коней, само собой, кинулись в более зажиточную часть Полонного – шукать, то есть, попросту говоря, грабить. Антон приучил себя спокойно относиться к этому средневековому способу самоснабжения. Видно, на нерегулярной войне иначе нельзя. По мере того как армия откатывалась на восток, теряя последние остатки дисциплины, грабеж становился всё безудержней. Фотомастерскую Антон попросил ни в коем случае не трогать и даже приставить часового, чтоб чужие эскадроны не разгромили лабораторию.
Сзади кто-то гнал галопом. Оглянулся – Шурыгин.
– Сидай! Чего подметки топтать?
Антон вскарабкался на лошадь, позади седла, растопырил ноги в обхват широкого крупа.
– Эх, Антошка…, – ругнулся Харитон. Он был распаренный, красномордый. – Какие были бы карточки! На всю жизнь память. Гад ты, понял? И помяться с Самохиной толком из-за тебя не вышло.
– Не дала?
– Попробуй мне не дай. Но мне одного раза мало. Только распаляюсь.
Поехали шагом, небыстро. Знакомый боец из первого взвода, по прозвищу Гопа, веселый и пьяный, рысил навстречу. По обе стороны седла набитые мешки.
– Запаздываешь, Шурыгин! – заорал он. – К морковкину заговению поспеешь!
Харитон привстал в стременах.
– Что там? Богато?
– Походяще. – И похвастался: – Бабу откобелил, добра добыл.
– Почему рукав в крови? – спросил Антон. – Поранился?
Гопа засмеялся:
– Ни, то не моя. Мужик бабы сунулся, жидок отчаянный… Ох, братва, ехай-поспешай, пока есть чего брать и девки не все попрятались.
От этих слов Харитон пришел в волнение.
– Держись за меня крепче, Антошка! А не то слезай, всё одно шукать не шукаешь!
Антон спешился с большой охотой.
– Да, я лучше пешком. Гляди там, Харитон, не зверей.
Но Харитон не слышал – пришпорил своего вороного, только пыль взвилась.
У самых домов Антон остановился. Не повернуть ли? Где-то надрывно кричала женщина, в воздухе пахло гарью.
Вроде бы всё давно себе объяснил. Это война средневековая – без рыцарства, перемирий, пленных и прочей игры в благородство. Честная война, где никто не прикидывается добреньким. Есть победа – и есть смерть, а посередке ничего. Схватились две силы, которым невозможно договориться. От этого столько жестокости и зверства. Как может не грабить революционная армия, лозунг которой – отмена частной собственности? Как может пройти мимо беззащитной женщины такой вот Харитон Шурыгин? Все равно что волк пройдет, не тронув овечку. Горе слабым – вот что такое настоящая война. И горше всего евреям. Дело не в религиозной или национальной ненависти. Просто из всех жителей этого края евреи – самые чужие. С точки зрения кубанского казака или крестьянина (33-й кавполк формировался на Ставрополье), евреи меньше похожи на нормальных людей, чем украинцы. Своего брата казака, или русского, или даже «хохла» шурыгины еще могут пожалеть, но чужой для них либо угроза, либо добыча, третьего не бывает. А кроме того, в еврейских местечках обязательно есть зажиточные дома.
Обычно, если начинался «хап» (то есть повальный грабеж) и «драй» (это когда по чердакам и погребам ищут спрятавшихся женщин), Антон просто уходил в обоз. С каждым днем погромы становились всё безобразней. Воевать больше никто не хотел, поднять эскадроны в контратаку почти никогда не удавалось, зато каждый конник, предчувствуя конец похода, старался напоследок урвать побольше. Грабили уже не на польской территории, на своей – всё подряд. Полковой обоз за месяц увеличился втрое…
Женщина всё кричала. Где-то в другой стороне завыла еще одна, жалобно и безнадежно.
«Провались они, фотокарточки. Вот возьму и расколочу всех красных героев!» Антон снял с плеча сумку, посмотрел на аккуратно уложенные пластины. Вздохнул. «Не расколочу. Побоюсь. Но и печатать снимки в этом злосчастном местечке, под женские вопли, тоже не стану».
Он хотел повернуть обратно, но вдруг, боковым зрением, заметил какое-то движение.
Кто-то полз через улицу, от одной ограды к другой.
Женщина. Нет, молоденькая девушка с длинной черной косой. Ползла она странно – отталкиваясь одними руками, ноги с вывернутыми ступнями просто волочились по земле.
Ранена?
Антон подбежал.
– Что с вами?
Девушка, кажется, была не в себе. Увидев приближающегося человека в ремнях, она вскрикнула, поползла с удвоенной скоростью. Когда же Антон ее догнал, повела себя непонятно: задрала подол рваной юбки, натянула ее на голову и замерла.
Обнаженная нижняя половина тела была в синих пятнах, бедра перепачканы кровью, ягодицы в длинных царапинах.
Антон с ужасом смотрел на голые ноги. В верхней своей части, до колен, они были плотно сдвинуты, а у колен изгибались под неестественным углом. Судя по вмятинам и гематомам, кто-то перебил нижние конечности прикладом или обухом топора.
– Не двигайтесь! – крикнул Антон. – Лежите и не двигайтесь!
Девушка попробовала перевернуться на спину – не смогла. Суетливо схватилась за одну ногу, за другую, попыталась их раздвинуть.
– Не вбывайте, – истерически всхлипывала она. – Почекайте, я зараз, я швидко…
Она охала от боли, ноги не слушались.
– Перестаньте! Не трогайте! Нужно наложить шины. Господи, что случилось?
– Воны казалы: лягай добром, бо ноги переломаем… Я не лягла, так воны рушницею…
Чем зафиксировать? Антон огляделся. Выдернул из плетня две палки.
– Я сейчас оторву от вашей юбки несколько полосок материи. А вы лежите и не шевелитесь. Будет больно, потерпите.
– Не треба, – сказала девушка, перестав всхлипывать. – Краще бижить до хаты, врятуйте Цильку… Цильке лише десять рокив… Бижить, бо воны Цильку до смерти убьют.
Антон посмотрел, куда дрожащей рукой показывает девушка – на дом через улицу. Оттуда, будто дождавшись этой секунды, раздался тонкий, полный ужаса крик – и уже не умолкал.
«Если это свои, из второго эскадрона, можно попробовать, – подумал Антон. – Если чужие, лучше не соваться». И вдруг заметил во дворе привязанного к крыльцу знакомого вороного жеребца.
– Лежи и не двигайся. Я сейчас.
У порога хаты ничком лежал мужчина. Вся верхушка черепа отсечена косым сабельным ударом. Тут уже не поможешь.
В маленькой горнице было тесно. У стены свалены наспех связанные узлы. Посередине, толкаясь плечами, переминаются трое бойцов – все свои, из второго.
Один, по фамилии Рычков, обернулся, подмигнул.
– Антошка? Давай к нам, после Храпченки будешь. Кончай дело, Шурыгин! Не один!
Антон заглянул через плечо Рычкова. Увидел широкую спину Харитона, под которым было почти не видно девочку, только торчали в стороны худенькие ноги да моталось по полу белое лицо с зажмуренными глазами и разинутым ртом.
– Что ты делаешь, Шурыгин?! Это же ребенок! – Антон схватил насильника за портупею, попытался оттащить.
Харитон дернул шеей. Налитый кровью глаз был мутен.
– Отчепись, убью!
– Не трогай ее! Тебе взрослых мало?
Щеку Шурыгина свела судорога.
– Клобуков, ты? Своих бережёшь, жидюга? У, падаль очкастая!
От чудовищной силы удара – локтем в скулу – Антон отлетел, стукнулся затылком о стену, сполз на пол.
Второй, третий и шестой эскадроны 33-го кавполка, неделю назад устроившие кровавый погром в местечке Полонное, были выстроены в незакрытое каре, буквой П, на голом поле под железнодорожной насыпью. Перед рассветом село, где остановился полк, было окружено частями особого назначения. Проштрафившиеся эскадроны были выведены без оружия, в полном составе. Даже при лошадях никого не оставили.
Двести сорок два человека стояли тремя шеренгами под наведенными башнями бронепоезда, под пулеметными стволами развернутых в поле тачанок. Курить и разговаривать было запрещено под страхом немедленного расстрела.
Посередине каре, опустив головы, стояли командир и военком бригады. Комполка тоже был здесь – со связанными за спиной руками, без ремня. На кителе дыра от сорванного ордена Красного Знамени.
Никто не объяснил бойцам, чего они ждут, хотя стояли так уже два часа. Давно рассвело. Серая трава то пригибалась под порывами осеннего ветра, то снова распрямлялась. По серому небу, тоже рывками, ползли серые облака. На них Антон и смотрел единственным глазом. Второй еще не раскрылся, огромный отек до конца не сошел. Сегодня не подташнивало и головная боль стала слабее, но все-таки покалывал висок. Нормальная симптоматика сотрясения мозга.
Поразительно, что никто не сопротивлялся и даже не перечил, думал Антон, следя за маленьким облачком – оно, единственное из всех, почему-то было абсолютно белым. Дикая пугачевская вольница безропотно, даже суетливо повиновалась приказам. Вот и сейчас все стояли смирно, даже почти не перешептывались.
После Полонного – это правда – настроение в эскадронах было тревожное. Многие бойцы выглядели сконфуженными, шли разговоры о том, что-де «малость перегуляли» и «как бы оно не того».
Когда Антон очнулся, в хате никого не было. Эскадронцы ушли, девочка тоже куда-то делась. Хватаясь за стены, Антон вышел на улицу. В нескольких местах горели дома. Девушка, которой он не успел наложить шины, лежала на том же месте. Мертвая. Переломанные ноги широко раздвинуты, юбка задрана. Кто-то до нее опять добрался.
Всю неделю Антон не появлялся в эскадроне, держался при полковом лазарете. Во-первых, паршиво себя чувствовал. Во-вторых, не знал, как разговаривать с Шурыгиным и остальными. Только вчера вечером наконец собрался с духом и вернулся. Поговорить не поговорил, все уже дрыхли. Решил отложить объяснение до утра. А вместо этого угодил под облаву. Выгнали вместе со всеми – и вот: поле, пулеметные дула, ползущие облака.
Почему же все-таки оно белое? И, если приглядеться, движется не совсем так, как остальные. Чуть быстрее. Может быть, оно просто ниже? По-иному ложится свет, дуют другие воздушные потоки?
В строю зашевелились, прокатился говорок.
Со стороны станции ехал автомобиль, за ним конный конвой.
Машина остановилась в середине каре. Кавалеристы спешились, встали по бокам, карабины наперевес.
– Ворошилов! – шепнули в шеренге. – А с им кто?
Антон придвинул сползшие очки. Вгляделся.
Впереди на сиденье, рядом с шофером, сидел кто-то в кожанке и надвинутой на глаза фуражке. Сзади тоже были двое: один мрачнее тучи, темноволосый, с подбритыми усами – член армейского военсовета Клим Ворошилов. Но поднялся не он, а высокий, в защитном френче. Повернулся – Рогачов!
Соседи схватили рванувшегося из строя Антона под руки.
– Куды, дура? Застрелют! – шикнул Харитон.
Он стоял справа, через два человека. Уже несколько раз пробовал заговорить, но Антон молча отворачивался. Слова, которые он вчера собирался сказать «брату», в нынешних обстоятельствах утратили смысл.
Встал и Ворошилов. Погрозил кулаком на три стороны. Матерно выругался. Сказал, что член РВС Республики товарищ Рогачов сейчас зачтет приказ, и снова сел.
– Я про Рогачова этого слыхал, еще в девятнадцатом – сказал кто-то слева. – Волк несытый.
Никто ему не ответил.
Гулким, железным голосом, так хорошо знакомым Антону, Рогачов стал читать по бумаге, которая трепыхалась в его руках. Часть слов уносил ветер.
– «…Первая конная армия в течение почти целого года на разных фронтах разбивала полчища самых лютых врагов рабоче-крестьянской власти. Гордо реяли красные знамена, орошенные кровью павших за святое дело героев, окропленные радостными слезами освобожденных тружеников. И вдруг совершилось черное дело, целый ряд неслыханных в рабоче-крестьянской армии преступлений…»
– Всё, братва. Посекут пулеметами. Пропадаем, братва! – сказал слева тот же голос. На него шикнули.
– «…Боевое знамя ВЦИК, врученное вашему полку самим товарищем Калининым, у полка отобрать. Второе: за невозможностью провести следствие и выделить конкретных виновников, считать преступниками весь личный состав второго, третьего и шестого эскадронов. По законам военного времени за вред, нанесенный делу революции, всех приговорить к расстрелу».
В мертвой тишине Рогачов свернул листок, сел.
Шеренги закачались, и показалось: вот-вот рассыплятся. Конвойные обступили автомобиль плотнее, готовые стрелять. На бронепоезде чуть повернулась бронированная башенка. Пулеметчики на тачанках приникли к щиткам.
Поднялся Ворошилов.
– Всех вас…, надо в распыл пустить! – крикнул он. – Но по нашей с товарищем Буденным просьбе трибунал постановил явить большевистско-пролетарскую жалость, как все-таки есть среди вас красные герои, в раньшие времена храбро сражавшиеся с белой сволочью и даже проливавшие свою кровь! Потому вместо поголовного расстрела, какой вы, сучье племя, все безусловно заслужили, РВС постановляет предать смерти только каждого десятого. Остальные бойцы будут считаться условно приговоренными. Революция даст им право смыть свою тяжкую вину горячей кровью!
И снова заколыхались шеренги, загомонили.
– Смирррно стоять! – гаркнул Ворошилов. – Один кто шелохнется или слово скажет – не будет вам никакой жалости! Никому!
На поле сделалось так тихо, что стало слышно, как вдали, чуть не у самого горизонта, кричат мелкие, будто стая мошкары, вороны.
Антон поднял глаза к небу, вспомнив о белом облачке. Но его уже не было. То ли улетело, то ли изменило цвет.
Ворошилов вышел из машины, сел на подножку, уставился в землю и закурил. Очевидно, хотел продемонстрировать: к тому, что последует дальше, я отношения не имею. Что мог – сделал.
«Логика ясна. Рогачов – человек чужой, скоро уедет, а Ворошилову с конармейцами дальше жить», – подумал Антон и опять, не в первый раз, поразился удивительной способности своего сознания в минуту опасности отвлекаться на несущественное.
Вообще-то в опасность не верилось. Даже если выпадет смертельный жребий, выведут из строя. И увидит Панкрат Евтихьевич, кто это. Вступится.
– Начинай! – махнул рукой Рогачов.
Человек в черной коже, сидевший спереди, упруго выскочил из машины. Распрямился, поправил портупею. Это был Филя Бляхин. Конечно, кто ж еще.
Подтянутый, прямой, он направился к правому флангу шестого эскадрона.
Стало еще тише, хоть, казалось, это уже невозможно. Каждый скрипучий шаг Бляхина был отчетливо слышен.
Четверо конвойцев двинулись следом.
– Первый!
Бляхин ткнул пальцем в грудь длинному и кривоногому бойцу, которого Антон знал в лицо, но не по имени. В шестом эскадроне он обычно ездил с флагом.
Опустив голову, правофланговый вышел. С него сняли ремень, увели.
– …Восемь, девять, десять. Одиннадцатый, выхо…! Куда?!
Филипп еще не договорил, а кавалерист, на которого он собирался показать, внезапно развернулся и побежал вдоль насыпи. Башенный пулемет коротко изрыгнул пламя: «Ты-ты-ты-ты!» Бегущий упал, покатился по земле.
Больше никто убежать не пытался.
Бляхин прошел вдоль всей шеренги эскадрона. В сторонке жались друг к другу восемь обреченных.
Настала очередь второго эскадрона. Антон уже посчитал, что стоит от начала девятым, и почти не нервничал. Думал только: сейчас поздороваться или лучше прикрыть лицо, чтобы Филипп прошел мимо и не узнал. Подойти к Панкрату Евтихьевичу можно ведь и потом, когда экзекуция закончится и строй распустят.
Первый в шеренге, знаменщик Кошаев, стоял с закрытыми глазами и шевелил губами. Неужели молится? Это Васька-то Кошаев, который в Милятине, просто так, зарубил попа?
Но Филипп прошел мимо правофлангового, ведя по лицам сощуренным взглядом. Увидел Харитона, что-то мелькнуло на курносом бляхинском лице, вроде бы таком знакомом, но обретшем суровую значительность. Не может ведь быть, чтоб в такой миг Бляхин улыбнулся?
– Первый будет этот! – показал Филипп на Шурыгина. – А ну, три шага вперед!
Харитон криво усмехнулся, покосился на соседей. Тряхнул чубом. Вышел.
– Бляхин! – Антон качнулся вперед, перестал закрывать от приятеля лицо. – Это я!
– Кто я? – сдвинул брови Филипп, подозрительно глядя на сине-багровую, с заплывшим глазом физиономию.
– Я, Клобуков!
– Антоха? – Подбежал, схватил за руки. – Живой? – И сопровождающим. – Считайте дальше сами.
Потащил Антона к автомобилю.
– Погоди… Пусть твои не уводят этого человека… – говорил Антон, оглядываясь на Шурыгина – того подталкивал прикладом в спину конвоец. Но Бляхин не слушал.
– Ну, Антоха, – всё повторял он, – ну, Антоха! Товарищ Рогачов! Глядите, кого я нашел!
До машины оставалось несколько шагов. Прошли мимо Ворошилова, который что-то сердито выговаривал мрачному комбригу Гомозе.
Панкрат Евтихьевич, исхудавший, с новой глубокой морщиной на лбу, с коричневыми полукружьями под глазами повернул голову.
– Антон?! Откуда? А мы тебя похоронили.
Толкнул дверцу, схватил за плечи, обнял.
– Я после Неслухова, пристал к 33-му полку… – объяснил Антон твердому рогачовскому плечу.
Сзади обиженным тоном бубнил Филипп:
– Я ж говорил, Панкрат Евтихьич, а вы меня корили… Ничего я его не бросал. Ты куда, Клобуков, в Неслухове подевался-то? Мы с Лыховым-покойником звали тебя, звали. Ни тебя, ни Ганкина не было.
– Я пошел прогуляться, никому не сказал, – начал оправдываться Антон. – А Ганкин вроде на месте был…
Бляхин быстро спросил:
– Чего это у тебя с рожей? Ну и синячина!
Рогачов понимающе кивнул:
– Пробовал остановить погром?
– Да… Панкрат Евтихьевич, там один боец… Вон тот, в бекеше, видите? Отпустите его, пожалуйста.
– Почему? – Рогачов посмотрел на Шурыгина. – Он тоже дрался с погромщиками?
– Нет, но…
По желтому лицу члена РВС прошла судорога.
– Тогда почему я должен освобождать его от наказания? Только потому, что ты его лично знаешь? – В запавших глазах вспыхнула ярость. – Может быть, предложишь вместо него расстрелять кого-то другого? Ты думаешь, мне легко это делать – расстреливать боевых товарищей? У меня сердце рвется! Но иначе нельзя! Надо восстановить контроль над армией. С этим сбродом мы Врангеля из Крыма не вышибем! Их учить надо. Жёстко учить, жестоко.
– Вы их так ничему не научите.
– Научим-научим. Намесим из грязи глину, обожжем в огне, вылепим кирпичи и построим из них Новый Мир.
– Псов, и тех учат, кого можно зубами рвать, а кого нельзя, – поддакнул Бляхин. – Понял, нет?
Но Антон глядел не на него, а на Рогачова.
Тот поднялся на подножку и стал смотреть, как проходит децимация. Порыжевшая кожаная куртка тускло поблескивала.
«Будто бронзовая статуя, – подумал Антон. – И это лучший из них! Самый лучший! Люди для него – глина. Какой Новый Мир можно построить, если лепить из живых людей кирпичи, а в качестве строительного раствора использовать кровь?»
Он развернулся, оттолкнул что-то говорившего Бляхина, пошел из каре прочь.
Сзади, от шеренги третьего эскадрона, доносилось:
– …Сорок первый – три шага вперед… пятьдесят первый, три шага вперед…
Мимо строя, мимо тачанок с нацеленными пулеметами, в пустое поле.
Там налетел холодный ветер, по лицу захлестал косой, гнусный дождь. Антон смотрел под ноги, на мокрую траву.
«Какой же я идиот. И некого винить. Буду расплачиваться весь остаток жизни. Мог жить в Европе, заниматься хорошим, важным делом… И обратной дороги нет. Цюрих остался в другой, бесконечно далекой вселенной… Нет, в другой исторической эпохе».
Сзади отрывистым злым речитативом ударило сразу несколько пулеметов. Антон сел на корточки, зажал ладонями уши.
«Это провал назад, в историческое прошлое. Отец с матерью думали, что распад империи – необходимая ступень общественного прогресса. А случился распад цивилизации. Как полтора тысячелетия назад, когда Рим захватили варвары. Рогачовский Новый Мир – это беспросветный мрак Средневековья. Когда-нибудь, наверное, Россия опомнится, вновь забрезжит свет, цивилизация прорастет через развалины робкой травой, возродится. Но не при этой жизни. Не при моей жизни.
Что же остается? Подобно монахам раннесредневекового запустенья, забиться в какую-нибудь келью, поддерживать там слабый огонек добра и разума, заниматься маленьким, но необходимым делом. И затвориться от внешнего мира, насколько это будет возможно.
А на склоне лет, если хватит мудрости и смелости, втайне от всех написать скорбную летопись глухих времен».