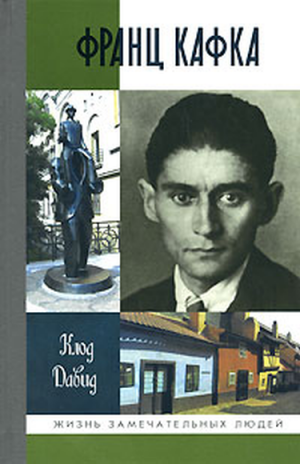
Клод Давид
Франц Кафка
I
Прага
«У этой матушки есть когти…»
Всякий, кто знал Прагу между двумя войнами, сохранил воспоминание об удивительно оживленном городе: движение здесь было интенсивным, магазины изобиловали провизией; во всем угадывался народ, жаждущий новизны и прогресса; всюду утверждалась воля страны, впервые после четырех веков ставшей хозяйкой своей судьбы.
Сегодня картина изменилась: невзгоды истории оставили свой след; покрывало печали опустилось на город. Былая здоровая энергия пропала. Штукатурка на роскошных барочных зданиях облупилась. Столь часто превозносимый шарм не исчез, но теперь он немного напоминает очарование мертвого города.
Прага Кафки не была ни тем радостно идущим к своему будущему городом, ни теперешним, подавленным своим прошлым или своим настоящим. Это был город перемен и конфликтов. Больше не осталось милого душевного покоя великой провинциальной столицы, соперницы Вены; за несколько лет все изменилось. В 1840 году Прага — немецкий город, пятьдесят лет спустя она становится чешским городом. Индустриализация, более быстрыми темпами развивавшаяся в Богемии, чем в других странах австро-венгерской монархии, привлекала рабочую силу в столицу. Чешские крестьяне бросали свою землю; говорили, что они, в случае надобности, соглашались на низкую плату. В то же время пражские немцы большими группами перемещаются к границе; они станут теми самыми «судетскими немцами», которые заставят говорить о себе каких-нибудь десять или пятнадцать лет спустя после смерти Кафки. Чешский язык быстро набирает силу: старинный университет Карла-Фердинанда, самый старый из немецкоязычных университетов, разделяется на две части и терпит радом с собой чешский университет. Большие передвижения населения благоприятствуют уже давно тлевшему ирредентизму[1]. Созданные для его сдерживания барьеры рушатся один за другим. Провинциальный парламент, Ландтаг, раздираем этими конфликтами; указы становятся единственно возможным типом законотворчества. Дело доходит до столкновений на улицах между чехами и немцами; именно в результате одной из таких драк Оскар Баум, писатель, друг Кафки, потеряет зрение. В 1897 году (Кафке тогда было 14 лет) в события вынуждена вмешаться армия, объявляется осадное положение.
Ни в дневнике Кафки, ни в его письмах нет никаких упоминаний обо всех этик волнениях. Политические события его не интересуют. Он даже не упоминает о рождении чехословацкого государства и о приходе Масарика к власти. Он не испытывает никакой антипатии к чехам, которых он ежедневно встречает у себя на работе или в магазине отца. Очевидно, он знает чешский, так как билингвизм обязателен для административных функционеров.
Согласно существующим правилам все немецкоязычные граждане должны были в лицее посещать уроки чешского языка. Именно это он и делает, а впоследствии еще и берет частные уроки, чтоб углубить свои знания. Эксперты утверждают, что он писал на этом языке правильно, хотя и несколько стесненно и по школьному. Когда ему приходится составлять казенные бумаги, он просит своего шурина Йозефа Давида, мужа сестры Оттлы, перечитывать их и исправлять языковые погрешности.
Этот Йозеф Давид, активист движения «Сокол», был единственным чехом, вошедшим в семью Кафки, так же как Милена Есенска — единственной чешской женщиной, с которой он был знаком. Можно было бы надеяться на плодотворные контакты между двумя частями населения, но их не было. Политические страсти делали иллюзорными любые планы слияния или даже простых связей. Чехи и немцы живут рядом и не знают друг друга. А то, что происходит в жизни, отражается в литературе. Некоторые писатели, впрочем довольно близкие к Кафке, такие как Отто Пик или Рудольф Фукс» переводят отдельные чешские произведения, но это пока всего лишь робкий дебют. Из дневника Кафки следует, что однажды вечером он отправился в Национальный театр (крайне редкий случай) на представление написанной в стиле классицизма драмы Ворхлички на чешском языке, которая ему совсем не понравилась. Единственная книга на чешском языке, которую он упоминает много раз, — это знаменитая «Бабушка» Вожены Немцовой; чешская литература — мир, ему неизвестный. Писали, что Кафку способен понять только тот, кто хорошо знает Карела Чапека или Ярослава Гашека. Нет ничего более ошибочного, чем такое утверждение, Кафка не интересуется ни одним из них. Макс Брод одно время работает над «Солдатом Швейком», чтобы поставить его на сцене, у Кафки нет ни одной строчки, посвященной этому замыслу.
В 1848 году чехи и немцы вместе подчинились власти молодого императора Франца-Иосифа, чтобы сообща требовать предоставления новых свобод. Полвека спустя диалог был прерван. Макс Брод рассказывает в своих воспоминаниях, что немцы и чехи даже поделили улицы города: немцы, выставляя напоказ «цвета» студенческих обществ, прогуливались по Грабену, чехи дефилировали по Венцельплацу или по Фердинандштрассе (той самой, которая теперь называется Национальной улицей), надев на головы подбратки (каракулевые шапки) в память о каком-то военном событии. Даже тот, кто не принадлежал к ярым националистам, таким образом волей-неволей был заперт в одном из лагерей.
Профессия Кафки ставит его как бы у слияния двух обществ. Однако едва ли можно представить себе, чтобы среда, столь сотрясаемая подобными конфликтами, расколотая надвое страстями и интересами, могла не оказать влияния на его характер и сознание. Охотно признают, что в Чехии было не два, а три народа. Рядом с чехами и немцами жили евреи. Большинство еврейского населения будущей Чехословакии размещалось, правда, не в Праге, а в отдаленной Галиции; это был народ, приверженный своим традициям, своим верованиям. Мы встретим этих людей при жизни Кафки, когда они побегут на Запад от приближающихся русских войск. Но еврейское меньшинство Праги было далеко не ничтожным, оно составляло около десятой части всего населения. Во время переписи пражские евреи, когда их спрашивали о языке общения, причисляли себя к чешскоязычному населению — либо из желания приноровиться к веяниям времени, либо не желая терять свою постоянную клиентуру. Тем не менее почти все еврейские семьи посылали своих детей в немецкоязычную школу, так что, принимая во внимание незначительное число немцев в городе, еврейский элемент в лицеях стал если не решающим, то по меньшей мере очень существенным — около 40 %. В глазах чехов евреи и немцы представляли собой почти одно и то же, экстремисты одинаково ненавидели и тех, и других.
Пражские евреи мало походили на своих собратьев по вере с Востока, они были полностью ассимилированы, ритуалы соблюдали лишь по инерции, крайне их упрощая. Восточные евреи жили в своих сообществах, отдельно от других, объединяясь вокруг своих раввинов, которые имели над ними абсолютную власть. В Праге, напротив, к этому времени гетто не было. С конца XVIII века император Иосиф II принял первые меры к эмансипации: евреи не обязаны были более выделяться особой одеждой, они могли свободно ходить днем по городу, им было разрешено арендовать земельные участки при условии, что это не пахотные угодья. Однако ограничений оставалось много. Так, например, чтобы избежать увеличения числа еврейских семейств, вступать в брак разрешалось только одному старшему сыну. Дед Кафки по отцу, который был вторым сыном, чтобы жениться, вынужден был ждать 1848 года, когда были устранены все эти запреты. В самом деле, в 1848 году революционные события (они начались с того, что возникла опасность погрома еврейских кварталов повстанцами), принесли освобождение евреям почти от всякого внешнего проявления дискриминации: упоминание о еврейской национальности, как и об иудейском вероисповедании, исчезло из официальных документов. Многие евреи покинули гетто, которое, кстати, перестали перегораживать железными цепями, предназначенными запирать его жителей в определенном квартале.
В художественных альбомах, посвященных Кафке, до сих пор можно видеть снимок в гетто, облупившегося дома, в котором жил его отец, начиная с переезда в Прагу и до своей женитьбы. Но ко времени рождения писателя гетто практически перестало существовать: старый еврейский квартал стал Пятым округом Праги — Иосифштадтом, названным так в память об Иосифе II. В течение некоторого времени он оставался кварталом, пользующимся дурной славой, пристанищем бандитов и проституток. Именно в этом лабиринте плохо вымощенных извилистых узких улочек, среди старых домов с живописными вывесками: «У мышиной норы», «Пряник», «Перчатка с левой руки», «У смерти» — рождается пражский фольклор легенд и сатанизма. Но к 1895 году (Кафке исполняется двенадцать лет) предпринимается «ассенизация» квартала: уничтожаются лачуги, сносятся подозрительные таверны и на их месте возводятся большие современные здания. От старого гетто сегодня сохранилось лишь немногое; готическая синагога ХIII века, кладбище, которое датируется гуситской эпохой, еврейская ратуша с маленькой деревянной башней и курантами, стрелки которых вращаются в обратную сторону.
Именно в этом квартале в дальнейшем будут жить родители Кафки и чаще всего он сам. Дом, в котором он родился, красивое здание XVIII века, построенное некогда монахами Страхова, находился, собственно, вне территории гетто — на месте, предназначенном со времен средневековья для обращения евреев в христианскую веру. Дом этот был разрушен, затем реконструирован, и на нем сейчас есть мемориальная доска.
Закон освободил евреев Праги и интегрировал их в жизнь города: они были коммерсантами, адвокатами, журналистами. Но общественное мнение мало изменилось, их по-прежнему сторонились. В агентстве по страхованию от несчастных случаев на производстве, куда Кафка будет принят благодаря рекомендации и определенной поблажке, не хотели брать более двоих евреев-служащих. Антисемитизм редко приобретает шумные формы, но присутствует он повсюду. Кафка однажды вспоминает о нем с примесью почти забавного раздражения и иронии. Он только что прибыл в 1920 году в санаторий Меран, город итальянский или собирающийся им стать, но всю клиентуру заведения составляют австрийцы. Сначала он попытался сесть за стол в стороне, но его попросили присоединиться к другим пансионерам: «Как только я появился сегодня я столовой, полковник /…/ пригласил меня к общему столу столь радушно, что я был вынужден уступить. С этого момента все пошло своим чередом. С первых же слов он узнал во мне уроженца Праги; оба, генерал (сидящий напротив меня) и полковник, знакомы с Прагой. Чех? Нет. Тогда давай выкладывай перед этими добрыми очами немецких военных, кто ты есть на самом деле. Кто-то говорит: «Чешский немец», другой — «Кляйнзейте» (левый берег Молдау, аристократический район Праги). Потом вое успокаиваются и продолжают есть; но генерал, чей тонкий слух был в филологическом отношении натренирован в армии, остается неудовлетворенным; после еды он вновь начинает ставить под сомнение мое немецкое произношение, его взор, впрочем, в еще большей степени подвержен сомнению, чем его слух. Приходит время все объяснить насчет моего еврейства. Теперь он удовлетворен в научном смысле, но отнюдь не в человеческом. В ту же минуту, несомненно случайно, так как немыслимо, чтобы все слышали наш разговор, но, может быть, несмотря ни на что, все ж таки немного из-за самого этого разговора, вся компания встает, чтобы удалиться (вчера во всяком случае они долго оставались вместе). Что касается генерала, он тоже очень нервничает, из вежливости он доводит нашу маленькую беседу к некоему подобию заключения, перед тем как широкими шагами удалиться восвояси. По-человечески меня это не устраивает еще в большей мере: зачем их стеснять? Лучшим решением будет снова остаться одному на своем месте».
Несколько дней спустя маленький конфликт забылся. Кафка спешит написать об этом Максу Броду, но в это самое время пьеса последнего освистана в Мюнхене в результате антисемитской выходки. Кафка комментирует это событие, приправляя его юмором: «Это понятно, — пишет он, — евреи не собираются подрывать будущее Германии, но можно охотно предположить, что настоящее из-за них испорчено. Они давно вынудили Германию принять такие вещи, к которым со временем она, возможно, пришла бы сама, но против которых она вынуждена бороться, потому что они пришли от чужаков. Антисемитизм — ужасно бесплодное занятие, и Германия обязана всему, что с этим связано».
Антисемитские настроения не минуют и Австрию перед войной, и временами они проявляются в более агрессивной форме; они взрываются в сознании бургомистра Вены Карла Люгера, чье имя до сих пор носит главный проспект города; они питают теории последователей Георга фон Шенерера. Но Праге не в чем было завидовать Вене, как чехам не в чем было завидовать немцам, антисемитизм не всегда скрывается за недомолвками и намеками. В 1897 году во время антинемецких манифестаций, названных «декабрьским натиском», пражских евреев избивали на улицах, разбивали им окна, грабили их лавки. В 1899 году, когда Франция была расколота делом Дрейфуса, возникло дело Хильснера: еврей, сапожник небольшого провинциального города, был обвинен в совершении ритуального преступления в отношении девятнадцатилетней девушки. Дело рассматривалось двумя трибуналами, оба приговорили Хильснера к смерти; император Франц-Иосиф смягчил его наказание пожизненным заключением. Во время «декабрьского натиска» Кафке было четырнадцать лет, во время дела Хильснера — шестнадцать; неизвестно, что он испытывал в это время; этот период жизни Кафки не представлен никакими биографическими документами. Но он возвращается к делу Хильснера в 1920 году в письме к Милене во время послевоенных погромов, инспирированных младочешской партией, когда с евреями обращались на улицах, как с «паршивой расой». Кафка соотносит свою собственную жизнь и свои отношения с Миленой с преступлением, некогда приписанным Хильснеру: евреи столь чужды жизни других людей, что, как только они хотят участвовать в ней, они способны лишь ранить и убивать. «Самое ужасное для меня в этой истории — это убеждение, что» евреи должны убивать, как хищные звери, со страхом, так как они не животные, а напротив, особенно- умные люди, и тем не менее они не могут удержаться, чтобы не набрасываться на вас /…/».
Без этого хронического антисемитизма, время от времени прибегающего к насилию, творчество Кафки рискует остаться плохо понятым. Перед этой враждебностью Кафка испытывал не страх и даже не унижение; для этого необходимо было, чтобы он больше уважал своих противников. Но он чувствует себя «поставленным вне общества», отрезанным от большинства, отброшенным в замкнутый мир, в котором ему трудно дышать.
Прага присутствует в творчестве Кафки, по крайней мере в первых сочинениях, где конкретная опора его вдохновения часто остается очевидной (более поздние тексты в значительной степени тяготеют к абстракциям и фантазиям). Так, например, можно проследить шаг за шагом в «Описании одной борьбы» (большая часть текста была написана в 1904 году) дорогу, по которой однажды вечером следует герой повествования со своим спутником по улицам города: узнаются набережные Молдау, мост Карла IV и его барочные статуи, Остров Лучников, Большая площадь Старого Города с колонной Девы, которую младочехи собирались разрушить в 1918 году, усматривая в ней символ австрийского гнета. Когда Йозеф К. в «Процессе» отправляется на свой первый допрос, он приходит в рабочий квартал с маленькими лавчонками, расположенными в подземельях. Старожилы узнали в нем предместье Жижков» где находилась асбестовая фабрика, которой Кафка, к своему несчастью, должен был заниматься в течение некоторого времени. В кратком описании пейзажа, с которого начинается «Приговор», узнается картина, которая была перед его окном на Никласштрассе, почти у самой реки, с высотами Градчан и садами Бельведера на другом берегу. Но в любом случае это не более чем топографические ориентиры, введенные намеренно прозаично: в творчестве Кафки нет места для «поэзии» Праги. А ведь «поэзия Прага» была в это время широко эксплуатируемым литературным мотивом, но от него Кафка отмежевывается с самого начала.
Для характеристики этой тенденции достаточно привести три имени. Первое, сегодня уже забытое, но в те времена редко оспариваемое, имя Гуго Салюса, городского врача-гинеколога, который в некоторой мере был официальным представителем немецкой культуры: живописная фигура с длинными светлыми волосами, в шляпе с широкими полями, но поэт посредственный. Он поставлял в избытке красивые талмудические легенды и привлекательные образы Праги. Кафка упоминает его имя всего лишь один раз в письме к Максу Броду, подтрунивая над неоромантическими ухищрениями, характерными для его стиля.
Второе имя — Рильке, который, перед эмиграцией в Мюнхен, в своих первых стихотворениях, озаглавленных «Дар богам домашнего очага», и в своих первых рассказах назвал себя поэтом Праги. Теперь практически не читают ни тех, ни других. Но несколько строк из новеллы под названием «Король Бохуш», которую он издал в 1897 году, помогут понять ее дух. Тот, кого называют «король Бохуш», является в соответствии с натуралистическими вкусами того времени калекой, над которым в кофейнях каждый издевается и которого ждет трагический и бурлескный конец. Бохуш хорошо знает свой город Прагу: «Самое сокровенное, — рассказывает он, — находится в сердце вещей, и, видите ли, в этих старых домах таится столько секретов /…/. Там есть старые часовни и столько странных вещей, картин и ламп, и полные сундуки, я не лгу, сундуки, полные золота. А из этих старых часовен далеко идут подземные ходы, далеко в город, может быть, до самой Вены». И Бохуш восхваляет народ, народ Чехии, не знакомый художникам того времени: «Что же это такое, наше искусство? Может быть, песни, которые наш народ, совсем молодой и полный здоровья, едва пробудившийся, мог бы петь? Повести, которые говорят о его силе, о его доблести, о его свободе? Картины родной страны? Да? Ничего подобного. Все эти славные господа ничего не знают об этом. В них уже нет той детскости, которая сегодня еще свойственна народу, полному желаний, из которых ни одно не удовлетворено. Они слишком зрелы…»
Третье имя — это имя Густава Мейринка, который, по правде говоря, принадлежит к совсем другому направлению. Мейринк не был пражанином, он родился в Вене и приехал в Чехию только в возрасте двадцати лет, чтобы затем, в сорок лет, обосноваться в Мюнхене. Но он был изобретателем некоего туманного мистицизма, в котором смешались все традиции — еврейская, буддийская, спиритическая — и с которым в пражской глубинке нечего было делать. Гротеск и сатира сливаются в его творчестве с фантастикой и призраками. Кафка ничем ему не обязан, его знаменитый «Голем» вышел только в 1915 году, спустя год после создания «Процесса» Существуют два маленьких текста Кафки, восходящих к легенде о Големе, но это всего лишь два небольших наброска, появлением которых он обязан своей встрече в Мариенбаде в 1916 году с неким чудным раввином. Макс Брод поддерживал с Мейринком дружеские отношения, но Кафка, который никогда не упоминает его имени, игнорирует его вовсе. С самого начала он избрал свой путь, очень далекий от этого ложного романтизма.
Кафка совсем не восприимчив к поэзии Праги, он ничего не заимствует из ее традиций и легенд, так Как он ненавидит Прагу. Всю свою жизнь он хотел бежать из нее. В декабре 1902 года в одном из своих первых сохранившихся писем он пишет своему другу Оскару Поллаку после короткого пребывания в Мюнхене, где он собирался записаться в университет: «Прага не отпускает нас. Ни тебя, ни меня. У этой матушки, — говорит он, трансформируя чешское Maticka Praha, — есть когти. Надо покориться или же… Надо бы поджечь ее с двух концов, поджечь Вышеград и Градчаны — тогда, может быть, удалось бы вырваться. Представь себе этот карнавал!» Кафка на протяжении всей своей жизни будет стремиться сбежать подальше от Праги. Когда он был приглашен в Assicurazioni Generali, его замысел состоял в том, чтобы стать служащим где-нибудь за границей, например в Южной Америке. Дело приняло другой оборот, но он никогда не прекращал поисков места вне Праги — не в Вене, этой большой деревне, где веселые становятся печальными, а печальные еще более печальными», но, если бы было возможно, в Берлине. Впрочем, его мечта воплотится в жизнь, но только в последние месяцы его жизни: он приедет сюда измученный болезнью и в худшие времена инфляции.
Кстати, это желание бежать не было чисто кафкианским. Другие, как и он, в том числе и самые великие, поспешили бежать. В двадцать один год Рильке, амбициозный, нетерпеливо стремящийся к известности, покидает Прагу, чтобы никогда больше туда не вернуться. Франц Верфель, признаваемый к тому же пражским обществом гением, уезжает в Гамбург и вскоре обосновывается в Лейпциге в качестве консультанта в издательстве Курта Вольфа. Один Макс Брод остался верен своему родному городу, он эмигрировал только во времена нацизма, вынужденный к этому; но сионистская мысль всегда и в любых ситуациях открывала ему двери.
Что же касается Кафки, то если он и ненавидел Прагу в такой мере, то, безусловно, прежде всего потому, что это был город его семьи и его детства. Несомненно, он испытывал чувство, что ведет здесь чуть ли не островную жизнь в провинции, отрезанной от больших событий времени. В чем он, впрочем, отчасти ошибался: Прага была гораздо менее изолированной, чем ему казалось. Едва он опубликовал несколько коротких рассказов в журналах, как немецкие писатели, например Роберт Музиль, обосновавшийся тогда во Франкфурте, обратили внимание на его дарование; Курт Вольф, который издавал его, жил в Лейпциге. Хотя Кафка всегда мало заботился об известности за границей, он все-таки был уверен, что в узком немецком сообществе Праги его творчество станет лишь, как тогда писали, «литературой без публики». А Кафка мечтал быть там, где происходил бы свободный обмен мыслями, в оживленном, отличном от пражского оцепенения месте.
Необходимо сказать еще несколько слов на тему, связанную с Прагой. Иногда говорят, что немецкий язык, на котором там говорили, был непригодным для того, чтобы служить опорой литературному языку. То его обвиняли в том, что он был языком испорченным, то, напротив, в том, что он был слишком чистым, безжизненным, искусственным. Первый упрек не может быть принят всерьез. В самом деле, тексты Кафки содержат несколько «пражизмов», над которыми, впрочем, он первый же и смеялся, в частности вместе с берлинкой Фелицей Бауэр. Речь идет лишь о нескольких стилевых клише, о нескольких провинциализмах, которым было бы смешно придавать значение. Другой упрек заслуживает несколько большего внимания. Некоторые специалисты в области философии языка упрекали немецкий язык Праги в том, что он является языком, оторванным от питающих его корней, удаленным от диалектных форм, посредством которых, как известно, немецкий язык не прекращает обновляться. О немецком языке Кафки говорили: «Он писал на том чистом немецком языке, сухом, почти абстрактном, в котором не существует слов, способных передать цвет, блеск, теплоту, какой бы то ни было живой разговор, какой бы то ни было настоящий диалог». Эта оценка, хотя и преувеличенная, конечно, улавливает некоторую истину о писательской манере Кафки. Но следовало бы задаться вопросом: зависят ли эти черты от языка, на котором говорили в Праге, или же речь идет, скорее, о выборе писателя? Еще один аспект проблемы, о котором речь впереди, — это вопрос о немецком языке, на котором общались евреи и за который его будут осуждать, причем так же без достаточных оснований. Здесь уместно сравнить трех писателей — пражан по происхождению, чтобы увидеть, что их языку были свойственны различные тенденции: Кафка, кипящий Верфель, исполненный неистовой силы и огня, и Рильке, мастер оттенков, умевший лучше кого бы то ни было выразить в наиболее утонченной манере многообразие чувств. Сегодня не могут не вызвать сомнения идеи такой философии языка, которая способна только насмехаться над обветшалыми романтическими концепциями. В этом плане скорее можно согласиться с характеристикой, которую дает языку Кафки Макс Брод: «Основная часть этого языка целомудренна и проста; внешне он производит впечатление холодного, иногда встречаются прозаизмы или даже затемненности смысла, но это всего лишь видимость, а глубоко внутри не перестает гореть пламя».
Жизнь Кафки почти вся прошла в Праге и даже внутри узкого периметра Старого города. Он не любил этот город, но он неотделим от него. Он немец среди чехов, еврей среди немцев. Четко регламентированная изолированность старой части города только отрицательно сказалась на его формировании, но он шел навстречу своему самоуглублению, своей робости, своей потребности одиночества. Шероховатость, бедность пражской речи готовили прибежище для его крайней стыдливости, для умеренности и строгости его литературного вкуса.
II
Семейный круг
«… Мне кажется, что я все еще не родился окончательно…»
Гете различал в себе два начала: отцовское — серьезное, рассудительное и женское — жизнерадостное, своенравно-причудливое. Кафка тоже противопоставлял две семейные линии: с одной стороны, семейство Кафки, отмеченное «силой, здоровьем, хорошим аппетитом, сильным голосом, даром слова, самодовольством, чувством превосходства над всеми, упорством, остроумием, знанием людей, определенным благородством; с другой — материнская линия семейства Лёви, которое он наделяет такими качествами, как «упорство, чувствительность, чувство справедливости, беспокойство». Но делает он это не для того, чтобы определить свое место в слиянии двух потоков, и не для того, чтобы вызвать в себе конфликт между двумя противоположными началами. В письме, написанном отцу в 1919 году, которое тот, впрочем, так никогда и не прочитал, он открыто объявляет себя Лёви, самое большее, «с некоторой основой Кафки».
Род Кафки отличался великанским ростом. Рассказывают, что дед Якоб Кафка, мясник в Воссеке, мог поднять мешок с мукой зубами. В этой семье все были рослыми, даже его сестры. Но сам он стыдился своего высокого роста, из-за которого чувствовал себя не сильным, а хилым, неуклюжим и смешным. В своей генеалогии Кафки не восходят дальше деда Якоба, того самого, который должен был ждать революции 1848 года, чтобы получить возможность жениться. Фамилия Кафка по своему звучанию явно чешская: Кафка — это галка, и галка будет служить эмблемой торгового дома. Неважно, была ли эта фамилия присвоена семье при Иосифе II, в то время когда евреи получили гражданский статус, или, как утверждали с малой долей правдоподобия, речь идет о более древнем искажении имени Якоб; важнее то, что Франц Кафка мог идентифицировать себя с образом этой черной птицы и всегда ненавидел оба К в своей фамилии.
Воссек — деревня на юге Чехии. Она населена чехами и евреями. Отсюда происходит версия, согласно которой родным языком и языком общения Германа Кафки был чешский, а к немецкому он обратился позднее, только после переезда в Прагу, якобы для того чтобы примкнуть к лучшему обществу. Впрочем, все говорит против этого утверждения. То, что в Воссеке Кафки понимали по-чешски, — факт очевидный, но немецкий (испорченный идиш), напротив, должен был стать прикрытием против враждебно настроенных чехов. Но почему это запоздалое онемечивание происходит именно в эпоху, когда чехизация города идет полным ходом?
Предполагалось также признать в Воссеке прообраз деревни, в которой разворачиваются события «Замка». Как будто возникла необходимость искать прообраз этих нарочито схематичных структур и уже сама мысль о некоем прообразе не была абсурдной. Лишь некоторые детали, впрочем совершенно второстепенные, напоминают замок Валленштейна, который Кафка имел возможность видеть во Фридланде во время одной из своих деловых поездок. Сделать Воссек местом действия романа, не называя его, значит, сделать судьбу евреев главной темой книги. Так что, если этот мотив, несомненно, и вторгается в ткань повествования — книга написана в 1922 году, в разгар антисемитизма, — то все; же, конечно, не в этом ее основной смысл. Впрочем, знал ли Кафка Воссек? Не исключено, хотя нигде нет свидетельств того, что он когда-либо приезжал туда, чтобы положите камень на могилу своих бабушки и. дедушки, не существует ни одной строчки, написанной его рукой, где бы фигурировало название этой деревни. Но самое главное: делать Воссек центром своей книги означало бы прославить те самые места, где жил и страдал его отец.
И эта гипотеза оказывается несостоятельной, так как: для Кафки литература — это прежде всего та сфера, куда его отцу доступ закрыт, сфера реванша над отцом, наконец завоеванной независимости. Если у «Замка» и был прообраз, он мог быть где угодно, только не в Воссеке.
Жизнь в Воссеке отличалась крайней убогостью. Был найден родной дом Германа Кафки — хижина, крытая соломой. Все спали в одной комнате — Якоб Кафка, четверо его сыновей и две дочери. Отец писателя неоднократно воскрешал в памяти трудные годы своего детства: голод, когда не хватало картошки; холод-, который вызывал на лодыжках незаживающие открытые раны; в семь лет Герман Кафка вынужден был ходить из деревни в деревню, толкая ручную тележку; его сестру Юлию отослали в одну семью в качестве кухарки. «Ей доводилось ходить по поручениям в самые жестокие холода в своей маленькой промокшей юбке, кожа на ее ногах трескалась, маленькая юбка замерзала и высыхала только вечером в кровати». Герман Кафка гордился этим жалким прошлым, он почти ставил в упрек своим детям то, что они не знали этих страданий: «Кто знает об этом сегодня! Что могут знать дети об этом! Никто так не страдал! Как современный ребенок может понять это?»
По правде говоря, сохранившиеся фотографии, где представлены Якоб Кафка и его жена, одетые как настоящие буржуа и выглядевшие весьма преуспевающими людьми, наводят на мысль, что эта крайняя нищета была не всегда, или же память мало-помалу притуплялась и слегка мистифицировала прошлое.
Один раз Германа Кафку даже назвали чешским пролетарием. На самом деле он не был ни чехом, ни пролетарием. Он — бедный еврей, очень спешивший улучшить свою судьбу. Единственным средством для этого было «подняться» в город, что и сделал Герман Кафка, отслужив свои три года в армии. Он приезжает в Прагу в 1881 году и годом позже женится на Юлии Лёви, девушке из семьи богатых провинциальных суконщиков, которые в то же время были владельцами пивной. Что произошло? Юлия Лёви, несомненно, принесла весьма существенное приданое, и трудно представить, чтобы в эту зажиточную семью приняли какого-то мелкого коммерсанта без средств. С другой стороны, трудно поверить, что благодаря ремеслу бродячего торговца Герман Кафка смог за несколько лет столь радикально изменить свое положение. Очевидно, в его биографии есть пробел, который, безусловно, можно было бы устранить в результате исследований нотариальных актов Праги.
Как бы то ни было, Герман Кафка открывает в 1881 году магазин модных вещей на Цельтнерштрассе, и можно проследить, как год от года развивалось это предприятие. Сначала речь идет о мелкой торговле, которая затем трансформируется в оптовую фирму. Скромный магазин на Цельтнерштрассе покинут ради одного из лучших мест Праги. Новый магазин размещается на первом этаже великолепного дворца Кински на Большой площади Старого города. Если Кафка как-то намекает в одном из рассказов на то, что конец каждого месяца сопровождался плохим настроением или тревогой, он скорее хочет таким образом описать беспокойный темперамент своего отца, чем трудности торгового дома.
Герман Кафка «преуспел». Начав с нуля, даже меньше того, он создал преуспевающее предприятие, он «достиг цели». В конце жизни он собирался продать свое предприятие и стать владельцем пятиэтажного доходного дома. Если он и испытывал по этому поводу гордость с некоторой долей высокомерия, то у него были к тому основания. Из шести детей Якоба Кафки он, наверное, был тем, кто провел свою жизненную лодку лучше всех. О старшей его дочери Анне неизвестно ничего; о другой дочери, Юлии Эхрман, той самой малышке, что бегала по дорогам в своей мокрой юбчонке — тоже. Один из четырех мальчиков, Людвиг, сначала работал в магазине, который принадлежал Герману Кафке, а закончил жизнь безвестным страховым агентом. Двое других, Филипп и Генрих, который умер молодым, имели небольшие дела в провинциальных городах. В следующем поколении упадок усиливается. Ирма, дочь Генриха, слабая здоровьем, несчастная в браке, вынуждена была в течение некоторого времени искать пристанище в магазине Германа Кафки, где ей пришлось испытать тиранический нрав своего дяди и патрона. Кафка с отвращением вспоминает надгробное слово, которое его отец посвятил ей: «Бедная Ирма мне завещала хорошенькую свинью». В новом поколении был один человек, в котором, кажется, воплотились добродетели этот рода, — адвокат, сын Филиппа, на которого Кафка смотрел с наибольшим восхищением. В свои последние дни он еще говорит о нем Доре Диамант: «Мой кузен — превосходный человек. Когда этот Роберт, в возрасте около сорока лет, приезжал вечером к бассейну Софии — он не мог приходить раньше, он был адвокатом, очень занятым человеком, скорее работой, чем удовольствиями, — когда он приезжал вечером после пяти часов, он снимал несколькими быстрыми движениями одежду, бросался в воду и плыл с мощью красивого дикого зверя, весь струящийся водой, со сверкающими глазами, и уплывал тотчас в сторону запруды, он был великолепен». Впрочем, он добавлял: «А шесть месяцев спустя он умер, без толку замученный врачами». Но у других кузенов Кафки эта энергия, которой ему не хватало и которой он так восхищался у других, не нашла себе применения в Праге, в Богемии.
Три сына Филиппа, два сына Генриха эмигрируют, почти все в Соединенные Штаты, один в Парагвай. Эта семейная сага, которая отчасти вдохновила Кафку на создание его американского романа, была в то же время свидетельством отваги и поражения. Можно было бы сказать, что жизненная энергия исчезла из семьи, и Франц Кафка воспринимал это как конец рода. Еще один кузен, сын Филиппа, умер в 1901 году.
В самом деле предпринимательскую смелость и хватку, похоже, унаследовала другая ветвь семьи.
Одному Кафке суждено было занять важное место в жизни города. Это Бруно Кафка, чье имя, впрочем, никогда не упоминалось ни в «Дневнике», ни в переписке, был сыном одного из братьев дедушки Якоба. Он был практически того же возраста, что и писатель, но его карьера сложилась совсем иначе. Сын адвоката, он принял христианство, стал профессором права, деканом факультета, потом ректором университета. После войны Бруно Кафка — депутат Парламента, главный редактор «Богемии», одной из крупных газет Праги, и, если бы не преждевременная смерть, он, по всей видимости, сыграл бы важную роль в истории Чехословакии. Макс Брод, который ненавидел его, сообщает, что он имел некоторое физическое сходство со своим кузеном Францем: «Черные как смоль волосы, сверкающие глаза, та же отвага в лице — даже движения указывают на благородство исключительной личности. Только у Франца все было более достойным и более мягким, у Бруно же оно было близко к карикатурности, с тенденцией к гениальному мошенничеству, насилию и даже к садизму». Таким, по меньшей мере, он представлялся Максу Броду, который часто не ладил с Бруно. Но Франц Кафка, высоко ценивший в других смелость и ощущение силы, которых недоставало ему самому, очень восхищался своим кузеном Бруно.
Таковы были эти Кафки, чьей энергии он завидовал, но к которым не хотел принадлежать. Леви тоже были, как говорят, «преуспевшими» и, несомненно, в еще большей степени, чем Кафки. Они тоже были выходцами из среды провинциальных лавочников, но главное, в линии Пориасов, то есть в женской линии, ощутимы следы духовности, которые сохранялись в семье подобно сакральным легендам. Это, в частности, касается прадеда Кафки, Йозефа Пориаса; это был, пишет Кафка в своем «Дневнике», человек очень образованный, «столь же уважаемый христианами, как и евреями. Во время одного пожара благодаря его набожности произошло чудо: огонь не коснулся его дома, и он уцелел, тогда как кругом все дома сгорели». Но Йозеф Пориас жил в XVIII веке и был всего лишь отдаленным воспоминанием. Мать Кафки зато знала Адама Пориаса, сына Йозефа, так как ей было шесть лет, когда он умер. Он был раввином, исполнявшим также обряд обрезания, и к тому же еще суконщиком. Она говорила о нем как о человеке «очень набожном и очень образованном, с длинной белой бородой». Она вспоминала о том, как должна была, когда он умер, «держать пальцы покойника и просить прощения за все прегрешения, которые могла совершить по отношению к нему». Она не забыла, что этот дедушка скрупулезно практиковал купания, предписанные религиозным каноном: «Он купался все дни в реке, даже зимой. Для этого ему приходилось прорубать топором лунку во льду». Кафка записывает эти детали в свой «Дневник» в 1911 году, в то самое время, когда его друг, актер Исхак Лёви рассказывал ему о жизни чудотворных раввинов, среди которых он провел свою молодость. Эти давние обычаи Кажутся Кафке красочными и живыми; он мысленно противопоставляет их умирающему иудаизму в своей семье, хотя в это время он абсолютно не ощущает себя связанным с возрождением еврейской мысли. Впрочем, Лёви были такими же ассимилированными евреями, как и Кафки, и традиции набожности у них были всего лишь легендами прошлого.
Что больше всего поражает в семействе Лёви, так это впечатление неустойчивости. Среди них много холостяков. Из пяти братьев или сводных братьев Юлии Кафки (ее отец вновь женился вскоре после смерти своей молодой жены), только двое создали семью. Один из них, Йозеф, закончив дела в Конго, женился на француженке и жил в Париже, но связи с ним, видимо, ослабели, так как Франц Кафка не помышлял о том, чтобы нанести ему визит во время двух своих поездок во Францию, притом что родственные связи в семье благоговейно поддерживались. О другом брате, Ричарде Лёви, который был безвестным мелким торговцем, сказать нечего. Зато двое других дядюшек, которые много значили для Кафки, не женились — ни один, ни другой. Один, дядя Альфред, ставший директором железных дорог в Мадриде, был семейной знаменитостью. Несомненно, это он в «Процессе» стал прообразом забавного сатирического «провинциального дядюшки», напыщенного, властного, чьи начинания, однако, в основном заканчиваются неудачами. Кафка не питал к нему неприязни, он находил с дядюшкой общий язык, как писал Фелице, гораздо лучше, чем с родителями. А главное, Альфред Лёви для него — символ холостяка. В 1912 году, в тот момент, когда Кафка был почти уверен, что его ожидает та же участь, — и стремясь ее избежать, пишет первые письма Фелице Бауэр, расспрашивает дядю Альфреда о его образе жизни в Мадриде. «Я недоволен в деталях, — отвечает дядя, — но им не удается испортить общий характер моей жизни». После обеда в пансионе, где он ни с кем не разговаривал, Кафка снова оказывается один на улице, и не может понять, чем этот вечер мог бы быть ему полезен: «Я возвращаюсь домой и жалею о том, что я не женат. Естественно, это длится недолго, довожу ли я эту мысль до конца или мои мысли начинают блуждать. Но это бывает от случая к случаю».
Так Франц Кафка берет у своего дяди уроки холостяцкой жизни. И есть еще другой его любимый дядя, к которому Кафка часто ездит на каникулы в Триест, в Моравию, сельский врач Зигфрид Лёви. Он тоже не женился и нашел в спокойной жизни своего рода мудрость. Кафка иногда с любовью называет его «щебетуном», так как у дяди, пишет он, «не по-человечески тонкий ум, ум холостяцкий, ум птицы, который, похоже, рвется из слишком узкого горла. Так он и живет в деревне, глубоко пустив корни, довольный, как бывает, когда легкий бред, принимаемый за мелодию жизни, делает человека довольным». В начале своей болезни, в 1917 году, Кафка одно время мечтает о похожей жизни, о том, чтобы подобно сельскому врачу, в уединении и в мирном оцепенении, дожидаться своего последнего вечера. Однако несколькими годами позже в одном из писем своему другу Роберту Клопштоку он раскрывает изнанку этой видимости душевного покоя. Клопшток встретил дядю Зигфрида и был, по его словам, «просто поражен его холодностью». Кафка отвечает ему: «Как холодность может быть простой? Уже сам факт, что речь несомненно идет об исторически объяснимом феномене, делает его сложным. И затем, казаться холодным его заставляет, безусловно, долг и «секрет холостяка», который он хранит в себе».
Последний брат Юлии Кафки, дядя Рудольф, тоже остался холостяком, это наводит на мысль о том, что у рода Лёви оставалась лишь самая малость жизненной силы. Рудольф был неудачником, семейным чудаком, человеком смешным, «непонятным, слишком любезным, слишком скромным, одиноким и тем не менее болтливым». Ему удалось стаи» всего лишь бухгалтером в пивной; он продолжал жить со своим отцом, с которым у него не было взаимопонимания, и, кроме того, он был обращенным. Когда Франц Кафка в детстве совершал какую-нибудь глупость, его отец имел обыкновение говорить: «Вылитый Рудольф!» И, пожалуй, можно сказать, что с годами Кафка все больше оправдывал это сравнение. В 1922 году, когда Рудольф уже умер, он вновь пишет в своем «Дневнике»: «Сходство с дядей Р. поразительно еще и сверх того: оба тихие (я — менее), оба зависимы от родителей (я — более), во вражде с отцом, любимы матерью /…/, оба застенчивы, сверхскромны (он — более), оба считаются благородными, хорошими людьми, что совсем неверно в отношении меня и, насколько мне известно, мало соответствует истине в отношении его /…/, оба вначале ипохондрики, а потом действительно больные, обоих, хотя они и бездельники, мир неплохо содержит (его, как меньшего бездельника, содержат гораздо луже, насколько можно нока сравнивать) оба чиновники (он — лучший), у обоих наиоднообразнейшая жизнь, оба неразвивающиеся, до конца пребывают молодыми, — точнее слова «молодыми» слово «законсервированными», — оба близки к безумию, он, далекий от евреев, с неслыханным мужеством, с неслыханной отчаянностью (то которой можно судить, насколько велика угроза безумия), спасся в церкви, до конца /…/. Неправда также, что он не был добрым, я никогда не замечал в нем и следа скупости, зависти, ненависти, жадности; для того же, чтобы самому помогать другим, он был слишком слаб. Он был бесконечно невиннее меня, здесь нельзя и сравнивать. В деталях он был карикатурой на меня, в главном же я карикатура на него». Вот каким был тот, кого в романе Достоевского назвали бы шутом, бурлескный образ, в котором Кафка узнавал себя, одновременно свою судьбу, казалось, уготованную ему, как он полагал, наследственностью Лёви. В семействе Леви Рудольф не был исключением. Был также брат бабушки Эстер, о котором ничего не известно, кроме того, что его всегда называли «чокнутый дядя Натан». Рудольф был крещеным, но и здесь он был не один: сын прапрадеда Иосифа уже отрекся от еврейской веры. И, наконец, последнее свидетельство непрочности линии Лёви: Сара, жена прадеда Адама Пориаса, не смогла перенести смерть своей дочери, умершей в двадцать восемь лет от тифа, — труп матери выловили в Эльбе.
Портреты Германа Кафки подчеркивают удовлетворенное спокойствие, можно сказать почти высокомерное удовлетворение выскочки. Его последние фотографии представляют старого человека, разбитого жизнью, вызывающего даже жалость. Длинное письмо Кафки своему отцу, известное всем или почти всем, не оставляет никакого сомнения в необузданности, грубости, эгоизме этого человека. Но он не пытается их объяснить; его цель не в этом. Лишения и нищета детства, несомненно, не могут быть достаточными доводами, — они могли бы, во всяком случае, вызвать прямо противоположные последствия. И братья Германа Кафки, которые страдали от тех же самых зол, тем не менее не имели такого мрачного характера. Возможно, этот избыток властности прикрывал слабость, о которой сначала трудно было бы подумать.
Но вопрос не в этом, а только в том, как его дети восприняли грубое воспитание. Франц Кафка был не единственным, кто от него страдал. Вторая дочь, Валли, более гибкая, приспособилась к нему, похоже, без особого труда. Но Элли, старшая из дочерей, если и гнула вначале спину, то в молодости поспешила выйти замуж, чтобы избежать семейной тирании. Что до Оттлы, самой младшей, то она в еще большей степени, чем Франц, была жертвой отцовского преследования, откуда, несомненно, и проистекают задушевность и дружественный характер отношений, сложившихся между ней и Францем.
Жестокость, гнев, несправедливость Германа Кафки в дальнейшем вошли в литературную историю. Так, наиболее красноречивым эпизодом стал «балконный» эпизод; по прихоти, столь присущей маленьким детям, Франц однажды ночью попросил принести ему пить, «наверняка, не потому что хотел пить, — объясняет он в «Письме отцу», — а, вероятно, отчасти, чтобы позлить вас, а отчасти, чтобы развлечься». Отец пришел, вытащил его из кровати, увел в одной ночной рубашке на деревянный балкон, который выходил во двор, и оставил его там, заперев за ним дверь. Без конца сыпались угрозы, например: «Я разорву тебя на части», и они были столь многочисленны, что дети потеряли им счет: «Ребенок становился ворчливым, невнимательным, непослушным, постоянно ищущим оправдания, чаще всего оправдания внутренние. Все осыпались насмешками: чехи, немцы и евреи тоже, домашние слуги, служащие магазина, ближайшие друзья детей: Макс Брод — «экзальтированный, meschugge», актер Исхак Лёви («который спит с собаками и ловит блох»), сами дети: «От господина сына этого конечно не дождешься». Все, что казалось интересным для детей, тотчас же обращалось в насмешку: «Я уже видел кое-что и получше!» или «Тоже мне событие!». Когда Кафка посвятил отцу свой сборник рассказов «Сельский врач», его попросили, вместо всякой благодарности, положить книгу на ночной столик и больше никогда не раскрыли ее, что в данном случае не было таким уже безрассудным, так как плохое мнение Германа Кафки о своем сыне могло бы еще больше ухудшиться, если бы он прочел эту книгу.
Кафка сказал о том, каким был эффект этой постоянной злобы, этого глупого высокомерия, этой перманентной агрессивности: он потерял всякое доверие к себе, он чувствовал себя виноватым, утратил способность свободно говорить: «Я бы, конечно, и без того не стал великим оратором, однако обычным беглым человеческим разговором я все же овладел бы. Но Ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза: «Не возражать!» — и поднятая при этом рука сопровождают меня с незапамятных времен. Когда речь идет о Твоих собственных делах, ты отличный оратор, а меня Ты наделил запинающейся, заикающейся манерой разговаривать, но и это было для Тебя слишком, в конце концов я замолчал, сперва, возможно из упрямства, а затем потому, что при Тебе я не мог ни думать, ни говорить». Оставим на время в стороне ту роль, которую сыграл в этом воспитании ложный семейный иудаизм, те последствия, которые это воспитание повлекло за собой в сексуальной жизни Кафки — эти важные темы появятся в свое время.
Остановимся на письме Кафки отцу, которое остается уникальным явлением, поскольку надо было быть очень наивным, чтобы надеяться преодолеть при помощи письменных аргументов многие годы недоразумений и ненависти. Кафка же был кем угодно, только не наивным, он не питал иллюзий относительно смысла и успеха своего писания: «Разумеется, — говорит он сам, — в действительности все не может так последовательно вытекать одно из другого, как доказательства в моем письме, жизнь сложнее пасьянса…» Самое большее, чего он мог ожидать от этого воображаемого диалога, — немного успокоить своего отца и самого себя и, как он пишет, «облегчить нам жизнь и смерть». В этой своей надежде он, однако, заблуждался; здравый смысл в последний момент помешал ему передать это послание в руки адресату. Герман Кафка ничего не понял бы в этих словесных тонкостях; несомненно, он не захотел бы влезать в этот лабиринт, а если бы, вопреки всякому ожиданию, он прочел бы и понял, то почувствовал бы себя потом, наверное, более чужим своему сыну, чем когда бы то ни было.
Макс Брод квалифицирует это письмо как аналитическое, что совершенно неверно, ибо если и есть что-либо невозможное, так это собственный психоанализ. Во всех этих страницах нет никакой апелляции к бессознательному: все разворачивается в полной ясности сознания, с безжалостной отчетливостью, которая не щадит ни получателя письма, ни его автора. Ибо за грубостью и абсурдной педагогикой отца Кафка чувствует другую реальность. «По сути своей ты добрый и мягкий человек /…/, - пишет он, — но не каждый ребенок способен терпеливо и безбоязненно доискиваться скрытой доброты… У Тебя особенно красивая, редкая улыбка — тихая, спокойная, доброжелательная, она может совершенно осчастливить того, к кому она относится». Кафка признает, что этот человек, который столь постоянно прибегал к брани, лично его никогда не оскорблял; этот вспыльчивый человек никогда не бил своих детей; случалось, он снимал свои подтяжки с таким видом, будто хотел воспользоваться ими как бичом, но никогда ни приводил свою угрозу в исполнение. В его поведении был элемент игры, игры, несомненно, порочной, которую распознает взрослый Кафка, но на которую поддался, будучи ребенком, например, когда его отец бегал вокруг стола, делая вид, будто хочет поймать того или иного из своих детей. Многим детям удавалось преодолеть и проанализировать свой страх, воспринимая его как ложное очарование ужаса.
Признавая, что ему это не удалось, Кафка, по правде говоря, скорее, ведет свой собственный судебный процесс, чем процесс своего отца. И, кстати, с присущей ему проницательностью, он повторяет во многих местах, что при другом отце он, несомненно, не слишком отличался бы от того, каким он стал в действительности. Это характерный для него образ мышления. Уже за девять лет до «Письма отцу» в одном из повествовательных фрагментов, который фигурирует на первых страницах его «Дневника», он делает вид, что обвиняет самых разных лиц в том, что они якобы оказали негативное влияние на его воспитание, — своих отца и мать, нескольких родственников, нескольких посетителей их дома, разных писателей, некую кухарку, которая водила его в школу целый год, школьного инспектора, прохожих, которые шли недостаточно быстро… В перечислении узнаваемы многие реальные лица, но нагромождение виновных делает обвинение смехотворным.
Точно так же в «Письме отцу» Кафка сам признал, что оно содержит многочисленные адвокатские уловки: за видимостью выкладывания карт на стол таится задняя мысль. Он обвинял отца только для того, чтобы оправдать сына. Но эта недобросовестность сама по себе является всего лишь моментом, вскоре преодоленным в этой туманной диалектике. Повествователь признает ее, анализирует и подчеркивает. В конце, в длинной прозопопее он делает вид, будто дает слово своему отцу, который без труда разрушает доводы обвинения, ухищрения слабости. «Письмо отцу» — всего лишь мгновение диалога с недоступным отцом, но это уже, без сомнения, успех, который оправдывает сам диалог. Диалог воображаемый, потому что никакой другой диалог был невозможен.
Само собой понятно, что при таком необузданном отце Кафка искал покровительства у своей матери. Мы находим в «Дневнике» за 1911 год запись почти прустовской манеры: «Уже довольно давно я сетую на то, что постоянно болен, никогда, впрочем, не имея конкретной болезни, которая заставила бы меня лечь в постель. Это желание, конечно, по большей части проистекает из того факта, что я знаю, в какой мере моя мать способна утешить, когда, например, она выходит из освещенной гостиной, чтобы войти в полумрак комнаты, отведенной для больного; или вечером, когда день начинает превращаться в ночь, она возвращается из магазина со своими заботами и поспешными распоряжениями и дает новый старт клонящемуся к вечеру дню, и приглашает больного помочь ей. Вот то, что я желал бы вновь обрести, потому что, если бы я был слаб и, следовательно, убежден во всем, что сделала бы моя мать, я вновь обрел бы радости детства с более трезвой способностью к наслаждениям, которую дает зрелый возраст». А впрочем, знал ли он когда-либо эту детскую нежность, о которой здесь вздыхает? В этом можно усомниться, читая дальше текст дневника с подобным признанием: «Вчера я думал о том, что не всегда любил свою мать так, как она того заслуживала, и так, как я мог бы это делать…» Он мечтает о встрече, которой был лишен, и в соответствии со своей обычной склонностью возлагает ответственность за неудачу на самого себя. Довод, на который он здесь ссылается, сводится к тому, что немецкое слово Mutter слишком грубое и слишком холодное, чтобы выразить тесную связь между матерью и сыном, характерную для еврейской семьи. Иначе говоря, в семействе германизированных Кафок естественная нежность, та самая, к которой мы, дети или взрослые, стремимся, была запретной, заторможенной, невозможной Конечно, Юлия Кафка любила своего старшего сына, скорее, своего единственного сына, так как два мальчика, которые родились после него, прожили недолго. Конечно, она служила определенным барьером между своим мужем и сыном. Известно также, что, после того как Макс Брод сказал ей о том, что Франц вынашивает планы самоубийства из-за того, что его заставляют управлять асбестовым заводом, от которого он ничего хорошего не ждал и который внушал ему ужас, она решилась на ложь. Она внушила отцу, что Франц грустен оттого, что каждый день ходит на завод. Кафка ничего об этом не знает; он знает, что мать «балует» его и старается его защитить. Но он также знает, что она не подозревает, каков он: она думает, что нет никаких оснований отчаиваться насчет его будущего, что его ложные идеи со временем исчезнут, что его чрезмерное пристрастие к литературе поуляжется и что, когда придет время, женитьба все уладит. Впрочем, видят ее мало: весь день она работает в магазине и появляется только вечером к ужину. Но, главное, что бы она ни делала, она всегда ближе к своему мужу, чем к кому бы то ни было. Образцовая пара, пишет Кафка, которая могла бы обескуражить всех тех, кто хотел бы ей подражать. «Моя мать, — говорит он Фелице Бауэр, — возлюбленная рабыня моего отца, моего влюбленного отца, который тиранит ее». У этой доброй, слабой, уступчивой женщины (как показывают несколько сохранившихся ее писем) лучшие намерения сводятся на нет и углубляют беду. «Верно, мать была безгранично добра ко мне, — пишет Кафка в «Письме отцу», — но все это для меня находилось в связи с Тобой, следовательно, — в недоброй связи. Мать невольно играла роль загонщика на охоте. Если упрямство, неприязнь и даже ненависть, вызванные во мне Твоим воспитанием, каким-то невероятным образом и могли бы помочь мне стать на собственные ноги, то мать сглаживала все добротой, разумными речами /…/, своим заступничеством, и снова я оказывался загнанным в Твой круг, из которого, возможно, и вырвался бы, к Твоей и своей пользе. Бывало, что дело не заканчивалось настоящим примирением, мать просто втайне от Тебя защищала меня, втайне что-то давала, что-то разрешала, — тогда я снова оказывался перед Тобой преступником, сознающим свою вину, обманщиком, который по своему ничтожеству, лишь окольными путями может добиться даже того, на что имеет право». Здесь явно просматривается тенденциозность суждений: все, что касается отца, проклято, добрые чувства извращены, все становится подозрительным, начиная с материнской любви. В этом мире страстей трудно взвешивать достоинства и недостатки. Как прочертить правильный путь между грубостью отца, ненавистью сына, бессильной добротой матери? И кому присуща наибольшая слабость? Никто не сможет сказать, что Кафка был лишен материнской любви, но он, приниженный ненавистью и страхом, страхом, который его мать, возможно, тоже испытывала, — не доверял этой любви, отвергал ее как компромисс, как внутреннюю трусость в противостоянии отцу, который один принимался в расчет. Франц Кафка отвергал утешение, душевную теплоту (о которой, как мы видели, он в то же время мечтал). И боязнь, холодность Франца в свою очередь парализовали робкие попытки нежности его матери так, что их разделяло постоянное непонимание. Об этом свидетельствуют несколько строк постскриптума в письме к Фелице: «Я собирался раздеться, когда за какой-то безделицей вошла моя мать и, прежде чем уйти, она меня поцеловала, пожелав спокойной ночи. «Вот благо», — говорю я. «Я никогда не смела, — сказала моя мать, — я думала, что ты этого не любишь. Но поскольку тебе это нравится, мне тоже». Вспоминая эту историю, много говорили, разумеется, об эдиповской ситуации. Очевидно, что этот общепринятый лексикон не совсем вяжется здесь с одним нюансом: мать отвергнута вместе с отцом. И, может быть, вследствие этого гомосексуальное влечение оказалось отвергнутым с самого начала.
Одиночество вокруг Кафки усиливалось. И даже сестры не очень-то помогали ему выйти из него. Он мало говорит о Валли, второй сестре, которая не слишком много значила в его жизни. О старшей, Элли, напротив, он говорит весьма язвительно: «…Она была таким неуклюжим, вялым, боязливым, угрюмым, пришибленным сознанием своей вины, безропотным, злым, ленивым, охочим до лакомств, жадным ребенком. Я не мог видеть ее, не то что говорить с ней, настолько она напоминала мне меня самого, настолько сильно она находилась под воздействием того же воспитания. Особенно отвратительна для меня была ее жадность, потому что сам я был, кажется, еще более жадным». Их общая судьба, далекая от того, чтобы сближать, разделила их. И только Оттла действительно шла в счет, но она была на девять лет младше него, и их взаимная привязанность долго оставалась привязанностью взрослого к ребенку.
Листая страницу за страницей в «Дневнике», мы находим гримасничающий образ семейного очага, оглушительного гама, который царил там, с мрачной партией в карты, криками племянников и племянниц, которых бранят или ласкают, — этих раздражавших и немного пугавших его детей. И он остается узником семейного очага, как остается узником Праги. Лишь в тридцать один год у него появится комната вдали от родителей, к которым, впрочем, его вскоре снова вернет болезнь. Описания этого ада многочисленны, но ни в одном из них он не заходит столь далеко, как в том, которое он сделал однажды в октябре 1916 года в письме Фелице Бауэр. Между ней и Кафкой, казалось, установилось хрупкое согласие, достаточное для того, чтобы ввести Фелицу в семью. А она только что написала Кафке, что ее присутствие за семейным столом «не такое уж удовольствие». Он отвечает ей, и этот ответ кажется ему столь важным, что он переписывает его в свой «Дневник»: «Ты, конечно, выражаешь свое мнение, справедливо не беря в расчет того, радует это меня или нет. Так вот, это меня не радует. Конечно, я радовался бы еще меньше, если бы ты написала прямо противоположное». Он объясняется: «Я, который почти во всем не самостоятелен, бесконечно жажду самостоятельности, независимости, всесторонней свободы; лучше уж нацепить шоры на глаза и идти до конца своей дорогой, чем жить в этой домашней круговерти, заслоняющей мне перспективу. Поэтому каждое слово, которое я говорю своим родителям или которое они говорят мне, легко становится бревном, падающим мне под ноги. Любая связь с человеком, выбранным не мною, — даже если при этом я отрицаю частицу своего «Я», — ничего не стоит, мешает мне идти вперед, я начинаю ее ненавидеть или близок к ненависти». Так, наиболее естественная связь — родственная: «Бывает, что я буквально преследую родных своей ненавистью; один вид семейного ложа, мятого белья, заботливо разложенных ночных сорочек может довести меня чуть ли не до рвоты, вывернуть мое нутро наизнанку, мне кажется тогда, что я все еще не родился окончательно, что каждый раз я заново рождаюсь на свет в этой затхлой жизни, в этой затхлой комнате; я постоянно должен находить подтверждение, что я связан с этими отвратительными вещами, если не всецело, то частично и неразрывно; они, как гири, нависли на моих ногах, жаждущих убежать, они комьями торчат в моей детской бесформенной каше». Кто стал бы отрицать здесь воскрешение эдиповских тем? Именно в супружеской постели гнездится ужас семейного очага.
На ум приходит отрывок из «Превращения», где в сцене побивания камнями, когда отец Грегора Замзы бомбардирует своего сына яблоками, в ночной рубашке появляется мать и принимает участие, по крайней мере пассивное, в избиении. Даже Оттла, обычно щадимая, не избежала всеобъемлющего взрыва ненависти в письме к Фелице: «Оттла иногда кажется мне такой, какой я хотел бы видеть мать: чистой, правдивой, честной, логичной, одновременно смиренной и гордой, чувствительной и сдержанной, полной самопожертвования и самостоятельности, робости и мужества, — и все это в полной гармонии. Я упоминаю Оттлу, потому что в ней также живет моя мать, хотя и совершенно неузнаваемая. Итак, я хотел бы видеть их достойными. Поэтому их неопрятность кажется мне во сто крат хуже, чем она, вероятно, есть на самом деле, а их ограниченность — во сто крат больше, и так же их смехотворность, и так же их грубость. Хорошие черты в них, напротив кажутся мне во сто раз мельче, чем в действительности». Все в этом письме вращается вокруг плоти и зачатия; это сама жизнь, гнусная, отвратительная, такая, какой она воплощается и обновляется в семье. И то же самое отвращение к телу появляется в отрывке «Письма отцу», в котором он описывает, как тот вел себя за столом: «За столом следует заниматься только едой — Ты же чистил и обрезал ногти, точил карандаши, ковырял зубочисткой в ушах». Причиной этих мрачных суждений может быть недоверчивый характер Германа Кафки. Но мысль Франца Кафки уносит его по ту сторону образа, который представляет его собственная семья.
Однако в письме к Фелице Бауэр есть не только этот взрыв ненависти. Есть другая потребность, которая обеспечивает ему равновесие: «Я вновь сознаю, что это мои родители, необходимые части моего существа, дарующие мне силу, что они для меня не только препятствие, но и самые близкие мне люди. Тогда я хочу, чтобы они были самыми лучшими; если с незапамятных времен, в своей злобе, невоспитанности, эгоистичности и неспособности любить я все же дрожал перед ними — и продолжаю дрожать до сих пор, потому что отвыкнуть от этого невозможно; если они, с одной стороны мать, а с другой — отец, все же неизбежно и почти полностью сумели сломить мою волю, то я хочу, чтобы в моих глазах они были этого достойны». И дальше, в том же письме: «Я… постоянно стою перед своей семьей, и широко размахивая ножом, пытаюсь одновременно их и ранить и защитить». Следует оставить на совести автора туманность и одновременно резкость этих высказываний. Если мы довольствуемся тем, что скажем, будто ненависть Кафки по отношению к своим родителям держалась на обязанности уважать их и подчиняться им, мы окажемся далеки от сути его мысли. Он хочет сказать, что жизнь одновременно гнусна и неоспорима в том смысле, о котором говорит афоризм, сформулированный им в прошлом году: «Что нам не хватает веры, нельзя сказать. Сам факт нашей жизни имеет для веры неисчерпаемое значение — «При чем тут вера?» Ведь нельзя же не жить. Именно в этом «нельзя же» и заключена безумная сила веры; в этом отрицании она получает облик». Именно в отсутствии любви Кафка учится любви. Или, скорее, именно проходя через ненависть, Кафка испытывает реальность любви. Потому что он любит этого ненавистного отца, он восхищается его мужественностью, его энергией. Это его модель и его горизонт. Ужасное письмо, которое он ему адресует, на самом деле есть мольба: он выпрашивает без надежды любви, которой чувствует себя лишенным, и, выпрашивая ее, отталкивает навсегда, понимая, что он ее отталкивает.
Ненависть и любовь не те понятия, между которыми колеблются, как придется Кафке колебаться между преимуществами и издержками безбрачия и супружества. С ними надо жить одновременно. Причем между ними не существует ни равновесия, ни синтеза. Это противоречие, в котором оба компонента одинаково необходимы. Созданы все условия для появления невроза. Некоторые комментаторы «Приговора» раздражены поведением Георга Бендемана, героя этой истории. Как он мог повиноваться приказаниям отца, столь явно старого и злого? Почему он идет топиться в реке? Не предпочтительнее был бы большой бунт? Может быть, и Кафка некоторое время был недалек от этой мысли: имей он немного больше энергии, он заменил бы бунтом подспудную и безысходную борьбу. Но он сделал другой выбор, и с неврозом, который его разрушит, он создает свое произведение.
Перед своим отцом, перед жизнью Кафка слаб. Он плохо вооружен для борьбы, он обречен на неудачу, и он живет, зная это. Но когда мы смотрим на его лицо с глубоким взглядом, обращенным внутрь, мы находим в нем не слабость, а, напротив, энергию, суровость, твердость. Эти добродетели породила жалкая семейная келья.
III
Первые шаги
«Я всегда недоволен, даже своим удовлетворением…»
Заметки Кафки о делах семейных бесчисленны. Его воспоминания о школе, напротив, очень редки. Биографы писателя чувствуют себя обделенными также при описании первых двадцати лет его жизни. После этого возраста нам помогают его собственные записи; до этого нет ничего. Пришлось обращаться к свидетельствам, поскольку были еще живы близкие к нему современники, которых мы опросили — и правильно сделали. Предпринятая попытка, однако, разочаровала: не удалось узнать ничего нового или почти ничего. Прежде всего потому, что всякое свидетельство, как хорошо известно, сомнительно, и в самом деле, представленные воспоминания часто направляли исследования по ложному следу и заводили их в тупик. В данном случае, еще и потому, что свидетели мало что могли сказать. Кафка-подросток, Кафка-юноша был из тех, кого не очень-то примечают. Его соученик Эмиль Утиц, подтверждая это, пишет: «То, что я могу рассказать о Кафке, не Бог весть что. Я знал о его человеческих качествах, но к своему стыду должен признать, что лишь значительно позже я узнал в нем поэта /…/. Его развитие было из числа наиболее незаметных и наименее ярких. Если мне и следует что-то сказать насчет характеристики Кафки, так только то, что в нем не было ничего поразительного». А это, кстати, говорит тот самый Утиц, который сообщает о наиболее правдоподобной его черте: «Мы все его любили и ценили, но никогда мы не могли быть с ним полностью откровенными, он всегда будто окружен какой-то стеклянной стеной. Со своей спокойной и любезной улыбкой он позволял миру приходить к нему, но сам был закрыт для мира». Утиц говорит о стеклянной стене; в «Hope» — произведении последних лет — Кафка рисует для животного, изображенного в рассказе, еще более скрытое и неприступное убежище: «Один из этих любимых планов состоял в том, чтобы отделить укрепленную площадку от окружающей земли, то есть оставить ее стены толщиной, примерно равной моему росту, и создать вокруг укрепленной площадки пустое пространство, соответствующее размерам стен, все же сохранив, увы, маленький, неотделимый от земли фундамент. Это пустое пространство я всегда рисовал себе — и не без основания — как самое лучшее место для жизни, какое только могло существовать для меня».
Позднее другие сообщат намного больше подробностей, повторят гораздо больше пересудов. И какое-то время их будут принимать всерьез. Так, о последних годах жизни Кафки мы располагаем воспоминаниями некоего Густава Яноуха, который был в то время очень молодым человеком и который встречал Франца всего лишь три или четыре раза. Любой, кто читал его книгу, с трудом узнавал Кафку в этих прямолинейных суждениях, в этом назидательном тоне. Сегодня известно, что все или почти все в этой книге ложно, Яноух дошел даже до того, что приписал Кафке изречения Троцкого. Благоразумие призывает нас полностью отказаться от его свидетельства, не вдаваясь в подробности и не пытаясь отделить правду от вымысла. Но мы к нему еще вернемся.
Лучше в основном придерживаться того, что говорит сам Кафка, не отбрасывая, впрочем, те редкие показания свидетелей, которые действительно могут быть полезными. О первых годах его жизни неизвестно практически ничего. Мы знаем только, что Юлия Кафка была весь день занята в магазине и что Франц оставался дома один со слугами. Мы не видим каких-либо других детей его возраста, которые могли бы составить ему компанию: с первых минут своей жизни он проходит школу одиночества. «Я долго оставался один, — пишет он Фелице, — сражаясь с кормилицами, старыми няньками, сварливыми кухарками и скучными гувернантками». А в другой раз, когда он только что расхваливал Фелице приятные стороны одиночества, он добавляет: «Я хорошо знаю, что был очень одинок, когда был маленьким, но тогда это было по принуждению, редко бездумное счастье; сегодня я бросаюсь в одиночество, как вода в море». Челядь состояла из Марии Вернер, Wirtschafterin, иначе говоря, служанки на все руки. Ее звали das Freulein, фрейлейн, девушкой; в аналогичной среде французских евреев ее бы просто называли «девкой». Это была еврейка, говорившая только по-чешски; она долгие годы оставалась на службе у семьи, говорят даже, она умела не опускать головы перед ужасным Германом Кафкой. Кроме нее, была еще кухарка; была также еще кормилица, замененная нянькой; когда подросли дочери, немного позднее пригласили еще и гувернантку, мадемуазель Байи, француженку, в обязанность которой входило обучение своему родному языку; о ней представится возможность поговорить немного дальше. Глядя на этот домашний уклад, нельзя делать вывод, что семейство Кафки жило в богатстве: многочисленная челядь в то время была признаком среднего достатка. Впрочем, смешно квалифицировать положение семейства как «полупролетарское», что уже делалось. Четверть века спустя Францу Кафке удастся подслушать разговор между тремя слугами: бывшая няня, «смугло-желтая лицом, с резко очерченным носом и столь милой мне некогда бородавкой на щеке» пришла повидать его, а он предпочел не показаться. «Почему, — пишет он в своем «Дневнике», — она так плохо воспитала меня, я ведь был послушным, она сама сейчас говорит об этом в передней кухарке и горничной, у меня был спокойный и покладистый нрав? Почему она не употребила этого мне на благо и не уготовила мне лучшего будущего? Она замужем или вдова, имеет детей, у нее живой язык, не дающий мне заснуть, она уверена, что я высокий, здоровый господин в прекрасном возрасте — двадцати восьми лет, охотно вспоминаю свою юность и вообще знаю, что с собой делать». И он добавляет: «А я лежу здесь на диване, одним пинком вышвырнутый из мира, подстерегаю сон, который не хочет прийти, а если придет, то лишь коснется меня, мои суставы болят от усталости, мое худое тело изматывает дрожь волнений, смысл которых оно не смеет ясно осознать, в висках стучит. А тут у моей двери стоят три женщины, одна хвалит меня, каким я был, две — какой я есть. Кухарка говорит, что я сразу — она имеет в виду прямиком, без обходных путей — попаду в рай. Так оно и будет». Здесь не скажешь, что речь идет о недоброжелательности — Кафка окружен атмосферой заботливости и приветливости, но он воспринимает свое окружение как чуждое и враждебное.
Вспоминая впоследствии в «Дневнике» о семейной игре в карты по вечерам, от участия в которой он, несмотря на приглашения отца, отказывался, Кафка ретроспективно анализирует свое поведение: «Приглашения открывали мне доступ в общество, в известной мере к общественной жизни, с занятием, которого от меня как участника требовали, я справился бы если не хорошо, то сносно, игра, наверное, даже и не слишком наводила на меня скуку — и все-таки я отказывался. Если судить по этому, я не прав, жалуясь, что жизненный поток никогда не захватывал меня, никогда я не мог оторваться от Праги, никогда меня не заставляли заниматься спортом или каким-нибудь ремеслом и тому подобное, — я бы, наверное, всегда отклонял приглашение к игре. Лишь бессмысленное мне было доступно /…/». Биографу нет необходимости стараться уличить Кафку в ошибке, когда он обвиняет свою несчастную судьбу: он сам первый обвиняет себя, он отлично знает, что сам творец своего несчастья. Он хорошо знает, что сам сделал свой выбор, но, конечно, повинуясь потребностям, над которыми был не властен.
Нельзя сказать, что семья руководила его воспитанием, но, как бы там ни было, оно осуществлялось в ее лоне. Когда в 1921 году его старшая сестра Элли Германн попросит у него совета относительно воспитания своего мальчика Феликса, которому только что исполнилось десять лет, Кафка посоветует ей разлучиться с ним, отправить его в одну из школ, на свежий воздух, подальше от эгоизма домашнего очага, подальше от «клетки взрослых», подальше от «животного сродства» семьи, где под покровом «тяжелой нездоровой атмосферы кокетливо украшенной семейной комнаты таится настоящий «духовный инцест» и где ребенку не остается ничего другого, как зачахнуть». Теория, которую она находит в «Путешествиях Гулливера», «подкрепляется» здесь старой обидой. Но со времени своего собственного детства его преследовало ощущение неправильного воспитания, которое ему довелось претерпеть.
Но в данный момент он сам еще всего лишь маленький школьник. В сентябре 1889 года — ему шесть лет — его впервые ведут в начальную немецкую школу на Флейшмаркт, мясном рынке. Семья переехала на новое место: сейчас она поселилась в доме «Минута», красивом здании времен Ренессанса, расположенном между Малой и Большой площадями. Путь через Старый город недолог, и обычно его сопровождает кухарка. Чтобы немного напугать его, она постоянно грозит ему, что расскажет учителю обо всех глупостях, сделанных им в течение дня. Нет ребенка, над которым когда-нибудь не посмеивались бы подобным образом, и было бы бесполезным передавать этот невинный анекдот, если бы он сам не рассказал его подробно тридцать восемь лет спустя в одном из писем к Милене. Он отчетливо вспоминает черты кухарки, «маленькой, высохшей, тощей, с желтой кожей, остроконечным носом, впалыми щеками, но крепкой энергичной женщины, держащейся с видом превосходства»; это была особа, которую нужно было уважать, конечно, меньше, чем учителя, человека в высшей степени уважаемого, и над ней можно было взять верх, рассказав родителям о ее угрозах. Однако та же самая угроза повторялась каждый день.
Она никогда не приводилась в исполнение, но с каждым днем становилась все более правдоподобной. «Я цеплялся за порталы лавок, за каменные рекламные тумбы на улицах, я не хотел идти, пока она меня не простит, я хватался за ее юбку (я тоже осложнял ей жизнь), но она тащила меня, заверяя, что расскажет обо всем этом учителю…» История эта весьма безобидная, и Кафка рассказывает ее с юмором. И в то же время она передает страхи его детства, чувство виновности, неверия в себя среди всех строго иерархизированных сил Вселенной. Таким видит себя Кафка или, по меньшей мере, ту часть себя, о которой он решает поведать другим. Это образ себя самого, который он хочет представить: таким он был в шесть лет, таким он и остался. В конце 1919 года он вспоминает слова одного из своих учителей, Маттиаса Бека, посоветовавшего его родителям, чтобы их сын проучился год в пятом классе начальной школы, прежде чем отправить его в гимназию: «Он слишком слаб, такая чрезмерная спешка потом отомстит за себя». Это мнение, которое школьные учителя высказывают часто, но Кафка хочет услышать в нем некое пророчество: «Действительно, я рос, как слишком быстро вытянувшиеся и забытые саженцы, с известным артистическим изяществом уклоняясь от сквозняков; если угодно, есть даже что-то притягательное в этих движениях, но не более того». Здесь нет больше страха перед другими или недоверия к себе, это слабость, слабость тела и неотделимая от нее слабость духа, которая приговаривает его к смерти. Детство, каким его воспринимает или воссоздает взрослый Кафка, используется для того, чтобы открыть в самом начале признаки или симптомы его болезни.
К мнению Маттиаса Бека все же не прислушались: Кафка поступил в лицей в десять лет. Поскольку он пропустил пятый класс начальной школы, надо было подвергнуться небольшому вступительному экзамену по немецкому языку, по религии и по математике. Это испытание, вероятно, он выдержал без труда. И Кафка даже оказался одним из самых юных: большинство его соучеников было на год или два старше него. Вот так Кафка оказался в Государственной гимназии с немецким языком обучения Старого города, расположенной внутри дворца Кински, того самого, где позднее его отец откроет свой магазин. Контингент этого лицея Старого города по большей части составляли евреи: тридцать учеников на тридцать девять первого года обучения, семнадцать на двадцать четыре в выпускном классе. Предпринимались попытки, конечно безуспешные, отыскать имена преподавателей, которые обучали Кафку, — он никогда не упоминает о них, и, похоже, немногие из них того заслуживают. Единственной личностью, которая, кажется, выделялась на общем фоне, был Эмиль Гшвинд, священник, который преподавал древние языки и под именем «пропедевтики» некоторые элементы философии. Он жил в религиозной общине и по воскресеньям принимал у себя учеников, чтобы обсудить с ними то, что они прочитали. Однажды в 1915 году, когда Кафка переживал творческий кризис и задавался вопросом, будет ли с ним то же самое в любой наемной комнате в любом городе, он вновь думает о своем старом учителе и записывает в «Дневнике»: «Две комнаты моего профессора в монастыре». Словно жилище Гшвинда представлялось ему местом сосредоточенности и плодотворной работы. Еще более бесполезным делом было исследовать школьные учебники, использовавшиеся в гимназии Старого Города, в надежде найти в них источник вдохновения для будущего творчества, поиски, как и следовало ожидать, оказались напрасными. Были также попытки представить систему обучения в лицее как ретроградную и скучную: поскольку Франц Кафка был жертвой семейной тирании, необходимо было, чтобы затем он оказался и жертвой тирании школьной. Впрочем, сам он никогда ничего подобного не говорил. Правда, в одном из рассказов, который не устают цитировать и который уже был упомянут выше, рассказчик среди прочих людей, ответственных за его плохое воспитание, обвиняет и своих преподавателей, но при этом забывают, что это произведение отнюдь не автобиографическое, а литературный текст и, кроме того, юмористическое нравоучение, которое разрушается по мере повествования. И никто из тех соучеников Кафки, которые излагали письменно свои воспоминания, не критиковал методы обучения в гимназии. Чтобы это сделать, необходимо обратиться к толкам и пересудам полувековой — времен Кафки — давности. Гимназия Старого Города была, безусловно, классическим лицеем, в котором упор делался на изучение литературных дисциплин и древних языков. Этот «гуманизм», впрочем, был столь пустым и безжизненным, что значительно позднее Кафка продолжил вместе с Максом Бродом, который об этом говорит, читать Платона в подлиннике. Некоторые вскрикивали от удивления, узнав о «наводящих ужас», 467 стихах, которые ученики должны были выучить наизусть за год. Впрочем, в этом достижении нет ничего, что заставило бы вздрогнуть. Уровень литературного образования во времена Кафки не был выше, чем в эпоху Гете или Грильпарцера; но что другое могли читать в Австрии в 1893 году, если не новые произведения, особенно трудные для лицеиста? Нет, если Кафка и не чувствовал себя счастливым, учась в школе, то не значит, что следует обвинять в этом гимназию. Просто сам Кафка сомневается в себе и испытывает постоянное чувство, будто находится на грани провала. Дважды — в одном из фрагментов «Дневника» начала 1912 года, потом в «Письме отцу» в 1919 году — он рассказывает, что каждый год был убежден в том, что провалится на экзамене и не будет принят в следующий класс, а так как ничего такого не происходило, он был уверен, что на выпускном экзамене его полное невежество проявится на глазах у всех. Так что жил он в постоянном страхе. Например, он рассказывает в одном из писем к Милене об ужасах урока счета: преподаватель ищет его фамилию в своем журнале, Кафка вызван к доске, потом он делает вид, что забыл свою книгу логарифмов и т. д. Просмотренные журналы гимназии свидетельствуют, что эти страхи не имели под собой основания: если Кафка и не входил в число лучших учеников класса, то во всяком случае он числился среди тех, кого называли «блестящими учениками», у него никогда не было посредственных оценок по главным предметам. Лишь в старших классах его слабость в математике стала более ощутимой и могла причинять ему некоторые неприятности. Тем не менее за пессимистическими оценками своих интеллектуальных способностей не следует видеть кокетство или позерство: таким он был всюду, таким он был в школе — одновременно послушным и неуверенным в себе, покорным и несчастным, дрожащим как перед будущим, так и перед настоящим. Правда, его не баловали. Кроме двух обязательных часов чешского языка, где он пополнял знания, полученные дома, и изучения французского, который ему преподавала гувернантка мадемуазель Байи, его также заставляли брать уроки музыки, судя по туманным намекам, оброненным то тут, то там, похоже, это было пианино, затем скрипка.
Впрочем, делалось это совершенно напрасно, так как он был совершенно закрыт для музыки: «Мой учитель игры на скрипке, — рассказывает он Фелице Бауэр, — приведенный в отчаяние полным отсутствием у меня музыкального слуха, предпочитал заставлять меня прыгать через палку, которую держал он сам, и мои успехи в музыке заключались в том, что от урока к уроку он поднимал палку немного выше». Одно время даже стоял вопрос об обучении его танцам, к чему мы еще вернемся, но от этой затеи пришлось отказаться. Что до рисования, к которому он чувствовал вкус, то, похоже, он увлекся им только по завершении среднего образования. «Ты знаешь, — писал он однажды Фелице, — я был когда-то великим рисовальщиком, но затем я стал брать уроки у одной женщины, которая была плохим живописцем и учила по-школярски, и я загубил понапрасну свой талант. Подумай только! Но постой, я собираюсь послать тебе на днях несколько старых рисунков, чтобы ты увидела их. В свое время, довольно давно (письмо датировано 1913 годом), эти рисунки доставили мне больше удовлетворения, чем что-либо другое». О занятиях Кафки рисованием мы больше ничего не знаем, неизвестно, кто был этим плохим учителем рисования и когда имели место эти уроки, — вероятно, в университетские годы Кафки. Известны лишь рисунки, которые Кафка набрасывал на полях своих рукописей и в некоторых своих письмах: похожие на карикатуру, едкие и шутливые одновременно, нескладные в исполнении, но свидетельствующие о живой остроте взгляда, редком чувстве динамики и выразительности.
Вот такими были лицейские годы или, по крайней мере, какими мы их знаем. Несомненно, было бы неверно, исходя из рассказов Кафки, с его склонностью к самокритике и к некоторой снисходительности по отношению к собственной слабости, представлять его мизантропом, избегающим общения с другими или сторонящимся своих соучеников. Если, как пишет о нем Эмиль Утиц, Франц не поддерживал ни с кем из своих товарищей такой дружбы, какая связывала его позднее с Максом Бродом, то у него все же были хорошие отношения с большинством из них. Впрочем, в этом классе гимназии Старого города было много личностей, которые выделялись на общем фоне. Элиту класса составляли Гуго Бергманн и Эмиль Утиц. Первый, кто станет преподавателем философии в Еврейском университете Иерусалима, потом ректором этого университета, уже в то время вращался в сионистских кругах, от которых Кафка был очень далек. Именно у него, как свидетельствует Макс Брод, Кафка списывал свои домашние задания по математике. Один раз он упоминает в своем «Дневнике» о том, как однажды имел долгую дискуссию с Бергманном о существовании Бога, именуемую им, однако, философскими умствованиями, которые обожают подростки. Прельщенный в то время спинозизмом, он, похоже, отстаивал пантеистические взгляды. Впрочем, к 1899 году они очень отдалились друг от друга. И лишь в 1923 году, когда Бергманн вернулся из Палестины и выступал в Праге с публичной лекцией о положении культуры в этой стране, они встретились снова. По окончании доклада Кафка, заинтересовавшийся в это время сионистскими идеями, подошел пожать руку оратору и с жаром сказал ему: «Ты устроил эту лекцию для меня одного». Другой, Эмиль Утиц, который опубликует в восемнадцать лет под псевдонимом Эрнст Лиме и под громким названием «Последние загадки жизни» первый сборник стихов, тоже посвятил себя философии. Он будет преподавать в Галле и в Праге, прежде чем его депортируют в Терезиенштадт. После войны он окажется в Германской Демократической Республике, где станет профессором и активистом компартии. Нельзя сказать точно, какой характер носила его дружба с Кафкой во время их учебы в гимназии. Но в одном из первых сохранившихся писем писателя речь идет о персонаже, названном «Нечестивцем в сердце своем». «Тот вскинул ресницы, — гласит текст, — и слова побежали из его уст. Это были изысканные господа в лаковых башмаках, английских галстуках и с блестящими пуговицами, и если бы тихонько спросить кого-то из них: «Знаешь ли ты, что такое изысканность?», тот ответил бы с усмешкой: «Еще бы, я ношу английские галстуки». Наряду с «Нечестивцем в сердце своем» есть другой персонаж — «стеснительный Ланге», который с трудом помещает свои длинные ноги под столом и в котором вскоре признали Кафку, «Нечестивца в сердце своем» Макс Брод уже давно идентифицировал с коварным и надменным Эмилем Утицем. Дружба между ними завязалась с конца 1902 года.
Должны быть названы и другие соученики. Считалось, что один из них, Рудольф Иллови, примыкавший к марксизму. Впрочем, прежде чем пристать к противоположному берегу, он на некоторое время увлек за собой и Кафку, из-за него тот якобы примкнул к антирелигиозному движению под названием «Свободная школа». Забыли только, так уж спешили завербовать Кафку в сферу политических течений и организаций, что Иллови покинул Гимназию в 1898 году и что движение «Свободная школа» было создано лишь пятью годами позже. Его имя вновь случайно появится в одном из писем к Милене. В нем он будет квалифицирован как «человек кроткий и чрезмерно скромный». «Он был моим лицейским товарищем, — напишет Кафка, — в течение уже многих лет я не написал ему ни одного слова». Он умрет в 1943 году в Терезиенштадте. Другим соучеником, с которым Кафка долгое время поддерживал отношения, был Поль Киш, который, кстати, придерживался совершенно противоположных взглядов. В то время как его брат Эгон Эрвин Киш заслужит репутацию политического писателя крайне левого толка, Поль Киш, единственный, кого Кафка навещал, примкнул к корпорации студентов, прозванных «цветными», то есть к одной из тех консервативных студенческих группировок, которые водружали на свои фуражки цвета клуба. Немного позже он будет приглашен в «Нойе фрайе Прессэ», очень официозную венскую газету. Другим учеником того же класса был Эдвард Феликс Прибрам, из очень приличной семьи: его отец был президентом Агентства (государственного) по страхованию рабочих от несчастных случаев. Кафка какое-то время будет поддерживать с ним контакты. Деталь одного из писем к Максу Броду (первого из тех, что сохранились) довольно хорошо показывает, впрочем, границы отношений, которые установились между ними: «Извини меня, — пишет Кафка, — я хотел доставить себе удовольствие и собрать вас вместе — Прибрама и тебя на одной вечеринке, так как я думал, что из этого могла бы выйти чудесная конфигурация: ты, охваченный вдохновением, делающий тонкие замечания, как ты это умеешь, когда собирается много людей; он, напротив, с рациональной дальновидностью, которая отмечает его подход к чему бы то ни было, исключая искусство, делающий соответствующие возражения». Но единственным из всех соучеников, с которым Кафка поддерживал настоящие дружеские отношения, был Оскар Поллак. Он станет ученым, историком искусства, обоснуется в Риме, будет работать в разных областях, но особенно над эпохой барокко. Поллак уйдет добровольцем на войну в 1914 году и погибнет в 1915 году на итальянском фронте. После его гибели посмертно будет опубликована его работа о художественном творчестве во времена папы Урбана VIII. По свидетельству Макса Брода, это была сильная, властная личность, довольно неизменчивая в своих манерах, категоричная в своих суждениях. Кафка не замедлил подпасть под его влияние, в чем нам предстоит убедиться.
Франц Кафка был ребенком, который быстро рос: вскоре после достижения отрочества его рост — 1,80 м, а затем достигает 1,82 м. Он стесняется своего высокого роста, ходит, как говорит он сам, сгорбившись, с перекошенными плечами, со стесненными движениями рук и кистей, он боится увидеть себя в зеркалах — до такой степени чувствует себя уродливым, но, добавляет он, зеркала не отражали в полной мере это уродство, в противном случае люди еще чаще оборачивались бы в его сторону. На самом же деле фотографии, которыми мы располагаем, запечатлели очень красивого юношу с печальным взглядом. Он был худым — «самым худым человеком, которого я знал», — скажет он Фелице в одном из своих первых писем. Когда он собирался поплавать в городском бассейне, он стыдился своего жалкого тела, своего «маленького скелета», который неуверенно двигался по подмосткам перед своим отцом, чьим великолепным телом он восхищался, который был для него «мерилом всех вещей» и с которым после купания он отправлялся выпить кружку пива. Этот чудесный миг он вспомнит в свои последние дни, когда потеряет голос и сможет лишь нацарапать на бумаге несколько слов. Родители не очень заботятся о его гардеробе; его одевают у посредственного портного, и он постоянно испытывает в одежде чувство скованности. Когда родители, желая брать для него уроки танцев, решают, что ему необходим фрак, он в ужасе отступает перед этой перспективой. Его стараются уговорить купить смокинг, но, когда он узнает, что для смокинга нужен жилет с вырезом и накрахмаленной манишкой, он вновь приходит в отчаяние — он хочет пиджак с шелковыми лацканами, но который должен быть закрыт сверху. Ему объясняют, что такого не существует. Он пробует отыскать желаемое у старьевщика, но, конечно, ему это не удается. Мы здесь так пространно рассказали об этом крошечном событии, потому что сам Кафка пересказывает его пространно и потому что это событие действительно превосходно передает глубокую и в конечном итоге продуктивную противоречивость его натуры: он страдает из-за своего одиночества, но в то же время его культивирует: «Я остался там, — пишет он, — осыпаемый упреками моей матери, навсегда (так как все в моих глазах было окончательно) в стороне от девушек, элегантных манер и удовольствия танца. Я испытывал радость по этому поводу и в то же время чувствовал себя жалким и боялся, кроме того, что окажусь посмешищем перед портным в большей степени, чем любой другой из его клиентов». Эта замкнутость на самом себе может быть представлена как некий извращенный поиск несчастья. И в самом деле, одной из устойчивых черт его судьбы является определенная склонность к саморазрушению.
Сексуальность у Кафки пробудилась очень поздно. Не требуется пространных комментариев, чтобы понять: именно здесь влияние отца, устрашающего и почитаемого, имело наиболее парализующие последствия. «Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане, — пишет он в одной поздней заметке «Дневника», — (и очень долго оставался бы таким, если бы меня насильно не толкнули в область сексуального), как сегодня, скажем, в теории относительности».
В другом месте, в одном из писем Максу Броду, он говорит о «счастливых временах детства, когда дверь, за которой происходило совещание трибунала, была еще закрыта» и добавляет: «С тех пор, как появился этот заседатель отец, закрывающий все двери, прошло много времени». Именно этот суд секса, который будет его неотступно преследовать, становится областью основной неудачи, где он ощущает неспособность добиться успеха в том, что считает главным призванием каждого. Не будем распространяться более чем пристало о маленьком инциденте, который произошел с французской гувернанткой. В мадемуазель Байи, очевидно, не было ничего особенно соблазнительного. Когда Кафка встречает ее несколькими годами позднее, он отмечает ее спокойный и невинный вид, равно как и усиление всегда угрожавшей ей склонности к полноте, волоски, которые покрыли ее подбородок, нелепую походку. Но несколькими годами раньше произошел случай, на который Кафка неоднократно намекает в «Дневнике». Он находился в постели вследствие легкого переохлаждения, и мадемуазель Байи дала ему задание прочитать «Крейцерову сонату». Дата не уточнена, но, учитывая уровень книги, речь может идти лишь о его последних гимназических годах. «Моя гувернантка, — пишет он, — была согласна воспользоваться моим возбуждением». Было бы, однако, неверно предполагать, что он был травмирован этим событием. Когда он вспоминает о нем в своем «Дневнике», то лишь затем, чтобы выразить сожаление об упущенной возможности.
Между тем Кафка с грехом пополам приближается к зоне, о которой стремится как можно дольше ничего не знать. Лицейские товарищи, об этом рассказывает Эмиль Утиц, однажды привели его в одно «очень плохое место». Там, говорит он, «он был таким же, как и везде, он вел себя как в гостях, он с интересом разглядывал непривычную обстановку, улыбался, сохраняя дистанцию».
В другой раз два других товарища затеяли его просветить, один идя справа, другой слева. «Тот, что справа, жизнерадостный, по-отечески открытый, с манерами светского человека, он смеялся, как смеются мужчины любого возраста и даже я (существует еще другой тип смеха по этому поводу, свободный смех, но я никогда не слышал его); тот, что слева, ясно выражающийся, склонный к теоретизированиям, что было еще более омерзительно. Оба, — продолжает Кафка, — давно женаты и остались в Праге; тот, что справа, в течение многих лет страдал от сифилиса, и я не знаю, жив ли он еще; тот, что слева, стал профессором по венерическим заболеваниям, основателем и президентом ассоциации борьбы против венерических заболеваний» Кафка совсем не любит ни врачей, ни медицину: по-видимому, он сохранил горькое воспоминание об этом запоздалом методе посвящения.
Этот рассказ фигурирует в письме к его старшей сестре Элли, в котором он ей советует не вмешиваться в сексуальное просвещение ее мальчика. Маленький Феликс, которому исполнилось десять лет, был заинтригован беременностью своей тетки Оттлы и рождением своей кузины Веры; он задавал вопросы своей матери, которая беспокоилась, как бы ее сына не просветил кто-нибудь из его товарищей. Будет лучше, говорит Кафка, чтобы Элли не вмешивалась: любые объяснения, которые она придумает, будут абстрактными и поставят ребенка в тупик. Лучше будет вновь прибегнуть к истории с аистом или капустой, достоинством которой по меньшей мере является ее непроверяемость.
В своем личном развитии Кафка, впрочем, действовал иначе. Он расспрашивал своих родителей, о чем он пространно рассказывает в «Письме отцу». Это был памятный разговор, и он не забыл ни места, ни даты — ему тогда могло быть шестнадцать лет. Он спросил, как можно избежать опасностей, возникающих при половых контактах. Отец дал ему совет посещать проституток — совет, которому десятью годами позже он охотно последует. Или же, что нам представляется более вероятным, он рекомендовал ему предаться мастурбации? Трудно сказать. Во всяком случае юноша был травмирован. Надо сказать, в данной ситуации Кафка не был совершенно невиновен, что он без труда и признает в своем рассказе. Было бестактно задавать этот вопрос перед матерью, и он сознательно лжет, рассказывая, что уже соприкасался с большими опасностями, и, главное, заранее знал ответ, который получит. Подтолкнуло его к этому в данном случае, в чем он признается позднее, нездоровое любопытство, желание смутить родителей и отомстить им. Он ждал этого ответа и в то же время не мог его вынести: ответ мог только подтвердить его невроз. Ему советовали совершить поступки, которых его отец никогда бы не совершил. Он становился образцом недосягаемой чистоты, навсегда погружая своего сына в грязь. Любой другой, безусловно (это все еще говорит Кафка), выслушал бы, не моргнув глазом, этот совет, которому, кстати, он не обязан был следовать. Но этот приговор, который он спровоцировал и которого, несомненно, желал, наложит отпечаток на всю его жизнь, как в рассказе, который носит это название.
Он был шокирован разговорами своих товарищей по лицею; он был травмирован таким ответом отца. Значит, секс, что бы там ни говорили, в самом деле есть помесь скандала и грязного разврата? Кафка так не думал; он только считал, что его исказили и извратили, запятнали цивилизацией. Социология или образование представляют отдушину для его невроза. В «Письме отцу» и двумя годами позднее в письме Элли он использует — и это не случайно — почти дословно те же термины. Вопрос, который он задал своему отцу, был вызван похотью ребенка, перекормленного мясом и всякими вкусными вещами, физически бездеятельного, вечно занятого самим собой. Точно так же обстоит дело и с сыном Элли — Феликсом: с момента пробуждения сексуальности ему будут угрожать все опасности, «если его жизнь была испорчена пресыщенностью, духовно и физически изнежена, чрезмерно возбудима, какой она бывает в больших городах, лишена веры и исполнена скуки».
Во время семейных торжеств Кафки устраивали маленькие театрализованные представления, что доказывает: если эта семья и в самом деле была адом, то этот ад знавал также периоды затишья. Играли шуточные пьески, чьим автором и постановщиком одновременно был Франц Кафка. Сам он не играл, актрисами были его сестры и в случае необходимости тот или иной служащий. Зрителями были родители и дядя Рихард Лёви. Сохранились даже названия некоторых из этих комедий: «Жорж из Подибрада», «Жонглер», «Говорящие фотографии». Позднее, рассказывает Макс Брод, Франц Кафка разыгрывал для подобных случаев маленькие драмы Ганса Сакса. Все тексты, по-видимому, исчезли, и мы, конечно, не станем утверждать, подобно некоторым, на этом основании, что в юные годы Кафку искушало театральное призвание.
Но такие забавы, впрочем, не были его единственной литературной деятельностью. В последние годы учебы в лицее он начал писать. Мы не знаем, что собой представляли эти «детские произведения», как он их назвал в 1903 году в одном из писем Оскару Поллаку. Из письма можно только заключить, что к этому времени он их еще не уничтожил: аутодафе будут совершаться позднее. Можно также предположить, что эта литературная продукция была очень обильной. В единственном намеке на сей счет, имеющемся в «Дневнике», речь идет об истории двух братьев, один из которых остается в своей стране, тогда как другой эмигрирует в Америку. Дядя, который оказался в воскресенье пополудни у Франца Кафки, когда тот, вероятно, испытывая чувство гордости, работал над своим произведением — возможно, это был дядя Рихард, — схватил страницу, бросил на нее взгляд и вернул ее автору, воскликнув лишь: «Обычная дребедень!» Единственным комментарием, который, по-видимому, вызывает этот исчезнувший набросок, является то, что в нем уже содержится в противопоставлении двух братьев, один из которых остается верен своей стране, в то время как другой бежит на край света, тот же самый конфликт, который воплотится тринадцать или четырнадцать лет спустя в «Приговоре» между Георгом Бендеманом и «другом из России».
Мы ничего не знаем об этих первых литературных опытах и не рискнем делать никаких предположений. Единственный сохранившийся текст этой эпохи — посвящение, которое Кафка подписал 4 сентября 1900 года в альбоме одной девушки: теперь оно открывает все издания переписки. Франц Кафка проводил летние каникулы со своей семьей в Ростоке, под Прагой, в квартире, которая принадлежала одному почтовому инспектору. Возник легкий флирт с его дочерью, Седьмой Кон. «Мы обожали друг друга, как это бывает в таком возрасте, — писал Кафка позднее Максу Броду, имитируя письмо влюбленной девушки, — я была красива, он был очень умен, и мы оба были так божественно молоды». Мало что можно сказать об этой мимолетной любви без будущего. Но нельзя пренебречь этим маленьким текстом: он одновременно условен и претенциозен, в нем еще не просматривается тот литературный стиль, которому вскоре Кафка подчинится на несколько лет. Это милое остроумное литературное произведение XIX века, это Кафка перед Кафкой. Однако нельзя забывать, что речь идет о семнадцатилетнем лицеисте, за жеманством которого уже чувствуется настоящий писатель.
IV
Университетские годы
«Нам не дано постичь чужие святыни»
Мы добрались до 1901 года, Кафке исполнилось восемнадцать лет. Он без всякого труда сдал экзамен на аттестат зрелости, которого так боялся; теперь он рассказывает, что добился этого только путем жульничества. Наконец, для него наступило время выбирать путь дальнейшего образования и, следовательно, отчасти заложить основы своего будущего. В «Письме отцу» он не обвиняет его в том, что тот оказал влияние на его выбор, но отцовское воспитание сделало его столь безразличным в этом плане, что он спонтанно выбирает облегченный путь, ведущий его к юриспруденции. Достигнув восемнадцати лет, Кафка не ощущает в себе никакого призвания: «Настоящей свободы в выборе профессий для меня не существовало, я знал: по сравнению с главным мне все будет столь же безразлично, как все предметы гимназического курса, речь, стало быть, идет о том, чтобы найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволила бы мне, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять подобное же безразличие. Значит, самое подходящее — юриспруденция». В гимназии он заявил, что собирается записаться на философский факультет, вероятно, чтобы продолжить там изучение германистики. Но сначала он совершенно неожиданно решает заняться химией: двое из его одноклассников, Оскар Поллак и Гуго Бергманн — неизвестно почему — тоже сначала выбрали эту ориентацию. Возможно, в этом выборе Кафки было что-то вроде вызова; во всяком случае он его интерпретирует в «Письме отцу» как «испытание», вызванное тщеславием, момент безумной надежды. Но этот бунт, если это был бунт, длился недолго; через две недели Кафка вновь возвратился на прямую дорогу. То же самое повторится во втором семестре, когда он, пресыщенный юриспруденцией, начнет посещать курсы германистики. У него возникнет ощущение, будто его выбило из колеи и это было уготовано ему судьбой. Но он быстро разочаровывается: «ординарный профессор» Август Зауэр — серьезный ученый (еще и теперь можно пользоваться его изданием Грильпарцера), но главное, он немецкий националист, плохо относящийся к евреям, что Кафка выносит с трудом. Одно из его писем к Оскару Поллаку содержало едкую критику Зауэра; Макс Брод, снимая копию с письма, изъял этот отрывок, вероятно, потому, что Зауэр был еще жив. Оригинал исчезнет в ходе исторических катаклизмов, и нет больше возможности полной публикации этого письма. Следовательно, мы никогда не узнаем точно о претензиях, которые Кафка имел к Августу Зауэру.
Наиболее предпочтительным решением для Кафки было бы полностью прервать университетские занятия, к которым он испытывал так мало интереса. Однажды, когда его мадридский дядя проездом находился в Праге, он обращается к нему с просьбой подыскать ему где-нибудь занятие, чтобы, как он сказал, иметь возможность «прямо приступить к работе». Ему дали понять, что разумнее немного поусердствовать в учебе.
Так что некоторое время он продолжает следовать своей ухабистой дорогой, по выражению Франца, как «старая почтовая карета». Его товарищ Пауль Киш уезжает в Мюнхен; Кафка следует за ним с намерением продолжить там учебу, но быстро оттуда возвращается. Что произошло? Был ли он разочарован тем, что увидел? Или, может быть, отец отказал ему в необходимых для учебы за границей средствах? Мы этого не знаем. Мы знаем только, что из-за этого неудавшегося путешествия он будет говорить о когтях матушки-Праги, которая не отпускает своей жертвы. Мы знаем также, что годом позже, в 1903, он вернулся в Мюнхен на короткое время, неизвестно с какой целью. Когда он будет говорить о Мюнхене, то лишь для того, чтобы упомянуть о «прискорбных воспоминаниях юности».
Итак, он снова берется за привычное и опостылевшее ему изучение юриспруденции.
Он вынужден, по меньшей мере в течение месяцев, предшествующих экзаменам, «питаться, как он говорит, древесной мукой, к тому же пережеванной до меня уже тысячами ртов». Но в конечном итоге он почти приобрел к этому вкус, настолько это показалось отвечающим его положению. От учебы и профессии он не ждал спасения: «В этом смысле я уже давно махнул на все рукой».
Нет смысла говорить о его преподавателях на юридическом факультете, поскольку они оказали на него очень мало влияния. К чему рассказывать, что он дрожал перед ужасным преподавателем гражданского права Краснопольским? Он, несомненно, дрожал, но чтобы тотчас же его забыть. Единственное имя, которое заслуживает быть упомянутым, имя Альфреда Вебера. Но выдающийся специалист по политической экономии был приглашен в Пражский университет как раз в то время, когда Кафка заканчивал свою учебу. Он был назначен «попечителем», то есть референтом или председателем докторского экзамена Кафки, и лишь на этом чисто административном поле они общались.
Докторские экзамены проходили с ноября 1905 по июнь 1906 года. Кафка сдал их без особого блеска, на «удовлетворительно». Так закончился один из наиболее бесцветных эпизодов его жизненного пути.
Походя заметим, что, наверное, как раз в университетские годы Кафка стал брать уроки английского. Он очень хорошо знал чешский и французский и собирался немного позже учить итальянский. На этом основывается одна из граней его дарования и его знаний, о чем иногда забывают.
Кое-кто из его биографов продолжает приписывать Кафке политические взгляды и даже пристрастия. Мы охотно признаем, что в гимназии он высказывал свои симпатии бурам: весь мир, кроме Англии, был на их стороне. Но что это за Altstadter Kollegentag — «Коллегиальная Ассоциация Старого города», где Кафка, будучи еще лицеистом, якобы отказался встать, когда другие запели «Стражу на Рейне»?
Мы не можем представить себе Кафку, участвующим в публичных демонстрациях такого рода, и к тому же «Ассоциация» не предназначалась для лицеистов. Это была одна из многочисленных немецких националистических группировок Университета; исключено, чтобы Кафка когда-либо мог входить в нее. Говорят также, что он носил в петлице красную гвоздику анархистов. В самом деле, вопрос о красных гвоздиках однажды возникает в одном из писем Оскару Поллаку. Кафка пишет: «Сегодня воскресенье, торговые служащие спускаются на Вензельсплац, идут до Грабена и громкими криками ратуют за воскресный отдых. Я думаю, что есть смысл и в их красных гвоздиках, и в их глупых еврейских физиономиях, и в оглушительном шуме, который они создают: это напоминает поведение ребенка, который хочет подняться на небо, плачет и визжит из-за того, что ему не хотят дать лестницу. Но у него совсем нет желания подниматься на небо». Те, кто украшают себя красной гвоздикой, не анархисты, это добрые немецкие буржуа (и еврейские), которые делают это, чтобы отличаться от чехов, избравших эмблемой василек. Но издеваться над празднично разодетыми буржуа не означает становиться анархистом.
Кафка не социалист и не анархист, тем более не «брентанист». Вся университетская философия в странах Австрийской державы вдохновлена мыслью Франца Брентано. Сам он, сбросивший монашеское одеянье доминицианца, чтобы жениться, живет теперь в ссылке во Флоренции, лишенный своих должностей и почти слепой. Но его ученики продолжают занимать все кафедры в сфере образования, в частности в Праге. И «брентанисты» регулярно собираются в одном из кафе города, в кафе «Лувр», для обсуждения идей. Кроме того, жена одного аптекаря из Старого города, Берта Фанта, под вывеской «Единорога» организовывает у себя дома литературные или философские беседы, которые прилежно посещают «брентанисты» и в которых позднее несколько раз примет участие Альберт Эйнштейн. Мы не хотим сказать, что Кафка был обычным гостем на встречах в кафе «Лувр» и вечеров Фанты, мы хотим показать, что его мысль была лишь калькой тем Брентано. А Макс Брод на этот счет категоричен: Кафка был введен на собрания в кафе «Лувр», несомненно, его друзьями Утицом, Поллаком или Бергманном, но он бывал там очень редко и скрепя сердце. Его надо было также очень упрашивать, чтобы он согласился пойти к Фанте — письмо 1914 года Максу Броду подтверждает это еще раз. Когда он случайно заходил туда, то обычно очень мало вмешивался в дискуссии. С другой стороны, если иногда на вечерах Фанты принимали участие несколько ортодоксальных брентанистов, то это не значит, что в центре дебатов было учение Франца Брентана. Речь шла, говорит Макс Брод, о Канте (опозоренном брентанистами), о Фихте или о Гегеле. Что касается попыток установления параллелей между афоризмами Кафки и фразами Брентано, то это всего лишь попытка пустить пыль в глаза. Волей злого случая единственным экзаменом в университете, на котором Кафка получил плохую отметку, оказался экзамен по «описательной психологии», предложенной Антоном Марти, одним из близких учеников Брентано. Кафка не то чтобы отвергал философские умопостроения, позднее он будет, например, слушать лекции Кристиана фон Эренфельса, одного из основоположников «гесталтизма», кстати, прочно связанного с доктриной Брентано. Но весьма некстати было изготовлено много ложных ключей, которые не открывают ни одной двери.
Итак, в данный момент Кафка с уже покорной пассивностью скользит туда, куда увлекают его среда, отец, привычка — все, кроме собственного вкуса.
В университете он, разумеется, находит самые разнообразные студенческие корпорации, многие из них были объединены в сообщество под названием «Германия», в которое входили немецкие националисты и где практиковались дуэли на рапирах, с тем чтобы завоевать рубцы на щеках. Это были очаги антисемитизма, и там не было ничего, что могло бы привлечь Кафку; евреев, к тому же, туда вовсе не принимали. С 1893 года существовала также корпорация студентов-сионистов, которая сначала называлась «Маккавеи», а потом с 1899 г. получила название «Бар-Кохба», активными участниками которой, когда Кафка пришел в университет, были Гуго Бергманн, Роберт Вельч и также многие другие. Макс Брод в это время еще держался в стороне, он присоединился к «Бар-Кохбе» только несколькими годами позднее. Кафку это тоже не увлекало, его спонтанно тянуло к ассоциации с «либеральной» тенденцией — «Галерее лекций и чтений немецких студентов», в которой состояло наибольшее число еврейских студентов университета. Отношения этой «Галереи» с «Бар-Кохба» бывали порой натянутыми, поскольку в ней господствовала тенденция сознательной «ассимиляции». Ассоциация управлялась Комитетом, который заведовал фондами, где главная роль принадлежала Бруно Кафке, обращенному кузену будущей знаменитости города, по отношению к которому Макс Брод питал некую вражду. «Галерея» носила черный, красный и золотой цвета, а также цифру 1848 — дату ее создания, которая фигурировала на ее эмблемах. «Галерея» и «Германия» соперничали между собой. В «Галерее», однако, в основном занимались поддержкой библиотеки, одной из лучших в городе, и организацией лекционных вечеров. Это было заботой «секции искусства и литературы», которая приобрела в «Галерее» некую автономность, в ней Кафка позднее в течение некоторого времени будет исполнять скромные административные функции (ответственного по вопросам искусства). Иногда приглашали важных персон — так, за большие средства был приглашен поэт Детлев фон Лилиенкрон, чья слава тогда уже начинала клониться к закату, иногда предоставляли трибуну студентам. 23 октября 1902 года один из них прочитал лекцию о «судьбе и будущем философии Шопенгауэра». Кафка пришел послушать ее, и этот день стал, может быть, наиболее важным в его жизни. Лектором был Макс Брод, который был на год моложе его, таким образом они познакомились. Кафка, который в прошлом немного читал Ницше, нашел, что лектор чрезмерно сурово обошелся с философом (некоторые исследователи, придавая слишком большое значение этой скудной информации, хотели сделать из Кафки, и совершенно напрасно, ницшеанца). Брод и Кафка прошли по улицам города, споря друг с другом, и это стало началом дружбы, которой не суждено было больше прерваться.
В своих письмах к Оскару Поллаку — самых ранних из сохранившихся — Кафка вначале сожалел о трудностях общения между ними: «Когда мы разговариваем вместе, слова отличаются резкостью, это все равно что идти по плохой мостовой. Наиболее тонкие вопросы внезапно уподобляются наиболее трудным шагам, и мы ничего с этим не можем поделать /…/. Когда мы разговариваем, мы стеснены вещами, которые хотим высказать, но не можем их выразить, тогда мы высказываем их так, что у нас складывается ложное представление. Мы не понимаем друг друга и даже насмехаемся друг над другом /…/. И потом есть шутка, превосходная шутка, которая заставляет горько плакать Господа Бога и вызывает в аду сумасшедший, поистине адский смех: мы никогда не можем иметь чужого Бога — только нашего /…/». А в другой раз опять: «Когда ты стоишь передо мной и на меня смотришь, что знаешь ты о моей боли и что я знаю о твоей?» И как бы переходя от одной крайности к другой, он просит в 1903 году в другом письме к Поллаку быть для него «окном на улицу». Несмотря на свой высокий рост, по его выражению, он не достигает до подоконника. И этот образ кажется ему столь верным, что он сделал его мотивом небольшого рассказа, несомненно, самого раннего из тех, которыми мы располагаем и который он назвал «Окно на улицу». Чтобы жить, он нуждается в ком-то более сильном, более мужественном, чем он. В сущности, он готовится жить по доверенности. Кафка уже устроился на обочине, в стороне от жизни или, как он скажет позднее, в пустыне, которая граничит с Ханааном.
Но Поллак покидает Прагу, вначале он едет в провинциальный замок, где работает воспитателем, потом в Рим, где займется изучением искусства барокко. И более чем на двадцать лет именно Макс Брод станет «окном на улицу», в котором нуждается Кафка. Между ними мало сходства. Брод, журналист, романист, театрал (он закончит свою жизнь в должности художественного директора театра «Хабимах» в Тель-Авиве), философ, руководитель оркестра, композитор. Он столь же экстраверт, как Кафка замкнут, столь же активен, как Кафка меланхоличен и медлителен, столь же плодовит в своем писательском труде, как Кафка требователен и не обилен в своем творчестве. Переболевший кифозом в ранней юности, Брод был слегка искривлен, но компенсировал свой недостаток исключительной живостью. Благородный, восторженный, легко загорающийся, он постоянно должен быть занят каким-нибудь делом, и в течение жизни у него будет много разных дел. Он справедливо озаглавил свою автобиографию «Бурная жизнь», боевая жизнь. В этот период своей жизни — ему было восемнадцать лет — он был фанатичным приверженцем Шопенгауэра и следовал философии, которую называл «индифферентизмом», — из необходимости всего происходящего он выводил некое подобие универсального извинения, что позволяло не считаться с моралью. Вскоре он будет рассматривать эту доктрину как заблуждение молодости, но он исповедовал ее в то время, когда впервые встретил Кафку. И спор, который начался в тот вечер, никогда больше не закончится, потому что сколь разными они были, столь близкими друзьями они станут; они превосходно дополняют друг друга. Если никому и не придет в голову причислить Макса Брода к великим людям, надо признать наличие у него неординарного литературного чутья: с первых писательских опытов Кафки, еще неуверенных и неловких, он сумел распознать его гений. В этой столь обделенной жизни дружба Макса Брода была бесконечной удачей. Без Макса Брода имя Кафки, возможно, осталось бы неизвестным; кто может сказать, что без него Кафка продолжил бы писать?
На начало дружбы с Максом Бродом припадает для Кафки период развлечений, или, как мы бы сказали, вечеринок. Чтобы знать, как он себя вел, достаточно прочесть начало «Описания одной борьбы», так как в этих литературных дебютах сохранена дистанция, которая разделяет пережитое и вымысел. Как не узнать автопортрет или автокарикатуру в этом «качающемся шесте», на который неловко насажен «череп, обтянутый желтой кожей с черными волосами»? Это он остается сидеть один перед стаканом бенедиктина и тарелкой с пирожными, тогда как другие, более смелые, пользуются благосклонностью женщин и хвастаются своими завоеваниями. После каникул 1903 года он мог рассказать Оскару Поллаку, что набрался храбрости. Его здоровье улучшилось (в 1912 году он напишет Фелице Бауэр, что уже десять лет чувствует себя плохо), он стал сильнее, он вышел в свет, он научился разговаривать с женщинами. И что особенно важно, пишет он, он отказался от жизни отшельника. «Клади свои яйца честно перед всем миром, солнце их высидит; кусай лучше жизнь, чем свой язык; можно уважать крота и его особенности, но не надо делать из него своего святого». Правда, тотчас же добавляет он, некий голос сзади вопрошает: «Так ли это в конце концов?» Он утверждает, что девушки единственные существа, способные помешать нам опуститься на дно, но немного раньше пишет Поллаку: «Я дивно счастлив, что ты встречаешься с этой девушкой. Это твое дело, она мне безразлична. Но ты с ней часто говоришь, и не только ради удовольствия говорить. Может случиться, что ты идешь с ней туда или сюда, в Росток или еще куда-нибудь, в то время как я сижу за своим письменным столом. Ты с ней говоришь, а в средине фразы возникает некто, приветствующий вас. Это я со своими плохо подобранными словами и кислым выражением лица. Это длится лишь мгновение, и ты возобновляешь разговор /…/».
Десять лет спустя, вспоминая эти первые годы юности, он пишет Фелице Бауэр: «Если бы я знал тебя уже лет восемь или десять (ведь прошлое так же достоверно, как и утрачено), мы могли бы быть счастливы сегодня без всех этих жалких уверток, вздохов и без надежных умолчаний. Вместо этого я сходился с девушками — теперь это уже далекое прошлое, — в которых легко влюблялся, с которыми было весело и которых я еще легче бросал, чем они бросали меня, не причиняя мне этим ни малейших страданий. (Множественное число не говорит об их многочисленности, оно употреблено здесь лишь потому, что я не называю имен, ведь все давно миновало)».
После своего экзамена на зрелость Кафка уехал один в небольшое путешествие к Северному морю, на Северо-Фризские острова и остров Гельголанд, он проводит каникулы в семье, часто в Либоше на Эльбе. Мы находим в «Описании одной борьбы» короткий отголосок того пребывания. Чтобы не выглядеть слишком неприветливым перед своим собеседником, восторженным влюбленным, рассказчик в свою очередь старается придумать галантные приключения: " — Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.
Так говорил я, судорожно пытаясь вообразить за словами какие-то любовные истории с занятными положениями; не помешало бы и немного грубости, решительности, насилия».
В этих историях любви реальное и вымышленное странным образом перемешаны, кстати, как в жизни, так и в вымысле, и все это любовное прошлое, похоже, малоубедительно. Когда он говорит об этом в первых письмах Максу Броду, он делает это с безразличием, которое звучит неестественно: «На следующий день, — пишет он, например, — одна девушка переоделась в белое платье, потом влюбилась в меня. Она была очень несчастна, и мне не удалось ее утешить, настолько эти вещи сложны» (этот же эпизод вновь упоминается в «Описании одной борьбы»). Письмо Максу Броду продолжает: «Потом была неделя, которая рассеялась в пустоте, или две, или еще больше, Потом я влюбился в одну женщину. Потом однажды в ресторане были танцы, а я туда не пошел. Потом я был меланхоличен и очень глуп, до такой степени, что готов был спотыкаться на грунтовых дорогах». Можно сказать, что туманная завеса намеренно скрывает в полуфантастике определенную зону, на которую не осмеливаются смотреть открыто.
Тем временем Кафка все же пережил свой первый чувственный опыт с женщиной. Семнадцать лет спустя он подробно рассказывает об этом Милене после их встречи в Вене, стараясь объяснить ей, как в нем уживаются strach и touha, страх и тоска. Дело происходит в 1903 году, через четыре года после его злополучной беседы с отцом о проблемах секса. Ему двадцать лет, и он занят подготовкой к своему первому экзамену по праву. Он замечает на тротуаре напротив продавщицу из магазина готового платья. Они подают друг другу знаки, и однажды вечером он следует за ней в гостиницу «Кляйнзайте». Уже перед самым входом он охвачен страхом: «Все было очаровательно, возбуждающе и омерзительно»; то же самое ощущение он продолжает испытывать и в гостинице: «Когда мы под утро возвращались домой по Карловому мосту, я, конечно, был счастлив, но счастье это состояло лишь в том, что моя вечно скулящая плоть наконец-то обрела покой, а самое большое счастье было в том, что все не оказалось еще более омерзительным, еще более грязным». Он встречает во второй раз молоденькую продавщицу, и все происходит, как и в первый раз. Но затем (здесь надо проследить этот главный опыт во всех его подробностях, который так мало писателей передали столь тщательно и с подобной искренностью) он уезжает на каникулы, встречает других девушек, и с этого момента он не может больше видеть эту маленькую продавщицу, хотя хорошо знает, что она наивна и добра, он смотрит на нее как на своего врага. «Не хочу сказать, что единственной причиной наверняка не было то, что в гостинице моя подружка совершенно невинно позволила себе одну маленькую мерзость (об этом и говорить не стоит) да еще сказала одну пустячную сальность (и об этом тоже говорить не стоит), но в память это врезалось, я сразу понял, что никогда не смогу этого забыть, и понял также (или вообразил себе), что эта мерзость или сальность если не обязательно внешне, то уже внутренне очень обязательно связаны со всем происшедшим». Он знает, что в гостиницу его привлекли именно эти «ужасы», именно этого он хотел и в то же время ненавидел. Много времени спустя он снова испытывает неукротимое желание, «желание маленькой, совершенно определенной мерзости, чего-то слегка пакостного, постыдного, грязного, и даже в том лучшем, что мне доставалось на долю, сохранялась частичка этого, некий дурной душок, толика серы, толика ада. В этой тяге есть что-то от Вечного Жида, бессмысленно влекомого по бессмысленно грязному миру».
Даже напыщенность языка подчеркивает характер запрета, который нависает отныне для него над всем, что касается секса. Заноза вонзилась в плоть. На некоторое время — в 1903, в 1904 гг. — рана остается терпимой; она еще позволяла любовные интрижки юности. Но боль будет усиливаться с каждым годом, мало-помалу она парализует всю его жизнь.
В конце «Описания одной борьбы» один из персонажей рассказа погружает себе в руку лезвие небольшого перочинного ножа. Некоторые комментаторы интерпретировали эту сцену как символическое самоубийство. Но психоаналитики, несомненно, более охотно усмотрят в ней образ кастрации.
«Я ухожу в распростершиеся бурые и меланхолические поля с оставленными плугами, поля, которые, однако, отливают серебром, когда несмотря ни на что появляется запоздалое солнце и отбрасывает мою большую тень /…/ на борозды. Заметил ли ты, как тени поздней осени пляшут на темной вспаханной земле, пляшут, как настоящие танцоры? Заметил ли ты, как земля приподнимается навстречу пасущейся корове и с каким доверием она приподнимается? Заметил ли ты, как тяжелый и жирный ком земли крошится в слишком тонких пальцах и с какой торжественностью он крошится?» Неискушенному читателю, несомненно, трудно признать автором этого отрывка Кафку. Тем не менее, это фрагмент из письма Поллаку. Точно так же год спустя стихотворение, включенное в письмо, предназначенное тому же адресату, описывает маленький занесенный снегом городок, по-новогоднему слабо освещенные домишки и посреди этого пейзажа одинокого задумавшегося человека, опершегося на перила моста. Стиль перегружен уменьшительными словами и архаизмами. Этот маньеризм не без основания отнесли на счет влияния «Kunstwarda», журнала искусства и литературы, который Поллак и Кафка усердно читали и подписчиками которого, по всей видимости, были. Читать «Kunstward» («Хранитель искусств») в 1902 году уже не было особенно оригинальным. Журнал выходил почти 15 лет, вначале он печатал хороших писателей, но мало-помалу переориентировался в область различных течений модернизма, натурализма, равно как и символизма. Он пришел к типу поэзии, живописующей местный колорит, пример которой предлагает письмо Кафки.
Кафка продолжает писать. В это время к тому же он ведет если не «Дневник», то по меньшей мере записную книжку. Он начал писать рано («Ты видишь, — пишет он Поллаку, — несчастье слишком рано свалилось на мою спину») и остановился, говорит он, лишь в 1903 году, когда в течение шести месяцев почти ничего больше не создал. «Бог этого не хочет, но я должен писать. Отсюда постоянные метания; в конце концов Бог берет верх, и это приносит большие несчастия, чем ты можешь себе представить». Все тексты периода молодости были уничтожены, и не стоит гадать, что они могли собой представлять. Можно предположить только, что именно к этому периоду относятся странно неровные стихотворения, несколько образчиков которых он впоследствии включил в свои письма. Он также сообщил Оскару Поллаку, что готовит книгу, которая будет называться «Ребенок и Город». Имеем ли мы право предполагать, каким мог быть этот замысел? Предназначался ли город для подавления непосредственности ребенка, что согласовывалось с мыслями Кафки относительно педагогики? Имелась ли связь между этой исчезнувшей книгой и черновыми набросками, которые будут называться «Городской мир» или «Маленький обитатель руин»? Мы ничего об этом не знаем и лучше по сему поводу ничего не выдумывать.
Зато несомненны две вещи: первая — Кафка очень скоро откажется от своего отвратительного маньеризма; вторая — даже эти заблуждения молодости не были для него лишены значения. «Возвращение к земле» по-своему объясняет устойчивые элементы его натуры, которые выступают в разных формах: натурализм, вкус к физическим упражнениям и садоводству, огородничеству, склонность к умеренности в еде, враждебное отношение к медицине и к медикаментам, предпочтение «естественных» лекарств (например, герой «Замка» будет однажды назван «горькой травой» за присущие ему способности к целительству). В комнате, которую Кафка занимал у своих родителей, очень простой, скудно обставленной, почти аскетической (типа той, что будет представлена в «Превращении»), единственным украшением была гравюра Ганса Тома под названием «Пахарь», вырезанная из «Kunstward», — такова было среда его обитания.
Существенная, поистине фундаментальная часть личности Кафки проявляется прежде всего, правда, именно в склонности к «простой жизни», которая проступает в его первых литературных опытах. Кстати, у Кафки, который столь глубоко обновит литературу, в раннем творчестве нет ничего, что роднит его с авангардом.
Десять лет спустя, когда он поедет в Веймар с Максом Бродом, он посетит Пауля Эрнста и Йоганнеса Шлафа, двух писателей, которые, отдав в свое время дань натуралистической моде, стали символами консервативной литературы. Правда, Кафка слегка поиронизирует над ними, однако при этом оказывая им уважение. Когда Макс Брод в начале их дружбы дал ему почитать отрывки из «Фиолетовой смерти» Густава Мейринка, в которых речь идет о гигантских бабочках, отравленных газах, магических формулах, превращающих чужаков в фиолетовое желе, Кафка отреагировал гримасой. Ему не нравились, говорит нам Макс Брод, ни насилие, ни извращения; он питал отвращение — мы продолжаем цитировать Макса Брода — к Оскару Уайльду или Генриху Манну. Среди его предпочтений, сообщает все тот же Макс Брод, наряду с великими образцами, Гете, Флобером или Толстым, числились имена, менее всего ожидаемые, имена представителей умеренной, порой даже застенчивой литературы, такие как Герман Гессе, Ганс Каросса, Вильгельм Шефер, Эмиль Штраус. Но у него были другие устремления, которые не замедлят проявиться.
Когда мы переходим от 1903-го к 1904 году и от Поллака к Максу Броду, возникает впечатление, будто внезапно открываешь другого писателя. Почвенническая манерность исчезла, но на смену ей пришла другая манерность, может быть, еще более отвратительная. Пусть судит читатель: «Очень легко быть радостным в начале лета. Сердце бьется легко, шаг легок, и мы уверенно смотрим в будущее. Надеемся на встречу с восточными чудесами и одновременно отвергаем их с комическим благоговением и неловкими словесами — эта оживленная игра настраивает нас на радостный лад и вызывает дрожь. Мы отбросили простыни и продолжаем лежать в постели, не сводя глаз с часов. Они показывают конец утра. Но мы, мы причесываем вечер весьма блеклыми красками и бесконечными перспективами и от радости потираем себе руки, пока они не покраснеют, пока не увидим, как удлиняется и становится столь грациозно вечерней наша тень. Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой /…/». Кафка явно еще не нашел своего стиля; вскоре он так больше не будет писать. Впрочем, то, что он говорит здесь, просто и в то же время важно. Он хочет сказать, что не позволено при свете дня утверждать, что наступила ночь. Литература должна говорить правду, в противном случае она станет занятием самым пустым и одновременно наименее дозволенным. Ложный романтизм, ради удовольствия смешивающий правду и ложь и находящий удовольствие в надуманной меланхолии, возмутителен.
Давно отмечено совпадение между этими размышлениями Кафки и идеями Гуго фон Гофмансталя того же времени. В частности, в одном из своих лучших и наиболее известных произведений, озаглавленном «Письмо», а в целом носящем название «Письмо лорда Шандоса», Гофмансталь в образе английского дворянина XVII в. выразил свои чувства в переломный момент века. Оно перенасыщено словесными излишествами тех, чью судьбу одно время он, похоже, мог разделить — д’Аннунцио, Барреса, Оскара Уайльда и др. Литература упивалась словами, она стала бесплодной и безответственной игрой. Молодой лорд Шандос утратил в этой школе смысл ценностей (значений) и одновременно вкус к письму. Он мечтает о новом языке, «на котором безмолвные вещи разговаривали бы с ним и с которым он, возможно, смог бы предстать в могиле перед неведомым судьей».
Именно этот кризис литературы пытается передать при помощи своего еще не определившегося языка Кафка. Чтобы объяснить значение выражения «говорить правду», он охотно цитирует фрагмент фразы из другого текста Гофмансталя: «Запах влажных плиток в вестибюле»; подлинное ощущение передано здесь с наибольшей экономией средств: все верно и без преувеличения говорит о восприимчивом уме. Правдивость, которая на первый взгляд наиболее близка, на самом деле достижима труднее всего, настолько она скрыта злоупотреблениями языка, поспешностью, условностями. Гофмансталю, по мнению Кафки, удалось, по меньшей мере в данном случае, достичь правдивости. Кафка в свою очередь придумывает фразу того же рода: некая женщина на вопрос другой женщины, чем та занята, отвечает: «Я полдничаю на свежем воздухе» (буквально: «Я полдничаю на траве», но французское выражение звучит плоско и искажает смысл, к тому же в переводе невозможно передать сочность австризма jausen, что означает: слегка закусываю). Речь идет о том, чтобы отыскать утраченную простоту, вновь открыть «реальность», которую заставили забыть символический расцвет и излишества конца века.
«Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой», — писал Кафка Максу Броду. Новая литература как раз и должна перестать быть декоративной. Арабеска должна уступить место прямой линии. Кафка совершенно не думает о том, что в языке существует власть воображения, магическая сила, способная вызвать на свет неизвестную ранее реальность. В нем нет ничего романтического, из всех писателей он, несомненно, наиболее последовательно далек от лиризма, наиболее решительно прозаичен. В одном из текстов последних лет он снова повторит, что язык остается пленником своих собственных метафор, что он может изъясняться только в переносном и никогда в прямом смысле. То, что он вынашивает в своем сознании до 1904 года, гораздо менее амбициозно: он хочет найти по эту сторону от новых беспутств литературы верное ощущение, точный жест. В сущности он находится в поисках Флобера, с которым еще не знаком, но за которым последует, как только прочтет его. Он знает, в каком направлении должен идти, видит цель, к которой стремится, будучи пока не в состоянии достичь ее: язык, которым он пользуется, остается погруженным в прошлое — почти в противоречии с поставленной целью.
Тот же анализ применим и к произведению, которое было задумано и написано в эти годы, — «Описание одной борьбы». Именно благодаря Максу Броду, которому Кафка дал его прочесть и который сохранил его в ящике своего письменного стола, оно избежало огня, уничтожившего все другие произведения этого периода. Его первая версия может быть с квазиточностью отнесена к последним университетским годам (1904–1905). Позднее, между 1907 и 1909 годами, текст будет переработан. Макс Брод считал, что произведение завершено, но нет уверенности, что он прав: в «Дневнике» еще после 1909 года мы находим фрагменты, которые, похоже, предназначались для включения в «Описание одной борьбы». Это маленькое произведение весьма сложно: кажется даже, что оно, с его нарочитой бессвязностью, внезапными переменами изображаемой перспективы, предназначено для того, чтобы привести читателя в замешательство. Это свободная рапсодия, которая, не заботясь о логике, смешивает жанры и темы. Сначала есть «борьба», борьба робкого и смелого, худого и толстого, мечтателя и деятеля.
Мы недолго задаемся вопросом, кто из двоих одержит верх, даже если в конце интроверт, более хитрый, скомпрометирует своего партнера, чья жизненная сила отягощена множеством глупостей, и заставит его сомневаться в самом себе. Но наряду с этой юмористической «борьбой», которая образует рамку повествования и в которой изобилуют автобиографические моменты, есть много абсолютно вымышленных событий, например история, как бы взятая из символического рассказа о «толстяке», очевидно, тучном китайце, которого носят в паланкине и который утопится в реке. Есть также разбросанная в разных эпизодах сатира на плохую литературу, начало чему положено еще в письме 1904 года Максу Броду. Плохой писатель тот, кто нарекает «Вавилонскую башню» или Ноя, когда тот был пьян, тополем полей, полагая, что для изменения мира достаточно слов и что роль письма состоит в замещении реальности воображением. Недостаточно назвать луну «старым бумажным фонарем» и назвать «луной» колонну Девы Марии, чтобы мир повиновался фантазии автора. «Описание одной борьбы» выступает против фривольности, глупого кокетства, лжи, которые завладели литературой. Но в то же время это наиболее причудливое, наиболее манерное произведение, более всего отмеченное вкусом эпохи, против которого оно направлено. Таков парадокс этого сочинения юности. Вскоре Кафка пойдет другими путями.
V
Юность
«Далека ли печаль от счастья, если она сильна?»
И вот Кафка в 1906 году становится доктором права. Едва освободившись от университетских забот, он на несколько недель поступает на работу к одному пражскому адвокату. Хотя он еще не знает, какой выберет путь, он вынужден в течение года (1906–1907) пройти стажировку, которую должны проходить все, кто посвятил себя государственной службе, — сначала в земельном (Landesgericht), потом в исправительном суде. После года юридического становления он поступает в Assicurazioni Generali, где, впрочем, пребывает всего лишь несколько месяцев, так как плохо переносит ритм работы, которого от него требуют. Затем его принимают в Агентство по страхованию рабочих от несчастных случаев, где он находит подходящую для себя службу и где останется до тех пор, пока болезнь не заставит его отказаться от всякой профессиональной деятельности.
Почему, впрочем, этот трехлетний период, начинающийся, когда Кафка покидает университет, и заканчивающийся в то время, когда он решает завести личный дневник, назван «Юностью»? Юность не начинается в двадцать три года и не должна заканчиваться в двадцать шесть. Но этот момент составляет в жизни Кафки нечто вроде вводного предложения: равновесие кажется достигнутым, жизнь представляется возможной, можно сказать, демоны усмирены.
Так, в 1907 году Кафка, находясь на каникулах в Триесте у своего дяди врача, пишет Максу Броду: «Я много езжу на мотоцикле (Зигфрид Лёви, вероятно, купил мотоцикл для своей работы. — Авт.), много купаюсь, подолгу лежу голым в траве на берегу пруда; до полуночи гуляю в парке с девушкой, которая докучает мне своей влюбленностью, я уже ворошил сено на лугу, соорудил карусель, помогал после грозы деревьям, пас коров и коз, а вечером пригонял их домой, много играл в бильярд, совершал далекие прогулки, пил много пива, побывал даже в храме». Конечно, в этом перечислении есть некое произвольное преувеличение, как будто Кафка сам удивляется деятельности, которую развернул. Но надо еще добавить, что он великолепный пловец, что он любит заниматься греблей и что немного позже он будет брать уроки верховой езды (упоминания о которых находим в его произведениях).
Это также время, когда дружба с Максом Бродом становится нерасторжимой. Они видятся каждый день, часто дважды в день. Когда оба будут заняты на работе лишь половину дня (с 1909 года), у них войдет в привычку ожидать друг друга у подножия башни, называемой «Пороховой», и вместе возвращаться домой.
Этим периодом датируется большинство записок, которые Кафка адресует Максу Броду, чтобы назначить ему встречу или отказаться от приглашения. Они представляют собой маленькие шедевры остроумия и стиля, никогда не впадающие в условность или банальность. Некоторые из них Макс Брод включил в его биографию. Вот, к примеру, одна из многих: «Прошу тебя, разгневайся и не обращайся больше ко мне. Я иду неправильной дорогой и знаю — это последнее, что мне остается, — что погибну, как собака. Я сам хотел бы избежать того, чтобы иметь дело с самим собой, но так как это невозможно, я радуюсь только тому, что ничуть себя не жалею и что наконец дошел до такого эгоизма. Мне кажется, что мы должны были бы отпраздновать факт достижения такой вершины, подразумеваю, ты и я — ты как мой будущий враг имеешь право отметить это». Эта резвость, быть может немного деланная, характеризует творчество этого периода, как будто юность слишком долго стесненная или плененная, наконец предъявила свои права на существование. Только что умер самый близкий друг Макса Брода, Макс Боймл; отныне Кафка заменяет его в душе и в жизни Брода. Макс Брод знакомит его с другими своими друзьями, с которыми Кафка не замедлит завязать отношения: со степенным Феликсом Вельчем, философом, который вскоре будет взят библиотекарем в Национальную библиотеку, и Оскаром Баумом, слепым писателем. Все четверо собираются по вечерам для чтения. Кафка долго колеблется, прежде чем публично читать только что написанное, однако к 1909–1910 годам он решается. В иные вечера он читает с Максом Бродом «Протагора» Платона в оригинале или «Воспитание чувств», так как Флобер стал теперь для Брода, как и для Кафки, эталоном. Когда племянница Флобера Каролина Комманвиль приезжает в 1909 году в Прагу, Брод встречает ее и отмечает ее приезд в одной из газетных статей.
В конце недели два друга часто отправляются на экскурсии по окрестностям: «Мой дорогой Макс, не спеши с расходами, чтобы отправить мне письмо пневмопочтой, в котором напишешь, что не сможешь быть на вокзале Франца-Иосифа в 6 час 5 мин, так как в любом случае необходимо, чтобы ты обязательно там был: поезд, на котором мы едем во Вран, отбывает в 6 час 5 мин /…/. Впрочем ты, несмотря ни на что, можешь отправить мне письмо, чтобы сообщить, что ты предпочитаешь отправиться в Добрыховец или в другое место».
На смену балам и танцевальным вечерам пришли теперь посещения кабаре и кафешантанов: они отправляются в «Трокадеро», в «Эльдорадо», в «Люцерн». Именно отсюда берут начало истоки того вкуса, который он сохранит надолго (еще в 1913 году, когда он планировал жениться на Фелице Бауэр, он пишет ей: «Макс, его жена, его шурин, Феликс и я отправились вчера в кафешантан, куда моя жена никогда не имела бы права пойти. Мне очень нравятся эти вещи, мне кажется, что я их глубоко понимаю, понимаю до самой их бездонной глубины и присутствую на представлении с бьющимся сердцем»). При случае он посещает и персонал этих кафешантанов, его видят с некими Йожи или Малчи. Одна из его наиболее известных фотографий та, на которой он в котелке и держит руку на большой собаке, отрезана: с другой стороны собаки была изображена одна из официанток кабаре. Время от времени он сообщает в своих письмах, что ходил с «гейшами». В то же время происходят различные любовные встречи, о которых речь пойдет более подробно. Короче, можно сказать, жизнь перестала быть невозможной. По крайней мере внешне, поскольку в это же время его здоровье ухудшается, он жалуется на головные боли и расстройства пищеварения. Его беспокоит неопределенность профессионального будущего. Он пишет, что несет «свои головные боли от одного твердого решения к другому, столь же твердому, но противоположному первому. И все эти решения оживают, наполняются порывами надежды и довольной жизни, эта сумятица последствий еще хуже, чем сумятица решений».
В другой раз, говоря Максу Броду о своем «вечернем утешении», которым определяет время литературного творчества, он добавляет: «Да, если бы достаточно было утешения и если бы не требовалось также немного счастья, чтобы быть счастливым». Демоны не дремлют, они лишь выжидают момент, чтобы появиться снова.
«Видишь ли, — пишет он одной девушке, в которую был влюблен, — я смешной человек; если ты меня немножко любишь, то только из жалости, мой удел — страх. Чему служит встреча посредством писем? Два человека, разделенных морем, топчутся на берегу. Мое перо скользит по всем склонам слов, которые я пишу, и с этим покончено: холодно, и я ложусь в свою пустую постель». В другой раз он пишет Максу Броду: «Я констатировал сегодня утром, когда встал, что я в отчаянии уже два года (письмо датировано 1908 г.), и только большая или меньшая доля этого отчаяния определяет форму моего нынешнего настроения». По крайней мере страх на некоторое время обуздан, и Кафка в течение нескольких месяцев может участвовать в жизненной игре.
В 1906 году Кафка провел лишь несколько месяцев в учении у адвоката Рихарда Лёви — между апрелем, временем своего экзамена, и октябрем» когда началась его юридическая стажировка. Этот год стажировки, по-видимому, не требовал значительной работы, Кафка может при случае махнуть рукой на магазин, тем более что тот перемещается на новое место: он покидает дом, называемый «Три короля», Цельтнерштрассе 3, где жила его семья с 1896 года, и переезжает в дом № 12 на той же улице. Надо было носить ящики, вытирать пыль — отцовское дело продолжало расширяться. Магазину предстояло оставаться на этом новом месте шесть лет, прежде чем расположиться в 1912 году во дворце Кински. В 1907 году семья также меняет квартиру: она покидает Цельтнерштрассе и перебирается на Никласштрассе, с прекрасным видом на Молдау, описание которого мы находим во многих рассказах этой эпохи.
Во время этого года стажировки Кафка беспокоится о своем будущем. Он удивлен тем, что Макс Брод не решается принять пост в управлении финансов, который ему предлагают в небольшом провинциальном городке и который он в конечном итоге все-таки принял. Если бы работу такого рода предложили ему, то, несмотря на свою пассивность, он тотчас же побежал бы на нее, как сумасшедший. Так как ничего не попадается, он планирует посещение курса в Высшей коммерческой школе, изучение испанского языка и хочет попытаться найти через своего дядю в Мадриде место в Испании, в Южной Америке или на Азорских островах (похоже, он не знает, что там говорят на португальском языке). Но его дела внезапно принимают иной оборот. Альфред Лёви знаком в Мадриде с директором агентства Assicurazioni Generali, отец которого, Арнольд Вейссбергер, является почетным вице-консулом Соединенных Штатов в Праге. Дядя выступает посредником, чтобы ввести Кафку в филиал этого агентства. Кафка воодушевлен, он «безумно» благодарит своего благодетеля. Отрасль страхования его привлекает. К тому же еще волею случая его начальник интересуется литературой, они быстро находят общий язык и поддерживают отношения по крайней мере до 1911 года.
1 октября 1907 года Кафка поступает на службу в Assicurazioni Generali. Похоже, вначале предполагалось, что он будет послан за границу; он уже представляет себя среди плантаций сахарного тростника или вблизи мусульманских кладбищ.
В первое время, однако, речь идет все-таки только о Триесте, где находится правление общества. Но с первых же месяцев он разочаровывается: здесь работа длится восемь часов в день, начинается она в 8 часов утра, заканчивается в 6 час 30 мин вечера. Других служащих этот режим вполне устраивал, он не был для того времени ни исключительным, ни особенно бесчеловечным; последняя минута работы была, говорит он, трамплином, который мгновенно вновь их настраивал на радостный лад. Но он чувствует себя среди них «деклассированным», ему трудно общаться с людьми, которые в течение двадцати пяти лет не знали ни минуты апатии. Вскоре его охватывает тоска. Позже он расскажет Фелице Бауэр, что был «некий закоулок в маленьком проходе, который вел к моему письменному столу, за которым каждое утро меня охватывало отчаяние, которого для более сильного и более решительного характера, чем мой, было бы вполне достаточно, чтобы вызвать подлинно восхитительное самоубийство, и лишь меньшая или большая доля этого отчаяния определяет форму моего нынешнего настроения». С конца 1907 года он принимается за поиски другой работы, он ищет в сфере почтовой службы, где Брод и его отец имели связи. Да и потом, если работа в бюро длится восемь часов, как можно найти время, чтобы еще писать? В Assicurazioni Generali Кафка чувствует, что губит свой писательский талант, и, несомненно, он прав. Не забудем, впрочем, что в предыдущем году, во время своей юридической стажировки, когда у него было много свободного времени, он, по собственному признанию Максу Броду в августе 1907 года, создал очень мало. Кафка часто проклинал зависимость от профессии; иногда работа также служила оправданием продолжительных периодов творческого бесплодия.
На этот раз помощь пришла к нему совсем с другой стороны. Отец его соученика Эвальд Феликс Прибрам был президентом пражского «Агентства по страхованию рабочих от несчастных случаев» королевства Богемии. Речь идет об официальном учреждении, куда евреи принимались по строгой разнарядке. Но протекция Отто Прибрама убирает все препятствия. Пришлось лишь выдержать полагающиеся приличия, поэтому в Агентство его зачисляют 30 июля 1908 года, поскольку в Assicurazioni Generali Кафка проработал всего лишь десять месяцев.
В качестве предлога своего ухода он выдвигает то обстоятельство, что не может выносить грубого обращения с собой одного старого служащего. Но, несомненно, это была лишь отговорка и вежливая формальность.
В «Агентстве по страхованию рабочих от несчастных случаев» он является служащим, как говорили в Австрии, «с простым посещением», то есть на половину рабочего времени — каждый день он свободен после 14 часов. Это верх его чаяний. Но судьба иногда принимает непредвиденный оборот: подобный распорядок станет причиной многих зол. Посвящая послеполуденное время сну, а большую часть ночей литературной работе, Кафка быстро разрушит свое здоровье и усугубит свой невроз.
Перед поступлением в Агентство Кафка в течение трех месяцев посещал в Высшей школе коммерции вечерние курсы по страхованию рабочих; занятия вели те, которым предстояло стать его начальством: Роберт Маршнер, избранный директором Агентства в том же году, когда в него был принят Кафка (как на пришедшего последним на него возложат миссию произнесения официальной приветственной речи, которая фигурирует в его произведениях); Евгений Пфол, руководитель технического отдела страхования, который станет его непосредственным начальником; Зигмунд Флешман (вместе с Кафкой единственный служащий еврей), ведающий в «Агентстве» больничными кассами. Вскоре он будет поддерживать со всеми самые сердечные отношения. В письме (или в черновике письма) к Е. Пфолу он скажет ему, что любит его, как сын; когда он заболеет в 1917 году, Пфол навестит его в деревне, где Кафка нашел пристанище. В Агентстве быстро оценили его редакторский талант. В 1916 году он опять же напишет Фелице Бауэр, что, по утверждению его шефа, «если я уйду, наш отдел развалится (нелепое утверждение, всю комичность которого я сознаю)». Но мысль эта может служить достаточным доказательством того, что Агентство не было адом, даже если бы ему предстояло там жить как в месте своего осуждения. Итак, Кафка поступает туда в качестве подсобного служащего, годом позже его производят в стажеры, и мало-помалу он продвигается по служебной лестнице: только в 1920 году он становится секретарем и незадолго до выхода на пенсию, в 1922 году, старшим секретарем. В основном его работа состояла в обсуждении с предприятиями степеней риска и, следовательно, размеров страховых взносов, которые они ежегодно должны были выплачивать. Время от времени ему приходится выезжать в провинцию на совещания с промышленниками, иногда ему также поручают определить меры по предупреждению несчастных случаев, доверяют составление некоторых разделов годового отчета. Поскольку руководству известна ловкость его пера, Франца просят при случае отстаивать политику Агентства в профессиональных газетах. В момент прихода Кафки положение дел Агентства в самом деле нельзя назвать хорошим. Хотя оно и создано каких-то двадцать лет назад, ему не удается уравновесить свой бюджет: предприниматели, чтобы уменьшить сумму выплат, жульничают со своими декларациями о доходах. Кафка уполномочен вскрывать их мошенничества и одновременно успокаивать их и уговаривать на дальнейшее сотрудничество. Кстати, под твердым руководством Роберта Маршнера пражское Агентство вскоре добьется устойчивого положения и будет лучше контролировать свою клиентуру.
Работа Кафки, связанная с юридическими тонкостями и техническими проблемами, отнюдь не проста, и ему еще придется прослушать в 1920 году семестровый семинар в техническом университете по технологии машин. Но точность и диалектическая гибкость его ума делают чудеса. Иногда можно прочесть, что Кафка благодаря своей профессии открыл тяготы жизни рабочих и что это обострило его социальное сознание. Мы читаем, например, в одном из писем Максу Броду 1909 года: «Сколько у меня дел! В моих четырех округах, не говоря о других моих работах, люди падают со строительных подмостков, будто пьяные, они бросаются в машины, все балки переворачиваются, все насыпи обваливаются, все лестницы скользят; все, что хотят поднять вверх, опрокидывается наземь, а когда хотят что-нибудь опустить, сами падают вниз. И начинает болеть голова, стоит лишь подумать о тех девушках на фарфоровых фабриках, которые непрерывно падают с лестниц, неся горы посуды». Но в этих строках просматривается, скорее, юмористический образ работы, обременяющей служащего Кафку, чем его размышления о положении рабочих. Нет оснований для уверенности в том, что Кафка был этим глубоко взволнован. Зато взамен профессия дала ему нечто бесценное, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, а именно контакт с конкретикой, с повседневной реальностью, с материальными интересами, с законом, с хитростью — необходимый противовес всяческим блужданиям литературной мечты.
Некоторые исследователи хотели также приписать Кафке тесные отношения с анархистскими кругами в эти годы весьма относительной экстраверсии. Надо сказать, что первым виновником этих слухов является сам Макс Брод. После смерти Кафки, пишет он в его биографии, он случайно узнал, что писатель в этот период входил в одно тайное общество под названием «Klub Miadych» («Клуб молодых»). Один из членов этого движения, некий Михал Каха, подтвердил ему это. Кафка якобы присутствовал на собраниях, но всегда оставался столь сдержанным, что его прозвали «Молчаливый» или, если можно рискнуть употребить это выражение, «Колосс тишины». Макс Брод тогда же ввел своего друга под его именем в роман, который писал в это время о чешских революционных движениях. После история эта прояснилась: Михал Каха, похоже, ошибся с именем, а Макс Брод в последние годы своей жизни сам признал свое заблуждение.
Но был другой свидетель этого времени по имени Михал Мареш. Позволим себе привести его свидетельство, которое было опубликовано. В 1909 году, рассказывает Мареш (которому в то время было шестнадцать лет), он работал на Никласштрассе, где жил Кафка, и встречал его почти ежедневно. Кафка носил большую шляпу карбонариев — знак признания анархистов. Он часто посещал «Klub Miadych», и, хотя он никогда не брал слова, Мареш не колебался, указывая даты его присутствия. Более того, в 1912 году, когда однажды нагрянула полиция и когда Мареша препроводили в участок, Кафка выступил гарантом его невиновности. Так как полицейский чин был готов заменить арест штрафом в пять флоринов, Кафка внес деньги, чтобы вытащить своего друга из этой беды; все вместе вышли тогда из комиссариата и отправились поесть сосисок (Кафка, как известно, был вегетарианцем) и выпить пива. На каждом заседании Клуба Кафка делал взнос в пять флоринов на нужды организации. Дружба между Кафкой и Марешем продолжалась, по словам последнего, с 1909 по 1923 г. В самом деле, была найдена почтовая открытка, датированная 1910 годом, которую Кафка отправил Марешу с парой слов, написанных по-чешски (правда, Кафка ошибся именем и отправил открытку Йозефу Марешу). А на фотографии, сделанной при торжественном открытии мемориальной доски на родном доме Кафки, можно увидеть Михала Мареша, с роскошной белой анархистской бородой, стоящего рядом с племянницей писателя.
Так обстояло дело с этой историей, когда появилось дополненное переиздание «Писем к Милене». В новом издании речь шла о Мареше. Здесь Кафка называет его pitomec M., этот олух Мареш. Он распускал злые слухи по поводу прискорбного дела с самоубийством, в котором была замешана близкая подруга Милены. Мареш окликнул его во время случайной встречи, ибо, сказал он, «мы знаем друг друга лишь по случайным встречам на улице», и спросил Кафку, может ли он прислать ему свои произведения. Кафка согласился и на следующий день получил книгу, снабженную посвящением «diouholetymu priteli» («моему давнему другу»). Спустя несколько дней пришла вторая книга, сопровожденная счетом. «Я посылаю ему деньги, — пишет Кафка, — с пометкой на квитанции, в которой я высказывал надежду, что она побудит его вернуть мне вдвое большую сумму».
«Клуб молодых», вмешательство в комиссариате полиции, поручительство за Мареша — все было ни чем иным, как вымыслом.
В жизни, в которой работа воспринимается как трудно переносимое мучение, легко представить важность отпусков. Кафка, с его незавидным здоровьем и склонностью к ипохондрии, охотно проводил их в «санаториях»; это не обязательно были лечебные заведения, где получали уход, а скорее дома отдыха, где постояльцы лечились солнцем и свежим воздухом. Часто они были организованы в маленьких одноместных бунгало, где каждый жил отдельно.
Заведение подобного рода Кафка, похоже, впервые посетил в 1903 году в Вейссере Хирш, возле Дрездена. В августе 1905 года он снова проводит свой отпуск в санатории, на этот раз в Цукмантеле, в австрийской Силезии. На почтовой открытке Максу Броду читаем: «Я, несомненно, уже написал бы тебе, если бы остался в Праге. Но я проявил беззаботность (это время его университетской учебы), и вот я уже четвертую неделю в санатории в Силезии; я вижу много людей, много женщин, и я стал довольно живым». Макс Брод вспоминает, что получил также другую открытку, на которой женским почерком были написаны слова: «Вот лес, и в этом лесу можно быть счастливым. Приезжайте же» — и неразборчивая подпись. Не исключено, что это та самая почтовая открытка, которая не была опубликована, и датирована она, скорее, 1906-м, чем 1905 годом, так как именно в 1906 году Кафка возвращается в Цукмантель и пишет Максу Броду: «Я давно исчез, и вот я появляюсь вновь, хотя мне еще и трудно обрести форму». После чего он сообщает своему другу некоторые сведения относительно проживания в Цукмантеле. Больше нам об этом ничего не известно, разве что только то, что в эти два года имела место одна из любовных связей, наиболее значимых для Кафки. Позднее в своем «Дневнике» и в своих письмах он будет вспоминать эту встречу, окружая ее самой большой таинственностью. Мы не знаем даже имени этой женщины, знаем только, что она была значительно старше его. Семь лет спустя в другом санатории у него произойдет другая встреча, на этот раз с совсем юной девушкой, и он всегда будет объединять эти два эпизода, оба совершенно целомудренные, как единственные реальные связи, которые он когда-либо имел с женщиной (до Милены, конечно). Эти любовные отношения принадлежат к сфере сакрального, и Кафка их прячет как можно глубже — галерку могут забавлять другие мимолетные связи, которые не считаются.
Надо ли идти дальше, как это делалось иногда, и предполагать, что Кафка с этого момента вынашивал планы женитьбы? «Свадебные приготовления в деревне», над которыми он работает в 1906–1907 годах, могут быть лишь литературной транскрипцией пережитых им событий. И когда он пишет в записке Максу Броду 19 февраля 1906 года: «Посмотри на выставке, нельзя ли найти что-нибудь красивое и не слишком дорогое (!). Возможно, для свадебного подарка», — речь, похоже, шла о его личных планах. Известно, с какими сомнениями и расчетами позднее будут связаны попытки Кафки жениться. Конечно, можно было бы предположить, что в пылу первой любви он решился внезапно, даже ничего не говоря ни семье, ни друзьям. Но вряд ли в то время — ему исполнилось только двадцать три года — он придерживался тех взглядов на брак, которые он будет исповедовать позднее. В 1912 году он будет считать, что не существует более приемлемой жизни, чем жизнь женатого человека, но четырьмя или шестью годами раньше он еще так не думает. Так, например, когда Макс Брод сообщает ему о своей собственной связи, он адресует 21 ноября 1908 года на удивление сдержанную записку: «Мой дорогой Макс, — пишет он ему, — похоже, если судить по газетам, все улаживается к лучшему для тебя, и единственно, я поздравляю тебя, я поздравляю себя, поздравляю нас обоих; и хотя, как я тебе об этом уже говорил, я не очень хорошо понимаю, где тут кроется счастье, я могу только радоваться, что тебе предоставляется возможность прийти к аналогичному убеждению». В то же время в «Свадебных приготовлениях» жених Рабан проявляет слишком мало усердия, чтобы соединиться с красивой молодой девушкой, «которая больше уже не молода», напротив, он, кажется, рад всем препятствиям, которые встречает на своем пути.
Ловушки биографической интерпретации всегда опасны, и здесь лучше их избежать, сохранив в цукмантельской истории всю таинственность там, где хотел ее оставить Кафка.
В следующем 1907 году август он проводит в Трише. Там он встречается с девятнадцатилетней девушкой Хедвигой Вайлер, которая изучает философию в Вене и проводит каникулы у бабушки вместе со своей подругой Агатой. Обе они убежденные социал-демократки; им приходится, говорит Кафка, прямо-таки стискивать зубы, чтобы не изрекать каждую минуту какой-нибудь лозунг или принцип. Вскоре он начинает грезить о ее коротких ногах и мальчишеском теле; намечаются любовно-товарищеские отношения, память о которых сохранилась благодаря тому, что нашлись полтора десятка писем Кафки к Хедвиге — дистанция между Веной и Прагой не стала помехой, скорее наоборот, она способствовала развитию их чувств. Какое-то время Кафка, не уверенный в своем будущем, помышляет присоединиться к ней в Вене, чтобы записаться в Высшую экспортную школу, затем, напротив, уже Хедвига думает о том, чтобы обосноваться в Праге (Кафка помещает объявление, чтобы обеспечить ей несколько частных уроков). Одно из писем 1908 года довольно хорошо передает душевное состояние Франца Кафки в эти годы, когда, можно сказать, решается его судьба. «Давай скажем вместе, стараясь произносить каждое слово одновременно: «Жизнь отвратительна». Ладно, пускай она отвратительна, но уже менее ужасно, когда это говорят вдвоем, поскольку чувство, готовое вас взорвать, встречает другого человека, который препятствует этому взрыву, и мы не колеблемся сказать, топая ногой: как мило она говорит, что жизнь отвратительна. Мир печален, но эта печаль окрашена в розовый цвет, а далека ли печаль от счастья, если она сильна?» Хедвига приезжает на несколько дней в Прагу, и они видятся непродолжительное время. В начале 1909 года, должно быть, произошла ссора, причина которой неизвестна, она просит Кафку вернуть ей ее письма. В последний раз он пишет ей в апреле 1909 года в дружеском тоне, но обращение на ты исчезло.
Не следует считать, что эти более светлые — или менее мрачные — моменты единственные в жизни Кафки этого периода. От поездки в Богемские леса в сентябре 1908 года сохранились кое-какие отзвуки, которые подтверждают это предположение. «Может ли вам, — пишет он Максу Броду, — быть еще лучше, чем мне». Или: «Я пишу, что очень счастлив и что был бы доволен, если бы ты тоже был здесь, так как в лесах есть что-то, о чем можно думать целыми годами, лежа на мху».
В начале сентября 1909 года Кафка собирается ехать с братьями Брод, Максом и Отто, в Риву на озере Гард, в то время еще австрийский город. Они решили отправиться во вторник, и Кафка пишет Максу Броду, что таким образом у него будет возможность избавиться от одного человека, который приезжает именно в этот день. Шла ли речь о Хедвиге Вайлер? Мы этого не знаем, но это маловероятно: избавление уже произошло. Но в письме Максу Броду, датируемом предыдущим месяцем, речь идет о другой женщине, о которой ничего не известно, кроме того, что Кафка убежден в том, что она его не любит. В том году любовные связи Кафки не редкость. В Риве они случайно встречают Карла Даллаго, писателя и апостола натуризма[2], занимавшего тогда известное место в литературном движении в Инсбруке при журнале «Der Brennek». Но лучше всего они провели время в Bagnidella Madonnina или катаясь на лодке по озеру. (Кафка, рассказывает Макс Брод, бесстрашно управлял байдаркой). Во время своего пребывания в Риве они услышали об авиационном празднике, который должен был состояться недалеко оттуда, в Брешии. Кафка, интересовавшийся всеми проявлениями современной жизни, настаивает на том, чтобы туда отправиться. Они едут втроем, ночуют в Брешии на таком убогом постоялом дворе, что посреди комнаты в полу зияет большая дыра. (Позднее Кафка использует воспоминания об этом в одной из глав «Процесса»). На следующий день в Дезенцано было так много клопов, что трое наших путешественников решают лучше провести ночь на скамейке под открытым небом. Но авиационный праздник в Брешии окольным путем подтолкнул Кафку к литературному творчеству.
К началу 1907 года Кафка еще ничего не опубликовал. Впрочем, Макс Брод в статье берлинского журнала «Die Gegenwart» упоминает его имя наряду с именами таких знаменитых писателей, как Ведекинд или Мейринк. Кафка, испытывающий властную потребность писать, но не признающий за собой никакого таланта, иронически благодарит его.
И в самом деле, он мало что может предложить в данный момент. Несколько месяцев спустя, в мае того же года, он заканчивает письмо Максу Броду просьбой перестать докучать ему по поводу двух написанных им глав. По всей видимости речь идет о рассказе, которому Брод собирался дать название «Свадебные приготовления в деревне» и которому суждено было остаться незаконченным и быть представленным публике только в 1953 году. Макс Брод вспоминает, что Кафка дал ему прочитать рассказ в квартире на Цельтнерштрассе, и эта деталь позволяет приблизительно установить дату, поскольку переезд на Никласштрассе состоялся в июне 1907 года. Впрочем, существует другая и даже две другие версии, которые, несомненно, являются несколько более поздними.
Это очень простая история некоего Эдуарда Рабана, который собирается ехать в деревню, но не спешит туда отправиться. Он предпочел бы отправить свое тело в путешествие, а сам в это время спокойно оставаться в постели, где ему кажется, что он похож на огромное жесткокрылое насекомое, майского жука или жука-рогача (этот мотив Кафка использует спустя пять или шесть лет, но с гораздо большей силой в «Превращении»). Мало-помалу проясняется, что в деревне его ждет невеста, но он не очень спешит к ней, хотя уже неделю как она его дожидается, не получая от него никаких вестей. Рассматривая ее фотографию, он находит ее уродливой и немодной (когда Кафка позднее задумается о внешности Фелицы Бауэр, он сделает аналогичное открытие). Впрочем, он решается ехать, но встречает на своем пути всевозможные препятствия: проливной дождь, докучливых людей, которые его задерживают. Когда наконец он приезжает на постоялый двор, где хочет переночевать, там не оказывается никого, чтобы принять его среди ночи. Этот набросок Кафка дальше не развивает.
Когда сегодня читаешь «Свадебные приготовления в деревне», они производят впечатление упражнений в стиле, которые по сути выполнены в манере, совершенно противоположной манере «Описания одной борьбы». Вместо причудливых перипетий и разгула воображения Кафка выбрал теперь строгость и жесткость. Он следует за реальностью, кажется, что внимание повествователя поглощено деталями повседневности, осаждающими его. Предметы господствуют безраздельно, они завлекают в западню наблюдателя или героя, и стиль «Свадебных приготовлений» порою сравнивали со стилем Флобера. Но анализ здесь предельно краток: реальность выступает лишь как раздробленная на бессвязные отрывки, персонажи повествования вовлечены в калейдоскоп картин, которые лишают их действия осмысленности. Кафка не станет настойчиво придерживаться этой манеры, единственным образцом ее останутся «Свадебные приготовления». Но сегодняшний читатель порой склонен узнавать в этой предельной сухости приемы, аналогичные тем, которые полвека спустя будет использовать «новый роман». Можно подумать, что Кафка здесь стремится освободиться от всех издержек сознания «конца века». Но, несомненно, он идет в противоположном направлении и быстро устает от своего рассказа. Никакая настойчивость Макса Брода не может побудить его продолжить произведение.
Тем временем Макс Брод установил многочисленные связи в литературной среде. В частности он был связан с Францем Блеем, австрийским публицистом, живущим в Мюнхене. И Кафка и Брод были подписаны на «Опал» и «Аметист» — два эротических журнала, которые издавал Блей (если это удивляет, стоит подумать о том, что задуманное в то время Максом Бродом произведение должно было первоначально называться «Эрот»). А Блей начинает издавать новый журнал «Гиперион», которому, впрочем, было суждено недолгое существование. Именно в нем были опубликованы первые тексты Кафки. Отчасти это были отрывки из «Описания одной борьбы», некоторые из них столь коротки — всего лишь несколько строчек, — что, будучи вырванными из контекста, они приобретают иной вид: теперь они воспринимаются в качестве остроумных и притом глубокомысленных афоризмов. В «Гиперионе» также были опубликованы многие из восемнадцати маленьких текстов, которые будут объединены в 1913 году в одном томе под названием «Betrachtung». Тексты были настолько короткие, а томик оказался настолько тонким, что для его издания пришлось использовать необычно крупный шрифт. Слово Betrachtung в немецком языке может иметь несколько значений. Вначале полагали, что речь идет о медитации или созерцании, на самом же деле речь шла лишь о взгляде на жизнь, как на мировой спектакль. Спектакль, в котором мы вовсе не участвуем. Эти рассказы небольшие и очень разные по сюжету, хотя все взяты из обыденного опыта (коммерсант, который возвращается вечером домой; мечтания во время проезда в трамвае; рассеянный взгляд, брошенный в окно), все они выражают неудачу и разочарование. С какой стати быть победителем в лошадиных скачках? Мы только навлечем на себя зависть и ненависть. Зачем вмешиваться, когда мы видим двух человек, преследующих друг друга на улице? Что мы знаем о них, кто знает, виноват ли один из них, и к тому же имеем ли мы право повиноваться нашей усталости? Зачем вести дальше разговор с девушкой, которую встречаем? С первой же минуты каждый из двух разочарован другим. И ребенок, который мечтает быть краснокожим, постепенно видит разрушение своей мечты: «Быть бы индейцем, готов хоть сейчас, и на мчащейся лошади, наискось в воздухе, коротко вздрагивать над дрожащей землей, а потом отпустить шпоры, ибо нет шпор, а потом отбросить поводья, ибо нет поводьев, и едва видеть перед собою землю выкошенной догола степью, уже без холки, уже без головы лошади».
Все эти небольшие тексты отличаются крайней скромностью, будто их автор считал себя предназначенным для малых жанров, и одновременно предельной утонченностью повествовательной манеры. Но в них уже просматривается квиетизм, который будет всегда вдохновлять мысль Кафки, убеждение в том, что всякое действие бесполезно и что волнение мира не стоит того, чтобы принимать в нем участие.
Тем временем Макс Брод, чтобы заставить Кафку писать и публиковаться, прибегает к разным хитростям: так, после авиационного праздника в Брешиа, где собрались Блерио, Кюртисс, Ружье, где присутствовали д’Аннунцио и Пуччини, он решает, что они напишут вдвоем с Кафкой отчет о встрече, и печатает в ежедневнике «Bohemia» описание Кафки. По первоначальному замыслу оба текста должны были быть представлены в сборнике статей Макса Брода под названием «О красоте уродливых образов» (который вышел в свет в 1913 году). В конечном счете издатель от этого отказался, чему Кафка мог быть только рад. Он участвовал вместе с Бродом в подготовке сборника и тогда же записал в своем «Дневнике»: «Вчера пополудни у Макса. Мы установили порядок статей для «Красоты уродливых образов». Против моей воли. Но именно в эти моменты Макс любит меня больше всего, или по крайней мере мне так кажется, так как тогда я сознаю, сколь мало у меня достоинств. Нет, он действительно любит меня больше. Он хочет включить мою «Брешиа» в свою книгу. Все, что есть во мне хорошего, противится этому».
VI
Дневник
«Силы зла слегка облизывали проходы, заранее радуясь, что позднее ворвутся через них»
Кафка начинает вести свой «Дневник» в конце 1909 года. К концу его жизни этот дневник будет состоять из тринадцати толстых тетрадей большого формата. Кафка очень свободно пользуется этими тетрадями: начинает их с двух сторон, начинает новую, затем возвращается к предыдущей. Он явно мало заботится о хронологической последовательности; в его замысел не входит стремление рассказать свою внутреннюю историю. Он записывает вперемешку события своей жизни, свои мысли, бесчисленные наброски рассказов. «Дневник» в основном, таким, каким он его задумал, особенно вначале, должен был служить оживлению слабеющего вдохновения. «То, — пишет он 17 декабря 1910 года, — что я так много забросил и повычеркивал, — а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, — тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера притягивает к себе все, что я пишу». И в тот же день в письме Максу Броду: «Центр всего моего несчастья в том, что я не могу писать, я не написал ни одной строчки, которую мог бы принять, наоборот, я вычеркнул все, что написал еще с Парижа — впрочем, это не Бог весть что. Все мое тело настораживает меня по отношению к каждому слову; каждое слово, прежде чем я его напишу, начинает осматриваться вокруг себя; фразы буквально ссыпаются под моим пером, я вижу, что у них внутри, и тотчас вынужден останавливаться». И Кафка обращается к «Дневнику» как средству против сухости стиля — таким образом он заставляет себя писать. К концу 1911 года он замечает, что средство это оказалось не совсем бесполезным: «Сегодня утром я листал дневник с мыслью о том, что можно прочесть Максу. При этом я не обнаружил ни особой ценности записей, ни необходимости тут же выбросить все. Мое мнение лежит между обоими суждениями, ближе к первому, но все же оно не таково, чтобы, исходя из ценности написанного, я, несмотря на свою слабость, должен был считать себя исчерпанным». Этот момент относительной снисходительности к себе длится недолго: менее чем через три месяца он бросит в огонь «много отвратительных старых бумаг».
Впрочем, Кафка обращается к «Дневнику» очень нерегулярно. Нужно ждать осени 1911 года, чтобы обнаружить ежедневные или почти ежедневные записи; затем он ему снова надоедает, он пропускает дни, потом недели. Тем не менее между концом 1909 и осенью 1912 года, то есть за тот период, о котором идет речь в данной главе, была написана большая половина «Дневника». В эти годы у него нет другой заботы, кроме сочинительства. Одно оно заполняет его жизнь и разрушает ее. Дневник является в одно и то же время свидетелем и орудием этих усилий и неудач. Так, 25 февраля 1912 года Кафка записывает: «С сегодняшнего дня обязательно вести Дневник! Писать регулярно! Не забрасывать! Даже если не последует никакого облегчения, я хочу в любой момент оставаться достойным его».
Если мы хотим определить, чем был в эти годы для Кафки бесплодный литературный труд, достаточно прочесть следующие друг за другом наброски одного очень короткого рассказа, следы которого сохранились в «Дневнике» и который начинается словами: «Эй! — сказал я, слегка толкнув его коленом /…/». Речь идет о двух персонажах, которые спорят на пороге дома. Один из них приглашен на вечеринку, его компаньон хочет отговорить его идти туда. Кафка здесь лишь возвращается к одной из тем «Описания одной борьбы» — противопоставлению деятельного человека и мечтателя, общительного и одинокого. Это одна из магистральных линий его размышлений этого периода — представитель богемы, анархист, который пытается склонить на свою сторону друга, в одном месте назван даже «холостяком улицы». «Дневник» хранит шесть или семь последовательных версий этого непритязательного текста. Первая появляется раньше, в ноябре 1910 года. Последняя, озаглавленная «Разоблаченный проходимец» и впоследствии включенная в сборник «Созерцание», закончена в августе 1912 года. Это двухстраничный текст, на который Кафка должен был употребить, как он пишет, «последние силы нормального состояния духа». В другой раз он, чтобы заполнить пустоту, вынужден описать свой рабочий стол, с его полками и ящиками. Он трансформирует его, подчеркивая используемый прием, в театральный зал с балконами и ложами. Как в этом постоянном конфликте с пустотой сохранить какую-то веру в свой талант? Когда он читает Гете, — что часто делает в этот период, — он чувствует себя парализованным такой жизненностью и силой. И даже когда Макс Брод знакомит его с первым актом одной из своих пьес, сегодня уже забытой, он чувствует себя раздавленным восхищением своим другом и одновременно стыдом, который он испытывает по отношению к себе: «Как мне такому, каков я сегодня, противостоять этому? Мне понадобился бы целый год поисков, чтобы отыскать в себе настоящее чувство и чтобы я имел право, терзаемый сверх того плохим пищеварением, сидеть поздно вечером в кафе перед таким творением?» Позднее, услышав новеллу Эльзы Тауссич (на которой Макс Брод вскоре женится) и пьесу своего друга Оскара Баума, он чувствует себя, по его словам, столь подавленным, а свое сердце столь исполненным печали, что собирается тотчас же прервать то, над чем работает. Он поражен молодым Верфелем, тогдашним кумиром литературной среды, словно неслыханным феноменом, и удивлен тем, что дошел до того, что в течение всего вечера не спускал с него глаз, а после прослушивания, пишет он, чувствовал себя раздавленным и одновременно восхищенным.
Что делать, чтобы оживить столь строптивое вдохновение? Кафка может черпать его лишь в своем повседневном опыте и в жалкой действительности, с которой соприкасается. Во фрагменте, названном «Городской мир», впервые появляется конфликт между тираническим отцом и его сыном, схожим с автором. Всякая манерность, в которой сначала заблудился Кафка, исчезла, стиль стал прозрачным, но, несомненно, слишком прозрачным, события лишь слегка намечены, тексту до такой степени недостает плотности, что автор не замедляет оставить его. Другой текст описывает содом отцовского дома; это всего лишь кусок жизни, представленной во всей своей унылой банальности: «Отец прорывается через двери моей комнаты, и проходит, в волочащемся сзади халате; из печи в соседней комнате выгребают золу; Валли, выкрикивая через переднюю, слово за словом, спрашивает, вычищена ли уже отцовская шляпа /../». За неимением лучшего Кафка даже соглашается на публикацию этого текста в одном из литературных журналов Праги.
Кафка открывает в себе вкус к миметизму: если он не способен охватывать в целом смешное или грубое зрелище, он сможет имитировать его в деталях: «манипуляции, которые некоторые люди проделывают со своей тростью, манеру держать руки и шевелить пальцами». Именно этот миметический талант снова проявляется в маленьких рассказах этого периода. Он превосходно умеет передать необычную черту, забавный жест, лишающий событие важности и серьезности, превращающий его в спектакль, на который мы смотрим со стороны. Для такого рода картин, по-видимому, лучше всего подходят дорожные дневники. Кафка описывает своих спутников в железнодорожных купе, крупье в игорных залах, пансионеров в домах отдыха, в которых он часто бывает. Но уже в обычном «Дневнике» он таким же образом передает случаи из своей жизни. Так, однажды, когда служащие отцовского магазина пригрозили уволиться все вместе и он поехал в пригород Праги, чтобы попытаться уговорить их одного за другим, он описывает это событие так, как это делается в романе, с той же отстраненностью и той же заботой о живописности. Но это всего лишь упражнение в стиле (именно этому и служит «Дневника), творческая активность не находит должного оживления.
И однако он не сомневается в своем призвании. Он чувствует себя на пороге божественного освобождения, которым для него могло бы стать начало сочинительства. Иногда у него появляется обманчивое чувство, будто в его сознании рождаются столь же совершенные фразы, какими они могут быть, однако это не так: «Бесспорно, — пишет он, — все, что я заранее, даже ясно ощущая, придумываю слово за словом или придумываю лишь приблизительно, но в четких словах за письменным столом, при попытке перенести их на бумагу, становится сухим, искаженным, застывшим, мешающим всему остальному, робким, а главное — нецельным, хотя ничто из первоначального замысла не забыто». Это объясняется тем, что изобилие возникающих в его сознании мыслей и образов столь велико, что ему приходится выбирать и что выбор в конечном итоге делается вслепую и случайно. Отсюда изнурительное чередование надежды и отчаяния. «Иногда, — пишет он, — утром или вечером я безгранично верю в свои творческие способности: я чувствую себя освобожденным до самых глубин моего существа, я могу извлекать из себя все, что я хочу». Но вслед за воодушевлением тотчас же следует разочарование. Иногда у него складывается впечатление, что ему достаточно было бы немного мужественности, чтобы выйти из этого состояния. Так, он описывает свое литературное бесплодие как половое бессилие и, развивая эту метаморфозу, вспоминает свое небольшое приключение с мадемуазель Байи, когда однажды французская гувернантка забавлялась, вызывая у него возбуждение: «Тут налицо также невысказанные чувства, которые впоследствии должны самоуничтожиться, с той разницей, однако, что речь идет о силах более таинственных и о моей конечной цели». Таким образом, он продолжает созерцать берег, которого никогда не может достичь. Из-за этого он теряет сон — бессонница отныне становится бедствием, которое разрушит его жизнь: «Ведь как бы мало и плохо я ни писал, эти малейшие потрясения делают меня очень чувствительным, я ощущаю — особенно по вечерам и еще больше по утрам — дыхание, приближение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула: он тягостно шумит во мне, но унять его у меня нет времени. В конечном счете этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония; выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня не хватает сил вынести теперешнюю мысль». Ночные испытания делают его нервным, легко возбудимым, неприятным в общении с близкими. Он приходит к тому, что начинает испытывать страх к писанию. Это свидетельствует об огромном честолюбии, которое Кафка открывает в себе самом, и одновременно о его несчастье. Ему едва исполнилось двадцать восемь лет, когда он пишет эти строки, и уже понятно, как сочинительству суждено было его разрушить: невыносимым напряжением, которого оно требует, разочарованиями, которые оно вызывает, губительной гигиеной жизни, которую оно установит. Страдания Флобера, с которым Кафка, несомненно, должен был иногда себя сравнивать, всего лишь детская забава.
Вот почему, когда знаменитый Рудольф Штайнер, отец антропософии, оказывается проездом в Праге, Кафка, прослушав его лекцию, отправляется к нему на консультацию. В своем «Дневнике» он с большой иронией дает отчет об этом визите, но он серьезно надеялся на помощь со стороны знаменитого чудотворца. В этот период он чувствует себя столь мятущимся между работой на службе и своим не удовлетворяющим его литературным творчеством, что ждет совета: может быть, теософия сможет прийти ему на помощь? Но ее он тоже немного боится: не будет ли она третьим источником смятения? Он приготовил для консультации небольшое предварительное изложение, в котором объяснял, что достигал в литературе — довольно редко, добавлял он, — состояний, мало отличимых от состояний ясновидения, описанных Штайнером. В эти моменты, говорил он, я «всецело жил при этом всякой фантазией и всякую фантазию воплощал и чувствовал себя не только на пределе своих сил, но и на пределе человеческих сил вообще». Можно легко догадаться, что Рудольф Штайнер ничем не мог ему помочь, но этот напрасный визит по-своему подтверждает то, чего Кафка ожидал от литературы и что она ему, правда изредка, давала: не раскрытие неизвестной истины, но глубокое согласие с самим собой, согласие, которое производит впечатление пришедшего извне как своего рода милость. Но лишь однажды, во время написания «Приговора», он испытает это чувство удачи и полноты.
Пока же Кафка подобен художнику, который никогда не разлучается со своим блокнотом для эскизов, но который не отваживается начать картину. Сами наброски, по меньшей мере если судить о них по «Дневнику», за эти три года не очень многочисленны. Имелись ли они еще где-нибудь — в разных тетрадях или на отдельных листках? Ничто не позволяет это утверждать, поскольку он уничтожил большую часть созданного в эти годы. Наиболее вероятно, однако, что не было ничего или почти ничего. По меньшей мере до 1912 года, когда 16 марта он запишет: «Суббота. Снова ободрился. Снова я ловлю себя как мяч, который падает и который ловишь во время его падения. Завтра, сегодня начну более крупную работу, которая просто должна быть мне по плечу. Я не отступлюсь от нее, пока хватит сил. Лучше бессонница, чем такое существование». 9 мая он записывает вновь: «Как я, несмотря на все тревоги, держусь за свой роман — совсем как скульптурная фигура, которая смотрит вдаль, держась на глыбе». Речь идет об американском романе, о первой версии того, что шесть месяцев спустя станет «Пропавшим без вести». Он напишет около двухсот страниц, которые отбросит, а в письме Фелице Бауэр в марте 1913 года квалифицирует этот первый вариант как «абсолютно непригодный».
«Дневник» все же кое-как выполняет свое назначение в течение долгих месяцев застоя. Впрочем, это было небезопасным предприятием. Письмо закрепляет реальность, оно сгущает то, что было текучим, запечатлевая конфликты, оно рискует сделать их бесповоротными. Кафка это знает и говорит об этом. В тот день, когда он с яростью записал в своем «Дневнике» пренебрежительные отзывы, сделанные его отцом о Максе Броде и об Исхаке Лёви, он добавляет: «Я не должен был писать это, так как от писания я буквально погрузился в ненависть к своему отцу, ненависть, к которой, впрочем, он не дал повода и которая, по меньшей мере в том, что касается Лёви, не вязалась со словами, которые я приписал отцу, и которая еще больше усиливается от того, что я не могу больше вспомнить, что же было действительно злобного в его вчерашнем поведении».
Именно «Дневник» придает форму ненависти, которую он питает к своим близким. Эта ненависть родилась не накануне, но оставалась скрытой, невысказанной. Запечатленная же в письме, она стала бесповоротной.
Другая опасность, несомненно, была еще более серьезной. «Дневник» в основном предназначался для того, чтобы дать толчок литературной деятельности Кафки, обратить его взгляд к действительности. Но этот замысел терпит крах: литературное творчество не возрождается, а вместо встречи с внешним миром его глазам открывается зрелище самого себя. Таким образом, склонность к интроверсии, существовавшая всегда, усилилась. Кафка замечает это и приходит в отчаяние: «Сегодня после полудня, — пишет он однажды, — боль из-за моего одиночества охватила меня так пронзительно и круто, что я отметил: таким путем растрачивается сила, которую я обретаю благодаря писанию и которая предназначалась мною, во всяком случае, не для этого». И месяц спустя: «Сейчас, как уже сегодня пополудни, я испытываю горячее желание изгнать из себя при помощи письма состояние страха и, поскольку страх этот исходит из глубины меня самого, вогнать его в глубину бумаги или описать его таким образом, чтобы я мог полностью ассимилировать это описание с самим собой». А затем добавляет: «Речь здесь не идет о художественном желании».
И в самом деле, познание себя или поиски самого себя заменили необходимость творить. Это было начало продолжительного периода, время окончания которого можно также определить, — конец 1917 года, то есть после появления болезни он запишет в «Дневнике»: «В последний раз о психологии». Он поставит тогда под сомнение «знание, которое можно иметь о себе». Но в 1912 году начинается новый период интроверсии и возвращения к себе, причиной чего по большей части является «Дневник». С самого начала, в первые дни 1910 года, он пишет: «Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем бы был доволен /…/, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью, здесь еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом». И поскольку это время прохождения кометы Галлея, он говорит немного дальше: «Каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы». Теперь Кафка занят созерцанием своей беды, настойчивым терзанием самого себя. Это занятие небезопасно: оно рискует оказаться парализирующим, оно рискует также оказаться обманчивым. И в самом деле, в записи от 12 января 1911 года читаем: «В эти дни я многого не записал о себе, отчасти из лени /…/, отчасти также из страха выдать свои познания о себе. Этот страх оправдан, ведь самопознание тогда заслуживает быть зафиксированным в записи, когда оно может осуществиться с максимальной полнотой, с пожиманием всех, вплоть до второстепенных, последствий, а также с полнейшей правдивостью. Если же оно осуществляется не так, а я во всяком случае так не умею, тогда записанное по собственному усмотрению, приобретя могущество именно благодаря фиксации, выдает вскользь почувствованное за истинное чувство и ты лишь запоздало сознаешь всю бесполезность записанного».
«Дневник» побуждает Кафку к терзаниям. Недоверие к самому себе будет расти, остатки энергии будут исчезать. Эта глава могла бы называться «Вызревание краха». Начнет развиваться невроз, долгое время протекавший скрытно. В предыдущие годы он оставался под контролем или был скрыт благодаря, несомненно, всем любовным приключениям без последствий, а также благодаря, может быть, новизне работы. Теперь установилась рутина, будущее кажется таким же мрачным, как и настоящее. Гораздо позднее, лишь за несколько месяцев до смерти, Кафка напишет Максу Броду, вспоминая путешествие, которое они совершили вместе в 1911 году по Северной Италии: «Если я не пишу тебе, это вовсе не потому, что я не стремлюсь снова найти с тобой откровения, такого, которого, как мне кажется, у нас больше не было со времени итальянских озер (есть определенный смысл в том, чтобы сказать об этом, потому что между нами тогда была эта поистине невинная невинность, которая, может быть, не заслуживает того, чтобы испытывать по ней ностальгию), но силы зла лишь слегка облизывали проходы, заранее радуясь, что позднее ворвутся через них».
На первых страницах «Дневника» в записи от 28 мая 1910 года мы читаем». «Я занимаюсь гребным спортом, езжу верхом, плаваю, загораю. Вследствие этого мои икры в хорошем состоянии, бедра выглядят неплохо, живот тоже, но грудь уже имеет жалкий вид». Это констатация хорошего здоровья и в то же время тревоги за будущее.
15 августа следующего года он находит утешение в том факте, что он больше не стыдится своего тела, когда идет плавать в бассейнах Праги или окрестностей. Но ипохондрия не замедляет появиться вновь. Так, 20 октября 1911 года он пишет: «Я, несомненно, болен, со вчерашнего дня у меня ноет все тело. Пополудни все лицо мое горело всеми красками, так что я даже боялся, что парикмахер, который меня стриг, заподозрит серьезную болезнь. Отношения между моим желудком и моим ртом также несколько испорчены: какой-то комок, тяжелый, словно гульден, то поднимается, то опускается, то остается внизу и производит распространяющее давление, которое сильно давит на грудь». Кафка никогда не переставал быть внимательным к своему телу. Однако он не мнимый больной: его здоровье в эти годы ухудшается. Плохое ли состояние здоровья питает его невроз или же невроз в конце концов подрывает его здоровье? Как в этом разобраться? Сам он придерживается первого мнения. 22 ноября 1911 года он записывает: «Бесспорно, что главным препятствием к успеху является мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью /…/. Мое тело слишком длинно и слабо, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тепла для сохранения внутреннего огня, нет жира, которым мог бы иной раз подкрепиться измотанный потребностями дня дух, не причиняя вреда целому. Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног? Только до колен — и то ему хватило бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческой силой». Многократно он намекает на короткие обмороки, которые старается скрыть от окружающих. С течением времени он чувствует себя все более нервным и слабым; он потерял, по собственному выражению, большую часть своего спокойствия, которым некогда так гордился. Узнав однажды, что ему предстоит прочесть небольшую лекцию, чтобы представить своего друга актера Исхака Лёви, он был охвачен неудержимыми спазмами, пульсирование артерий вызвало что-то вроде маленьких искр по всему телу, колени дрожали под столом. Избранный им ритм жизни не годился для того, чтобы компенсировать эти расстройства. С другой же стороны, нет уверенности, что врачи одобрили бы вегетарианский режим, которому он подчинил себя и достоинства которого не прекращал восхвалять. Правда, он не питал никакого доверия к врачам.
Вот таким был Кафка по отношению к литературному творчеству и по отношению к своему телу. Пора сказать, каков он был с другими людьми, на работе, в семье, в отношениях с женщинами, с друзьями.
Тяготы работы не изменились по сравнению с предыдущими годами, когда он был привязан в Праге к своему рабочему столу или когда его посылали в провинцию для инспекций или экспертиз. «До тех пор, — говорит он, — пока я не свободен от работы в конторе, я попросту потерян, это для меня совершенно ясно. Речь идет лишь о том, чтобы, насколько это возможно, высоко держать голову, чтобы не утонуть». Как писать литературное произведение, когда каждую минуту тебя прерывают требования профессии. Такая двойная жизнь может довести до сумасшествия. Подобные соображения осаждают его постоянно. Однажды, впрочем, у него возникает противоположная мысль: он задается вопросом, хватит ли у него энергии посвятить всю свою жизнь литературе. В записи от 14 декабря 1911 года читаем: «Сегодня я поймал себя на мысли, что мог бы быть весьма удовлетворен своим настоящим положением и что я должен остерегаться того, чтобы высвободить все свое время ради литературы. Едва я принялся рассматривать эту мысль поближе, как перестал считать ее удивительной и она мне показалась уже привычной». И, несомненно, он говорит правду: литературное творчество сопровождается для него такими нервными издержками, что он не может, не рискуя своим здоровьем, уделять ему еще больше времени. В этой столь беспорядочной жизни работа, вопреки ее тяготам, является элементом стабильности: она и неудобство, но одновременно и противовес. Кафка ее проклинает, но и находит в ней также удобные отговорки.
Отношения Кафки с семьей ухудшились, об этом уже говорилось, после того как стали осмысленными и ясными. Эти годы в сущности становятся для него годами начала семейной драмы. Но главным событием в этой области является открытие асбестовой фабрики. Старшая из сестер Кафки к концу 1910 года вышла замуж за некоего Карла Германна, торговца, который станет любимым зятем Германа Кафки. Франц, как он пишет Максу Броду, без особого труда «переварил» своего нового родственника. Но к концу 1911 года Карл Германн решает открыть в Жижкове, пригороде Праги, асбестовую фабрику. Уступая давлению своих родителей, которые не прекращали упрекать его в том, что он зарабатывает слишком мало, Франц Кафка соглашается участвовать в предприятии и с этой целью занимает деньги у своего отца. Он участвует с Карлом Германном в составлении контракта у адвоката, и, похоже, в ходе этих переговоров рождается антипатия между зятем и шурином: «Я изучал лицо Г., который повернулся в сторону адвоката, — говорится в «Дневнике». — Враждебность этого рода должна легко возникать между двумя людьми, которые обычно не привыкли задумываться над их взаимоотношениями и в результате сталкиваются между собой из-за любого пустяка». Есть все основания полагать, что инициал Г. означает здесь Карла Германна. Но, как бы там ни было, Кафка становится совладельцем фабрики, в которой он ничего не понимает, и оказывается втянутым в это дело в гораздо большей степени, чем мог предполагать вначале. Его принуждают — отец посредством упреков, зять посредством молчания, сам он чувством вины — в послеобеденное время контролировать работу предприятия, которое функционирует плохо и для которого Карл Германн вскоре должен будет искать новые капиталы. Кафка повинуется, идет на фабрику, где сразу же отмечает тяжелые условия труда рабочих (общеизвестно, что работа с асбестом тяжела и опасна). Так он оказывается вовлеченным в новую тяжелую работу, которая обременяет его больше всех других, поскольку он чувствует здесь свою полную некомпетентность. Однажды в отчаянии он даже помышляет выброситься из окна, о чем пишет Максу Броду, который предупреждает его мать. Это тот случай, когда она, впервые обнаружив грозящую ее сыну опасность, соглашается разыгрывать комедию, убеждая Германа Кафку в том, что его сын каждый день после обеда отправляется в Жижков. С грехом пополам фабрика будет работать до 1917 года, письмо Максу Броду датировано 8 октября 1912 года.
Что остается делать Кафке, остро ощущающему, как угасает его способность творить, расшатывается здоровье, все более ненавистными становятся семейные отношения («Ненавижу их всех подряд», — пишет он Максу Броду в письме от 8 октября 1912 года).
Какова его половая жизнь? Каковы его любовные связи? Дневник сообщает о посещениях борделей — в Милане, в Париже, но они, можно сказать, вызваны прежде всего любопытством туриста, а также в Праге в конце сентября 1911 года. Немного позднее образы борделя преследуют его во сне: ему снится, что он ласкает бедро проститутки и внезапно обнаруживает, что все ее тело покрыто гнойниками. Этот сон не дает достаточного основания для немедленного заключения о его страхе перед плотью. Тем не менее Кафка отмечает в декабре 1911 года в одной из записей полное отсутствие желания: «Прежде, — пишет он, — мне не удавалось свободно объясняться с людьми, с которыми только что познакомился, потому что я был бессознательно стеснен присутствием сексуальных влечений, теперь же меня смущает осознание отсутствия влечения». На горизонте его мыслей не только нет больше ни одной женщины, теперь он даже боится разговаривать с девушками, предпочитая видеться с ними только лишь в присутствии более пожилых женщин: «Если слова, которые спонтанно срываются с моих уст, не подойдут девушке, они всегда могут быть восприняты особой постарше, у которой я смогу в случае необходимости найти помощь».
Это время, когда тема холостяка внезапно выходит на первое место в «Дневнике» и в творчестве. Кафка предпочитает стремиться к семейным устоям, к жизни, похожей на ту, что называют «буржуазной», по которой можно плыть, как на хорошем корабле, «с пеной впереди и следом за кормой». Когда однажды он видит зрителей, которые выходят из театра, застегивая свои пальто и убирая бинокли, он завидует тому, что они возвращаются к себе в свои уютные интерьеры (будь они даже, добавляет он, освещены одной свечой, этого вполне достаточно, чтобы отправиться спать). И параллельно он рисует образ холостяка, который возвращается к себе домой, неся с собой ужин, в застегнутом рединготе, в шляпе, надвинутой на глаза, «с фальшивой улыбкой, которая защищает его рот так же, как пенсне защищает глаза», вынужденный нескромно искать убежища в доме других, любоваться детьми других, оставаться запертым в своей пустой комнате. Кафка теперь убежден, что его ждет именно такая судьба. В лучшем случае, думает он иногда, что женится годам к сорока на какой-нибудь дурнушке, на «старой деве со слегка выступающими вперед зубами, открытыми верхней губой». Но чаще всего он не удостаивает себя даже незавидной участью такого рода; он знает, что останется одинок. Когда адвокат, составляющий контракт относительно асбестовой фабрики, приходит к Кафке, чтобы уладить юридические вопросы, на случай если у него появятся жена и дети, Кафка замечает перед собой стол с двумя большими креслами и одним маленьким: «При мысли, что я никогда не смогу занять эти или другие сидения со своей женой и своим ребенком, меня с первой же минуты охватило отчаянное желание такого счастья». Чтобы убедиться в своем злополучии, он повторяет слова, только что сказанные ему его другом Исхаком Лёви, а именно, что согласно Талмуду «мужчина без женщины не человек». 27 декабря 1911 года он пишет: «Несчастный мужчина, который должен остаться без детей, ужасно замкнут в своем несчастье. Никакой надежды на возрождение, никакой помощи в ожидании лучшей участи. Он должен идти своим путем, отмеченный несчастьем». Время пустых амуров прошло; Кафка понял, что он столь же мало способен к любви, как и к музыке. И с трезвостью суждений, составляющей его силу и его несчастье, 3 января 1912 года — дата, достойная быть выделенной, — он пишет: «Я не могу выносить никакую женщину, которую любил бы».
Но не только в отношении женщин он открывает свое одиночество — он ощущает его по отношению ко всем. Он стал неспособен, по собственным словам, смотреть людям в глаза, когда его начальник в бюро обсуждает с ним какое-либо дело, очень скоро перед ними возникает легкое ощущение горечи, из-за которого они перестают смотреть друг на друга: «Я пытаюсь этому противостоять, ускоряю скольжение моего взгляда, концентрирую его по преимуществу на его носу и на тенях вдоль щек, мне часто удается удерживать лицо в его направлении, лишь стискивая зубы и поворачивая язык во рту».
Он вменяет себе в вину безразличие, бесчувственность, обвиняет себя в бессердечии: «В течение двух дней, — пишет он в начале 1912 года, — я отмечаю в себе, когда того хочу, холодность и безразличие. Вчера во время прогулки малейший шум на улице, беглый взгляд, брошенный на меня, любая фотография в витрине казались мне более важными, чем я сам». Он испытывает чувство, что терпит крах во всем, что предпринимает. Он не умеет обращаться с детьми, которые лишь раздражают его. Так, рождение его племянника Феликса, сына Элли, для Кафки всего лишь причина непристойного шума в доме; обрезание ребенка он описывает со смесью любопытства и отвращения. Ему кажется, что он видит, как мир закрывается перед ним: «В воскресенье пополудни, перед тем как войти в дом Макса, после того как я обогнал трех шедших по улице женщин, я подумал: «Есть еще один или два дома, где мне есть что делать. Женщины, идущие позади в воскресный полдень, могут еще увидеть, как я вхожу спешным шагом в арку для работы или беседы, с каким-то определенным намерением. Нет уверенности, что это будет длиться еще долго» (31 октября 1911 года). И еще в декабре 1910 года: «Я каменный, я свой собственный могильный камень». Именно о погружении в одиночество рассказывает «Дневник» в течение этих долгих месяцев. Постоянно обращенный на себя взгляд, упражнения в писании, даже или в основном, если он обращается к нему только в страдании, ускоряют это добровольное заточение. Во всей литературе, несомненно, найдется мало страниц, сравнимых с этими торопливыми записями, которые не предназначались для прочтения.
«А дружба?» — последует вопрос. Разве верный, незаменимый Макс Брод ничем не мог помочь Кафке? Кафка никогда не ставит под сомнение талант Макса Брода, а тот убежден в гениальности Кафки, оба они питают друг к другу безукоризненную нежность, и, по-видимому, у них нет никаких секретов друг от друга. И тем не менее, когда Макс Брод много времени спустя, после того как напишет биографию своего друга, обнаружит «Дневник» Кафки, он будет поражен, столкнувшись с такими потемками, о которых и не подозревал. Он изобразил Кафку озабоченным, но полным жизни, пребывающим в поисках равновесия и мудрости. Он увидел в его творчестве «настольную книгу положительной жизни», а «Дневник» неожиданно раскрывал перед ним безысходные сомнения, тяжелый невроз, планы самоубийства. Этот промах, который ему потом столь несправедливо ставили в упрек, несомненно, был неизбежен. Кафка в отношениях с друзьями отличался деликатностью и юмором, но в нем были темные зоны, столь глубокие, что туда нелегко было открывать доступ его близким и более всего доброму Максу Броду, с его золотым сердцем и его неизлечимым оптимизмом. У дружбы были свои границы, которые Кафка чутко улавливал. Однажды, чувствуя ко всему безразличие и пребывая в плохом настроении, он признает себя неспособным описать Максу Броду состояние, в котором находится, «так как именно там, — пишет он, — находятся вещи, которые он никогда как следует не понимает». И добавляет: «Следовательно, я должен был быть неискренним, что и испортило все. Я был столь жалок, что предпочел говорить с Максом, когда его лицо было в тени, хотя мое было целиком освещено и на нем можно было прочесть гораздо больше /…/. На обратном пути после расставания меня мучили угрызения от лицемерия и страдания от сознания его неизбежности. Намерение подготовить специальную тетрадь, посвященную нашим с Максом отношениям. Все, что не записано, остается мельтешить перед глазами, и таким образом случайность оптических впечатлений определяет общее суждение». Кафка никогда не вел такую тетрадь, но позднее он напишет Фелице Бауэр: «Макс плохо разбирается во мне, а когда разбирается хорошо — значит ошибается».
В том же письме Фелице Бауэр, в котором он высказывает это суровое суждение о своих отношениях с Максом Бродом, он пишет: «Мы никогда не были столь близкими, как во время путешествия». Следует сказать несколько слов о путешествиях, бывших в эти мрачные годы редкими светлыми моментами в жизни Кафки.
В 3910 году Кафка смог уйти в отпуск в октябре, поскольку генеральная проверка категорий риска в Агентстве потребовала его обязательного присутствия в бюро в течение летних месяцев. В октябре вместе с Максом и Отто Бродами он отправился в Париж, но фурункулезное воспаление вынудило его покинуть обоих друзей и поспешно вернуться в Прагу. Здесь он прошел курс лечения, затем в декабре отправился сам в Берлин провести остаток отпуска.
В конце августа 1911 года Кафка и Макс Брод отправляются в путешествие по Италии через Швейцарию. Действительно, их можно увидеть в Цюрихе, Люцерне, Лугано. Но, когда они прибывают на итальянские озера, разносится слух об эпидемии холеры в стране. В Милане они обсуждают вопрос, ехать ли в Женеву или Болонью. В конечном счете они выбирают Париж, где Кафка не смог побывать прошлым летом. К середине сентября друзья расстаются, и Кафка отправляется провести несколько дней в санатории Эрленбах на Цюрихском озере. И хотя путешествие явилось приятной разрядкой, Кафка не прочь обрести одиночество. Касаясь своего прибытия в санаторий, он записывает: «Хотя мне приятно, что затем я остался один, что мое несчастье по-прежнему пребывало в моем сознании, что в обеденном зале играли в две коллективные игры, в которых я не принимал участие, поскольку был неспособен, и, наконец, главное, что я пишу лишь плохие вещи, я не чувствовал, что эта изоляция, впрочем, органически мне присущая, может таить в себе нечто уродливое, бесчестящее, печальное или болезненное. Это похоже на то, как если бы я представлял собой всего лишь груду костей».
Путешествие было приятным, но у Кафки возникла сомнительная идея воспользоваться им как отправной точкой для романа, который он напишет вместе с Максом Бродом. Каждый будет вести путевой дневник, и на основе этих записей в дальнейшем можно было бы составить совместный текст, в котором предстанут характеры и причуды обоих путешественников. Можно было бы даже придумать возникшее на какое-то время разногласие, завершающееся примирением. Но уже в день отправления Кафка осознал, насколько замысел неудачен: невозможно было описывать путешествие и одновременно портреты путешественников, ибо одно накладывалось на другое и негативно отражалось на том и на другом. Кафка жадно записывал все дорожные события, все живописные или пикантные детали. Результатом этого является рассказ, написанный в манере несколько принужденной живости, возможно, позволяющей получить некоторое представление о двух путешественниках, но не сообщающий ничего существенного о самом путешествии. Первоначальный замысел гласил: «благодаря двойному контрастному освещению представить страны, в которых предстоит побывать, с той живописностью и значимостью, какими зачастую неправомерно наделяют лишь экзотические страны». Нет оснований утверждать, что оба автора достигли этой цели.
Но в любом случае по возвращении надо было вместе с Максом Бродом доводить текст до конца. Кафка и Брод встречаются в октябре и ноябре, чтобы над ним поработать. Дистанция, разделяющая двух писателей, тотчас же проявляется со всей ясностью. «Мы с Максом, — записывает Кафка, — абсолютно разные. Каждая фраза, которую он пишет для «Рихарда и Самуэля» (роман, который Кафка и Брод собирались писать вместе), требует от меня уступки, на которую я соглашаюсь лишь скрепя сердце и болезненное ощущение от которой проникает до глубины души». И в другой раз: «Мы были настроены по-разному, я ощущал в нем расчетливую мелочность и торопливость, он был почти не другом мне /…/; и страница «Рихарда и Самуэля», которую мы при обоюдном сопротивлении написали, является лишь свидетельством Максовой энергии, сама же по себе она плоха». В конечном итоге первая глава, к великому несчастью Кафки, появилась в пражском журнале «Herder-Blatter» под наивным названием «Первое Большое Путешествие по железной дороге». Вскоре они отказались от дальнейшей работы над этим невозможным замыслом. Много лет спустя, в июле 1916 года, Кафка напишет Максу Броду: «Знаю, у тебя всегда была слабость к «Рихарду и Самуэлю». То было чудесное время, почему бы не быть также и хорошей литературе?».
В конце июня 1912 года друзья вместе отправляются в Веймар. По дороге они останавливаются в Лейпциге, где Макс Брод встречается с некоторыми писателями. Заинтригованный им издатель Ровольт проявляет интерес к маленьким рассказам Кафки, которые вскоре станут сборником «Betrachtung» («Созерцание»). В Веймаре они осматривают знаменитые памятные места, посещают известных в то время, хотя уже и клонящихся к закату своей славы писателей, остающихся верными как своим политическим, так и литературным взглядам, — Поля Эрнста и Иоханнеса Шлафа. Они флиртуют с мадемуазель Киршнер, дочерью хранителя дома Гете во Фрауэнплане. Путешествие в целом длится дней восемь, после чего Кафка расстается с Максом Бродом и проводит еще две недели в санатории Юнгборн в горах Гарца. По настоянию своего друга он продолжает вести путевой дневник. Санаторий заполнен натуристами и даже нудистами, равно как и последователями различных сект — христиан, последователей Зороастра. Кафка, не слишком иронизируя, уживается с этими оригиналами, странность которых его забавляет. Он даже вновь обретает здесь связь с другими, почти совсем забытую. «Не отговаривай меня от общения! — пишет он Максу Броду. — Я ведь приехал сюда еще и ради людей и доволен, что по крайней мере в этом не обманулся. Ведь что за жизнь у меня в Праге! Потребность в общении, которая мне свойственна и которая оборачивается страхом, едва дело доходит до осуществления, удовлетворяется только во время отпуска; конечно, я немного изменяюсь». Он читает Флобера, Грильпарцера, Платона, книги о Шиллере, пытается немного писать: он работает над своим американским романом, стараясь, как он говорит, «вдохнуть некоторое предчувствие Америки в бедные тела» обитателей санатория. В последние дни июля он возвращается в Прагу. 13 августа происходит встреча, которая придаст новый облик его жизни.
VII
Еврейские актеры
Но, прежде чем подойти к этому большому повороту в жизни Франца Кафки, надо рассказать о других событиях, произошедших тогда же.
В Прагу приехала группа комедиантов, чтобы сыграть пьесы на идиш. Она прибыла из Лемберга, который теперь называется Львовом. Она состояла из восьми актеров и остановилась в убогом кафе в районе старого гетто, кафе-ресторане «Савой» на площади Коз. Здесь было так тесно, рассказывает Кафка, что, когда два актера оказывались вместе в маленькой ложе, в которой переодевались, им приходилось задевать театральные декорации.
Другая труппа уже играла в предыдущем 1910 году. ii из «Дневника» Макса Брода известно, что Кафка присутствовал по меньшей мере на одном из ее представлений, но сам Кафка ничего об этом не сообщает. Новая труппа начала свои представления 30 сентября 1911 года и оставалась в городе до середины января 1912 года (с коротким перерывом для поездки в провинцию). Подсчитано, что Кафка присутствовал по крайней мере на двенадцати представлениях, не считая частных чтений (их было пять или шесть).
Эти пьесы на идиш были написаны в своем большинстве в конце XIX века. Основатель жанра Авраам Голдфаден родился на Украине и учился в семинарии раввинов в Житомире. Он начал с написания стихов на идиш, потом вошел в контакт с труппой бродячих комедиантов, певших песни на этом языке, сопровождая пение мимикой. Голдфаден решил, что эффект от этих представлений был бы еще большим, если бы лирические пассажи были связаны между собой интригой в прозе, он написал для них сценарий и музыку. Первые представления состоялись в 1876 году в Яссах в Румынии. Произведения этого жанра пользовались успехом в России, но царское правительство в 1883 году запретило спектакли. Тогда труппы эмигрировали в разные страны, большинство из них нашло приют в Соединенных Штатах. Сам Голдфаден умер в Нью-Йорке в 1908 году, за несколько лет до представлений в Праге, которые так много будут значить для Кафки.
Голдфаден написал около ста пьес и вскоре обзавелся конкурентами, такими как наиболее известный из них Якоб Горден, Латайнер, Файнманн и многие другие. У каждого, разумеется, была своя манера. Пьесы Голдфадена квалифицировались как «оперетты», потому что содержали пассажи для пения (так как в этих пьесах пели и публика хорошо подхватывала пение). Голдфаден для своих опер фактически обрабатывал сюжеты, взятые из Библии или из истории еврейского народа, вроде Bar Kohba. Другие более охотно ставили на сцене семейные драмы, такие как «Der Wilde Mensch» Гордена (что, несомненно, следовало бы перевести: «Дурак» или «Сумасшедший»). Это история вдовы, которая выходит замуж за старика, отца четырех детей, и которая, говорит Кафка, в то же время приносит ему в приданое своего любовника; один из сыновей покидает дом, другой становится игроком и пьяницей, дочь занимается проституцией; последний ребенок, Лемеш, «идиот», как сказано в программе, и дает название всей пьесе. Он испытывает по отношению к мачехе любовь, потому что это первая молодая женщина, с которой он сталкивается, и одновременно ненависть и в конце концов убивает ее. Другая пьеса «Meschumed» («Крещенный») представляет собой историю одного обращенного еврея, терзаемого ненавистью к своему прошлому. Он совершает много преступлений, старается обвинить невинных, но в конце изобличен и наказан. Двое молодых, оставшихся верными своей вере, которых «крещенный» хотел разлучить, вновь находят друг друга и женятся. Кафка подробно рассказывает в своем «Дневнике» содержание этих небольших пьес. Он понимает все значение для маленького народа вроде евреев диаспоры литературного творчества, в котором он может осознавать самого себя. Он даже набрасывает небольшую «схему» малых литератур, след которой мы обнаруживаем в его «Дневнике». Он чувствителен к народной сочности этого театра и относится к нему со всей серьезностью. Тем не менее очевидно, что он не мог не признавать рудиментарный характер этих персонажей без нюансов, неумеренное использование театральных приемов, мелодраматический характер интриг. Он, безусловно, не преувеличивает литературных достоинств этой продукции. В одном месте он цитирует кого-то, кто сокрушается по поводу упадка еврейского театра, его жалких декораций, его непристойностей, с его лишенными свежести куплетами. Сам он позднее запишет, что мало-помалу утратил чувствительность к еврейскому актеру этих пьес, слишком однообразных, выродившихся в непрекращающиеся стенания, все реже и реже прерываемые каким-нибудь несколько более бодрым пассажем. Он пишет: «В первых пьесах я рассчитывал найти иудаизм, в котором находились рудименты меня самого, иудаизм, который мог бы проложить дорогу ко мне и высветить мой собственный столь неуклюжий иудаизм и заставить его развиться во мне. Вместо этого, чем больше я смотрю, тем больше они удаляются от меня». И добавляет: «Естественно, остаются артисты, и я остаюсь привязанным к ним». В самом деле, эти артисты значили для Кафки больше, чем пьесы, которые они играли. Именно через них он открывал корни своего иудаизма, который до этого был ему совершенно неизвестен.
До сих пор действительно можно было говорить о Кафке, не касаясь его положения еврея. Все, с кем он был связан, за исключением нескольких коллег по работе, были евреями, но он этого даже не замечал, настолько это казалось очевидным и настолько социальные слои Праги были разделены между собой. Его друг Макс Брод интересовался вопросами иудаизма гораздо больше, чем он, но Кафка еще не примкнул к сионистской идеологии; он редко бывал в обществе Бар-Кохба, с которым в это время скорее склонен был полемизировать. Иудаизм не существовал для Кафки и лишь гораздо позднее в «Письме отцу» он попытается рассказать о его первых проявлениях.
В семье Кафки придерживались лишь умеренного иудаизма. Вероятно, хотя тому нет свидетельств, что в ней в общих чертах соблюдались предписания относительно пищи. И в храм ходили лишь на некоторые большие годовые праздники — на Иом-кипур, на Пасху, на праздник Хижин. Соблюдение религиозной обрядности этим и исчерпывалось. Кафка, стараясь оправдать своего отца, считает, что тот, несомненно, сохранил память о своем детстве, которое прошло в маленькой деревенской общине, подобной гетто, и что этот иудаизм из детства, с течением времени постепенно утративший остроту, вполне его устраивал: он не отваживался отвергать свое прошлое, но в то же время старался раствориться среди христианского населения, скрыть свое отличие, забыть свое происхождение. Отсюда этот компромисс, к которому прибегала тогда большая часть евреев, этот упрощенный и пустой ритуал, представлявший жалкие остатки некогда живой веры. «Сущность определяющей Твою жизнь веры, — пишет Кафка в «Письме отцу», — состояла в том, что Ты верил в безусловную правильность взглядов евреев, принадлежащих к определенному классу общества, а так как взгляды эти были сродни Тебе, Ты, таким образом, верил, собственно говоря, самому себе». В раннем детстве Кафка упрекал себя в том, что не ходил достаточно регулярно в синагогу и не постился: у него было чувство, что, поступая так, он совершает своего рода преступление по отношению к отцу. Позднее, когда он осознал фальшивость религиозных отправлений в своейc семье, он перестал стыдиться того, что скучал в синагоге. Скрижали с заповедями в его глазах были лишь старыми куклами с оторванными головами; Bar-mizwe (конфирмация) — церемония религиозной зрелости, когда его заставили читать древнееврейский текст из Торы, который он не понимал, показалась ему лишенной смысла жестикуляцией. «Я не знал, — заключает он, — что еще можно сделать с этим грузом, кроме как пытаться побыстрее избавиться от него; именно это избавление и казалось мне наиболее благочестивым актом».
И вдруг Кафка оказался перед маленькой группой презираемых всеми людей, которые безмятежно жили своим иудаизмом, перед группой голодных актеров, страстно преданных своему искусству. В Праге едва знали этих прибывших с Востока евреев и старались к тому же не очень знаться с ними, так как опасались, что они вызовут — как знать? — волну антисемитизма. Нетрудно понять, почему отец Кафки, увидавший у себя дома актера Исхака Лёви, пришел в ярость и закричал: «Кто спит с собаками, наберется блох!» Франц Кафка, напротив, испытывал не только симпатию к этим фиглярам, он ощущал в себе чувство принадлежности к ним, о котором не подозревал. Открыть иудаизм не означает следовать догмам и подчиняться ритуальным предписаниям. Это означает осознать себя наследником определенной традиции и определенной истории, почувствовать себя причастным к этому образу жизни, это означает разделять радости и горести других евреев. Подобно тому как в некоторых идиомах открывают рудимент предшествующего языка, так Кафка вдруг открыл иудаизм, не тронутый цивилизацией, иудаизм жалкий и гонимый, но воспринятый им как братский и прославленный. И чем безыскуснее были пьесы, тем больше, похоже, проявлялась в них эта первоначальная сущность иудаизма.
О Якобе Гордене, например, Кафка однажды написал, что он был, по-видимому, лучше других, потому что у него было больше подробностей, больше порядка и больше логики в этом порядке; зато у него больше не было непосредственного иудаизма, буквально созданного раз и навсегда, который встречается в других пьесах.
Так Кафка оказывается вброшенным в новый мир. Он впервые сталкивается с социальной средой, в которой чувствует себя непринужденно. Разумеется, у него нет никакого шанса войти в нее, настолько он другой. Это вроде экскурсии в экзотический мир, но в то же время какая-то часть его самого захвачена этим миром, часть, о которой он не знал или которой пренебрегал. Душевная потребность влечет его к этим паяцам, он влюбляется в актрис. Что касается одной из них, маленькой мадам Клюг, специализировавшейся на ролях травести, речь может идти лишь об искренней дружбе. Зато в отношении мадам Чиссик — налицо любовное увлечение. Он зачарован ее красотой, реальной или которой он ее наделяет и которую описывает в восхищенных портретах: «У мадам Чиссик выпуклости на щеках по соседству со ртом. Отчасти это от впалости щек, вызванной голодом, родами, переездами, театральными представлениями, отчасти также от исключительно крепких мышц, которые развились, несомненно, в результате театральных выражений ее большого рта, явно тяжелого от рождения /…/. Тело у нее большое, костистое, она среднего роста, сильно затянута в корсет. В ее походке есть что-то торжественное, так как она обладает привычкой поднимать свои длинные руки, держать их распростертыми и медленно ими двигать». В другом месте: «Мадам Чиссик (я так люблю писать ее имя) охотно наклоняет голову, когда сидит за столом, даже когда ест жареного гуся. Возникает впечатление, что, осторожно поднявшись вдоль щек, входишь взглядом под ее ресницы, а затем погружаешься, сделавшись совсем маленьким; впрочем, нет необходимости поднимать веки, поскольку они уже подняты и излучают голубоватый блеск, пригласивший вас предпринять эту попытку. Среди многочисленных жестов, которые придают ее игре столько правдивости, есть выбрасывание кулака вперед, оживленные движения руки, собирающей вокруг тела большими складками невидимые шлейфы, прижимание к груди разжатых пальцев, поскольку простой крик, не сопровождаемый театральными эффектами, был бы недостаточен. Ее игра не отличается разнообразием: она останавливает испуганный взгляд на своем партнере, ищет выход на маленькой сцене; у нее нежный голос, который, повышаясь, без особых усилий на короткое время становится героическим только за счет возрастания внутреннего эха; она дает радости завладеть ею и, открывая лицо, расцветает до своего большого лба и прически /…/» и т. д.
Не будем путать чувства Кафки к мадам Чиссик с чувствами, которые он несколько месяцев спустя испытает, или сделает вид, что испытает, к малышке Маргарет Кирхнер в Веймаре: в одном случае это всего лишь игра, в другом — любовная страсть. Но страсть крайне необычная: мадам Чиссик — безупречная супруга, мать двоих детей. Кафка посылает ей букеты, даритель которых всегда остается ей неизвестным. Она абсолютно не догадывается об этой любви, что, несомненно, является одной из причин этой странной страсти: Кафка поддался ей лишь потому, что знал о ее безнадежности, одновременно реальной и воображаемой. Он не мог не знать этого: «Я надеялся, — пишет он, — немного удовлетворить свою любовь букетом цветов, но это был напрасный труд. Возможны лишь литература или совокупление». «Я не пишу об этом, — добавляет он, — потому что этого не знал, но предостерегаю, поскольку частые совокупления хороши лишь, когда об этом пишешь». В этот период 1911 года он отвергает совокупление, а литература отвергает его. Он остается в данный момент в промежутке, лишенном содержания. Он может только мечтать.
Во время пребывания актеров в Праге он гуляет с ними, приглашает их в рестораны, содействует их планам, разделяет их заботы, буквально принимает участие в их жизни. В последние недели Кафка встречает Исхака Лёви, руководителя труппы. Лёви был воплощением богемного и авантюрного духа, врагом любых правил и любого принуждения. Он рассказывает Кафке, что в возрасте четырнадцати лет, будучи не в состоянии больше выносить постоянные упреки отца, он покинул родную деревню в Польше и один уехал в Jeschiwe, известный талмудический колледж, где провел десять дней, прежде чем вернуться домой. В глазах Кафки Лёви — образ свободы. В нем уже давно признали главный прообраз «друга из России» в «Приговоре», старого товарища, «явно зашедшего в тупик человека», которому «можно посочувствовать, но помочь нельзя», ведущего вдалеке темную и полную опасностей жизнь. Следовательно, он противоположность Кафки, каким мы его видели в предыдущей главе, стремящегося к созданию семейного очага, супружеской надежности, Кафки, который столь часто ставил себе в упрек чиновничью робость? Это не столь ясно. Ему также присущи страх омещанивания, ненависть к рутине, вкус к анархической свободе. Карл Росман, герой американского романа, конечно, не очень счастлив, когда пребывает в компании двух негодяев, которые его эксплуатируют, но он столь же ненавидит все убежища, которые предлагает ему судьба: дом дяди миллиардера, пристанище в отеле «Оксиденталь» с материнской протекцией, которую он находит в лице главной кухарки, и с несколько приторной нежностью, предлагаемой ему маленькой Терезой. Он без конца балансирует между моральным комфортом и свободой, между оседлостью и беспорядком. В дилемме подобного рода Кафка хотел бы видеть свою собственную жизнь, это образ, на который он хочет походить. Исхак Лёви — это его нечистая совесть, он призыв к приключению, к изгнанию, к опасности, он вечный холостяк.
Кафка нашел друга в этом негативе самого себя. Он тратится на него. Сионистские круги, в частности ассоциация Бар-Кохба, заботящиеся о распространении знания древнееврейского языка, не питают особых симпатий к фольклору идиш. Кафка добивается их доброго расположения и организует с их помощью чтение Лёви в еврейской ратуше. Надо организовать пропаганду, продать билеты, утрясти все технические вопросы — Кафка занимается всем этим. Было договорено, что Оскар Баум возьмет на себя труд представить автора, но в последний момент он отказывается от этого. Кафка, охваченный страхом, должен подготовить вступительный текст, который находится теперь среди его произведений под названием «Речь о языке идиш». Вечер состоялся 18 февраля 1912 года и имел успех. Но расходы на организацию оказались такими, что для артиста осталась лишь смехотворная сумма, недостаточная для того, чтобы оплатить ему обратную дорогу до Варшавы. Кафке приходится еще договариваться с еврейской ратушей о сокращении платы за освещение, что ему удается, и Лёви в результате получает некоторую выгоду от этого мероприятия.
Впоследствии отношения между Лёви и труппой испортились, и он отказался от руководства ею. Кафка старался сохранить с ним какой-то контакт, но это было нелегко: все более несчастный, подтачиваемый болезнью и, похоже, еще и употреблением наркотиков, Лёви становился все более неуловимым. Письма, которые адресовал ему Кафка, утеряны, за исключением одного. Нашлась также одна из записок Лёви, отличающаяся живописной орфографией.
Спустя много времени Кафка однажды встретил его в Будапеште. Он побуждал его написать воспоминания, но, по-видимому, надо было заново составлять текст на немецком языке, чтобы можно было отдать его в печать. Кафка взялся за это и переписал четыре или пять страниц, которые теперь можно найти в сборнике «Свадебные приготовления в деревне» под названием «О еврейском театре».
После этого след Лёви окончательно теряется, что кладет конец дружбе между ним и Кафкой. Они общались только несколько недель, но этого оказалось достаточно, чтобы перед Кафкой открылись новые горизонты. Это Лёви дал ему понять, что жалкие Jeschiwes, пансионеры которых живут только за счет милосердия общества и в которых царит ужасное зловоние, потому что ученики довольствуются тем, что по утрам торопливо умывают руки и лицо, и никогда не меняют белья, не логовища обскурантизма, как думают, а центры свободных дискуссий и зачастую «отправная точка бунта против веры». Все поэты, политические деятели, журналисты и ученые новой эпохи, поведал ему Лёви, вышли из этих колледжей, чья нищета заставляла презирать мудрость. И он познакомил его с разными историями о хасидах с Востока, среди которых он жил. Лёви рассказал о смерти своего деда, который был известен своей большой набожностью; сорок человек собрались вокруг его постели, чтобы извлечь уроки из столь прекрасной агонии: «Он оставался в сознании до конца и в положенный момент, положа руку на грудь, начал читать предусмотренные для данного случая молитвы /…/и покинул мир с этими молитвами». Он рассказал хасидские легенды: «Согласно Кабале, набожные люди получают по пятницам новую душу, более совершенную, абсолютно небесную, которая остается с ними до субботнего вечера. В пятницу вечером каждого набожного человека из храма домой сопровождают два ангела, хозяин дома принимает их стоя на пороге, они остаются лишь какой-то миг». Лёви рассказывает также о странных суевериях, вроде того, что надо, «проснувшись, погрузить пальцы три раза в воду, потому что злые духи приходят по ночам и садятся на вторую и третью фаланги», или же что для того, чтобы уберечь новорожденного от злых духов, перед обрезанием надо развесить на всех дверях таблички, покрытые каббалистическими символами, и на семь дней поставить дежурить возле него для защиты от демона десять или пятнадцать детей. Совершающий обряд обрезания (он не получает за это никакой платы) — обычно пьяница с красным носом и зловонным ртом, которым он обсасывает кровь на пенисе ребенка, затем присыпает его древесными опилками. Это были любопытные нравы странного народа, в которых, однако, крылся определенный смысл. Кафка же, который несколькими днями раньше присутствовал на обряде обрезания своего племянника Феликса, увидел в нем лишь ритуал мертвой религии, полностью забывшей о своем прошлом.
Через актеров кафе «Савой», свободных от верований и обрядов, Кафка только что открыл для себя, чем был иудаизм и чем он еще, может быть, является. Он вспоминает истории, которые еще рассказывают в семье о его дедушке и бабушке и более далеких предках. Он начинает интересоваться историей евреев, и, будучи очень невежественным в этой области, он обращается к известным популярным работам — к «Истории еврейско-немецкой литературы» Пинеса, пятьсот страниц которой он читает на французском языке, «жадно, внимательно, с торопливостью и удовольствием, которых никогда не находил в других книгах»; к «Популярной истории евреев» Генриха Гретца, три толстых тома которой он проглатывает за несколько дней, а также к другим трудам.
Отныне иудаизм является его горизонтом, но не более того. Когда он в первый раз встретит Фелицу Бауэр, он предложит ей отправиться с ним в Палестину, но не для того, чтобы там осесть, а, несомненно, лишь для того, чтобы познакомиться со страной. Был ли это серьезный план? В этом позволительно усомниться. Вероятно, это была всего лишь салонная болтовня, от которой год спустя он несомненно бы воздержался. Он открывает иудаизм, но остается совершенно чуждым сионизму: то, что он ищет, не есть поиски корней, он ищет освобождение, будущее, мечту. Когда несколько лет спустя он встретит двух чудотворных раввинов, то в рассказ об этом событии не откажется подмешать к любопытству и уважению иронические или скептические нотки. Именно так он всегда и жил. Так, например, если говорить о догме, которая никогда не ставится им под сомнение, это, конечно же, достоинства натуризма, что не мешает ему описывать с сарказмом, лишенным злобности, лица его компаньонов по лечению. Он нуждается в том, чтобы между им самим и его убеждением всегда оставалась дистанция, которая позволяет прибегать к юмору.
VIII
Фелица I
«Как удержать человеческое существо посредством простых слов, написанных на бумаге?..»
Конец лета 1912 года. Прошло шесть месяцев с тех пор, как уехали артисты. Прекрасные дни в Веймаре с Максом Бродом закончились. Асбестовая фабрика требует забот больше, чем когда-либо. Карл Германн уехал в деловую поездку, нужен кто-то, кто занял бы его место. Литературная продукция по-прежнему остается очень незначительной. В «Дневнике» читаем 10 августа: «Ничего не писал»; 11-е: «Ничего, совсем ничего»; 15-е: «Бесполезный день. Я сонный, смущенный»; 16-е: «Ничего ни на работе, ни дома». Но в то же время идет подготовка маленькой книги, которую собирается издавать Ровольт: тридцать одна несчастная страница, которые радуют Макса Брода, но приводят в отчаяние Кафку. Двое друзей советуются относительно упорядочения рассказов. Кафка еще исправляет то тут, то там тексты, которые ненавидит. Это обычные несчастья, к ним теперь добавляются другие. Макс Брод, давно имеющий связь с Эльзой Тауссич, вскоре собирается на ней жениться — свадьба состоится в феврале 1913 года. Женатый друг, как немного спустя скажет Кафка в «Приговоре», больше не друг. Одиночество усугубляется. В свою очередь обручается его вторая сестра Валли. Это не та из его сестер, с которой он наиболее близок, Валли — портрет его матери; она рассудительна и послушна, ей всегда удавалось избегать скандалов с отцом. Дело не в этом, просто семейный очаг дает чуть большую трещину. Уже некоторое время семейство Кафки навещают свахи; теперь же решение принято: Валли выйдет замуж за Йозефа Поллака. Один Франц останется холостяком? В «Дневнике» от 15 сентября, день помолвки Валли, есть загадочная фраза: «Предчувствие единственного биографа». Кто этот единственный биограф — Бог или судьба? Хочет ли Кафка сказать, что его судьба предопределена всей вечностью и что тщетно пытаться сломить это предначертание? Из Мадрида как раз приезжает дядя Альфред Лёви. Несомненно, он приехал, чтобы присутствовать при помолвке своей племянницы, и Кафка расспрашивает его о холостяцкой жизни, о том, как ему удается жить, не погибая от тоски.
В тот день была записана еще одна странная фраза: «Любовь между братом и сестрой — повторение любви между матерью и отцом». Не является ли это признанием в кровосмесительном чувстве? Это было бы трудно отрицать, тем более, что вскоре эта тема возобновляется в «Превращении»: «в поисках неизведанной пищи» Грегор Замза хочет наброситься на свою сестру и «поцеловать ее в шею, которая у нее оставалась обнаженной, без воротничка или ленты». Подверженный причудливым приступам своей чувственности, Кафка удивляется им и отмечает это в «Дневнике». В этот период полного целомудрия становятся понятными отклонения инстинкта; было бы нелепо желать набросить на эти чувства покров Ноя. Но еще более нелепо было бы выводить отсюда неизменную черту натуры Кафки. Кровосмесительный порыв, который не ускользает от проницательного наблюдателя, лишенного предубеждения и жалости к Кафке, не может рассматриваться как устойчивый компонент его индивидуальности.
Непростой, следовательно, была ситуация в конце 1912 года. Тоска настолько овладела им, что казалась невыносимой. Таковы факты. Но биограф в данном случае должен отважиться немного выйти за пределы того, что содержится в «Дневнике» и корреспонденции, которые оставляют в тени последовательность побудительных причин и взаимосвязь событий. Похоже, что по меньшей мере в глубине сознания у Кафки зрела мысль об изменении своей жизни, о вступлении в брак, подобно всем другим. Его литературное творчество рискует от этого пострадать, но оно выглядит столь жалким, что, может быть, не стоит приносить ему в жертву все остальное.
13 августа 1912 года в девять часов вечера Кафка приезжает к родителям Макса Брода; он должен обсудить с Максом порядок текстов в «Созерцании». К своему удивлению он встречает там гостью, девушку из Берлина, которую зовут Фелица Бауэр. Два дня спустя он записывает в своем «Дневнике»: «Много думал, — как же я смущаюсь, как только речь заходит о написании одного имени, — много думал о Ф. Б.». И 20 августа, неделю спустя после встречи: «Мадемуазель Ф. Б. Когда я пришел 13 августа к Бродам, она сидела за столом, и я принял ее за служанку. Впрочем, я не поинтересовался, кто она, но очень быстро привык к ее присутствию. Лицо костистое и пустое, которое открыто афишировало эту пустоту. Шея открыта. Блуза с напуском. Показалась одетой, как у себя дома, хотя затем оказалось, что это не так /…/. Нос почти сломанный. Волосы белокурые, немного жесткие, лишенные шарма, крепкий подбородок. Усаживаясь, я посмотрел на нее в первый раз с большим вниманием. Усевшись, я уже составил о ней непоколебимое суждение…»
Можно согласиться с тем, что эффект «удара молнии» обозначает все виды случайностей и причуд. Однако с трудом можно вообразить, что нарисованный Кафкой женский портрет это и есть образ той, кто, спустя два дня, навсегда завладеет его мыслями. Он мог быть создан лишь человеком, разделяющим и даже противопоставляющим секс и любовь. Женщина, физически столь мало привлекательная, может в таком случае вполне подойти в качестве жены.
Но столь подробный портрет доказывает также, что с первой минуты Кафка знал, что заинтересуется Фелицей. Когда он вернется к их встрече в одном из первых писем, адресованных ей, он напишет: «Придя, я застаю в доме гостью и сначала ощущаю некоторую досаду. Тем не менее получилось так, что я не смутился и не растерялся. Я протянул Вам руку через стол еще прежде, чем меня представили /…/». На следующий день после этого первого вечера он уже писал в записке Максу Броду: «Во время установления порядка маленьких текстов я был под влиянием вчерашней дамы». Видимо, присутствие «барышни» не было абсолютно неожиданным. Все эти детали дают повод думать, что встреча не была случайной; по всей видимости, Макс Брод, который не мог не знать о состоянии духа своего друга, устроил эту встречу. Несомненно, он старался вырвать его из одиночества и отчаяния.
Проходит целый месяц. В Прагу приезжает дядя Альфред, обручается Валли, Карл Германн оставляет асбестовую фабрику без руководства. Кафка еще колеблется. 20 сентября, через месяц с небольшим после встречи, он одновременно пишет Максу Броду и Фелице. Эти письма имеют для него такую» важность, что он переписывает их в «Дневник». Двумя днями позже, в ночь с 22 на 23 сентября, он в один присест сочиняет двенадцать страниц «Приговора». До конца месяца он с воодушевлением вновь принимается за вторую редакцию своего американского романа и продолжает работу без перерыва до середины ноября, когда появляются первые признаки усталости. Но тотчас же наступает очередь «Превращения»: повесть начата 17 ноября, закончена в ночь с 5 на 6 декабря. Внезапная решимость Кафки разом кладет конец бесплодию, которое давно уже причиняло ему страдания. Но в то же время началась, о чем он еще не мог подозревать, наиболее жестокая драма его жизни.
Нет для биографа более непростительной ошибки, чем пытаться объяснять жизнь, исходя из творчества. Исследователи давно отказались от этого порочного круга, который не признает независимости творчества. Здесь, однако, приходится нарушить это правило: «Приговор» не только одно из наиболее сильных и в то же время загадочных произведений Кафки, но также и текст, в котором проявляются мысли, не доверяемые им ни своим друзьям, ни даже своему «Дневнику». Можно было бы сказать, что литературное творчество открывает ему его самого и говорит о нем больше, чем он знает или хотел бы знать.
Примечательно, что в «Дневнике» сразу после написания «Приговора» он радостно отмечает непрерывность творческого процесса. Не было больше тех пауз и медлительности, которые доставляли, столько огорчений, все было написано за один раз, между десятью часами вечера и шестью утра. Некогда он завидовал творческому могуществу Диккенса, который вел свое повествование не прерываясь от точки далекого отправления до локомотива «из стали, угля и пара», теперь же и он сам умеет так писать. Единственный раз за всю свою жизнь он доволен. «Можно писать точно так, с этой непрерывностью, с этой полной открытостью тела и души».
Он поражен безграничной властью литературы: «Все может быть высказано, все мысли, даже самые необычные, горит большой огонь, в котором они плавятся, затем воскресают». Он порою сам с трудом узнает воскресшие мысли, настолько литература их преобразила. Стоит лишь попытаться ввести в повествование не присущую ему логику, и замысел уже будет искажен, ибо в нем полно темных зон, внезапных поворотов, неожиданных решений. Кафка чувствует себя перед своим произведением, как перед чужим творением: история, пишет он, вышла из него, вся покрытая грязью и слизью, как при родах. Он старается истолковать символические связи между персонажами — невестой, отцом, другом из России. Писатель удивлен, что наделил героиню рассказа Фриду Брандельфельд инициалами Фелицы Бауэр.
Однако дело не только в ней. Во время написания «Приговора» Кафка еще весьма далек от мыслей о женитьбе, он как раз только что написал свое первое письмо, но у него уже возник замысел. И он знает, что согласно этому замыслу он в значительной части воссоздает себя. Иначе почему первая забота героя рассказа Георга Бендемана — объявить о своей помолвке «с девушкой из богатой семьи» другу из России, с которым он уже почти совсем порвал? Почему его отец утверждает, что у Георга никогда не было друга в России? Почему по мнению его невесты Фриды при таких друзьях ему вовсе не следовало бы обручаться? Почему его отец приказывает ему пойти и броситься в реку и почему он спонтанно повинуется отцовскому приговору? Общеизвестно, что Кафка однажды сказал Максу Броду по поводу последних фраз «Приговора»: «Милые мои родители, и все-таки я любил вас», — и отпустил руки.
В это время на мосту было оживленное движение»): «Я думал, когда писал это, о сильной эякуляции». Никакое свидетельство не могло бы лучше указать на смежность в этом рассказе сексуальных тем и одновременно темной совести, угнетавшей Кафку из-за отцовского запрета. Когда-то, еще на первых страницах «Дневника», Кафка записал: «Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то из середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кое-кто это умеет, например, японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего человека и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздух (есть рисунок Кафки, изображающий эту сцену — Авт.). Я этого не умею, не говоря уже о том, что под моей лестницей нет даже тех ступней».
С «Приговором» Кафка только что преодолел решающую ступеньку: отныне рассказы берут начало из глубины, а не в какой-то акробатической среде, они не ограничиваются больше анекдотом, но хотят сказать главное.
Через два месяца после «Приговора» Кафка пишет «Превращение». Никакой другой рассказ Кафки не отличается такой силой и жестокостью, ни в каком другом он не уступает так соблазну садизма. В этом тексте есть некая склонность к саморазрушению, влечение к мерзкому, которые, возможно, отвратят от Кафки некоторых его читателей. Грегор Замза — это явно Франц Кафка, превращенный своим нелюдимым характером, своей склонностью к одиночеству, своей неотвязной мыслью о писании в некое подобие монстра; он последовательно отрезан от работы, семьи, встреч с другими людьми, заперт в комнате, куда никто не осмеливается ступить ногой и которую постепенно освобождают от мебели, непонятый, презираемый, отвратительный объект в глазах всех. В меньшей мере было понятно, что «Превращение» явилось в некоторой степени дополнением «Приговора» и его противовесом: Грегор Замза имеет больше общих черт с «другом из России», чем с Георгом Бендеманом, чье имя составляет почти совершенную анаграмму: он одиночка, отказывающийся идти на уступки, которых требует общество. Если «Приговор» приоткрывает двери двусмысленного рая, то «Превращение» воскрешает ад, в котором пребывал Кафка до встречи с Фелицей. В период, когда Франц сочиняет свой «омерзительный рассказ», он пишет Фелице: «… и, видишь ли, все эти отвратительные вещи порождает та же душа, в которой обитаешь ты и которую ты терпишь как свое обиталище. Не огорчайся, ибо кто знает, возможно, чем больше я пишу и чем больше от этого освобождаюсь, тем чище и достойнее становлюсь для тебя, но, конечно, мне еще от многого предстоит освободиться, и никакие ночи не могут быть достаточно длинными для этого в общем-то сладостного занятия». В то же время «Превращение», где отец играет одну из самых отвратительных ролей, призвано помочь Кафке если не освободиться от ненависти, которую он испытывает к своему собственному отцу, то по меньшей мере освободить свои рассказы от этой надоевшей темы: после этой даты фигура отца появится в его творчестве лишь в 1921 году в небольшом тексте, который издатели назвали «Супружеская чета».
Кто была Фелица Бауэр? По правде говоря, мы плохо это знаем, представить ее можно лишь по письмам, написанным ей Кафкой. И маловероятно, что когда-нибудь о ней будет известно больше. Похоже, что за время долгого приключения, в котором она оказалась по воле судьбы, она проявила если не понимание, то по меньшей мере осторожность и терпение. Лишь значительно позднее она пыталась, впрочем, безуспешно, вырваться из адского круга, в который вовлекал ее Кафка. Она знала о гениальности своего одержимого корреспондента, подавлявшего ее своей любовью: Макс Брод дал ей это понять с самого начала, Фелица представляла, какую взяла на себя ответственность. Ей приходилось взвешивать опасности и бедствия, которые мог вызвать каждый неудачный жест.
Кое-какие факты, впрочем, удалось установить. Когда Кафка встретил ее в 1912 году, ей было двадцать пять лет. В то время девушки обычно вступали в брак раньше. Возможно, что-то помешало Фелице Бауэр к тому моменту найти свою партию. Ее семья, австрийцы по происхождению, в конце века покинула Верхнюю Силезию, где жила, чтобы обосноваться в Берлине. По всей вероятности эту семью не обошли превратности судьбы. Отец долгое время вынужден был жить в провинции отдельно от семьи, зарабатывая на жизнь в качестве страхового агента. Жили они в скромном квартале в восточной части Берлина, у Фелицы была редкая по тем временам для женщины профессия. Сначала она была стенографисткой-машинисткой в магазине пластинок; потом в 1909 года она вошла в дело по продаже диктофонов, которые в ту пору по-немецки назывались словографами, и здесь, кстати, наделенная полномочиями фирмы, весьма преуспела. Вскоре ей было поручено представлять фирму на ярмарке во Франкфурте. Известно также, что семья Бауэр соблюдала национальные обряды; Фелица изучила древнееврейский язык и склонялась к сионизму, с чем вскоре и поздравит ее Кафка. Известно, что она была очень привязана к своей матери, которую считала своей лучшей подругой. Она любит смеяться, танцевать, исполнять роли в шуточных пьесках, в общем она — воплощение мелкобуржуазной добродетели. По правде говоря, в самой Фелице нет ничего, кроме усердия и банальности, она не очень интересна. Но столь ли важно, какой она была в действительности? Для Кафки она была такой, какой он ее однажды встретил и наудачу впустил в свою судьбу. Черты ее лица, движения ее души ничего не значили.
Сестра Макса Брода вышла замуж за кузена Фелицы. Именно по этой причине обе семьи оказались связанными, и Кафка встретил Фелицу у своего друга августовским вечером 1912 года. В этот же вечер он предложил ей совершить совместное путешествие в Палестину. Трудно себе представить в 1912 году девушку из почтенной семьи, вовлеченную в столь отдаленную поездку с каким-то иностранцем, и никто, вероятно, не принял бы это приглашение всерьез. В первом письме, адресованном Фелице 20 сентября 1912 года, он, однако, возвращается к этому плану, но, похоже, это всего лишь предлог для того, чтобы завязать отношения. Фелица не хочет уезжать с ним, но зато у нее нет никаких оснований отвергать его как корреспондента, v… даже если у Вас и возникнут какие-либо сомнения, я имею в виду сомнения практического характера: стоит ли брать меня с собой в путешествие в качестве путевого товарища, путевого тирана, путевого столба… уж не знаю, в каком еще качестве, то против меня как корреспондента, а ведь пока все сомнения сводятся исключительно к этому, не стоит так уж решительно возражать…».
Таковы, по меньшей мере на данный момент, реальные планы. На горизонте жизни Кафка будет иметь женщину, и эта женщина будет достаточно далека, чтобы ничего не менять в распорядке его дней — так по меньшей мере он тогда полагал. В немецкой лирике XVIII века была известна тема «будущей невесты» или «далекой невесты», и, похоже, Кафка изобретает ее вновь. Он всегда пишет гораздо лучше, чем говорит. В присутствии людей он чувствовал себя робким и неловким. Сколько раз он упрекал себя в «Дневнике» за нехватку коммуникабельности. Зато какой превосходный мастер эпистолярного жанра! В своем литературном творчестве он немногословен, его стиль лаконичен и крепок. Здесь, напротив, он неожиданно становится многословным, с наслаждением погружается в языковой поток. Молчун вдруг становится говоруном, но с какой гибкостью в изложении и с какой восхитительной ясностью! Подобно тому, как в угрюмой непринужденности писем Флобера с трудом можно узнать строгого автора «Саламбо», «Письма к Фелице» открывают нового Кафку, который отдается языку и послушно следует за ним.
Потому ли, что он предчувствует опасность своего предприятия и хочет заговорить дурную судьбу, но он пишет в первом письме: «…я не настаиваю, чтобы мне вовремя отвечали, даже если я со все возрастающим день ото дня нетерпением жду письма, но я никогда не огорчаюсь, когда оно не приходит, а когда в конце концов приходит, радостно пугаюсь». Будущее не замедлит подтвердить справедливость этого заявления.
Фелица тотчас же ответила на первое письмо Кафки, потому что 28 сентября он пишет ей снова длинное письмо на четырех страницах большого формата, которое он начинает уже через несколько минут после получения ответа от Фелицы. Второе письмо, однако, остается без ответа. Что случилось? Затерялось ли оно (с этим он в конце концов готов согласиться)? Это маловероятно: письма терялись крайне редко. Более вероятно, что Фелица, которая без задней мысли ответила на первое послание человека, о существовании которого почти забыла, проявила обеспокоенность, когда увидела, что устанавливается регулярная переписка. Кафка, будучи полностью во власти своих замыслов, сильно тревожится и просит сестру Макса Брода Софи Фридманн поговорить с Фелицей. Во всяком случае он принимает решение для большей надежности посылать отныне только заказные письма. Именно в этот период обеспокоенности и молчания он решает посвятить Фелице «Приговор», который должен был появиться в ближайшее время в «Аркадии», альманахе, руководимом Максом Бродом (это будет единственный номер). В конечном итоге инцидент был улажен: 27 октября Фелица пишет вновь, а Кафка 27 октября посылает ей письмо на двадцати двух страницах. У того, кто слишком быстро читает письма к Фелице, возникает ощущение топтания на месте: неустанно возобновляются одни и те же темы, повторяются одни и те же вопросы. Но такое впечатление возникает из-за интенсивности переписки. В действительности же в этой печальной истории без труда можно увидеть последовательность событий. И Кафка, по меньшей мере вначале, методично управлял их ходом: начиная с 1 ноября, он пишет по одному письму в день, после 15-го — несколько писем в день, пока не поймет, что этот безумный ритм сделает совершенно невыносимой жизнь Фелицы да и его самого. Начальное обращение «Многоуважаемая фрейлейн» 1 ноября уступает место обращению «Дорогая фрейлейн Фелица». 11-го он симулирует описку, чтобы ввести обращение на «ты», которое Фелица, впрочем, легко принимает. И 1-го же ноября снова в скрытой форме он пытается выразить свое чувство любви: «Есть одно волшебное средство, с помощью которого двое, не видя друг друга, не говоря друг с другом, могут в один миг узнать друг о друге все — по крайней мере все, что было прежде; при этом даже не требуется писать, но ведь это уже граничит с высшей магией (хотя так и не выглядит), и никто еще не прибег к этому средству безнаказанно. Посему я его не называю. Вы должны угадать его сами. Название его ужасающе коротко, как все волшебные заклинания». Кафка очень живо принялся за дело, ибо со дня первого письма едва прошло шесть недель. Пять дней спустя он продолжает: «Магическое слово случайно находится, не подозревая об этом, в Вашем предпоследнем письме. Оно находится там, затерянное среди других слов, и я боюсь, что оно никогда не займет в наших письмах места, которого заслуживает, ибо я ни в коем случае не произнесу его первым, и, если Вы можете его угадать, Вы, естественно, никогда не произнесете его первой». В действительности же это магическое слово он произнесет менее чем через три недели: «Прежде чем пойти спать, /…/я еще хочу, потому что ты меня об этом просишь и потому что это так легко, сказать тебе на ухо, как я тебя люблю. Я тебя так люблю, Фелица, что желал бы обрести способность жить вечно, если бы мог быть рядом с тобой».
Но что это была за любовь? Конечно, ее хватало на то, чтобы полностью заполнить сознание Кафки и чтобы разрушить его жизнь. Но кого он любил? Кто этот персонаж с нечеткими контурами, которого он делает кумиром своей жизни? Далекая и почти воображаемая возлюбленная, тень на горизонте. Кафка страстно любит любовь, которую он испытывает к этой тени. Иногда он расспрашивает ее о малейших деталях ее жизни: он хочет знать, что она ела во время завтрака, что видно из окна ее бюро. Или в другой раз: «Как Вы одеваетесь на работе? В чем состоит Ваша основная работа? Вы пишете или же диктуете? Вы, должно быть, занимаете важный пост, раз Вы обязаны говорить со столькими людьми?» Эта болтовня с течением времени кажется достаточно принужденной и неискренней, но встречается она в основном в первых письмах. Затем Кафка сам целиком занимает авансцену: он описывает свой образ жизни, свои привычки. Он никогда не носит ни пальто, ни жилет, даже в самые сильные холода; спит всегда при открытом окне; никогда не меняет одежду; он не только вегетарианец, но он также отвергает табак, алкоголь, кофе, чай, шоколад; каждый день он ест в своей комнате, почти всегда в одиночестве, одну и ту же пищу. Можно подумать, что он пытается представить себя гнусным, вызвать слезы у своей несчастной возлюбленной. Что могла бы понять она, видевшая его всего лишь час или два, в этом аскетизме, в этом отказе от жизни?
Но это общение между двумя тенями принимает иногда формы еще более абстрактные и почти фетишистские. Нет больше вопроса о содержании писем; речь идет лишь об их получении, что выливается в странные диалоги, вроде этого от 19 ноября: «Как я могу себе объяснить, что ты, по твоим собственным словам, получила мое последнее письмо в пятницу утром или что по меньшей мере ты знала, что оно пришло, но что ты мне ответила лишь в субботу? Как получается, что ты говоришь в своем субботнем письме, что снова напишешь мне в тот же день, но не делаешь этого, и что в понедельник утром вместо двух обещанных писем я не получаю ни одного? Как получается, что ты мне не написала ни одного слова за весь воскресный день, а только лишь ночью письмо, делающее меня счастливым в той мере, на которую я еще способен? Как, наконец, получается с твоей телеграммой, которую ты по-прежнему не послала в понедельник, поскольку твое срочное письмо является единственным письмом за понедельник, которым я располагаю?»
Этот первый кризис затрагивает, правда, лишь начало переписки. Кафка решает дисциплинировать себя, он соглашается, чтобы Фелица писала ему менее часто, но вал его собственных писем продолжает расти. Когда Кафка вновь встречается с Фелицей на Пасху 1913 года, эта корреспонденция составляет уже том в триста страниц убористой печати. Между Фелицей и Францем нет ничего, кроме слов, целой горы слов. Присутствие Фелицы, как он сам пишет, завоевано только посредством письма (deine erdachte, erschriebene, mit alien Kraften der Seele erkampfte Nahe). В ноябре 1912 г., когда Фелица разрешает обращаться к себе на «ты», он пишет по поводу слова «ты»: «Какое слово! Ничто не связывает более тесно два существа, особенно когда они, как мы, не располагают ничем другим, кроме слов». И он вовсе не игнорирует ни ненадежности слов, ни иллюзий, которые они могут вызывать: «Как можно хотеть удержать человеческое существо при помощи простых слов, написанных на бумаге?» Для того, чтобы удерживать, есть руки. Он же держал в своей руке руку Фелицы всего лишь три коротких мгновенья. А в другом месте он скажет, что их руки соединены, как руки жертв Революции, в тот момент, когда они поднимаются по ступенькам эшафота.
Для чего служат слова? Иногда — чтобы набросать диалог. Чаще всего, чтобы при их помощи возбуждать отрешенность или даже ужас, либо представлять себя пленником невыносимых холостяцких маний, либо придавать литературному творчеству значение, которое делает невозможным любую другую форму существования.
Писание является страданием для автора этих писем, оно же есть инструмент пыток для их получателя. Сколько напрасных упреков, о которых тотчас же приходится сожалеть, сколько бесполезных слез, сопровождаемых беспомощными извинениями: «Существо, которое отдает тебе лучшее, что в нем есть, мучило ли оно уже тебя, как я? Я притягиваю тебя к себе с непреодолимой силой, которую дает слабость. Я отдал бы тебе свою жизнь, но я не могу помешать себе подвергнуть тебя мучениям».
Но этот поток слов имеет еще и другое назначение: скрыть правду, которую не удается сказать, недостатки, в которых себя обвиняют, приводятся для того, чтобы утаить недостатки более глубокие, о которых язык отказывается говорить.
Это начинается очень рано, с 5 ноября: «[(Если Вы произнесете магическое слово (любовь)]. Вы обнаружите во мне такие вещи, которые Вы не сможете вынести, и что мне тогда останется делать?» Фраза задумана так, чтобы не быть понятой: под видом признания она что-то скрывает. 11 ноября он делает шаг к ясности, все еще избегая того, чтобы быть понятым: «…моего захудалого здоровья едва хватает для меня одного, его вряд ли хватит для семейной жизни и уже тем более для отцовства». 14 ноября он обвиняет себя в «маленьких утешительных неправдах», которыми он испещряет свои письма и которые позволяют ему уклониться от главного. 26-го: «У всех этих противоречий есть простое и очевидное объяснение /…/ — это состояние моего здоровья, только это и ничего кроме. Я не хочу больше говорить на эту тему, но именно это отнимает у меня всякую уверенность перед тобой, именно это вызывает у меня нерешительность во всем, которая затем скажется и на тебе /…/. У меня никогда не хватит силы обойтись без тебя, я хорошо это знаю, но то, что я посчитал бы у других за добродетель, будет моим самым большим грехом». Однажды Фелица посылает ему фотографию той поры, когда она была еще маленькой девочкой. «Я испытываю странное чувство перед этим новым фото, — пишет он. — Я ощущаю себя более близким маленькой девочке, ей я могу сказать все; к даме я испытываю слишком большое уважение /…/. Если бы в жизни я мог выбирать между ними, я бы, наверное, не бросился не раздумывая к маленькой девочке, нет, я не это хочу сказать, но, несмотря ни на что, я бы медленно шел именно к ней».
Так за бесконечными доводами секрет и остается нераскрытым, отчего аргументы не становятся правдивее. Все, впрочем, искажено, и Кафка никогда не забывает о том, что дело здесь нечисто. Всякая затея несет на себе печать запрета или, выражаясь языком Кафки, отмечена грехом. На данный момент признание переносится: «Наверное, было бы лучше, — пишет он 26 ноября, — оставить в покое угрозу, которая довлеет над нами, до тех пор, когда мы больше не будем пользоваться лишь перепиской, а сможем наконец обменяться первыми настоящими словами».
Так начинается приключение. Сегодня нельзя удержаться от мысли, что Кафка сбился с пути. Но это не должно заставить забыть, какое отчаяние бросило его в эту обманчивую любовь. Он, чувствующий себя мертвым, как говорит сам в одном из писем, пытается зацепиться за живое существо. В другой раз, вслед за одним из бесчисленных недоразумений, которыми усеяна эта переписка, он восклицает: «Итак, Вы меня не отвергли? Я уже подумал, что сбывается проклятие, которого, как я считал в последнее время, мне удалось избегнуть». Уже угадываются те отвратительные торги, к которым он прибегнет позднее: «Постарайся, — говорит он Фелице 14 ноября, — жить в иллюзии, что я тебе необходим; тебя это ни к чему не обязывает, ты в любой момент сможешь избавиться от меня».
Ко всему этому прибавляются еще и мелкие неприятности. Мать Кафки нашла письмо Фелицы, которое адресат спрятал недостаточно хорошо, и, как всегда обеспокоенная здоровьем сына, она написала Фелице. Кафка узнает об этом и приходит в ярость: «Родители не хотят ничего другого, как заставить Вас опуститься до них, вернуть в те времена, от которых хотел бы избавиться, чтобы попытаться дышать».
Фелица добивается от него обещания не упрекать свою мать в неделикатности, но он не держит данного слова. В приступе ярости он высказывает ей все, что было у него на сердце. Но происходит чудо: ссора растопляет всю холодность и фальшь, которыми обычно были ограничены его отношения с родителями. Появляется настоящее чувство: «Убежден, что это было наилучшим для нас обоих — для матери и для меня, ибо я не помню, чтобы мы когда-нибудь в жизни так дружески и искренне с ней разговаривали, как после этого взрыва».
Между тем время проходит и приближается Новый год. Естественно предположить, что Кафка воспользуется этими небольшими каникулами, чтобы вновь увидеть возлюбленную, с которой он едва знаком. Ничего подобного. Он ссылается на свою литературную работу: он хочет использовать свободные дни для написания рассказов (на самом деле он не сможет писать, и эти дни окажутся потерянными). Настоящие мотивы, несомненно, были иные. Похоже, он боится заменить созданного идола реальностью. «Я не знаю, — пишет он Фелице 27 ноября, — смогу ли я вынести твое присутствие, и в состоянии расстройства, в котором я нахожусь, заслуживаю ли я встречи с тобой». Он признается однажды, что, учитывая все часы, истраченные им на бесконечную переписку, он легко мог бы найти время на поездку в Берлин. Но в новогодний вечер он также пишет: если бы они были рядом, им не удалось бы поговорить. Другие причины, в которых он признается менее охотно, вероятно, также предназначены для того, чтобы отсрочить встречу с Фелицей: если он ее увидит, у него больше не будет предлога, чтобы и дальше медлить с признанием, которое ему еще не удалось сделать.
Он остается в Праге — и события следуют одно за другим: 15 декабря Макс Брод обручается; это что-то вроде некоторого разрыва с Кафкой. Что касается свадьбы Валли, то распри на Балканах, грозившие началом войны, заставляют отложить ее на более поздний срок. В конце концов она состоялась в середине января. Кафка — человек чести, ему даже приходится произнести приветственную речь перед приглашенными. Для него это мрачный день.
Но главная новость в начале 1913 года — перерыв в литературном творчестве. Закончив «Превращение», Кафка вновь принимается за сочинение своего американского романа. 14 декабря он записывает, что он с большим трудом продвигается вперед, чуть позже помышляет выбросить рукопись в окно. 26 января он пишет Фелице, что третьего дня побежден своим романом. До сего времени, несмотря на часы сомнений и приступы отчаяния, он жил в относительном спокойствии. Он писал и в то же время ощущал, что где-то в мире есть женщина, которую он, не слишком фантазируя, мог считать своей.
Теперь же равновесие нарушено: литература покинула его, его жизнь потеряла оправдание. «Письма Фелице» этого времени колеблются между отчаянием и прострацией. Этот момент можно назвать вторым эпизодом в любовных отношениях с Фелицей Бауэр.
Время от времени он шутит, он ищет способы для улучшения сбыта диктофонов и даже заинтересовывает в этом деле одного из своих коллег-журналистов, Отто Пика. Но наиболее часто он впадает в печаль. Он сетует на свое здоровье: некогда невосприимчивый к холоду, он становится подверженным простудам, или, скорее, тому, что он называет ипохондрической чувствительностью к холоду. Отныне он только и знает, что вращается вокруг огромной дыры своей ничтожности. Любимой женщине он может предложить лишь немощную любовь слабого. Она не смогла бы вынести его и двух дней, если бы должна была жить рядом с ним. Он вспоминает гравюру, которая постоянно преследовала его, когда он был ребенком и которая изображала самоубийство двух влюбленных, — несомненно, не было ли бы это единственным разумным выходом? Одновременно он умоляет Фелицу и предостерегает ее: «Продолжай меня любить, — пишет он ей 18 марта, — и ненавидь меня!» Можно было бы продолжать до бесконечности цитаты такого рода, но, несомненно, и одной будет достаточно. В письме от 3 марта: «Для моей собственной безопасности ответь мне сегодня, не избегая прямого ответа, на следующий вопрос: если бы тебе однажды пришлось понять с ясностью, исключающей по меньшей мере большую часть сомнений, что ты могла бы несмотря ни на что, возможно, ценой определенных трудностей, обойтись без меня, если бы тебе пришлось понять, что я являюсь препятствием на твоем жизненной пути /…/; если бы тебе пришлось понять, что доброе активное, живое, уверенное в себе существо, такое как ты, не может завязывать никаких связей с такой темной натурой, как я, или не могла бы это сделать без сожаления, могла бы ты тогда, дорогая (не отвечай легкомысленно, прошу тебя, прими во внимание ответственность, которой требует твой ответ!), могла бы ты мне сказать прямо, не беря в расчет свою жалость? /…/А ответ, который ограничился бы отрицанием возможности предположений, содержащихся в моем вопросе, не был бы ответом, достаточным для меня и способным умерить страх, который испытываю по отношению к тебе. Или, скорее, это был бы достаточный ответ, то есть признание, что ты испытываешь ко мне непреодолимую жалость. Но в то же время зачем тебя спрашивать и мучить? Я уже знаю ответ». Когда сегодня читаешь эти строки, нельзя остаться равнодушным к породившему их исступленному волнению, к заключенному в них страху, страху, который слишком реален, который стремится наполнить содержанием искусственную любовь. В самом деле, какое чувство, кроме жалости, могла испытывать Фелица Бауэр? Но в этих письмах ощущается также риторика, которая питает саму себя, увлечение словами ради самих слов. Кафка отдает себе в этом отчет и признает это. Так, 17 февраля он пишет: «То, что ты меня любишь, Фелица, делает меня счастливым, но не дает ощущения безопасности, поскольку весьма возможно, что ты ошибаешься, ибо может быть, я, когда пишу тебе, прибегаю к уловкам /…/». И на следующий день: «Во власти какой грезы пребывала ты, когда написала, что я полностью покорил тебя? Ты думаешь так, любимая, в определенный момент и потому, что ты далеко. Но чтобы покорить вблизи и надолго, нужны иные силы, чем мускулы, заставляющие продвигаться мое перо. Разве ты сама не убеждена в этом, когда задумываешься? Мне часто кажется, что эти отношения при посредстве писем, за пределами которых я не перестаю надеяться постичь реальность, являются единственными отношениями, которые соответствуют моему ничтожеству, и что, если я захочу преодолеть эту предназначенную мне черту, это приведет нас обоих к несчастью».
В другой раз он говорит о своих вечных жалобах и оценивает их искренность: «Ты мне пишешь по поводу моих сетований: «Я в это не верю и ты тоже». Это мнение и есть причина всего несчастья, в чем есть и моя доля ответственности. Во мне развилась, я это не отрицаю, практика сетований в такой мере, что ноющий тон всегда в моем распоряжении, как у нищих на улице, даже когда я к нему не расположен. Но я знаю свою задачу, которая состоит в том, чтобы убеждать тебя каждую минуту. Вот почему мне случается также жаловаться автоматически, когда голова пуста, и я получаю обратное тому, чего хотел». Четыре дня спустя он возвращается к сложному переплетению правды и лжи, которая царит в его письмах: «Я тебе ничего не сказал, менее чем ничего, ибо все, что я написал за последнее время, было ложью, конечно, ложью не по сути, так как на уровне сути все правда, но кто может ясно видеть сквозь беспорядок и ложь, которые царят на поверхности?». Несколько дней спустя он признается, что теперь должен заставлять себя писать письма, поскольку приходящие ему в голову слова как будто лишены своих корней, схвачены случайно, неподходящие, произвольные.
Переписка, несмотря на усилия обоих, вела ко лжи. Фелица отправляется в Дрезден повидать одну из своих сестер, у которой семейные проблемы. Когда Кафке становится известно об этом, он пишет: если бы узнал об этом вовремя, то приехал бы к ней в Дрезден. Кто ему поверит? Верил ли он сам в это, когда писал? Исхак Лёви был со своей труппой проездом в Берлине, и Кафка просит Фелицу встретиться с ним. Фелица иногда осмеливалась говорить о литературе, но авторы, которых она любит — еврейская поэтесса Ласкер-Шулер или Артур Шницлер, — к сожалению, принадлежат к числу тех, кого Кафка ненавидит. Кафка посылает ей с посвящением экземпляр своего сборника «Созерцание», который только что вышел в издательстве «Ровольт», но она нигде не упоминает эту книгу. Поняла ли она ее или хотя бы прочла ее? Все эти препятствия, все недоразумения, ложь в конечном итоге мало затрагивают диалог между Кафкой и Фелицей, скорее, можно было бы сказать, что они раздражают чувства каждого, по меньшей мере чувства Кафки.
Между тем приближается Пасха, и, следовательно, снова возникает возможность поездки в Берлин. Кафка колеблется, прибегает к уверткам, но в последний момент решается. Он приезжает 22 марта, в Святую субботу. На следующий день он тщетно ждет ее у себя в гостинице, привязанный к телефону. В конце концов он посылает рассыльного к Бауэрам. Фелице и ему удается увидеться на некоторое время. Им как раз хватает времени пойти начертать свои инициалы на дереве Грюнвальда, чтобы в лучшем виде сыграть роль влюбленных. Кажется даже, что по этому поводу они обменялись поцелуями. Можно ли считать, что срочное письмо затерялось? Едва ли это можно допустить. Фелица, во всяком случае, проявила мало усердия для того, чтобы способствовать этой встрече. После этой встречи, столь долго откладываемой и столь плохо прошедшей, Кафка, похоже, не затаил никакой обиды. Фелица и он лишь поспешно договорились встретиться на Троицу.
В спешке пасхальной встречи было невозможно приступить к столь долго откладываемому признанию. Теперь у Кафки больше нет выбора: нужно сделать его письменно. Он объявляет об этом в первых своих письмах. 1 апреля он наконец на это решается: «Мой настоящий страх — хуже, конечно, не прочитаешь и не услышишь — заключается в том, что я никогда не смогу владеть тобой. В лучшем случае я буду, словно верный пес, лишенный разума, целовать твою рассеянно протянутую руку, что будет не знаком любви, а лишь признаком отчаяния животного, приговоренного оставаться безмолвным в постоянном отдалении». Через день Кафка пишет Максу Броду, который явно в курсе его проблем и планов: «Я отправил вчера в Берлин большое признание. Это настоящая мученица, и я открыто подрываю почву, на которой она некогда жила счастливо и в согласии со всем миром». И в самом деле это письмо завершает и одновременно освящает терзания, которым Фелица подвергалась семь месяцев. Но настоящий мученик — это Кафка.
«Признание» открывает третий этап в отношениях между Фелицей и Кафкой. Фелица отвечает соответствующими фразами: «Ничего не изменилось, все остается как прежде» или «Не беспокойся понапрасну». Задаешься вопросом, хорошо ли она вообще поняла. Она очень хорошо поняла. Соглашавшаяся до сего времени, несмотря на все муки, она теперь переходит в оборону и стремится лишь как можно вежливее выбраться из лишенной смысла авантюры. Обстоятельства приходят ей на помощь: она находится во Франкфурте, где продает диктофоны на выставке, и посылает только короткие записки, составленные «в крайней поспешности». Кафка, искусный, слишком искусный в чтении между строк, тотчас же увидел перемену. Изо дня в день в его письмах все заметнее становится возрастающая нервозность. Он предлагает Фелице изменить их отношения, впрочем, неизвестно, каким образом. И он анализирует со своей обычной ясностью ума и без снисходительности к самому себе чувства, которые он испытывает к Фелице; можно ли сказать, что он ее любит, если он только о себе и говорит? Несомненно, нет; но он обожает ее, потому что ожидает от нее спасения. И с той же проницательностью он анализирует чувства Фелицы: любовь, которую он ей якобы дает, размягчает, парализует эту столь жизнерадостную заурядную молодую женщину, она прячет глаза, ищет убежища в молчании, довольствуется страданием. Уже в ноябре, когда однажды Макс Брод был проездом в Берлине, он позвонил ей, чтобы дать понять, кем был этот настойчивый корреспондент. Она ему ответила: «Не знаю, почему он мне много пишет, но его письма лишены всякого смысла, я не знаю, о чем идет речь, мы нисколько не сблизились, и пока нет вероятности, что мы этого достигнем». Эти слова передает сам Кафка, он знал, какая непроходимая наивность противостоит его словесным уловкам, его патетическим картинам, его драме. Эта наивность была элементом игры, в которую он играл, он прибегал ко всем средствам своей хитрой диалектики, использовал все резервы своего ума, но никогда не забывал о возможностях своей партнерши. В этой переписке все разворачивается в нескольких планах, поэтому для сегодняшнего читателя это утонченное удовольствие, но тогда это была хитроумная борьба, где искренность (и какая искренность!) самым запутанным образом перемешана с сентиментальными софизмами и риторикой. Тем временем виды на Троицу складывались неважно. В этот день должны были праздновать помолвку Ферри Бауэра, брата Фелицы, так что момент был выбран плохо. Было ясно заранее, что Кафка сможет видеться с ней очень мало; ему предстояло быть замешанным в одну из тех светских церемоний, которые он ненавидел, и он должен был быть представлен семейству Бауэр, но Кафка, которого откровенно пытаются отговорить от поездки, упорствует в своем решении. И в самом деле эта третья встреча с Фелицей оказывается катастрофической. Ему с трудом удается ее увидеть, и семья Бауэр смотрит на этого докучливого человека, как он скажет сам по возвращении, с некоей фаталистической покорностью.
Они еще обмениваются несколькими письмами после возвращения Кафки в Прагу, но что могли сказать письма, если вся затея столь явно продемонстрировала свою тщетность? Кафка еще затрагивает проблему своего расстроенного здоровья (так как именно к причинам физического свойства он привязывает все свои несчастья). Он строит расплывчатые планы насчет того, чтобы провести летние месяцы в компании Фелицы, но время их отпусков не совпадает. Письма от Фелицы стали нерегулярными, и Кафка говорит о том, чтобы положить конец переписке, ставшей беспредметной. Он пишет 28 мая 1913 года: «Мне не остается ничего другого, как принять отставку, которую ты мне давно предлагаешь между строк твоих писем и в перерывах между твоими письмами».
И вдруг 16 июня, когда по истечении восьми месяцев всякая надежда кажется потерянной, он ни с того ни с сего просит руки у Фелицы: «Для долгих колебаний у нас уже нет времени, по крайней мере, я так ощущаю, а посему я спрашиваю тебя: хочешь ли ты, при всех вышеуказанных и, к сожалению, неустранимых предпосылках, подумать о том, желаешь ли ты стать моей женой? Хочешь ли ты этого?»
Не будем говорить о парадоксе. Вне всякого сомнения, это всего лишь тактический ход, ибо с самого начала Кафка старается испытать судьбу, и, когда все другие аргументы исчерпаны, он пускает в ход последнее оружие.
Более загадочным зато представляется поведение Фелицы, и, поскольку ничто не позволяет его прояснить, остается лишь догадываться. Она соглашается сразу и без колебаний. Усталость ли сыграла свою роль? Или она предпочитает всему брак, полагая, что он сам собой разрешит все проблемы? Мы никогда этого не узнаем.
Но на этот раз Кафка, похоже, попадает в собственную ловушку. Он просит невозможного, и невозможное ему предоставлено. Кафка осознает, что брак, несмотря на то, что он столько месяцев к нему стремился, на самом деле ему не нужен.
В «Дневнике», который он полностью забросил и который вновь робко возобновляет, он прикидывает преимущества и неудобства семейного положения. 21 июля он пишет: «Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда больше не смогу быть один». Приверженность к одиночеству вдруг снова повелительно берет над ним верх. Присутствие жены, может быть, дало бы ему ту уверенность перед людьми, которой ему обычно так недоставало и которую он иногда проявлял в присутствии своих сестер? Может быть, но если ему придется заплатить за этот успех невозможностью писать, он предпочел бы от него отказаться.
Несколько дней спустя, 14 августа, обращаясь к главному, он пишет: «Коитус как кара за счастье быть вместе. Жить по возможности аскетически, аскетичней, чем холостяк, — это единственная возможность для меня переносить брак. Но для нее?» Возвращаясь к «Приговору», он отмечает, что в этом рассказе именно невеста является причиной краха Георга Бендемана. А Фелица, которая должна была стать его спасением, не предназначена ли она тоже для того, чтобы стать орудием его разрушения?
Кафке исполнилось как раз тридцать лет, когда он получает согласие Фелицы. То, что должно было стать хорошим подарком ко дню рождения, в действительности становится лишь причиной конфуза. Он умоляет ее не торопиться, он снова перечисляет ей свои недостатки и мании — он явно хочет ее обескуражить. В то же время он, однако, предупреждает своих родителей, которые начинают наводить справки о семье Бауэр; он даже уведомляет дядю Альфреда из Мадрида, который считает помолвку уже решенным делом, и преждевременно посылает свои поздравления. Осуществляя план, вынашиваемый с начала мая, Кафка пишет отцу Фелицы, которого вначале хотел посвятить в свои сексуальные проблемы. Однако ему это не удается, и Кафка довольствуется тем, без особых шансов быть понятым, что рассказывает отцу Фелицы о требованиях литературного творчества и образе жизни, который он диктует. Дело продвигалось, оно стало наполовину официальным, и им занялись обе семьи.
Фелица между тем проводит в августе свой отпуск на Северном море, на острове Силт. Ее письма становятся более резкими, более короткими, более безличными. И, конечно, Кафка тотчас бьет тревогу. К чему эта новая увертка? Мы снова вынуждены прибегнуть к догадкам. Можно предположить, что ввиду возражений, сомнений, мучений, продолжавшихся после того, как она дала свой ответ, она наконец разочаровалась и решила, что им никогда не удастся разорвать этот порочный круг. Но, может быть, причиной тому явилось лишь беззаботное отпускное настроение: Фелица имела полное право забыть на время все эти драмы, которые с трудом могла осмыслить. Во всяком случае, когда Кафке приходит странная мысль предложить ей заехать в Прагу на обратном пути из Силта в Берлин, она откажется. Ей кажется более разумным, чтобы Кафка приехал в Берлин. Впрочем, он, может быть, и принял бы это предложение, несмотря на расстройство, в котором пребывал. Но в Вене должен был состояться международный конгресс организаций по оказанию помощи и предупреждению несчастных случаев, и его директор Роберт Маршнер просит Кафку сопровождать его туда. Он уезжает 6 сентября, обещая Фелице встретить ее в любом месте в Берлине или в Дрездене сразу после своего возвращения. Неделя, которую он провел в Вене, была одной из самых плачевных в его жизни: он плохо устроился с жильем, его все раздражает, его выводят из себя люди, с которыми он встречается. Одновременно с конгрессом по страхованию в австрийской столице проходит II международный сионистский конгресс; он присутствует на нескольких его заседаниях, так и не испытав интереса к происходившему.
Он покидает Вену 14 сентября и едет в Триест и Венецию. Именно из Венеции он посылает 16 сентября письмо Фелице, которое, по его мнению, должно быть последним. Зачем продолжать это бесполезное преследование, которое может привести к еще большим несчастьям? «Я здесь один, я почти ни с кем не разговариваю, разве что со служащими гостиницы, я переполнен печалью, и однако у меня такое чувство, будто я нахожусь в состоянии, которое мне подходит, в состоянии, дарованном мне внеземной справедливостью, в состоянии, которое я не имею права покидать и которое я должен испытывать до самого моего конца». Несколькими днями раньше он мечтал о сожительстве с женщиной, которая, может быть, смогла бы примириться с присущими ему противоречивыми требованиями. «Жить вместе, каждый свободно, каждый сам для себя, не будучи ни формально, ни реально женатым, довольствуясь лишь тем, что вместе, исполнив последний демарш, ведущий за пределы мужской дружбы, остановиться у самого края границы, мне предназначенной, там, где нога уже готовится ее пересечь».
Но он знает, что это всего лишь мечта и что такого союза не существует. Он ссылается на пример Грильпарцера, который всю свою жизнь поддерживал нежную дружбу с одной из сестер Фрёлих. Но, добавляет Кафка, «это была невыносимая жизнь, исполненная вины, отвратительная и, кстати, похожая на ту, на которую я, возможно, мог бы быть еще способен, конечно, ценой более сильных страданий, поскольку я слабее, чем он».
И в письме из Венеции он вновь возвращается к формуле, которой уже воспользовался 26 мая: «Что делать, Фелица? Нам надо расстаться». Так завершался новый эпизод, которому не суждено было стать последним. Переписка к этому моменту заняла ровно год, она полностью парализовала литературное творчество и подвела Кафку к одному из самых жестоких кризисов в его жизни. Однако связь с Фелицей будет продолжаться еще четыре года: «Не пиши мне больше столько», — попросил однажды Кафка в августе. Интенсивный обмен письмами — признак того, что что-то не ладится. «Мир обходится без писем». Не существует переписки, подобной этой, кроме, может быть, переписки Клейста со своей несчастной невестой Вильгельминой фон Ценге. Там тоже все было исподволь вызвано беспокойством сексуального характера, а тот же садомазохистский комплекс доминировал в обоих случаях, однако с той только разницей, что у Клейста превалировала садистская составляющая, а Кафка же, наоборот, испытывал потребность в том, чтобы заставлять страдать себя самого. «Едва ли факты служат мне препятствием, — пишет он Фелице 30 августа 1913 года, — скорее, это страх, непреодолимый страх, страх перед возможностью быть счастливым, наслаждение и приказ мучить себя ради высшей цели».
В Венеции Кафка остается всего лишь несколько дней. 20 августа он уже в Вероне, откуда посылает Фелице открытку. Затем он направляется на озеро Гард. В Дезенцано, где делает несколько записей в интимном дневнике, им, похоже, овладевает глубочайшее отчаяние. «Мое единственное ощущение счастья заключается в том, что никто не знает, где я нахожусь. Если бы я смог найти возможность, чтобы это длилось вечно! Это было бы гораздо более справедливо, чем смерть. Я опустошен и лишен смысла во всех уголках моего существа, даже в чувстве моего несчастья /…/. Но эти жалбы не утешают меня. Я остаюсь абсолютно инертным, я словно большой камень, в самой глубине которого еще колеблется огонек маленькой души /…/». Он направляется к одному из тех санаториев, в которых охотно бывает. Санаторий этот находится в Рива. Общество, которое он там встречает, не из тех, чтобы ему понравиться. Здесь находится одна русская женщина, которая вроде бы не против провести с ним ночь. Она гадает ему на картах и, хотя он прикидывается, что не верит подобного рода предсказаниям, он не может остаться равнодушным к тому, что ему постоянно выпадает одиночество.
Но есть здесь также совсем юная девушка, швейцарка, живущая около Женевы. Она не еврейка, у нее хрупкое здоровье, она еще совсем незрелая и очень обаятельная. Понятно, что между Кафкой и ею не может быть и речи о длительной связи. У них впереди всего лишь десять санаторных дней в Риве. Когда Кафка попытается затем описать чувства, которые их объединяли, он не сумеет этого сделать, настолько они были неуловимы и почти ирреальны. Девушка занимала комнату над ним, и они общались при помощи импровизированного кода, стуча в потолок, или же Кафка ловил ленту, которую она спускала из своего окна. Он часами просиживал так, опершись о выступ своего окна. Он отправлялся с ней кататься на лодке, созерцая ее улыбку. Эти детские забавы, эти отношения, к которым секс не имел никакого отношения, эта любовь без будущего — все это было как раз тем, в чем Кафка нуждался в данный момент. Девушка настояла на том, чтобы ее имя никогда не называлось, и она известна лишь по своим инициалам — Г. В. Но отныне она станет частью личной мифологии Кафки. Она присоединится к анонимной подруге из Цукмантеля, которая вошла в жизнь Кафки семью или восемью годами раньше. До встречи с Миленой они останутся двумя единственными реальными любовными приключениями, о которых Кафка сохранит воспоминания.
Три месяца спустя он расскажет Фелице об этом инциденте, который едва ли заслуживает названия приключения: «В моем тогдашнем опустошенном и безутешном состоянии моим вниманием могла бы завладеть и гораздо более ничтожная девица». 28 сентября он писал Максу Броду из Ривы: «Но и тут все вполне ясно, и вот уже две недели как все закончилось. Мне надо было сказать, что я не могу, и я действительно не могу». Простая мысль о свадебном путешествии ему кажется ужасной, попытка взять женщину за талию — делом немыслимым. И однако: «И хотя все уже дело прошлое и я больше не пишу и никакой писанины не получаю, тем не менее, — тем не менее я еще от этого не отделался /…/. Я не могу жить с ней и не могу жить без нее. Из-за одного этого мое существование, до сих пор по крайней мере хоть отчасти милостиво скрытое от меня, стало совершенно открытым. Меня должны палками изгнать в пустыню». Вот что принесла любовь — настоящая или мнимая, в конечном итоге, безусловно, настоящая, которую он питал к Фелице: эта любовь открыла его самому себе.
IX
Грета
«Хоть Вы и утверждаете, что я Вас ненавижу, это неправда…»
Молчание длится только месяц. И, вопреки всякому ожиданию, прерывает его Фелица. В этом ложном любовном общении было столько подразумеваемого, двусмысленного, иногда едва осознаваемого, что оно, похоже, постоянно бросает вызов логике, здравому смыслу и обманывает ожидания.
Фелица пишет ему в конце сентября, она даже приглашает его приехать в Берлин. И Кафка тотчас же признается, что венецианское прощание было лишь временным: «Меня одолевает жгучая тоска по тебе, она сидит у меня в груди, как невыплаканные слезы».
Даже если бы Фелица не сделала первый шаг, он вынашивал план навестить ее на Новый год. Непоследовательность ее чувств и ее планов, конечно, не ускользают от него: «Если бы ты меня сейчас спросила, зачем я пишу тебе об этих планах, будучи убежден, что все выйдет наоборот, я бы мог ответить лишь так: «Исключительно из подлости». На определенной, хотя и не на самой глубокой глубине моего существа я не хочу ничего иного, как вновь пленяться тобой, и то, что я это говорю, тоже подлость». Впрочем, поскольку Фелица проявила инициативу, он не смеет больше ждать Нового года: он решает ехать тотчас же, в субботу 6 ноября. Он сомневается, что новая встреча внесет намного больше ясности, чем предыдущие. Он даже говорит об этом Фелице в записке, в которой сообщает ей о своем приезде. «Наконец-то, — заключает он, — мы увидим, что небо нас слышит!»
Небо определенно не услышало их. И еще сегодня трудно понять, зачем Фелица вовлекла его в эту авантюру. Когда он прибывает в субботу вечером в 21 час 30 минут, на вокзале его никто не встречает, а он должен уехать в воскресенье в 16 часов 30 минут. На следующее утро никто не вступает с ним в контакт. Как он уже делал это раньше, он посылает велосипедиста с письмом к Фелице, которая звонит ему лишь в 10 часов. Они отправляются вместе на прогулку в Тиргартен, где состоялся разговор, о котором затем часто будет возникать вопрос в письмах, и первыми словами Фелицы были слова о том, что в полдень она должна присутствовать на похоронах. Кафка предлагает перенести свой отъезд: он отправится ночью, а утром прямо с поезда пойдет в контору. «Это будет напрасный труд, — отвечает Фелица, — в 16 часов я должна проводить своего брата, который уезжает в Брюссель». Однако она обещает позвонить ему в 13 часов и, если сможет, проводить его на поезд. Но в 13 часов телефон молчит, и Кафка возвращается в Прагу, больше не увидев ее. Теряешься в догадках о смысле этого свидания: действовала ли Фелица под влиянием внезапного побуждения, или это было чувство жалости, или же желание решить дело, несмотря на все препятствия. Можно рассуждать об этом без конца, но после этой встречи открывается новая глава: Фелица больше не скрывает своей сдержанности, она больше не притворяется. Переписка будет продолжаться в значительно менее интенсивном ритме, но письма Фелицы, в той мере, в какой позволяют догадываться об этом ответы Кафки, будут все время становиться более краткими, более безличностными. После лихорадочного года история, похоже, движется к разрыву.
Фелица, однако, не ограничивается инициативой возобновления переписки. В первые дни октября она направляет к Кафке одну из своих подруг, Грету Блох, стенографистку из Вены, с которой она познакомилась в Берлине. Она оказывается в Праге проездом на два дня и по просьбе Фелицы договаривается о встрече с Кафкой.
Как вскоре выясняется. Грета не является интимной подругой Фелицы. Они знакомы едва шесть месяцев, редко переписываются и, похоже, даже не доверяют друг другу. Однако мысль заставить вмешаться иностранку была неплохой: она могла способствовать тому, чтобы снизить лихорадочное напряжение и ввести чувства Кафки в разумные границы. Кафка неохотно соглашается на предлагаемую встречу: он действительно рассчитывал увидеть, как позднее об этом скажет сам, пожилую и нелюдимую женщину, возможно, намеренную читать ему мораль. Однако он обнаруживает молодую женщину двадцати одного года, физически привлекательную, с живым умом и весьма заинтересованную тем, что он ей рассказывает. Одной встречи оказывается мало, и они договариваются увидеться на следующий день. Вскоре он испытывает угрызения совести по поводу этих доверительных бесед, которые представляются ему определенной изменой Фелице. Вскоре после этого Грета Блох покидает Прагу, но в очень длинном письме Кафка рассказывает ей, при том с еще большей откровенностью, о всех подробностях своей поездки в Берлин: «Я не в состоянии, — пишет он в заключение, — сказать, вызвано ли это письмо гнусным или приемлемым состоянием духа, хотя, к несчастью, склоняюсь к первому мнению».
Фелица сама затеяла эту встречу между Кафкой и Гретой Блох, но она не предвидела, что между ними завяжется долгая переписка. Между октябрем 1913 года и июлем 1914 года Кафка напишет около двух десятков писем Фелице, за это же время Грете он отправит семьдесят. По мере того как отношения с Фелицей слабеют и идут на убыль, их отголосок занимает все больше места в переписке с Гретой, как будто Кафка нуждается в этой посреднице и как будто описание своих несчастий стало для него важнее самих несчастий. Переписка с Гретой Блох длится ровно год — первое письмо датировано 29 октября 1913 года, последнее написано 15 октября 1914 года. В течение этого времени они видятся лишь три раза: во время ее первого пребывания в Праге, на Троицын день 1914 года в Берлине, на приеме по случаю обручения Кафки и, наконец, снова в Берлине полтора месяца спустя, когда обручение расторгнуто. Так что Грета в свою очередь становится далеким другом, тенью. Когда в мае 1914 года она пошлет ему свою фотографию, он ей напишет: «Я обнаружил, что совершенно позабыл Ваше лицо, с некоторого времени оно стерлось из моей памяти, и постепенно во мне сложился новый человеческий образ, новый человек, который столько значил для меня, что я поверил, что дело совсем не в лице. А теперь, глядя на Ваше фото, я понимаю, что все это неправда».
Этот друг без лица готов внимать всему, что он ей рассказывает. Она явно обожает находиться в курсе его любовных осложнений, и ей доставляет удовольствие занимать в них какое-то место. Вначале Кафка немного колеблется, он упрекает себя в том, что это похоже на шпионаж за Фелицей. 19 декабря он записывает в «Дневнике»: «Обманчивое письмо Бл…» Грета вновь оказывается проездом в Праге. Она попыталась позвонить Кафке, но не смогла его отыскать. Сам он возобновляет переписку лишь 26 января 1914 года, делясь, кстати, с ней своими сомнениями: «Сколь ни было любезно Ваше предпоследнее или, скорее, предшествующее письмо, я не смог на него ответить. До крайности чувствительный во всем, что касается Ф., я уловил что-то едкое в этом письме, что-то такое, что (несмотря на всю Вашу доброжелательность, не только внешнюю) было почти враждебным по отношению ко мне. Это было всего лишь впечатление, на самом деле я так не думаю /…/. Несмотря на все это, я не смог бы Вам ответить, не лицемеря /…/. Если сказать откровенно, мне помешало ответить на письмо не единственно, однако главным образом то, что в нем не было ничего относительно Ф.». Как только Грета отклоняется даже в самой малой мере от роли, отведенной ей Кафкой, он тревожится, чувствует себя уязвленным, перестает писать. Запутавшийся в лабиринте, созданном им самим для себя, он не ищет замещающей любви: одержимый Фелицей, он, безусловно, закрыт для нового приключения.
В Тиргартене Фелица произнесла слова, которые долго откладывала: симпатия, которую она к нему испытывает, недостаточна для того, чтобы оправдать брак. Когда она подводит итог выигрышам и потерям, она не видит отчетливо преимуществ брака. Это те же самые подсчеты, которые Кафка со своей стороны производил достаточно часто, правда, он остерегался сообщать о них Фелице. Теперь же, когда об этом говорит ему она, он приходит в негодование. И, оказавшись перед этой неоспоримой ясностью, он прибегает ко всевозможным уловкам. Он поступает так же, как она: направляет к ней посланника, писателя Эрнста Вайса, с которым был, впрочем, мало знаком, но ценил его романы, он встретил его шесть месяцев назад в Праге, а потом имел с ним короткую встречу в Вене. Эрнст Вайс отправляется к Фелице на работу, чтобы узнать у нее о причинах ее молчания. Он уходит от нее с самыми плохими впечатлениями: то ли она ему не понравилась лично, то ли он считает, что планируемый брак полностью лишен смысла. Решительно, посредники ничего не улаживают: у Фелицы не будет большего врага, чем Эрнст Вайс. Со своей стороны Кафка обращается к средству, которое помогло ему добиться успеха несколько месяцев назад: он вновь просит ее руки. И в каких выражениях! «Правда, мы согласились не думать больше о браке и продолжать только переписку, как раньше. Это предложила ты, и я согласился за неимением лучшего. Теперь я знаю, давай выберем лучшее. Брак является единственной формой, позволяющей поддерживать отношения между нами, в которых я так нуждаюсь». Он унижается еще больше: «Осмеливаюсь сказать, что я тебя так люблю, что хотел бы на тебе жениться, даже если ты мне и сказала недвусмысленно, что испытываешь ко мне не больше чем смутную симпатию, а может быть, и менее того. Было бы нехорошо с моей стороны, было бы настоящим жульничеством воспользоваться таким образом твоей жалостью, но я не вижу другого выхода». Однако чудодейственное лекарство перестало действовать: мольбы, которые сегодня нельзя читать без грусти, несомненно, лишь раздражают Фелицу, которая отныне приняла решение. Месяц проходит без писем, а письмо на сорока страницах остается без ответа. В пятницу вечером 27 февраля Кафка без предупреждения снова (в четвертый раз) приезжает в Берлин. В субботу он отправляется к Фелице в контору, и они видятся какое-то время, но вечером Фелица занята — она обещала быть на каком-то балу. В воскресенье утром они проводят вместе три часа. Фелица обещает ему прийти после обеда на вокзал проводить его, но не выполняет своего обещания. «Результат всего этого, — пишет Кафка, — следующий: Ф. хорошо ко мне относится, но этого, по ее мнению, недостаточно для брака, для такого брака; она испытывает непреодолимую боязнь перед нашим совместным будущим; вероятно, она стала бы очень скучать по Берлину; она опасается также, что ей будет трудно обойтись без красивых нарядов, ездить в третьем классе, сидеть в театре на дешевых местах /…/ и т. д. С другой стороны, она была со мной очень приветлива (правда, не в разговоре, на вопросы она упорно не отвечала); мы ходили с ней по улицам под ручку, как счастливые жених и невеста». На обратном пути Кафка посылает из Дрездена почтовую открытку Грете Блох: «Был в Берлине. Хуже не могло быть. Теперь больше не остается ничего другого, как быть посаженным на кол». Стало быть, отныне все ясно? Грустное приключение подошло к концу? Вовсе нет: оно продолжается, постоянно пережевывая те же самые темы в такой мере, что становится утомительно следить за всеми этими бесполезными ухищрениями. 13 марта он умоляет Фелицу встретить его в Дрездене, 18-го шлет ей телеграмму, угрожая новым приездом в Берлин. Поскольку она задерживается с ответом, он обращается к ее родителям, 21-го он пишет ей очень длинное письмо, наполненное упреками и мольбами, о чем он в который раз сообщает Грете Блох, уверяя, что оно будет последним. Однако этого не произойдет: 25 марта он снова пишет: «Более подробных сообщений обо мне, дорогая Ф., ты не получишь; я могу их дать лишь в случае, если буду бежать за тобой по Тиргартену и ты при этом будешь всячески стараться от меня ускользнуть, а я — пасть перед тобой ниц; лишь в состоянии столь глубокого унижения, которого не переживет и собака, я могу сделать это». Все было сказано и пересказано, все доводы были приведены. И тут вдруг, несомненно, из-за изнурения, из-за усталости все меняется. То, чего не смогли решить аргументы, решил счастливый случай — никогда не женятся по очевидным мотивам. Кафка и Фелица созваниваются и решают увидеться в Берлине на Пасху 12 и 13 апреля. В письмах тем временем продолжаются недоразумения и бессмысленные дискуссии. Кафка отправляется в Берлин (пятая поездка!), и там наконец все решается. Фелица и Франц обручаются, семьи обмениваются поздравлениями и решают, что официальный прием состоится на Троицу в понедельник. «Никогда, Фелица, — пишет Кафка по возвращении в Прагу, — при совершении какого-либо действия я не чувствовал с большей определенностью, что совершил нечто хорошее и крайне необходимое». В тот же день он пишет почти то же самое Грете Блох, но в ином тоне: «В Берлине было ни хорошо, ни плохо, но по меньшей мере, согласно моему внутреннему убеждению, все прошло как необходимое для меня /…/. Естественно, я говорю лишь о необходимости для меня, а не для Ф.».
Итак, начинается или по меньшей мере должна начаться новая фаза, поскольку фактически ничего не изменилось. 24 мая Кафка пишет Грете Блох: «Если Вы меня спросите, что изменилось в отношениях между Ф. и мной с момента обручения, я должен, по правде говоря, дать вам странный ответ: ничего не изменилось. Конечно, внешне много, но внутренне ничего, по меньшей мере из того, что я знаю и что мог бы объяснить. Вы спрашиваете меня, что пишет Ф. Она пишет достаточно регулярно. Вот только в конторе у нее много работы, и письма ее ограничиваются вопросом жилья или другими подобными проблемами». Ноша эта выпадает Кафке, именно ему приходится искать квартиру в Праге: «Я всегда снимаю плохую и боюсь, что не смогу больше отказаться. Я всегда предпочитаю предпоследнюю, пока привыкаю к последней, мне нравится предыдущая до такой степени, что меня почти приходится отрывать от двери». У него есть веские основания колебаться, так как Фелица и он ищут не одно и то же, что и попытается он ей объяснить после разрыва. Фелица хотела иметь спокойную, прилично обставленную семейную квартиру, как у других. Но он как раз не такой, как все прочие: «Все прочие, когда они заводят семью, обычно уже почти насытились, брак для них — последний лакомый кусок. Для меня все обстояло иначе, я не насытился, не основал собственного дела, которое развивалось бы год за годом нашей семейной жизни, для меня это не была моя «окончательная» квартира, откуда я буду в упорядоченном спокойствии надзирать за своим делом, — мне не только не нужна такая квартира, но она меня пугает». Дойдя до подножия стены, он видит то, к чему, как он полагал, стремился, и пугается. Он боится обуржуазиться или, короче говоря, он боится самого брака. Он помещает сообщение об обручении в пражской и берлинской газетах, но не может поверить в то, что делает: ему кажется, что он извещает о том, что на Троицу в одном из выступлений варьете он исполнит номер катания на коньках. Он боится уже наполовину решенного брака и даже его чувства к Фелице не отличаются устойчивостью. Он сознает, что они обладают диаметрально противоположными темпераментами и что, если они хотят достигнуть согласия, им понадобится проявлять по отношению друг к другу сверхчеловеческое терпение. Однажды он уже рассказал Грете Блох анекдот, относящийся к Грильпарцеру, через посредство которого он, несомненно, выражал свои мысли: Грильпарцер давно разорвал помолвку с Катариной Фрёлих, но продолжал навещать ее каждый вечер; Кэт, перешагнувшая к тому времени тридцатилетний возраст, оставалась мила с ним, из жалости он брал ее на колени, но видел, что она стала ему совершенно безразличной; он ищет какие-то остатки чувств, но ничего не находит и, утомленный, по истечении какого-то времени освобождается от нее. В общих чертах это рассказ, который Грильпарцер сделал из истории неудачного обручения, но в письме Грете Блох Кафка добавляет фразу: «Впрочем, брал он ее на колени не из жалости, это был почти эксперимент, хуже того, он предвидел развязку и все-таки делал это».
Как бы там ни было, но время идет, — по мнению Фелицы слишком быстро, что с горечью отмечает Кафка! — и наступает Троица. Все семейство Кафки отправляется в Берлин. Мать и три сестры уезжают первыми, Франц вместе с отцом остается в Праге. Страшный отец не сделал ни одного возражения против этого слишком условного брака. Он вовсе не мечет запретительные громы и молнии подобно отцу Георга Бендемана в «Приговоре», не высмеивает любовные вкусы своего сына, в чем Кафка будет его упрекать в большом обвинительном письме 1919 года. В «Дневнике» он, однако, записывает: «Сегодня вечером буду один с отцом. Думаю, что он боится подняться поужинать. Буду ли я вынужден играть в карты? /…/ Поведение отца, когда он делает намеки на Ф.». Отец робеет перед своим сыном, как сын перед отцом, но именно Франц Кафка с тревогой присматривается к его реакциям, когда произносится имя Фелицы.
1 июня, в понедельник Троицына дня, в Берлине состоялся прием по случаю помолвки. Для Кафки, как можно догадаться, это был мучительный день. Несколько дней спустя он записывает в «Дневнике»: «Вернулся из Берлина. Был закован в цепи, как преступник. Если бы на меня надели настоящие кандалы, посадили в угол, поставили передо мной жандармов и только в таком виде разрешили смотреть на происходящее, было бы не более ужасно… И вот такой была моя помолвка! Все пытались пробудить меня к жизни, но поскольку это не удавалось, старались мириться со мной таким, каков я есть. Правда, кроме Ф. - вполне оправданно, ибо она больше всех страдала. Ведь то, что другим казалось просто внешней манерой, для нее таило угрозу».
А какова же роль во всем этом Греты Блох? Она незаменимая и даже единственная наперсница, поскольку молодожен Макс Брод не столь близок, как раньше. Еще в ноябре 1913 года Кафка записал в «Дневнике»: «Он все более становится для меня чужим, уже давно я это ощущаю, но вот теперь в свою очередь я становлюсь чужим ему». Он снова об этом говорит в письме Фелице от 14 апреля 1914 года: «Естественно, я вижу его часто, и даже ежедневно, но, если внимательно посмотреть, мы больше не так близки, как были раньше, по правде говоря, лишь время от времени. К счастью, теперь есть Грета Блох, женственная, понимающая, почти сообщница». Это написано сразу после того, как с вокзала он отправляет Грете письмо: «Как это меня поддерживает и как это отягощает мой лоб». Письма эти, ставшие почти ежедневными, являются его жизнью, и в то же время он знает, что они возобновляют его страдания. Все чаще и чаще он расспрашивает ее о том, как она живет, он заклинает ее покинуть Вену, которую он ненавидит и которая не нравится ей, и переехать в Прагу или в Берлин. Он преподает ей уроки натуристской гигиены о питании и медицине. Он планирует увидеться с ней либо в Праге, либо в Гмюнде, на полдороге между Прагой и Веной, там, где через шесть лет он назначит свидание Милене. Но ему это не удается: различные препятствия, отнюдь не воображаемые, делают эту встречу невозможной. Когда вопрос о помолвке решен, он приглашает ее пожить какое-то время в их новом жилище (несомненно, еще и потому, что плохо представляет, чем может обернуться постоянное присутствие с глазу на глаз с Фелицей). Его помолвка или брак ничего не изменят в его чувствах к Грете, которые свидетельствуют, пишет он, «о самых прекрасных, самых необходимых возможностях».
Однажды в середине апреля 1914 года Кафка, недовольный тем, что Фелица затягивает ответы на его письма, решил назначить ей срок, после которого он, несомненно, полагал, что сможет прекратить переписку. О своем решении он сообщил Грете, но она его раскритиковала, найдя подобное решение «непонятным». Это явилось причиной единственной короткой размолвки между ними. Этот мимолетный инцидент, похоже, говорит о том, что Грета Блох была не только преданной подругой Фелицы, но, возможно, преследовала и более личные цели. Можно предположить, что она не смогла долго оставаться безразличной к очарованию корреспондента, чей ум поражал живостью, а сердце отзывчивостью. Трудно с достаточной точностью описать чувства молодой женщины, о которой почти ничего не известно, кроме ее тени, отброшенной на какое-то время на Кафку. Но предположение о том, что она испытывала определенную влюбленность в Кафку, исключать нельзя. Когда Грета Блох узнает о помолвке, 14 апреля она посылает телеграмму: «Искренние поздравления от вашей довольной Греты Блох», и Кафка спрашивает у Фелицы: «Что она имеет в виду?» Во время приема 2 июня она оказывается в числе приглашенных.
А Кафка? В произведении, озаглавленном «Другой процесс», Элиас Канетти защищает мысль о том, что между Гретой и Кафкой завязалась любовная интрига. Таким образом, он предал ту, которую преследовал своей любовью в течение почти что двух лет, и это-де и была ошибка, которую он пытался затем искупить в «Процессе». Правда, Канетти высказал это предположение, не утруждая себя доказательствами, поскольку знал, что сможет убедить лишь немногих читателей. Это скорее прекрасная выдумка романиста, чем исследование историка. В течение того года между Кафкой и Гретой сложилась своего рода нежная дружба, и ничего больше, что могло бы дать повод думать о любовных чувствах Кафки. Нам представляется: если эти отношения служили ему поддержкой в столь трудные моменты, то именно в силу того, что в них не было ничего, затрагивавшего будущее, и что в них отсутствовал чувственный момент. Ему повезло, что с Гретой Блох он обрел то женское присутствие, в котором постоянно нуждался, и оно в то же время было столь неуловимым, столь легким, что почти ничего от него не требовало. Благодаря ему он мог прояснять и в терпимой форме воскрешать мысленно свою несчастную любовь к Фелице Бауэр. Благодаря этому свидетелю он мог жить и рассматривать свою жизнь. Грета же Блох явно обладала необходимой отзывчивостью и умом, чтобы быть его эхом, а ему большего и не требовалось.
Здесь как раз уместно сказать о легенде, одновременно нелепой и устойчивой, время от времени всплывающей на поверхность. Первым обнародовал ее Макс Брод, сам явно в нее не веривший. В 1940 году Грета Блох написала из Флоренции, где в то время жила, одному палестинскому другу о том, что в 1921 году в Мюнхене она потеряла семилетнего сына. Получалось, что ребенок родился где-то около 1914 года. Корреспондент, который связался с Максом Бродом, утверждал, что отцом ребенка являлся не кто иной, как Франц Кафка. В этом предположении явно нет ничего правдоподобного, кроме рождения ребенка. Характер писем Кафки, как уже было сказано, исключает возможность любовной связи с Гретой. Известно также, что в это время они видятся лишь трижды, да и то очень коротко. Наконец, можно представить, что значило бы для Кафки рождение сына: об этом, безусловно, имелось бы не одно упоминание в его письмах и в «Дневнике». Кроме того, в письмах Греты Блох время от времени возникает вопрос о некоем корреспонденте, о котором она не распространяется, но в котором, похоже, горячо заинтересована. Однажды в апреле 1914 года в завуалированной форме она говорит о «личных делах» (потребовавших от нее трех писем в один день), равно как и несостоявшемся визите. Израильский корреспондент был единственным, приписавшим Кафке отцовство этого ребенка, ибо Грета Блох на это вовсе не претендовала. Наконец, в постскриптуме письма Фелице в августе 1916 года читаем: «Как принимает это мадемуазель Блох и какое значение это имеет для нее?» Не связанная с текстом фраза эта явно не подлежит расшифровке, однако не исключено, что она может иметь отношение к внебрачному ребенку Греты, который оказался у нее на руках.
Остается изложить эпилог этой истории, эпилог временный. Событие не изменило Кафку. Он по-прежнему чувствует себя неспособным к готовящемуся браку, его одолевают те же самые сомнения: он не создан для жизни в обществе, он безбожник, которому нет места в еврейской общине, он опустошен ненавистной ему профессией, у него плохое здоровье; речь идет о «чудовищной ипохондрии, вне всякого сомнения, но которая пустила [в нем] столь многочисленные и столь глубокие корни, что он составляет с ней одно целое». И он предполагает, что болезни, от которых он страдает, всего лишь предвестники более серьезных несчастий, ждущих его в будущем.
Если он по-прежнему остается все тем же, Грета Блох, напротив, изменилась. Она больше не верит, что планируемый брак имеет смысл. Почему возник этот неожиданный поворот? Это остается одной из загадок этой темной истории. Кафка продолжает говорить то же самое, что неутомимо повторял ей в течение восьми или девяти месяцев, но тем не менее она больше не верит в союз между ним и Фелицей.
1 июля Кафка пишет ей, что рассчитывает приехать в Берлин — в воскресенье следующей недели, то есть 12-го июля, и оттуда отправиться с Фелицей провести несколько дней отпуска в Глешендорфе на Балтике. Неожиданно Грета Блох предостерегает его. Обнаружена копия или черновик написанного ею письма — единственное опубликованное свидетельство, оставшееся от Греты Блох. Она пишет: «Если Вы не ошибаетесь в самом себе — могу ли я еще на это надеяться после стольких доказательств обратного? — то это серьезно. Я неожиданно увидела все ясно и пришла в полное отчаяние. Из-за того, что я всеми силами хотела для вас обоих счастья в этой помолвке и Вас к ней подталкивала, я чувствую, и это так, огромную ответственность, которую более неспособна вынести. Я почти хотела бы просить Вас не приезжать сюда, если вы не в состоянии это сделать с ясностью, решительностью и безраздельной радостью».
Можно быть уверенным, что Грета Блох поступила неэтично и вышла за пределы отведенной ей роли: она дала Фелице почитать личные письма, адресованные ей Кафкой. Правда, в самом начале их переписки она уже посылала Кафке письма, полученные ею от Фелицы, и это тогда его не шокировало. Но теперь ее вмешательство оказалось решающим: Фелица явно ждала лишь случая или предлога, чтобы выйти из ситуации, в которой она оказалась лишь из-за усталости или по слабости характера.
Кафка, однако, пренебрегает предупреждениями Греты и 12 июля прибывает в Берлин, где состоится то, что отныне, по его определению, будет называться «Трибуналом в «Асканишер Хоф», по имени отеля, в котором происходило дело. Фелица явилась в сопровождении своей младшей сестры Эрны и Греты Блох, Кафка прибыл со своим другом Эрнстом Вайсом. Все обвиняют его. Грета, похоже, снова дала на прочтение несколько писем, Фелица бросает «хорошо обдуманные, загодя приготовленные враждебные слова», Кафка хранит молчание. Потом все расходятся.
Несколько дней спустя Кафка запишет в «Дневнике»: «Явная виновность фрейлейн Бл.» Однако он покидает отель вместе с ней. В октябре он еще пошлет ей последнее письмо, холодное, но лишенное ненависти: «Хоть Вы и утверждаете, что я Вас ненавижу, это неправда, если даже все будут Вас ненавидеть, меня среди них не будет, и не потому, что у меня нет на это права. Хоть Вы и сидели во время разбирательства в «Асканишер Хоф» как вознесенный надо мной судья — это было отвратительно для Вас, для меня, для всех, — но так лишь казалось, на самом деле на Вашем месте сидел я и не покинул его до сих пор».
В 1915 году во время одной из встреч Кафки и Фелицы будет присутствовать и Грета Блох. Фелица сохранит с ней сердечные связи до второй мировой войны и в годы изгнания. Но для Кафки эпизод с Гретой Блох завершился.
12 июля после обеда Кафка навестит родителей невесты. Он запишет: «Мать время от времени всплакивает. Я твержу свое. Отец все прекрасно понимает. Он специально вернулся из Мальме, ехал всю ночь, он без пиджака. Они меня оправдывают, против меня ничего нельзя сказать, или очень мало. Дьявольский во всей невиновности».
Дважды он отправляется в бассейн поплавать, вечером ужинает с Эрной Бауэр, питающей к нему симпатию. Он обещал снова встретиться с родителями Бауэр, но в конечном итоге отказывается от этой встречи и ограничивается прощальной запиской, отправленной через посыльного. В «Дневнике» он записывает: «Нечестное и элегантное письмо. Торжественная речь на эшафоте».
13-го вечером Эрна провожает его на вокзал. Он направляется в Любек принимать морские ванны в Травемюнде. Патетика этих дней в «Дневнике» погребена под изобилием живописных заметок.
Любовные приключения столь шумно овладели авансценой, что заставили забыть обо всем остальном. «Дневник», который он возобновляет с мая 1913 года, хотя пишет и нерегулярно, дает о Кафке представление, зачастую отличное от того, что складывается по письмам. Он не поддается отчаянию: «Я не считаю себя потерянным, есть во мне что-то ждущее, независимо от людей, даже от Ф.» Это же подтверждает автопортрет от 12 декабря 1913 года: «Только что внимательно рассматривал себя в зеркале, и лицо мое — правда, при вечернем освещении, и источник света находился позади меня, так что освещен был, собственно говоря, лишь пушок по краям ушей, — даже при внимательном изучении показалось мне лучше, чем оно есть на самом деле /…/. Чернота волос, бровей и глазных впадин проступает, подобно жизни, из остальной застывшей массы. Взгляд совсем не опустошенный, ничего похожего, но он и не детский, скорее неожиданно энергичный». Правда, Кафка добавляет, чтобы разрушить, как он часто делает, то, что только что утверждал: «…но, может быть, этот взгляд был только наблюдающим, так как я ведь наблюдал себя и хотел внушить себе страх». Эти заметки, к счастью, являются противовесом крайней слабости, о чем свидетельствуют письма Фелице. Кафка не упивается страданиями, он, скорее, иронизирует над ними: «Я не страдаю безмерно, поскольку страдаю не постоянно, страдание мое не аккумулируется, по меньшей мере я его временно не чувствую». И добавляет: «Оно значительно меньше того, которого я, несомненно, заслуживаю». Ему случается думать о самоубийстве и охотно представлять себе его картину, но это затем, чтобы тотчас развенчать свою трусость: «Я прикован к общепринятому, живу, целиком увязнув в жизни, я не сделаю этого; я совершенно холоден, мне грустно оттого, что ворот рубашки давит мне шею, я проклят, задыхаюсь в тумане». Можно было бы сказать, что дистанция между этим чувством пустоты и отчаянием не так велика. Разница заключается лишь в том, что он еще видит выход в конце ночи. Однажды, когда его мать, которая робеет перед ним и ласки которой он отвергает, всячески стараясь, однако, их вызвать, так вот однажды, когда она ему сказала: «Это не для тебя», чтобы отвлечь его от какой-то неудачи; вероятно, от его любовных неурядиц, вначале он немного страдает от этого убогого утешения, а потом добавляет: «Серьезность состоит в том, что в этот момент я не нуждаюсь в чем-либо другом. Оно есть и остается моей уязвимой точкой, но упорядоченная, не очень разнообразная, полуактивная жизнь в последние дни [Кафка перечисляет некоторые моменты этой жизни] в буквальном смысле достаточна, чтобы обеспечить мою цельность и дать мне немного твердости и надежды». Он обстоятельно размышляет над решением, которое могло бы вырвать его из оцепенения и печали и приходит к выводу, что самым важным для него было бы покинуть Прагу и предпочтительно переселиться в Берлин и, может быть, изменить профессию. Он охотно стал бы журналистом. Но в то же время он задается вопросом об искренности своих размышлений: не из-за Фелицы ли Бауэр выбирает он Берлин? «Нет, — отвечает он, — я выбираю Берлин по вышеуказанным причинам, но, конечно, я люблю его из-за Ф., из-за всего, что ее окружает там, — над этим я не властен. Возможно также, что в Берлине я сойдусь с Ф. Но, — говорит он дальше, — если же эта совместная жизнь поможет мне изгнать Ф. из своего сердца, — тем лучше, тогда в этом еще одно преимущество Берлина». Вот что осталось от Фелицы в марте 1914 года, в момент, когда готовилось заключение помолвки.
Но главное событие первых дней 1914 — Кафка снова принялся писать. Вспомним, что его литературное творчество, столь бурное после встречи с Фелицей, прервалось в начале 1913 года. Когда в феврале 1914 года Роберт Музиль, в то время редактор «Die neue Rundschau» попросил его дать что-нибудь в свой журнал, Кафка ничего не смог ему предложить: «Письмо от Музиля, — пишет он в «Дневнике». — Оно меня радует и печалит, ведь у меня ничего нет».
В течение месяцев он больше не может писать. «Дневник» хранит мелкие наброски, относящиеся к июлю, октябрю, декабрю 1913 года. Но, начиная с марта 1914 года, тексты множатся и увеличиваются в объеме. В «Дневнике» встречаются комментарии, которыми Кафка сопровождает тексты, когда создает их. Первые из этих комментариев выражают лишь уныние, но мало-помалу Кафка обретает надежду: «Может быть, все дело в том, чтобы набить руку. Когда-нибудь я еще научусь писать».
В этих незавершенных маленьких рассказах без труда просматриваются заботы, одолевавшие Кафку в это время. Так, в одном из них, написанном примерно за три недели до официального берлинского приема, речь идет о невесте, которая сторонится приглашенных, за что мать вынуждена ее побранить. В других текстах говорится об отвратительном поиске квартиры. В одном из них хозяйка, которой Кафка, похоже, придал костистое лицо Фелицы Бауэр, затевает ссору со своим будущим квартиросъемщиком, обзывая его «старым неряхой», в то время как он, несмотря на безобразность женщины, принимается гладить ей руку и приставать к ней. Замысел этот вскоре будет использован в «Процессе». Так, когда хозяйка госпожа Грубах говорит Йозефу К., что единственной заботой является стремление держать свой пансион в чистоте, он ей отвечает: «Ну, если вы хотите соблюдать чистоту в вашем пансионе, так откажите от квартиры мне первому!» В других набросках верх берут сексуальные наваждения. Так, в отрывке, датированном 11 июня (спустя неделю после помолвки), рассказчик, придя домой, видит в своей комнате нечто вроде химеры, сидящей на печи, существо, состоящее «из груд мягкого белого мяса», с «двумя большими круглыми женскими грудями», лежавшими на карнизе печи.
Но наиболее удавшимся и самым длинным из этих набросков является набросок, названный издателями «Искушение в деревне». Некоторые темы этого неизданного рассказа Кафка спустя восемь лет воспроизведет в «Замке»: запоздалый приезд путешественника в деревню, подозрительный и даже мерзкий постоялый двор, два старика, сидящие перед мисками с кашей и т. п. Но в рассказе обеспокоенный и недоверчивый путешественник находит приют на большой ферме, где его принимает группа детей и где женщина занята тем, что спокойно пишет. Было бы ошибкой отваживаться интерпретировать слишком подробно столь фрагментарный рассказ. Тем не менее возникает искушение предположить, что в этом противостоянии мрачного постоялого двора простодушному и мирному месту, к которому путешественник, однако, продолжает относиться с недоверием, кроется какая-то связь с вопросами, беспокоившими Кафку в то время, хотя не представляется возможным уточнить, что же здесь — ферма или постоялый двор — олицетворяет брак.
X
«Процесс» и «В исправительной колонии»
В Любеке Кафка вновь, похоже, случайно встречается с Эрнстом Вайсом и его подругой — актрисой Рахель Санзара. Парочка увозит его в Мариелист, курортное место на берегу Балтийского моря, где он проводит десяток дней. Эрнст Вайс, обладающий подозрительным характером, склонен к ревности, и между супругами часто возникают ссоры. Гостиница посредственная, в меню нет ни овощей, ни фруктов. Кафка собирается тотчас же уехать, но верх берет его обычная нерешительность, и он остается без особого удовольствия. Несколько дней спустя, вспоминая свое пребывание в Дании, он запишет в своем «Дневнике»: «Я становлюсь по-прежнему все более неспособным размышлять, наблюдать, замечать, вспоминать, говорить, принимать участие, я каменею».
Тем не менее было бы ошибкой считать, что он впал в отчаяние. Наоборот, разрыв с Фелицей, скорее всего окончательный, освободил его от навязчивой идеи жениться. Из Мариелиста он пишет Максу Броду и Феликсу Вельчу, информируя их о событиях: «Я отлично знаю, что все сложилось к лучшему, а по отношению к этому столь очевидно необходимому делу я не до такой степени страдаю, как это могло бы показаться». Он также пишет своим родителям, разрыв помолвки ему представляется благоприятным моментом для осуществления давнего плана: покончить с мрачной жизнью функционера, которую он ведет в Праге, отправиться в Германию и попытаться зарабатывать на хлеб своим пером; у него в кармане пять тысяч крон, которые позволят ему продержаться в течение двух лет.
26 июля на обратном пути он проезжает через Берлин, где встречает Эрну Бауэр. На следующий день после прибытия в Прагу он продолжает делать в «Дневнике» записи о поездке. 29 июля пишет два первых черновых наброска, которые станут отправной точкой «Процесса». В первом Йозеф К., сын богатого купца, ссорится со своим отцом, который упрекает его в безалаберной жизни; он отправляется в купеческий клуб, где привратник склоняется перед ним; этот персонаж присутствует с самого начала, его значение раскроется в дальнейшем. Во втором наброске коммерческий служащий позорно изгоняется хозяином, который обвиняет его в краже: служащий заявляет о своей невиновности, но он лжет, он действительно украл из кассы сам не зная почему пятифлориновый билет. Это была мелкая кража, которая, без сомнения, должна была, по замыслу рассказчика, повлечь за собой многие последствия.
Кафка не использовал этот первый набросок, вероятно, решив, что, оставляя за своим героем вину, даже самую безобидную, он ослаблял мотив. Необходимо, чтобы Йозеф К. был невиновен, чтобы природа или двусмысленность его процесса прояснилась в полной мере.
«Дьявольский во всей невиновности» — так он сам писал о себе в своем «Дневнике». Можно быть виновным и, следовательно, справедливо наказанным, а можно действовать неумышленно, то есть уступая требованию своей природы. Вина и невиновность не находятся в противоречии, это две неразрывные реальности, сложно взаимосвязанные.
«Хоть Вы и сидели во время разбирательства в «Асканишер Хоф» как вознесенный надо мной судья /…/, - пишет Кафка Грете Блох в октябре 1914 года, — но так лишь казалось — на самом деле на Вашем месте сидел я и не покинул его до сих пор». В написанной вскоре после этого первой главе «Процесса», где Йозеф К. рассказывает фрейлейн Бюрстнер о своем аресте, возникает почти та же самая ситуация. Первая глава, без всякого сомнения, является романической транскрипцией «трибунала «Асканишер Хоф». Когда Кафка написал «Приговор», он с удивлением заметил, что своей героине Фриде Бранденфельд дал инициалы Фелицы Бауэр: эта мысль пришла подсознательно. В «Процессе» же он по собственной воле вновь использует для обитательницы пансиона Грубах фрейлейн Бюрстнер те же инициалы; на сей раз этот тайный намек, предназначенный ему одному. Кафка не собирается рассказывать о своей несчастной любви, скорее наоборот, с самого начала он принимает отставку Фелицы. Фрейлейн Бюрстнер не только не походила на нее, но, что особенно важно, она не сыграла никакой роли в жизни Йозефа К. Он даже не разговаривал с ней до начала рассказа. Некоторые авторы комментариев, стремясь найти в его истории вину, из-за которой он стал преступником, приписывали ему в качестве преступления это молчание. И фрейлейн Бюрстнер незамедлительно исчезает совсем, чтобы появиться вновь лишь в последней главе, в момент, когда Йозефа К. ведут на казнь, но он не уверен даже, она ли это, даже в это патетическое мгновение она не играет никакой роли. Еще одна глава, которую без сомнения можно толковать как референцию в прошлое, под названием «Подруга фрейлейн Бюрстнер»: Йозеф К. надеется встретить свою соседку, с которой он перекинулся несколькими словами в тот самый вечер, когда его арестовали. Но соседка переехала, а на ее месте он находит некую фрейлейн Монтаг, старую хромающую и сварливую деву. Вполне вероятно, что Кафка хотел передать здесь впечатление, которое произвела на него Грета Блох во время их первой встречи, и, может быть, погасить по отношению к ней тайную обиду. Но это единственное, что связывает его с прошлым, Фелица исчезла, процесс происходит без нее.
В «Приговоре» и в «Превращении» автобиографическое начало было ощутимо: в первом — это несостоявшееся обручение, во втором — ужас одиночества. Особая психологическая ситуация рассказчика давала себя знать. Здесь же, в «Процессе», он заменяет себя героем без лица и истории. Йозеф К., личность и смысл существования которого оказываются под вопросом одним прекрасным утром, когда инспекторы полиции приходят арестовать его, не является интеллектуалом; у него нет привычки задавать себе вопросы о себе самом и видеть себя живущим. Это в высшей мере банальный персонаж — некоторые из комментаторов Кафки, начиная с самого Макса Брода, упрекали его в этом, словно банальность была преступлением, которое должно быть наказуемо. И, несмотря на это, он перестает ощущать себя невиновным, он не находит больше смысла ни в себе, ни в мире, он живет с отчаянием, которое его примитивный разум не в состоянии подавить. Он задает вопросы окружающим, он ищет руку помощи, но ничто не останавливает ход процесса над ним вплоть до финальной казни, более гротескной, нежели трагической, столь же жалкой, как и год предшествовавшего судебного следствия.
Кафка только что преодолел в своем творчестве решающий этап. Он рассказывает о себе меньше, он расширяет свой взгляд, отныне он размышляет и спрашивает, он оставляет анекдот и переходит к некоторой патетической абстракции, которая станет теперь его манерой.
«Ответственность» Кафки по отношению к Фелице была вполне определенной: в течение двух лет он подвергал ее бесполезным страданиям, он пользовался своими собственными сомнениями и даже своей слабостью, чтобы вводить в заблуждение наивную партнершу, не способную следовать за ним по всем извилинам его невроза. Ничего подобного нет в «Процессе»: никто не сможет сказать о Йозефе К., что он «дьявольский в своей невиновности». В его посредственной жизни не было ничего, что могло бы прельстить дьявола. И тем не менее именно против этого «невиновного» разворачивается процесс. Чертеж максимально упрощается: сосуществование невиновности и вины должно проявиться со всей ясностью. И эта «вина» не является более правонарушением, которое должен был преследовать уголовный суд, ни отклонением в поведении, которое должно было бы осуждаться моралью: «вина» содержится в самом существовании, она словно тошнота, которая делает жизнь неопределенной, на пределе возможного.
В судебном процессе такого сорта наиболее существенной была бы, конечно, возможность получить помощь женщины, так как они имеют тесные связи с судьями, которые намного облегчают положение дел. Но тут у Йозефа К. мало шансов на успех. Он набросился на фрейлейн Бюрстнер, поцеловал ее в шею «у самого горла», но он, без сомнения, вкладывал в желание больше ненависти, чем любви. Жена судебного исполнителя, которую он встречает в пустынном зале ожидания, томится от сексуального желания, но, как только появляется ее любовник студент Бертольд, она бросается в его объятия, оставляя Йозефа К. в одиночестве. В дальнейшем любовное желание, которое неотступно следует почти по всем страницам романа, принимает форму порока: с Лени, служанкой адвоката Гульда, любовницей всех обвиняемых, которая охотно показывает свое «маленькое уродство» — ладонь с перепончатыми пальцами; с не по возрасту зрелыми уличными девчонками, осаждающими лестницу художника Титорелли, с которым, по-видимому, они проводят ночи. У Йозефа К., как и у Кафки, мало надежд на помощь со стороны женщин.
Тогда за него берется общество: дядя, заботящийся о добром имени семьи, которое он не желает видеть втоптанным в грязь бесчестьем процесса, отводит его к знакомому старому адвокату. И этот адвокат со смешной фамилией Гульд, что на старом возвышенном языке поэзии означает «милость», обещает ему воспользоваться всеми своими связями, чтобы вытащить его из процесса. Он не описывает всю иерархию судей, адвокатов, высоких чинов, от которых зависит судьба всех обвиняемых. Кто они, эти могущественные люди, которых никогда не видишь, но которые предстают как тщеславные и мстительные, чувствительные к лести и чинопочитанию? Люди ли они, которых убеждают прошениями, или боги, к которым обращаются с молитвами? Рассказ не дает определенного ответа, поскольку небо, как представляют себе Гульд и его друзья, создано наподобие общества людей, с его бесконечной иерархией, с такими же недостатками и слабостями. Об этих всемогущих заступниках ходят анекдоты: говорят, что некоторые из них, уставшие от назойливых просьб адвокатов, сбрасывают этих несчастных с лестницы. Чего только не рассказывают об этих персонажах, в существовании которых в конечном счете нет полной уверенности, как нет уверенности и в том, что их вмешательство могло бы что-либо изменить. Гульд — старый, больной и потрепанный адвокат — живет в мрачной лачуге, слабо освещаемой газовым светильником. Но в то же время он принадлежит к лучшему обществу города, являя собой порядок, общепринятые представления, общественные устои. Йозеф К., устав наконец от пустых обещаний и проволочек Гульда, решает обойтись без его услуг.
Ему рассказали о другом персонаже, который слывет ловкачом в урегулировании подобных процессов, его зовут Титорелли. Это голодный художник, который живет в мансарде в заброшенном квартале. Картины, что он рисует, изображают все один и тот же пустынный пейзаж. Но вялый, циничный, порочный Титорелли располагает лишь сомнительными уловками, ненадежными компромиссами, способными скорее камуфлировать процессы, нежели их выигрывать.
Йозеф К. не может сделать выбор между Гульдом и Титорелли: нужное ему решение не находится ни на одной, ни на другой стороне. Гульд — это холодный общественный порядок, лишенный смысла, Титорелли — беспорядок, распущенность, богема. Мы уже видели Кафку как в его американском романе, так и в жизни колеблющимся между оседлостью и приключением, между моральным комфортом и свободой. Подобный конфликт описывается в «Процессе», однако все изменилось: и с одной, и с другой стороны он находит только ложь и пустоту. Гульд и Титорелли — оба шулеры, торговцы ложной мудростью.
Но надо уточнить: Гульд, с его прошениями и молитвами, — это образ — или карикатура — мертвой религии, лишенной своего содержания, сведенной к практике, в добродетель которой верится с трудом; он — выражение изношенного, больного мира, несчастный пережиток в прошлом живой веры; все говорит в нем о разложении и смерти; он сам лишь чуть-чуть выходит из оцепенения только для того, чтобы запустить машину процесса, но машина сломана. Титорелли не верит ни в Бога, ни в черта, но его бесхарактерность вызывает лишь отвращение; в духоте, царящей в его мансарде, Йозеф К. чувствует, что вот-вот потеряет сознание.
После того как Кафка прекращает работу над «Процессом», он приступает к написанию «В исправительной колонии», единственного рассказа этого периода, который ему удается закончить. Используя другую среду, он рассказывает по сути ту же историю. В центре повествования находится ужасная машина для пыток, пережиток былых времен. Когда на каторжном острове правил еще прежний комендант, машина, по рассказам ее последних приверженцев, во время агонии заставляла сиять на лице осужденного свет экстаза. Когда путешественнику, приехавшему посетить это исправительное учреждение, настоятельно предлагают высказать свое мнение по поводу таких нравов прошлого, он выражает лишь свое неодобрение. Единственное отличие «В исправительной колонии» от «Процесса» состоит в том, что религия здесь не изношенная и больная, а жестокая, бесчеловечная, неприемлемая. Ни один здравомыслящий свидетель не может более отстаивать этот кодекс безжалостного правосудия, эти нравы, эти наказания. Он не может осуждать нового коменданта, который ввел на острове гуманную практику; хотели смягчить страдания, облегчить пытки заключенным. Но эти новые нравы привели только к алчности, к скотским аппетитам. Известно, что происходит с машиной для пыток: когда ее запускают, она разлетается вдребезги; это свидетельство прошлого, одновременно скандальное и чудесное, исчезает навсегда. Путешественник спешит покинуть каторжный остров, такой ужас внушало ему зрелище, на котором ему пришлось присутствовать, — смерть офицера, последнего приверженца былой строгости. Но, когда он хочет сесть в лодку, осужденный и солдат цепляются за ее борта. Для них этот мир без веры и закона стал необитаемым.
Путешественник из рассказа «В исправительной колонии», находящийся между старым и новым комендантами, напоминает Йозефа К. между Гульдом и Титорелли, исполненного чувства отчуждения к первому и полного отвращения и презрения ко второму. Новое измерение, которое следует назвать религиозным, проникло в творчество Кафки. Если хорошо присмотреться, оно заявляло о себе уже в ранних произведениях: так, в одном из домов, где останавливается Карл Росман из «Пропавшего без вести», была замурована старая часовня, и порыв холодного ветра обдавал каждого, кто проходил мимо нее: холодная американская эффективность смогла взять верх, лишь обложив стеной духовные потребности прошлого. Но то, что было только случайной темой во время написания «Процесса», «В исправительной колонии» стало главным мотивом. К медитации именно такого рода приступает Кафка после того, как ему удается освободиться наконец от своей фальшивой любви.
Если бы в «Процессе» были только две антагонистические темы Титорелли и Гульда, роман превратился бы в мрачный ряд гротесков. Надо было, чтобы появился давно подготавливаемый, мы это видели, привратник. И он появляется, как известно, в притче, которую священник рассказывает и комментирует Йозефу К. в городском кафедральном соборе. Эта глава смущала и портила настроение некоторым читателям, которые плохо приспосабливались к такому внезапному вторжению религиозной темы, они предлагали изобразить раньше, и не в форме заключения эти события в романе, значение которых стремились приуменьшить. Но Макс Брод при издании «Процесса» не предал намерения Кафки: глава с кафедральным собором является ключевым сводом всего сооружения, с первой страницы все течет к ней. И не потому, что парабола о Двери — единственный отрывок из «Процесса», который Кафка разрешил опубликовать при жизни, — содержит уверенность или надежду; наоборот, притча еще более сгущает тени; вместо того чтобы обнадежить, как это пытался делать своими пустыми обещаниями Гульд, она вскрывает обескураживающую истину: сельский житель так до конца и остается чужд Закону, он тратит свою жизнь на просьбы и ожидания. Доступ к истине, которая сияет по ту сторону двери, для него остается закрытым; его парализует страх; он не осмеливается преодолеть немую угрозу ее стражей; он умирает, не зная Закона, который его касается и который дал бы ему смысл жизни. Кафка в дальнейшем на этом не остановится: он изобразит пути, способные, может быть, дать доступ к святая святых. Но в рамках «Процесса» медитация обрывается; она заканчивается констатацией бессилия, позором существования, лишенного своего смысла.
Эти религиозные размышления, по правде говоря, не вызывают удивления. Еще в феврале 1913 года они появлялись в письме к Фелице. «Какой природы твоя набожность? — спрашивал он. — Ты ходишь в храм, но последнее время, очевидно, ты туда не ходила. И что тебя поддерживает, идея иудаизма или идея Бога? Ощущаешь ли ты — самое главное — непрерывные связи между тобой и очень возвышенной или очень глубокой инстанцией, внушающей доверие, поскольку она далеко и, возможно, бесконечна? Всякому, кто испытывает это постоянно, нет необходимости метаться во все стороны, словно потерянная собака, и бросать вокруг себя просящие, но немые взгляды, у него нет желания спускаться в могилу, словно она теплый спальный мешок, а жизнь — холодная зимняя ночь. И, когда он поднимается по лестнице, ведущей в его контору, ему не надо видеть себя бросающимся в лестничный пролет, словно пятно света в сумерки, вращающимся вокруг собственной оси в увлекающем его вниз движении и качающим головой от нетерпения». Тот, кто пишет такие строки, явно находится на стороне нечестивцев и брошенных собак. И тем не менее эта ностальгия по вере, в данный момент не имеющей содержания, не так уж далека от веры в Бога, подобие которой она может принимать.
В августе 1914 года началась фаза интенсивной творческой активности, которая прослеживается в этой главе. В октябре Кафка берет две недели отпуска, чтобы довести до конца начатые рассказы. Ему это не удалось, только «В исправительной колонии» может быть закончен (хотя Кафка и недоволен последними страницами, которые несколько лет спустя, в 1917 году, он попытается, впрочем, безуспешно, изменить). Когда листаешь дневник 1914 года, видишь, что день за днем его охватывают усталость и сомнения. 13 декабря он сочиняет «экзегезу притчи», то есть диалог между священником и Йозефом К. о параболе с привратником и замечает: «Вместо того чтобы работать — я написал только одну страницу (толкования легенды), перечитывал готовые главы и нашел их отчасти удачными. Меня постоянно преследует мысль, что чувство удовлетворения и счастья, которое дает мне, например, легенда, должно быть оплачено, причем — чтобы никогда не знать передышки — оно должно быть оплачено тут же». 14 декабря: «Жалкая попытка ползти вперед — а ведь это возможно, самое важное место в работе, где так необходима была бы одна хорошая ночь». 31 декабря: «С августа работал, в общем — немало и неплохо, но и в первом и во втором отношении не в полную силу своих возможностей, как следовало бы, особенно если учесть, что по всем признакам (бессонница, головная боль, сердечная слабость) возможности мои скоро иссякнут». 20 января 1915 года: «Конец писанию. Когда я снова примусь за него?» 29-го: «Снова пытался писать, почти безрезультатно». 7 февраля: «Полнейший застой. Бесконечные мучения», 16-го: «Не нахожу себе места. Словно все, чем я владел, покинуло меня, а вернись оно — я едва ли был бы рад». Таким образом, начинается новый и долгий период творческого бесплодия.
Тем не менее в контрапункте его основных произведений довольно длинные наброски в то же самое время развивают другие темы. В одном из них речь идет о железнодорожной линии, затерянной в русской степи: она никуда не ведет, ни для чего не служит, изредка по ней движется одинокий путник. Служащий маленькой станции, снедаемый одиночеством, каждый день все глубже погружается в скуку, болезнь, садизм. И чтобы не было никаких недоразумений, связанных со смыслом этого рассказа, Кафка дает железнодорожной линии имя, скалькированное с его собственного, — железная дорога Кальда, такая же бесполезная и такая же лишенная смысла, как он сам. В другом отрывке дается история деревенского учителя — это заголовок рассказа, — который нашел у себя в саду громаднейшего крота, самого крупного, как ему кажется, из всех известных. Это открытие составляет его гордость и вскоре смысл существования. Он пытается заинтересовать ученый мир, он пишет трактат за трактатом, но никто не обращает внимание на его сочинения. Даже друзья, которые более всего желают ему добра, отговаривают его упорствовать; в итоге он остается единственным, кто верит в то, что он делает. Кафка затрагивает здесь не только свою личность и свою жизнь, он иронизирует также и над смыслом своего творчества — кто может его понять? кто вообще будет когда-либо читать его произведения? стоит ли говорить то, что он говорит? Он делает на шаг больше, чем учитель школы: случается, что он абсолютно не верит в литературу, которая ему представлялась предназначенной компенсировать все его неудачи и слабости.
XI
Военные годы
«Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к воюющим…»
В то время, когда Кафка писал первые страницы «Процесса», разразилась война. Это событие занимает мало места в его «Дневнике»: у Кафки не было причин испытывать энтузиазм по поводу этой австрийской войны. В своей книге воспоминаний Макс Брод рассказывает, что Франц-Фердинанд был мало любим в среде оппозиции, особенно в Богемии, он был близок к самым консервативным и самым воинственным кругам, и лишь немногие в Праге восприняли его смерть как национальное горе. Тем не менее, когда война стала неотвратимой, Макс Брод и некоторые из его друзей-пацифистов, среди которых был Верфель, попытались сделать невозможное, чтобы предотвратить конфликт: Брод во главе делегации хотел даже войти в контакт с Масариком с целью объединить усилия чехов и немцев для предотвращения несчастья. Но он стучал не в ту дверь: в глазах Масарика война не представляла опасности, она должна была ослабить Австрию и, следовательно, служить честному ирредентизму. Брод был поспешно выпровожен.
Кафка же остается абсолютно безразличен к этим действиям. Он возвращается из Германии, где был свидетелем спокойствия и решимости, царивших в народе, он ни на минуту не сомневается в победе. Он не высказывает никакой симпатии позиции пацифистов, но как только видит первые манифестации патриотов, приходит в негодование. Евреи-негоцианты, которые до настоящего времени ловко балансировали между немцами и чехами, участвуют в патриотических шествиях, первыми начинают скандировать: «Да здравствует наш любимый монарх!» — и кричать: «Ура!». «Эти шествия, — пишет Кафка в «Дневнике», — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений войны». Наблюдаемая вокруг патриотическая лихорадка его только угнетает. Вместо того чтобы участвовать во всеобщем энтузиазме, он еще больше замыкается в себе: «Я разбит, а не окреп. Пустой сосуд, еще целый, но уже погребенный под осколками, или уже осколок, но все еще под гнетом целого. Полон лжи, ненависти и зависти. Полон бездарности, глупости, тупости. Полон лени, слабости и беззащитности. Мне тридцать один год… Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к воюющим, которым я страстно желаю всех бед». Год спустя, в 1915, он остается таким же равнодушным и не реагирующим на войну: когда в поезде какая-то женщина, сидящая напротив, высказывает о событиях соображения, близкие его собственным, это совпадение его только раздражает, он остается безучастным, он не находит в себе ни малейшей мысли на эту тему, которая была бы достойна быть высказанной. Немного позже он принимает участие в военном займе, но движет им не патриотизм, он пишет в «Дневнике», что колеблется несколько часов, подсчитывая прибыль, которую операция должна ему принести, прежде чем решить, на какую сумму подписаться — две или три тысячи крон. Однажды, когда он жалуется в письме Фелице на маленькие ежедневные неприятности, удручающие его жизнь, бессонницу, нескончаемый шум в соседней комнате, он пишет: «Не смейся, Ф., не считай мои страдания пустяком; конечно, сейчас страдает так много людей, и причина их страданий куда более серьезна, чем шепот за стеной, но даже в лучшем случае человек борется за свое существование или, вернее, за соотношение своего существования с общим порядком вещей, как и я, как и всякий другой».
Но Кафка не задерживается на этих мыслях, которые рискуют показаться скандальными. С первых дней он высказал свою ненависть к воюющим, но в той же фразе он также говорил и о том, как им завидует. Все его друзья, за исключением Феликса Вельча и слепого Оскара Баума, были мобилизованы, даже Макс Брод, наполовину калека, был отправлен на границу с Галицией. Кафка надеялся — и это он часто повторял в своем «Дневнике» и в своих письмах — быть призванным в свою очередь. Он хотел — и это достоверно известно — разделить общую судьбу, быть наконец-то интегрированным в общество, но и без сомнения также просто стремился вырваться из мрачного кабинета служащего Агентства, освободиться от профессии, которую ненавидел с каждым днем все больше. В июне 1915 года, вызванный в призывную комиссию, он боится, что из-за своей сердечной слабости будет освобожден от воинской повинности, но этого не случилось. Его признали годным для вспомогательной службы, но тотчас же он был затребован Агентством, в котором работал, поскольку его присутствие в бюро сочли необходимым для служебного процесса. Год спустя его вновь вызывают, и 21 июня 1916 года он предстает перед другой комиссией. Тогда Кафка идет к своему директору и просит его, чтобы, в случае продолжения войны, его не освобождали от армии и, наоборот, если война закончится, чтобы ему предоставили отпуск без содержания на шесть месяцев или на год. Делая это, он обвиняет себя в «Дневнике» в малодушии и во лжи: если бы у него хватило смелости, он должен был бы просто заявить о своей отставке, но вместо этого довольствуется шаткими компромиссами, которые, как он предполагает, не будут приняты. Директор, по правде говоря, его не понимает, думает, что он хочет только получить несколько недель отпуска, хотя закон, впрочем, запрещает отпуск «призванным» на службу: Кафка допускает оплошность. И несколько дней спустя, в то время как Макса Брода увольняют в запас, призывная комиссия подтверждает пребывание Кафки в Агентстве. В последний раз его вызывают в конце 1917 года, но к этому времени у него проявилась болезнь, и жизнь отныне для него принимает новое течение.
Так он пережил войну, далеким и иногда страдающим зрителем. Она еще больше углубила его одиночество, так и не оторвав его от фантазмов. Но тем не менее она пересекла его путь. Именно его Агентству, учреждению полугосударственному, было поручено обеспечить судьбу калек и инвалидов, вернувшихся с войны, среди которых были жертвы нервных срывов и психических заболеваний. Было решено основать неврологический институт, предназначенный для воинов из числа немецкого населения Богемии. Была организована подписка. Кафке поручили написать циркулярное письмо, призывавшее население вносить вклады в предприятие. В настоящее время оно издано в конце его переписки с Фелицей Бауэр.
Война некоторым образом все же вторгается в частную жизнь Кафки. Два его зятя. Карл Германн и Йозеф Поллак, были мобилизованы. Первого из них, мужа старшей сестры Элли, отправили куда-то в Венгрию, его жена поехала к нему весной 1915 года, и Франц ее сопровождал. Второй, получив легкое ранение в первые дни сражений, был вскоре отправлен на родину.
Но отсутствие Карла Германна вновь означало, что Кафка должен был присутствовать на фабрике по производству асбеста. Фабрика фактически не работала, нужен был кто-то, кто заботился бы об оборудовании и вел счета. Кафка вынужден был на некоторое время впрячься в это дело, пока брат Карла Германна не смог его заменить. Мы знаем, что для Кафки значила эта ноша.
Элли Германн после мобилизации мужа решила не оставаться одна в квартире; она переехала к родителям вместе с двумя детьми. В результате у Кафки не оказалось места, где бы он мог спокойно уединиться. В тридцать один год ему впервые предстоит покинуть столь ненавистный семейный очаг. Однако уход не принес ему освобождения. В течение почти трех лет он будет переезжать из одной квартиры в другую, везде оставаясь недовольным, везде страдая от шума или ощущая себя заключенным в четырех стенах. Сначала он поселяется на месяц у Валли, пока та находится у родителей мужа, потом занимает квартиру Элли, где остается на протяжении пяти месяцев, продолжая при этом питаться в семье. В письме Фелице он следующим образом описывает распорядок своего дня: «До 2-х с половиной часов в конторе, затем завтрак дома, час или два на чтение газет, на письма и служебную корреспонденцию, потом я иду к себе в квартиру, где сплю или просто лежу без сна, затем вновь отправляюсь к родителям обедать (это хорошая прогулка) [Элли действительно жила по другую сторону Молдау, на Мала Страна]; возвращаюсь на трамвае в 10 часов, и я бодрствую, наконец, так долго, как мне позволяют силы, или страх перед следующим утром, или страх перед головными болями в конторе». За эту жизнь наизнанку — работа ночью, сон (или бессонница) днем — ему вскоре придется дорого заплатить.
В феврале 1915 года Кафка вновь переезжает. Он снимает комнату на свое имя в доме на Билекгассе, где жила Валли. Но там он остается лишь месяц: во всех письмах Фелице Кафка жалуется на шум, который его преследует. В марте 1915-го он вновь меняет жилище: поселяется в доме под названием «Золотая щука» на Ланге-Гассе (Ланге-Гассе и Билекгассе находятся недалеко друг от друга в маленьком квартале в центре Старого города, где Кафка жил почти все время, пока был в Праге). Комната на Ланге-Гассе, в которой он остается на год, еще более шумная, чем та, из которой он выехал, но в ней он чувствует себя немного лучше. В конце декабря 1916-го он пишет Фелице: «Тебе известны мучения, испытываемые мною вот уже два года, ничтожные по сравнению с теми, которые испытывал мир, но мне их достаточно. Приятная маленькая угловая комнатка с двумя окнами, балконом, с видом на крыши и многие церкви. Сносные люди, с которыми, после некоторых ухищрений, я не обязан встречаться… И тем не менее для меня комната непригодная… Этот дом сделан из бетона, я слышу или, точнее, слышал вплоть до десяти часов вздохи соседей, разговоры людей внизу, время от времени стук на кухне. Кроме того, потолок тонкий, а сверху находится чердак, и невозможно сосчитать, сколько раз в послеполуденное время, когда мне хотелось немного поработать, служанка, занятая развешиванием белья, в буквальном смысле и в полном неведении топает своими туфлями по моему черепу…» И жалобы эти длятся строка за строкой.
В это время Оттла предлагает ему использовать маленькое помещение, которое она сама несколько недель назад снимала на окраине Градчины, на живописной улочке Золотых дел мастеров, которую хорошо знает каждый, кто посетил Прагу. Место одновременно красивое и спокойное. Кафка переселяется туда после полудня, прихватив с собой свой обед. Вечером он вновь идет по Старому городу: прогулка по снегу ему представляется дополнительным развлечением.
Но, чтобы еще больше усложнить историю с переездами, в тот момент, когда удовлетворительное решение найдено, Кафка обнаруживает квартиру в одном из пышных дворцов в стиле барокко на Кляйнзайте, во дворце Шёнборн. Он готовится во второй раз обручиться с Фелицей Бауэр, и маленькое жилище на Алхимистенгассе не может подойти молодой супружеской паре, впрочем, туда время от времени приходит и Оттла. Для начала совместной жизни дворец Шёнборн самое лучшее место, о котором можно было мечтать, но в квартире, к сожалению, нет ни ванной комнаты, ни кухни. Фелица поначалу, возможно, согласится потерпеть. Кафка переселяется сюда в начале марта 1917 года. Именно здесь пять месяцев спустя случится легочное кровотечение, которое выявит туберкулез обоих легких.
Война также имела и другое воздействие на повседневную жизнь Кафки и его мысли. Продвижение русских войск в Галиции вызвало волну беженцев в Прагу, большей частью евреев. Им раздавали белье и одежду. Семья Брод включается в это благотворительное дело, Кафка при этом присутствует. Открывается школа для детей беженцев, и Макс Брод преподает там греческую литературу (Гомера, Платона и других). Кафка посещает его занятия. Он даже подружился с одной из студенток, Фанни Рейс, уроженкой Ламберга, инициалы которой появляются во многих местах его «Дневника». (В это время он снова становится восприимчивым к женской привлекательности и однажды в июне 1916-го записывает: «Что за наваждение с девушками — несмотря на головные боли, бессонницу, седину, отчаяние. Я подсчитал: с прошлого лета их было не менее шести. Я не могу устоять, не могу удержаться, чтобы не восхититься достойной восхищения и не любить, пока восхищение не будет исчерпано. Я виноват перед всеми шестью почти только внутренне, но одна из них передавала мне через кого-то упреки». Открывается также детский сад для самых маленьких беженцев, и Кафка там побывал однажды. Когда немного позже в Берлине будет организован общественный приют для евреев, беженцев с востока, Кафка будет настаивать не без успеха, чтобы Фелица Бауэр в нем работала.
С тех пор, как еврейские актеры давали представления в старом гетто Праги, прошло четыре или пять лет, и впечатление, полученное Кафкой от их спектаклей, понемногу стерлось. Прибытие беженцев с востока внезапно оживляет воспоминания о былом. Кафка вступает в контакт с пражскими сионистами: его товарищ по школе Гуго Бергман был одним из руководителей; Феликс Вельч и его родственники — кузен Роберт Вельч и кузина Лиза Вельч — были членами этой организации. Феликс Вельч позже станет главным редактором журнала «Зельбствер» (буквально: «Самооборона» — органа сионистов). Долго сомневавшийся Макс Брод даст вовлечь себя, в свою очередь. В 1912 и 1913 годах Кафка посещает конференции сионистов, присутствует на собраниях. Вспомним также: когда в 1913-м он находится в Вене, то просто так и даже скучая присутствует на Всемирном конгрессе движения. В декабре 1913-го после выступления Гуго Бергмана, которому он, впрочем, дал положительную оценку, он замечает: «Во всяком случае у меня с этим нет ничего общего». Когда в Праге создают ассоциацию еврейских служащих, Кафка в нее вступает, но, жалея о своем шаге, пишет в начале 1914-го: «Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего, и я должен быть совсем тихо доволен тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол».
Немного позже, оглядываясь на свою жизнь, он определил один из периодов своей эволюции как «антисионизм». Выражение, конечно же, слишком сильное. Было бы лучше, как он делает в письме Фелице в феврале 1913-го, говорить о безразличии. О нем же он будет говорить Фелице и в конце 1916-го (в момент, когда уговаривает ее работать в общественном приюте): «Если бы тебе пришлось однажды почувствовать себя сионисткой (это тебя уже как-то коснулось, но это было лишь прикосновение, а не истинное убеждение) и узнать, что я не являюсь сионистом — простое исследование вскрыло бы это без сомнения, — то это обстоятельство меня не испугало бы, и у тебя самой не было бы причин для страха. Сионизм создан не для того, чтобы разлучать здравомыслящих людей».
События заставят Кафку позже пересмотреть свое мнение. Но некоторые недомолвки по-прежнему останутся: без сионизма, скажет он в конце своей жизни, было бы невозможно в наши дни возродить Каббалу и мистическую мудрость. Но сионизм, который мог бы служить углублению религиозной мысли, уклонился в политику. Сионизм — это движение интеллектуалов, порожденное и поддерживаемое буржуазной средой. По всей вероятности, именно благодаря евреям, пришедшим с востока, религиозная мысль Кафки — или, как, возможно, сказал бы он в этот период, его размышление о природе религии — получит пищу. Как мы это сейчас хорошо видим, в Иерусалиме хасидизм и сионизм являются антагонистическими тенденциями: с одной стороны, модернизм, историческая ориентация на конкретную обстановку, с другой — сохранение прошлого, живущего в умах, всей сокровищницы легенд и умения ревностно хранить секреты сообщества, сказочные раввины, почитаемые как князья, — и все это среди населения большей частью нищего, помыкаемого соседями, презираемого западными евреями.
В этот момент своей жизни Кафка знакомится с Георгом Лангером, другом и кузеном Макса Брода. Георг Лангер, родившийся в Праге, «обратился» в хасидизм. Он прожил многие годы в Венгрии «при дворе» сказочного раввина. Вернувшись в Прагу, он продолжал еще носить кафтан. Как делал когда-то Исхак Лёви, Лангер рассказывает Кафке легенды хасидов: замысел новеллы о Големе, который появляется в 1916 году, но который резко обрывается на первой же странице, является, по всей видимости, плодом бесед с Лангером.
И Кафка при помощи этого посредника увидит вблизи сказочных раввинов, о которых все ему говорят и которых он слабо себе представляет. Первый раз это случается в 1915 году в Жижкове, пригороде Праги: раввин, беженец из Галиции, принимает там своих приверженцев. Кафка идет к нему на встречу в сопровождении Лангера и Макса Брода. Портрет, который он набрасывает в своем «Дневнике», выражает больше удивление, нежели уважение. Его взгляд останавливается скорее на комических деталях, чем на достоинстве персонажа: нос, поросший волосами, из-под шелкового кафтана выглядывают кальсоны, раввин сморкается в руку. Макс Брод сообщает, что на обратном пути Кафка ему сказал: «Принимая все во внимание, можно подумать, что мы находимся в Африке среди племени дикарей. Вульгарное суеверие».
Год спустя раввин из Бельц, тот самый, рядом с которым Лангер жил продолжительное время, находится проездом в Мариенбаде. По вечерам он прогуливается по городу; два дня подряд Кафка смешивается с толпой приверженцев, почтительно его сопровождавших. На этот раз тональность меняется. Кафка, по всей вероятности, преодолел в себе впечатление отчуждения; в подробном рассказе в письме Максу Броду исчезли всякие следы иронии. Раввин представляется ему султаном, похожим на тех, которых рисовал Густав Доре и которых Кафка видел в книгах, когда был маленьким. Но спектакль не имеет ничего общего с маскарадом. Он — настоящий султан и одновременно отец, наставник. Все в нем вызывает доверие. Ученики ищут глубокий смысл в каждом из его высказываний, но они ошибаются. Чудо состоит в том, что раввин говорит только простые вещи, он явно выполняет функцию, предопределенную ему Богом. Не имеет значения, восхищается ли он длительное время производством труб для банных учреждений или интересуется устройством водосточного желоба. Это царь и мэтр, его законность не оспаривается. Как измерить силу этого единения? Мы не располагаем для этого достаточными материалами. Можно было бы, пожалуй, сказать, что Кафка созерцает с симпатией, лишенной нюансов, нравы, которые для него остаются чужими. Вид сказочного раввина, пришедшего с востока, для Кафки лишь спектакль. Он находится снаружи и восхищается этой живой верой, которая пока еще не является его верой.
Творческий период, который начался написанием «Процесса», сейчас почти полностью завершился. В начале 1915 года он еще сочиняет историю Блюмфельда, стареющего холостяка, маниакального и злого, в которой любой может легко узнать автобиографические элементы. Тема холостяка, которая исчезла почти три года назад, вновь появляется в момент, когда планы женитьбы на Фелице Бауэр кажутся заброшенными навсегда. Два маленьких целлулоидных мячика, похожих на мячики для пинг-понга, которые неустанно прыгают рядом с ним, символизируют невроз Блюмфельда, несчастного и злобного. Кафка намеренно подчеркивает этот штрих. «Я преждевременно написал, — отмечает он в «Дневнике», — моего «Бувара и Пекюше».
После «Блюмфельда» устанавливается тишина. Бесплодность, как всегда, сопровождается самыми худшими чувствами и отчаянием. Она будет продолжаться около пятнадцати месяцев. Пятнадцать месяцев, с февраля 1915-го по апрель 1916-го, в течение которых он не напишет ни малейшего отрывка. Даже «Дневник» ведется нерегулярно: речь идет лишь о невыносимых головных болях, испытанных оскорблениях, слабых желаниях самоубийства. Единственным событием этой долгой зимы была история с премией Фонтане: эта литературная премия была присуждена Карлу Штернхейму за три его рассказа. Но, поскольку Штернхейм был довольно богат, ему посоветовали передать другому писателю сумму в 800 марок, которой сопровождалась эта премия. Завязалась тайная интрига, в которой Макс Брод и Франц Блей сыграли свою роль. В итоге денежное приложение досталось Кафке, к которому Штернхейм испытывал уважение. Эти деньги были очень кстати: Кафка как раз подумывал бросить работу в Агентстве, чтобы попытаться зарабатывать на жизнь писательским трудом. Это была также хорошая новость и для издателя Курта Вольфа, который хотел воспользоваться случаем, чтобы вытащить Кафку из тени: он решил переиздать «Кочегара» (первую главу «Пропавшего без вести»), а также сборник «Созерцание» и отдельно издать «Превращение». Тем не менее это было слабым утешением для Кафки, который мало заботился о своей известности и был удручен лишь настоящим творческим бесплодием.
Чтобы рассеять тоску, он пытается читать Стринберга, сочинения о наполеоновских кампаниях. И главное — он читает Библию, которую впервые открыл в сентябре 1915 года. Он отмечает в «Дневнике»: «О неправедных судьях. Нашел таким образом свое собственное мнение или по крайней мере мнение, которого я до сих пор придерживался». Персонажи Библии — судьи, цари или пророки — не являются образцами добродетели, ведомыми уверенной рукой Господа. Это обычные люди, с их страстями и ошибками, пребывающие во власти всех капризов своей свободы, несправедливые или виноватые по случаю. Кафка, правда, добавляет, говоря о соответствии, которое он обнаружил между своим собственным ощущением и библейским учением: «Впрочем, это не имеет значения, в таких вещах я никогда не поддавался заметному внушению, страницы Библии не реяли перед моими глазами». Он хочет в этой религиозной материи сам себе проложить путь: Библия еще не является для него главным проводником.
В июне и июле 1917 года, одновременно с чтением этнологических сочинений о зарождении религиозного чувства, он возобновляет чтение Бытия и отмечает мысли, подобные тем, которые у него появились восемь или девять месяцев тому назад: Авраам, а также Исаак отреклись от своих жен; Иаков, избранник Божий, был человеком, полным греха; судьба Исава оказалась предопределенной с незапамятных времен, каким бы ни было изначально его поведение; симпатия Господа распространялась, скорее, на Каина, убийцу, нежели на кроткого Авеля. И главное, гнев Бога нацелен на все человечество сразу; запреты, которые он называет (как тот, который относится к древу познания добра и зла), не мотивированы, они не являются следствием греха, совершенного первыми людьми; наказание, налагаемое им, относится без разбора ко всем сразу — мужчине, женщине, змию. Между Богом и родом людским связь прервана, и так было с самого начала. Отсюда замечание, сопровождающее его размышления: «Только Ветхий Завет ясно представляет, что ничего не следует говорить о загробном мире». О загробной жизни говорят религии посредничества и прощения, проповедующие примирение и пути к спасению. Кафка их отрицает, он ощущает согласие только с грубой и неуступчивой еврейской мыслью, которую выражает Ветхий Завет. Его размышления в «Дневнике» неразрывно связаны с опытом, который в то же самое время предоставляет ему жизнь.
Его записи порой принимают очертания молитвы. Иногда мольба адресуется Богу: «Сжалься надо мной, я грешен до самой глубины своего существа. У меня ведь были задатки, не совсем ничтожные, ведь были способности, пусть и небольшие, — неразумное существо, я расточил их втуне, и теперь, когда, казалось бы, все могло обернуться мне во благо, теперь я близок к гибели. Не толкай меня к потерянным». Иной раз молитва кажется адресованной вечности: «Прими меня в свои объятья, в них — глубина, прими меня в глубину, не хочешь сейчас — пусть позже. Возьми меня, возьми меня — сплетение глупости и боли». Или снова в наброске поэмы, датируемой 19 июля 1916 года:
25 апреля 1916 года Кафка пишет Фелице: «Я остался один в пасхальные дни и принялся царапать для себя самого, чтобы убедиться, что после двух лет я могу еще написать хоть фразу». Это робкое начало нового творческого периода. Отрывки множатся в «Дневнике» и в других местах, но они редко идут далее первых строчек, и Кафка их часто сопровождает гневным комментарием: «Как все это горько! Как из этих разбросанных осколков собрать волнующую историю?» Или: «Какой я? Жалкий я. Две дощечки привинчены к моим вискам». Понадобится еще шесть или семь месяцев топтания на месте, прежде чем Кафка найдет себя. А пока что можно обнаружить воспоминание о «Процессе» — палач приходит убить осужденного в камере — или даже о «Пропавшем без вести», возможно, отрывок, предвещающий «Замок» или «Сельского врача». В началах рассказов, написанных в Мариенбаде, угадывается филигранная нить конфликтов, разворачивающихся в сознании Кафки, которые будут подробно описаны в следующей главе. Другие небольшие тексты затрагивают в образной форме литературное творчество. Но все эти тексты — а их в этот период было чуть меньше ста — едва возникнув, тотчас же резко обрываются. Можно, конечно, восхищаться неиссякаемым воображением, открывающим каждый день новые перспективы, но, как и сам Кафка в то время, читатель с нетерпением ожидает рождения произведения.
XII
Фелица II
«Я лживый человек: это единственный способ, чтобы сохранить равновесие.»
Напомним, что в июле 1914 года было разорвано первое обручение. И, возможно, не забыто, что три месяца спустя Кафка получил письмо от Греты Блох с предложением возобновить отношения.
Дело продолжалось вот уже два года и будет продолжаться еще и третий. Но начиная с этого момента все изменилось: нет больше ни страсти, ни лихорадки. Кафка убежден, что планируемый брак бесперспективен. Он чувствует себя лишь обязанным по отношению к женщине, которую так сильно желал и с которой, несмотря на все препятствия, хотел соединить свою жизнь. Взаимные письма стали редкими; военная цензура к тому же их задерживает; часто используются простые почтовые открытки, которые легче проходят контроль, но которые заставляют быть более сдержанными в выражениях. Отныне мотивы и доводы выражаются спокойно; хотя и с одной и с другой стороны еще не потеряна всякая надежда, они все же опасаются сжигать мосты; слишком много было эксцессов и разочарований; они продвигаются теперь осторожно и без иллюзий.
Вторая фаза переписки делится на два периода, начало и конец которых можно точно определить: первый продолжается с 15 октября 1914 до 8 июля 1916 года, а второй — с этой даты и до 27 декабря 1917 года. Но холодному ответу Кафки Грете Блох 15 октября 1914 года можно предположить, что ей приписываются все сложности, недоразумения и ошибки. Кафка это отрицает: Фелица и он не ошиблись друг в друге, они оба ясно оценивают сложности и препятствия. Кафка переписывает свое письмо Грете Блох в «Дневник», сопровождая его такими словами: «Для чего это нужно? Письмо кажется непреклонным, но это только потому, что мне было стыдно, потому что я рассматривал свое поведение как безответственное, потому что я опасался быть согласным, а не потому, что в действительности я не хотел им быть. Я не хотел больше ничего. Самое лучшее для нас — это чтобы она не отвечала, но она ответит, и я буду ждать этого». В самом деле, десять дней спустя пришло новое письмо от Греты Блох, на которое, кажется, Кафка не ответил. И в то же самое время Фелица ему написала непосредственно. 27 октября он подтверждает получение письма телеграммой, а затем в первые дни ноября отправляет ей очень длинное письмо, составление которого, несомненно, заняло несколько ночей: «В том, что я сейчас сказал, нет ничего нового, — говорит он в заключение, — возможно, это лишь впервые сведено воедино, но нового нет ничего. Ново лишь то, что это написано особо, вне контекста нашей обычной переписки, ново и то, что ты захотела получить такое резюме, и это дает надежду на откровенный ответ и с твоей стороны». Речь в самом деле шла о подведении итогов, которое вновь повторяло сто раз пережеванные доводы: требования писательской работы (которая заслоняет теперь все другие препятствия, понемногу стертые длительной перепиской и временем), а также размышления насчет жилья, мебели и тому подобное. Но отныне Кафка и Фелица одновременно разделены и нераздельны. Он ей напоминает в письме, до какой степени в день «трибунала» она была охвачена по отношению к нему страхом, чтобы не сказать отвращением. Он отмечает в «Дневнике» физическое отвращение, которое испытал однажды, видя ее танцующей, или в «Асканишер Хоф», когда она проводила рукой по носу и волосам. «Я грезил о ней, — пишет он несколько дней спустя, — как о покойнице, которая никогда не воскреснет, а теперь, когда мне представилась возможность ее обрести вновь, она опять в центре всего».
Отношения с семьей Бауэр, говоря по правде, никогда полностью не прерывались. Кафка поддерживал с Эрной переписку (которая, к сожалению, не была найдена) и планировал совершить к ней поездку на Новый год, но вызвал этим ссору между сестрами. И когда в конце ноября 1914 года Карл Бауэр, отец Фелицы, неожиданно умирает от сердечного приступа, Кафка считает себя частично ответственным за это: он приносит несчастье семье Бауэр.
Кафке, страдающему от растущего творческого бессилия, кажется, что он достиг «последней черты», он чувствует себя «холодным и пустым», в нем сохранилась лишь, по его собственному замечанию, «старческая любовь к тотальному отдыху». Но, добавляет он, «как животное, живущее полностью отдельно от людей, я начинаю уже вытягивать шею; я хотел бы в этот промежуточный период получить Ф. снова. Я попытаюсь, если только мне не помешает отвращение к себе самому».
И действительно, в конце 1914 года Фелица и он планируют встретиться. Письма, в которых была подготовлена эта поездка, утеряны. Они решают встретиться на полпути между Прагой и Берлином и, так как мобилизованному получить паспорт трудно, выбирают конец недели на территории Богемии в Боденбахе, 23 и 24 января 1915 года. Кафка приезжает туда усталым и измученным неспособностью писать. «В субботу, — пишет он в «Дневнике, — я увижу Ф., если она меня любит, я этого не заслуживаю». С неохотой он отправляется на встречу — и не ошибается, поскольку они могут только измерить расстояние, разделяющее их. «Мне кажется, — пишет он в тот же вечер, — невозможно, чтобы мы когда-нибудь соединились, но я не отваживаюсь сказать об этом ни ей, ни — в решающий момент — себе. И я снова обнадежил ее безрассудно — ведь с каждым днем старею и коснею». И далее: «Ф. сказала: «Как мы благоразумны!» Я промолчал, словно не слышал этого восклицания. Два часа мы были одни в комнате. Меня окружали лишь скука и безнадежность. Не было еще ни одной минуты, когда нам было бы хорошо, когда я мог бы свободно дышать». Он читает ей несколько написанных страниц, в частности притчу о привратнике, но Фелица слушает рассеянно. Вновь Кафка обращается мысленно к двум женщинам, которых он когда-то любил, — к той из Цукмантеля и к маленькой швейцарке из Ривы. «Воспринимает ли она, — спрашивает он себя, — это с таким же страданием, как я? Наверняка нет, даже если и предположить одинаковую чувствительность: ведь у нее нет чувства вины». На следующий день он пишет ей, подводя итоги этого неудавшегося свидания: «Внешне мы не ссоримся, мы спокойно идем бок о бок, но все содрогается между нами, словно кто-то стоящий рядом рубит без остановки воздух ударами сабли».
Неудача в Боденбахе тем не менее не обескураживает ни Кафку, ни Фелицу. Он предлагает вместе попутешествовать в летние месяцы, но она не проявляет энтузиазма. И вдруг, несмотря на то, что их встречи на Троицу были обычно катастрофичны, они договариваются встретиться по случаю этого отпуска. По соседству с Боденбахом есть место, называемое «Богемская Швейцария», и если бы Фелица согласилась туда приехать одна, это, естественно, было бы «самое лучшее решение. Но если это невозможно, возьми с собой кого хочешь». Она приезжает не одна, она берет с собой Грету Блох и одну из своих подруг, и вместе они проводят дни 23 и 24 мая. И, похоже, вполне удовлетворительно, поскольку он ей пишет после возвращения: «Спать под одной крышей, есть за одним столом, дважды прожить вместе одни и те же часы дня — это почти церемония, которая обязывает». Более того, если он, вопреки своему желанию, не должен быть мобилизованным, он хотел бы совершить с ней экскурсию на Балтику.
Но в этой истории, известной во всех деталях, словно для того чтобы потомки знали подробности их несчастной любви, следующий эпизод окружен тайной. Мы не знаем, как он готовился и что там произошло. Точно известно лишь, что Фелица и Кафка виделись снова в июне (это была их третья встреча в 1915 году) и что дела закончились плохо. Во многих письмах Кафка будет вспоминать только намеками поездки в Карлсбад и Ауссиг, которые, похоже, оказались катастрофичными. Что же там случилось? Вероятно, одно из этих ужасных свиданий, уже столько раз пережитых ими, когда они оба испытывали невозможность соединиться. Кафка понял теперь, что, пока будет продолжаться война, никакие планы не могут иметь смысла. Кто знает, может быть, в мирное время, во всяком случае за пределами Праги, может быть, в Берлине? «Только после того как я тем или иным способом выберусь из ямы, я буду иметь на тебя право. И ты только с этого момента сможешь смотреть на меня соответствующим образом, так как сейчас я для тебя лишь — и это вполне нормально, и это было в «Асканишер Хоф», в Карлсбаде и в Тиргартене — злой мальчишка, безумец и все что тебе угодно, — злой мальчишка, которому ты оказываешь милость, которой он не заслуживает, но нужно будет, чтобы он ее однажды заслужил». В 1916 году письма стали более редкими. Они пытаются организовать новую встречу, сложности и препятствия увеличиваются. Наконец была определена дата — июль, в Мариенбаде. Фелица, приехавшая первой, ожидает его на вокзале, но в гостинице ему предоставили отвратительную комнату, в которой он проводит ночь отчаяния. Третьего числа он записывает: «Первая ночь в Мариенбаде с Ф. Дверь напротив двери, ключи с обеих сторон». Рассказы, которые он начинает в эти дни, передают его страх: «Я проснулся заключенным в четырехугольной клетке из прутьев, настолько малой, что можно сделать только шаг в длину и шаг в ширину. Существуют такого рода овчарни, где закрывают на ночь овец, но они не такие узкие». 5 июля он добавляет: «Тяготы совместной жизни. Она держится отчужденностью, состраданием, похотью, тщеславием, и только на самом дне, может, есть узенький ручеек, который заслуживает названия любви, но который бесполезно искать, — он лишь кратко сверкнул, сверкнул на мгновение. Бедная Ф.» На следующий день, 6 июля, он продолжает: «Ночь несчастья. Невозможность жить с Ф. Неспособен переносить совместную жизнь с кем бы то ни было. Это не то, о чем я жалею; я жалею о невозможности не быть одному. Но еще один шаг: абсурдность или сожаление, примириться с этим и наконец понять». Далее следуют намеки на желание покончить с собой, но сперва он замечает: «Не оставайся в прострации на земле. Держись за книгу». Какую книгу? Кафка в этот момент не пишет никакой книги. Речь может идти только о книге, которую он читает эти последние недели, то есть о Библии. Шестого же июля он отмечает в «Дневнике»: «Только Ветхий Завет видит ясно». В тот же день (или на следующий) Кафка делает еще несколько исполненных страха набросков: человек привязан к столбу, негры, вышедшие из кустарников, танцуют вокруг него; краснокожие, с лицами, испещренными шрамами, шутят над персонажем по имени Карл, как у героя американского романа. В этот же день Кафка умоляет пропасть поглотить его навсегда (мы цитировали текст в предыдущей главе). 8 июля он отправляется в Тепль, возле Мариенбада, где ему надо уладить какое-то дело. И в этот день все меняется: согласие с Фелицей, на которое они уже не смели надеяться, было достигнуто. Франц и она отправляются тотчас же во Франценсбад, соседний термальный курорт, где лечится мать Кафки, чтобы немедленно сообщить ей хорошую новость. Они посылают письмо госпоже Бауэр, давая знать, что страница наконец перевернута. И пишут также Максу Броду, столь важным было событие.
Что же произошло? Впервые Кафка ощутил, что Фелица его приняла таким, каким он был. Больше не надо было жениться потому, что все женятся, покупать шикарную мебель «с авторским знаком», окружать себя банальным комфортом. После окончания войны Фелица и он будут жить в одном из пригородов Берлина, они снимут маленькую трехкомнатную квартиру, у каждого будет своя экономически независимая жизнь, а Фелица — редкое решение по тем временам — будет продолжать работать.«…если ты хочешь представить себе все наглядно, — пишет Кафка Максу Броду, — пожалуйста, можешь заглянуть в две наши комнаты /…/, в одной Ф., она встает рано, убегает и вечером, усталая, валится в кровать; в другой стоит канапе, на котором лежу я, питаясь молоком и медом». Вот Кафка, наконец признанный, оправданный, свободный быть самим собой.
Начиная с этого дня тональность переписки меняется. Вплоть до ноября 1916 года, по меньшей мере, почта становится почти ежедневной. «Контракт» — такое выражение он использует в письме к Максу Броду — был заключен между ним и Фелицей; отныне письма будут выдержаны в терминах этого контракта, в них не будет страсти, подробностей, они станут супружески воздержанными.
И все же с середины июля, с письма Максу Броду, волнение снова пронизывает каждую фразу: «…я увидел, — пишет он, — доверчивый взгляд женщины и не мог от него отгородиться. Что-то, что я хотел бы сохранить навсегда, оказалось разорвано… и разрыв этот, я знаю, породит несчастья, которых хватит больше, чем на одну человеческую жизнь, я их не накликивал, но заслужил». И далее в том же письме он говорит о том, что «в новом решении, которое вырисовывается, есть тишина, определенность, а значит, можно жить (задним числом: сказано, пожалуй, сильно, нажима на такие слова слабое перо долго не выдерживает)».
Фелица покидает Мариенбад, Кафка там проводит один еще несколько дней отпуска. Это время, когда в «Дневнике» он называет себя грешником до глубины души и сочиняет пронизанные болью рассказы. 20 июля он пишет: «В воскресенье утром, незадолго до моего отъезда, мне показалось, что ты хочешь помочь мне. Я надеялся. Поныне — пустая надежда. Но на что бы я не сетовал, в сетованиях моих нет убежденности, в них нет даже истинного страдания, они раскачиваются, как якорь брошенного судна, далеко не достигая той глубины, где можно бы обрести опору». 20 августа он вновь составляет таблицу из двух колонок, чтобы сравнить положительные и отрицательные стороны женитьбы: маятник, похоже, склоняется в сторону холостяцтва, оно по крайней мере позволяет «остаться чистым». Едва возвратившись в Прагу (27 августа), он, забывая о достигнутом понимании и согласии, сочиняет к Фелице прощальную открытку, и если в итоге он не решается ее отправить, то только потому, что слишком часто уже писал прощальные письма, от которых отказывался на следующий день. И снова он повинуется тому, что называет «чиновничьим пороком»: слабости, чувству бережливости, нерешительности, расчетливости, дару предвидения, — и письмо не отправляется. Все, по его словам, происходит из-за того, что в свое время отец сломал его волю. Здесь впервые — этот образ будет затем часто повторяться — он представляет себя местом конфликта между своими мозгом и сердцем: сердцем, которое (он делает вид, что верит в это) его влечет все время к Фелице, и мозгом, который рассудительно советует все бросить, изменить город и профессию, отказаться от планов обустройства. Все происходит как будто бы Мариенбад уже забыт: появляются те же сомнения и те же тревоги.
Эти размышления в «Дневнике» датируются 27 августа 1916 года, неделей раньше он писал Фелице: «Наш союз — абсолютно установленный факт, насколько это возможно; только дата еще не определена». И письма (или почтовые открытки) следуют одно за другим: между встречей в Мариенбаде и концом 1916 года их насчитывается около ста двадцати. Фелица последовала совету Кафки: она предложила свои услуги в качестве добровольной сотрудницы в еврейском приюте в Берлине. Она там преподает, и ее работа является почти единственным мотивом всей переписки. В этом заведении — сионистского ли оно толка или нет, не имеет в конечном счете большого значения — главное место занимают контакты с еврейской молодежью, приехавшей с востока. Учителям при этом приходится учиться больше, чем воспитанникам школы, которых, без сомнения, перелицуют в западных евреев в соответствии с берлинской модой, заставив их утратить свою непосредственность и неповторимость. «Если бы у меня был выбор, — пишет Кафка, — между берлинским приютом и каким-нибудь другим, где воспитанники были бы помощниками Берлина и помощниками простых восточных евреев, прибывших из Коломии или из Станислава, я бы не колеблясь и со вздохом облегчения отдал абсолютное предпочтение последнему. Но я думаю, что такого выбора не существует, и невозможно в приюте передать хоть что-нибудь, что выдержало бы сравнение с ценностью евреев с востока…». И Фелица умеет прекрасно понять, что здесь важна не религия, а человеческое содержание.
Фелице приходится приобщиться и к педагогике. Та, которую практикуют в приюте, основывается на «Теории молодежи» Фридриха Вильгельма Форстера, книге, появившейся в Берлине десять лет тому назад. Фелице поручили сделать доклад по одному из разделов произведения. Кафка читает Форстера и отправляет Фелице советы и схему небольшого доклада, которого от нее ожидают. Эти интеллектуальные темы на некоторое время отвлекают его от самоанализа и конфликтов. «Твои письма, — пишет Кафка в конце сентября 1916 года, — привязывают нас друг к другу сильнее и глубже, чем наши лучшие письма лучших времен». Неожиданное посредничество кажется наконец найденным; Кафку и Фелицу соединяют общие убеждения и общее дело. В коротких открытках, в которых часто в конце не хватает выражений дружбы и нежности, кажется, наконец воцарился мир.
Время от времени конфликт вспыхивает вновь, но на заднем плане. Например, когда Фелица подсказывает Кафке отправить госпоже Бауэр поздравления с еврейским Новым годом. Он с гневом отказывается. Малейший намек на привычки, с которыми он уже давно порвал, ему представляется невыносимым вторжением в его самые интимные сферы. В то же время несколько недель спустя он не откажется отправить небольшое поздравление Анне Бауэр с днем ее рождения: он принимает семейные отношения, но не возвращение к ненавистной религиозной практике. В другой раз мысль видеть Фелицу сидящей за семейным столом у его родителей приводит его в ужас. В том самом октябрьском письме 1916 года он описывает свое отвращение к «домашней круговерти», неприятие семейного ложа, фамильного белья, ночных рубашек — всего того, что напоминает о близких супружеских отношениях. Это отвращение, конечно же, он ставит себе в вину, так как оно вступает в конфликт с любовью и уважением, которые он испытывает к родителям. Если оба они, его мать и его отец, сломали его волю, он хочет по крайней мере знать, что они достойны такой власти: «Поэтому их неопрятность кажется мне во сто крат хуже, чем она, вероятно, есть на самом деле, а их ограниченность — во сто крат больше, и так же их смехотворность, и так же их грубость. Черты хорошие в них, напротив, кажутся мне в сто тысяч раз мельче, чем в действительности. Я чувствую себя обманутым своими родителями, но под угрозой безумия не могу восстать против законов природы». Близость его собственной женитьбы оживила в нем все комплексы и страхи.
В ноябре 1916-го Кафка выступает в Мюнхене с публичным чтением рассказа «В исправительной колонии». Фелица приезжает к нему. И эта встреча скоро перечеркнула искусственное, без сомнения, согласие, которое, казалось, зародилось в переписке последних месяцев: они на короткое время встречаются в кондитерской, и вспыхивает спор. «Я не уверен, — пишет Кафка, — что подобные ссоры вновь не возникнут, но эта, кроме всего, случилась из-за нашего временного положения; если другие случатся позже, нам нужно будет сносить их как часть человеческого ничтожества».
Переписка, какой она сохранилась, резко обрывается в конце декабря 1916 года. Письма шести последних месяцев явно были потеряны. Известно лишь, что в начале июля 1917 года Фелица приезжает в Прагу и что они отмечают (без сомнения, очень формально) второе обручение. По этому случаю фотографируют жениха и невесту: у Фелицы серьезный и спокойный вид, Кафка, которому недавно исполнилось тридцать четыре года, кажется едва перешагнувшим подростковый возраст. В тот же месяц Кафка сопровождает Фелицу в Арад (современная Румыния), где живет одна из ее сестер. Они проезжают через Будапешт. Затем Кафка возвращается один, делая короткую остановку в Вене.
Ни «Дневник», ни письма больше не намекают о женитьбе. Теперь все решено; можно сказать, что колебания, сомнения прекратились. Тем не менее в апреле 1917 года Кафка сочиняет рассказ под названием «Отчет для Академии». Мы несомненно не очень ошибемся, если предположим определенную связь между историей ученой обезьяны, которую поймали охотники фирмы «Гагенбек» и историей самого автора, даже если он рассказывает ее с юмором, но юмором, по правде говоря, слегка вымученным. Шимпанзе решает однажды поднести ко рту бутылку со шнапсом и, преодолевая отвращение, выпить большой глоток. С этого момента обезьяна приобретает дар речи и становится совершенно похожей на тех людей, которые ее посадили в клетку, навсегда приобщается к пошлости человеческого существования. По прошествии пяти лет, объясняет он, нужно обязательно найти выход. Приближались пять лет, как Кафка и Фелица впервые встретились у родителей Макса Брода.
В июле 1917 года состоялась помолвка. Месяц спустя, в ночь с 9 на 10 августа, случилось легочное кровотечение. Ему предшествовали небольшие кровохаркания, которым Кафка не придавал особого значения. Тем не менее в «Дневнике» имеется следующая запись, датируемая 4 августа: «Громкозвучные трубы Пустоты». Мы вправе полагать, что существует некоторая связь между этими словами и первыми признаками болезни.
Несомненно, безрассудная жизнь, которую вел Кафка, долгие ночи бодрствования перед чистым листом бумаги, постоянно прерываемый размышлениями сон — все это существование наизнанку должно было однажды тем или иным образом предъявить ему счет. Он никогда не был достаточно сильным, с детства страдал от мигрени, время от времени падал в обморок. Его хрупкая конституция, подчиненная малоразумному образу жизни, стала благодатной почвой для туберкулеза. Кафка первым об этом знал: «То, что я заболел, — пишет он Фелице, — меня совсем не удивило; кровотечение тоже не удивило; бессонницей и головными болями я уже много лет провоцирую большую болезнь, и испорченная кровь, естественно, хлынула наружу».
В другом случае, в более или менее скрытых выражениях, он возлагает ответственность за болезнь нa свою несчастную любовь, и не для того чтобы обвинить Фелицу, но самого себя как единственного виновника. Воображаемое сражение между его сердцем и мозгом — он иногда говорил, между Добром и Злом — занимало ночи и поддерживало бессонницу. Он погибал от конфликта, который сознательно культивировал против себя самого. В одном из последних писем, адресованных Фелице, одном из самых прекрасных из написанных им, он добавляет к этим рассуждениям достаточно радикальное осуждение себя самого, согласно которому его болезнь есть следствие (наказание?) лжи, в которой он так долго жил: «Ты спросишь, всегда ли я был правдив? Могу лишь сказать, что ни перед кем, кроме тебя, я не воздерживался так сильно от сознательной лжи, точнее сказать, не воздерживался сильнее; сокрытие обстоятельств было, а лжи — очень мало, если предположить, что лжи может быть «очень мало». Вообще-то я человек, склонный ко лжи, иначе мне очень трудно бывает сохранить равновесие, мой челн слишком хрупок. Если я допытываюсь сам у себя о своей конечной цели, то выясняется, что я, собственно, не стремлюсь к тому, чтобы стать хорошим человеком или выдержать, испытание перед высшим судом, но, совсем наоборот, я жажду обозреть весь человеческий и животный мир, узнать основные пристрастия, желания, нравственные идеалы, свести все это к простейшим предписаниям и как можно быстрее развивать себя именно в этом направлении, дабы я стал приятен всем без исключения, приятен настолько (вот тут — главное), чтобы, не теряя всеобщей любви, в качестве единственного земного грешника, которого не поджарят за это на сковороде, мог обнажить перед всеми взорами живущие во мне низости. Все это, по-моему, можно свести к человеческому суду, но и этот суд я все равно хочу обмануть, не прибегая к обману». В этом самообвинении (которое Кафка переписал в «Дневник») есть, без сомнения, преувеличение, но оно содержит тем не менее одну неоспоримую истину: Кафка поставил себя перед судом человеческим; он хотел жить, как другие; он стремился на протяжении пяти лет овладеть добром, которого не желал. С самого начала, без сомнения, в его отношениях с Фелицей была ложь, о чем он всегда знал, и теперь, в момент катастрофы, в этом исповедовался. Не доходя, однако, до крайней мысли или откровенности, поскольку именно любовь к Фелице в последних своих письмах он продолжает рассматривать как путь Добра.
Эти размышления, как он пишет в середине сентября в письме Максу Броду, являются лишь знанием первого уровня. Он цепляется за туберкулез, как ребенок за материнскую юбку. Пришел туберкулез — и его судьба отныне остановилась. И снова Максу Броду: «Это первая ступенька лестницы, на вершине которой в качестве вознаграждения и смысла моего человеческого существования (в этом случае, по правде говоря, почти наполеоновского) мирно покоится супружеское ложе. Оно никогда не будет постелено, и, что касается меня — так было решено, — я никогда не покину Корсику». Кафка сравнивает себя с Наполеоном, личность которого его всегда очаровывала, потому что не было человека более непохожего на него. Судьба Наполеона привела его к Империи; судьба Кафки обрекает его на безбрачие. Но что делать? Как сопротивляться велению судьбы? В то же время туберкулез выносит приговор без обжалования и отпущения грехов. Кафка находит в болезни оправдание и убежище. Несколько дней спустя Макс Брод ответит Кафке, что тот счастлив в своем несчастье, и Кафка согласится. Ему не надо больше бороться, достаточно просто подчиниться. Нынешние врачи допускают, что причиной заболевания туберкулезом может иногда явиться «психосоматический» момент. Кафка, со своим обостренным даром предвидения, предчувствовал это.
Он пишет Фелице: что теперь остается делать, как не «безутешно и изумленно созерцать победителя; тот же, почувствовав, что обрел любовь человечества — или одной из предназначенных ему представительниц человечества, — начинает обнажать свою отвратительную сущность. Это полная деформация моих стремлений, деформация как таковая».
Как бы то ни было, Кафка с самого начала знает, что поразившая его болезнь неизлечима. Он пишет в конце того же письма Фелице: «…открою тебе секрет, в который пока еще и сам не верю /…/, но который тем не менее является правдой: я никогда не выздоровею. Именно потому, что это не обычный туберкулез, который можно перележать в шезлонге и дождаться выздоровления, но оружие — и оно будет необходимым всегда, покуда я жив. Эти двое не могут остаться в живых!»
По требованию Макса Брода Кафка консультируется у многих врачей: диагноз не вызывает сомнения, болезнь поразила оба легких. Что делать? Он думает вначале о различных санаториях, потом решает поехать к своей сестре Оттле в Цюрау, на северо-западе Богемии. Оттла, у которой всегда были плохие отношения с отцом, с апреля 1917 гола больше не работала в семейном магазине. Последние два гола она поддерживала отношения с Йозефом Давилом, чехом нееврейского происхождения, за которого позже вышла замуж. Отношения внутри семьи из-за этого еще больше обострились, ее же привлекали жизнь в деревне и работа в поле. Поэтому она уехала в Цюрау управлять имением, принадлежавшим ее зятю Карлу Германну. Франц приезжал к ней однажды в июне, перед началом болезни, и хорошо знал, какое спокойное место его здесь ожидало, когда Агентство предоставило ему трехмесячный отпуск, за которым последуют многие другие.
Легочное кровотечение случилось 9 августа. Месяц спустя, 9 сентября, за три дня до отъезда в Цюрау, он информирует Фелицу о случившемся. Она тотчас же высказывает желание приехать к нему. Пригласительная телеграмма, подписанная Францем и Оттлой, не может быть вручена в положенное время из-за того, что почта закрыта. Письмо о расторжении помолвки, черновик которого не сохранился, было составлено 19 сентября, но явно не было отправлено, так как Фелица приезжает в Цюрау на следующий день. Легко предположить, что эта встреча не могла что-либо изменить. «Ты была несчастна из-за неудавшегося путешествия (Фелица находилась в пути более тридцати часов), — пишет Кафка в последнем адресованном ей письме, — из-за моего непонятного поведения, из-за всего. Я несчастным не был. Назвать мое состояние «счастьем» было бы, конечно, весьма неверно. Я был замучен, но не несчастлив; я чувствовал мою беду гораздо меньше, чем сознавал, чем фиксировал всю ее чудовищность, превосходящую мои силы (по крайней мере мои силы еще живого человека), и в этом сознании своей беды я был сомнительно спокоен; стиснув зубы, я старался держаться. То, что я при этом немного ломал комедию, я легко себе прощаю, так как мой вид (конечно, уже не в первый раз) был слишком загробным, чтобы с помощью отвлекающей музыки мне не захотелось прийти присутствующим на помощь; попытка не удалась, она не удается никогда, но она не состоялась». «Дневник» отмечает то же самое в день отправления Фелицы: «Головные боли (бренные останки комедианта)». Кафка на этот раз, по всей видимости, навсегда отвернулся от Фелицы. Он может еще притворяться, спрашивая себя 25 сентября, имеет ли право туберкулезник брать на себя риск иметь детей, и приводит пример отца Флобера. Но это не более чем последние судороги вечного вопроса.
В этой истории, пожалуй, должен быть краткий эпилог. Фелица покинула Цюрау 21 сентября. 8 октября Кафка отмечает: «Жалобные письма от Ф., Г. Б. (Грета Блох. — Авт.) грозится прислать письмо». 16-го он отправляет последнее письмо Фелице. В конце года он возвращается на несколько дней в Прагу, чтобы встретиться со своими нанимателями и проконсультироваться у врачей. 19 декабря Фелица объявляет о визите, Кафка ей телеграфирует 21-го. 25, 26 и 27 «Дневник» отмечает: «Отъезд Фелицы. Я плакал. Все сложно, лживо и, однако, справедливо». 30 декабря: «В основном не разочарован».
Таковы последние слова этой долгой истории. Некоторое время спустя Фелица вышла замуж. У нее было двое детей, и закончила она свою жизнь в Америке. Говорят, что ее потомки проклинают имя Кафки.
XIII
«Голубые тетради»
После публичного чтения в Мюнхене Кафка пишет Фелице 7 декабря 1916 года: «После двух лет, в течение которых я ничего не написал, я имел фантастическую наглость дать публичное чтение, в то время как уже полтора года я ничего не читал в Праге моим лучшим друзьям». Действительно, линия литературного творчества Кафки часто прерывалось; плодотворные периоды разделялись долгими фазами бесплодия. До этого времени продуктивные этапы следовали один за другим с интервалом в два года: в 1912-м он сочиняет «Приговор» и «Превращение», в 1914-м — «Процесс» и «В исправительной колонии». В момент, когда Кафка пишет Фелице эти обескураженные строки, он еще не знает, что вот-вот откроется новый счастливый период. Он будет, вероятно, самым продолжительным из всех ему отпущенных периодов и продлится больше года, в то время как все остальные угасали в течение нескольких месяцев. Произведения, которые увидят свет в 1917–1918 годах, возможно, не самые амбициозные из написанного Кафкой, но они, без сомнения, наиболее законченные. Это в основном небольшие тексты, краткость придает им некоторую загадочность, они крайне изысканные по форме, словно Кафка вновь находил по ту сторону анекдота и личных конфликтов литературные требования своих дебютов. Крупные произведения последних лет, как, например, «Исследования одной собаки» или даже «Замок», сохранят еще в большей мере характер набросков. В некоторых же текстах 1917 года Кафке удается даже преодолеть недоверие, которое он испытывает к тому, что пишет. Так, он отмечает в своем «Дневнике» в сентябре: «Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как «Сельский врач», при условии если мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно)». Кстати, он согласится, чтобы шесть его произведений были напечатаны в различных журналах 1917 года, сразу же после их написания. Такая снисходительность по отношению к своей продукции для него непривычна. В сентябре он вступает в переговоры со своим издателем Куртом Вольфом о публикации сборника рассказов. Книга, которая содержит четырнадцать маленьких текстов, появляется в 1919 году под названием «Сельский врач». Кафка посвящает ее своему отцу. В этих рассказах самые интимные коллизии описываются деликатно или завуалировано, так что книга могла быть предложена взгляду самого строгого из судей. Мы не знаем, что о ней думал Герман Кафка, мы не знаем даже, сделал ли он усилие, чтобы ее прочитать. Но Кафка писал в письме Максу Броду: «Не потому, что это помогло бы примириться с отцом, у этой вражды такие корни, что их так просто не выдерешь, но все-таки я бы кое-что сделал, пусть и не переселился бы в Палестину, но хоть провел бы пальцем по карте». В этих словах необязательно видеть привязанность Кафки к сионизму, от которого в 1918 году он был еще далеко, но наверняка можно усмотреть желание реинтегрироваться в традицию.
Кафка обычно писал свои произведения в таких же толстых тетрадях, что и «Дневник», где личные записи перемежались с текстами, являвшими собою плод художественного вымысла. Намного реже он писал на отдельных листочках. С декабря 1916 по февраль 1918-го он пользуется тонкими голубыми тетрадями, похожими на школьные. Можно предположить, что это изменение в привычках вызвано тем, что с декабря 1916-го у него два жилища: свое собственное и маленький домик на улице Алхимиков, который ему уступила его сестра. Позже, изгнанный болезнью в Цюрау, он продолжает еще в течение нескольких месяцев пользоваться «голубыми тетрадями» (собственно «Дневник» в этот период почти полностью заброшен). Были найдены восемь таких тетрадей, и маловероятно, что существовали еще другие. Эти тетради могут по праву служить заголовком данной главы, в которой автор пытается рассказать о творчестве Кафки в кульминационный момент его жизни.
Вдохновение повинуется неопределенности: мы не можем знать, почему долгий период творческого бесплодия, от которого страдал Кафка, резко оборвался в декабре 1916 года, через шесть месяцев после счастливой встречи в Мариенбаде и за шесть месяцев до второго обручения. В лучшем случае можно предположить, что относительное успокоение, которое произошла в отношениях с Фелицей, способствовало возобновлению работы.
Первые тексты «голубых тетрадей» представляют собой рассказы о снах. Постепенно вырисовывается фигура могильного стража. Было сделано несколько попыток представить на сцене этот драматический текст, несмотря на то, что он едва начат и что у него мало театральных достоинств. Но в жалком старике, несчастном мешке костей, который проводит ночи в поисках призраков прошлого, можно безошибочно узнать писателя и его ночную работу. В одной из версий маленькой драмы появляется принцесса, приверженная прагматизму и повседневности, которая мечтает запретить бесполезные уходы в воображаемое или в небытие, и кажется, что за этими почти аллегорическими фигурами скрывается тень Фелицы Бауэр. Затем от фрагмента к фрагменту центральный персонаж трансформируется; сперва он становится мамелюком в каракулевой шапке, потом охотником из Черного леса, и таким образом плавно возникает фигура охотника Гракха. Это одно из редких мест, где у Кафки можно проследить ход творческой мысли. Вначале появляется изображение, и из изображения мало-помалу проступают возможные смыслы, зачастую различные, как из одного и того же живописного мотива могут последовательно возникать в различных набросках разные объекты. История охотника Гракха, не оставившая равнодушным ни одного читателя Кафки, была обречена по сути дела никогда не быть законченной; существует еще три или четыре наброска, которые все резко обрываются. В одном из них этот персонаж, подвешенный между жизнью и смертью, является изображением самого автора: «Никто никогда не будет читать того, что я пишу, никто не придет мне на помощь… Я это знаю и пишу не для того, чтобы звать на помощь, даже когда я об этом отчаянно думаю, я, который — и вы это видите — едва сдерживает себя…» В другом эскизе Гракх, появлению которого предшествует полет голубей и который с почетом принят мэром Ривы по имени Сальваторе, являет собою инкарнацию мертвого Бога, время от времени бесполезно посещающего землю. На заднем плане повествования угадываются различные легенды: о Летающем голландце, о Хароне, перевозчике мертвых, о Фрайшютце. Впервые воображение Кафки замыкается в рамках традиции. Вскоре появятся Одиссей, Дон Кихот, Прометей, Буцефал и многие другие.
В этот период интенсивного творчества воображение Кафки обрело свободу как ни в один из других периодов его жизни. Его способность к вымыслу, казалось, не имеет границ. И тем не менее, отправляя свою рукопись издателю, 7 июля 1917 года он пишет: «Все это еще довольно далеко от того, что я действительно хочу». А он, очевидно, хочет создавать рассказы такого уровня, как те, что вошли в сборник «Сельский врач», которые, похоже, подчиняются только непоследовательности дурного сна и оставляют и для самого рассказчика темные и загадочные места. Это была формула «Приговора», продолжающего тревожить память Кафки. Но большинство сочиненных им текстов далеки от этой модели: это, скорее, апологии, нежели поэмы, в них все строго подчинено критической мысли. В этот момент своей эволюции Кафке удается дистанцироваться от себя самого, отстраниться от личного бытия. Он преодолел патетику «Превращения» и «В исправительной колонии»; по прошествии времени темы садизма и ужаса кажутся теперь почти легкими решениями. Теперь он придерживается более требовательной строгости, объективности и холодности, которые исключают всякую резкость и неровность. Теперь его тексты напоминают морские камни, отполированные водой. В силу этого рассказы 1917 года в особенности не поддавались толкованию. Им зачастую приписывали аллегорическое значение, тексты скрывали тайный смысл. Когда Мартин Бубер выбрал два из этих рассказов — «Шакалы и арабы» и «Отчет для Академии» — для публикации в своем недавно основанном журнале, он предложил включить их под названием «Аллегории», но Кафка отказался, дав согласие только на название «Две истории о животных». В самом деле это не аллегории, а тексты, наиболее простым и лишенным изысков образом говорящие то, что они хотят сказать. В них ищут тайну, но сложность как раз и состоит в отсутствии тайны. «Братоубийство», например, является описанием убийства, каким его переживает убийца, его жертва, свидетель; в своей строгой обнаженности, достигаемой, в частности, маньеристской скованностью выражения, автор не хочет сказать ничего более того, что он говорит; читатель волен, если хочет, видеть в рассказе изобличение жестокости и абсурдности существования. В рассказе под названием «Одиннадцать сыновей» отец описывает одного за другим одиннадцать детей, составляющих его семью. История начинается словами: «Всего у меня одиннадцать сыновей» — и заканчивается: «Вот каковы мои одиннадцать сыновей». Каждый из этих одиннадцати имеет свои достоинства и недостатки, которые отец анализирует внешне без пристрастия. Тем не менее он их всех любит неодинаково: он, похоже, испытывает больше нежности к непослушному, чем к верному сыну. И перед всеми ими он, несмотря ни на что, словно чужой, чужой всем детям, которых он породил и которых, как утверждает, любит всех. Этот воображаемый отец говорит, без сомнения, об отцовстве больше, чем все личные споры Кафки с его собственным отцом, которые послужили для него материалом стольких рассказов. Но при желании не запрещается немножко расширить мысль и вообразить Создателя, созерцающего и оценивающего свое творение, — текст оставляет читателю свободу выбора. Все эти тексты очень короткие: несколько страниц, не более, иногда только несколько строк. Но случается также, что Кафка создает произведения и большего объема, например, неоконченную историю под названием «Во время строительства китайской стены». Он находит в рассказе о воображаемом Китае ту тональность, которую потом назовут философской сказкой. Здесь он повествует о том, как строилась Великая стена, предназначенная для отражения нападений варваров с севера, как великое творение осталось незаконченным, так и не предотвратив вторжения жестоких завоевателей. В сказке повествуется также о далеком пекинском императоре, посланиям которого не удается преодолеть огромные расстояния империи и о котором никто не знает, жив ли он или уже давно умер.
Бесполезно пытаться свести к единой тематике все рассказы 1917 года, для которых как раз характерно разнообразие. «Отчет для Академии», как об этом уже говорилось, в юмористической форме описывает ужасные последствия супружеской жизни, угрожавшей автору. В рассказе «Сельский врач» речь идет о конфликте между призванием и жизнью, между половыми запросами и профессиональными обязанностями, и в эпоху, когда врач (писатель?) занял место священника, он заставляет увидеть также бессилие и слабость врача (проклятие писателя?). В тексте под названием «Заботы главы семейства» возникает также фигура некоего Одрадека, чье имя ничего не значит ни на немецком, ни на чешском языках, получеловеческого существа, тощего, как катушка для ниток, абсолютно бесполезного для общества, едва достойного умереть. Похоже, это одна из самых жестоких карикатур на себя самого, когда-либо задуманных Кафкой.
И все же в текстах этого периода есть одна центральная тема, пронизавшая наибольшее число этих историй, — тема смерти Бога, или, скорее, поскольку Бог умер не совсем или еще не совсем забыт, тема его бесповоротного упадка. Гракх еще строит некоторые иллюзии относительно своего могущества. «Я тот, — говорит он юноше из порта, своему собеседнику, — о котором мечтает мать, кормящая ребенка, я то, о чем шепчут в объятьях влюбленные; мою судьбу можно прочитать на звездах и моря несут ее отражение». Но спутник выводит его из заблуждения: «…в этом сказывается и недостаточная сила воображения или веры у народа, которому никак не удается извлечь на свет затерявшийся в Пекине образ императора и во всей его живости и современности прижать к своей верноподданнической груди, которая только и жаждет хоть раз ощутить это прикосновение и в нем раствориться». А далее следует такой поворот мысли: «…именно эта слабость и служит одним из важнейших средств объединения нашего народа, и если позволить себе еще более смелый вывод, это именно та почва, на которой мы живем. И здесь обосновать упрек этому обстоятельству — значит не только посягнуть на нашу совесть, но — что гораздо важнее — на фундамент всего государства».
Итак, мы вошли в эру Нового Коменданта, в эпоху, когда замуровывают часовни внутри зданий, в век Титорелли. И рассказы иллюстрируют, каждый на свой манер, посредственность и мерзость этих новых времен: лошадь Александра Великого стала адвокатом в суде и пьет свой гоголь-моголь перед началом судейского заседания; мирный рантье невозмутимо наблюдает убийство, происходящее у него на глазах; воины-варвары вторглись в город, «их лошади едят мясо, часто можно видеть всадника, лежащего рядом со своей лошадью и грызущего вместе с ней тот же кусок мяса, каждый со своей стороны», в то время как император, укрывшись в глубине дворца, беспомощно наблюдает за происходящим; наблюдая жестокость цирковых представлений, молодой зритель хочет вступиться, спустившись на арену, за участников, но, обескураженный, отказывается от своей затеи, когда понимает, что так называемые жертвы, которым он хотел помочь, обожают свою судьбу и не просят о помощи.
Легочное кровотечение 9 августа 1917 года не иссушает тотчас же повествовательное вдохновение, переживаемое Кафкой вот уже восемь месяцев. Начало болезни было не очень тяжелым. Кафка сперва даже избавился от головных болей, донимавших его последние месяцы. В октябре 1917-го он еще пишет такие прекрасные рассказы, как «Правда о Санчо Панса» и «Молчание сирен», которые не опубликует, но которые позже будут выделены издателями из массы других. За несколько дней до начала болезни он сделал также попытку, впрочем, напрасную, переписать эпилог «В исправительной колонии». В нескольких отрывках, датируемых концом августа и сентябрем, ощущается эхо нового положения Кафки. Так, он пишет: «Безнадежный плавал на утлом суденышке вокруг мыса Доброй Надежды. Было раннее утро, дул сильный ветер. Безнадежный поднял маленький парус и мирно лег на спину. Чего ему было бояться в этом суденышке, которое, с его очень малой осадкой, скользило поверх опасных волн с ловкостью живого существа?» Или еще: «У меня три собаки. Хватай, Кусай и Никогдай. Хватай и Кусай — обычные маленькие крысоловы, и никто не заметил бы их, если бы они были одни. Но есть еще Никогдай. Это дог нечистой породы, и, когда его видят, говорят, что столетия скрещиваний никогда не смогли бы привести к подобному результату. Никогдай — бродяга… Никогдай считает, что это не может дольше так продолжаться и что нужно найти какой-нибудь выход. В глубине души я думаю так же, как он».
Наброски, все более редкие и менее завершенные, появляются вплоть до февраля 1918 года. Но основное содержание двух последних «голубых тетрадей» состоит из текстов иного рода. В течение пяти первых месяцев в Цюрау Кафка пишет длинную серию афоризмов, содержащих его размышления в этот период.
Речь идет о размышлениях о Нем, об абсолюте, о «неразрушимом», которое есть в нас, — короче говоря, о размышлениях религиозных. Они начинаются неприятием психологии, потому что, во-первых, не существует истинного знания внутреннего мира и интроспекция — всего лишь ошибка. «Познай самого себя не означает наблюдай себя. Наблюдай себя — слова змия. Это значит: сделайся хозяином своих действий. Однако ты уже являешься им, ты — хозяин своих действий. Следовательно, слово имеет значение: отрекайся от себя, разрушай себя, и, во-вторых, потому что разницей между индивидуумами можно пренебречь, поскольку все, даже если тщеславие заслоняет это, ведут один и тот же бой и значение имеет только описание этого боя. «Зачем описывать себя, как это делал Кафка до настоящего времени? Только одно имеет значение — понять человеческое существование.
И первое, что мы видим, открыв глаза, — это присутствие Зла, Зла настолько сильного, настолько притворного, настолько тесно связанного с нашим существованием, что напрасны желания его победить. Оно ловко принимает любые формы и рядится, если нужно нас обмануть, в одежды Добра. Тот, кто хочет противостоять Злу, попадает в еще большую зависимость от него: «Одним из его самых эффективных средств соблазнения является вызов на бой. Это как борьба с женщинами, которая заканчивается в постели». Добросовестность — худшее из зол: это зло, ставшее настолько сильным, что не считает больше необходимым хитрить. Мораль, которая стремится спрятать Зло, сделана из лжи, и Кафка показывает в коротком рассказе «содружество подлецов (то есть это были не подлецы, а обыкновенные люди)»: совершая подлые поступки, они оправдывают друг друга и, подобно невинным детям, возносятся на небо, но, «поскольку перед небом все разбивается на свои составные части, они падали поистине каменными глыбами». Из-за невозможности эффективно бороться со Злом, к нему приспосабливаются, делают его частью повседневной жизни: «Леопарды врываются в храм и выпивают до дна содержимое жертвенных сосудов; это повторяется снова и снова, и в конце концов это может быть предусмотрено и становится частью обряда». Добро без присутствия Зла станет ли чем-нибудь другим, кроме прискорбного спектакля? Именно Зло является двигателем мира; только из-за него совершается все движение здесь внизу. Перефразируя обычную формулу, Кафка пишет: если Зло хорошо знает, что такое Добро, то Добро в свою очередь ничего не знает о Зле. Одним словом, Земля — место обитания демона. И если нет необходимости поклоняться ему, никогда не нужно забывать о его силе и «в Дьяволе всегда почитать Дьявола». Зло, которое держит нас точно так же в своей власти, тем не менее не смогло бы, если мир имеет смысл, автономно существовать. Мысль Кафки не является манихейством; Бог и Дьявол не представляют собой два независимых принципа, сражающихся друг с другом. Зло — это всего лишь необходимость какого-то момента нашего развития, оно представляет опасность до тех пор, пока мы не вырвемся из земной грязи. Поскольку в действительности существует только духовный мир. Зло — это осадок, накипь, которая образуется по мере удаления от центрального огня. «То, что мы называем чувственным миром, — пишет Кафка, — есть Зло в мире духовном». Оно — внешний облик, который держит нас в оковах, пока нам не удастся освободиться от чувственной оболочки.
Вторым столпом этой теологии является размышление о времени. Мы, очевидно, находимся в плену всеобщей дряхлости, непрочности всего сущего. И все же с того момента, как мир стал миром, еще ничего не произошло. Жизнь — это вечный натиск на границы, но натиск неподвижный, ибо ничего не изменяется и один и тот же вечный беспокойный бой продолжается из столетия в столетие. Из некоторых текстов и совсем недавно в «Сельском враче» могло показаться, что Кафка искал свое место в истории, поскольку ему казалось, что мы жили на изломе времен, между устаревшей верой и новым, еще неизвестным верованием. Но эти перипетии теперь введены в более общий миф, делающий течение времени пустым повторением. Один из самых коротких рассказов под названием «Соседняя деревня», который Кафка собирался включить в будущий сборник, выражал эту истину по-своему: «До чего же коротка жизнь! Когда я вспоминаю прожитое, все так тесно сдвигается передо мной, что мне трудно понять, как молодой человек отваживается ну хотя бы поехать верхом в соседнюю деревню, не боясь, я уже не говорю — несчастного случая, но и того, что обычной, даже вполне благополучной жизни далеко не хватит ему для такой прогулки». Эти идеи, перенесенные в свободную теологию Кафки, приводят к выводам, которые неожиданно опрокидывают всякие перспективы. Так, изгнание из рая, описанное в Бытии, не могло происходить в какой-либо момент истории. В реальности речь идет о вечном мгновении. Мы не перестаем находиться в каждый момент у ворот рая — это еще можно понять. Но эта же фраза в то же время значит, что мы его никогда по-настоящему не покидали; мы находимся еще в раю, но мы его забыли. Рай не является отдельным местом, где будут компенсированы земные несчастья. Существует только один мир, и, кроме него, нет никакого другого, чтобы открыть новую реальность. Вся реальность нам дана с самого начала, и только мы сами не умеем ее ухватить.
Аналогичным образом, последний суд — постоянный трибунал, в любой момент выносящий приговоры. Точно так же и Мессия не может появиться в конце времен, он может только прийти слишком поздно, когда все будет окончено. Эта мрачная теология в том виде, как ее проповедует автор, отбрасывает надежду, но дает взамен уверенность. Лессинг в XVIII веке, вдохновенный древними мистическими теориями, предположил, что воспитание рода человеческого будет продолжаться до тех пор, пока каждый человек не сможет уразуметь истинное понятие святости. Таким образом он рисовал длительный прогресс, история была носительницей смысла. Кафка же описывает противоположную перспективу, перспективу бесконечной деградации: «Мессия придет, когда станет возможным самый необузданный индивидуализм веры, когда никто не разрушит этой возможности, когда никто не стерпит этого разрушения, когда наконец откроются могилы».
Что касается изгнания из рая, то это не кара, выдуманная Господом, чтобы наказать первых людей за то, что они попробовали плод с древа познания. Поскольку познание невиновно — нужно только не останавливаться на полпути и продолжать его до пункта, где появляется небытие, которым мы являемся. В самом деле, среди ворон говорят, что было бы достаточно одной вороны, чтобы уничтожить небо, — и это правда, и это можно видеть каждый день, где столько людей уничтожают небо или его отрицают. Но, продолжает Кафка, это «не может служить доводом против небес, ибо небо-то как раз и обозначает невозможность ворон (слово «кафка», как известно, значит по-чешски черная птица, галка или ворона). Уважаемая с ее точки зрения, «лестничная ступенька, не вытоптанная ногами, есть сама по себе нечто деревянное, грубо сколоченное», она не может знать, кто она такая, ее значение не в ней, а в намерениях того, кто ее выстрогал.
Бог изгнал человека из рая не для того, чтобы запретить познание, которое может привести только к нему его творение, а чтобы не позволить последнему испробовать от древа жизни. Он запретил людям участвовать в жизни. И если этим он не захотел наказать непослушание, то это значит, что он так решил независимым постановлением. Он нас лишил жизни, чтобы мы не перестали взирать на него. Потому что земное существование, столь печальное, столь тягостное, содержит в себе силу убеждения, от которой нельзя избавиться: «Ведь нельзя же не жить». Именно в этом «нельзя же» заключена безумна» сила веры; именно в этом отрицании она получает облик».
В самом деле, невозможно жить, если не веришь во что-нибудь неразрушимое внутри себя. Познание — само движение, которое помогает его найти, но оно предоставляет также множество возможностей отвлечения, которое Кафка называет «мотивациями», ложными мотивациями, уводящими от главного. «Зло, — пишет он, — это все, что отвлекает» (в этом размышлении есть один акцент, который часто повторяет Паскаль, даже если он находит поспешными и ошибочными «выводы» Паскаля, но не остается глухим к его аргументам).
Следовательно, не надо позволять себе отвлекаться на пустое и иллюзорное. Тогда отвлекаться на что? На долгой труд, чтобы избежать земной грязи и силы тяжести. Или чтобы отвлечь себя от властного зова земли, на самоубийство, но оно не что иное как плутовство по отношению к себе самому, форма нелогичности. Даже практикуя отречение, Кафка не проповедует мораль, он не обучает искусству жить; он описывает религиозный опыт. Нам не дано разрушить мир: во-первых, потому что мы это не сможем сделать, и, во-вторых, потому что данный нам мир неразрушим в себе самом и желаем как таковой. Только доведя его до пределов его возможностей, мы взорвем его бесцельность и сможем от него освободиться.
«Делать отрицательное, — пишет Кафка, — это для нас еще возможно; положительное дано нам уже» Значит, для достижения этой цели у нас нет лучшего оружия, чем страдание: «То, что называется страданием в этом мире, становится блаженством в другом мире, без всякого изменения, освободившись лишь от своей противоположности». «Терновый куст, — пишет дальше Кафка, — старое препятствие, которое тебе преграждает путь. Нужно, чтобы он загорелся, если ты хочешь продолжать свой путь». Существующие религии придуманы, чтобы успокаивать, та же, которую желает он, должна походить на резак. Обычные религии — языковые системы, рано утратившие силу убеждения; истины, о которых в них идет речь, невыразимы, а те, которые провозглашаются, уже сомнительны: «Выражение, — говорит он, — не значит, в принципе, ослабление убеждения, а — тут не место об этом плакать — слабость убеждения». Истинные убеждения — это бесплатный дар, это озарения, которых невозможно ни домогаться, ни заслужить. «Кто ищет, не находит, кто не ищет, найдет».
Мы вошли, что хорошо видно, в область мистики, и мистические формулы следуют одна за другой: «Верить — значит освободить неразрушимое в себе, или лучше: освободиться, или лучше: быть неразрушимым, или лучше: быть». В тот же день: «Слово быть (sein) обозначает на немецком языке и существование и принадлежность кому-то». Или еще: «Иметь» не существует, есть только «быть», быть, которое испаряется, ищет удушья». И еще рано утром 25 января 1918 года: «Прежде чем ступить на порог Святая Святых, ты должен снять обувь, и не только обувь, а все — твой дорожный костюм и багаж, и твою обнаженность, которая под ним, и все то, что скрывается под обнаженностью, и все, что находится дальше, затем ядро и ядро ядра, и то, что остается, затем остаток и затем еще искру вечного огня. Только сам огонь поглощается Святая Святых и позволяет себя им поглощать; один не может противостоять другому». Чтобы дойти до этого состояния крайнего обнажения, нужно ждать, оставаться пассивным: «Только деятельность, происходящая от созерцания, или, скорее, та, которая к нему возвращает, является истиной». «Нет необходимости выходить из дома. Оставайся за столом и слушай. Даже не слушай, а довольствуйся ожиданием. Даже не ожидай, оставайся абсолютно молчаливым и одиноким. Мир тебе предложит себя, чтобы ты сорвал с него маску, он не может сделать иначе, он придет и в восторге начнет извиваться у тебя перед глазами». Эти мистические рассуждения прокладывают путь безмолвию и атараксии.
В ходе своих размышлений Кафка употребляет имя Бога исключительно редко. Кажется даже, что он опасается картины персонифицированного Бога, Бога, с которым, как того хотел Мартин Бубер, мог бы устанавливаться диалог. Это христиане, с их изображением Бога-человека, в итоге возвысили индивидуум и впали в антропоморфизм, который Кафка стремится разрушить. Бог — это сила или огонь, реальность, которая отказывает себе в какой бы то ни было форме и в каком бы то ни было имени. Придавая ему лицо, мысль, желание, мы не только его предаем, но и отрицаем.
В этом Боге, которого не нужно называть по имени, наверняка распознается иудаизм. И, судя по многим деталям, очевидным является, что все эти размышления в основном берут начало от рефлексий по поводу текста Бытия. Когда же несколько лет спустя Кафка будет говорить об обновлении Каббалы, которое могло бы произойти, если бы успехи сионизма его преждевременно не задушили, вполне может быть, что он будет думать о своих собственных умозрительных построениях. Кафку часто заботливо, особенно в Израиле, включают в историю еврейской мысли. Но что остается от иудаизма в его религиозных взглядах, отбрасывающих всякую действенность прихода Мессии, почти полностью исключающих первородный грех и приписывающих Создателю единственное — желание изгнать человека из рая? Еврейская мистика, которую Кафка в этот период жизни мог почти не знать, таит, конечно же, в себе всю эту воображаемую ересь. Но мысль Кафки, похоже, путешествует свободно, вдали от этих проторенных дорог. Не лучше ли, впрочем, послушать то, что он сам говорит в следующем часто цитируемом пассаже? «Не инертность, не злая воля, не неумелость… заставили меня потерпеть неудачу во всем или даже позволили мне потерпеть неудачу, а отсутствие почвы, воздуха, закона. Моя задача состояла в том, чтобы создать их, и не потому, что я мог бы когда-нибудь получить все, чего мне недоставало, а я хотел по крайней мере ничего не упустить, и эта задача стоила того. Это самая простая из всех задач или всего лишь малейший их отблеск… Это, впрочем, не исключительная задача, она, конечно же, часто стояла и перед другими. Однако была ли она когда-нибудь таких размеров? Я не знаю… Меня не вела по жизни, по правде говоря, уже трясущая рука христианства, как Кьеркегора, и я не смог ухватиться за кончик ускользающего еврейского плаща, как это сделали сионисты. Я конец или начало».
Эти религиозные размышления Кафки находятся сегодня в редко посещаемом месте, в закоулке тома под названием «Свадебные приготовления в деревне». Он редко с такой точностью высказывал свои глубокие убеждения. Дело здесь не в каком-нибудь проходящем кризисе. Это постоянный фон, на котором рождается его мысль, фон, который современная мода стремится часто скрыть или обойти молчанием. Без этих полусекретных мыслей, без этих размышлений в одиночестве, вряд ли предназначенных для передачи, мы рисковали бы, однако, упустить главное.
XIV
Музыка и жизнь
Музыка занимала большое место в жизни друзей Кафки: Макс Брод мог дирижировать оркестром, ему иногда случалось сочинять; часто исполняли камерную музыку у Вельчей. Таким образом, Кафка был полностью окружен музыкой. «Отсутствие у меня музыкального чувства, — записывает он в 1911-м, — приводит исключительно к тому, что я не замечаю в ней непрерывности, разве что я ее замечаю время от времени, но этот эффект редко имеет музыкальную природу». В то время как играют «Трагическую увертюру» Брамса, в которой он «слышит только медленные, торжественные шаги, звучащие то с одной, то с другой стороны», его взгляд направлен на дирижера оркестра, шевелюра которого постепенно растрепывается. Макс Брод говорит ему о «магическом круге» музыки, но он замечает лишь нечто похожее на окружающую его стену, в которой вскоре он больше не ищет выхода, свободно предаваясь своим мыслям и мечтам.
Итак, музыка, как он ее представляет, должна быть спонтанным аккордом с миром, непосредственным ощущением естественной гармонии, в которой есть место человеку. В записи, сделанной в «Дневнике» в декабре 1911 года, в которой он анализирует свое отношение к Францу Верфелю, в котором переплелись восхищение, зависть и антипатия, он говорит: «Он полон здоровья, молод и богат, он имеет то, чего у меня нет. Кроме того, он обладает чувством музыки. Он сделал массу хороших вещей очень рано и без трудностей, у него самое счастливое прошлое и будущее; я же работаю, отягощенный грузом, от которого не могу избавиться, и я полностью отрезан от музыки».
Музыка и любовь идут рука об руку, и не существует любви без соучастия, без взаимной симпатии с жизнью. «Я разбираюсь в любви, — пишет Кафка в начале 1912 года, еще до встречи с Фелицей Бауэр, — точно так же, как и в музыке, и я должен довольствоваться самыми поверхностными впечатлениями, которые меня слегка задевают».
То, что Кафка говорит о музыке, он мог бы с таким же успехом говорить о цвете: весьма чувствительный к форме и движению, он видит мир абсолютно черно-белым или серым. То же самое он мог бы сказать о запахе или вкусе: в тексте, в котором он сближает музыку и любовь, он вспоминает, что три дня тому назад отметил день Святой Сильвестры блюдом из сладкого корня и шпината, сопровождаемого стаканом хереса. Все чувственные описания сжаты у него до крайности. И не потому, что он не обращает внимания на тело и живет одними идеями, — наоборот, тело присутствует повсюду, но оно, если можно так сказать, лишено плоти, оно только объект гигиены: вегетарианское питание, методическая гимнастика, жизнь на открытом воздухе, окно, открытое ночью в любой холод, физический труд, различные виды спорта (в зависимости от времени года упоминаются плавание, верховая езда, гребля, теннис, сани) — все это выполняется с неким пуританским ожесточением, словно для того, чтобы укротить тело, держать его в узде.
Музыка — это дар, и тот, кто не получил этот дар в удел, должен мужественно снести неудачу. Но Кафка не останавливается на этом: он относится с недоверием к музыке, к ее очарованию, ее опасностям. В «Исследованиях одной собаки», большом рассказе последних лет, он подробно останавливается на этой теме. Собака, которая рассказывает историю, встречает однажды на дороге труппу из семи собак-музыкантов: «Все, все в них было музыкой — даже то, как поднимали и опускали они свои лапы, как держали и поворачивали голову, как бежали и как стояли, как выстраивались относительно друг друга, взять хотя бы тот хоровод, который они водили, когда каждый последующий пес ставил лапы на спину предыдущего и самый первый, таким образом, гордо нес тяжесть всей стаи, или когда они сплетали из своих простертых на земле тел замысловатейшие фигуры, никогда не нарушая рисунок». И музыка, которую они создают, кружит голову: «Как ни сопротивлялся я ей всеми силами, как ни выл, будто от боли, музыка, насилуя мою волю, не оставляла мне ничего, кроме того, что неслось на меня со всех сторон, с высоты, из глубины, отовсюду сразу, что окружало и наваливалось и душило, подступая в своем ярении так близко, что эта близь уже чудилось дальней далью с умирающими в ней звуками фанфар». В этом нескромном искусстве есть нечто неприличное: «Поначалу из-за слишком громкой музыки я не обратил на это внимания, но все они отбросили всякий стыд, докатились до такого неприличия и непотребства, как хождение на задних лапах. Фу ты, какое канальство! Они обнажились, выставляя напоказ свои бесстыдства, и делали это намеренно…». В афоризмах 1917–1918 годов уже встречались некоторые скептические рассуждения об искусстве: «Наше искусство заключается в том, чтобы быть ослепленным правдой: истинным является только обнаженный свет на гримасничающем лице, ничего более», или еще: «Искусство порхает вокруг правды, но с намерением вовремя остановиться, чтобы не обжечься». В искусстве есть ложь и бегство. Всякое искусство, которое кружит голову, увлекает, опьяняет на манер музыки, есть не что иное, как непристойный обман. Та единственная форма творчества, которую допускает Кафка, не приемлет эти неприличные уловки: это трезвое искусство немистификации, противоположность лиризма, точная и строгая проза, которая отвергает все формы опьянения.
Кафке кажется, что жизнь отказывает ему во взаимности; подводя итоги, он отмечает одни неудачи. «Без предков, без супружества, без потомков, с неистовой жаждой предков, супружества, потомков. Все протягивают мне руки: предки, супружество, потомки, — но слишком далеко от меня». «Жизнь моя до сих пор была маршем на месте, в лучшем смысле развивалась подобно тому, как развивается дырявый, обреченный зуб. С моей стороны не было ни малейшей хоть как-то оправдавшей себя попытки направить свою жизнь. Как и всякому другому человеку, мне как будто был дан центр окружности, и я, как всякий другой человек, должен был взять направление по центральному радиусу и потом описать прекрасную окружность. Вместо этого я все время брал разбег к радиусу и все время сразу же останавливался. (Примеры: рояль, скрипка, языки, германистика, антисионизм, древнееврейский, садоводчество, столярничанье, литература, попытки жениться, собственная квартира.) Середина воображаемого круга вся покрыта начинающимися радиусами, там нет больше места для новой попытки, «нет больше места» означает: возраст, слабость нервов, «никакой попытки больше» означает: конец». Эти строки написаны в 1922 году, в момент глубочайшего отчаяния; они относятся к числу лучших страниц «Дневника» и написаны за несколько дней до начала работы над «Замком». Но десятью годами ранее, в начале 1912 года, он уже писал нечто подобное: «Когда в моем организме прояснилось, что писание было самой продуктивной ориентацией моей натуры, все устремилось в этом направлении, забросив все остальные способности, направленные на удовлетворение потребностей в сексе, пище, питье, философских размышлениях и особенно в музыке. Я начал чахнуть во всех этих направлениях». Он не ожидал испытаний, чтобы узнать свою судьбу. Невозможно — и, впрочем, бесполезно — определить, какую часть в его истории занимала необходимость, а какую выбор. Его хрупкий темперамент, слишком суровое воспитание способствовали, без сомнения, той чувствительности, той крайней уязвимости, которые его отличали. Но в то же самое время, когда он отдавал себя в руки тому, что рассматривал как необходимость, он сам выбирал путь, по которому намеревался идти. Он его выбирал разными способами: ритмом жизни, замыслами, иногда иллюзорными или наполовину искренними, как его ложная любовь к Фелице Бауэр. Он часто обвинял отца в том, что тот вынудил его жить вне жизни — и в самом деле, нет сомнения в том, что именно взаимоотношения с отцом отлучили его от сексуальных вещей. Но, с другой стороны, он весьма чистосердечно признает свою часть личного решения и ответственности: «Все развивалось, — пишет он, например, в январе 1922 года, — просто. Когда я был еще доволен, я хотел быть недовольным и всеми средствами, которые предоставлялись мне временем и традициями, я загонял себя в недовольство, но хотел иметь возможность возврата. Итак, я всегда был недоволен, в том числе и своим довольством. Характерно, что при достаточной последовательности комедию всегда можно превратить в действительность. Мой духовный упадок начался с детской, правда, одновременно по-детски сознательной игры. Например, я заставлял лицевые мускулы искусственно подергиваться, шел со скрещенными на затылке руками по Грабену. Детская отвратительная, но успешная игра /…/. Раз возможно таким способом навлечь на себя несчастье, значит, все можно насильственно привлечь. Как бы ни казалось, что весь ход моего развития опровергает мое рассуждение, и как бы такая мысль ни противоречила моему существу, я никак не могу признать, что первые начала моего несчастья были внутренне необходимы, а если даже и была в них необходимость, то не внутренняя; они налетали, как мухи, и, как мух, их легко было прогнать».
Как бы там ни было, но идет ли речь о судьбе или выборе, или же о запутанной комбинации того и другого. Кафка живет — и ощущает, что живет, — в полной неудовлетворенности: он не испытывает ни одного из обычных желаний живущих; как и его охотник Гракх, он навсегда подвешен между жизнью и смертью; как и его сельский врач, он осужден блуждать в снежной пустыне. В размышлениях Кафки часто ставится вопрос аскетизма, который, скорее, предстает как недостаток, чем добродетель. Уже в афоризмах 1917 года он саркастически отмечал: «Он жрет отбросы с собственного стола; благодаря этому он, правда, какое-то время более сыт, чем все, но он отучается есть, сидя за столом; а из-за этого потом перестают поступать и отбросы». В 1920 году он обличает всю тайную суетность, жульничество, обман, которые сопровождают аскетизм: «Самыми ненасытными являются некоторые аскеты, они объявляют голодную забастовку во всех сферах жизни и хотят таким образом получить одновременно следующие результаты: 1. Голос должен сказать: «Хватит, ты достаточно голодал, теперь можешь есть, как другие, и это для тебя не будет считаться пищей». 2. Тот же голос должен сказать в то же время: «Теперь, после того как ты голодал так долго против воли, ты сможешь голодать с удовольствием; голод будет для тебя приятнее пищи (но в то же время ты на самом деле будешь есть)». Тот же голос должен сказать в то же время: «Ты одержал победу над миром, освобождаю тебя и от пищи, и от голода (но в то же время ты сможешь с таким же успехом как голодать, так и есть)». К этому добавляется другой голос, который всегда им беспрерывно говорит: «Это правда, что ты не голодаешь полностью, но у тебя добрая воля, и этого достаточно». Два года спустя эти размышления принимают форму рассказа, одного из наиболее заслуженно любимых рассказов Кафки — «Чемпион голодания» (или «Голодарь»). Герой этой истории более всего ненавидит моменты, когда, для поддержания здоровья, его заставляют прерывать голодание; он ни к чему не испытывает такого омерзения, как к пище, которую его принуждают проглотить; он ничего не понимает в похвалах, которые расточают ему женщины мира за его рекорды, — он подчиняется только своей природе и своему вкусу, он не делает ничего такого, что оправдывает восхваления. Как и несколько лет ранее Грегор Замза в «Превращении», он занимается поисками «неизвестной пищи», более ценной, чем обычный паек, но его голодание не позволяет ее найти. Мастер голода, несмотря на свою добросовестность и крайнюю искренность, не избегает противоречий аскетической жизни: «Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать», — сказал маэстро. «Что ж, мы восхищаемся», — с готовностью согласился шталмейстер. «Но вы не должны этим восхищаться», — произнес голодарь. «Ну, тогда мы не будем. Хотя почему бы нам не восхищаться?» — «Потому что я должен голодать, я не могу иначе». — «Скажи пожалуйста! — заявил шталмейстер. — Почему же это ты иначе не можешь?» — «Потому что я, — голодарь приподнял высохшую головку и, вытянув губы, словно для поцелуя, прошептал шталмейстеру в самое ухо, чтобы тот ничего не упустил: — потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие».
Это были его последние слова, но в его погасших глазах все еще читалась твердая, хотя уже не столь гордая убежденность, что он будет голодать еще и еще».
После смерти его труп выметают вместе с соломой из клетки, как ранее вымели тело Грегора Замзы вместе с мусором, которым была усеяна его комната. Его место занимает молодая пантера, животное, полное жизни и силы: толпа останавливается перед клеткой, настолько жизнеспособность остается высшей добродетелью.
В последний раз Кафка возвращается вновь к теме аскетизма и неизвестной пищи в рассказе «Исследования одной собаки». Пес-рассказчик, предпринявший изучение двойной пищи, той, которая происходит из почвы, и той, которая падает с неба словно манна, решает однажды, чтобы довести свои опыты до крайних последствий, воздержаться на некоторое время от любой еды: «Я удалялся, забивался подальше, лежал там день и ночь с закрытыми глазами, и все равно мне было — ловить ли еду в воздухе, подбирать ли ее на земле, потому что я не делал ни того, ни другого, будучи не то чтобы уверен, но все преисполнен тихой надежды, что еда /…/ сама свалится сверху и, минуя землю, постучится в мою пасть, чтобы впустить ее…» Он хочет одной своей волей заставить небо раскрыться — и вот он уже мечтает о триумфе, он представляет, как его с огромным почетом носит на руках весь собачий народ. Его достижение кажется ему вначале столь огромным, что первые дни он плачет от волнения и гордости. Но вскоре он начинает страдать от мук голода. И, главное, он понимает, что голод противоречит учению мудрецов его племени. Голод запрещен Законом, и он, пытаясь проскользнуть в щели закона, еще больше погружается в ошибку. «Но сквозь всю боль действовало искушение продолжать ее [голодовку], и я сладостно отдался этому искушению… Я не мог остановиться… Таяли последние надежды, как и последние утехи тщеславия, думалось, загнусь здесь ни за что ни про что, какие там исследования, детские шалости по-детски резвой поры?»
Лишение, нищета, бедность порождают только новые лишения. Из крайней нищеты ничего не может произойти — и Кафка это знает лучше, чем кто-либо другой. И тем не менее безнадежные взгляды еще не последнее его слово.
Навсегда отторгнутый Ханааном, он по-прежнему ощущает и пишет о том, что на протяжении сорока лет не прекращал находиться в ссылке, в пустыне. Он не может жить среди людей, он как некий Петер Шлемиль наоборот, тень которого слишком велика, чтобы он мог быть принят в общество других; он любит влюбленных, но сам не может любить; он посвящен одиночеству, одиночеству, которого он желает и которое ненавидит одновременно.
Он находится в другом месте, в том месте, которое называет «другом миром». Пребывать там не так уж удобно, невозможно все время подавлять желание вернуться в общество людей; там подстерегает безумие, от которого можно избавиться только благодаря фальшивой мудрости, сотканной «из малодушия, осмотрительности, пустословия, безразличия», мудрости, при помощи которой удается скрыть бедственное положение, но которая в то же самое время преграждает путь к настоящим победам.
И все же он вовсе не проклинает свою судьбу: «Разве я не должен, несмотря ни на что, быть благодарен? — пишет он в 1922 году в «Дневнике». — Разве я не должен был искать пути сюда? Если бы я был «изгнан» оттуда, а сюда бы меня не пустили, разве не был бы я раздавлен на границе? Разве не властью отца изгнание стало таким неотвратимым, что ничто не могло противостоять ему?» Этот «другой мир», в котором он живет, не является на самом деле пустотой. Ему случается в лучшие моменты жизни находить в нем свободу движения, в которой ему было отказано все время, пока он стремился жить, как другие. Бывают в этом «другом мире» и часы потрясающих поражений, когда целые океаны, кажется, давят вам на грудь; но существуют также и мгновения головокружительного подъема; даже если он чувствует себя в этой далекой стране самым робким и скромным, он также имеет иногда право на эти моменты экзальтации — это, если хотите, «ничтожная и искусственная компенсация» за то, что он утратил в Ханаане, но это, однако, и благо, от которого не отказываются, как только его обнаруживают.
Здесь, должно быть, распознается то пространство, которое Кафка описывает с помощью образов, — это литература. Не воображаемое, не как пристанище и убежище, а наоборот, как место, где вещи освобождаются от своего внешнего вида, предстают во всей правдивости. Литература открывает на мир преимущественную перспективу, которой она одна располагает и которую запись «Дневника» от 27 января 1922 года, остававшаяся долгое время непонятной из-за ошибки в пунктуации, пытается выразить следующим образом: «Странное, таинственное, может быть, опасное, может быть, спасительное утешение, которое дает сочинительство: оно позволяет вырваться из рядов убийц, постоянно наблюдая за действием. Это наблюдение за действием должно породить наблюдение более высокого свойства, более высокого, но не более острого, и чем выше оно, тем недоступней для «рядов», тем независимей, тем неуклоннее следует оно собственным законам движения, и тем неожиданней, радостней и успешней его путь».
Кафка всегда относился с недоверием к обаянию языка, ему всегда нравилось подчеркивать его недостатки и строгие границы. Еще в афоризмах 1917–1918 годов он писал: «Все, что вне чувственного мира, язык может выразить только намеками, но никак не сравнениями, даже и приблизительно, потому что язык, в соответствии с чувственным миром, тоскует только об обладании и о том, что с таковым связано». Как только язык стремится навязать себя в качестве инструмента исследования за пределами чувственного, он превышает свои полномочия и становится болтовней и ложью. Всякая «магия» языка, об этом уже говорилось, подозрительна Кафке, и он не устает ее разоблачать.
И тем не менее он предоставляет литературе автономные полномочия: она примиряет противоположности — действие и созерцание; она, словно наблюдательный пункт, расположенный высоко над землей, в стороне от чувственной иллюзии, откуда открываются глаза и где появляется какая-то правда.
В размышлениях мистического характера 1917–1918 годов он пишет, что не существует ничего другого, кроме духовного мира. Именно этот духовный мир появляется на горизонте литературного творчества — это область «неразрушимого», и язык, несмотря на свою немощь, может в дальнейшем служить способом предчувствия его существования. Отсюда чуть ли не религиозная функция, которую Кафка предписывает литературе: «Счастлив я был бы только в том случае, — пишет он в 1917 году, — если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости». Он, конечно, не мог знать, даже когда писал эти строки, что поддается миражу и что этот мираж будет всегда убегать от него, по мере того как он будет его преследовать. Ничего из того, что Кафке удалось написать, никогда, на его взгляд, даже близко не отвечало этому плану, но по крайней мере он наметил себе дорогу.
«Письмо форма молитвы», — пишет он в 1920-м. Речь, по всей вероятности, идет о той же мысли. Но, может быть, в то же время он хочет сказать намного больше. Великие столетия веры прошли, и никто не вздумает заставить прожить их снова. Если бы Авраам захотел сегодня взойти на гору Мориах, повинуясь воле Божией, он не вызвал бы более страха или уважения, он вызвал бы только смех. Эпоха веры закончилась. Только в тайных и укромных уголках еще может проскальзывать религиозная медитация. И, несомненно, литература как раз и стала преимущественно местом молитвы, возможно, единственным местом, где она еще может существовать. Таким образом, на пределе лишений обнаруживается смысл. Судьба, действительно, поместила Кафку на самой неблагоприятной почве, но разве, в конце концов, это не благословение? «Я не знаю, почему меня не поместили в лучшей стране. Я этого не достоин? Не имеют права сказать этого. Нет такого места, где куст смог бы расцвести с большей пышностью, чем это сделал я». Разве, в конце концов, нельзя познать жизнь через лишение и страдание? (Кафка уже писал, что страдание является единственным средством доступа к истине, которое нам предлагается.) Не существует ли, несмотря ни на что, оправдание лишению и аскетизму? Приходит момент, когда крайняя нужда превращается в познание и изобилие. «Я ничего не принес, насколько мне известно, из того, что требует жизнь, я принес только человеческую и общую слабость. Благодаря ей — это огромная сила с этой точки зрения — я сильно впитал в себя весь негатив моего времени, времени, которое мне очень близко, с которым я никогда не имел права бороться, но представителем которого, до определенного предела, я могу быть». После стольких заявлений о смирении претензия быть глашатаем своей эпохи может показаться довольно амбициозной. Но огромный резонанс, который имеет творчество Кафки последние полвека, достаточно показывает, что такое толкование своей роли в истории вовсе не было безрассудным.
XV
Юлия
«Безумные, мы пьем прах и душим своего отца».
Цюрау не рай. На деревенской площади обосновался какой-то жестянщик, и удары его молотка разрывают барабанные перепонки. Вдобавок к этому заблудившееся в этом затерянном уголке Богемии пианино усиливает мучения. Гуси и свиньи, так же как и дети, повадившиеся играть под окнами, вносят свою лепту в этот грохот. По ночам в комнате копошатся мыши и мешают сомкнуть глаза; кошка, которую принесли в комнату, чтобы разогнать их, лишь привносит неудобство иного рода. И однако Кафка не чувствует себя несчастным: вместе с Оттлой он образует «доброе маленькое хозяйство»; его оставили головные боли, он наконец избавился от наваждения своих ложных любовных отношений с Фелицей Бауэр. Удалось окончательно ликвидировать асбестовую фабрику, так что один из главных источников заботы был таким образом устранен. Несмотря на суровые времена и сложности с питанием, он немного прибавляет в весе. Кафка может даже при случае послать кое-какие продукты своим пражским друзьям. Жизнь уже не кажется ему невозможной. Оттла пишет, что ее брат якобы собирался после войны купить себе небольшой клочок земли, чтобы заниматься выращиванием картофеля. «Это все, чего он хочет в настоящее время /…/. Я даже думаю, что это Бог послал ему эту болезнь, без которой бы ему никогда не удалось покинуть Прагу». И в самом деле, по прибытии в Цюрау в сентябре 1917 года он писал Максу Броду: «Назвать ли ложной надеждой, самообманом желание остаться навсегда здесь, то есть в деревенской местности, вдали от железной дороги, но близко к неизбежному закату, от которого никто и ничто не может найти защиты? Если это самообман, — добавляет он, — то значит, зов крови требует от меня стать новым воплощением моего дядюшки, сельского врача /…/. Но если стремление жить в деревне не самообман, тогда в этом есть что-то хорошее. Но вправе ли я в тридцать четыре года, с весьма сомнительными легкими и с еще более сомнительной способностью к человеческим отношениям, ожидать хорошего?» Несомненно, родительское проклятие продолжало тяготеть над ним и мешало ему начать новую жизнь. И в этой новой жизни болезнь, безусловно, играет не только свою негативную роль. «Чтобы выздороветь, — пишет он Феликсу Вельчу, — ты, естественно, прав, первой необходимой вещью является, конечно, желание выздороветь. У меня оно есть, но, если можно говорить о таких вещах без аффектации, у меня есть также и противоположное желание. Речь идет о специфической болезни, которая, если можно так сказать, была мне дана в удел, полностью отличной от всех тех болезней, с которыми я имел дело до сих пор». Болезнь может, при небольшом везении, открыть ему двери нового существования. Он ее ощущает, когда она начинается, скорее как ангела-хранителя, чем дьявола. Но, добавляет он в другом письме Феликсу Вельчу, эволюция, возможно, имеет, ему это известно, дьявольский аспект, и то, что вначале кажется ангельским, возможно, является наихудшим. Медики его обнадеживают, но это похоже на то, что своими широкими спинами они хотят скрыть ангела смерти, который прячется за ними. Он это знает, да что из того? Ни врачи, ни смерть не внушают ему страха. Так что он мало-помалу привыкает к этому существованию, одновременно деревенскому и праздному, принимая болезнь как подругу, а смерть как горизонт.
Агентство относится к нему со всей возможной доброжелательностью: ему отказывают в выходе на пенсию, чего он добивается, но не чинят ни малейшего препятствия, чтобы продлить отпуск по болезни. Однако сам он эту ситуацию воспринимает без особого удовольствия. «В Праге, — пишет он Максу Броду в начале апреля 1918 года, — практикуют наилучшую из возможных политику (в плане поисков моего удержания): помалкивают, терпят, платят, выжидают. Это нелегко выносить, и в следующем месяце я, возможно, снова стану чиновником в Праге». И действительно, в начале мая 1918 года он возобновит свою службу. Впрочем, он уже раньше неоднократно приезжал в город под разными предлогами: либо чтобы проконсультироваться у своих врачей, либо чтобы появиться в конторе, несколько раз — чтобы предстать перед призывной комиссией. Как раз во время одного из этих кратких визитов в декабре 1917 года он в первый раз встретил Фелицу Бауэр.
В этой новой жизни нет больше места для писания. Последние религиозные размышления «голубых тетрадей», которые он, впрочем, абсолютно не считает литературным произведением, относятся к концу февраля или первым дням марта 1918 года. Затем следуют несколько страниц, навеянных ему чтением Кьеркегора. Далее идет текст, озаглавленный «Общество неимущих трудящихся»: речь явно идет о проекте «кибуцев», замысел и назначение которого неизвестны до сих пор. Наконец, по-прежнему в последней «голубой тетради» содержится несколько очень фрагментарных повествовательных текстов, большинство из которых представляют собой сновидения и не поддаются никакой интерпретации, равно как и два лирических пассажа. Лишь в одном из этих прозаических текстов просматривается сооружение храма, все камни которого загрязнены детскими или варварскими руками; в других текстах угадывается некий гармоничный мир, приготовленный, чтобы принять нас, и из которого наше желание без конца подталкивает нас бежать:
И внезапно все останавливается. Обширная пустота открывается в творчестве Кафки, возникает более чем двухлетняя дыра до 1920 года. Даже биографы оказываются ни с чем: «Дневник» заброшен, корреспонденция становится редкой и малозначительной.
Можно было бы предположить, что черновики утеряны, что случай в один прекрасный день поможет их восстановить. Но эта гипотеза несостоятельна и должна быть отброшена. В течение более чем двух лет Кафка перестает писать. В начале октября 1917 года он, едва прибыв в Цюрау, сообщает в письме Максу Броду: «Я не буду писать. Мое желание, впрочем, не направлено собственно на литературу. Если бы я мог подобно летучей мыши найти свое спасение в рытье нор, я рыл бы норы». Правда, его условия жизни в Цюрау отнюдь не располагают к творчеству. Он завтракает в постели, встает поздно, и в темном первом этаже, где живет, имеет в своем распоряжении лишь три светлых часа, и еще менее, если небо облачно. «Не хочется использовать это время, чтобы писать, и едва ощутишь, чего хочется, как уже становится темно и ничего уже не видно, кроме расплывчатых птиц на берегу пруда». Он, так долго жаловавшийся на свою работу в конторе, теперь, избавленный от нее, имеет еще меньше времени, чтобы писать. Это бесспорный факт, но, добавляет он, остается спросить себя, хорошо ли ему в этом состоянии. На этот вопрос он отвечает утвердительно. Если бы он сохранил свою привычку работать по ночам, он был бы стеснен нехваткой керосина, но у него нет больше этого желания; он не боится часов бодрствования при условии, что его не беспокоили бы мыши, он довольствуется чтением книги, когда есть время, и одинокой вечерней прогулкой; «единственное унизительное обстоятельство — быть окруженным заботой других людей, когда, не имея ни единого видимого знака болезни внешне, ты не способен ни к какой мало-мальски значительной работе». Он попытался немного заняться огородом, но тотчас же испытал жестокие последствия своих усилий.
Но усталость не единственная причина: он перестал верить в свой талант. Из своего сельского убежища он с горечью созерцает свою жизнь и свои неудачи: «Теперь я вижу, — пишет он Максу Броду, — новый, до сих пор в такой полноте казавшийся невозможным, выход, который своими силами мне бы не найти (ведь туберкулез нельзя отнести к моим силам). Я только вижу его, только думаю, будто вижу его, но пока по нему не иду. Он заключается в том, он заключался бы в том, чтобы не только частным образом, не только этакими репликами в сторону, но открыто, всем поведением я признал бы, что не могу себя здесь защитить. Для этого мне не надо делать ничего другого, как только со всей решительностью волочить за собой дальше черты моей прошлой жизни». Жена Макса Брода хочет организовать чтение некоторых его произведений; во время своего краткого пребывания в Праге в конце 1917 года он посылает ей лишь две рукописи, которые были у него под рукой: «Верхом на ведре» и «Старинная запись». Он отказывается присоединить к ним свои два романа («Пропавший без вести» и «Процесс») и пишет по сему поводу: «Зачем будоражить старые опыты? Только потому, что я их до сих пор не сжег? К тому времени /…/, если я вскоре приеду, так оно, наверное, и случится. Какой смысл копаться в этих работах, не удавшихся «даже» в художественном отношении? Просто ради надежны, что из этих вещей составится нечто целое, какая-то апелляционная инстанция, к груди которой я смогу припасть, если нужда заставит? Я знаю, что это невозможно, что с той стороны не будет никакой помощи. Так что же мне делать с этими вещами? Если они не могут мне помочь, должны ли они мне вредить, что наиболее вероятно в этом случае?» Если он и интересуется еще маленькими рассказами сборника «Сельский врач», то единственно лишь потому, что решил посвятить книгу своему отцу; это единственная причина, из-за которой он слегка раздражен медлительностью Курта Вольфа, который не торопится с выпуском сборника. Несколько месяцев спустя Макс Брод, переживавший трудную фазу своего существования, похоже, посылает ему несколько инструкций, касающихся лишь своего литературного творчества, которые Кафка должен привести в исполнение в случае его смерти. Кафка отвечает ему, что он тоже уже давно носит в своем бумажнике визитную карточку с аналогичными инструкциями: это явно первое по времени из двух «завещаний», в которых он просил своего друга уничтожить после своей смерти все свои неизданные работы. Всем известно, что Макс Брод по причинам, которые он подробно излагает, не исполнит посмертной воли Кафки. Впрочем, Кафка сам подсказал возможный путь следования, когда, получив просьбу своего друга, отвечал ему: «Мой очень дорогой Макс, это не будет исполнено, но впечатление производит хорошее».
Таким образом, Кафка ставит под сомнение не только свой талант и свое творчество, но идет дальше: в некоторые моменты он начинает сомневаться в самой литературе, в ее оправдании и в ее смысле. Не правда ли, своего рода побег? Пока писатель переселяется на Луну со всеми своими пожитками, пишет он, Земля продолжает вращаться, не заботясь об этих тщетных бегствах; ищешь лунную отчизну и теряешь чернозем. Ради чего в таком случае пытаться отличить подлинное от ложного? Не является ли сама литература по своей природе ложью или предательством? Творчество здесь рассматривается отнюдь не как форма мольбы или молитвы. Это свидетельство того, что Кафка переживает сумрачную фазу. Немногие писатели избежали этой участи. Но немногим из них также доведется испытывать ее так долго. В течение двух лет своего короткого писательского пути Кафка хранит молчание.
Тем временем в мае 1918 года после восьмимесячного пребывания Кафка покидает Цюрау. Оттла, впрочем, тоже там не задерживается: ей необходимо срочно, если она собирается работать по сельскохозяйственной профессии, углубить свои знания, которые пока еще носят поверхностный характер; брат помогает ей в выборе школы; в конце концов она останавливается на Фридланде, куда и отправляется в ноябре.
Итак, Кафка возвращается к своей работе в Агентстве. Потом, в конце лета, он отправляется в Рамбург в Северной Богемии, где уже провел несколько дней в 1915 году, но ему не нравится здешний санаторий, в котором, по его словам, все делается наоборот и где больному, как он, нет места; он выбирает отель в Тарнау, в котором остается три недели. Похоже, он снова обретает почти нормальную жизнь; но 14 октября у него внезапно начинается жестокая лихорадка, и температура порой поднимается до 42°. По всей видимости, речь вдет об ужасном испанском гриппе, который свирепствует в Европе, где только что закончились бои. Однако его организм оказался более крепким, чем предполагали: он выздоравливает без особого труда и к концу ноября снова почти работоспособен.
В Европе в это время происходят важные события: подписано перемирие, создано государство Чехословакия. Так как Кафка не ведет больше дневника, то в том, что он пишет, нет и следа этих великих перемен. Болезнь, личные заботы не оставляют ни малейшего места для политических размышлений. Макс Брод входит в состав только что созданного еврейского национального совета; Кафка, изолированный своим плохим здоровьем, а может быть, и безразличием, остается в стороне от всего. Среди «национальностей», признаваемых новым государством, Кафка выберет еврейскую «национальность». По правде говоря, трудно предположить, к какой другой национальности он мог бы себя отнести.
Испанский грипп, однако, оставляет последствия: повторяются приступы, неоднократно повышается температура. Врачи предписывают возвращение в деревню; Агентство без труда предоставляет требуемый отпуск (его понадобится многократно продлевать вплоть до лета 1919 года). Принимается решение обосноваться недалеко от Праги, в Шелезене, около Либоха, где Кафка проводил каникулы в свои юные годы. Когда он прибывает туда в декабре 1918 года, сопровождаемый матерью, то находит дом пустым, он — единственный пансионер отеля.
Кафка возвращается в Прагу на Рождество, затем вновь отправляется в Шелезен в январе 1919 года. В этот раз в отеле есть еще одна пансионерка, которую он в письме к Максу Броду описывает следующим образом: «Еврейским элементом является девушка, по поводу которой следует надеяться, что она лишь слегка больна. Не еврейка, не нееврейка, не немка, не ненемка, любительница кино, оперетты и комедии, пудры и фиалок, которая обладает неисчерпаемой массой самых дерзких выражений на идиш, в целом очень невежественная, скорее веселая, чем грустная — вот приблизительно какова она. Если попытаться точно описать ее социальное положение, следует сказать, что она относится к категории продавщиц магазина. И вместе с тем честная до глубины сердца, порядочная, бескорыстная — это большие достоинства для создания, которое физически не без красоты, но которое почти столь же незначительно, как мошка, порхающая вокруг лампы». И Кафка добавляет: «В этом и во всем остальном она похожа на мадемуазель Блох, которую ты, может быть, вспоминаешь с антипатией». Последнее замечание не удивляет, поскольку эта девушка Юлия Вохрьщек. Упоминание о ней встречается в другом письме Максу Броду, ее имя появляется в некоторых редких записях «Дневника» в 1919 году, в письме сестре, которое отражает эволюцию чувств Кафки, наконец, она несколько раз фигурирует в переписке с Миленой. Это очень мало, и биограф, если он хочет разобраться во всем, не может отказать себе хотя бы в какой-то интерпретации этих скудных сведений.
Несколько дней спустя Кафка сам исправляет некоторые детали этого портрета. Юлия оказалась еврейкой в большей мере, чем он предполагал: она была невестой юного сионистского активиста, убитого на фронте; ее сестра посещала еврейские конференции, ее лучшая подруга была усердной слушательницей лекций Макса Брода.
Впоследствии стало возможным собрать о Юлии несколько дополнительных сведений. В момент встречи с Кафкой ей было двадцать восемь лет, а ему тридцать шесть. Ее отец по профессии был сапожником и состоял также в качестве Schammes, то есть служки, в одной из синагог пригорода Праги. Юлия держала в городе небольшой шляпный магазин. Через несколько лет после связи с Кафкой ее встречают в Велеславене, где ее след окончательно теряется. Велеславен, как известно — психиатрическая клиника, куда отец Милены Есенской упрятал свою дочь, чтобы помешать замужеству, которого не одобрял, или по меньшей мере отсрочить его. Но о поступлении Юлии Вохрьщек в это заведение нет никаких подробностей.
Кафка рассказывает: когда он и Юлия встретились в коридорах пансиона Стюдл, оба они были охвачены неудержимым сумасшедшим смехом. Поскольку Кафка, еще полностью пребывавший под гнетущей властью недавнего прошлого, опасался ввязываться в новое приключение, они оба решили избегать друг друга и даже отказались садиться за стол в одно и то же время. Это была не очень удобная ситуация для дома, в котором они были двумя единственными пансионерами, но им удалось настоять на своем.
Кафка покинул Шелезен в конце марта; Юлия уехала на двадцать дней раньше него, следовательно, вместе они провели всего лишь шесть недель. Но, едва вернувшись в Прагу, они начинают встречаться. «Дневник», который в эту пору содержит лишь несколько весьма спорадических заметок, указывает, например, 30 июня: «Был в Ригерпарке. Прогуливался с Ю. среди кустов жасмина. Лживость и правдивость, лживость во вздохах, правдивость в скованности, доверчивости, чувстве защищенности. Беспокойное сердце». И несколько дней спустя: «Все те же мысль, желание, страх. И все-таки я спокойнее, чем обычно, словно во мне готовится великая перемена, отдаленную дрожь которой я ощущаю». В этой же самой записи Кафка тот же час фиксирует свою чрезмерную откровенность и добавляет: «Слишком много сказано». Таким образом он оказался во власти своей игры: то, что вначале представало как влюбленность без последствий, мало-помалу приняло серьезный оборот. Как обычно, тут примешивается комизм, присущий его чувству, но чувство, однако, увлекает его туда, куда вначале он и не помышлял направляться. Юлия, согласно Кафке, не желала брака. «У нее смутное желание блестящей жизни, светской жизни, удовольствий /…/, это желание, возможно, могло бы быть удовлетворено посредством холостяцкой жизни; оно, безусловно, не могло бы реализоваться через ординарные возможности, которые предоставил бы ей брак». Она отказалась также от планов иметь детей. Но для Кафки, как известно, не существует никакого другого подлинного отношения между мужчиной и женщиной, кроме брака, никакого другого будущего, кроме семейной ситуации с большим, по возможности, количеством детей. И все же при всем своем отношении к Юлии, вышедшей из простой среды, в которой еще говорят на идиш, к этой молодой женщине, невежество и фривольность которой он подчеркивал прежде всего, он уступал ее отказу от благоустройства и от буржуазных условностей, всегда присущих ему. Но, прося ее выйти за него замуж, он повиновался другой, столь же властной тенденции, суть которой заключалась в страхе беспорядка, в желании вписаться в естественные рамки, которые он считал единственно законными. Юлию, похоже, нетрудно было переубедить: она согласилась с мыслью о браке. В письме, посланном в ноябре 1919 года сестре Юлии, единственном подлинном документе об этом долгом приключении, он, говоря об осторожном поведении, которое Юлия и он соблюдали по отношению друг к другу в Шелезене, пишет: «Эти отношения не могли долго поддерживаться между двумя существами, которые так глубоко и так интенсивно совпадали, как мы оба, двумя существами, так властно подходящими друг другу, так необходимо соединенными в радости и страдании». Франц Кафка и эта хрупкая простушка — «так властно подходящие друг другу»? Кто здесь обманывает, если не он сам, желающий отрезать себе дорогу назад? Как бы там ни было, но они принимаются за поиски жилья, публикуют объявление о бракосочетании. Кафка сообщает своему отцу о предстоящем браке. Пятью годами раньше Герман Кафка легко согласился на обручение с Фелицей Бауэр: навели, как принято, справки, и Фелица показалась приемлемой партией. Но на сей раз это уже было слишком: преуспевающему негоцианту, который держит лавку во дворце Кински на самой красивой площади, предлагают в невестки дочь сапожника из предместья Вдобавок ко всему момент был выбран более чем неудачно, поскольку несколькими неделями раньше ему пришлось принимать у себя Жозефа Давида, нееврея, тоже выходца из скромной среды, за которого Оттла решила выйти замуж. На сей раз Герман Кафка взрывается: замысел его сына кажется ему неразумным, и, действительно, можно усомниться, так ли уж он был не прав. Франц Кафка собирался осуществить в жизни вымышленную ситуацию, которую он описал семь лет назад в «Приговоре»: ужасный отец запрещает женитьбу; если он не приговаривал своего сына к смерти, он делал ему по меньшей мере жизнь невозможной, он вставал на его жизненном пути со своей священной властью, со своим непререкаемым авторитетом. Именно по случаю этого события, и только лишь из-за него, Кафка решается в ноябре 1919 года (в Шелезене, где он снова проводит несколько дней) написать знаменитое «Письмо отцу»: задуманная им женитьба была безнадежной, и он не замедлил это понять; иначе как бы он смог словами компенсировать столько недоразумений, убедить отца, который так мало сомневался в самом себе, оправдаться в такой момент, когда вся жизнь так горестно афишировала его поражение? Он быстро отказался от передачи адресату этого письма, которое могло бы лишь усилить конфликт. В «Приговоре» старый Бендеман кричал: «Только потому, Что она задрала свои юбки вот так — эта отвратительная гусыня, — потому что она задрала свои юбки вот так, и вот так, и вот этак, только поэтому ты втюрился в нее, и, чтобы ничто не мешало тебе удовлетворить свою похоть, ты осквернил память нашей матери и предал своего друга». Кафка пишет в «Письме отцу»: «Еще одно свидетельство Твоего полного непонимания: как можешь Ты думать, что я — робкий, нерешительный, мнительный — мигом решусь на женитьбу, очарованный, скажем, кофточкой». Любопытно предположить, что же за скрытые мотивы таились за этим столь ранящим диспутом. Возможно, Кафка нашел с Юлией Вохрыцек то физическое равновесие, которого его лишили долгие годы воздержания. Время от времени «Дневник» свидетельствует, что он мучим неудовлетворенными желаниями. Естественно, в таких вещах нельзя ничего утверждать безоговорочно, но за строчками такого необычного сочинения, каковым является «Письмо отцу», нельзя не ощутить жестокой травмы. Быть может, оттолкнули Кафку упреки и сарказмы, обрушившиеся на него в один из тех редких моментов, когда он почувствовал себя «примиренным с сексом». Он достаточно мало уважал Юлию, чтобы, возможно, любить ее без страха. И снова здесь придется довольствоваться только предположениями.
Как бы там ни было, но когда он сочиняет «Письмо отцу», проект женитьбы с Юлией как раз только что отставлен. Имея в виду несостоявшиеся браки с Фелицей и Юлией, он пишет: «Каждый из браков был бы, скорее, браком по расчету, если понимать под этим, что все мои мысли днем и ночью — в первый раз несколько лет, во второй — несколько месяцев были заняты этими планами. Ни одна из девушек не разочаровывала меня — разочаровал обеих только я. Сейчас я отношусь к ним так же, как и тогда, когда хотел жениться на них. И при второй попытке жениться я не пренебрег опытом первой, не был легкомысленным, как может показаться. Оба случая совершенно разные; во втором случае, который вообще сулил гораздо больше, именно прежний ответ мог меня обнадежить».
Брак по расчету? Позволительно усомниться в этом, и письмо, которое он пишет сестре Юлии несколько дней спустя после завершения «Письма отцу», может лишь усилить эти сомнения. В нем говорится о жилище, которое они зарезервировали для своего устройства. Кафка опишет его в письме Милене: однокомнатная меблированная квартира с кухней, расположенная в Вршовице, в предместье Праги. Можно считать, что плата за квартиру была непомерной: в эти времена жилищного кризиса ловкие предприниматели застроили наспех в пригородах земельные участки и извлекали выгоду из сложившейся ситуации. Но главное заключалось не в этом: несомненно, что в столь стесненном жилище Кафка должен был бы перестать писать. Любовные отношения с Юлией Вохрыцек вписываются в более обширный период, в котором Кафка отрекается от самого себя. Он болен, он больше не пишет, не видит для себя никакого решения, никакого будущего: почему бы ему не пожить подобно другим рядом с такой честной девушкой, как Юлия, без амбиций и без больших претензий. Само собой разумеется, это не мешает ему снова столкнуться с теми же проблемами и теми же опасениями, что и во времена Фелицы Бауэр; по какому праву он, которому едва удается справиться с самим собой, он, чьи денежные дела столь ненадежны, хочет взять на себя ответственность за семью? И даст ли ему столь абсолютную правоту «расчет», которым он кичится в «Письме отцу»?
Это так маловероятно, что в конечном итоге он пользуется предлогом, чтобы разорвать готовящийся брак. Они должны были пожениться в воскресенье; в пятницу они узнают, что не могут располагать квартирой, на которую рассчитывали. Несомненно, эта неурядица была расценена как знак судьбы, поскольку они тотчас же отказались от планов, возведенных с такой предусмотрительностью. «Я не хочу сказать, что это было несчастье, — пишет Кафка в своем письме сестре Юлии, — возможно, последовал бы еще худший обвал, который похоронил бы под своими руинами супружескую пару; я хочу только сказать, что моя надежда вступить в брак не была неоправданной и что, учитывая обстоятельства, я всего лишь горемыка, вынужденный бедностью все ставить на карту».
Но зачем, спросят, это письмо сестре Юлии? Была ли у Кафки необходимость спрашивать у нее, как прежде, разрешения на продолжение встреч с Юлией, учитывая, что он отказался жениться? Разве Юлия не могла сама этого решать? Ответ появляется в письме Милене: в нем возникает вопрос о психическом заболевании, о котором, впрочем, не приводится никаких деталей. Какова может быть ответственность Кафки за появление этой болезни? Была ли она уже подготовлена, когда они встретились в Шелезене? Об этом мы никогда ничего не узнаем, да и в конечном счете это неважно.
Известно только, что Кафка и Юлия продолжали какое-то время встречаться. Так, в «Дневнике» 8 декабря 1919 года читаем: «Понедельник, праздник в Баумгартене, в ресторане, в Галерее. Страдание и радость, вина и невинность, как две неразъединимые сплетенные руки, для того чтобы разъять их, надо было бы разрезать — мясо, кровь и кости». И несколько дней спустя: «Четверг. Холод. Молча бродил с Ю. по Ригерпарку. Соблазн на Грабене. Все это слишком тяжко. Я недостаточно подготовлен». В духовном смысле это похоже на то, что двадцать шесть лет тому назад говорил учитель Бек, не замечая, конечно, пророческой шутки: «Пусть он еще посидит в 5-м, он слишком слаб, такая чрезмерная спешка потом отомстит за себя». Действительно, «я рос, как слишком быстро вытянувшиеся и забытые саженцы».
В продолжение первых месяцев 1920 года Кафка и Юлия, похоже, еще встречаются. Но затем наступает эпилог: в апреле здоровье Кафки вынуждает его отправиться в Меран. И почти тотчас же завязывается переписка с Миленой, которая вскоре приобретает любовный характер. Однако в мае встает вопрос о возвращении, поскольку пребывание в Меране обходится дорого. Юлия хочет воспользоваться этим случаем, чтобы встретить Кафку в Карлсбаде и провести там с ним несколько дней. Это самая прямая дорога, и просьба о встрече кажется из самых разумных. Но в своем новом положении Кафка не может думать о подобной встрече. «Я телеграфировал в Прагу, что я не могу ехать в Карлсбад, — пишет он Милене 31 мая, — я объясню это своим истощением, что, с одной стороны, очень верно, но с другой — отнюдь не последовательно, потому что именно из-за этого истощения я собирался вначале ехать в Карлсбад. Вот как я играю с живым существом. Но я не могу поступить иначе: в Карлсбаде я не смогу ни говорить, ни молчать или, точнее, я говорил бы, даже если бы молчал, поскольку я весь наполнен одним именем». Он задумал сделать крюк через Вену, чтобы встретить там Милену, которую до сего времени видел лишь мельком однажды в компании с ее мужем. Мы вскоре расскажем о том, как после бесконечных колебаний он в самом деле решился на это путешествие.
Но вначале он объяснил Милене, что собой представляли его отношения с Юлией. Он описывает ее как одно из самых уязвимых существ, полностью отличной от здоровой и крепкой Фелицы Бауэр — воплощения мощного еврейско-прусского сплава. Юлия, напротив, является самым бескорыстным, самым тишайшим, самым скромным существом, существом, которое, как теперь стало ясно, он вовлек в свои собственные мучения. «Малейшее слово, будь оно самое благожелательное, может стать для нее смертельной раной». И потом, эта ее душевная болезнь, о которой приличие не дает ему говорить. Тем не менее, в одном из писем он вспоминает день, когда сидел рядом с Юлией на диване в маленькой квартире во Вршовице. «Когда я думаю об этой сцене, — пишет он, — со всеми ее деталями, более многочисленными, чем биение сердца при лихорадке, я чувствую себя способным понять все ослепления (в данном случае это было и мое ослепление в течение месяцев); по правде говоря, это было не только ослепление, это была также и форма проявления уважения к ней, и все это могло также обернуться браком по расчету в лучшем смысле этого слова». Он знает, насколько он заслуживает осуждения в этой печальной истории, в сто раз более достоин осуждения, чем в отношениях с Фелицей. Но таковы факты, и их нельзя больше изменить: в мае, прежде чем покинуть Меран, он исповедуется Юлии в своих чувствах к Милене. Затем он отправляется в Вену и по возвращении в Прагу в начале июля вновь встречается с Юлией Вохрьщек. Не обходится без надрывных сцен, о которых Кафка сообщает Милене: «Я не могу уйти, — говорит ему Юлия, — но, если ты меня прогонишь, я уйду. Ты меня прогоняешь?», Он говорит «да», однако она отвечает: «Несмотря на это, я не могу уйти». «Есть что-то отвратительное в том, чтобы рассказывать об этом», — добавляет не без оснований Кафка. Но разрыв отношений всегда болезнен, и зачастую находится свидетель, которому об этом рассказывают. В конечном итоге Кафка не находит другого выхода, как разрешить Юлии написать прямо Милене. Это должна была быть их последняя встреча. Юлия написала, Милена ответила, Юлия отослала ответ без комментариев Кафке: она ограничилась тем, что подчеркнула в нем пассажи, которые, по-видимому, более всего ее ранили.
В последней написанной главе «Замка» доминирует персонаж Пепи. Это не лучшая глава книги: она растянута, в ней различимы черты усталости, вначале трудно понять, какую роль ей надлежит играть в архитектонике романа. Но она, без сомнения, нужна в этом месте биографии писателя.
Пепи — маленькая горничная Гостиницы господ. Когда Фрида оставила свою должность буфетчицы, чтобы следовать за К., ее место заняла Пепи. Затем, когда Фрида вернулась и приступила к своим обязанностям, смещенная Пепи опять оказалась горничной. Она ненавидит эту работу и испытывает сильную злобу к заменившей ее Фриде. Горничные живут в подвальном помещении гостиницы, на них возложена самая грязная работа, они убирают мусор, оставляемый секретарями — настоящими важными господами и гнусными подонками слугами. Горничные никогда не видят дневного света, никогда никого не встречают, иногда они переносят досье, но что они могут в них понять? К тому же они постоянно живут в страхе, поскольку часто слышат шум шагов в коридоре, который их пугает. Но никто не приходит, их дверь никогда не открывается.
И Пепи, пониженная в должности после возвращения Фриды, пытается теперь заманить К. в жилище горничных: «…Стоят холода, ни работы, ни пристанища у тебя нет, пойдем к нам, мои подружки тебе понравятся, у нас тебе будет уютно, поможешь нам в работе…» С Генриеттой и Эмилией он, конечно, будет в тепле, он будет жить без забот, при условии, что никогда не выйдет за дверь комнаты. Правда, в этом убежище почти не увидишь прихода весны, но столь ли это важно, если здесь так хорошо живется?
Пепи, безусловно, не Юлия: в романах Кафки нет портретов. Но разве нельзя предположить, что ненависть Пепи к Фриде частично вдохновлена чувствами Юлии к Милене? Как в этой жизни, сотканной из инфернализма и чувственности, не признать уютный ад, в который Кафка едва не соскользнул с Юлией в тот момент, когда перестал верить в самого себя, он искал лишь отрешенности и забвения?
XVI
Милена
«Любовь, ты нож, которым я причиняю себе боль».
Здесь следует вернуться на несколько месяцев назад, к началу 1920 года. Кафка снова в Праге; он возобновил, как только смог, свою службу в Агентстве, несмотря на то, что его здоровье продолжает ухудшаться в такой мере, что в феврале 1920 года он должен будет обратиться к администрации с новой просьбой об отпуске. Он отказался от своего намерения жениться на Юлии Вохрыцек, но продолжает с ней встречаться. Весь горизонт теперь помрачнел: у него больше нет никаких планов. Макс Брод в это время чаще всего отсутствует в Праге. Жизнь представляется ему полностью лишенной всякого смысла.
Но в первые дни января 1920 года Кафка неожиданно нарушает молчание, в котором был замкнут почти два года, — он начинает писать. Правда, это не Бог весть что, не более дюжины страниц, серия размышлений, выдержанных в третьем лице единственного числа, в которых фигурирует один и тот же анонимный персонаж. По этой причине посмертные издатели озаглавили маленький цикл текстов «Он», но разбросали их по меньшей мере в трех местах — в «Дневнике», в «Свадебных приготовлениях в деревне» и в сборнике «Описание одной борьбы», поэтому они ускользают от внимания читателей, что очень прискорбно, ибо тексты эти заслуживают лучшей участи: Кафка, безусловно, писал для себя, не намереваясь когда-нибудь их опубликовать. Отсюда их затемненность, которую он не старался прояснить. Но они позволяют судить о писателе в один из труднейших моментов его жизни. И в самом деле, за этим «Он» без лица легко узнаются его собственные черты. Дело не в том, что автор рисует свой собственный портрет, — он уже давно ушел от интроспекции и от исповеди, а в том, что он излагает свою позицию по отношению к жизни и к миру, излагает в тот момент, когда отказался от всяких амбиций и планов.
Это как бы уточнение отчаяния. Один из рассказов воспроизводит когда-то увиденную картину, представляющую фрагмент лодочного катания на Темзе: красочный день, радостно сплоченная компания. «Он» — персонаж без имени — представляет себя сидящим где-то на берегу, полным желания принять участие в празднике, «но он должен был признаться себе, что он отстранен, ему нельзя было влиться туда, для этого потребовалась бы такая большая подготовка, что за ней ушли бы в прошлое не только это воскресение, не только множество лет, но и он сам, и даже если бы время пожелало остановиться здесь, все равно другого результата не получилось бы, все его происхождение, воспитание, физическое развитие должны были идти другим путем».
«Он» сам для себя является препятствием, преграждающим дорогу: «Это кость его собственного лба закрывает ему путь, и если он разбивает в кровь свой лоб, это потому, что он бьется о свой собственный лоб». Или та же самая мысль, выраженная при помощи другого образа, — «Он» нашел архимедовскую опору, но использовал ее против себя, лишь с этим условием ему, видимо, и было дано найти ее». Думая, несомненно, о своих первых писательских опытах и о надеждах, возлагаемых некогда на литературу, он вспоминает то время, когда хотел охватить жизнь во всей ее полноте и в то же время представить ее «как нечто, как сон, как простое колыхание». Теперь он понимает, что довольствовался словами; его желание даже не было желанием. Это была всего лишь защитная реакция, обуржуазивание небытия, покров веселости, который он хотел придать небытию, в котором, едва отдавая себе отчет, он делал первые шаги, но который, однако, признавал своим элементом. И что же он делает сегодня? «Все, что он делает, кажется ему, правда, необычайно новым, но и соответственно этой немыслимой новизне чем-то необычайно дилетантским, едва даже выносимым, неспособным войти в историю, порвав цепь поколений, впервые оборвав напрочь ту музыку, о которой до сих пор можно было по крайней мере догадываться. Иногда он в своем высокомерии испытывает больше страха за мир, чем за себя». Кафке, действительно, редко доводилось выражаться с такой силой — он созерцает себя в предельной обнаженности, достигнутой им абсолютным одиночеством, в котором он замкнулся, и ему случается ужасаться им же самим вырытой норе. Думая о своем прошлом, он представляет, что был некогда частью монументальной группы, где фигурировали все символы жизни в обществе: армия, искусство, науки, ремесла. Но уже давно он ее покинул и больше не знает, где теперь находится; «Он» даже лишился своей бывшей профессии и даже забыл, что она собой представляла. Из этой забывчивости, несомненно, вытекает какая-то печаль, отсутствие уверенности, беспокойство, некая ностальгия по прошлым временам, которая омрачает настоящее. И, тем не менее, эта ностальгия является важным элементом жизненной силы, может быть, она и есть сама жизненность. «Он» даже больше не ищет утешения, поскольку «искать утешения: значит посвятить этой задаче свою жизнь, жить всегда на периферии собственной личности, чуть ли не вне ее, едва ли уже знать для кого ищешь утешения, и поэтому не быть даже в состоянии найти действенное утешение, действенное, не истинное, ибо такового не существует». Хотелось бы процитировать все эти тексты, которые Кафка набрасывает на пределе одиночества и сомнения. Чему могут служить медитации, размышления, откровения, всегда, безусловно, сопровождаемые удовлетворением и благополучием? Ибо наступает момент, «когда ты призван дать отчет о своей жизни, когда ты остаешься безгласным, обреченным на медитации, размышления и т. д., но что делать сейчас без горизонта перед собой, который позволяет блуждать так долго, что тяжелеешь от усталости и, ругаясь, погружаешься в бездну». Эти слова подчеркивали бы, если бы это уже не было очевидным, религиозный характер мыслей: выраженное здесь сомнение идет не от нигилизма, оно является опорой веры, ищущей свой путь. Это то самое, что опять появляется в другом рассуждении: «Способность отрицать самое естественное выражение этого борцовского организма, каковым является человеческий организм, не перестающий трансформироваться, обновляться и, погибая, воскресать всегда с нами, но не мужество, хотя в то же время жизнь есть отрицание и, следовательно, отрицание — утверждение». Но это размышление формируется в ощущении полной отрешенности, самого глубокого одиночества, когда-либо испытываемого Кафкой, без какой-либо поддержки и даже — что характерно для этой веры — без надежды. «Он хочет пить, — гласит другой афоризм, — и отделен от источника только кустами. Но он разделен надвое, и одна часть охватывает взглядом всё, видит, что он стоит здесь и что источник рядом, а вторая часть ничего не замечает, разве лишь догадывается, что первая всё видит. Но поскольку он ничего не замечает, пить он не может».
Если эти размышления приводятся здесь так обстоятельно, то это делается лишь для того, чтобы показать, в каком состоянии находился Кафка в тот момент, когда его жизнь должна была вскоре испытать самую неожиданную и самую глубокую метаморфозу. Писательский подъем длился недолго: после первых месяцев 1920 года снова наступает творческое бесплодие. Уже говорилось, что здоровье Кафки требует нового лечения; он ищет место отдыха в горах; его издатель Курт Вольф предлагает ему помощь и готов оказать содействие в поиске уединенного места в Германии. В конечном итоге он останавливается на Южном Тироле и прибывает в Меран в первые дни апреля. Едва устроившись, Кафка завязывает переписку с Миленой Есенской, которая только что взялась перевести на чешский язык некоторые его рассказы.
Наконец-то в столь печальной и исполненной неудовлетворенности жизни намечается просвет, который превратился вскоре в пожирающее, опустошительное пламя. «Это живой огонь, какого я никогда раньше не видел», — говорит Кафка о Милене в своем первом письме Максу Броду, в котором идет о ней речь. Вымороченная любовь к Фелице растянулась на долгие пять лет; любви к Милене не суждено было угаснуть, но период всепоглощающей страсти длится лишь несколько месяцев, всего-навсего семь или восемь. Эта любовь озарит мощным светом жизнь, утратившую надежду, но оставит ее затем еще более опустошенной, чем когда бы то ни было.
Кафка едва представлял, кто такая Милена. Он давно знал в лицо ее мужа Эрнста Поллака, но с Миленой у него была лишь мимолетная встреча в одном из пражских кафе в минувшем году, когда она изъявила желание перевести некоторые из его произведений. Ей тогда было двадцать три года, Кафке почти тридцать четыре, но за спиной у нее уже была бурная жизнь. Ей было тринадцать лет, когда умерла ее мать от болезни, на много лет приковавшей ее к постели. Отец, Ян Есенский, был известнейшим стоматологом, профессором медицинского факультета Пражского университета. Он мало заботился о дочери, и отношения между ним и Миленой не замедлили обостриться. И личность Милены вскоре дала о себе знать: бесстрашная, щедрая, властная, увлеченная, мало обращающая внимание на условности и правила. С лицейских времен у нее завязывается дружба с двумя соученицами — Сташей Прохазковой и Ярмилой Амброжовой, которая продолжается и в период связи с Кафкой. Обе они видят в ней образец для подражания, одеваются, как она, имитируют ее жесты и вкусы. Сташу и Милену часто называли «сиамскими сестрами», и слухи приписывали им лесбиянские наклонности. Девушки охотно афишировали мальчишеские манеры. «Они первыми в Праге, — свидетельствует один из современников, — стали пользоваться макияжем, который делал их похожими на эфебов, на подростков. Они носят стрижку в стиле английских прерафаэлитов, они тонкие, словно тростинки, в их поведении нет ничего мелкобуржуазного». Милена доходит даже до того, что крадет у отца несколько доз кокаина. Кстати, в ее жизни наркотики появляются неоднократно. Даже Кафка однажды намекает на кокаин, к которому она иногда прибегает, чтобы унять свою мигрень. Позднее, будучи жертвой сепсиса вследствие тяжелых родов, она справится с жестокими болями лишь благодаря морфию. Позже Милена пыталась, но безуспешно, самостоятельно бороться с наркотической зависимостью, и ей пришлось пройти два добровольных курса дезинтоксикации в санатории.
Ян Есенский хотел, чтобы его дочь изучала медицину. Милена прослушала несколько курсов, затем ей это надоело, и она обратилась к музыке, тоже вскоре бросив занятия. Мало-помалу жизнь уводила ее в сторону богемы. В шестнадцать лет она влюбилась в одного певца, но это первое чувство оказалось разочаровывающим. Два года спустя она познакомилась с Эрнстом Поллаком. Он был служащим одного из пражских банков и одновременно принимал участие в литературной жизни города, был другом Вилли Хааса и Франца Верфеля, большим знатоком современной литературы Франции и Англии, превосходным музыкантом, фанатичным любителем оперы. Вскоре между ними возникла связь, но доктор Есенский ненавидел этого еврея, завсегдатая кабаре, участника беспокойной литературной среды, и в конце 1916 года имел с ним ожесточенную стычку. Милена всегда была без гроша, брала деньги не считая и разорялась на подарках и легкомысленных покупках. В июне 1917 года Ян Есенский помещает свою несовершеннолетнюю дочь (Милена родилась в августе) в лечебное заведение в Велеславине, в то самое, куда последует за ней несколько лет спустя бедная Юлия Вохрьщек. В этом решении, на первый взгляд чрезмерно строгом и негуманном, кроется некая загадка. Оправдывает ли подобную меру беспутство Милены? Не злоупотребил ли Ян Есенский своей отцовской властью или своим положением медика? Известно, однако, что интернирование состоялось лишь после получения одобрения доктора Прохазки, брата Стеши, городского врача Праги. Отметим также, что Милена содержалась в Велеславене до марта 1918 года, еще семь месяцев после своего совершеннолетия.
Как бы там ни было, она покидает в это время психиатрическое заведение. Освободившись, Милена тотчас же выходит замуж за Поллака, и супружеская пара вскоре перебирается в Вену, где Поллак находит место в австрийском филиале своего банка. Переписка Милены и Кафки начинается два года спустя, и Кафка убежден, что ее семья столь же превосходна, как в первые дни. «Живой огонь» Милены, — пишет он Максу Броду, — горит лишь для ее мужа». Он ошибается: супружеская жизнь не замедлила разладиться. Поллак все больше и больше становится завсегдатаем кафе, он открыто изменяет своей жене и оставляет ее без денег. Чтобы заработать на жизнь, Милена ведет уроки чешского в школах, пишет небольшие заметки, светскую хронику, различные статьи во многие журналы Праги. Временами нищета в эти послевоенные годы столь велика, что ей приходится подряжаться на вокзале грузчиком. Это отражается на ее здоровье, она кашляет, и даже кровью. Такова ситуация в момент возникновения переписки между ею и Кафкой.
Инициатива исходила от Кафки: он написал ей первое письмо даже до того, как покинуть Прагу, чтобы отправиться в Меран. Несомненно, он узнал, что у нее проблемы со здоровьем, и хотел узнать, как она себя чувствует. Переписка очень скоро приобретает интимный характер. Тотчас же он жалуется, что забыл черты лица Милены; он вспоминает «движения стана, рук, такие быстрые, такие решительные, но, говорит он, когда я потом хочу поднять глаза, чтобы увидеть Ваше лицо, то письмо мое — что за притча! — вспыхивает пламенем, и я ничего не вижу, только пламя». Первые письма датируются апрелем, а с начала мая ему трудно читать в один присест получаемые ответы, настолько он страшится остаться день и ночь наедине с мыслями о ней. Очень скоро Милене и ему надоедает банальное обращение «Дорогая госпожа Милена». С середины июня они решают перейти на «ты», ибо эти отношения влюбленных, как и в период писем к Фелице, — хотя этим и ограничивается сходство двух приключений, — питаются словами, прогрессируют согласно таинственным законам риторики.
Впервые перед Кафкой женщина, с которой у него устанавливается подлинное взаимопонимание. Это уже более не тот удручающий монолог, который так долго царил во времена Фелицы, слова Кафки находят отзвук. Он сам восхищается маленькими текстами Милены: «Эта проза там, — пишет он, — не для нее, она там как будто для того, чтобы указать дорогу, которая ведет к человеческому существу, дорога, которую всегда проходишь с ощущением большого счастья, до тех пор пока не поймешь в один из моментов озарения, что больше не движешься, а довольствуешься тем, что вертишься в своем собственном лабиринте, но только более восторженный и более обеспокоенный». Он открывает в Милене переплетение интеллигентности и страстного чувства, чего он был лишен до сих пор. И даже сентиментальные «перегибы» Милены, даже сопровождающий ее дух анархии и бунта отвечают какому-то его тайному ожиданию. Вскоре он устремляется к ней, но Милена его опередила, он не сразу понял, что и она ищет помощи у него, — она несчастна и просит крова. Кафка воспринимает этот факт с удивлением и ужасом: «Для меня, — пишет он 12 июня, когда минуло едва два месяца после ее первого письма, — ужасно то, что происходит: мой мир рушится, мой мир снова встает из руин, вот и смотри, — продолжает он, обращаясь к самому себе, — смотри, как тебе тут удержаться. Я не жалуюсь на то, что он рушится, он давно уже шатался, я жалуюсь на то, что он встает снова, на то, что я родился на свет, — и на свет солнца жалуюсь тоже».«…Осчастливить меня могут только тихие письма, — пишет он Милене на следующий день, — я бы так и сидел у их ног, счастливый без меры, это как дождь на пылающую голову. Но когда приходят те, другие письма /…/, начинающиеся восклицаниями (а ведь я так далеко!) и кончающиеся уж не знаю какими ужасами, — тогда, Милена, я в самом деле начинаю дрожать будто при звуках штормового колокола, я не могу это читать и все же, конечно, читаю, как пьет воду измученный жаждой зверь, а страх все растет, что делать, я ищу, под какой стол или шкаф заползти, забиваюсь в угол и молюсь, весь дрожа и теряя голову, молюсь, чтобы буря, ворвавшаяся ко мне с этим письмом, снова улетела через распахнутое окно, ведь не могу я держать в комнате бурю; мне мнится, в таких письмах у тебя блистательная голова Медузы, змеи ужаса извиваются вокруг нее, а вокруг моей, понятно, еще исступленней вьются змеи страха». Милена — Медуза, в другом месте она — ангел смерти, который склоняется над умирающим. Но в тех же письмах он называет ее также «моя малышка» или «мое дитя». Любовь и страх неразлучны. Нужно ли говорить, что этот опыт любви приходит слишком поздно, в то время когда он уже истрепан испытаниями, изнурен болезнью? Смог ли бы Кафка, встреть он Милену на несколько лет раньше, в большей мере управлять своими противоречивыми чувствами, заставить умолкнуть свою робость? Напрасные вопросы, которым суждено остаться без ответа. Во всяком случае в 1920 году, как уже было сказано, любовь — единственная когда-либо им испытанная — одновременно озаряет его и разрушает. Следует признать, что препятствий было не занимать. Прежде всего была та, которую в письмах к Милене он называет «девушкой» — несчастная Юлия Вохрьщек. Кафка говорит о ней лишь со множеством недомолвок и окольных описаний, поскольку не может делать слишком прямых намеков на ее душевную болезнь. В то же время он мучим своей ответственностью в этом деле. Именно он безрассудно предлагал женитьбу, о которой Юлия вовсе не помышляла; теперь он думает лишь о том, как от нее убежать, уклониться, в частности от встречи в Карлсбаде, о которой они договорились, и он стыдится себя. Мы уже говорили о том, что Кафка, чтобы хоть немного смягчить отчаяние бедной девушки, должен был разрешить ей написать Милене, что положило конец, достаточно плачевный, всему эпизоду.
И был Поллак. Кафка испытывает к нему самые горячие чувства, впрочем излишние, поскольку персонаж этот не лишен был бесхарактерности. «Он мне показался, — пишет Кафка, — человеком, самым достойным доверия, самым разумным, самым кротким, с почти чрезмерно отеческими манерами». Положение женатого человека тотчас же наделяет его в глазах Кафки достоинством, которое внушает уважение. Кафка задается вопросом: в случае, если бы он захотел увидеть Милену, мог ли бы он встретиться с ней в присутствии ее мужа? Милена, обладающая пылким характером и особенно раздражительная в этом вопросе, полагает, что Кафка вопреки ей встал на защиту Поллака. В переписке это явилось причиной временной размолвки. Кафка потрясен этим недоразумением: «В каком моем предложении вычитала ты эту безумную мысль? Да и как я могу тут судить, когда во всяком реальном деле — коснись дело супружества, работы, жертвенности, мужества, чистоты, свободы, самостоятельности, правдивости — стою настолько ниже вас обоих, что даже и говорить об этом мне претит?» На шахматной доске мира он даже не пешка: в лучшем случае, если такая штука существует, слуга пешки.
Очень скоро в самом деле встает вопрос о встрече между Миленой и Францем: идея исходит от Милены, которая с конца мая предлагает ему сделать крюк в Вену после Мерано. Следует полагать, что, предлагая это, она не знала, насколько серьезна болезнь, от которой страдал Кафка: для больного, как он, такое путешествие было тяжелым испытанием. Вот почему он долго колеблется: прежде всего потому, что боится усталости, но особенно потому, что боится предстать перед Миленой в таком состоянии изнеможения и беспомощности, что все иллюзии разом рассеются и она перестанет глядеть на него.
Он долго сомневается и спорит с самим собой, но в конечном счете решается, возможно, главным образом, чтобы быть уверенным, что избежит поездки в Карлсбад и ждущего его там испытания. Кафка и Милена проводят вместе четыре дня в Вене, с 29 июня по 4 июля 1920 года. Когда Милена вспомнит позднее об этих четырех днях в письме к Максу Броду, она опишет их как безоблачное счастье: Кафка кашлял чуть-чуть, он без труда преодолевал склоны Венского леса, где они прогуливались бок о бок. Воспоминания Кафки более нюансированы: он следовал за Миленой, но не без труда, и он различал все четыре дня: «Первый, — говорил он, — состоял из неуверенности, второй — из слишком большой уверенности, третий — из угрызений, четвертый был прекрасным днем». Поскольку он прибыл со своим привычным страхом, ему, следовательно, надо было его сперва одолеть. Но вскоре в его сознании воспоминания тоже упрощаются: венские дни стали восхитительными. Он никогда не знал лучшего момента, чем тот, который пережил, лежа в траве рядом с Миленой, прислонясь головой к ее обнаженному плечу.
Четыре венских дня начинают вторую фазу в отношениях Кафки и Милены. Он возвратился в Прагу и возобновил работу в Агентстве. Поскольку дядя Альфред Лёви из Мадрида приехал в гости, Кафку временно поселили в квартире Элли, находившейся в то время на каникулах. Ему нравится одиночество в этом большом жилище, особенно он наслаждается тем, что избавился на время от тирании семейной любви. Свободный и одинокий в Праге, с любимой женщиной на далеком горизонте, — это ситуация, доселе ему неизвестная, но всю ее цену он теперь осознает. Кафка может теперь пользоваться словом, которое до сих пор никогда не мыслил писать: он говорит о счастье. «Если можно умереть от счастья, это то, что со мной скоро случится, и если кто-то, кому суждено умереть, может остаться жить благодаря счастью, — значит, я останусь жить». И в другом письме от 29 июля: «Это, может быть, не самая лучшая ситуация, возможно, я смогу вынести еще больше счастья, еще больше уверенности, еще больше полноты /…/, но если я беру среднее, я чувствую себя так хорошо, и радостно, и свободно, вовсе этого не заслужив, я себя чувствую в такой мере хорошо, что боюсь этого, и, если нынешние условия продлятся еще немного без особых потрясений и я буду получать каждый день словечко от тебя и буду знать, что ты не слишком измучена, этого безусловно будет достаточно, чтобы сделать меня почти здоровым». И в следующий раз он вновь говорит о счастье, вводя в свои размышления недомолвку, которая заставляет насторожиться: «В твоих последних письмах есть две-три ремарки, которые сделали меня счастливым, должен сказать, отчаянно счастливым, поскольку все, что ты говоришь, тотчас же убеждает разум, сердце, тело, но существует также более глубокое убеждение — не знаю, где оно пребывает, — которое, похоже, никто не может убить».
Многократно он затрагивает этот «короткий момент телесной близости», пережитый им с Миленой, освободивший его, говорит он, от грязи, в которой он всегда жил. Эта грязь повсеместна, он угадывает ее присутствие во всем городе. Он вспоминает с ужасом «этот гвалт, этот содом с кровосмесительным разгулом давно уже неуправляемых, разнузданных мыслей, желаний и тел, когда во всех закоулках, между всеми кроватями и шкафами плодятся недозволенные связи, несообразные вещи, незаконные дети». Отвращение к плоти, всегда скрытое, может теперь, когда встреча с Миленой частично избавила его от привычных страхов, найти свободное выражение. Он рассказывает, что в Меране он еще замышлял покорить горничную этого отеля. Теперь с этим покончено. «Все было лишь грязью, лишь жалкой мерзостью, лишь спуском в ад, и я сейчас перед тобой, словно ребенок, который сделал что-то очень плохое и, стоя перед своей матерью, плачет и клянется, что никогда больше этого не сделает». Отныне он слегка дышит воздухом, которым дышали в раю перед грехопадением, так что touha, тоска, томление исчезает; остается лишь — последнее свидетельство падения — немного страха, частица ужаса. У любви есть дневной и ночной лики. Он только что испытал ее солнечную сторону. С другой стороны, есть «эти полчаса в постели», о которых Милена упомянула однажды с пренебрежением как о сугубо мужской заботе. «Здесь целый мир — мой, я им владею, и неужели теперь я должен вдруг перепрыгнуть в ночь, чтобы и ею еще раз овладеть? Здесь я владею миром — и вдруг должен перенестись туда, там его оставить — в угоду чародейству, ловкому фокусу, камню мудрецов, алхимии, колдовскому кольцу /…/. Жаждать посредством колдовства ухватить за одну ночь — в спешке, натужно дыша, беспомощно, одержимо — посредством колдовства ухватить то, что каждый день дарит раскрытым глазам!» Чувство в нем очищено до такой степени, до такой степени отмыто от всякой грязи, что он может достаточно легко вообразить супружество втроем, с Миленой и Поллаком. Он не испытывает ни малейшей ревности к мужу, которого Милена, что бы она ни говорила, продолжает любить. «Я не являюсь его другом, я не предал ни одного друга, но он не просто знакомый, я к нему очень привязан во многих отношениях больше, чем к другу. И ты его тем более не предала, поскольку ты его любишь /…/. Так что наше дело не является чем-то, что надо хранить в секрете, это не только источник мучений, страха, страданий, забот/…/, это ситуация общеизвестная, абсолютно ясная ситуация втроем».
Таким образом, невинность обретена, внутренние мучения, преследовавшие его, рассеяны, Кафка на какой-то момент примиряется с самим собой. Ему даже удается понять, что сама его слабость парадоксально является его подлинной силой. Милена ему об этом говорит, и он ей верит. Его страдание и одновременно его талант являются следствием того, что он называет отсутствием музыкального смысла, то есть его неспособности уловить гармонию, его потребности жить в диссонансе. На короткое мгновение он принимает этот закон, являющийся законом его натуры.
В первое время Кафка ошибался относительно чувств, которые Милена испытывала к своему мужу. Он думал, что она менее привязана к нему, чем это было на самом деле, и он ей предлагал либо приехать к нему в Прагу — у него нашлось бы достаточно денег, чтобы жить вместе, — либо по меньшей мере покинуть Вену на то время, пока восстановится ее здоровье. Затем он открыл, что Милена не расположена расставаться с Поллаком, и принял эти новые условия. Тем временем Милена должна отправиться на какое-то время на лечение в деревню, и она желает до отъезда встретиться с Кафкой по меньшей мере еще раз. По сему поводу начинаются бесконечные дискуссии о месте и времени встречи. Перед Миленой, которая должна ускользнуть из-под бдительного внимания Поллака, и перед Кафкой, который отказывается лгать, чтобы получить отпуск у своей администрации, встают немалые трудности. В конце концов они решают увидеться на границе, в Гмюнде, где вокзал находится в Чехословакии, а город — на австрийской территории. Милена и Кафка встречаются там в субботу 14-го и в воскресенье 15 августа.
И внезапно все меняется, Милена покидает Вену. Она отправляется, кстати, вместе с мужем, поправлять здоровье на берега Вольфгангзее, в Сен-Гильген, что в Зальцкаммергуте. Переписка замедляется. Они все реже обмениваются письмами. Но беда в другом — она в самом Кафке. Едва возвратившись в Прагу, он пытается в бесконечном письме объясниться, но ему это не удается: он снова заперт в некоммуникабельности. Он обут, говорит Кафка, в свинцовые сапоги, которые увлекают его в глубь воды. Над ним довлеет ощущение позора и стыда: «Я грязен, Милена, — пишет он, — грязен до самой глубины моего естества». У него на устах лишь слово «Чистота», но это ничего не доказывает: никто не поет более непорочной песни, чем те, которые находятся в самой глубине ада.
Счастье длилось шесть недель, шесть недель, которые отделяют Гмюнд от Вены. Что произошло? Несомненно, самый вульгарный, самый банальный и, впрочем, наиболее ожидаемый эпизод: Кафка уже до встречи писал, что страшится «гмюндской ночи». Судя по всему, этой ночью появились старые демоны, или, скорее, они никогда и не исчезали и снова продемонстрировали свое присутствие. С этого момента стыд, страх, чувство беспомощности вновь овладевают им. Он был, пишет Кафка, лесным зверем, спрятавшимся в глубине грязной берлоги (грязной, добавляет он, только из-за моего присутствия, разумеется). И затем он встречает Милену: «Я подошел, приблизился вплотную к тебе, а ты была так добра, я спрятал свое лицо в твоих ладонях и был так счастлив, так горд, так свободен, так могуч». Но «долго продолжаться» это не могло: он занял место, которое было предназначено не ему, он по-прежнему оставался тем же лесным животным, обреченным на одиночество. Он — словно судно, потерявшее рулевое управление и отданное на волю волн. Кафка посылает Милене один из тех саркастических рисунков, которые рисует время от времени для забавы: на нем он изображен распростертым в машине для пыток, придуманной им по случаю. Разумеется, его любовь остается прежней: у Милены в Праге всегда есть сердце, хозяйкой которого она является. Но это грустная драгоценность, способная как раз омрачить небо в полнолуние. Не боится ли Милена обитателя тьмы? Эти скорбные письма входят в число самых прекрасных из когда-либо написанных любовных писем: читающее их ныне поколение находит в них утонченное литературное удовольствие. Но это удовольствие не должно отодвинуть в тень породившую их скорбь, которая после нескольких недель надежд или иллюзий отбрасывает Кафку в его семейный ад. Мимолетное счастье лишь углубило его страх, и, конечно, Кафка хорошо знает, что этот страх есть самое ценное в нем: обратила бы Милена взгляд на него, если бы тотчас же не уловила его? Кафка теперь пишет ей: «Я не знаю, в самом ли деле это еще любовь, когда я говорю, что ты самое дорогое из того, что я имею: любовь, ты нож, которым я причиняю себе боль».
Этого страдания хватило бы, чтобы поглотить все мгновения, но он к тому же еще возбужден, раздражен многочисленными мелкими конфликтами. Милена, не особенно заботясь об усталости тяжелобольного, использует Кафку для разного рода поручений, с которыми он не всегда справляется наилучшим образом. Несколько раз речь всего-навсего идет о том, чтобы купить трико; в другой раз — чтобы отыскать на кладбище могилу умершего юным брата, которого ее родители, как ей кажется, всегда предпочитали ей. Она просит его также нанести визит ее подругам: Сташе, к которой она испытывает откровенную, с трудом скрываемую антипатию; Ярмиле, которую он застает в разгар драмы: ее муж, Йозеф Райнер, только что покончил с собой, заподозрив свою жену в любовной связи с Вилли Хаасом, тем самым, который тридцать с лишним лет спустя станет первым издателем «Писем Милене». На долю Кафки выпадают и другие, более деликатные поручения. Например, такое: Милене, чтобы отправиться в горы, как она планировала, нужны деньги, она могла их получить только от своего отца, ужасного доктора Есенского, который, чтобы разлучить ее с Поллаком, требовал прежде всего ее возвращения под отеческий кров. Он, кроме того, знал, что она очень расточительна, и колебался предоставлять ей субсидии. Милена, следовательно, возобновила отношения с отцом — она впервые после трех лет только что получила от него письмо. Нужно было продолжать переговоры, и она посылает Кафку на встречу не с самим доктором Есенским, но с его секретаршей и подругой, некоей Властой. Кафка не слишком хорошо справляется с этой дипломатической миссией, и Милена телеграммой шлет ему резкие упреки. Он принимает их с покорностью, обвиняя себя в неловкости и даже в достойном порицания безразличии.
Такова была повседневность в течение недель, следовавших за гмюндской встречей. Но скоро сами письма становятся источником душевных страданий. Кафка ожидает их с нетерпением, но, когда они приходят, он не решается их вскрывать: каждое из них вызывает в нем чувство своей собственной нечистоты. И что отвечать? Кафка старается говорить лишь правду, но это нелегко: «В любое время я ищу лишь возможность сообщить несообщаемое, объяснить необъяснимое, рассказать нечто, что есть в мозгу моих костей и что может быть пережито только лишь в мозгу моих костей. Может быть, это в сущности не что иное как страх, о котором я тебе говорил так часто, страх, который как бы распространился на каждую вещь». Он добавляет, что этот страх может быть также — кто знает? — ожиданием и жаждой другой реальности и, возможно, страх является лишь ее преамбулой. Как бы там ни было, эти письма приносят отныне лишь страдания. Кафка, слишком слабый, слишком израненный, слишком обеспокоенный самим собой, умоляет Милену хранить молчание. Последние из этих любовных писем посланы в конце 1920 года. Что делать перед невзгодой, подобной этой? Как писал однажды Кафка по-чешски: «Я разбился о самого себя». В одном из размышлений серии «Он», написанном несколькими месяцами раньше, уже говорилось: «Его собственная лобная кость преграждает ему путь, он в кровь расшибает себе лоб о собственный лоб». Что могла бы подевать Милена?
И однако 21 июля, следовательно, задолго до Гмюнда, Кафка ей пишет: «каждый из нас живет в супружестве — ты в Вене, я со своим страхом в Праге /…/. Так что, видишь ли, Милена, если бы я тебя полностью убедил в Вене, ты бы уже больше не была в Вене, а ты просто была бы в Праге. Все остальное лишь утешение». Это, конечно, верно, и он уверен, что и Милена тоже боится. И она первая в этом убеждена. В нескольких письмах, написанных ею Максу Броду в январе-феврале 1921 года, она признает себя виноватой: она знает, что бросает Франка — как она его называет — без крова, без крыши над готовок, словно голого, предоставленного всем опасностям, как она сама себе говорит, на грани безумия. Но она не может решиться покинуть Поллака, который к тому же болен, — она на это решится лишь четыре года спустя. И, главное, она не может принять квази-монашескую жизнь, которая ожидала бы ее рядом с Кафкой. Она хочет ребенка, она хочет, как она говорит, остаться близкой к земле. Чтобы жить с Кафкой, надо было собой пожертвовать, но кто знает, долго ли эта жертва была бы действенной?
Полностью Милена не исчезает из жизни Кафки — изредка она будет упоминаться. Однако, возможно, именно здесь уместно сказать о ее судьбе, хотя биография, написанная Маргаритой Бубер-Нейманн, сделала ее известной широкой публике. От начала и до конца она провела жизнь бурную и беспорядочную, к которой ее предназначала натура. После разрыва с Эрнстом Поллаком она живет с одним австрийским аристократом, исповедующим коммунистические идеи. Затем она влюбляется в некоего архитектора, за которого выходит замуж в 1927 году, четыре года спустя после смерти Кафки. Вследствие тяжелой беременности она становится тучной и безобразной, муж начинает ей изменять и переселяется в Советскую Россию. Милена, вступившая в коммунистическую партию, сначала активно работает в ее рядах, но в 1936 году вследствие известных московских процессов выходит из нее. Когда Гитлер оккупировал Чехословакию, Милена тотчас же оказывается в Сопротивлении и пытается помогать евреям покинуть страну. Она арестована, брошена в тюрьму, перевезена в концлагерь Равенсбрюк, где вскоре ее мужество и милосердие делают ее известной среди заключенных. Она умрет в 1944 году в результате операции, сделанной в медпункте лагеря.
В 1920 году любовные отношения между Кафкой и Миленой развиваются столь бурно, что рискуют затмить другие события его биографии. Однако были и такие, о которых следует упомянуть, — одно абсолютно второстепенное, второе — существенное.
Второстепенным событием является появление в жизни Кафки «юного поэта», музыканта и гравера одновременно, время от времени навещающего его в бюро. Это сын коллеги по Агентству по имени Густав Яноух. Кафка принимает его скрепя сердце, поскольку вежливость мешает ему отказать. То приходится читать его стихи, то он приносит свои гравюры, однажды, например, он принес Троцкого и Благовещение («Видишь, — комментирует Кафка, — у него широкие взгляды»). Было бы неуместно упоминать здесь имя этого навязчивого человека, если бы он позднее не опубликовал Книгу, призванную передать потомству свои беседы с Кафкой. Он выпустил два издания, добавив во втором неизданные откровения и исповеди. Неосведомленному читателю трудно узнать в безапелляционных высказываниях, приписываемых Кафке, обычную осторожность и скромность писателя — вызывают удивление и тон, и содержание. Однако сочинение Яноуха долгое время рассматривалось как «приемлемый» источник, и, поскольку свидетельства о Кафке были редки, биографы и комментаторы широко его использовали. Позже было доказано, что в большей своей части эти «разговоры» являются апокрифами. Безусловно, нельзя клясться, что та или иная цитируемая фраза в действительности не была произнесена Кафкой, но поскольку нет критерия, позволяющего отличить истинное от ложного, книгу Яноуха ради осторожности следует рассматривать лишь как весьма неубедительные заметки о нескольких редких встречах с писателем Таково незначительное событие в биографии Кафки.
Существенное же событие касается иудаизма. Положение еврея никогда не смущало Кафку в его отношениях с Миленой. Напротив, при случае он ее упрекает в том, что она имеет о евреях — и, следовательно, о нем — слишком хорошее мнение. В июне 1920 года, до встречи в Вене, он ей писал: «Иногда, например, меня охватывает желание засунуть их всех (включая себя) в ящик бельевого шкафа и подождать, затем чуть приоткрыть, чтобы проверить, все ли они уже задохнулись, если нет, снова закрыть ящик и продолжать так до конца». Далекий от того, чтобы исключить себя из еврейской массы, он пишет в другом письме, что, вероятно, он в большей мере, чем остальные, является «западным евреем», в большей мере лишенным жизненной силы и остроумия, в большей мере к тому же погруженным в повседневность без веры и без надежды. Упадок западных евреев становится образом, возможно, причиной его собственного упадка: как они, он без прошлого, без будущего. Но в другой раз, когда он видит в пражском еврейском отеле сотню эмигрантов, только что прибывших из России, он восклицает: если бы ему предоставили выбор, он хотел бы быть одним из этих маленьких еврейских мальчишек, пришедших с Востока — они так слиты со своей судьбой, со своей нищетой, со своим несчастьем, что не ощущают забот; даже если они не знают, где окажутся завтра, их жизнь имеет смысл, они существуют.
Далекий от того, чтобы отвернуться от иудаизма, Кафка по меньшей мере отдал три года на изучение иврита. Первым его учителем был тот самый Георг Лангер, который одно время стал носить кафтан хасидов. После своего возвращения из Шелезена в 1919 году Кафка продолжил изучение иврита под руководством раввина Тибергера. В его бумагах обнаружены страницы чистописания и упражнений. Тем временем в Центральной Европе поднимает голову антисемитское движение. Плетутся интриги против Макса Брода, пьеса которого освистана в Мюнхене. Ближе к середине ноября Кафка пишет Милене, что каждый раз, когда он прогуливается в полдень по Праге, он купается в ненависти к евреям. Их обзывают «пархатой расой». «Не является ли очевидным, что нужно уйти, покинуть место, где тебя ненавидят подобным образом (для этого не нужен ни сионизм, ни национальное чувство)? Героизм, который заключался бы в том, чтобы остаться, был бы героизмом тараканов, которых не удается изгнать из ванной».
Кафка не теоретик: несмотря на позицию своих, самых близких друзей, он до сих пор оставался равнодушным к сионистским идеям. Его симпатии по отношению к пришедшим с Востока евреям сохранившим прочную приверженность законам иудаизма, не убедили его в необходимости установления а Палестине еврейского государства. В этот период, в 1920 году, он сочиняет два оставшихся незавершенными рассказа (вошедших в сборник «Свадебные приготовления в деревне»), в которых он подводит, правда, в скрытой и недостаточно ясной форме, итог своим размышлениям по сему поводу. Он взвешивает надежды, неуверенность, риск: удастся ли евреям принести мир на землю где в течение веков не прекращаются раздоры? Могут ли они установить или восстановить традиции, которых добиваются? И главное, хватит ли у него самого энергии, чтобы участвовать в строительстве нового града?
Тема иудаизма еще раз вновь появляется в 1927 году в недавно опубликованном письме Милене.
Речь идет о рассказах, начинающихся словами-: «Люди пришли ко мне..» и «Крестьянин схватил меня…»
Действительно, их переписка не прекратилась полностью после 1920 года: время от времени они подают друг другу вести о себе, намеренно выдержанные в безличной форме, на случай если те попадут в руки Эрнста Поллака. Однако одно из этих писем является исключением. Милена только что опубликовала в газете «Народные листы» небольшое эссе о браке под названием «Дьявол в семье». В нем она оспаривала мнение, будто семейная жизнь должна быть совместным поиском счастья; она проводила мысль о том, что каждый из супругов обязан благоговейно уважать свободу другого, «свободу молчания, свободу одиночества, свободу открытого пространства», и заключала следующим образом: «Чтобы искать, надо верить, а чтобы верить, надо, возможно, больше сил, чем чтобы жить». Кафка был в восторге от этого эссе, так как обнаружил в нем близкие ему мысли. Он пишет ей длинное письмо, которое в завуалированной форме является признанием во влюбленной дружбе, подтверждением дружбы, не тронутой испытаниями. Текст Милены не содержал никакого намека на иудаизм, но Кафка, несомненно, чтобы спутать карты и использовать определенную зашифрованность, составляет свой ответ в форме диалога между ангелом и «иудаизмом на грани саморазрушения». Вне всякого сомнения, ангел — это никто иной как Милена, а иудаизм — маска, за которой скрывается Кафка. Эссе Милены, в котором Кафка обнаруживает свои собственные мысли, является для них своего рода духовным браком, своего рода последней и драгоценной встречей. «Иудаизм, подошедший к своему концу — я бы почти написал: к счастью, подошедший к своему концу, — вступает с недоступным навсегда ангелом в диалог, в котором их голоса сливаются».
XVII
Возвращение в пустыню
«Сторож! Сторож! Что ты сторожишь? Кто тебя нанял?»
Кафке вновь предстоит пересечь пустыню. 1921 год будет столь же пустым, столь же лишенным литературной работы, каким было лето 1919-го и последние месяцы 1918 года. Но до начала этой теневой фазы следует обратиться к 1920 году. В самом деле, любовный крах вместо того, чтобы опустошить, подхлестнет его творческое вдохновение, как это уже случилось в 1914 году после катастрофы в «Асканишер Хоф».
В течение нескольких месяцев Кафка будет писать. Явным образом он пытается воскресить свое прошлое: перечитывает прежние заметки, в частности афоризмы и размышления, оставленные им в «голубых тетрадях» 1917–1918 годов. Он переписывает добрую их сотню на карточки и нумерует их. Дата, фигурирующая перед одним из переписанных афоризмов, позволяет отнести эту работу к сентябрю, то есть к периоду между злополучной встречей в Гмюнде и прекращением переписки с Миленой. Макс Брод издал эту серию маленьких текстов, снабдив их заглавием, ответственность за которое он несет сам: «Размышления о грехе, страдании, надежде и об истинном пути». Максу Броду в который раз не повезло или же он вновь пытался приспособить Кафку к своим собственным проблемам. Когда, скажите на милость, Кафка забивал себе голову поисками истинного пути? Когда он выступал носителем надежды? Один из этих афоризмов, к тому же хорошо известный и часто цитируемый, утверждал, напротив, что цель действительно существует, но нет никакой дороги, которая бы к ней вела. Он не задавался целью ни проповедовать мораль, ни обнародовать свои убеждения — он лишь описывал свои колебания и сомнения. И кому, кстати, он бы проповедовал? Он никогда не рассматривал свои свободные размышления в качестве произведений и, безусловно, никогда не собирался их публиковать. Переписывая их, он, несомненно, думал лишь о том, чтобы привести в порядок свои мысли, прояснить кое-что для себя самого, он не чувствовал себя достаточно мудрым, чтобы давать уроки мудрости кому бы то ни было.
В то же самое время Кафка принимается за многочисленные рассказы. За последние месяцы 1920 года можно насчитать добрую сотню набросков. Очень немногие из них приобретают завершенный характер, большая же часть обрывается на полуслове, некоторые содержат лишь несколько строк. Чаще всего рассматриваемые наброски являют собою сумбур сновидений или кошмаров. Эти тексты обескураживают читателя, пытающегося понять их смысл. Порой кажется, что Кафка так зачарован образом, о котором и сам не знает, приведет ли он его к какому-нибудь значению, что никто — ни повествователь, ни читатель — не может разгадать его смысл.
Из этого отнюдь не следует, что эти фрагментарные тексты представляют меньше интереса, чем завершенные произведения. Каждый читатель Кафки должен понять, что незаконченность является одним из аспектов его писательской манеры; фрагмент не есть обязательно неудача, он может быть также своеобразной формой раскрытия замысла. И как раз в этих рассказах, при чтении которых не испытываешь особого желания понять движение мысли, восхищаешься удивительной способностью Кафки несколькими росчерками пера придавать своим вымыслам плотность реальности. Кажется, что повествование самодостаточно само по себе, что оно обрело своего рода наивность: «Осенний вечер, ясный и свежий. Некто, неразличимый в своих жестах, одежде, силуэте, выходит из дома и хочет тотчас повернуть направо. Консьержка, одетая в старое и слишком широкое женское пальто, прижимается к колонне арки и что-то шепчет ему. Он размышляет мгновение, встряхивает головой и уходит. Пересекая шоссе, он по недосмотру попадает под трамвай, и трамвай давит его». Это не вступление к правдоподобному рассказу, это всего лишь начало одного фантастического рассказа: человек вскоре поднимается и продолжает свой путь. Или же первые строчки другого текста, который Кафка, как бы желая подчеркнуть теперешнюю свою манеру письма, озаглавливает: «Частичное повествование»: «Двое мужчин стоят на пороге дома, похоже; они одеты кое-как; большинство надетых на них вещей — тряпье, грязное, разорванное, с бахромой, но некоторые детали их одежды, напротив, в очень хорошем состоянии; у одного из них новый и высокий пристегивающийся воротничок с шелковым галстуком, у другого прекрасные нанковые брюки широкого покроя, суживающиеся книзу, аккуратно закатанные на сапоги. Они ведут разговор и загораживают вход. Прибывает мужчина, по внешнему виду деревенский священник средних лет, высокий, представительный, с крепким затылком, при ходьбе он покачивается направо и налево на своих негнущихся ногах. Он хочет войти, его зовет какое-то срочное дело». Двое мужчин, охраняющих порог, позволят священнику, который направляется с визитом к сестре, войти. Последние строчки рассказа таковы: «Тогда он слышит, как его зовут по имени. «Арнольд», — кричат на лестничной клетке тонким напряженным голосом, и тотчас же спины его легко касается палец. Рядом стоит старая согбенная женщина, закутанная " темно-зеленую шаль с широкими петлями, и смотрит на него не глазами, а в буквальном смысле длинным тонким зубом, который одиноко торчит у нее во рту». Повествование не тяготеет к абстракции, напротив, оно погружено в зримое и конкретное. Но кажется, что разум отказывается за ним следовать. В заметках, относящихся к периоду создание этих рассказов, Кафка пишет»: «Ничего, ничего, кроме образа, ничего другого, полное забвение». И немного спустя, применяя к себе древнюю Моисееву заповедь, записывает» «Не сотвори себе образа кумира)…». Эти горькие слова, однако, близки к тому размышлению в его заметках, где Кафка определяет письмо как форму молитвы. Таким образом, он с грустью противопоставляет свою теперешнюю продукцию своим планам и своим надеждам.
Однако не вся его продукция 1920 года относится к этому роду, хотя Кафка не опубликовал ни одного текста, написанного той осенью. Некоторые рассказы возобновляют старую тему нравоучений — так вновь появляется легендарный Китай, который тремя годами ранее вдохновил его на цикл «философских сказок»: тот же горький и безмятежный тон сразу угадывается, например, в рассказе «Отклоненное ходатайство», в котором некий полковник, сборщик налогов в отдаленной провинции, принимает делегации, просящие у него помощи или уменьшения налогов; каждый раз происходит одна и та же церемония в соответствии с торжественным и четким ритуалом — и каждый раз ходатайство отклоняется. Каждый знает об этом заранее, но тем не менее люди, подчиняясь обычаям и правилам, приходят вновь и вновь. Лишь несколько неопытных подростков протестуют против подобной практики, но кто их будет слушать? Другие из этих экзотических рассказов позволяют вложить в них более личное содержание. Таков, например, рассказ «Набор рекрутов»: офицеры, производящие набор в некой отдаленной стране, призывают мужчин и женщин на службу обществу; женщины радостно откликаются на призыв, словно их приглашают на праздник; лишь некоторые мужчины, испуганные «устрашающе великим приказом», пытаются обмануть бдительность наборщиков. Последние противопоставляют им лишь презрение — освобождение от службы само по себе есть наихудшее наказание. На странном и таинственном языке Кафка в этом рассказе говорит об отношении полов: он сам из тех, кто уклонился от призыва и, следовательно, обречен испытывать чувство стыда; перед лицом Милены он в завуалированной форме выносит себе обвинение. Ибо Милена, как об этом можно догадаться, присутствует в маленьких рассказах, созданных осенью 1920 года. Несколько раз она фигурирует в них в прямых аллюзиях. Так, например: «Я любил девушку, которая тоже любила меня, но я должен был ее покинуть. — Почему? — Не знаю. Можно было бы сказать, что она была окружена вооруженными мужчинами, которые выставляли свои пики наружу. Несколько раз, когда я к ней приближался, я напарывался на их острия, был ранен и вынужден был отступить. Я очень страдал. — Была ли виновата девушка? — Не думаю, или, скорее, я в этом не уверен, поскольку предшествующее сравнение неполное. Я тоже был окружен вооруженными людьми, которые направляли свои копья вовнутрь и против меня. Когда я хотел приблизиться к девушке, я наталкивался сначала на копья моих вооруженных людей и уже был остановлен. Возможно, мне никогда и не удавалось дойти до вооруженных людей девушки, а если когда и удалось, то уже окровавленным моими воинами и потерявшим сознание. — Осталась ли девушка одна? — Нет, к ней приблизился другой, не встретив ни трудностей, ни препятствий, в то время как я, изнуренный своими усилиями, равнодушно смотрел, словно был воздухом, сквозь который сближались их лица, чтобы слиться в поцелуе».
Милена появляется также и в других рассказах, еще более завуалированная, странным образом соединенная с образом смерти, ибо погребальные темы изобилуют в созданных той осенью рассказах. Рассказчик представляет себя в поставленном вертикально гробу; в качестве приглашенного других мертвецов он входит в могилу, где его принимают два персонажа: старик, представляющий, похоже, отцовскую власть, и девушка, являющаяся его гидом. В другом тексте рассказчик входит в лодку, в которой вскоре угадывается челн Харона: ею управляет человек с длинной белой бородой; как привратник в «Процессе», он здесь лишь для одного клиента — рассказчик будет его последним пассажиром, он его называет своим ребенком и просит, чтобы к нему обращались «отец». И далее: «Странно, — говорю я, — а где же мама?» — «Там, — отвечает он, — в хижине». Я приподнялся и увидел в маленьком круглом оконце хижины, построенной посреди причала, вытянутую руку, изображавшую приветствие, и заметил крепкое лицо женщины, обрамленное черной кружевной шалью. «Мама?» — спросил я, улыбаясь. «Если хочешь», — сказала она. «Но ты намного моложе отца», — сказал я. «Да, — ответила она, — намного моложе, он мог бы быть моим дедушкой, а ты моим мужем». — «Представь, — сказал я, — так удивительно неожиданно встретить женщину, когда плывешь совсем один ночью в барке». В эти погребальные фантазии вторгается женский облик, сам по себе вписанный в пейзаж смерти, и читатель испытывает искушение увидеть в нем черты Милены.
Другие рассказы 1920 года выводят на сцену мифологические образы. Повествование о некоторых из них выдержано в саркастическом тоне. Так, Посейдон устал от управления вселенскими водами; подобно Буцефалу в рассказах 1917-го года, сделавшемуся адвокатом в суде, он стал бухгалтером, и вся рутинная обыденность приводит его в отчаяние. В другом рассказе, написанном в форме диалога, тот же самый бог, который некогда господствовал над бурями и океанами, превратился в дряхлого и грязного старика, которого угощают стаканом пива в кабаре. У него отобрали власть, вместо него правят другие, которые оставили ему лишь видимость могущества — в сегодняшнем мире боги мертвы или почти мертвы. И, чтобы развеять сомнения в этом, другой рассказ в форме диалога описывает гнусный дом Господа Бога: он живет в полном подчинении двух своих жен — Рези и Альбы, одетых в какое-то грязное тряпье, занятых лишь едой и беспрерывно ссорящихся из ревности либо от скуки. Впрочем, в этих размышлениях дело не ограничивается лишь сарказмом: если боги сегодня — всего лишь смехотворные марионетки, то не исключено, что в какой-то мере в этом повинны и мы. Именно об этом свидетельствует история Вавилонской башни в рассказе «Городской герб». Если башня действительно не была построена, произошло это не потому, что Бог захотел наказать людей за гордость, но лишь потому, что люди вскоре забыли о сути своего замысла. Они отложили работу на будущее и занялись строительством рабочих жилищ и украшением города; а когда подросло второе или третье поколение, «здравый смысл» настолько восторжествовал, что все согласились с бессмысленностью штурма неба — люди забыли главное. Может быть, поэтом является тот, кто призван избавлять людей от забывчивости и бодрствовать, когда другие спят, — похоже, об этом говорит маленький текст, которому издатели после смерти Кафки дали название «Ночью». Пока все племя спит в пустыне «под холодным небом, на холодной земле», предаваясь иллюзии, будто пребывает под кровом, находится человек, который бодрствует: «А ты бодрствуешь, ты один из стражей и, чтобы увидеть другого, размахиваешь горящей головешкой, взятой из кучи хвороста рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен». Так Кафка снова находит для себя смысл жизни и свое предназначение. В 1918 году он ухе писал: «Я есть цель или начало». Теперь он видит себя стражем в ночи, он принадлежит к тайной когорте стражей, которые общаются друг с другом, размахивая горящими головнями. Из глубочайшего сомнения вдруг появляется надежда, свет. Но только на мгновение. Перечитывая написанное несколько дней спустя, он саркастически замечает», «Сторож! Сторож! Что ты сторожишь? Кто тебя нанял? Одна-единственная вещь — твое отвращение к самому себе — делает тебя богаче мокрицы, лежащей под старым камнем и бодрствующей».
И эти сомнения в самом себе удваиваются размышлениями о правде и о языке, которые в это время он оставляет не в «Дневнике», совсем заброшенном в данный момент, но на разрозненных листках, изредка датированных, которые были найдены грубо связанными в несколько пачек. Любая речь, пишет Кафка, является ложью: «Человечество переполнено речами задолго до того, как оно себя помнит, а с другой стороны, речь возможна лишь там, где хотят солгать». Несомненно, где-то существует страна, где все приходит к согласию, где исчезают любые противоречия, где все вещи плавно растворяются одна в другой. «Я знаю, что эта страна где-то находится, я даже вижу ее, но я не знаю, где она, и не могу приблизиться к ней». Кафка лишь повторяет здесь мысль, которая господствует в его сознании, а именно, что, конечно же, существует цель, но нет к ней дороги. Но он делает еще один шаг: с тех пор как говорят, могут лишь лгать: «Признание и ложь идентичны. Лгут, чтобы мочь признаваться. То, что ты есть, нельзя выразить, поскольку это действительно то, что ты есть: нельзя сообщить то, чем ты не являешься, то есть ложь». И жизнь служит лишь для того, чтобы без конца обходить этот неприступный центр, этот недостижимый Синай; жизнь есть нечто иное, она как развлечение, которое непрерывно заставляет забывать о главном, так что даже не отдаешь себе в этом отчет (этот урок уже содержался в маленьком рассказе о сооружении Вавилонской башни). Но, по правде говоря, стоит ли об этом жалеть? Не является ли ложь единственным убежищем? Будем ли мы способны, если оно исчезнет, смотреть на правду, без того чтобы не обратиться в соляные статуи? И на повороте фразы появляется мысль, к которой Кафка вернется и которую разовьет два года спустя. Правда, которую мы ищем и которая бежит от нас, может быть несомненно достигнута лишь «в хоре», когда она станет связью, «религией», которая избавляет человека от его одиночества и воссоздает общество. В 1922 году в «Исследованиях одной собаки» он напишет: «Для начала я решил исследовать вопрос о том, чем питается собачье племя. Вопрос, если угодно, не из простых, верно и то, что он занимает нас с древнейших времен, это коренной вопрос нашей мысли, развитой и подкрепленной в бесчисленных опытах, наблюдениях и версиях, из коих сложилась целая наука, которая в своих непостижимых параметрах и притязаниях давно уже превзошла возможности всех отдельно взятых ученых и в своей целокупности может быть воспринята лишь всем собачеством совокупно». Причина несчастья — это, несомненно, отсутствие этой связи, коллективное забвение самого существенного.
Таковы были блуждания Кафки в последние месяцы 1920 года. Но неожиданно все прерывается почти на целый год. Здоровье вынуждает его покинуть Прагу. После недолгих колебаний он в декабре выбирает Татранские Матлиары, санаторий, расположенный на высоте 900 м в Татрах. Это не совсем санаторий, в том смысле что там принимают также и простых туристов, особенно в лучшее время года. Однако в нем находятся и серьезные больные. Со времени своего первого легочного кровотечения в 1917 году Кафка никогда не обманывался насчет серьезности своей болезни. Однако до сих пор он мог не думать постоянно о ней. В Цюрау он жил в деревне вместе со своей сестрой, туберкулезные проявления были еще легкими, он освободился от ада своих отношений с Фелицей; он всегда будет говорить об этих нескольких месяцах, если вспомнит, как о привилегированном времени, когда он испытывал «счастье в несчастье» В Шелезене или в Меране он по-прежнему ведет, несмотря на скуку или озабоченность, спокойное существование выздоравливающего. Теперь же, в Матлиарах, он противостоит болезни. Заведение, в котором он остановился, — о нем он, впрочем, отзывается как о комфортабельном и приятном — является настоящей «волшебной горой», где царят, как в романе Томаса Манна, бесстыдство и эксгибиционизм болезни. Именно об этом он пространно рассказывает в письме Максу Броду, описывая свой визит в соседнюю палату, в которой пациент изощряется с помощью устройства маленьких зеркал направлять солнечные лучи себе в гордо, чтобы прижигать язвы гортани. Охваченный ужасом, Кафка едва не теряет сознание. В другой раз он пишет: «Если бы я был здоров, туберкулез другого меня бы очень смущал, не только из-за всегда возможного заражения, что бы об этом ни говорили, но в основном из-за того, что эта постоянная болезненность грязна. Контраст между выражением лица и легкими грязен, все — грязно. Я не могу без отвращения смотреть, как плюют другие, а я сам даже не имею, как это положено, плевательницы». Однако со временем он проникается духом заведения до такой степени, что начинает шутить о своей болезни и пишет сестре Оттле об открытии нового способа лечения туберкулеза, который состоит в применении принципов относительности Эйнштейна: достаточно отправить больных на корабле в направлении, противоположном вращению Земли, чтобы легочные очаги зарубцевались. Это была всего лишь первоапрельская шутка, о которой не стоило бы здесь упоминать» если бы она не свидетельствовала об определенной эволюции его отношения к своей болезни. Впрочем, чувствует он себя не очень хорошо. Правда, он прибавляет немного в весе, но все же жалуется однажды на простуду, второй раз — на нарыв, еще раз — на кишечное расстройство. Вначале предполагалось, что он пробудет в Матлиарах лишь два месяца, но ему придется остаться там восемь полных месяцев — с декабря 1920 по август 1921 года. Он вынужден постоянно испрашивать у Агентства продления своего отпуска и поручает то Оттле, то даже Максу Броду обращаться к директорам. Кафка хотел бы по меньшей мере быть переведенным на полставки, но Агентство сохраняет ему полную ставку, что он рассматривает как милостыню и принимает ее с неудовольствием.
Пребывание в Матлиарах свидетельствует, несомненно, о возвращении в пустыню. Кафка не только не пишет, но он перестал страдать от этого бесплодия, в его письмах нет упоминаний ни о какой литературной продукции. Читает он мало, и то лишь Библию: «Дорогая Минца, — пишет он девушке, с которой познакомился два года назад в Шелезене и с которой поддерживает дружескую переписку, — прошло столько дней /…/, я не могу даже их сосчитать и не способен рассказать о том, что случилось за этот промежуток времени. Вероятно, ничего: я не помню, например, чтобы за это время прочитал хотя бы одну настоящую книгу; напротив, я вынужден был часто оставаться распростертым в полном оцепенении, подобном оцепенению, которое я с удивлением замечал у моих дедушки и бабушки, когда был ребенком». И немного спустя — Максу Броду: «Дни снова прошли в усталости, в ничегонеделании, в созерцании облаков, да еще в неприятностях». Он испытывает чувство вечной недостижимости зрелого возраста и сравнивает себя с греком, который попал в Трою в результате отцовского пинка в зад, ничего не понимая ни в том, что с ним произошло, ни в исторических судьбах, которые разыгрываются вокруг него: едва прибыв, «он уже лежит с остекленевшими глазами, если не в троянской пыли, то на подушках шезлонга». Покорно погружается он в банальную повседневность. «Это не одиночество, — пишет он Максу Броду, — отнюдь нет, это полукомфортабельная жизнь, по меньшей мере внешне, и я нахожусь в постоянно обновляющемся кружке чрезвычайно любезных людей; безусловно, я не тону у них на глазах и никто не обязан меня спасать, а они тоже имеют любезность не тонуть». Впрочем: «Это закрытый мир, гражданином которого я являюсь; здесь то же самое, что и в дольном мире, который обычно не покидают, пока за вами не прилетит ангел».
В этой атмосфере оцепенения и забвения он однажды обращается к Максу Броду с размышлением о немецком языке, на котором пишут еврейские авторы, чьи произведения, к несчастью, часто цитируют. Он только что прочел «Литературу, или Еще посмотрим», «магическую оперетту» Карла Крауса. Кафка относится с определенным уважением к знаменитому сатирику, несмотря на то что тот был заклятым врагом Макса Брода и особенно Франца Верфеля. Клаус, богемский еврей, превратившийся в ожесточенного антисемита, отказывал евреям в возможности писать когда-нибудь на правильном немецком — полемический выпад, абсолютно нелепый, если принимать его буквально. Но Кафка принимает его целиком всерьез и даже ищет доводы в его пользу. Причина кроется в том, что он простирает рассуждения Карла Крауса далеко за пределы литературы: в действительности он подвергает сомнению возможность ассимиляции евреев. Больше чем когда бы то ни было он сомневается в ее желательности или даже возможности. Его сестра Оттла, кстати, настаивает, чтобы он покинул Агентство и эмигрировал в Палестину: она пока не услышана, но палестинская мечта, несмотря ни на что, начинает его неотступно преследовать.
В матлиарской пустоте единственным заметным событием для Кафки была встреча с Робертом Клопштоком, двадцатиоднолетним студентом-медиком, «здоровым белокурым парнем, крепким, коренастым, с розовыми щеками». Видя его лежащим в постели с взъерошенными волосами и лицом подростка, можно подумать, будто он вышел из сказки Гофмана. Это будапештский еврей, антисионист, больше интересующийся Иисусом и Достоевским, чем еврейскими проблемами. Между Кафкой и Клопштоком, который отныне и до конца останется самым чутким и преданным спутником писателя, устанавливается горячая дружба. Они беседуют о религиозных вопросах, Кафка заставляет его прочитать Кьеркегора. И в письме, которое он ему адресует, он оказывается перед необходимостью уточнить свою собственную мысль — выше уже был сделан краткий намек на этот пассаж: время живой веры прошло, и мы, поглощенные повседневной рутиной, более не достойны ее. Кьеркегор говорит о жертвоприношении Авраама, но что произошло бы сегодня, если бы Бог призвал нового Авраама? Этот Авраам тоже пошел бы туда, куда ему укажут, он тоже был бы полностью готов принести жертву, которой от него потребуют, но только в том случае, если поверит, что здесь нет ошибки и что речь, безусловно, идет о нем, ужасном на вид старике, и его сыне, оборванном парне. Он себя чувствует посмешищем, над ним будут смеяться, и эта насмешка сделает его еще более отвратительным, а его сына еще более грязным. Кафка похож на этого Авраама: в нем совершаются таинственные движения, которые он едва понимает, рождаются чаяния, которые ему не удается полностью осознать. Никакой другой текст не передает лучше, что собой представляли эти религиозные размышления — краеугольный камень сознания Кафки. Необходимо процитировать его полностью: «Я никогда не был неверующим в этом смысле (предшествующий фрагмент письма, к несчастью, утерян), но удивлен, обеспокоен, в голове столько вопросов, сколько мошкары на этой лужайке. Я примерно в той же самой ситуации, что цветок рядом со мной, который не слишком хорошо себя. Чувствует, который, конечно, тянет головку к солнцу — кто бы поступил иначе? — но который полон тайного беспокойства по причине болезненно проистекающих в его корнях и его соке явлений; там что-то случилось, там продолжает происходить, но он получает лишь смутные новости, болезненно смутные, и он не может тем не менее наклониться и разрыть почву, чтобы посмотреть туда, и ему остается вести себя, как другие, и держать высоко головку, что он и делает, но делает с усталостью и безразличием».
Этот вид религиозных размышлений по-прежнему остается подспудным. Но то, что постоянно находится на первом плане, что является вполне осознанным — это страх. Однажды он сравнивает себя с человеком, который, пожелав поплавать в открытом море, внезапно оказался среди волн и испытал ужасный страх. Этот страх, кажется ему, так основательно связан с его натурой, что он перестает теперь обвинять своего отца, как делал еще два года назад. Что значит эта ссора перед лицом такой очевидности? Его отец вел себя по отношению к нему совсем как старший брат, который, несомненно из ревности, пытается смутить слегка своего младшего брата в борьбе, которую тот ведет. Написав эту фразу, Кафка останавливается: «Сейчас наступила настоящая ночь, как и надлежит для крайнего богохульства». Ибо теперь он наполовину простил своего отца, который в то же время, когда он его обвиняй, был последней отдушиной, последней маской, отныне он может обвинять лишь самого создателя. Кафка знает об опасностях болезни, от которой он страдает, вот почему он делает все возможное, чтобы лечиться. Но он также знает — ведь это библейское, пишет он, что, «тот кто не может в полной мере ощутить дыхания творческой жизни, будет болен в любом деле».
Когда Макс Брод однажды спрашивает его, чего он боится, то Кафка отвечает: «Я боюсь многих вещей, но в земном плане я особенно боюсь оказаться неспособным, физически и духовно, нести бремя другого существа, поскольку мы почти едины, то лишь страх вопрошает: «Как? Может ли быть правдой, что мы почти едины? Затем, когда этот страх сделал свое дело, то он становится страхом неопровержимым, невыносимым, укорененным почти до глубины души».
Теперь страх имеет имя, и имя это — Милена. Он сожалеет не об отсутствии любви, а напротив, об опасностях разделенной любви: «Я люблю ее, — пишет он где-то, — и не могу с ней говорить, я ее выслеживаю, чтобы с ней не встретиться». В письме Максу Броду он анализирует свое внутреннее препятствие, о котором любой наблюдатель, по правде говоря, давно догадался: он может желать лишь женщин, которых не любит. «Я могу, из достоинства, из гордости (ибо каким бы смиренным он, западный еврей, привыкший гнуть хребет, ни казался, он горд), я могу любить лишь то, что могу поставить так высоко над собой, что оно становится для меня недоступным». Кстати, в своей слабости он обвинял упадок или вырождение западных евреев. Теперь же он обвиняет целиком эпоху: это она породила «болезнь инстинкта». Те, жизненная сила которых крепка, могут к ней приспособиться, но другие, к которым принадлежит он, находят свое спасение лишь в бегстве. Но бежать, чтобы — что спасать? Кафка отвечает: «Не всегда бегут, чтобы спастись. Пепел, который ветер сдувает с костра, улетает не для того, чтобы спастись».
Как бы там ни было, он предпринимает все, чтобы не встретиться с Миленой. Когда проходит слух, что она приедет лечиться в Татры, он охвачен страхом и собирается переехать. К счастью, она выбирает для себя место на другом краю массива, и опасность на сей раз предотвращена. Кафка возвращается в Прагу в конце августа 1921 года и тотчас же приступает к работе в Агентстве.
Но тут, вопреки всяким ожиданиям, Милена примиряется с отцом и переезжает жить к нему в Прагу. Встреча неизбежна. Кафка и Милена видятся в сентябре — начинается новая глава.
XVIII
Вокруг «Замка»
«Эта слабость удерживает меня как от безумия,
так и от любого взлета. За то, что она
удерживает меня от безумия, я лелею ее;
из страха перед безумием я жертвую взлетам».
Милена обещала больше не писать, но она не давала обещания больше не встречаться с Кафкой, так что они, несомненно, виделись в течение сентября. 15 октября он записывает, что вручил ей неделей раньше двенадцать или тринадцать толстых тетрадей своего «Дневника». Она будет первой, кто его прочтет — даже Макс Брод познакомится с ним лишь после смерти Кафки. Трудно представить большее свидетельство доверия, поскольку в «Дневнике» он показывает себя голым, невзирая на дружбу, невзирая на обычную языковую сдержанность. Да и что он может, по правде говоря, скрыть от нее, чего бы она уже давно не поняла? Тем не менее однажды в январе 1922 года он напишет: «Может быть, ты нашла в дневниках что-то, что решающим образом говорит против меня».
И вдруг Кафка снова берется за «Дневник», заброшенный уже несколько лет. Однако он знает, что уже не сможет больше быть таким, как в прошлом: «Способен ли я еще, — пишет он, — вести нечто вроде «Дневника»? Во всяком случае это будет нечто другое, скорее всего он забьется куда-нибудь, вообще ничего не будет». Кафка не только будет интересоваться внешними событиями, но он перестанет также заниматься самоанализом.
Так давно, записывает Кафка, он понял, кто он есть: «Я уже не столь забывчив, как раньше, я стал живой памятью». И добавляет: «отсюда и бессонница». И однако последние страницы «Дневника», написанные между осенью 1921 года и первыми днями лета 1922 года, являются, по всей видимости, самыми глубокими и самыми прекрасными. Едва касаясь текущих событий, они, напротив, содержат самые проникновенные отрывки, когда-либо написанные Кафкой, самые ценные его автопортреты.
Возвращение Милены приносит ему больше страданий, чем счастья. Больше чем когда бы то ни было он размышляет над препятствиями, которые не позволяют ему принять предлагаемую женскую дружбу. Ничего в сущности не изменилось, ничего никогда не меняется, каждый миг есть лишь начало, и даже не начало, а скорее, пустое повторение. Как же наивны те, которые все еще думают, что можно «преуспеть». Уже давно Кафка развеял эти иллюзии. «Вечное детство. Снова зов жизни», — записывает он 18 октября 1921 года. Когда он видит счастливые пары, он едва ли теперь ям завидует: ему хорошо известно, что даже в самом благоприятном случае, даже в лоне одного из этих счастливых союзов он сможет испытывать лишь отчаяние. Он знает, что причина его несчастья заключается не в невезении, ибо он сам его искал: он сам себя разрушал в течение многих лет, подобно тому, пишет он, как медленными, но ежедневными умышленными действиями подготавливается разрушение плотины.
Он дал своему телу разрушиться. Несомненно, в основе его желания держаться подальше от развлечений, заполняющих жизнь других людей, лежало полубессознательное стремление, но он не мог себе представить, что болезнь и отчаяние могут в такой же степени отвлекать от основного. Он сознательно разрушил равновесие и душевное спокойствие, безусловно, думает он, чтобы легче укрыться от этого мира, в котором отец не позволял ему жить. Так что в самом начале им самим была допущена ошибка, за которую сегодня он получает наказание. Но к чему теперь корпеть над приобретениями и ошибками? «У жизни, — пишет Кафка, — столько бесконечно сильных доводов, что в ней не остается места для справедливости и несправедливости. Как нельзя рассуждать о справедливости или несправедливости в преисполненный отчаяния смертный час, так нельзя рассуждать о них и в преисполненной отчаяния жизни».
Но эти мрачные слева не единственные, написанные Кафкой в та месяцы. Краткое присутствие Милены снова оказалось живительным. О» стряхивает с себя отвратительное: оцепенение, которому поддался в Матлиарах. Он не довольствуется стенанием над своей судьбой и взвешиванием своей части ответственности! Он живет в несчастье, и это неправильно. Но почему само несчастье не может быть плодотворным? «Какой бы жалкой ни была моя первооснова, и пусть даже она самая жалкая на земле, я все же должен, хотя бы в своем духе, пытаться достичь наилучшего; говорить же: я в силах достичь лишь одного, и потому это одно и есть наилучшее, а оно есть отчаяние, говорить так — значит прибегать к пустой софистике». Эти слова он пишет 16 октября 1922 года, и снова 27 января 1922 год»: «… бывает из ничего появляется нечто» — и в качестве примера он приводит своего «Сельского врача, в котором из заброшенного свинарника вылезает кучер с лошадьми. Надежда эта, конечно, никогда не обретает устойчивости, ее затуманивают неясные фразы, посредством которых Кафка вновь возвращается к мысли о том, что «присущая ему сила, негативная для него самого, не может быть достаточной». Но не это важно: начинающийся теперь после всех лет молчания и сомнений период станет одним из плодотворнейших в его жизни, столь сотрясаемой осложнениями и кризисами.
С тетрадями «Дневника» на руках Милена покинула Прагу в октябре. Возвращается она сюда в декабре, встречается с Кафкой четыре раза и затем вновь уезжает. Печалит ли Кафку ее отъезд? Он задается этим вопросом. Нет, это не печаль, или, скорее, да: его печаль бесконечна, но не она самое худшее. Несмотря на свои неудачи, он продолжает бороться — и не важно, несет ли свет во мраке имя Милены или какое-то другое, он не хочет отчаиваться. Он ищет примеры надежды в среде немощи и скорби: старик, улыбающийся своему внуку беззубым ртом; умирающий писатель Раабе, говорящий своей жене, которая гладит его лоб: «Как хорошо».
Но испытание оказывается более тяжелым, чем он предполагал, и в начале января 1922 года он оказывается в самом тяжелом состоянии. Кафка переживает такой нервный срыв, каких раньше не бывало. Он сам намекает на подобный криз, имевший место двумя годами раньше, то есть перед отправлением в Меран в 1920 году, но тогда он не вел дневник и событие прошло незамеченным. Он полностью теряет сон и, конечно же, отказывается от каких бы то ни было снотворных. Родители обеспокоены, они консультируются у врача, который в очередной раз предписывает пребывание в горал Агентство, благожелательность которого остается прежней, тотчас же предоставляет ему отпуск. Однако он уедет только в конце января и в оставшиеся до отъезда недели записывает несколько размышлений. Почти все они вращаются вокруг тем одиночества и безбрачия. Безбрачие — это ежедневно возобновляемая пытка, неизлечимая болезнь: кажется, что в любой момент можешь от нее избавиться, однако не избавляешься. Можно сказать, ежедневно возобновляемое решение. «Сизиф, — пишет Кафка, — был холостяком».
Но в эти же месяцы вновь появляется тема, которая казалась почти забытой. В один из январских дней 1922 года Кафка отмечает: «Спокойствие понемногу возвращается. Но в отместку прибывает G.». По поводу этого инициала, который, похоже, не соответствует ни одному из известных имен, задавались вопросы, пока один из комментаторов не выдвинул гипотезу о том, что речь могла идти о первой букве слова «Geschlecht» — пол. Мысль допустимая и даже правдоподобная. В самом деле, Кафкой неожиданно овладевают желания, которые его «гнетут, мучают днем и ночью». Письмо Максу Броду описывает отдыхающих женщин с одутловатым и набрякшим от воды телом, которые через каждые десять шагов поправляют свои туалеты, одергивая их на грудях, подобно тому, как мужчины одергивают свои жилеты; можно подумать, пишет Кафка, высокочтимые красивые грибы. Рядом с ними деревенские женщины, сухопарые и крепкие, высушенные непогодой, работой и заботами, — именно к ним с большим удовольствием обращается его взгляд. Эта странная смесь отвращения и желания, о которой здесь говорится, по правде говоря, коренится в прошлом. Он так описывает плоть, которая, похоже, обречена хранить свою свежесть всего лишь несколько дней: «в действительности она сохраняется достаточно долго /…/; значит, нужно, чтобы человеческая жизнь была короткой для того, чтобы эта плоть, к которой едва осмеливаешься прикоснуться из-за ее хрупкости, из-за ее округлостей, как будто созданных, чтобы продлить мгновение /…/, нужно, чтобы человеческая жизнь была короткой, чтобы такая плоть сохранялась большую часть жизни». В 1905 году он уже писал по поводу платьев, которые носят девушки: они скоро приобретут «складки, которые нельзя будет разгладить, пыль набьется в самую глубину гарнитуры /…/. И тем не менее есть девушки красивые, впрочем, девушки с чудесной мускулатурой, с тонкими лодыжками, с нежно упругой кожей, с волной пушистых волос, которые ежедневно натягивают на себя этот вечный маскарадный костюм /…/. Лишь иногда по вечерам, поздно возвратившись с какого-нибудь праздника, они обнаруживают в зеркале свое потрепанное, одутловатое, запыленное лицо, слишком много видевшее и вряд ли возбуждающее желание».
Как видим, впечатление давнее и внутренний конфликт застарелый. Но в этот поздний период физическая слабость, периодическое присутствие Милены, непрошеное возвращение либидо приводят к тому, что старые проблемы неожиданно приобретают крайне острые формы. Кафка подводит итог своей жизни: он испытывает чувство, что все испортил, что ему не удалось жить настоящим, кроме, может быть, единственного раза в Мариенбаде, когда он думал, что ему на несколько дней удалось достичь взаимопонимания с Фелицей Бауэр. Это секс является причиной всего, он пренебрег этим ценнейшим из всех даров. Может быть, для этого нужен был случай, какой-нибудь пустяк? Но каким образом может утешить подобное соображение? «Так было во всех крупных битвах жизни». Всегдашний страх увел его от жизни. Его грех заключается в уклонении от исполнения предписанного Законом и в бессилии. Он тот, кто не может любить, тот, кто постоянно слышал: «Ты не можешь меня любить как бы ты того ни хотел; ты, на свою беду, любишь любовь ко мне; любовь ко мне не любит тебя». «Поэтому неправильно говорить, будто я познал слова «Я люблю тебя». Я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова: «Я люблю тебя», только это я познал, ничего другого». Он приблизился к Ханаану, но так в него никогда и не вошел. По правде говоря, случайно ли это? Случайно ли, что даже Моисей не ступил туда ногой? Может быть, Земля обетованная не больше чем мираж, не больше чем «химера отчаяния»? Не подобна ли она той близкой деревне, описанной в рассказе 1917 года, такой близкой и однако такой далекой, что не хватает всей жизни, чтобы ее достичь? Может быть» это его особенная судьба? А может быть, судьба всей эпохи, выразить которую он был подготовлен лучше любого другого своими страданиями? Или, может быть, это извечная судьба рода людского?
Как в этом предельном напряжении можно избежать безумия? Кафка не впервые задает себе этот вопрос, но, вне всякого сомнения: он никогда не был более оправданным, чем в зимние месяцы 1922 года. Впрочем, Кафке, который постоянно пребывал в борьбе с неврозами, безумие никогда не угрожало. И он это хорошо знал. Возможно, он был защищен от него самой своей слабостью, «смесью робости, сдержанности, болтливости, безразличия», которая, по его мнению, играет здесь ключевую роль: «Эта слабость удерживает меня как от безумия, так и от любого взлета. За то, что она удерживает меня от безумия, я лелею ее; из страха перед безумием я жертвую взлетом». Он расценивает это как сделку, в которой он, несомненно, останется в проигрыше.
Но есть также другое обстоятельство, защищающее его от безумия, обстоятельство, отличное от аргументов, которые внушает ему ложное уничижение. Он мог бы быть раздавлен на границе между обычным миром, в котором живут другие и из которого он сам изгнан, и «другим миром», предназначенным для него. Этого не случилось, потому что ему был предоставлен выход или побег, каковым является литература. Литература, говорит Кафка, привилегированное место, которое позволяет смотреть на мир более свободно, как будто оказался на мгновение защищенным от житейских бурь и жестокости; она доставляет «странное и таинственное утешение». Но какой ценой! Тому, кто не сумел подойти к своему концу, прожив полноценную жизнь, приходится одной рукой отталкивать отчаяние и в то же время другой держаться за то, что еще удается различить посреди руин, ибо он мертв, добавляет Кафка, живой мертвец, он старается лишь пережить самого себя. Сочинительство — данник любой случайности мира: оно зависит от горничной, которая приходит, чтобы затопить печь; от кошки, которая хочет на ней погреться. Весь внешний мир повинуется строгим законам, которые им управляют, но чему повинуется сочинительство? Оно не имеет ни независимости, ни оправдания в самом себе, оно всего лишь «игра и отчаяние». И, конечно же, туберкулезник может не писать: «удушье является немыслимым ужасом», он может даже испытать что-то вроде счастья, сочиняя эту фразу, но она не поможет избежать удушья, она ничему не служит. Так что в обмен на все, в чем было отказано Кафке — предки, брак, потомки, — он получил лишь «искусственную и жалкую компенсацию». Эта компенсация создается лишь в спазмах страдания, и «если уже не погиб от этих спазмов, погибаешь от удручающей бедности утешения». Тем более, что никогда не решаешься полностью забыть другой берег, берег жизни, откуда изгнан и где страдание было бы не меньшим: «Но зачем же, — спрашивает он, — я увеличиваю несчастье, стремясь попасть на другой берег, когда нахожусь на этом берегу?» Таким образом, литература одновременно является спасением и мукой. «Я живу, — пишет он Максу Броду, — над тьмой, из которой поднимается, когда захочет, темная сила». Его заставляет жить литература, и когда он не может писать, его страдания становятся сильнее, но что представляет та жизнь, которая дает ему возможность писать? Что компенсирует литература, даже если временами он находит в ней «сладкую и чудесную награду»? «Этой ночью мне стало ясно, как ребенку, которому все показали наглядно, что это награда за служение дьяволу». Демоны, в естественном состоянии связанные, в творчестве освобождаются от своих пут и начинают его мучить. Возможно, существует иная манера письма, но Кафка знает лишь эту, подтверждаемую ежедневным опытом. И не потому что эта литература обнажает (представляет) незнаемый или неизвестный ад, Кафка безоговорочно отказывает ей в этой способности. Он принимает ее лишь потому, что она дает пишущему возможность поддерживать нездоровые отношения с самим собой. Творчество, как его понимает Кафка, берет свое начало в тщеславии и жажде наслаждений. Пишущий всматривается в то, как он живет и умирает, и из этого спектакля извлекает наслаждение. Он подобен человеку, который хочет умереть и одновременно воспользоваться этим, чтобы увидеть, как будут проливать слезы на его могиле. Поскольку он не жил, он вдвойне испытывает страх смерти. «То, что казалось мне игрой, оказалось действительностью. Творчеством я не откупился. Всю жизнь я умирал, а теперь умру на самом деле. Моя жизнь была слаще, чем у других, тем страшнее будет моя смерть. Писатель во мне, конечно, умрет сразу, ведь у такой персоны нет никакой почвы, нет никакого состояния, пусть хотя бы состоящего из праха; есть лишь небольшой шанс в безумнейшей земной жизни, есть лишь конструкция жажды наслаждений. Это и есть писатель. Но сам я не могу жить дальше, потому что я ведь и не жил, я остался глиной, я не превратил искру в пламя, а испытывал ее лишь для иллюминации собственного трупа». И далее: «Это будет особенное погребение, писатель, то есть нечто несуществующее, предает старый труп, давно уже труп, могиле». Эти горькие размышления относятся к июлю 1922 года. В том же письме немного дальше Кафка пишет: «Таким образом, решено, что больше я из Богемии не выезжаю, вначале я ограничусь Прагой, потом своей комнатой, а потом своей кроватью, потом определенным положением тела, потом и вовсе ничем. Может быть, потом я добровольно /…/ смогу отказаться и от счастья писать». Он ошибается: он снова покинет Прагу, он даже осуществит свое давнее желание пожить в Берлине. Что касается его любви к наслаждению творчеством, которое остается его мукой, но также и единственным счастьем, он будет заниматься им больше, чем когда бы то ни было: он будет творить до своего смертного часа.
Немного раньше, в конце января 1922 года, Кафка отправился в Шпиндлермголе, местность в Гигантских горах, в сопровождении своего врача доктора О. Германна, к которому, кстати, он не испытывал особых дружеских чувств и которого рассматривал всего лишь как платного сопровождающего. Кафка катается на санях, возможно, даже пытается ходить на лыжах. В этом мало привычном окружении он чувствует себя потерянным, неспособным общаться с другими, чего он, впрочем, не хотел бы. У него даже складывается впечатление, что его боятся: Петер Шлемиль наоборот, он внушает страх как «человек со слишком большой тенью». Он страдает от одиночества и, однако, ничего так не боится, как расставания с ним. Если, например, к нему неожиданно приедет Милена, его престиж среди пансионеров отеля сразу же, вне всякого сомнения, возрастет, но он не сможет вынести рядом с собой ее присутствия. Так влачит он свои дни в Шпиндлермюле, мучимый бессонницей, подстерегаемый угрозой воспаления легких. Он остается там три недели, до середины февраля. Но в это же время, по всей вероятности, он принимается за работу над «Замком».
Затем Кафка возвращается в Прагу, где он останется с февраля по июнь. Однако он не в состоянии возобновить работу в Агентстве и вначале продлевает отпуск по болезни, затем использует пять положенных ему отпускных недель. В конечном итоге, поскольку состояние его здоровья продолжает ухудшаться, он выходит на пенсию в июне 1922 года, чего давно желал. Во время своего пребывания в Праге он несколько раз (в конце апреля, в начале мая, возможно также и в другое время) принимает Милену. Несмотря на туберкулез, развивающийся теперь ускоренными темпами, и нервные кризы, он продолжает творить: одновременно с «Замком» пишет «Голодаря» и немного позже «Исследования одной собаки».
К началу лета Оттла снимает в Плане, в южной Богемии, небольшой домик, чтобы провести там каникулы с дочерью Верой, которой в то время было чуть больше года. Ее муж Жозеф Давид приезжает к ним лишь на уик-энды. Кафка, который, несомненно, рассчитывает обрести здесь спокойные дни Цюрау, поедет с сестрой. И в самом деле месяцы эти окажутся приемлемыми: перед тем как покинуть в конце сентября Плану, он запишет в своих блокнотах: «Хороший период, которым я обязан Оттле». Дело не в том, что в Плане не было проблем, — деревенские дети играют под его окнами, а для него теперь невыносим любой шум; в июле его отцу оперируют грыжу и мать изнемогает, ухаживая за ним; Кафке приходится дважды прерывать свое пребывание в Плане для коротких поездок в Прагу. Нервные кризы учащаются, в Плане Кафка насчитывает их четыре. Тем не менее, когда Оттла собирается покинуть деревню, он в отчаянии от того, что надо уезжать; ведутся переговоры с квартирной хозяйкой, чтобы она могла какое-то время готовить ему еду. Но его ужасает перспектива одиночества. Как он объясняет в письме Максу Броду, одиночество — «его единственная цель, его самое большое искушение», но в то же время оно его устрашает, он пребывает в постоянном смятении между двумя страхами и неспособен сделать выбор. В конечном итоге переговоры с хозяйкой не увенчались успехом, и Кафка в сентябре возвращается в Прагу. С августа в процессе работы над «Замком» наблюдаются признаки усталости, похоже, автор не реализует свой замысел. Он записывает: «Литературное творчество отказывает мне. Из этого следует план биографического исследования. Не биография, но описание элементов как можно менее значительных». Идея автобиографии привлекала его уже неоднократно, но не похоже, чтобы в это время он взялся за осуществление замысла, если не считать таковым «Исследования одной собаки». Парадоксальность задуманного, естественно, не укрывается от него: она заключалась в том, чтобы из уже шатающегося дома взять несколько деталей для постройки нового, в результате чего рискуешь оказаться между двумя домами, один из которых наполовину разрушен, а второй наполовину построен. Это было бы похоже на «казацкий танец между двумя домами, когда казак каблуками своих сапог выбивает и расчищает землю до тех пор, пока под его ногами не образуется для него могила».
Тем не менее в течение 1922 года Кафка создал некоторые из своих главных произведений. Он опубликует лишь «Голодаря», о котором шла речь в предыдущей главе, и «Первое горе», который, однако, не принадлежит к его лучшим рассказам. «Замок», из которого он прочитал Максу Броду лишь первую главу, и «Исследования одной собаки» останутся незавершенными, затерянными в обширной массе неопубликованного. Произведения 1922 года легко отличить от работ предшествующих лет: в них отсутствует жестокость первых больших рассказов — «Превращения» и «В исправительной колонии», но они также отличаются от коротких текстов и изощренной прозы среднего периода (1916–1917). По меньшей мере «Исследованиям одной собаки» и «Замку» присущи свобода и размах. Подобно тому как в «Дневнике» писатель подводит итог своей жизни, скорый конец которой он предвидит, так и в поздних рассказах, похоже, Кафка торопится успеть все сказать. Это его самые честолюбивые, может быть, самые глубокие произведения, но им менее, чем другим, присуща забота о формальном совершенстве: в «Исследованиях одной собаки» перемежается и контаминируется множество замыслов, «Замок» предстает как сумма всех проблем и всех конфликтов, соединенных без особой заботы о развитии и цельности повествования. «Исследования одной собаки» — это прежде всего едва завуалированная автобиография. Собака, рассказывающая свою историю, заявляет, что, с тех пор как она себя помнит, у нее было ощущение, что она не такая, как другие: «что-то не во всем было ладно, что-то вроде трещинки имело место всегда»; она не особенно любила общаться с другими собаками; она испытывала нечто вроде легкой оторопи во время самых почитаемых церемоний своего народа. Мало-помалу она открывала, что среди собак господствует меньше общих убеждений, чем она считала вначале. И она принялась за поиски истины, которая однажды смогла бы объединить всех собак. Истина эта существует, каждая собака носит ее в себе, но в то же время старается ее не выдавать, как будто боится того, что, если эта истина когда-нибудь будет произнесена и открыта, она не сможет больше жить. Уже упоминалось об отрывке, в котором рассказчик пытается голодать, чтобы постигнуть эту неизвестную истину, и делает открытие, что нет никакого другого столь достойного осуждения нарушения закона, как аскетизм и отказ от жизни. В свободно льющейся рапсодии воспоминаний и проблем есть место и дружбе, и он рассказывает о визитах, которые он иногда наносит своему старому соседу. Комментаторы Кафки склонны узнавать в этом портрете черты Макса Брода. Собака-рассказчик любит постоянно зарывать свою морду в шерсть старого соседа, которая уже слегка пахнет старой содранной шкурой; он догадывается, что между ними существует глубокое согласие, более глубокое, чем то, которое может быть выражено словами. И однако он не уверен, что его понимают: «Он не отводит глаз, да только ничего-то в них не отражается, он лишь тупо глядит на меня, удивляясь, чего это вдруг я замолчал». Когда его старый сосед остается один, он слышит, как тот кричит и поет, потому что ему весело. «Хорошо бы, — заключает он, — прервать и это последнее знакомство, не поддаваться больше расплывчатым мечтаниям, которые неизбежно, как с ними ни борись, порождают всякое собачье общение, хорошо бы целиком посвятить исследованиям то немногое время, которое мне еще осталось». Затем собака-рассказчик упоминает о смерти: «Загнусь здесь ни за что ни про что, какие там исследования, детские шалости по-детски резвой поры, а вот здесь и теперь дело обстоит серьезно, здесь наука могла бы доказать свою ценность, но где же она тут? Ничего и нет, кроме жалкого пса». Однажды, когда он оказывается перед лужицей крови, которую он только что выхаркал, он видит перед собой прекрасную собаку-охотницу, которая предлагает ему уступить ей место. Вначале он протестует, но вскоре, поняв, что охотница уже запела чудесную песню, слышимую лишь им одним, умирающим, он уступает необходимости и «в бесконечном ужасе и стыде прячет морду свою в луже крови».
Автобиографические намеки в «Исследованиях одной собаки» многочисленны, но не они здесь главное. Сутью исследований собаки является связь — весьма заурядная, почти наивная — между земной пищей и манной небесной. Между собаками и землей существует предустановленный порядок: земля дает собакам необходимую пищу, собаки в свою очередь орошают ее, чтобы сделать ее плодоносной. Но есть также пища другого рода, зависящая от молитв, декламации, танца и пения. Это манна, которая, как говорят, иногда падает с неба. Именно эту другую пищу, неизвестно, дополнительную или основную, собака-рассказчик делает объектом своих научных изысканий. И кто знает, преуспеет ли она в своих исследованиях, если не докажет бесполезность и ненужность научных поисков?
Характер изложения в «Замке» очень напоминает «Исследования одной собаки». Книга эта одновременно грандиозная и смутная, поскольку Кафка собрал в ней все темы, занимавшие в то время его сознание. Обширный фрагмент, — но можно ли говорить о каком-то фрагменте, в то время как, похоже, для завершения произведения достаточно было добавить всего лишь один день к шести уже описанным? — был создан самое большее за восемь месяцев, и Кафка не дал себе труда ни закруглить углы, ни выявить силовые линии. Книге присущи погрешности и шероховатости, которые Кафка хорошо видел. И тем не менее все проблемы его жизни объединяются в этом произведении, в этом окончательном итоге. В романе изобилуют автобиографические моменты. Наименее подготовленный читатель, несомненно, узнает в отважной и великодушной Фриде черты Милены; Кламм, которого К., герой романа, однажды видит через замочную скважину курящим сигару, прежде всего Поллак, счастливый муж Милены; гостиница наверху в романе называется Herrenhof, что порой переводят то как Гостиница для господ, то как Гостиница вельмож, но Herrenhof было название кафе, которое особенно охотно посещал Поллак. А когда Фрида покидает К., чтобы следовать за Иеремией, одним из двух помощников, являющих собой воплощение отвратительной пошлости, биографический намек становится достаточно прозрачен. Выше уже отмечалось, что образ Пепи, которой посвящена последняя написанная глава, мог быть навеян Кафке воспоминаниями о Юлии Вохрьщек. В «Замке» наряду с эротическими темами можно обнаружить тему бремени труда, символизируемую здесь обязанностями школьного сторожа. Фрида и К. спят в классной комнате среди гимнастических снарядов — работа пожирает и разрушает личную жизнь. Есть здесь также и тема величия и нищеты писательского труда, воплощенная в образе Варнавы.
Но все это пока еще не главное в книге. Главное — это сам Замок, на самом деле представляющий собой совокупность ветхих строений, где живет господин, которого почти и не знают и о котором в деревне говорят не больше, чем об охотнике Гракхе в портах, где он останавливался. Кафка дает ему полугротескное имя — граф Вествест. Если бы он исчез совсем, возможно, в деревне, собственником и хозяином которой он остается, жилось бы лучше. Но его полуприсутствие действует как наваждение и парализует всех. Есть агностики, такие как неприятный и властный учитель, запрещающий произносить имя графа перед школьниками. Есть хозяйка постоялого двора «У моста», вера которой является всего лишь ностальгическим фетишизмом. Есть и другие, например, ее коллега из Гостиницы господ; она носит «вышедшие из моды тяжелые, изношенные, латаные платья, которые не подходят ей ни по возрасту, ни по фигуре», реликвии мертвого прошлого, поскольку настоящее не обрело еще своего смысла и своего языка. В начале романа К. вспоминает колокольню своего родного городка, которая отважно устремлялась в небо; замок же, напротив, представляет собой всего лишь нагромождение жалких домишек, почти не отличающихся от хижин внизу. И когда однажды он случайно или, скорее, по недоразумению встречается с одним из чиновников замка, которого зовут Бюргель, у него возникает ощущение, будто он во сне или каком-то кошмаре борется с неким посредственным греческим богом, которого не составляет никакого труда победить. Что представляют собой эти боги с человеческим лицом и что они могут нам принести, кроме неинтересных посланий, как правило, лишенных смысла? Настоящий бог — другой породы, он более грозен, но и более представителен, и именно потому, что он забыт, деревня погрязла в убожестве и печали.
Роман построен вокруг этих размышлений. Кламм не только счастливый муж Фриды. В книге, где все образы имеют двойной смысл, он также могущественный начальник десятого бюро, от которого зависит судьба К., его работа, его частная жизнь. К. тоже пытается попасть к нему. Конечно, безуспешно. Но что он может делать, если не искать Кламма? Что делает Кафка каждый вечер, когда садится за свой письменный стол? Писать — значит искать Кламма, без надежды, разумеется, когда-нибудь его найти, но во что превратилась бы его жизнь, если бы не эти поиски и это ожидание?
В этом большом и загадочном романе есть целая группа персонажей — Варнава и его семья, к которым плохо относятся в деревне, они из тех, с кем не дружат. Все предупреждают К., если он будет их навещать, он окончательно погубит свою репутацию и свои шансы, но только с ними ему хорошо и только к ним он испытывает доверие, он пренебрегает запретами и устанавливает с ними дружеские отношения. Писатель не может сказать о них более ясно: они евреи. Мог ли Кафка в этой книге, в которой он собрал все свои наваждения и все свои выстраданные убеждения, опустить еврейскую проблему? Эта та самая семья, которая однажды отказала в новой связи эмиссару из Замка. С тех пор она опозорена и отвержена. Кафка идет дальше: он изображает двух сестер, Амалию и Ольгу, в которых почти аллегорически воплощает две тенденции иудаизма: одна, Ольга, нарушает запрет, вращается среди людей Деревни или, как явствует из романа, она каждый вечер отдается слугам, часто посещающим буфет Гостиницы господ. Другая, Амалия, замыкается в своей гордости и в своем одиночестве, она отвергает компромиссы, затворяется в целомудрии и в суровости, посвящая себя целиком уходу за престарелыми родителями. В романе не делается выбора между судьбами двух сестер: одна жертвует собой и растрачивает свою жизнь, гордость другой способна внушить страх.
XIX
Дора
«…я чувствую себя не счастливым, но на пороге счастья.»
В сентябре 1922 года, когда Кафка возвращается из Плана в Прагу, он уже. лишь тяжелобольной и будет вынужден провести в постели большую часть зимы. Кстати, это период, о котором имеется мало сведений: он больше не ведет дневника, а корреспонденция редка. Найдено несколько писем Милене, написанных в осторожной манере и избегающих обращения на «ты» на тот случай, если они попадут в руки к Эрнсту Поллаку. Единственное письмо, позволяющее судить о его самых интимных чувствах, это письмо, которое имеет отношение к маленькому рассказу «Дьявол в семье», уже упоминавшемуся выше. В июне 1923 года Милена, будучи проездом в Праге, наносит ему визит — это их последняя встреча.
Семейная жизнь в этот период не лишена забот: после болезни отца, вдохновившей его на маленький рассказ, переводимый то под названием «Супружеская чета», то «Семейная сцена», серьезной операции теперь должна подвергнуться его мать.
И тем не менее, несмотря на эти малоблагоприятные обстоятельства, Кафка продолжает писать: «Тут надо сказать, — пишет он Клопштоку в марте 1923 года, — что между мной в Матлиари и в Праге есть все-таки разница. Меня за этот период проволокло через период безумия, после чего я начал писать, и это занятие жесточайшим для окружающих меня людей образом (невероятно жестоким, об этом я даже не говорю) превратилось для меня в самое важное на свете, каким бывает для сумасшедшего его безумие (если он его лишится, вот тогда он «сойдет с ума») или для женщины ее беременность». Он добавляет, разумеется, что страсть к сочинительству не имеет ничего общего с ценностью того, что он пишет, поскольку, продолжает он настаивать, оно ничего не стоит. Но в то же время литературная работа в его глазах столь священна, что он лихорадочно пытается сохранить одиночество.
Работая в крайне неблагоприятных условиях, он создает текст, который, несмотря на свою краткость, является наиболее важным из написанного зимой 1922–1923 годов: в нем осмысляются пределы литературы, а также немощь языка. Он озаглавлен «Об образах» (или «О символах», как предлагают некоторые переводчики[3]. «Многие сетуют на то, — пишет Кафка, — что слова мудрецов — это каждый раз всего лишь притчи, но неприменимые в обыденной жизни, а у нас только она и есть. Когда мудрец говорит: «Перейди туда», — он не имеет в виду некоего перехода на другую сторону, каковой еще можно выполнить, если результат стоит того, нет, он имеет в виду какое-то мифическое «там», которого мы не знаем, определить которое точнее и он не в силах и которое здесь нам, стало быть, ни чем не может помочь. Все эти притчи только и означают, в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако совсем над другим. В ответ на это один сказал: «Почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами бы стали притчами и тем самым освободились бы от каждодневных усилий». Другой сказал: «Готов поспорить, что и это притча». Первый сказал: «Ты выиграл». Второй сказал: «Но, к сожалению, только в притче». Первый сказал: «Нет, в действительности; в притче ты проиграл». Этот трудный и блестящий текст яснее, чем какой-либо другой, передает парадоксальный характер, который для Кафки имела литература: литература есть необходимый поиск (cheminement), но она неизменно доказывает лишь свою слабость. Истина, к которой она стремится, ускользает, ускользает, как ускользал Кламм от того, кто его искал, и однако К. в «Замке» не отказывается от поисков. Точно так же Кафка более чем когда бы то ни было отдается этому горькому занятию, этому неизменному опыту поражения. Этой суровой действительностью, похоже, готов был завершиться его путь, когда внезапно наметился неожиданный поворот.
С наступлением хорошей погоды в 1923 году Кафка мечтает снова покинуть Прагу. Поскольку в прошлом году он уезжал с младшей сестрой, на этот раз он решает отправиться со старшей сестрой, Элли, и ее детьми. Местом отдыха выбран Мюритц на Балтике. Для такого больного, как он, дорога длинна, кроме того, врачи не рекомендовали ему пребывание на берегу моря. Но случилось так, что эти шесть недель, которые он проведет в Мюритце, с начала июля по 6 августа, преобразят его жизнь. Немного раньше, в мае, он провел несколько дней отдыха в Добришовиче и оттуда снова написал Милене: «Во-первых, я страшусь расходов — тут так дорого, что остается лишь право провести здесь последние дни, предшествующие смерти, после чего отправляешься с пустыми карманами, и, во-вторых, я страшусь неба и ада. За исключением этого, мир принадлежит мне». В постскриптуме он добавляет: «В третий раз, с тех пор как мы знакомы, несколько строк от вас приходят ко мне в последний решающий момент, чтобы меня предупредить или успокоить, в зависимости от того, что пожелают». Несколько недель спустя в Мюритце это отчаяние внезапно рассеется.
Уже давно Кафка вел разговоры об эмиграции в Палестину. Это была, скорее, мечта, чем планы, поскольку он отчетливо понимал, что его болезнь делает подобное переселение абсолютно иллюзорным. Именно об этом он писал жене своего давнего соученика Гуго Бергманна, уже поселившегося за морем, но вернувшегося на несколько недель в Прагу, чтобы вести агитацию в пользу сионизма и одновременно собирать деньги: «Я знаю теперь точно, что не поеду — да и как бы я мог это сделать? — но благодаря Вашему письму, корабль буквально причалил к порогу моей комнаты. К тому же, — добавляет он, — если предположить, что такая затея могла быть предусмотрена, это был бы не отъезд в Палестину, а, остроумно говоря, побег кассира, присвоившего крупную сумму, в Америку». Так что его отъезд в Палестину остается лишь миражом. Но если он не может туда уехать, Палестина в какой-то мере сама пришла ему навстречу. В Мюритце случайно оказался, чего перед отъездом не знали ни его сестра, ни он, лагерь отдыха берлинского еврейского Дома, того самого, которому Кафка за несколько лет до этого побуждал Фелицу Бауэр оказывать содействие.
И вот теперь он вдруг оказывается среди эмигрировавшей с Востока прекрасной еврейской молодежи, к которой тотчас же проникается симпатией. Во всех письмах, которые он пишет Максу Броду, Роберту Клопштоку, он упоминает об «этих детях с голубыми глазами, здоровых и веселых». Гуго Бергманну он пишет: «Полдня и полночи лес и пляж наполнены песнями. Когда я нахожусь среди них, я чувствую себя не счастливым, но на пороге счастья». Здесь есть Пюа Бентовим, девятнадцатилетняя девушка из Иерусалима, которая приехала в Прагу по рекомендации Бергманна, чтобы провести в университете зимний семестр 1922–1923 годов. Есть Тиля Ресслер, которой пока всего лишь шестнадцать лет, но которая станет танцовщицей и хореографом в Тель-Авиве. И, главное, есть Дора Диамант, которая станет подругой Кафки на одиннадцать оставшихся ему прожить месяцев. Но в то время как о Кафке на сегодняшний день собрано столько биографических подробностей, сведении о Доре Диамант редки и спорадичны. В своей книге о Кафке Макс Брод считает, что к моменту встречи в Мюритце ей было девятнадцать или двадцать лет. Другие биографы, которые не указывают, на какие источники они опираются, дают ей двадцать пять лет (напомним, что Кафке только что исполнилось сорок лет). Известно только, что эта польская еврейка была беженкой, как некогда Ицхак Лёви, строгий последователь хасидской религии в ее семье. Вначале она жила в Бреслау, затем в Берлине, где зарабатывала на жизнь, работая подсобной служащей в Еврейском Доме. О ее дальнейшей жизни имеются лишь отдельные разрозненные сведения. В конце 20-х годов она выйдет замуж за ответственного деятеля коммунистической партии, которому родит дочь. Но с наступлением 1933 года и захватом власти нацистами муж должен был бежать и скрываться. Поговаривают — но кто знает? — что гестапо произвело обыск в квартире Доры и забрало бумаги Кафки. Однако для самой Доры пребывание в Германии становится опасным, и она вместе с ребенком отправляется к своему мужу в Москву. Но в эти тревожные годы ни одно место не является надежным: муж Доры вызывает подозрение у советских властей (ему инкриминируют троцкистские взгляды), его арестовывают, депортируют, и следы его навсегда теряются. Ребенок тем временем заболевает, но Доре долгое время не дают разрешения покинуть Советский Союз. Все же ей удается выехать, и она до начала военных действий прибывает в Англию. Говорят, что там она и умерла в 1952 году. Сохранились лишь два ее портрета, на них она предстает очень юной девушкой, улыбающейся и радостной. Именно ей суждено было озарить последние месяцы жизни Франца Кафки.
Мало-помалу Кафка приближался к иудаизму. Так, в начале 1923 года он говорил Минце Эйснер, которую встретил четыре года тому назад в Шелезене и с которой продолжал переписываться (та, несомненно, жаловалась на суровость своего положения служащей в сельскохозяйственном предприятии), что, сколь ни тяжелой была бы нужда, отец, даже забытый, продолжает заботиться и что все предусмотрено значительно лучше, чем кажется. И добавил, что «этим отцом-защитником может быть, например, еврейский народ». Кафка только что обрел сам себя в еврейском народе: несомненно, впервые за всю свою жизнь он чувствовал себя окрыленным и защищенным обществом, в котором ему было хорошо. Можно было сказать, что он только что познал детское простодушие. Макс Брод рассказывает, что с Дорой Кафка вел себя как ребенок. «Я вспоминаю, например, — пишет он, — что они вместе погружали свои руки в таз, который они именовали «наша семейная ванна». Они прекрасно подходили друг другу, продолжает он. «Богатства религиозной традиции восточного иудаизма, которыми располагала Дора, были для Кафки постоянным источником радости, в то время как девушка, которой были еще неведомы многие достижения западной цивилизации, любила и почитала обучающего ее профессора в такой же мере, как любила и почитала она странные грезы его воображения».
Можно подумать, что речь идет об открытии нового Кафки. Честно говоря, не стоит слишком поддаваться ослеплению первого впечатления. За несколько дней до своего отъезда из Мюритца он уже выражает свое разочарование Домом. «Маленькая видимая деталь немного скомпрометировала его в моих глазах, другие невидимые детали способствуют этому еще больше. Я здесь только гость, чужой, гость к тому же усталый, и у меня нет никакой возможности говорить, выяснять. Вот почему я от них ухожу». Но остается Дора, «чудесное существо», с которой он проводит лучшие минуты своей жизни.
Он мог бы остаться в Мюритце после отъезда Элли и ее детей, но он боится одиночества и не хочет больше находиться на положении приглашенного Домом. Так что в начале августа он уезжает и после двух дней пребывания в Берлине присоединяется к сестре Оттле в Шелезене, где проводит около трех недель.
Он возвращается в Прагу 22 сентября, но остается здесь всего лишь два дня. 24-го он уезжает в Берлин к Доре Диамант. Он планирует пробыть там лишь несколько дней, но пробудет шесть месяцев. Это был, как он об этом скажет в письме своему другу Оскару Бауму, безумно смелый план. И ночь перед отъездом из Праги, действительно, стала одной из худших в его жизни, — ни одна армия во всей мировой истории, скажет он затем в письме Оттле, и близко не знала страхов, подобных его страхам. «Однако утром я не упал, вставая с кровати, и отправился, утешаемый фрейлейн (верная домработница Мария Вернер), пугаемый Пепа (его шурин Йозеф Давид), нежно ругаемый отцом, сопровождаемый печальным взглядом матери». В течение всей жизни он вынашивал план жить в Берлине. И вот наконец он осуществляет свою мечту на грани невозможного, когда любая надежда казалась ему немыслимой. «Эта берлинская затея, — пишет он Оттле, — так хрупка, и я схватил ее на лету, приложив к этому мои последние силы». Само собой разумеется, его здоровье продолжает ухудшаться. В письмах Максу Броду он говорит о приступах лихорадки, все более частых и все более серьезных. И тем не менее всякий страх исчез из берлинских писем, он живет в душевном спокойствии, можно сказать достигнутом за пределами отчаяния. Это даже не смирение, но хрупкое и парадоксальное счастье.
Притом Берлин 1923 года не идеальное место для пребывания. Это период галопирующей инфляции, деньги теряют свою стоимость с часу на час, а валюта, которой располагает Кафка, не из самых надежных. В силу этого квартирные хозяева с недоверием относятся к этому человеку без денег, и Кафка за шесть месяцев вынужден дважды менять адрес. Он живет в кварталах Штеглитц или Целендорф, — теперь неотъемлемые части Берлина, но в то время его пригороды. Первая его квартира, хозяйка которой, как говорят, послужила прообразом для главной героини рассказа «Маленькая женщина», была расположена на окраине города. Стоило лишь пройти до конца улицы, и ты оказывался в деревне, роскошные сады которой, наполненные приятными ароматами, Кафка неоднократно воспевал. Впрочем, вызывает некоторое сомнение, что сады издавали столько ароматов берлинской зимой, а может быть, Кафка слегка фантазировал, создавая воображаемый рай. Он редко отправляется в центр города, часто сотрясаемый политическими волнениями. Чтобы узнать политические новости, он ходит читать газеты, расклеенные в витринах различных агентств в Штеглитце. Площадь мэрии Штеглитца является для него тем же, чем для других является Потсдамская площадь — живым центром города.
Он встречается с очень узким кругом людей: время от времени с Эммой Сальветер, подругой Макса Брода, или каким-нибудь писателем, пришедшим к нему с визитом. Он никогда не выходит по вечерам, немного читает по-немецки. Его основным чтением является роман на иврите Йозефа Хаима Бреннера, который, впрочем, он одолевает с трудом. Если Кафка и покидает свой дом, что случается редко, то в основном, чтобы отправиться в Высшую школу изучать иудаизм. Его не слишком увлекают «либеральные» тенденции, но он пытается приобщиться к Талмуду. Одно время он думает о работе в Институте плодоводства (известно, что в прошлом он немного занимался садоводством ради физического укрепления), думает также, несомненно, об эмиграции в Палестину, постоянно занимающую его мысли, но все более и более иллюзорную. Однако у него нет сил, и он отказывается от этого плана. Несмотря на это, Кафка не скучает: «Дни проходят незаметно и праздно». «Когда убираешь руку с колеса времени, — пишет он своему другу Феликсу Вельчу, — оно стремительно проносится перед вами, и уже больше не находишь места, чтобы снова положить на него руку».
Шесть берлинских месяцев оказались далеко не бесплодными. Невозможно подвести их итог, поскольку Кафка, несмотря на настойчивые просьбы Доры, решил сжечь часть только что написанных рассказов. С уверенностью можно лишь сказать, что, кроме истории, озаглавленной «Маленькая женщина», еще два основных произведения родились в Берлине — «Нора» и «Певица Жозефина, или Мышиный народ». «Нора» не была полностью завершена, но можно быть уверенным, что главная часть замысла нашла воплощение в написанной части. Это снова общий взгляд, глобальная картина, итог. Здесь он описывает всю свою жизнь, жизнь холостяка и затворника. Перед тем как погрузиться в молчание, он доводит до конца свое желание самообнажения, вдохновившее все его творчество. Здесь нет никакого другого пейзажа, кроме вымышленного плана подземного логовища, нет другого живого существа, кроме самого рассказчика, рассказ разворачивается без каких-либо рамок, без персонажей, почти без событий. По мере того как герой создает и защищает свое одиночество — свое единственное подлинное достояние, он старательно подготавливает пустоту своей жизни. В созданном незадолго перед этим «Замке» был горизонт, пусть даже остающийся недостижимым, и, следовательно, оставались какая-то надежда и какая-то перспектива. Теперь же мир, в котором живет рассказчик, полностью замкнут: входы в нем замаскированы, это место, куда, кроме него, никто не может проникнуть. Возле одного из ложных входов существует, однако, место, заслуживающее того, чтобы на него обратили внимание. Рассказчик определяет его как «выход» и называет также «лабиринтом». Это первая часть обустроенной им норы, но если вначале он ее как-то ценил, то теперь видит в ней лишь недостойное ремесленничество. Однако он не может, что бы ни делал, избавиться от некоторой нежности по отношению к этим местам, которые, по всей вероятности, олицетворяют его литературное творчество. Хозяину норы угрожают не только внешние враги: «Есть они и в недрах земли /…/От них не спасет и другой выход, хотя он, вероятно, вообще не спасет, а погубит меня, но все-таки в нем моя надежда и без него я не смог бы жить». Надежда, но в то же время и опасность, поскольку литература далеко не безопасная забава, писатель здесь предстает беззащитным: «Мне иногда кажется, — говорит зверек, приближаясь к своему лабиринту, — что моя шкура истончается, что я скоро останусь там с голым телом и что как раз в этот момент мои враги встретят меня своим воем».
Однако животное ведет работы по устройству своего жилища, перетаскивает и перегруппировывает свои запасы, благоустраивает проспекты в своей норе, но ему никогда не удается избавиться от одолевающего его страха. Даже тишина, окружающая его, не может его успокоить, да к тому же однажды и она заканчивается. Животное улавливает нечто вроде отдаленного шипящего звука, приближающегося с каждым днем, звука, который, по мнению хозяина норы, могла бы производить морда огромной твари, роющей землю, чтобы добраться до него. Вся вторая часть «Норы» целиком занята описанием этого звука, который, похоже, идет одновременно со всех сторон, и никакие усилия, никакие хитрости не могут его отвратить. Единственный раз Кафка затрагивает здесь вопрос о своем поведении перед лицом смерти, неизбежность которой теперь не вызывает у него сомнений.
«Нора», однако, остается незавершенной, возможно, потому что нелегко было ввести смерть в рассказ от первого лица. В Берлине же он пишет и историю «Певицы Жозефины». Ни у кого не появится искушения отождествлять Кафку с персонажем, преисполненным кокетства и высокомерия, болезненно самовлюбленного, убежденного в своем таланте и в своей значительности. Но этот образ художника, появляющийся в его творчестве после многих других образов, далек от того, чтобы быть только негативным, и вполне вероятно, что Кафка в нем воплотил и какую-то часть самого себя. Когда Жозефина поет, ее приходит слушать весь мышиный народ, и, может быть, было бы более разумно перебраться за границу, чтобы избежать опасности, ведь ей не однажды приходилось быть захваченной врасплох своими противниками. Пение Жозефины не предназначено воспламенять отвагу воинов, оно всего лишь скромный писк, едва отличимый от обычного писка любой мыши. Но, безусловно, именно это и ценят в ней, поскольку это единственный способ пения, который можно сегодня практиковать и выносить: песни великих предков больше не воспринимаются. Наступило время скромности и прозы. Кафка это знает, ибо что может сделать сегодняшний писатель, кроме создания нескольких незначительных историй о животных, как это пытался сделать он. Тот, кто попытался бы сделать больше, обречен лгать. Он не уверен, что Жозефину поймут: мышиный народ известен своей глухотой к музыке. Но какое это имеет значение? Концерты Жозефины являются моментами единения в условиях опасной жизни мышей. На них как бы происходит воскрешение давних времен и, несмотря на сомнения и непонимание, здесь веет Дух. Можно подумать, что в этом рассказе Кафка, несомненно, догадываясь, что это его последний рассказ, озабочен тем, чтобы подчеркнуть определенную ценность того, что оно написал. Думается, правомерно рассматривать историю Жозефины как скромную попытку оправдания Кафкой своей жизни и своего творчества. Тем более, что Жозефина предстает также как последняя представительница своего искусства. Когда ее не станет, не найдется больше никого, чтобы петь или даже пищать на собраниях мышиного народа, и Дух навсегда умолкнет.
Роберт Клопшток рассказывает, что в момент завершения истории Жозефины Кафка вскричал, что он сам начал имитировать мышиный писк, поскольку его голосовые связи недавно были поражены болезнью и он начал терять голос. Анекдот немного приукрашен, так как он сам сообщает в письме Клопштоку о том, что туберкулезный ларингит дал о себе знать лишь три дня спустя после его возвращения в Прагу.
После шести берлинских месяцев душевного покоя и кажущегося счастья наступают три месяца агонии. Макс Брод прибыл в Берлин на представление оперы, для которой написал либретто. Встревоженный состоянием, в котором оно застал своего друга, он тотчас же уведомил Зигфрида Лёви, врача из Триеша, который, осмотрев своего племянника, пришел к выводу, что его немедленно надо отправлять домой. 17 марта 1924 года Макс Брод доставляет его в Прагу в плачевном состоянии. Таким образом, Кафка снова оказался — в последний раз — в семейном кругу. Но оставлять его здесь долго было нельзя: прогрессирующий ларингит требовал немедленной отправки больного в санаторий. Во второй неделе апреля в сопровождении Доры Диамант он отправляется в лечебницу «Венский Лес» недалеко от Вены. Он чувствует себя очень неуютно в «этом роскошном, угнетающем, бесполезном заведении», где, кстати, ему отказывают от дальнейшего пребывания ввиду серьезности его состояния и перемещают в университетскую клинику профессора Хаека, расположенную в самой Вене. Для его перевозки не находится ничего другого, кроме открытого автомобиля. Дора всеми силами пытается защитить его от дождя и ветра, прикрывая его своим телом. Боли при глотании у него таковы, что ему собираются сделать впрыскивание спирта в нерв и даже удалить нерв, однако, отказываются от этого, безусловно, чтобы избежать страданий, от которых не приходится ожидать никакого лечебного эффекта. В середине апреля его помещают в санаторий доктора Гофмана в Кирлинге, около Клостернойбурга.
Сегодня это весьма дряхлый дом (на котором несколько лет назад была укреплена мемориальная доска), который уже во времена Кафки являл собою, без сомнения, одно из самых скромных заведений. Поскольку все эти пребывания в санаториях стоили дорого, Кафка, чтобы покрыть хотя бы частично расходы, решает опубликовать четыре своих последних рассказа. Сборник должен быть озаглавлен, — увы, более оправданно, чем когда бы то ни было! — «Голодарь». Кафке все труднее и труднее принимать пищу, и, как пишет Роберт Клопшток, он буквально погибает от голода и истощения. На смертном ложе ему еще удается прочесть корректуру первых оттисков книги.
Роберт Клопшток прервал свои занятия медициной в Берлине и не отходит от больного. И, главное, рядом с ним остается нежная и верная Дора Диамант. Согласно рассказу Макса Брода, Кафка в свои последние дни якобы задумал просить ее выйти за него замуж. Он якобы написал об этом отцу молодой девушки, еврею строгих религиозных догм, представив себя как несоблюдающего обряды, но как раскаявшегося и обращенного еврея. Отец Доры будто бы обратился к почитаемому им раввину, и раввин ограничился тем, что покачал головой в знак своего отказа. Вся эта история известна лишь из уст Доры, поскольку никаких следов письма Кафки, разумеется, не было обнаружено. Возможно, это всего лишь легенда.
В последние недели своей жизни Кафка, чтобы щадить свой почти совсем пропавший голос, общался со своими близкими с помощью «бумажечек». В обычных изданиях Кафки, как правило, воспроизводится некоторое их количество, в них проявляются его нежная чувствительность и юмор, остающийся искрометным до последних мгновений его жизни. Тем временем страдания его становятся невыносимыми. Каждому известны его слова, обращенные к врачу: «Доктор, дайте мне смерть, иначе вы убийца».
Макс Брод приходит к нему в последний раз 12 мая. Не без труда удается избежать посещения его родителями, которого он, несомненно, не перенес бы. Им адресовано последнее письмо, которое удалось разыскать. Оно помечено 26 мая 1924 года.
Он умер 3 июня в присутствии Доры и Роберта Клопштока. Тело его было перевезено в Прагу и погребено 11 июня на еврейском Страшницком кладбище. Несколько лет спустя рядом с ним окажутся мать и отец.
В литературном мире уход Франца Кафки прошел незамеченным. Единственным откликом был некролог, который опубликовала Милена в пражской газете «Народни листы». По своей почти наивной простоте он является лучшим текстом из всех, когда-либо написанных о Кафке: «/…/ Немногие знали его здесь, поскольку он шел сам своей дорогой, исполненный правды, испуганный миром. [Его болезнь] придала ему почти невероятную хрупкость и бескомпромиссную, почти устрашающую интеллектуальную изысканность /…/. Он был застенчив, беспокоен, нежен и добр, но написанные им книги жестоки и болезненны. Он видел мир, наполненный незримыми демонами, рвущими и уничтожающими беззащитного человека. Он был слишком прозорлив, слишком мудр, чтобы смочь жить, слишком слаб, чтобы бороться, слаб, как бывают существа прекрасные и благородные, не способные ввязаться в битву со страхом, испытывающие непонимание, отсутствие доброты, интеллектуальную ложь, потому что они знают наперед, что борьба напрасна и что побежденный противник покроет к тому же своим позором победителя /…/. Его книги наполнены жесткой иронией и чутким восприятием человека, видевшего мир столь ясно, что он не мог его выносить, и он должен был умереть, если не хотел подобно другим делать уступки и искать оправдания, даже самые благородные, в самых различных ошибках разума и подсознания /…/. Он был художником и человеком со столь чуткой совестью, что слышал даже там, где глухие ошибочно считали себя в безопасности».
В 1924 году это был единственный отклик. Но не прошло и года, как Макс Брод опубликовал «Процесс» и вручил, таким образом, имя Кафки последующим поколениям. Всем известно, что, поступая так, он нарушил настоятельную волю автора, выраженную им в двух адресованных Максу Броду коротких записках, которые торжественно именуют его «завещаниями». Ни один из этих документов не датирован, однако первый склоняются отнести к 1920 году, второй — к 1922–1923 годам. Долгое время спорили о некоторых различиях, которые можно обнаружить в этих двух документах, но желание Кафки не было двусмысленным: обе записки требовали уничтожения всех рукописей, всего неизданного. В крайнем случае Кафка допускал лишь, чтобы не трогали уже вышедшие книги. Никакие рассуждения, никакие ухищрения не в состоянии скрыть эту простую истину. И «Процесс», как известно, оказался лишь первым шагом на пути посмертного издания произведений писателя, и вскоре опубликуют все, включая самое личное и самое тайное. Так хочет век, в котором мы живем. Макс Брод предпочел литературу почитанию. Но кто сегодня захотел бы упрекнуть его за это?
Библиографические заметки
Критическая литература о Кафке столь велика, что приходится ограничиться наиболее значительными работами.
Долгое время с жизнью Кафки можно было познакомиться лишь по фундаментальному произведению Макса Брода: Мах Brod. Franz Kafka. Fine Biographic. Prague, 1937. - 2-е изд. в Нью-Йорке в 1947. Французский перевод: Franz Kafka. Souvenirs et dokuments. - Paris, 1945, многократно переиздававшийся.
Вместе с тем следует сказать, что многие утверждения Макса Брода о жизни и творчестве Кафки часто оспаривались.
Значительно позже появилась работа:
Klaus Wagenbach. Franz Kafka. Erne Biographic seiner Judend, 1883–1912. - Bern, 1959. Французский перевод: Kafka. - Paris, 1983.
Работа К. Вагенбаха, которой часто не хватает убедительности, пытается представить Кафку, тяготеющим к анархизму и к политической активности.
Затем появилась книга:
Hartmut Binder. Kafka-Handbuch. - Stuttgart, 1979. — Первый том этого произведения излагает в форме хроники все события жизни Кафки, его встречи, прочитанные книги и т. п.
Далее появляется биография Кафки, принадлежащая перу американского исследователя Эрнста Поуэла. Она переведена на французский язык под названием «Франц Кафка, или кошмар разума». В работе отдается предпочтение описаниям социологических условий, в которых протекала жизнь Кафки, и уделяется мало внимания генезису творчества.
Первые работы о творчестве Кафки вышли из узкого круга его друзей. Это:
Мах Brod. Verzweiflung und Eriosung im Werk F. Kafkas. — Francfort-sur-le-Main, 1959.
И того же автора:
Franz Kafkas Glauben und Lehre. - Winterhur, 1948, в приложении к которой дан очерк Феликса Вельча «Religioser Humor bei Franz Kafka».
В течение долгого времени изучение творчества Кафки представляло собой аллегорическое фантазирование, редко обоснованное и еще реже убедительное. Затем увидели свет первые обобщающие исследования, неожиданно предложившие новое видение писателя. Тремя основными работами, в хронологическом порядке, явились:
Wilhelm Emrich. Franz Kafka. - Bonn, 1958. Исследование философского характера, недостатки и ошибки которого сегодня часто бросаются в глаза.
Heinz Politzer. Franz Kafka. Parable and Paradox. — ComeU University Press, 1962, переведенная на немецкий под названием «Franz Kafka der Kunstler». - Francfort-sur-le-Main, 1965. Как видно из названия, в работе речь в основном идет о Кафке как писателе.
Walter H. Sokel. Franz Kafka. Tragikund Ironie. — Munich-Vienne, 1964. Автор преимущественное внимание уделяет психологическим аспектам творчества писателя.
Эти работы несколько отодвинули на задний план все, что появилось раньше. Огромную пользу, однако, можно еще извлечь из следующих работ:
Theodor Adomo. Fufzeichnungen zu Kafka, in Prismen. Kultur-kritik und Gesellschaft. — Vol. II. — Beriin, Francajrt-sur-le-Main, 1955.
Gunther Anders. Franz Kafka. Pro et Contra. - Munich, 1951.
Walter Benjamin. Franz Kafka. Zur 10. Wiederkehr seines Todestages, in Schriften. — Vol. II. — Francfort-sur-le-Main, 1955.
Назовем также сборник фундаментальных исследований:
Franz Kafka. Themen und Probleme, hg. Claude David. — Gottingen, 1978.
Полезно обратиться к двум очень давним французким исследованиям:
Claude-Edmonde Magny «Kafka ou l’ecriture de l’absurde» и «Proces en canonisation» в «Les Sandales d’Empedocle», Neuchatel, 1945.
Однако лучшими работами о Кафке остаются работы Мориса Бланшо, собранные сегодня в книге:
Maurice Blanchot. De Kafka a Kafka. - Paris, 1981.
Нельзя не упомянуть различные публикации Марты Робер: Marthe Robert. Kafka, 1960 — в серии «La Bibliotheque ideale»; Seui сотте Franz Kafka. - Paris, 1979; так же, как посвященную преимущественно «Замку» публикацию: L Ancien et le Nouvean. De Don Quichotte a Kafka. - Paris. 1963.
Тем более нельзя не упомянуть:
Gilles Deleuze et Felix Guattari. Kafka. Pour une litterature mineure. — Paris, 1975.
Подробный анализ всех текстов Кафки, осуществленный автором данной биографии, представлен в четырех томах издания «Плеяды», Париж, 1976–1989.