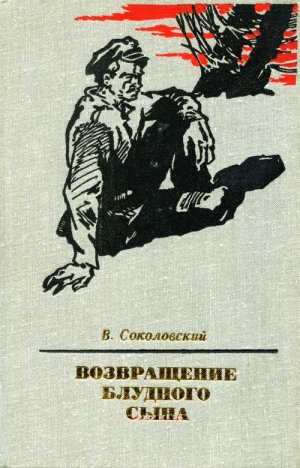
1
Изнутри распахнулись створки — они разъехались с визгом, подхваченные жарким ветром, приготовились захлопать, зашуметь, да так и замерли, удержанные на месте огромным граммофонным раструбом. Раструб этот, в лиловых разводах и позолоте, выкатил свое жерло в открытое окно и замер удивленным зевком. Сначала был тихий скрип: машину заводили. Затем она кашлянула, поскрипела и —
— Пфу, нечистики! — закряхтел с крылечка дома напротив старый Спиридон Вохмин. — Как понайдут, понаедут — сплошь безобразие. Крик, драка, девок в баню тащут. А то еще стрелять начнут, не приведи господи. Съеду, съеду я отсюда, Сабирко, нету больше моей моченьки…
Спиридонов собеседник — благообразный толстый татарин, конюх коммунхоза — закивал бритой шишкастой головой, крутнул большими пальцами сложенных на животе рук: выразил согласие и поддержку.
квакала труба, —
— Нету сил, — устало сказал Спиридон Вохмин. — Ну нету, натурально, моих сил терпеть беспорядок. Пойти в избу, кваску испить разве что. А потом… нет, не усну под этот шум. В карты разве сыграть, а?
— Карты — хорошо, — зевнул Сабир. — Давай, Спиря, карты, играть будим.
Заскрипели ступеньки, брякнула дверь — приятели пошли в дом. Духота там стояла невыносимая, пылилась герань в горшках, но тихо-тихо было в доме старого Спиридона; можно играть в карты на носы, пить квас и не слышать пьяной возни.
А вдогонку катилась, куражилась, уносилась вдаль по спаленной зноем улочке наглая, с блудливыми хохотками, песня о недолгом счастье Шнеерсона. Осмелела, сунулась под колеса вынырнувшего из дальнего проулка грузовичка и с хохотками, хохотками же отпрянула назад, угнездилась в дебрях граммофона. Он поскрипел опять заводимой пружиной, визгнул негромко, и в это время взревел и смолк за окнами мотор машины, послышалась негромкая команда. Пыльные, с винтовками и наганами, люди в кожанах, гимнастерках и пиджаках прыгали из кузова, исчезали в проеме калиточки. Раздался выстрел, другой… Кто-то во дворе закричал страшно, на крик ринулись шофер и парень в косоворотке, дежурившие у машины. Мгновение улица была пуста. Затем качнулся и, кашлянув, вывалился раструб; следом, сверкнув боком, вывалился сам граммофон — смял в лепешку трубу с диковинными разводами и позолотой. Головой вперед, молча, прыгнул на сирень из окна белоголовый парень с челочкой. Вскочил на корточки, распрямился, перемахнул через забор и побежал по улице, высоко вздымая коленки. Высунулась вслед рука с наганом — вскидывалась выстрелами, пока не кончился барабан. Дым, заволокший окно, уносило внутрь, в избу. Бегущий подпрыгнул нелепо, свалился ничком на дорогу и забился, пачкая землю кровью.
— Исусе! Исусе! — Спиридон появлялся на секунды в окошке, снова прятался. — Пронеси, матушка, чистая дево…
Сабир лежал на полу, вскрикивал при выстрелах.
Но шум стихал: повели в машину задержанных, подталкивая оружием. Троих пронесли в одеялах, возились, помещая ближе к кабинке. Раненые тащились сами, угрюмо матерились, карабкаясь в кузов. Сели. Застонала, забилась женщина. Шофер крутнул рукоятку — автомобиль заурчал, дребезжа подножками, ядовитый газ пополз в палисадник. Машина рявкнула, рванулась с места и скрылась в проулке.
— Ловко чекисты метут, — тихо сказал Спиридон. — Ах, как метут… ловко! Пойдем-ко на улку, бабай: там теперь тишина, спокой. Ладно, что жена моя в гости ушла, — начисто перепугали бы бабочку… Ох! — Он схватился за грудь, хлопнулся на табуретку. Сабир, поднявшись с полу, глядел на него мутно и бестолково. Покрутил головой, полусказал-полуспросил:
— Навирна, типерь Нюрке тюрьма сидеть.
— Э! Тюрьма что! Говорил, говорил я… — Вохмин вздохнул судорожно, махнул рукой. — Пошли, Сабир!
Сонно опять было на крыльце, на улице — с приездом машины исчезли ребятишки, попрятались по домам, захлопнулись окна. Только безутешный, пронзительный бабий плач доносился откуда-то с огорода.
— Заскулила! — фыркнул Спиридон. — И объясни ты мне, татарская душа, что за такой народ: саму ее не тронули, и никакая она Нюрке не родня, только лаялась на нее — так какое твое, кажется, дело? Нет — воет! Нар-род, ей-богу…
Сабир снова попытался принять благообразную позу, но дрожащие пальцы не сцеплялись на животе, и он забубнил:
— Нада домой идти. Не пойду — баба тоже реветь будит: застрелили, скажет, Сабирку.
— Обожди! — схватил его за рукав Спиридон. — Обожди маленько, дай я с тобой передохну. Покурим, покурим! — сунул Сабиру пачку.
Тот вздохнул и отвернулся.
Сидели. Тишина теперь была полная; в огороде раздался гневный мужской голос, и плач затих.
— Уй! — дернулся вдруг Сабир.
— Чего? — зашевелился сосед его, глядя в сторону.
— Смотри, смотри, Спирька, — уй! — Татарин вскочил на ноги и дернул его за рукав.
Медленно, со скрипом растворилась огородная калиточка дома напротив. Человек зацепился за нее, пытаясь подняться, но калитка поехала в сторону — он упал. Тогда, доползши до столба, стал, оцепив его руками, карабкаться. Наконец поднялся, с трудом понес ногу через досочку, однако руки расцепились, и он, повернувшись в воздухе, рухнул лицом в пыль.
— Уй-юй! — причитал Сабир. — Домой… домой…
— Стой! — оборвал его Спиридон. — А кто его в Чеку будет сдавать, а? Может, это наиглавнейший из этих гавриков, которых брали? Умри он теперь на наших глазах — греха не оберешься, затаскают! Да затаскают — ладно, а то и… понял, темнота?
— Уй-юй-юй! — прыгала челюсть у Сабира.
— Ты вот что: сиди и сторожи его. А я пойду лошадь искать. Мало ли что.
— Куда пойдешь? — успокоился вдруг Сабир.
— Думаю. К Гришке Ухову, пожалуй. К нему зять, механик с лесозавода, на пролетке утром проезжал.
Минут через десять Спиридон подъехал к распростертому возле ворот парню и пальцем подозвал Сабира. Вдвоем они втащили в пролетку вялое тело. Вохмин потрогал руку — живой! — положили на сиденье, словно пьяного. Парень был русый, скуластый, в коричневом плохоньком пиджаке с испачканным кровью передом, армейские штаны заправлены в разношенные сапоги. Спиридон влез на козлы, дернул вожжами: поехали!
Уже под вечер он зашел к Сабиру. Конюх с женой, крохотной Танзилей, пили чай. Вохмин поздоровался, сел на порожек.
— Отвез разбойник Чека? — Татарин поставил чашку, сцепил на животе руки. — Беда плохой человек, нет?
— Чепуха какая-то получилась, — негромко сказал сосед. — До мосту доехал, глядь — какие-то ребята на нем стоят. Сейчас это лошадь остановили, наган на меня наставили: вылезай, дескать! А потом — ты, говорят, папаша, подожди маленько, мы быстро! — и угнали. Двое их было.
— Пропал лошадь! — Татарин расцепил пальцы, прижал их к вискам и закатил глаза.
— Да в том и дело, что не пропал! Сижу, жду. А что делать? Попробовал бы я к Ухову без лошади вернуться. Однако гляжу: подъезжает через полчаса один из тех парней, вожжи мне кинул — давай, папаша, дуй обратно, только тихо мне, а то… И снова наганом тычет. Ох, и натерпелся я тогда!.. Так того ранетого они с собой куда-то и увезли. И что же это за человек был, а? Хитрый какой-то человечек, вот что я мыслю…
— Хитрый, хитрый, — жмурился Сабир.
2
«Да здравствует буржуазия!»
Бури стихли. Бывший белый офицер, состоящий на учете в ГПУ, безбоязненно проходит по улице, не опасаясь быть подхваченным на штыки. Спекулянт открыл лавочку. Бывшая колчаковская барыня продает билеты у входа на красноармейский вечер… Все это так. Но из всего этого не следует ли, что классовой розни нет, не осталось, и — да здравствует единение пролетариата с буржуазией, да здравствует буржуазия?
Мы живем в переходный период. И больно видеть, как забыли об этом некоторые наши товарищи, с которыми вместе голодали, мерзли и умирали на фронтах гражданской. Они разнежились, размякли от тлетворного влияния НЭПа.
Мы живем в переходный период. И это опасно, ибо благодушествующие — не одиночки. Разве мало у нас людей, теряющих революционную перспективу?
Дорогие товарищи, прощупайте, нет ли вокруг вас подобных настроений, и решительно боритесь с ними!
Молот
Грязнинская уездная конференция МОПР решила взять шефство над тюрьмой на острове Ява.
Ливень ударил, как только процессия вступила за ограду кладбища. Густой, хлесткий. Под косыми его струями поставили Яшин гроб на край ямы. Мать словно опомнилась вдруг: сдернула с головы черный платок, бросила на землю и, придавив коленями, тяжело опустилась возле гроба, скрестила ладони над лицом мертвого сына, оберегая от хлещущей с неба воды.
Начальник губрозыска Юрий Павлович Войнарский, скользя, подошел к могиле, взмахнул кулаком, но в шуме воды и грома слова его звучали слабо, невнятно. Он замолк, глянул на толпу сотрудников; поежившись, потоптавшись, махнул рукой: опускай!
Хоронили агента второго разряда Яшу Зырянова, убитого при взятии банды Кутенцова — Димки Кота.
Стали возиться вокруг гроба, подкладывая веревки. Мать поднялась с колен и замерла, позабыв про скомканный, оставшийся в жидкой грязи платок. Волосы тяжелыми прядями облепили худую, вздрагивающую шею. Мать мешала суетящимся людям, но ни один не коснулся ее, не сказал ни слова.
Быстро, споро натянули веревки, закрыли и опустили гроб. Войнарский, ветеран губрозыска Баталов, начхоз Болдоев взяли лопаты и стали заваливать могилу. Была еще четвертая лопата — ее взял после недолгого колебания потрепанного, похмельного вида баянист, сысканный где-то на стороне. По дороге на кладбище он одиноко шел впереди процессии, играл «Интернационал» и Шопена — надо сказать, неплохо. С оркестром на этот раз не повезло: полк, музыканты которого обычно играли на похоронах работников ОГПУ и милиции, с наступлением лета ушел в лагеря.
Пошли сослуживцы — бросали в могилу комочки глинистой земли. Долго устанавливали памятник, укрепляя его в ползущем, сыром грунте. Вода текла по фотографии на пирамидке со звездочкой: на фото Яша был в рубашке апаш, взгляд хмурый, брови сведены — снялся в тот день, когда пришел работать в угрозыск год назад. И все знали, что Яша был совсем другой: крикливый, насмешливый. Потащили из карманов и кобур оружие, но залп смешался с ударом грома.
По дороге с кладбища Войнарский думал: «Сам-то я не слишком ли себя берегу? Ведь дети, дети умирают, боже ты мой…» Иногда ему казалось, что чувство потерь у него, старого бойца, большевика, политкаторжанина, давно притупилось, но в такие вот моменты, когда смерть находила юных ребят, не ведавших застенков, злых и скорых болезней Туруханского края, фронтов гражданской, — в душе его каждый раз словно что-то взрывалось, она ныла и болела, и он думал каждый раз, что жить ему, наверно, тоже осталось недолго.
И еще одну мысль стыдливо прятал Войнарский, считая ее циничной и неблагородной: мысль о том, что освободилось штатное место и надо срочно искать замену, нового сотрудника, — суждено ли ему прожить дольше Яши?
Войнарский давно установил, что пик опасности для оперативника приходится обычно на конец первого года работы. Сначала его берегут еще, не пускают на опасные операции; он как новичок неукоснительно следует советам старших, внимателен и осторожен. Потом, когда приходит время самостоятельной работы, наступает, рано или поздно, период пренебрежения опасностью: начинает казаться, что при достаточной смелости и быстроте ума осторожность совсем необязательна и даже вредна. Так было с Яшей: как мог он, перебегая от стенки к стенке, не заметить подкатившийся по полу горшок с геранью? Споткнулся в броске, упал и был в упор застрелен помощником Кота — Валькой Дроздовым.
И вот теперь должность Зырянова вакантна, и надо готовить приказ о передвижении.
Начальник губрозыска шагал теперь в одиночестве. Сразу после выхода с кладбища он как-то незаметно оторвался от других и свернул в первый же проулок. Фигура его, высокая, нескладная, в распахнутом френче, походка — чуть боком смешили мальчишек. Они бежали следом по лужам, бросали гальками в него и кричали: «Четырехглазый! Четырехглазый!» Он оглядывался, улыбался растерянно, и стекла его пенсне тускло взблескивали.
Путь его был, на первый взгляд, запутан и хаотичен, но он был и самым коротким из всех возможных. Впрочем, Войнарский, занятый своими мыслями, вряд ли осознавал это. Так или иначе, в губрозыск он вернулся раньше всех и к тому времени, как стали подходить остальные, уже успел просмотреть и подписать несколько бумаг, среди них — приказ о назначении на освободившуюся должность агента второго разряда стажера Кашина Семена Ильича.
3
«Товарищ, запомни!!На основании постановления Отдела труда „О праздничных и особых днях отдыха“ в 1926 году таковые установлены:
1 января — Новый год
22 января — день 9 января 1905 года
12 марта — день низвержения самодержавия
18 марта — день Парижской Коммуны
1 мая — день Интернационала
3 мая — 2-й день Пасхи
10 июня — Вознесение
21 июня — Духов день
15 июля — день освобождения края от Колчака
7 ноября — день Пролетарской революции
8 ноября — 2-й день Пролетарской революции
25—26 декабря — Рождество.
В эти дни крепи революционную бдительность! Враг, отравленный алкоголем, способен на тяжкое преступление! Кроме того»
Плакат этот, намалеванный известным представителем городской художественной богемы Яном Бесфамильным, знакомством с которым агент губрозыска Миша Баталов очень гордился, был украшен по углам ужасными желтыми бутоньерками и висел в Мишином кабинете над сейфом.
С тех пор как Баталов повесил этот шедевр на стену, жизнь его стала весьма неважной. Как ни пытался он разъяснить, что плакат незакончен исключительно из-за отсутствия нужной краски, что как источник информации он от этого нисколько не пострадал, — дело было сделано, и оставалось пожинать горькие плоды. Во-первых, в неофициальном общении Баталова не называли теперь иначе, как «Кроме того»; во-вторых, каждый считал своим долгом не только устно, но и письменно внести свою лепту в содержание плаката. Так, под «Кроме того» было приписано различными почерками: «14, 15, 16 апреля — Гайди-фитр (мусульм.)»; «19, 20, 21, 22 июня — Гайди-курбан (мусульм.)»; «18 сентября — Судный день (евр.)». Упрямый Миша, плакат, однако, не снимал — знал по опыту, что это могут расценить как слабодушие.
Дождь кончился. В кабинете было светло и тоскливо. Внизу в «байдарке» — камере для задержанных — пьяный тянул на одной ноте: «Звя-нит зв-ванок нащё-от пр-раверки-и…»
Раздражала мокрая одежда. Липла к телу, оно словно вязло в ней. На ночь весь губрозыск выезжал в район речного плеса, где шевелился еще со своими людишками бандит Снегирев — бывший матрос речной флотилии. Баталов запер дверь изнутри на ключ и стал раздеваться. Оставшись в трусах, пиджак повесил на спинку стула, брюки разложил на единственном табурете. За три часа одежда должна была хоть немного подсохнуть.
В окно сладко пахнуло свежим ветром, жарким и влажным. Миша перегнулся через подоконник, поглядел вниз. Во дворе губрозыска сидел на локомобиле городской дурачок Тереша Рюпа и воображал, что со страшной скоростью куда-то мчится. Локомобиль этот, реквизированный еще зимой у заворовавшихся частников — братьев Нестеренок, был предметом длительных и бесплодных переговоров губрозыска с коммунхозом. Но, пока те тянули с принятием его на свой баланс, предприимчивые городские механики по ночам совершали опустошительные набеги, и теперь только остов машины, мрачный и ободранный, одиноко торчал возле коновязи. Тереша же Рюпа был в губрозыске человеком почти своим: его тут подкармливали, поручали поить лошадей, мести двор, чем он несказанно гордился. Толстый, белесый и прыщавый, в старых галифе и гимнастерке с нацепленным на нее неимоверным количеством каких-то значков и крестов, Рюпа важно восседал на железном сиденье.
— Куда поехал, Тереша? — спросил Баталов.
— У-у! У-у! Ду-ду-ду-у! — закричал дурак. — Москву! Москву!
Миша отошел от окна, потянулся и, отодвинув подальше наган, который только что собирался чистить, полез в сейф. Вытащил из-под кучи бумаг тщательно скрываемое сокровище: Эдгар Райс Берроуз, «Возвращение Тарзана».
Надо было переключиться с тягостного, расслабляющего настроения, связанного с похоронами друга, на другое — чуткое, взбудораженное: при нем быстрее реакция, точнее движения. Четыре года гражданской, затем четыре — в угрозыске не заглушили, а, наоборот, усугубили страсть Миши к чтению до размеров сверхъестественных, причем выбор его падал преимущественно на литературу авантюристическую. Войнарский, как-то проведавший об этой слабости, пробовал его перенацелить: давал почитать Кампанеллу и роман Гончарова «Обрыв», но Баталов, бегло пролистав их, вернул со словами: «Нет, это не для меня. Я больше про жизнь люблю. — И, вытянув откуда-то затрепанных „Арканзасских охотников“ Густава Эмара, сунул под нос начальнику: — Вот, например!»
За всю двадцатишестилетнюю жизнь, подробности которой самый лютый автор авантюрных романов не смог бы представить в затейливом своем воображении, Баталову не припомнилось бы и дня, проведенного в состоянии обычного человеческого покоя, но собственное существование казалось ему нормой бытия. Старички в креслах, девушка с книжкой на берегу озера — господи, какая скука, дикость! Бывало, остановишься на минутку, вот-вот бы отдышаться — опять, глядишь, полетели кувырком дни, ночи, засады, конский храп, перекошенные чьи-то физиономии, трупы на брезенте… Но, поскольку другой жизни Баталов и не видал, он считал ее самой обыкновенной, даже серой, и подвиги корсаров, ковбоев, знаменитых путешественников и сыщиков грезились ему. Все эти люди, объединенные полыхавшей в голове комсомольца Баталова великой идеей, сражались, шли на смерть и гибли за дело мирового пролетариата.
Собственный вклад в это дело Миша считал более чем скромным и, будучи тщеславным, мечтал о делах выдающихся.
Всякую мелкую сволочь, в задержании которой он принимал участие, — форточника Ваську Пятака, гопстопников близнецов Дюдяевых, бандершу Фузу Каторгу — Баталов вообще не ставил себе в заслугу, а крупные его операции кончались обычно тем, что с момента, когда он приносил данные о конкретных лицах и обстоятельствах преступлений, сам Миша неизменно оттирался в сторону. Ходили в засады, стреляли, рисковали жизнью уже другие. Он же — тщательный, неутомимый, с богатым воображением — считался одним из лучших умов губрозыска, и Войнарский любил и берег его особенно. Миша сердился на него за это и сопел от ярости, когда начальник губрозыска, определяя состав групп захвата, говорил спокойно: «Баталов — в резерве. Не дергайся, Михаил, у тебя другие задачи». Так проторчал он без дела во время последней операции — ликвидации банды Кота. Оттуда привезли Яшу Зырянова, бывшего его стажера…
В дверь постучали. Баталов заметался по кабинету, сунул книгу в стол, путаясь, натянул мокрые брюки и повернул ключ. Вошел дежурный Муравейко, подозрительно осмотрел кабинет, зачем-то выглянул в окно и сказал:
— Чего закрываешься? Давай скорее, Войнарский тебя ищет.
Начальник, подняв голову от бумаг, привычно сунул Баталову карманный силомер:
— Держи!
Баталов натужился, выпучил глаза: стрелка на шкале поползла вверх и замерла. Войнарский азартно раздул ноздри. Глянув на прибор, вздохнул завистливо:
— Молоде-ец… А я вот сегодня чего-то подкачал.
Испытание силомером было своеобразной формой приветствия для входящих в кабинет Войнарского, после того как он приказом по губрозыску отменил рукопожатия, считая их негигиеничными.
— Э! Да ты еще мокрый! Чего тогда сидишь здесь? Пробежался бы куда-нибудь, обсох по дороге.
Баталов насторожился.
— Мне тут только что звонили, — продолжал начальник. — Из домзака. Кот тяжело ранен. Помирает. Просил подойти кого-нибудь из наших, якобы хочет что-то сказать, а у меня, как на грех, опытных людей на сей момент — один ты, Миша. — И он льстиво улыбнулся.
— Опя-ать?! — вскакивая, зашипел Баталов. — Да вы… вы что, в конце-то кондов?!
— Ты подожди, подожди, — заторопился Войнарский. — Там и дел-то на пять минут, наверно. Успеешь и на облаву, брось ты беспокоиться.
— Не пойду! — уперся агент. — И так вон шепчутся по углам, что я за вашу да за чужие спины прячусь.
— Пусть шепчутся! Тоже, нашел повод для беспокойства — шепчутся… — Начальник что-то быстро строчил под копирку. — А нарушать революционную дисциплину не дам все равно. В случае неповиновения — арест и всеобщее презрение коллектива.
Он протянул только что написанную бумагу. Баталов безнадежно понурился, взял ее, не читая, и вышел из кабинета. Этот прием был известен: сразу же, от руки, писался под копирку приказ и вручался сотруднику. Отвертись, попробуй! Кое-кто склонен был считать это бюрократическими ухищрениями и даже высказывал вслух свое недовольство, но Войнарский был тверд и неумолим в своей политике.
…Неизвестно, как в камере главаря банды Димки Кота оказался вдруг шлямбур. Налицо было следующее: возвращаясь перед обедом с прогулки, Кот заскочил в камеру и успел выбежать оттуда раньше, чем надзиратель захлопнул дверь. Ударив его шлямбуром, Кот бросился по коридору. Когда он спускался по лестнице, его заметил проходивший внизу начальник корпуса. Начальник был маленький, щуплый — наполовину ниже бандита. Он выстрелил в Кота почти в упор, когда тот уже подбегал, скалясь и занося железную острозубую трубку. Пуля попала в живот, теперь Кот лежал в домзаковской больнице и, похоже, умирал. Но был в сознании — наотрез отказался сказать, откуда взялся шлямбур, зато потребовал свидания с представителем уголовного розыска, чтобы сообщить сведения.
Кот не стонал, не плакал — только глаза налились кровью от боли; он трудно дышал и говорил тихо-тихо.
— Пришел, легавый? — просипел он, увидав Баталова. — Ну, здорово. Кажись, конец мне…
— Не вовремя ты это дело затеял, Кот, — с сожалением сказал Михаил. — Тороплюсь я сегодня, срочно надо еще в одно место успевать.
— Сердишься… Хлопнули мы твоего дружка… Ну, теперь нам с тобой счеты сводить не время. А кой с кем другим — надо бы. Я и бежать-то теперь задумал — хотел до него добраться.
— И далеко надо добираться? — Голос агента стал тусклым, безразличным.
— Не знаю, — вздохнул бандит. — Но я… все равно нашел бы… Ох, тяжко мне, опер… Он шибко крепкий мужик, этот Лунь. Прибрал нас к рукам, старый Иуда. Всю шпану держит. Один Черкиз остался… Кто там вперед друг другом подавится… скорей бы уж… Боль какая, если б ты знал… А то, что я с ребятами в домзаке оказался, — тоже их дело, чую… Верно, нет?
Оперативник пожал плечами. Действительно, кто-то неизвестный позвонил в губрозыск и назвал адрес, по которому второй день гул яла банда Кутенцова в полном своем составе.
— Да, крупное мы дело готовили, да не повезло мне, видишь… Как задумали его сладить, собрал нас Лунь втроем — меня, Рыбку покойного и Черкиза — обговаривать. Гляжу — что получается? По условию Лунь с Черкизом почти все забирают, а нам с Рыбкой — шиш! Ну, я сижу, помалкиваю — ученый! — только бы, думаю, отсюда теперь уползти. А Рыбка зашебутился: да кто вы такие, я своих ребят под расстрел за гроши не поведу, и идите вы все со своей лавочкой, я и сам с этим делом как-нибудь управлюсь… Тут Лунь — божий одуванчик — достает ножик, и Рыбку по горлу — чирк! Чуть всю башку напрочь не отмахнул — вот так! Я сам еле оттуда убрался, а Рыбкины ребята ко мне перешли. Теперь нам всем хана, а они скалятся небось, сволочи… уххх!.. — Кот задохнулся от ярости. Откинулся на подушку. — Давай, опер, работай, выйдет им от меня гостинец, если справишься. Слушай сюда…
Выслушав Кота, Баталов сунул в карман блокнот, поморщился:
— Не густо ты мне насыпал, Дима. Ни одного адресочка. Сколько по этим данным еще работы — месяц, год? Ладно, спасибо и на том.
— Если бы я знал… — хрипел Кутенцов. — Они сильно закопались, никого к своим берлогам не пускают. Лунь сам меня, в случае чего, находил — у него чутье собачье… — Он уже сильно устал от разговора, выдохся, время от времени прерывался, впадал в забытье и тогда плел околесицу. Перестал говорить, повел мутнеющим взором: — Кажись, всё…
— Слушай, Кот. — Михаил наклонился к самому уху бандита: боялся, что тот снова потеряет сознание. — Кто тогда, на рынке, Дроздова от нас увел? Среди задержанных его нет, твои ребята его тоже толком не знают, самого Вальку спрашивали — молчит, зараза. Он вообще все молчит. Может, ты скажешь?
— Нет, не скажу. — У Димки то ли усмешкой, то ли судорогой повело уголок рта. — Хватит… Если сумел на облаве от вас уйти — толковый, значит, парнишка. А я было согрешил на него… Ти-ше… Попа бы мне теперь… что же они, сволочи, я ведь просил… по-па-а… — Он начал выгибаться, закидываться.
Баталов отошел к зарешеченному окну. Когда он обернулся, Кутенцов лежал на койке тихий, вытянувшийся, примяв ладонями скомканную его смертной судорогой простыню. Михаил вышел в коридор и позвал фельдшера с корпусным.
В губрозыск он все равно не успел: опергруппа уже выехала. Баталов изругался, побежал ловить извозчика. Долетел на нем до берега реки, долго искал лодку, чтобы переправиться. Наконец удалось уговорить какого-то рыбака. Затемно уже добрался до ждущего опергруппу за плесом катера и от него двинулся к виднеющимся вдалеке огням деревни. Но не прошел и версты — огни стали мерцать, гаснуть, послышался стук выстрелов, и Михаил понял: опять опоздал…
4
РАБОТУ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫМНа бирже труда к 1 июня было 78 человек демобилизованных. Из них большая часть ходит по полгода и больше.
Льготу, предоставленную демобилизованным постановлением СНК на внеочередное получение работы, при настоящих условиях, когда требования на рабочую силу почти совсем не поступают, использовать нельзя.
Между тем число демобилизованных красноармейцев растет.
И. Баженов
А примерно за месяц до того, как в избе Нюрки Филатенковой был убит агент Яша Зырянов, влажной и ветреной майской ночью в город по вокзальным ступенькам спустился человек. Посередине вокзальной площади он остановился, сдвинул на лоб мятую красноармейскую фуражку, почесал для начала затылок, затем, придав головному убору надлежащее положение, долго вглядывался в темноту, угадывая вдали лежащий перед ним потухший город. Поправил на плече лямку старого тощего мешка и зашагал крепкой походкой знающего свою цель мужчины. Свет станционных фонарей сеялся по выгоревшей на спине гимнастерке. Приезжий был грязен, небрит и устал — потому ни один извозчик не окликнул его.
Есть люди, убежденные, что они крепко стоят на земле. Если такой решится отправиться куда-нибудь, то он делает это с уверенностью, что не потеряется в бестолочи земли или уезда. Уверенность эта — от трудолюбия. Создавая вещи обиходные и необходимые, такие люди немного просят взамен: так, доброго слова да хлеба. Однако в поисках хорошей жизни они, верящие, что все само собой устроится — были бы руки да голова, — уклоняются от активных поступков, плывут по течению, не больно-то обращая внимание на кипящие рядом водоворотики. Главное — найти работу да крышу над головой, а остальное как-нибудь образуется.
Осудим ли мы ближнего? Пожалеем ли? Забьется ли-вдруг в нас тоненькая струночка, пробуждая сердце? Тогда оглянуться бы по сторонам, отыскивая лицо, напоминающее лицо героя, но некогда, некогда, беги — вон отходит твоя электричка, трамвай, катер — быстрее, быстрей… вот, слава богу, зацепился… звонок… пошел!
Историю жизни Николая Серафимовича Малахова, по идее, следовало бы начать с того момента, когда он родился — в деревне такой-то, такого-то уезда, одной из приволжских губерний, в семье крестьянина. Опустив пору детства и отрочества, о которых ничего неизвестно, поставим для отсчета другую веху: гражданскую войну. Сначала она шла мимо Кольки и его односельчан, продолжавших делать то, что положено делать крестьянину от веку: пахать, сеять, жать, молотить, ходить за скотом… Тяжкой была жизнь в крохотной — девять дворов — деревеньке. Отец бил Кольку нещадно, и весной девятнадцатого года, устав от битья и бескормицы, семнадцатилетний Никола ушел из дому, явился в уезд и был приписан к стоящему там красноармейскому полку. Вскоре полк бросили под Оренбург, и Малахов совсем потерял связь с родными местами. Несколько раз писались корявые письма — и самим, и красноармейцами пограмотнее, — но так и не было ни одного ответа. К каким только фронтам, какими поездами и пароходами не уносило его за три оставшихся военных года! Последнее ранение — пулю в предплечье — он получил в бою с белополяками в двадцать втором и, выписавшись из госпиталя, был направлен в гарнизон маленького сибирского городка, где до демобилизации тихо нес караульную службу.
Тогда и пробудилась с новой силой изначально заложенная в нем тяга к простому человеческому труду, и он, зажав сердце в ожидании демобилизации, упросился в полковую столярку, ладить скамейки, столы, мишени и грибки для часовых.
Товарищи и командиры относились к Малахову хорошо, батальонный даже уговаривал остаться на сверхсрочную как красноармейца ладного, трудолюбивого и исполнительного, но Николай был тверд в своих намерениях и демобилизовался, только подошел срок. Его приглашали завхозом в местную больницу; можно было жениться со временем и жить спокойно и уверенно.
Что сорвало его тогда и понесло к родным местам? Тоска по дому? Может быть. Только давно уж не было никакого дома, одни обугленные островки на месте деревни, и — ни одного жителя. Встретилась на дороге нищая старуха и сказала, что сельцо почти полностью вымерло в голодные годы, а потом и сгорело. Оставшиеся подались в хлебные места, и кто знает — живы ли?
Он пошел на погост, поплакал над усеявшими его безымянными крестами и направился в уезд, пыля сапогами. Одна только родная душа держалась теперь в памяти: тетка, отцова сестра, жившая до войны в губернском городе на Урале. И адресок держался с той поры, как надписывали они с отцом посылаемые тетке письма. На поиски ее и предстояло отправиться Малахову после того, как слез он с тормозной площадки попутного товарняка ветреной майской ночью.
В город он, однако, тогда не пошел: углубился в рощицу, извлек из мешка шинель и заночевал.
Наутро, поминутно справляясь у прохожих, двинулся по адресу. Нашел старый деревянный дом на тихой улочке, поднялся на второй этаж и постучал в одну из дверей. Хозяин квартиры — лохматый мужик — долго не мог понять цели малаховского визита и все спрашивал какие-то документы. Наконец, сообразив, в чем дело, объяснил, что тетка Николая здесь давно уже не живет: в гражданскую вышла замуж за пленного чеха и вместе с ним уехала на его родину.
Больше Малахов никуда не поехал. Странствия после демобилизации и так утомили его, а душа рвалась к порядку, крепкому добротному месту. А вообще этот город нравился. Была в нем такая основательность, не искореняемый никакой безработицей соленый трудовой дух.
Николай пошел на биржу, сунул в окошко демобилизационные бумаги: вот, принимайте! Отказали. Однако он, привыкший к строгому порядку, поднажал: «Не положено, товарищи, законы нарушать. Я демобилизованный, вы понимать должны». Развели руками: «Если бы к этим законам еще и работу придумывали, а так — жалуйтесь, ваше право».
С той поры он каждый день приходил на биржу и отмечался в очереди. Она двигалась, конечно, но медленно, незаметно почти. И однажды он подумал: как-то бы по-другому это дело закончить! Решение пришло сразу же: увидав в одном из окошек биржи кудрявую барышню, он почувствовал себя парнем видным и ухватистым и затеял хитрость. Весь день и вечер шатался по городу и нашел-таки старушку, у которой громоздилось на дворе два воза неразделанных дров. Пилил их лучковой пилой, колол целых четыре дня, а когда хозяйка рассчитала (надула, старая!), пошел и первым делом купил кулек конфет «утиные носики», пристроился с ними у окошечка и завел с барышней тонкий и значительный разговор.
Совбарышня конфеты приняла с удовольствием, но проводить не позволила; правда, томно бормотнула на прощание, чтобы оставил заявление — она завтра сходит к начальству, попытает счастья. На другой день он, с утра заявившись на биржу, прошествовал прямо к ее окошечку и уверенно поздоровался. Девушка отложила зеркальце, скользнула по Малахову безразличным взглядом. Он растерялся сначала, но, решив, что имеет дело с женским тактическим приемом, широко улыбнулся и спросил:
— Ну, как там с начальством? Ходила, нет?
— Вам чего, товарищ? — обиженно фыркнула барышня. — Ведь ясно же написано: работы нет. Ходят, ходят…
— Да вы меня разве забыли? — Николай похолодел. — Я вам заявление вчера оставлял.
— Как фамилия? — Порылась в бумагах. — Нет вашего заявления, не знаю!
— А… где же оно тогда? — растерялся Малахов.
— Затрудняюсь сказать. Наверно, его мыши с квасом съели! — Она расхохоталась лиловым, под Мэри Пикфорд, ртом и захлопнула окошко.
Николай отошел, сжимая кулаки.
Ночевал он в пойме реки, в компании бродяг, выползших на берег с наступлением весны. Держался в стороне от них, живущих подаянием, кражами, а то и делами покрупнее, хотя, если угощали, не отказывался. Когда стали выгонять лошадей на траву, он пробрался как-то к табуну и надергал волосьев из конских хвостов, сплел леску и стал удить рыбу. Ее много было в тот год — крупной, голодной. К ночи шел к одному из горевших на берегу костров, пек рыбу, ел сам, угощал случайных знакомых. Спал у костра, завернувшись в шинель. Удил вечером; днем сидел на бирже, ждал работы. Однако долго такой жизнью не протянешь: стал слабеть, начали вянуть мышцы; организм нуждался в мясной пище, и однажды Николай на рынке продал за бесценок шинель. В чайной тут же, на рынке, взял тарелку щей и две порции легкого. Он словно опьянел после еды: стало жарко, клонило в сон, и Малахов, выйдя на улицу, долго стоял, блаженно улыбаясь, привалившись к косяку. Может быть, он и задремал тогда; во всяком случае, он словно очнулся, услыхав совсем рядом: «Браток! Чего стоишь? Помогай! Грабят, не видишь, что ли?»
Николай огляделся: возле угла чайной два молодца заворачивали руки усатому мужчине. Тот отбивался ногами, хрипел, но они молча делали свое дело. «Что же такое, батюшки?» — подумал Малахов. Главное — никого на базаре это, по-видимому, не задевало, как будто так и надо было. Пробовали поодаль гармошку, и драный мужик отплясывал в круге; вертелись и дрыгались куклы на деревянном колесе у безногого инвалида; кричали спекулянты, и, перекрывая всю эту звуковую мешанину, орал скороговоркой граммофон возле маленького балагана: «Нем-ножко лысоватый, но это ничего!..»
«Ну и ну, — удивился Николай, моментом уловив всю эту картину. — Хоть убей человека на глазах — никто и не сморгнет».
Он быстро, в три шага, подскочил к месту, — где топтались трое, и ударил сзади, под коленку, парня, гнувшего к лопаткам кисть усатого. Тот выпустил руку, упал на землю, подрубленный. Тогда Николай, вывернувшись снизу, ахнул по скуле другого — и этот повалился. Усатый рванулся, смешался с толпой. Малахов побежал было за ним, но быстро потерял из виду. Выбрался с толкучки, огляделся: никого нет! — и пошел вниз, к реке…
Он вздрогнул, услыхав из-за калитки ближайшего дома, когда проходил мимо, негромкое:
— Иди сюда!
Калитка приоткрылась немного, и Николай вошел во двор. Усатый дернул задвижку. Он стоял, привалившись к столбу, — лицо серое, измученное, — и курил. Посмотрел в глаза — коротко, будто ножом полоснул.
— Кто такой?
— А ты кто такой? — обиделся Малахов.
— Я человек прохожий, обшит кожей. — Усатый сгреб в кулак его гимнастерку на груди, приблизился вплотную. — Говори!
Выслушал его напряженно, внимательно, переспрашивал иногда. Под конец сказал:
— Безработный, значит? Любопытно… Ну, мне пора. Авось еще свидимся. За мной выходи минут через пять, не раньше. Если увижу, что следишь, — пришью сразу. А ловко ты их… в душу мать! — улыбнулся, пыхнул золотым зубом.
Рассуждая, можно теперь назвать кучу причин, в конце концов оказавших роковое влияние на дальнейший ход жизни Малахова. Можно сказать так: не демобилизуйся он, не покинь Сибири — все было бы по-другому. Но можно и так: не оголодай, не пойди продавать шинель — тоже было бы иначе; да в конце концов по-другому бы все сложилось, пойди он продавать эту шинель часом, получасом раньше или позже! Так или иначе, большинство бед, свалившихся после на Малахова, были следствием его встречи с золотозубым. А ведь приглядись он тогда внимательнее — наверно, по каким-то с первого взгляда неуловимым деталям можно было разобрать, на чьей стороне правда в этой схватке…
Спасенным был Валька Дроздов, помощник Кота и его правая рука. Мало того, что Николай спас Вальку на рынке от выследивших его оперативников — это само по себе стоило благодарности, однако Валька был жесток и мелочен, вместо благодарности можно было получить и финку в бок, — но банда, сильно потрепанная, нуждалась в крепком, свежем пополнении, а дерзкий и бездумный поступок Малахова говорил сам за себя. По этому поводу Валька держал совет с самим Кутенцовым и через пару дней, подкараулив Малахова на бирже, подошел. Увидел, будто случайно, обрадовался:
— О! Старый знакомый!
Однако по моментальному взгляду, которым он обменялся с парнем, второй день отиравшимся в очереди, перекупившим место у другого безработного, Николай понял, что за ним следили. Парень сразу исчез, будто и не было, а золотозубый, выйдя с Малаховым с биржи, повел его в ресторан: накормил до отвала, дал водки, потом купил ему в комиссионной лавке пиджак, первый в малаховской жизни. Пиджачонко был не новый, и по цвету, и по покрою — так себе.
— Ты не думай, не денег жалко, — объяснил благодетель, — а так лучше: глаза меньше будут пялить, а это в нашем деле… сам увидишь!
Николай, пьяный и размякший, плакал и обнимал Вальку.
Тем же вечером, когда Малахов оказался на «сходке» Котовой шайки и пил самогон, касаясь локтем теплого бока вертлявой Раечки, он еще плохо представлял себе, куда попал. И лишь уловив сквозь пьяный мат разговоры бандитов об их делах, подумал: «Пропал!» Проснувшись ночью возле разметавшейся Раечки, тихонько встал и подкрался к двери.
Мгновенно стих на печке захлебывающейся, задыхающийся женский смех, и трезвый голос Кота спросил:
— Куда?
— На улицу… надо мне…
— Погоди, я с тобой.
Кот спустился в трусах и тельняшке, вынул из кармана пиджака, висящего на гвозде, револьвер и вышел с Малаховым. Подождал, когда тот помочится с крыльца в ограде, сунул ему под нос оружие:
— Шустрый ты парень. Признайся: к чекистам хотел уйти?
Николай вяло покачал головой. Кот заглянул ему в лицо и вдруг успокоился. Однако на всякий случай ткнул стволом в бок:
— Смотри, у меня в случае чего разговор короткий…
Утром, опохмелясь, снова пили до безумия. Проспавшись, потащились вечером к подруге Кота — Нюрке Филатенковой, «марафетчице». Там гуляли всю ночь. Наутро Малахов видел в хмельном полузабытье, как Кот о чем-то говорит с Валькой, оглядываясь и указывая на него, Николая. Ему стало тревожно и тоскливо, хоть и крутилась, прижимаясь всем телом, вертлявая Раечка, визжала и похохатывала. Он решил хоть поговорить с кем-то, чтобы развеять окружавшую его неясность, и стал приставать с разговорами к пьющим и болтающим между собой людям, но попытки эти, как и раньше, были неудачны: его вежливо слушали, вежливо отвечали, но в ответ на пьяные откровения только презрительно усмехались и отходили. Когда завели граммофон, распахнув окно, Кутенцов с Дроздовым позвали его.
— Оружием хорошо владеешь? — спросил Кот.
— Смотря каким.
— Этим, к примеру! — Дроздов покидал в руке револьвер.
— Приходилось, дело знакомое.
— На днях покажешь.
— Что, что такое? — испугался Николай.
— Да ты, я вижу, и впрямь какой-то тютя! Приоделся, попил, поел, девку потрогал — и все за так просто, думаешь? Пора привыкать. Ты не бойся, мы мужики фартовые, с нами не пропадешь. — Кутенцов хлопнул его по спине. — Идем, я тебя с одним парнишкой сведу, он обскажет.
Он подвел Малахова к огромному мокрогубому парню, кличку которого Николай уже знал: Монах. Мокрогубый осклабился, взял Николая за локоть:
— Идем со мной!
Вышли в огород. Бандит протянул ладонь:
— Ну, давай знакомиться… — И, цапнув малаховскую руку, вдруг резко завернул ее за спину. Сделано это было очень ловко: Малахов, охнув, повернулся спиной к Монаху.
— Как сюда попал? — хрипел Монах. — Войнарского давно видал, паскуда? Я его шпиков за версту чую… вижу… нюх… пощады нет… жив не уйдешь, точно…
Николай чувствовал едкое, смрадное дыхание топтавшегося за спиной бандита, рвался из его лап, стонал:
— Пусти, гад! Никого я не знаю, пусти… связался я с вами, сволочи…
— Нет, ты скажешь, ска-ажешь… — возился сзади Монах.
Руку неожиданно рвануло такой болью — у Николая подкосились ноги, он повалился на грядку. Но бандит подхватил его за шиворот, поставил. Отпустил руку — она повисла бессильно, словно плеть. Малахов медленно повернулся. Рожа у Монаха была довольная.
— Что, испугался? Вопче поимей в виду: новеньких не любим. А так ты — парнишка крепкий, выйдет ли из тебя толк — посмотрим…
Малахов помялся немного, глядя в сторону, и вдруг, резко выдохнув, кулаком здоровой руки ударил Монаха в подбородок. Тот шатнулся, но не упал: удивленно засопев, полез куда-то за пояс, вытащил финку:
— Ах ты, сволочь!
В это время взревела машина, раздались голоса. Бандит метнулся к калитке, выглянул, отпрянул и зашипел, надвигаясь:
— Навел! Ну, держись, легавый…
Он прыгнул, выбросив вперед руку. Малахов отклонился, но хмель притупил реакцию — почувствовал, как сталь вошла в бок. Упал и кувырком катнулся в распахнутую дверь маленького сарайчика. Вскочил, дернул к себе дверь, захлопнул, но с другой стороны на ручку, пыхтя, навалился Монах, рвал с воем, уже открывал; и тут хлопнул выстрел, дверь освободилась, тело бандита грузно шлепнулось по ту сторону сарая. Малахов, слабея, пополз в угол и, припав к полу, стал натягивать на себя валяющееся возле стены тряпье, ветхий матрац. Замер, затих. Кто-то заглянул, выругался и притворил дверь. Началась возня, крики; выстрелили еще, еще… Николай слышал, как потащили от сарая тело Монаха. Когда задребезжал и отъехал от дома грузовик, начал, задыхаясь, вылезать из кучи окровавленного тряпья. Дополз до двери, стал торкаться, наконец отвалил припершее ее полено и выбрался из сарая. На четвереньках, заваливаясь на бок, приблизился к калитке…
5
БЕСПРИЗОРНЫЕНе все ребята ходят в кино. Есть и другие. И их много. Вечно голодные. Пугливые. Маленькие, лохматые зверьки. На углу шумных улиц поют гнусаво:
— Богородица-дево, радуйся!
Из них — у многих —
у кого — 1 легкое,
у кого — ½.
И лица у них — коленкор.
Вечером хорошо быть беспризорником. Вечером, когда небо бездонно, гулять. Курить папиросы — глотать жадно струйки горького, теплого дыма.
И ржать.
Вечером.
С. Гин
ПРОИСШЕСТВИЯВ доме № 30 по ул. Бакунина, в подвале, где помещается один из притонов беспризорных, покончил жизнь самоубийством, повесившись на веревке, гр-н Черных, 14 лет.
«Хитрость, хитрость и хитрость.
А впрочем, нет: оперативная гибкость — вот как это должно называться. Упредить врага на первом его взмахе. Данные неопровержимо свидетельствуют, что не далее как послезавтра преступные планы подозреваемой должны быть реализованы».
Так думал Семен Ильич Кашин, сидя на скамеечке в городском саду и разрабатывая план взятия с поличным весьма известной в городе особы: кумышковарки и сводницы Лизки Палкиной по прозвищу Коза. Сидел он тут, в тенечке, уже давно, с намерениями деловыми и далеко идущими. Но — увы! — истекло время, когда должна была появиться здесь Симочка Караваева. Такие дела Семен переживал очень болезненно, поэтому изо всех сил старался сейчас занять голову другими мыслями, хотя бы предстоящей операцией с Козой. По идее, Симочка могла еще подойти, но Кашин уже настроился на поражение, и мысли его по отношению к себе были несколько ироничны; план поимки никчемной Козы обдумывался теперь зло и жестоко, с использованием всей известной Семену специальной терминологии. В конце плана операции Кашин начертал мысленно: «агент второго разряда» — и лихо расписался. Только что произведенный из стажеров, он придавал своему повышению немалое значение. Это сразу ставило его в один ряд с людьми почтенными и уважаемыми — вроде Баталова Михаила Никитича.
Был Кашин красив, смел и удачлив. Правда, к немалому его удивлению, этих качеств пока никто почему-то не замечал. «Ничего! — рассуждал Семен. — Мое не уйдет, шалишь!» Вот поймает он страшного, матерого и известного бандита, и все увидят, как он смел; выйдет невредимым из сложной и опасной переделки — увидят, как удачлив; спасет какую-нибудь девушку от неминучей гибели — и все увидят, как он красив.
Когда ждать надоело, Семен, в тоске проклиная легкомысленную Симочку, вышел на аллейку, влился в негустой ток гуляющих и, напевая про себя глупейшее:
направился к выходу из сада.
Куплетец был из водевиля «Принц с хохлом, бельмом и горбом», который Кашину волей обстоятельств пришлось выучить почти наизусть. В городе всю зиму действовал брачный аферист — этим делом и поручили заняться Семену, как только он поступил в губрозыск стажером. Установлено было, что осенью освободился из заключения и устроился в местную труппу Геша Рожин-Никодимов, известный специалист по этой части. Он играл в «Принце» чиновника Тортиколя, и регулярно, целый месяц, Семен водил на представления для опознания обманутых дам разного возраста и комплекции, неизменно всплакивающих при воспоминании об унесенных красавцем ценностях.
Кашин направлялся в ломбард. Еще в мае он, чтобы обуть на лето одиннадцатилетнюю сестренку, заложил единственную домашнюю ценность: часы, оправленные саксонским фарфором. Семену они казались очень красивыми: фрукты, тщательно выписанные и разрисованные, цветочные гирлянды, фигурки амурчиков и стыдливых богинь. Но, если сказать по правде, сработавший их немец, обладавший несомненно изрядным трудолюбием и старательностью, не отличался при этом ни чувством меры, ни особенным вкусом. Часы были с гравировкой: «Надворному Совѣтнику Кашиной Аглае Трофимовне от раненых красноармейцев». Имя, фамилию и отчество прежнего владельца тщательно счистили и загрунтовали, а «Надворного Совѣтника» бесхитростный солдат-ювелир залил сургучом; сургуч скоро отпал, а надпись осталась. Часы подарили матери Семена в восемнадцатом году в госпитале, где она работала сиделкой. Кашин очень дорожил часами, как памятью о матери, поэтому хоть и носил их в ломбард в случаях крайних затруднений, но немедленно выкупал, только появлялись деньги.
Вчера была получка, а завтра наступал крайний срок выкупа. Семен зашел в тихое, пахнущее ношеной одеждой и мышами помещение и приблизился к прилавку. Старый Бодня, оценщик, уныло возвел на него глаза и вздохнул. Часики саксонские опять уплывали из рук к этому юнцу, абсолютно не разбирающемуся в дорогих вещах.
— Слава богу, получили деньги? — спросил оценщик.
Кашин гордо повел подбородком.
Когда процесс обмена близился уже к завершению, клиент вдруг отвлекся к окну, вскрикнул и выбежал из ломбарда. Хитрый старик тоже затопал к двери, намереваясь закрыться изнутри, а завтра объявить владельцу, что часы уже проданы другому человеку. Но не успел: Кашин вернулся, таща за собой Баталова. Увидав того, Бодня сразу сжался и пристроился в глубине помещения, грустно поблескивая оттуда глазами. Баталова он знал.
— Подожди, Миша! — заторопился Семен. — Я сейчас, мне тут минуточку… Ты куда теперь?
— К беспризорникам. Так, есть кой-какие друзья.
— Можно, я с тобой? Делать нечего, вечер длинный, а дома пусто: сестренку я вчера в деревню отправил.
Семен боялся, что Баталов откажет, но тот, щелкнув ногтем по одутловатой рожице Амура, усмехнулся только:
— Не устанешь, с экой-то дурой?
— Я договорюсь! — обрадовался Кашин. Попросил оценщика: — Можно, я их до завтра оставлю?
Бодня горячо зашептал из угла, обращаясь не столько к нему, сколько к Баталову:
— Чего не сделаешь для хорошего человека!
Бывший женский монастырь на Завалихе, отведенный под колонию для беспризорников, теперь почти пустовал: ребятишки переселялись на улицы, ночевали в ночлежке и подвалах. Сонно слонялись воспитатели, продолжавшие по инерции получать зарплату в губоно. Только человек двадцать воспитанников жили в монастыре — в основном, девочки.
Баталов сегодняшним посещением колонии преследовал тройную цель: во-первых, недавно он купил на букинистическом развале очень старый роман Анны Радклиф «Монастырь святого Колумба, или Рыцарь Красного Оружия», 1816 года издания, и теперь собирался пройтись по кельям, чтобы проникнуться таинственным и мрачным монастырским духом; во-вторых, с беспризорниками у него были свои тайные дела: люди любопытные и вездесущие, они всегда обладали массой полезной информации; в-третьих, Мише просто нравилось бывать среди них — человек житейски одинокий, он с удовольствием возился с ребятней, вечно кого-нибудь опекал, устраивал, просто подкармливал…
Семену тоже был интерес в этом путешествии. Ему хотелось поближе сойтись с Михаилом. Баталов работал в губрозыске даже дольше самого Войнарского, и ребята, в глаза подтрунивающие над «Кроме того», на деле, где могли, усугубляли ореол исключительности, витающий над его головой. Помимо славы ветерана, по пятам за ним ходили еще и легенды об исключительной смелости, дерзком и парадоксальном уме. Но при этом, несмотря на видимую демократичность Баталова, редко кто мог похвастаться откровенным разговором с ним: Миша держал свои мысли при себе и общения накоротке избегал. Поэтому Семен, работавший в губрозыске без году неделю, считал безусловным успехом тот факт, что Михаил допустил его в свою компанию. И потом личность Баталова обросла в последнее время какими-то странными слухами: поговаривали, что он с некоторых пор почти все свое внеслужебное время проводит в ресторанах, где прожигает деньги и молодую жизнь в угаре нэповского разгула. История губрозыска знала уже несколько случаев, когда блестяще начинавшие свою карьеру розыскники спивались, опускались, попадая в конце концов в общество людей, которых еще недавно считали своими врагами. С Мишей беседовали: комсомольцы, начальство, — но он отмалчивался и в раздражении уходил от разговора.
Над головой Баталова уже начинали сгущаться тучи, а он, казалось, не обращал на это внимания и на работе по-прежнему был спокоен и сосредоточен.
Однако странности баталовского поведения еще более усиливали интерес Семена к его особе; ценность же предстоящего общения с ним, соответственно, повышалась.
Первым делом Баталов обошел все кельи, предварительно отделавшись от увязавшегося следом директора колонии. Семена он тоже шуганул, но тот все-таки следовал за ним на приличном расстоянии, прячась за колоннами. Михаил побывал в часовне, в трапезной, в одной из келий даже посидел немного; вид имел при этом суровый и торжественный. Вдруг, углядев за колонной умирающего от любопытства Кашина, шуршащими шагами, приседая, понесся к нему и, схватив за шиворот, вознес над ним руку, как будто для удара клинком. Но тут же отпустил его, погладил по голове. Оправив воображаемую сутану, сказал гнусаво: «Сын мой!..» — после чего медленно удалился.
Однако стоило Баталову заглянуть в пустые мастерские колонии, как из Рыцаря Красного Оружия он снова превратился в резвого оперативника, короля губрозыска. Яростно засопев, бросился к кабинету директора. Тот сидел в расстегнутой косоворотке, красный и небритый. Развел руками:
— Бегут! А что я сделаю? Бегут и бегут. И заказы, главное, есть — работай да работай! А они бегут.
— Заказы есть, говорите? — осторожно поинтересовался Баталов. — И что, дорогие заказы?
— Ну, не так дорогие… — вильнул глазами директор. — При чем здесь это — дорогие, не дорогие? Главное — человек должен трудиться!
— Это-то ясно… Мне вот что интересно: всю зиму заказы у вас были, и ребята на совесть работали, я знаю, так хоть копейку вы им за работу дали?
— Какую копейку? — Директор всполошился, вскочил. — Они тут жрут, живут, а я им еще и деньги плати! Да одного ремонту на мильен!
— Так стыдно небось человеку работать ни за что. Эх, чего говорить! Разбежались, значит, ребятишки. И Леха Мациевич удрал?
— Мациевич, Мациевич… — Начальство заскребло лысину. — Что-то не упомню. Это Фофан, что ли?
— Своих воспитанников не мешало бы знать хоть по фамилиям! — сурово сказал Миша. — Впрочем, вы не ошиблись — он же Косой Фофан.
— Тоже убег! Ну их, этих угланов, ей-богу! Ведь у него горячка начиналась, я в больницу хотел отправить, а он… просто беда!
Баталов, не слушая, поплелся из кабинета. Директор выскочил из-за стола, открыл дверь и повел рукой:
— Прошу отужинать! Сейчас принесут, я распоряжусь!
Михаил отодвинул его плечом. На улице зло сплюнул:
— Клоп! Присосался к ребятам. Погоди-и! Он с мебельщиком Кармановым спознался: детишки бесплатно табуретки колотят, Карманов их продает, а выручку они пополам делят. Ничего, разберемся, дай время… Эх, Леха, Леха, глупая башка, где ж тебя искать-то теперь? Ладно, идем, попробуем…
Они поднялись в гору, через дыру в заборе проникли на железнодорожную станцию и долго шагали через пути, пока не оказались возле вокзала. Баталов приблизился к сидящему на ступеньках старому одноногому нищему:
— Здорово, Бабин! Что-то ты поправился вроде.
— Это есть! — охотно отозвался нищий. — Этта подломался маненько да в больницу, слышь, попал. А там лекарствию колют — от нее пучится человек, вширь разносится, чтобы, значитца, просторнее было естеству.
— Да еще и кормят.
— Корму мне и здеся хватает. — Старик прикрыл глаза и отвернулся.
— Слышь, Бабин! — Баталов нагнулся и что-то зашептал нищему на ухо.
Бабин подумал и стал объяснять Михаилу какой-то запутанный маршрут, пройдя по которому, Кашин с Баталовым вышли наконец к убежищу беспризорника Лехи Мациевича, известного также под прозвищем Косой Фофан.
Убежище это находилось в подвале кирпичного двухэтажного дома, на фасаде которого красовалась вывеска: «Гортоп». Чуть возвышались над землей верхушки крохотных зарешеченных подвальных окошек. Оперативники зашли с торца и спустились вниз, к обитой железом двери.
В подвале было четверо. Двое играли в карты; колода пухлая, грязная. Чернявый парнишка лет двенадцати сидел на ворохе соломы в углу и уплетал ржаной хлеб. Еще один лежал под наваленной сверху грудой тряпья, стонал и содрогался в ознобе. При виде агентов бодрствующие не испугались. Поздоровались солидно, продолжая заниматься своими делами. Картежники даже протянули Михаилу свои лапки как старому знакомому. Семен вслед за Баталовым подошел к больному, склонился.
— Не трожьте! — оторвался от карт старший, пухлощекий шкет в женской кофте. — Вошей наберетесь — будете знать.
Баталов покачал головой:
— Ох, угланы! Хоть бы доктора позвали.
— Мы звали — нейдет, черт косопузый. И денег наскребли, сулили — нейдет!
— Ну, придумаем чего-нибудь. Здорово, бегун!
— Здо-ро… здорово… — Больной мальчик повернулся на бок, сунул руку под лохмотья, вытащил, задыхаясь, клочок газеты с нацарапанными поверх шрифта каракулями и протянул его Михаилу: — Вот. Я думал, уж не придешь ты… Здесь вот живет, я узнал…
— Лежи, лежи, Леха. Я сейчас, только вот с ребятами… Как вы тут, ребятня?
Беспризорники бросили карты, поднялись. Кофта на груди у шкета распахнулась, и Семен увидал жирные разводы скверной татуировки.
— Где это тебя?
— В арестном сидел, — солидно, баском ответил тот.
— За что?
— За кражу, понятно.
— Что-то этого парня я раньше с вами не видал. — Баталов кивнул головой в угол, где уплетал хлеб чернявый. — Как звать тебя?
— Абдулка, — неохотно откликнулся чернявый.
— Синен аниен кайда?[1]
Мальчишка промолчал.
— Да он не понимает! — закричал с восторгом шкет. — Он себя и за татарина не признает, это имя уж мы ему дали, а своего он не знает. Не помнит, что ли.
— Почему же Абдул?
— А, не знаю! Сидит, бывало, надуется — ну, мы и смеемся: Абдул, мол, что губы надул? А то стены еще мазать начнет. Он с дружком к нам пристал, с Ванькой Цезарем; только того нет теперь, убежал куда-то.
— Вон что… Ну, держись, Леха! Берись за мальца, Семен!
Вдвоем они подняли больного, осторожно потащили к выходу. На улице посадили его к стене дома.
— Я за пролеткой побегу, — сказал Баталов Семену. — А ты домой иди, что ли.
— Чего это домой? — возмутился Семен. — Ну, ты даешь!
— Тогда здесь жди.
Он подъехал через полчаса, и на извозчике они увезли мальчика в больницу.
Уже чуть темнело, когда Баталов и Семен вышли на людную в этот час центральную улицу. Теплым ветром шевелило тополя, мягко стукали по булыжнику рессорные пролетки; затихал треск «ундервудов» на верхних этажах, где располагались учреждения и конторы; Гарри Пиль пучился и наставлял револьвер с афиш, легкие девушки в изящно-подправленных беретиках летели насладиться обществом мужественного киногероя. Мускулистые мужчины рассеянно глядели им вслед и становились в очередь за пивом. Приказчики закрывали лавки и тоже устремлялись вкусить вечерних наслаждений. Толкались в разноцветной толпе оборванные, прозрачные от недоедания девочки, канючили жалостно:
— И подайте и копеечку и на хлебушку…
Медленно, солидно ступая, шествовал домой Спиридон Вохмин; бурчал, помахивая брезентовым портфелем в сторону идущего рядом сослуживца:
— И развелось же, мил человек, гнусу — беда-а. Того и гляди, обчистят. Ну и времена, ей-богу!
Шаркал ногами, толкался заплатанными локтями, вздыхая о неровном развитии жизни, оценщик городского ломбарда Бодня. Ковылял, подсчитывая доходы от скорбного своего ремесла, одноногий нищий Бабин…
Горьким запахом взрывающихся пухом тополей обдавало лица Баталова и Кашина, тоже замешавшихся в вечернюю уличную сутолоку. Великолепный чуб Михаила реял над толпой, и спешащие на боевик девушки пугливо и трепетно взглядывали на него из-под беретов. Упруго шагал Семен, лелея втайне надежду на нечаянную встречу с Симочкой Караваевой. Они снисходительно улыбнулись бы и не поверили, понятно, если бы кто-нибудь вдруг сказал, что одному из них не суждено пережить этой ночи.
В ресторане «Медведь», мимо которого лежал путь оперативников, бухал оркестрик, наигрывая «Кирпичики». Сидящий у раскрытого окна толстяк тоскливо поглядел в зал, хватил рюмку водки и с наслаждением запил морсом.
— Разлагается, зараза, — с завистью сказал Семен. Он очень хотел пить. — Наел ряшку, буржуй.
— А ты почем знаешь? — усмехнулся Баталов. — Буржуй… Он в пароходстве служит, механиком на «Красном Герое Кетове». Вишь, отдыхает после трудов праведных. А ты сразу — буржуй! Эх, морс-то у него ледяной небось! Зайти, тоже попить…
— Нет, нет! — торопливо сказал Кашин, схватив его за локоть. — Идем лучше ко мне, чай пить. Он у меня китайский, от Сысолятина; и сушки есть. — Он твердо решил не пускать сегодня Баталова в ресторан. — Что там хорошего — шум, духота!
Миша остановился, поежился:
— Удобно ли? Поздно уже…
— А кому мы помешаем? Я ведь говорил, что один сейчас живу.
Баталов махнул рукой:
— Ладно! Уговорил.
Они миновали толпу, сошли с тротуара и по щербатому, разогретому булыжнику зашагали к набережной. Там, над рекой, в тихом зеленом дворике, стоял большой деревянный дом. В каморке на втором этаже его и жили Кашин с сестрой. Во дворе было пусто: спать ложились рано, не сидели допоздна, лузгая семечки, как лет пятнадцать-двадцать назад. Страшные пролетевшие годы научили ценить крышу над головой.
Семен отворил дверь, ведущую на лестницу, пропустил вперед Баталова. Сам следом застукал по ступенькам.
Тотчас, как за ними закрылась дверь, во двор вошли двое. Оглядевшись, тихо скользнули вглубь, где под липками еле проглядывалась маленькая скамейка. Сели. Тонкогубый, кудрявый, в клетчатой кепке парень запрокинул лицо, подставил его под стекавший с лип ветерок и засмеялся счастливо. Другой — русый, стриженый и скуластый — был хмур и напряжен.
6
КУДА СМОТРЕЛИ?Скрылся с большой суммой денег старший бухгалтер сплавного треста Зузыкин. Дознание показало, что в последнее время Зузыкин много пьянствовал, имел подозрительные знакомства, был неразборчив в отношениях с женщинами. Это и привело его на преступный путь. Зузыкин — выдвиженец, в прошлом красный командир, храбро воевал с Врангелем и на колчаковском фронте. Здесь живет немало его боевых товарищей. Фактически на их глазах произошло падение. Но рука фронтового братства не остановила вовремя бывшего командира в трудную для него минуту, не поддержала, не направила на верную дорогу. То же относится и к сотрудникам.
Позор! Как можно оставаться в стороне, если гибнет товарищ!
Карпов
Тяжко, тяжко. Брезжит свет, движутся тени. Малахов застонал, зашевелился, попробовал вглядеться в муть. Пение прекратилось. Что-то зашуршало, задвигалось, послышались шаги. Громче, громче, ближе, ближе. Ладонь легла на грудь, раздалось насмешливое:
— Ожил, страдалец?
Невыносимой зевотой вдруг подернулся рот Николая; мускулы лица напряглись, и он смог наконец приоткрыть глаза. Сначала было марево, но моментально развеялось, и возник кудрявый, тонкогубый парень. Голос низкий, вкрадчивый:
— И верно, ожил. Мать, чаю! Или водки тебе? — Парень хохотнул. — Небось сразу бы соскочил. Ну, ничего, теперь быстро — у нас докторишко пьяница, а ушлый. Дай-ко я тебя сам попою.
Он поднял Николаю голову, подложил подушку. Тот сделал глоток, задышал, закашлял. Но вода уже лилась по воспаленному пищеводу, и он, сделав нетерпеливую гримасу, пил и пил.
Наконец парень отошел, подмигнув:
— Спи! Ты, мать, не мешай, не скули тут — вишь, отдыхает человек.
А потом не было ни песни, ни шелеста шагов; жужжала муха, и громыхали по улице телеги. Малахов лежал на спине, неподвижно, глаза щипало, слезы сказывались и застревали в щетине небритых щек. Он уснул, забылся, и с той поры дни пошли над ним сплошной мутной пеленой. Бубнили на кухне голоса, семенила по комнате тихая светлая старушка. Иногда присаживалась на табуретку рядом с кроватью и пела: «Ты куда, дочи, колечико девала?..» Но худо было, если слышал, как она поет в горнице, ее сын — Федька Фролков: он отзывал мать в кухню и там бил быстро и жестоко. Раздавался сдавленный крик, удар, Малахов слышал, как шлепалось тело на пол или об стенку. Николай задыхался от ярости, рвался с кровати, пытаясь подняться, но сил не было еще, и он снова катился в сумерки.
Федька, улыбаясь и поигрывая витым поясочком, входил как ни в чем не бывало в горницу, садился к кровати, спрашивал о том о сем, дразнился, рассказывал анекдоты и нес похабщину.
С первых еще проблесков сознания к Малахову пришла мысль, уже не покидавшая его: где он? Что такое, в конце концов, с ним опять случилось, черт побери? Очутись он в тюрьме, больнице — тогда все было бы ясно, а тут — мухи летают по горнице, кричат под окном люди, подрагивают белесые Федькины ресницы…
Он долго не решался задать Федьке свои вопросы, словно боялся известности положения, ибо лежать было спокойно, а каждое усилие души требовало и усилий больного еще тела.
Однако все-таки решился. Фролков похмыкал:
— А я почем знаю? Прихожу это домой, гляжу — разлегся на кровати, как барин… ха-ха!.. Да ладно, не бойсь, шутю я…
Больше этой темы не касались. Федька, верткий, как угорь, шустро и умело уклонялся от нее.
Иногда к нему приходили гости. В горницу не заходили, сидели на кухне, толковали вполголоса (мать Фролков во время их визитов выгонял из дому). Пили водку, страшно ругались, тянули чисто и высоко:
От этих песен холодок пробегал по малаховской спине; он отворачивался к стене и затихал.
Кормили хорошо — скоро Николай встал на ноги. Прошел по горнице, цепляясь за стены. Заглянула Федькина мать, охнула, улыбнулась, развела руками…
В этот день у Фролкова начался запой. Он стал приходить домой поздно ночью или утром, неверным кулаком бил мать, сопя и ругаясь, и валился обычно тут же, возле порога, обессилев. Просыпался и снова исчезал. Несколько раз спрашивали его, но Федьки не было дома, и люди уходили. На пятый день, проспавшись к полудню, Фролков зашел в горницу. Был он избит и изодран, черен лицом. Нетвердо подошел к кровати, сипло поперхал и спросил:
— Ну, кореш, как житуха? Все валяешься? А то пойдем! — Федька хитро моргнул.
— Куда? — буркнул Николай.
— Куда! На кудыкины горы! Ты ничего? Не упадешь по дороге? А то возись с тобой…
— Это ты зря. — Малахов тяжело слез с койки и несколько раз прошелся по комнате. Остановился. — Задышка, черт!
— Кляп с ей, с задышкой, пройдет! — Фролков принес малаховскую одежду, кинул. — Давай быстрей!
Одежда была чисто стиранная, глаженая. Место на пиджаке, куда вошел когда-то кинжал Монаха, аккуратно заштопано. Малахов оделся; Федька оглядел его, крякнул одобрительно:
— Айда на кухню!
Там налил из графина по стопке, выпил свою, не чокаясь. Выпил и Николай.
— Теперь пошли! — хлопнул его по плечу Фролков.
Куда он попал опять? И кто они — люди, к которым он попал, раненный? Кто такой Федька, в конце концов? Душа к нему не лежала, но, что ни говори, он приютил его, помог встать на ноги. Нет, надо все-таки идти, узнать обстановку, в какой оказался. А там уж будет видно. Обратно-то к бродягам он всегда успеет попасть, на это труда не надо. За такими мыслями прятал Николай свою растерянность. В доме явно было что-то неладно, нечисто, но не так-то просто оказалось заставить себя покинуть теплый кров и ласковый уход, променять это снова на неизвестность…
Они вышли. Голова у Малахова кружилась еще, тело было слабым, быстро устающим. Город он знал плохой, как ни приглядывался, не мог определить, где же находится Федькин дом, в какой стороне, каком районе. Они, однако, удалялись от центра — скоро скрылись за деревьями и крышами купола самого высокого в городе Вознесенского собора.
Невыносимый табачный смрад, запах чего-то прокисшего, гвалт и хохот оглушили Малахова в доме, куда привел его Фролков. За дымом, сладким и тошнотным, двигались плохо различаемые люди, ругались, смеялись и плакали. Федька сразу включился в эту таинственную жизнь: кого-то обругал, кому-то подхохотнул, кого-то смазал по уху… Подтащил Николая к корявому, заваленному объедками столу, толкнул на табуретку, сам шлепнулся рядом и заорал:
— Дунька, мать твою растак и распротак! Водки вольным хлибустерам.
Подбежала девка с жирной спиной, в грязном коротком платье, захихикала:
— Придумаите, Федичкя… хлибасьер… ха-ха! И вам доброго здоровьичкя… И где-то я вас видала. Не спомню… — пожеманилась она в сторону Николая.
— Водки! Быс-стр! — крикнул Фролков и с оттяжкой шлепнул девку по заду. Сунул ей несколько бумажек.
Девка, визгнув, убежала. Федька ткнул Малахова под бок, ухмыльнулся:
— Ишь, за «карася» тебя посчитала! А вопче — нравится?
Малахов отрицательно мотнул головой.
— Зря, зря, — скривился Фролков. — Она — мягкая. И живая… — Он загыкал и вдруг вскочил с табуретки, побежал в угол.
Николай огляделся. Народу, в общем, было не так уж много: четыре девки — одна спала на полу, на рогожке, другая хрипела от хохота на коленях огромного парня в тельняшке, и еще две сновали по избе, с криком и матом приставали к мужикам.
Были личности вообще смутные. Так, напротив Малахова, опершись о стену, сидели двое: одноногий мужичок в лохмотьях, страшный и пегий, нищий по виду, и черная, косматая, обезумевшая от алкоголя баба. Перед бабой стояло полштофа — она наливала в кружку и пила, хихикая и трясясь.
— Я богатой, богатой. Бабин моё фамильё… — однотонно бубнил мужик; вдруг спохватывался и тянулся к кружке, вякал: — Дай-дай-дай!
Баба хватала с пола рваную калошу и била ею нищего по голове. Он падал набок, поднимался, и снова: «Я богатой, бога-атой…»
Подскочил Фролков:
— Чего ворожишь? Пей! — Он выхватил у Дуньки штоф, плеснул в кружку: — Пей!
Николай, содрогаясь от отвращения, выпил. Его мутило от смрада, водки и слабости. Встал, покачнулся:
— Я пойду.
— Э-э, обожди! Я тебя доведу, доведу до полного аккурату… — в исступлении забормотал Федька, сорвал его с табуретки и потащил в угол. Усадил, сунул ему папироску, запалил: — Соси, радуйся!
Малахов потянул кисло-сладкий дым. Дыхание перехватило, голова запрокинулась, руки, ища опоры, взвились вверх, и он, как сноп, повалился на исщербленные, загаженные половицы…
…— Чего орешь? — проник в сознание голос Фролкова. — Очумел, дурило. — Федька взял Малахова под мышки, поставил на ноги. — Вставай, идти пора!
Малахов встряхнул головой, открыл глаза. Поплыли черные стены, низкий потолок. Он утвердился на ногах, огляделся. На полу валялись куски и окурки. Разинув беззубый рот, спал нищий. В углах мелькало что-то белое, стыдное — там за печкой шумели и вскрикивали. Пошатываясь, он побрел к двери. Фролков забежал вперед, открыл запоры, и они оказались на улице. Возле крыльца Николая вырвало. Страшно, надрывно колотилось сердце — он схватился за угол дома, чтобы не упасть, и с ненавистью поглядел на Федьку. Тот придвинул лицо с размытыми кокаином зрачками, осклабился:
— Что, тяжко с непривычки? Ничего, привыкнешь… — И дернул Малахова за локоть. — Пошли.
«Рубали мы вас, — тяжело подумал Малахов, — да не дорубали. Уйти теперь — самое бы время, но как уйдешь, если совсем нет сил? Ползти в пойму, где жил когда-то? А кому ты там нужен? Почахнешь, да и сдохнешь с голоду. Отлежусь еще пару дней, а там уж — айда, обязательно!»
С трудом, сжимая зубы, он доплелся до Федькиного дома. Открыла мать — испуганная, она сразу посунулась к уху сына и стала бормотать что-то шепотом. Когда она ушла, Фролков прислонился к косяку, кинул в рот папироску и стал прикуривать, утло чиркая по прыгающей в руке коробке. Он сразу побледнел, отрезвел. Но, уловив удивление на лице Малахова, махнул рукой, унял дрожание в подбородке, сказал глухо: «Не дрейфь, не дрейфь…» — и стал подниматься по лестнице. «Кого это он вдруг забоялся?» — недоумевал Николай, ступая за ним. Крадучись, тихонько они прошли по коридору и заглянули в кухню. Там спиной к ним, подняв лицо к окошку, сидел мужчина в модной шелковой полосатой рубашке. На стуле висел его френч песочного цвета. Не оборачиваясь, он тихо заговорил:
— Обидели вы меня, ребята. — Голос был мягкий, бархатный. — Хотя что обижаться — вы ведь с ночных побед? Дамы, дуэли. И где же это происходило? В притоне у Дуньки, на Третьей Мещанской? У вас бедная фантазия, Федя: эти женщины примитивны в любви и недостойны настоящего рыцаря. Я, представьте себе, предпочитаю более высокие удовольствия. При всем при том, Федя, вынужден заявить еще раз, что не терплю в своем окружении мелких пакостников, и горько видеть, как вы скатываетесь на эту губительную стезю.
Федька слабо пискнул. Спина дернулась; Фролков вжался в косяк.
— А как ваше здоровье, раненый герой? Бедный, бедный. Когда вас привезли, я видел тело — это тело солдата. Столькими шрамами в этой компании могу похвастаться, наверно, только я. С кем, где воевали?
— Двенадцатый стрелковый имени Железного Сибирского пролетариата полк! — отчеканил Малахов и, ступив вперед, добавил: — Не мешало бы, между протчим, познакомиться!
Мужчина поднял руку, и тотчас Фролков загородил вход, сев на порог и упершись руками в противоположный косяк.
— Значит, решили переменить стан? Это достойно. У меня есть основания особо доверять людям с боевым опытом. Поэтому уже сейчас предвижу в вас надежного помощника и, возможно, друга. Мне нужны такие соратники — организацию точат измена, марафет и сифилис, на этом теряем даже лучших.
— Больно надо в друзья к вам определяться, — угрюмо буркнул Малахов. — Ничего себе друг, даже морду не кажет. В общем, так: за хлеб-соль спасибо, и — прощевайте.
«Теперь — держись, Коля, — думал он. — Если такие отпустят — дома мараться не станут, постесняются при старухе. Тоже резону нет — потом избу от крови чистить. Эх, раньше бы, сейчас не справиться мне с ними, не уйти…»
— Я предполагал такую реакцию, она достойна уважения. Но посудите сами, кабальеро: куда вы пойдете? Слабый, больной, с виснущим на пятках угрозыском. А вы как думали? Вся банда Кота расстреляна в прошлый вторник. Было бы роскошью думать, что карающая десница не нашарит наконец вас. К тому же вы сорвали самую их блестящую, хоть столько же и случайную, операцию: захват на рынке Дроздова, которого они выслеживали полгода. Так что с вами никто особенно и разбираться не будет — шлепнут скоренько, и все.
— Мало ли. Ошибся, бывает.
— Ошибся… — послышался смешок. Фролков тоже подобострастно хихикнул. — Да вы зря нас сторонитесь, синьор. Меня, конкретно. Заверяю, я человек чести. Вас, вижу, гнетут нравственные проблемы. Боитесь испачкаться в крови. Не страдайте: в большинстве случаев люди, с которыми нам приходится иметь дело, — просто ожиревший сброд. Потом — было бы неразумно сразу давать вам, солдату, оружие, это просто опасно, по себе знаю. Поэтому будьте спокойны, на ваших руках не будет крови. Что же касается тебя, Феденька…
— А откуда известно, что я Дроздова увел? — прервал его Малахов.
— Как же, как же! Валюша сам рассказывал мне. Вырвать одинокого, обреченного уже, брошенного равнодушной толпой, из лап обезумевших от ярости оперов — это сила, вихрь, страсть моя! — Он вскочил, чуть было даже не обернулся, но снова сел, спохватившись. Сказал слабо: — Ступайте, отдыхайте. Послезавтра буду ждать вас вместе с Федей, после славных дел. Ступайте, ступайте, голубчик.
Малахов скрипнул зубами, повернулся, ушел в горницу. Возле двери остановился и глянул на Федьку. Тот с трудом поднялся, на гнущихся ногах потащился к столу, за которым сидел гость. И почти сразу раздался удар — резкий и страшный. Федька крикнул и обрушился на пол. Звякнула упавшая откуда-то чашка, задребезжали осколки. Мать Фролкова всхлипывала в углу горницы.
«Да хоть убейте вы друг друга, — думал, лежа на кровати, Николай. — А я с места не стронусь».
Пришедший долго бил Федьку — тот верещал и хныкал. Наконец возня в кухне прекратилась, и гость осведомился деловито:
— Ты где пропадал, сволочь? Каждый на счету, а он — по притонам, пьянь паршивая. И новенького, гадина, туда же тащишь!
— Ви… виноват… Запой… запил я…
— Мизерабль, марафетчик проклятый. Эх, пристрелить бы тебя… Ладно, что дело по твоей части выскочило, а то бы… Тихо, иди ближе.
Николай насторожился, стал вслушиваться, но собеседники за стенкой перешли на шепот, и он ничего не мог услышать.
Вскоре гость ушел. Федька, повеселевший, заглянул в горницу, оттопырив разбитые губы, трогая скулу:
— Обошлось, кажись! Теперь дернуть по случаю избавления, и — ша! Теперь все, брат. Нынче отдыхаем, а с завтрашнего дня — вникать тебе пора, да и сам-то я… подразомнусь чуток…
Находясь под впечатлением встречи с гостем и слушая невнятные речи Фролкова, Николай томился и думал: «Вот сейчас встану и уйду», — однако не вставал и не уходил. Чего он ждал? Может быть, боязнь потерять хоть какую-то крышу над головой остановила его? Что ни говори, зыбок, пуст и чужд был для Малахова город, находящийся за пределами этих стен. Никто не ждал его там: ни работа, ни друг. Николай говорил себе, оправдываясь: если человек по натуре честен и тверд в этой честности, такому не зазорно находиться и среди презираемых им. Душу-то грязью не запачкают! Подумаешь, одежонка погрязнится немного. Да пока вроде и не грязнят. Разговоры, правда, непонятные ведут — ну, так и шут с ними, с разговорами! Так он успокаивал себя. Но на самом деле, приноровившись уже немного к обстановке, в которой находился, Малахов всячески старался отдалить момент ее перемены. Легко принимать решения по житейским мелочам — они сами напрашиваются и не требуют больших душевных усилий. Когда же надо решить главное: куда идти, как употребить оставшуюся жизнь? — уклоняешься, медлишь малодушно — а может, не надо, может, и так обойдется? — хоть и знаешь точно, что надо…
На следующий день в семь часов вечера они вышли из дома. Федька, посвежевший и отоспавшийся, преобразился. Шаг его был быстр и мягок, движения плавны и мгновенны. Малахов еле поспевал за ним, и Фролков шипел. Наконец, скрипнув зубами, сбавил шаг и пошел рядом.
— Не узнаю я тебя, Федя, — запыхавшись, сказал Николай. — Шустрый стал какой. И не поверишь, что вчера страхом исходил.
— Замолчи! — надрывно выкрикнул Федька. Он снова ускорил шаг, заговорил отрывисто: — Что бы ты понимал, серая кобылка! Ну что ты в жизни, кроме обмоток да портянок, видел? А ему что ты, что я — плюнуть и растереть. Еще неизвестно, жил бы я или нет, если б на сегодня не понадобился. Понял, как у нас? Поря-адок… — Он засмеялся слабо и тихо, и Малахов содрогнулся от этого смеха.
«Вот сейчас и уйти», — подумал он. Федька словно угадал его мысли: схватил за руку и промолвил так же расслабленно:
— Рядом держись. Отойдешь больше чем на два метра — распорю.
— Зачем я тебе нужен? — спросил Малахов.
— Нужен, значит, нужен! Насчет тебя строгий приказ дан, а у нас — я говорил — порядок!
И Николай понял: с этой минуты ничего уже не сделать самому, по-своему. Если раньше он легкомысленно рассчитывал, что захоти — и сразу же будет свободен, то теперь стало ясно: любое проявление собственной воли ведет только к одному — немедленной смерти. Сердце его упало, он шел рядом с Фролковым, как в строю: деревянным шагом, размахивая руками, тупо и влажно взглядывая по сторонам.
Федька тащил его по пыльным людным вечерним улицам; Малахов устал. Продравшись сквозь толпу на главной улице, они остановились возле двухэтажного приземистого, с балкончиками наверху и двумя колоннами внизу, здания. Поверх окон первого этажа была аляповатая вывеска «Медведь», а по обе стороны колонн нарисовано по фигуре скалящегося, невиданного коричневого зверя. Фролков деловито огляделся и подошел к притулившемуся возле угла ресторана, пускающему тягучие плевки на тротуар парню. Тот, увидав их, осклабился, сунул обоим вялую потную руку:
— Привет!
— Где? — лениво осведомился Фролков.
— Не знаю. — Парень пожал плечами. — Нету пока. Обожди, подойдет. — Он вытащил папиросы.
Закурили. Вечернее солнце крепко палило, и у Николая заболела голова.
— Куда он девался? — ворчал Федька. — Ты прозевал небось?
— Да ну! — оправдывался парень. — Мой глаз вострый. Подойдё-от! Каждый вечер сидит.
Вдруг он встрепенулся, схватил Фролкова за локоть:
— Вон! Высокий, с чубом. Рядом еще красавчик в кепочке.
— Где? Где? — заозирался Федька. Стукнул парня по руке. — Пальцем-то не тыкай, дурак! Забыл, с кем имеешь дело? Которые на ресторанное окно смотрят?
— Ага!
— Ладно… — Фролков прислонился к углу. — Давай топай теперь, мы, — он коснулся малаховского плеча, — сами управимся.
Парень ушел. Федька стоял и курил, а Николай маячил рядом, посматривая на двух стоящих напротив окна мужчин. Кто такие, интересно? Вот высокий усмехнулся нерешительно, пожал плечами, но махнул рукой и пошел вниз по улице рядом с приятелем.
Федька растерянно поглядел им вслед, выругался:
— В душаку мать! А говорили — в ресторан пойдет.
Он морщил лоб, мучительно соображая. В чем-то вышло несоответствие между фактом и заданием, полученным Фролковым.
— Может быть, обратно пойдем? — сунулся Малахов.
Но Федька уже решился: сладко потянулся и, схватив спутника под руку, мягко заскользил вниз по улице, где мелькал среди голов пышный чуб высокого мужчины.
Движение было большое, они вырвались из толпы только недалеко от набережной. Вошли в тихий дворик, куда свернули преследуемые, и уселись на скамейку в глубине двора.
7
— Сейчас, сейчас… — суетился Семен возле самовара. Самовар был старый, луженый во многих местах, куплен по дешевке у рыночного барыги; приобретение немалое, если учесть склонность Кашина к долгим вечерним чаепитиям. Наконец он вздул самовар, шлепнулся на табуретку:
— Ф-фу-у…
Баталов, пристроившись у колченогой этажерки, листал книги, бормотал:
— Сахаров. «Казнь королей»… Ленин. «Задачи союзов молодежи»… Жорес. «История Конвента»… Орловец. «Похождения Карла Фрейберга, короля русских сыщиков»… Бебель. «Женщина и социализм»…
Он покачал в руке пухлый том, с уважением глянул на Семена. Тот крутился на табуретке, не зная, чем занять гостя. Пока шли по улице, был обиходный разговор, беглый и необязательный. Теперь же, в узкой своей комнатке, Кашин впервые за сегодняшний день почувствовал себя неуверенно. О чем он будет говорить с Баталовым? Да и захочет ли Михаил говорить с ним? Молчит, роется в книжках, на вопросы отвечает не сразу, бурчит чего-то вполголоса.
У Михаила же и вправду сменилось настроение с того момента, как они, поглазев на тоскующего в ресторанном окне пароходного механика и помечтав о морсе, пошли к Кашину. Неуверенная, зудящая какая-то жилка забилась у виска, и никак не удавалось унять ее. Это состояние, тревожное и противное, появлялось уже в последние дни, но удавалось как-то заглушить его, оно исчезало, а сегодня было особенно сильным и щемящим. Облегчение пришло только тогда, когда они зашли в квартиру этого парнишки, только что переведенного из стажеров в агенты.
В последний месяц Баталов действительно вел жизнь тайную и опасную. Никто в угрозыске не знал об этой его жизни. Даже Войнарский. Впервые приходилось что-то скрывать от него, и Миша очень терзался, но карт упорно не открывал, ибо дознайся Войнарский — сразу подключатся другие, начнется суматоха, а на этот раз Баталов хотел все провести сам, от начала и до конца. Он не гнался за славой, она была ему безразлична. Просто, не попав по хитрой воле начальника губрозыска на операцию по ликвидации снегиревской банды, он ожесточился и решил: хватит! Скрыл данные, полученные от Кота, начал отрабатывать их сам. Работал почти месяц, ловил косые взгляды друзей, получил замечание от Войнарского, недовольного весьма его ресторанными досугами, и упорно и тщательно, как всегда, добывал информацию. Надо признать, ни одно дело не продвигалось у него так медленно и трудно, как это, и реальных зацепок накопилось совсем немного.
Молчание затягивалось; чтобы избавиться от него, Баталов спросил, оглядев комнатешку:
— Призраков, случаем, не водится?
Семен вздохнул:
— Чего нет, того нет. Тараканов только тьмищи.
Они помолчали.
— Чего ж чай-то? — спохватился Кашин. — Сейчас, обожди, сушки вытащу.
Он налил Баталову и себе чаю, пожмурился от удовольствия, отхлебнув, и осторожно спросил:
— У тебя семья есть?
— Нету. — Михаил уселся за стол, шумно придвинув табуретку. — Совсем один. Квартирую у одной бабушки-задворенки. Бабка, правда, хорошая. Я после гражданской хотел жениться, да не получилось. Ну и бог с ним, о том ли теперь думать.
— А о чем?
— Ну, о чем… — замялся Баталов. — Тебя, к примеру, надо учить. Ты все в стажерах ходишь?
— Нет, что ты! Давным-давно уже нет… месяц почти не хожу.
— У кого стажировался? Ты уж извини, что спрашиваю, поинтересоваться-то все недосуг, знаешь, было.
«Конечно, какое тебе до меня дело!» — тоскливо подумал Семен, а вслух сказал:
— Со стажерством у меня неважно вышло. Сначала к Прову Ефимычу, старичку, определили, а через две недели его вычистили за старорежимные методы сыска, и я месяц на подхвате проболтался — в дежурке сидел да дела в канцелярии оформлял — описи там составлял, то, се… Потом к Ивану Яковличу Зенкову пристроился, отлично дело у нас пошло, а его раз — и перевели начальником милиции в уезд. Опять я один, опять никому не нужен! Я уж хотел следом за ним уехать, что я здесь оставил, в конце концов.
— Не надо спешить, там тоже не больно сладко.
— Да хоть как! Лишь бы дело было! Теперь вот, на первый взгляд, у меня все путем: и из стажеров, вместо Яши, перевели, и оперативную работу по мелочи поручают, да на какого черта она мне сдалась, эта Коза проклятая?!
— Ну, не скажи. Возле нее тоже любопытный народ иной раз крутится. Эх, да ладно! Я тебя понимаю — дела хочется! Давай так: вот развяжусь с кой-какими делами и сам за тобой присмотрю. Учитель из меня, правда, не очень хороший, но показать, объяснить что-нибудь сумею, безусловно. А лучше всего — возьмем у Войнарского дело на пару, вот вместе и покрутимся.
— Даст ли?
— Не твоя забота. Как, согласен?
— Гос-споди! Именно об этом-то я и хотел вас просить, почтенная Карабосса! — вскричал Семен и затаился: ему было интересно, как Баталов отреагирует на эту фразу из «Принца с хохлом».
Но тот ее будто не слышал: продолжал пить чай. Вдруг сказал, глядя в стол:
— Мальчишку, Фофана этого, жалко мне. Всю бы шпану, всю сволочь за него одного перестрелял.
— Как это ты — перестрелял? — усомнился Кашин. — Кто тебе разрешит, интересно? Поймай на конкретном преступлении, задержи, а дальше уж — дело не твое: расстрелять не расстрелять…
— Давай толкуй! — Михаил отбросил ложечку. — Нашел кого жалеть. Я вон дружка своего однажды не пожалел. Был такой, Арканя Фокеев. Мы с ним на колчаковском фронте в одном взводе мыкались, потом аж в Крыму… Друзья-то, друзья были! А в двадцать четвертом повязали его в банде, что под Усть-Каменкой орудовала. Я сам его брал. Узнали мы друг друга, однако вида не подали. А ночью вывел его из сарая, отвел к оврагу и говорю: «Что же ты, сука, наделал? Как мог над нашим делом надругаться? Мало того, что себе и мне душу обгадил, ты революцию захотел обгадить, паразит!» В ногах валялся, все просил, чтобы я его разговорами не мучил, шлепнул на месте. Бес, дескать, попутал! Пришел, мол, с войны — баба, детишки ободраны, жрать нету, — пошел в банду, провиант да барахло доставать. Пожалел я его все-таки тогда.
— Как пожалел? — встрепенулся Семен.
— Пристрелил. Чтобы от Советской власти, за которую и его кровь пролита, позору ему не было. Понял? В таких делах, брат, ответа я не боюсь. Взвалил на себя революционную ношу — неси, не оглядывайся. Надо решать — решай, ни на кого не кивай.
— А если вдруг неправильно решишь? Ведь не только перед собой отвечать тогда — перед всей революцией.
— Не боюсь! — рубанул рукой Баталов. — Туг главное — какой фигурой сам в этом решении окажешься. Если в сторонке, тогда конечно. А если жизнь свою на кон кидаешь — поймут, кому надо, а до остальных мне и дела нет.
Кашин не мог теперь подробно уяснить смысл баталовских слов, сидел, разрумянившийся от чая, польщенный откровениями своего кумира. До сути их пришлось доходить впоследствии одному, собственным умом и опытом.
Михаил поднялся, снова сунулся к этажерке. Выхватил «Владыку Марса» Берроуза, хлопнул по залитой чернилами обложке:
— Беру почитать! Не возражаешь?
— Бери, бери! — Семен подскочил к Баталову, собрал со стола сушки и стал засовывать в карманы его брюк. Тот отбивался: «Да ну тебя!» — но Кашин не слушал.
Михаил подошел к окну, глянул:
— Лихие ночи! Облака, ветер, темень…
— Оставайся у меня! — предложил Семен.
— Не могу. Бабке обещался прийти, — серьезно сказал Баталов. В дверях остановился, подмигнул, сжал ладонь: — Пока, о Карабосса! — и затопал по лестнице. С полдороги вернулся: — Книжку-то забыл, понимаешь! Не повезет, наверно…
Взял «Владыку Марса», запихал за ремень и ушел. Выйдя со двора, он ринулся в сутолоку кривых, путаных улиц, потихоньку приближаясь к дому, где ждала его бабка. Но, не пройдя и трети дороги, услыхал за спиной быстрые шаги. Обернулся — догоняли двое.
8
СУДНа днях в губсуде будет слушаться кошмарное дело известного бандита — матроса речной флотилии Снегирева и других, оперировавших в районе речного плеса в тяжкое для Республики время и совершивших 20 зверских убийств и много других преступлений.
* * *Гавриил Сергеевич Ламочкин после продолжительной болезни вчера тихо скончался в три часа пополудни, о чем семья покойного с глубоким прискорбием извещает знакомых.
— Ты иди сзади, — сказал Фролков. — Отстань шагов на десять. Я сам с ним потолкую.
Малахов судорожно сглотнул, кивнул головой.
Осторожно они крались за вышедшим из дома чубатым парнем. Когда шли по тихим, залитым тополиным пухом переулкам, Фролков вдруг ускорил шаг, сунул руку в карман и стал догонять. Фигуры их мелькали и качались перед Николаем; дыхание его прерывалось, в голове звенело.
Идущий впереди оглянулся, пошел быстрее. Федька окликнул его:
— Эй, ресефесер! Постой, постой!
А Баталов в это время, вышвыривая на землю туго забившие карман сушки, пытался добраться до револьвера… Револьвер у него был маленький, именной, и он, когда ходил без пиджака, обычно клал его в карман, сверху прикрывал записной книжкой, чтобы не видели очертаний оружия. Широкие клеши все быстрей мели мостовую, сыпались сушки… Вот. Пальцы его нащупали ребристую, теплую рукоятку.
«Неуж настигли? — лихорадочно выстукивал мозг. — Это они меня возле „Медведя“ зацепили, неспроста ожгло — почуял их, сволочей… А может, все-таки скокари случайные, гоп-стоп?.. Если Черкизовы ребятишки — значит, дал я маху… Где? Теперь неважно… Как бы после меня кто-нибудь так же не сгорел…»
И, оставив револьвер, он рванул из кармана записную книжку. Распахнул на середине, выдрал листок и сунул под рубаху, на голое тело. Так же на бегу застегнулся, кинул руку в карман, выдернул ее, повернулся…
Малахов увидал в сумерках, как парень внезапно остановился. Страх облил душу. Он сделал рывок из последних сил, надеясь все-таки настичь Фролкова и ударить по ногам, но уже раздался резкий треск, и стоящий впереди подпрыгнул, скорчился…
Настигнув Баталова и нащупав стволом висок на бьющейся об землю голове, Фролков выстрелил еще раз. Чубатый откинулся на спину и затих. Малахов, шатаясь, подошел к Федьке. Тот обшарил и со злостью пнул труп:
— Опередил я его все-таки, не дал выстрелить. От меня еще не уходили, так-то… Легавый, сволочь! Теперь — тикать надо, а то народ высыплет — опасно!
— Н-не… не могу я… отпусти… — хрипел Николай.
— Я дам — не могу! Ты что, очумел? Держись за меня, что ли… гундосишь тут…
Сунув по карманам револьвер и записную книжку убитого, Федька закинул руку Малахова себе на шею и, тяжко ступая, потащил его в темень дальних переулков.
Плутали по ним долго, с полчаса. Бандит заметал след. Николай уже очнулся и шел сам, трудно дыша и всхрипывая.
Когда вышли на булыжную мостовую, обтекающую маленькую приземистую церквушку, Фролков остановился и сказал:
— Теперь не достанут, не бойся. Ну, с крещеньицем тебя! Понял службу?
Он подошел к куче сложенных булыжников (дорогу мостили), сел у ее подножия на землю, раздробил крепкими зубами подобранную возле чубатого сушку, умял ее с аппетитом, заговорил. Голос был лихорадочный, возбужденный, концы слов приминались или обрывались — получалась невнятица. Малахов слушал льющуюся из его горла пополам с матом речь, пытаясь понять ее смысл, пока не догадался: Фролков пел свою победную песнь. Гортанные звуки с клекотом взлетали над убийцей.
И тогда Малахов выпрямился. Движения его стали четки и уверенны. Он подошел к Фролкову, нагнулся, взял булыжник из груды и, размахнувшись, со всей силой опустил на исказившееся, метнувшееся к нему из темноты белое лицо Федьки…
Тем же вечером знакомый нам беспризорник Абдулка со своим другом Ванькой Цезарем сговорились сделать набег на склад станционного товарного двора. Цезарь давно присматривался к этому складу: шнырял, чумазый, днем по двору, путался под ногами у грузчиков, но и помогал, бывало. Они не гнали беспризорника, Ванька был веселый — отбивал чечетку, передразнивал десятников, бегал за водкой. Улучив момент, забрался в прогал между забором и стеной крайнего склада. Там он обнаружил в цельных, скрепленных поперечными перегородками бревнах кусок вставленного бруса — около аршина. Там же, на дворе, Ванька нашел ржавый обломок железного прута — его следовало вогнать между бревнами и выковырнуть брус. Сам Цезарь едва ли пролез бы в отверстие — был толстоват — и потому сговорил «идти на дело» Абдулку. Накануне в склад загрузили ткань для кооперативных лавок; продав несколько штук ее, можно было сколотить немалый капитал. Абдулка согласился, ему уже надоело побираться. Когда Цезарь поведал ему свой план, они сели в угол подвала и стали шептаться. На деньги от продажи краденого Абдулка мечтал купить красок, цветных мелков, бумаги. Лицо его горело, а Ванька кряхтел одобрительно.
Цезарем его прозвал один нищий, бывший учитель истории в гимназии, коротавший с ним зиму в беспризорничьей коммуне на Волге. Прозвище дано было за литой римский профиль с едва заметным переходом от линии лба к массивному прямому носу, с короткой и капризной верхней губой и тяжелым подбородком. Происхождение свое Цезарь скрывал, хотя, судя по коротким воспоминаниям, жил до войны совсем неплохо. Но он презирал прошлое, не думал о будущем, лишь настоящее устраивало его, и он жил в этом настоящем как рыба в воде: воровал, шатался по свалкам, знался с женщинами, бивал и сам был бит. Однажды предложил Абдулке пойти вместе «к бабам», но тот отдернулся испуганно. Худой, загнанный звереныш, он помнил еще, как жил в большом южном городе, как к матери, оставшейся с германской без мужа, без работы, приходили «гости» и как они с братом ночами, вжавшись в постеленные на пол матрацы, наблюдали гнусные и ужасные сцены, от которых лопалось сердце в слабой грудной клетке. Потом мать вместе с ее «котом» Гаврей Чао посадили в тюрьму за ограбление матроса. Брат помер; пришли новые хозяева в квартиру и выгнали Абдулку на улицу. По правде сказать, было у него когда-то другое имя, но прицепилось новое, и он от него не отказывался, принял равнодушно. Когда Ванька позвал его к женщинам — бродягам и беспризорницам, живущим возле городской свалки, чтобы Абдулка сам делал то же гнусное, что делали с его матерью, страх и тоска вспыхнули с новой силой, и он яростно крикнул: «Уходи, зараза!» Цезарь равнодушно пожевал губами, сказал: «Ну, уходи так уходи, а орать-то чего?» — и удалился. Они «корешили» почти год, познакомились на товарняке, когда ехали в эти более хлебные края. Абдулке Цезарь нравился: добрый, шалопутный и привязчивый. И какой бы избитый или пьяный ни приползал в подвал, всегда тащил в тряпке кусок хлеба или сала для друга.
Сторож застукал их, когда полдела уже сделали: один край бруса вывернулся и висел снаружи, оставалось только взяться за него и вытащить или утолкать внутрь. Неожиданно метнулась от угла человеческая фигура, Абдулка отпрянул, а Цезарь завизжал и забился в руках сторожа. Тот орал во все горло и матерился. За складом послышались топот, крики, и Ванька захрипел:
— Беги, Абдул! Бить будут, беги!
Абдулка подпрыгнул, ухватился за верхушки досок, подтянулся. Увернулся от взметнувшейся кверху чьей-то лапы и, разрывая цепляющиеся за острый забор лохмотья, ринулся вниз.
Поднялся с земли и запетлял по улицам. Спотыкался и падал, снова бежал. Когда за взгорком блеснул купол стоящего над рекой собора, он перевел дух: ушел! Не спеша двинулся к реке — она тихо переливалась внизу, слегка подернутая рассветным туманцем. Абдулка скинул лохмотья, ополоснулся, умыл лицо и засмеялся.
Он вздрогнул, услыхав от кустов, тянущихся вдоль берега, тихий голос:
— Парнишка! Поди-ка сюда!
Абдулка оделся и сделал несколько осторожных шагов в ту сторону. Человек сидел возле куста, обхватив руками колени, и внимательно глядел на беспризорника.
— Да не бойся ты меня! — сказал он. — Я, брат, и сам-то боюсь.
— А я и не боюсь. Чего мне бояться?
Подозвавший Абдулку был мужик лет двадцати пяти, в ношеном коричневом пиджаке, армейских штанах и сапогах. Взгляд его, оторвавшись раз от Абдулки, не возвращался уже к нему, плыл по течению реки, возвращался, снова плыл.
— Тебя как звать? — спросил мужик.
— Абдулка.
— Татарин, что ли?
Беспризорник не ответил.
— Слышь, Абдулка, ты в домзаке был?
— Был. А что?
— Так просто. Ну, и… как там?
— Ничего хорошего. По звонку жрать дают.
— По звонку? По звонку, надо же… А за что ты там сидел?
— По дурости, — уклончиво пожал плечами Абдулка. — Было дело…
Сидящий повернул к нему лицо и спросил скрипуче, надтреснуто:
— Ты как думаешь: люди злые или нет?
— Злые! — убежденно сказал беспризорник. — Они моего друга сейчас небось уже до смерти забили.
— За что?
— Ну, пустяк. Склад один подчистить хотел.
— Вот видишь, — вздохнул парень. — За кражу. А ты, значит, тоже воруешь?
— Они его до смерти теперь убьют, — словно не слыша вопроса, сказал Абдулка.
— Могут и до смерти. Так зачем же он против них-то пошел? Воровать полез, вот…
— Так что теперь — взять и убить, да? — дрожащим, тонким голосом выкрикнул беспризорник.
— Убить нельзя. Убить нельзя…
Парень поднялся, сделал несколько шагов к реке, остановился. Обернулся и сказал, помолчав:
— А ведь я, брат Абдул, тоже сейчас человека убил…
У того ослабли ноги.
— Не-ет! — закричал Абдулка.
Незнакомец кинулся к нему, прогнулся, будто хотел схватить за руку, проплакал:
— Постой, малый!..
Но беспризорник отдернулся и, причитая и всхлипывая, бросился вверх, осыпая землю.
Добежав до пристани, он перелез через изгородь маленького чахлого садика, упал на землю и долго лежал без движения, уткнувшись лицом в пыльную траву. Поднялся, будто очнувшись, вылез из садика и поплелся обратно. Двигался по улице ассенизационный обоз. Возчики ели, курили, кричали на лошадей:
— Но, окаянная порода!
Один из них склонился с повозки и сквозь обозный скрип окликнул:
— Эй, малец! Хлеба хочешь? — и протянул завернутый в тряпку брусок ржаного каравая.
— Нет! — мотнул головой Абдулка. — Курить охота.
Ассенизатор не спеша полез за пазуху, вытащил кисет. Оторвал два листка бумаги от газетки, один сунул себе в губы, другой протянул беспризорнику. Они свернули самокрутки, закурили.
— Садись! — хлопнул по сиденью возчик. — Подвезу немного, ежли не брезгуешь.
— Нужен ты мне! — с ненавистью сверкнув глазами, сказал Абдулка. — Все вы вместе… — И он быстро пошел по мостовой, обгоняя обоз.
— Ну и робята! — хмыкнул ассенизатор. — Чистые волчата, ей-богу.
Когда Абдулка тихонько прокрался к прибрежным кустам и огляделся, незнакомца уже не было. Только смятая трава на месте, где он сидел. Абдулка лег на живот и стал смотреть на реку. Там было светло и искристо, далеко где-то кричали паровички. Вот спустилась к реке собака и стала жадно лакать, припадая к земле. Напилась и бросилась обратно.
— Тузик! Тузик! — позвал беспризорник.
Собака изменила свой путь и побежала к кустам. Подбежала и уселась поодаль, высунув язык и сторожко вздрагивая. Свалявшаяся шерсть, парша, на боку запеклась кровь. Безумие колыхалось в лиловых глазах собаки — вспыхивало и гасло. Нервная дрожь сотрясала шкуру, клыки обнажались, и с них капала слюна.
— Тузик, Ту-узик… — приговаривал Абдулка. Он поднялся, хлопнул себя по ноге. — Ко мне!
Собака распласталась на земле и быстро-быстро поползла к нему. Но на полдороге остановилась и вскочила на ноги. Жалобный то ли вой, то ли лай вырвался из пасти.
Абдулка полез вверх, оглядываясь на пса и подзывая его. Собака некоторое время глядела ему вслед, затем повернулась и побежала в другую сторону — подальше от людей.
10
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮОт освобождаемого заключенного Селиванова Афанасия Андреевича, крестьянина д. Козыбаевой, Лобановской волости.
Попав по несчастью в тюрьму и ныне заканчивая свой срок, считаю долгом высказать благодарность начальнику домзака № 1 за то, что я с великой пользой для себя и для крестьян моей деревни провел часть срока заключения в мыловаренной мастерской домзака.
Раньше я понятия не имел, как делается мыло. Ныне же я с правом и гордостью считаю себя мастером-мыловаром.
Признательный крестьянин А. А. Селиванов
УБИЙСТВО ТОРГОВЦАПо дороге из города в село Колесово выстрелом из револьвера убит с целью грабежа торговец этого села Александров.
Агентами губрозыска установлен и задержан грабитель, Стариков Степан Федорович, 35 лет, работал секретарем земотдела. Раскрыт также целый ряд грабежей и убийств, совершенных Стариковым ранее, он уличен уже несколькими потерпевшими.
Около трех часов ночи к дому, где жил начальник губрозыска, подъехала пролетка. Дверь большой коммунальной квартиры оказалась незапертой. Растерянный, запыхавшийся дежурный агент Родька Штинов в три прыжка оказался у комнаты Войнарского и постучал. Скрипнула кровать, выглянул хозяин; увидав побелевшее Родькино лицо, отпрянул, и тот вошел в темную комнату.
— Что? Что случилось, Родя? — зашептал Юрий Павлович, бросаясь к тумбочке — искать пенсне.
— Баталова… Мишу… — Агент прислонился к двери и закашлял.
— Что-о?! — рявкнул Войнарский.
В коридоре открылась дверь, кто-то отчетливо выругался. Проснулся сын, сел на кровати, помотал головой и зашлепал к подоконнику, где стоял графин с водой.
Сбиваясь и приборматывая от волнения, Штинов начал рассказывать, но Войнарский перебил:
— Ладно, хватит! Считай, что я все понял. Сейчас я… Подожди немного.
Родька вышел, а Войнарский, не зажигая света, сел и привалился к спинке кровати — по-старчески закряхтел, затряс головой, отгоняя подступившую к сердцу слабость. Стряхнув оцепенение, поднялся рывком и стал одеваться. Сынишка, двенадцатилетний Женька, пристроился возле окна и глядел на улицу, на смутный силуэт пролетки. Темно там, за окном, пусто и страшно; вот ветер гонит какую-то бумажку, — она комкается, цепляется за булыжники и замирает, прижатая к забору. Женькина голова на тонкой шее гнется вниз; он вздрагивает, когда отец хлопает дверью, и ложится спать…
К утру Войнарский так вымотался, что просто не осталось сил на какие-то чувства; только кружил по коридорам губрозыска, боясь почему-то зайти в кабинет, и отдавал распоряжения притихшим, моментально схватывающимся с места оперативникам. Пошел к себе лишь тогда, когда доложили о приходе народного следователя Ивана Прокопьича Исакова — старого знакомого, выдвиженца из рабочих, бывшего подпольщика и красногвардейца.
Поздоровавшись, начальник губрозыска вынул из своего брезентового портфеля затрепанную книжку, изъятую с места происшествия дежурным следователем, проводившим осмотр, отдал Исакову: «Вот!»
И тут в кабинет вошел Кашин. Он опоздал на работу, но, несмотря на это, настроение имел лучезарное и даже несколько элегическое. Вчерашнее обещание Баталова приблизить и оказать помощь, поддержку окрыляло его и вселяло немалые надежды. Не обращая внимания на царящие в губрозыске оцепенение и тревогу, он с ходу сунулся прямо к Войнарскому, чтобы поделиться некоторыми пришедшими с утра в голову тонкостями, касающимися изобличения Козы.
При виде безмятежно лучащейся кашинской физиономии, выглядевшей совершенно дико и неуместно в мире, в котором Войнарский пребывал вот уже шестой час, он, выкатывая налитые кровью глаза, начал приподниматься на стуле, медленно отводя от лица пенсне.
Семен с извиняющимися жестами приблизился к столу и вдруг, увидав обложку рассматриваемой Исаковым книги, закричал удивленно:
— Это же моя, о Карабосса! Как она к вам попала, если я ее вчера Баталову отдал?
Начальник губрозыска рухнул на стул.
— Точно твоя?
— Ну конечно! На нее сестренка чернильницу опрокидывала — видите? — Семен ткнул пальцем в фиолетовое пятно на обложке. — А что такое? — Он уловил напряженность ситуации и насторожился.
— Так ты еще не знаешь? — с недоверием спросил Войнарский. — Миша убит, а ты не знаешь?
Какой-то звук возник, зазудел в кашинской голове. Сначала неестественно тонкий, высокий сверлящий писк, затем — бац! бац! — стал бухать молотом, разрывая перепонки.
Бегал Войнарский, что-то спрашивал, заглядывая в глаза; косился, дергая ртом, следователь; испачканный баталовской кровью, лежал на полу «Владыка Марса» Берроуза. Аккуратной горкой грудились на столе сушки, собранные на месте Мишиной гибели.
— И сушки мои-и… — растягивая слова, сказал Кашин. — Мы с ними чай у меня пили. Я ему с собой дал… он ушел… и вот…
— Когда это было? — отрывисто спросил Войнарский.
— Да поздновато уже. Около двенадцати, что ли… Говорил ведь ему: оставайся, оставайся!
— Так-с. Значит, подкараулили по дороге от тебя. Теперь ясно, как он там оказался. Вы вместе к тебе пришли?
— Вместе.
— «Хвоста» за собой не видели?
— Хвоста? Какого хвоста? Н-не знаю…
— Не зна-аю! — передразнил начальник. — И тот тоже хорош… Ладно, ступай. Никуда не уходи — вызову!
Семен вышел из кабинета, побрел на хоздвор, сел на разваленную кучу старого, поросшего травой кирпича и понурился. После смерти матери не было потрясения сильнее сегодняшнего. Рушились, смещались, мучительно перестраивались понятия, ранее незыблемые. Оказывается, умирают иногда и такие, как Баталов: кумиры, баловни, всадники судьбы… Семен вспомнил пышный чуб на фоне белозубой рекламной улыбки Дугласа Фербенкса и заплакал. Поплакал, огляделся украдкой: не видит ли кто? Никого не виделось на опустевшем с утра дворе, только дурачок Тереша хлопотал опять возле локомобиля.
Нет, не работать им уже вместе. И не будет дела, которое спаяет их, передаст опыт одного другому. Хотя — почему, собственно?
В этот момент ненависть и связанное с ней неистовое тщеславное желание овладели Семеном. «Гады! Ну, получите еще свое, точно…» Он поднялся и стал быстро ходить по двору, не чувствуя своего движения. Картины поимки Мишиных убийц ослепили его. Вот он бежит по залитой солнцем пыльной улице, уверенно и неумолимо настигая бандитов. Припадают к стенам домов и заборам испуганные прохожие, извергают огонь револьверы в руках врагов… Вот он втаскивает их в губрозыск; открывается дверь «байдарки», и он бросает бандитов туда, на холодный земляной пол. Грохот…
Рядом и впрямь что-то загрохотало. Кашин очнулся — из-за локомобиля выглядывал Тереша Рюпа и бил обломком камня по железу, изображая ремонт. Ленивые глаза дурака на этот раз с любопытством следили за агентом.
— У! У! — сказал Тереша.
Кашин выбежал со двора и, мигом взлетев на второй этаж, ворвался в кабинет Войнарского.
— Прошу поручить мне дознание по делу об убийстве Баталова! — выпалил он с порога.
— Не болтай! — отмахнулся Юрий Павлович. — Вас же видели вместе.
— Видели! Ну и что? Мало ли кого с кем видели?
Исаков хмыкнул, покрутил головой и снова погрузился в свои бумаги. Начальник же молча вынул из ящика карманный силомер и протянул Семену. Кашин сдавил пружину. Войнарский глянул на шкалу и отвел глаза. Тогда Семен вцепился в прибор обеими руками, сжал, задыхаясь и багровея, показал начальнику:
— Вот!
Тот посмотрел на него с любопытством, сказал:
— Посиди пока.
Несмотря на свалившееся горе, Войнарский пытался мыслить, как всегда, четко и последовательно. Но мешало невесть откуда взявшееся раздражение на того, чья смерть оказалась для него таким страшным ударом. Раздражение это усугублялось и сознанием собственной вины. Как мог он упустить хоть на момент суть душевной жизни ученика и сподвижника? Дело тут было не в том, что начальник слишком доверял Баталову и никогда мелочно не опекал его в работе; просто за повседневной суетой ушла из виду какая-то грань порывистой и совестливой баталовской натуры. Но, с другой стороны, разве мог он предположить, что Баталов, дисциплинированный и обязательный даже в мелочах, скроет от всех свою охоту за страшной бандой Черкиза, не поделится, не посоветуется даже с ним? Почему, почему?
Поручить Кашину расследовать это дело было, конечно, рискованно. Убийцы Баталова, если они следили за ним, видели и Кашина. Однако Войнарский надеялся, что после убийства Черкиз не станет рисковать, спрячет тех, кто принимал в этом участие, куда-нибудь подальше от людского глаза. На какое-то небольшое время, разумеется. Вот этим-то временем Кашин и может воспользоваться. Парень он хоть молодой, а вдумчивый, без лишней ретивости, и можно надеяться, что не сделает ни одного самостоятельного шага без согласия Юрия Павловича.
— Хорошо. Я согласен. Но ты хоть понимаешь?..
Серые глаза Семена с таким укором и отчаянием впились в Войнарского, что он оборвал фразу, вытащил из папки клочок бумаги и протянул агенту. Размашистым баталовским почерком там было написано:
«Черкиз встречается с Машей. Маша черненькая, красивая, золотые серьги. Все боятся Луня. Ресторан „Медведь“».
— Вот… — с трудом выговорил Войнарский. — Из Мишиной записной книжки. Нашли под рубахой. И это — все, что имеем. Думаю, что за эту запись Миша и жизнь положил. Иди думай. К вечеру придешь со своими соображениями. Без совета со мной — запомни! — ни шагу. Ступай.
Семен был уже у двери, как вдруг Войнарский окликнул его:
— Слушай, Кашин! Там ночью еще труп подняли, где дорогу напротив церкви мостят, знаешь? Все лицо булыжником разворочено. Ты посмотри, материал у дежурного.
— Зачем? — удивился Семен.
— Так, на всякий случай. Опознать-то его сложно, вот беда…
По дороге Кашин заглянул в баталовский кабинет. Там возле сейфа топтались начхоз и помощник Войнарского по секретно-оперативной части: вскрывали. На столе громоздилось вываленное из ящиков барахло: все больше затрепанные книжки в аляповатых бумажных обложках. Семен осторожно прикрыл дверь и поплелся в дежурку.
11
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦАВ предрассвете, по морозному воздуху несется могучий зов труда. Непобедимая сила, энергия и творчество рабочего слышатся в нем. Шагает звук по улицам, переулкам города, проникает в жилища и несет весть о проснувшемся труде.
Сильней удары по наковальне!
Из своих сердец, из прошлых слез, из темных прошедших веков выплавь красное будущее.
Эмиро
* * *Пух! Пух! Пух!
Это не станок стучит. Это не орудийная пальба. Это не топот копыт по мостовой.
Это другое.
Это самый обыкновенный весенний пух слетает с тополей белым снегом.
Пух лезет в рот Заву. И посылает Зав рабочих:
— Бросьте свою работу, берите орудия производства и идите бить «белого врага».
Бешеная битва идет. Гоняется рабочий за пухом. Шестом сбивает пушинки с тополя.
— Ага, поймал! Вот она!
— У, лешая, белая!
— Чтоб ей пусто было.
— Не будешь Заву в рот лезть.
А у станков пусто.
Арк. Г.
Когда беспризорник дико закричал: «Не-ет!» — и бросился бежать по косогору, Малахов медленно, покачиваясь и приседая, вытянув вперед руки, спустился к реке и там упал возле воды. Плеснула вода от проходившего буксирчика, залило ноги — он не шевельнулся. Впервые за многие годы Малахову было страшно. Не оттого, что руки его были в крови — Фролков получил свое, — а оттого, что звучало еще в голове печальное: «Ты куда, дочи, колечико девала…», с укором и болью глядел на него погибший ночью от фролковских пуль наверняка хороший человек, видя и в нем, Малахове, вчерашнем красноармейце, своего убийцу…
Он не мог винить себя в случившихся несчастьях — ведь он не творил зла. Мало того: убив Фролкова, он поступил по совести, но откуда же взялось сознание, что вместе с беспризорником от него с ужасом отшатнулся мир, в котором он жил раньше, мир простой и немудрящий, но в то же время и крепкий, правильный?
Он вошел в воду, вымыл руки, брезгливо встряхивая их, потащил из кармана оба взятых у Федьки револьвера, записную книжку, которую Фролков нашел у убитого парня. Револьверы бросил подальше от берега, а книжку пустил по воде; течение подхватило, повело желтый ее переплетец, затем он утерялся в рассветных водяных бликах…
Когда Малахов вышел за город, уже совсем рассвело. Он спустился в луга и стал пробираться к подымающимся из травы жидким струйкам костерного дыма. Снова приходилось возвращаться к тем местам, откуда однажды утром он отправился на рынок продавать шинель.
У первого костра спали, укутавшись в лохмотья, трое, да сидел, придвинувшись к угольям, старик с воспаленными, слезящимися глазами. «Трахома», — подумал Малахов. Он подстелил пиджак и лег возле костра. Старик не пошевельнулся, не повернул головы.
«Надо бы мне в угрозыск пойти, — ворочаясь, думал Николай. — Судить-то за Федьку будут ли? Да еще за то, что у Кота был, Вальку спас, дадут. Да, немало может получиться… Пускай, отсижу да выйду. Сегодня не пойду, однако. И завтра не пойду. Послезавтра… может быть…»
Проснулся поздно — солнце стояло уже высоко, жгло лицо. Рядом никого не было, костер затушен и разбросан. Хотелось есть. В карманах пиджака раньше звенело несколько монеток, Николай осмотрел карманы, но денег не обнаружил и понял, что его обчистили во время сна. «Вот сволочи!» — беззлобно подумал он. Пьяное, глупое чувство вновь обретенной свободы легким летним ветерком неслось к горизонту, взмывало над гнущимися луговыми травами. Роса испарялась — пар ломал, искривлял очертания, казалось, вдали что-то брезжит, а может быть, и на самом деле было так: кто знает, что видит душа в неясных этих призраках? — может, тоску, может, любовь…
Есть, однако, хотелось, и Малахов пошел в город. Вошел в кварталы и кружил по ним, сунув руки в карманы и сутулясь. Его знобило, несмотря на жару. Возились в пыли дети, взлаивали зычно псы, горланили ранние пьяные. Опомнился он только тогда, когда вышел окольными путями к старой церквушке, к булыжным кучам, где несколько часов назад оставил окровавленное тело Фролкова. Булыжники, на которых лежал Федька, уже исчезли; возились, гнулись над мостовой рабочие, укладывая камни в сухую землю. Он остановился напротив них и замер, привалясь к забору. Вздрогнул от крика:
— Эй, ты чего? Шляешься тут…
К Николаю подходил пожилой рыжий мужичок в чистой серой косоворотке, картузе, полосатых штанах, заправленных в сапоги, — видно, десятник. В руке он держал аршин.
— Работать хочу, — вяло сказал Малахов.
— Хо! Работать! Гли, ребя, работать! — обернулся тот к артельщикам.
Они стали разгибаться понемногу и подходить, закуривая и переговариваясь.
— Что, Анкудиныч? — тягуче спросил коренастый бородач в обмотках, работавший в паре со стриженым синеглазым подростком, видимо сыном.
— Работать, слышь, пришел наниматься — о!
Мужики охотно загыгали: «Ох-хо-х-ха… Робить, грит, охота, кххе-е…»
Просмеявшись вместе с ними, бородатый сказал десятнику так же тягуче:
— А народишку-то надоть бы. Иначе не справиться к сроку, придется неустойку платить. Взял бы его, Анкудиныч, гли, какой он здоровой.
— Без биржи никак нельзя, Кузьма. Если вот туда записку написать, чтобы направление дали…
— Да! — забурчал Кузьма. — Так тебе и дали. Обманут, как всегда, пришлют заместо него какого-нибудь шибздика, майся с им.
— Ладно! — махнул рукой десятник. — Становись давай! Кончай, мужики, шабашить!
И Николай встал на укладку мостовой. В пару ему дали низенького, тщедушного артельщика Ивана Зонтова. Отвыкший от работы, сбиваясь в непривычных движениях, еще не восстановивший после ранения силы, Малахов не поспевал за ним. Иван истошно матерился и пробовал даже замахнуться, но Николай так глянул на него, что тот только крякнул и, быстро и белесо моргая, растерянно оглядываясь по сторонам, начал свертывать цигарку. Малахов выпрямился, подошел к нему, с трудом сложил губы в усмешку:
— Ты чего, друг-товарищ, испугался меня, что ли?
— Да что! — Зонтов взмахнул цигаркой. — Ты не думай, смотри, что я по злобе, — это я в работе такой куражливый, а так-ту — не! Меня самого во всем, окромя работы, обидеть можно, оттого я и робить люблю, и чтобы все со мной шустро крутились. Через это и люди меня уважать начинают, и сам я к себе уважение обретаю. На, кури, да давай скоряе, палит, спасу нет, скоро шабашить будем.
К полудню зной стал совсем невыносим: разламывалась спина, подкатывало под сердце голодное брюхо, саднили стертые о булыжник ладони. Артельщики трудно и медленно распрямлялись, услыхав голос Анкудиныча:
— Шабаш, мужики!
Все разошлись, покурили, разобрали сложенные под одной из булыжных груд узелки и стали обедать. Николай отошел в сторону, в тень, лег, расслабив ноющее тело. Лежал так недолго: в поле зрения вплыл Анкудиныч, сел рядом, сунул краюху, яйцо и луковицу:
— Ешь, паря! Не больно сладко с непривычки, ага? По себе знаю. Ешь, ешь давай, да молочка вот… Пе-ей! — тянулся с бутылкой. — Оно пользительно.
Поев, они сидели в тени, разомлевшие и благостные. Стянулись к ним остальные, расселись прямо на тротуаре, в короткой тени забора, дразнили друг друга, хвастались сноровкой и пытались втолковать новичку секреты своего простого ремесла. Наконец Анкудиныч потянул из кармана огромные часы, встал и крикнул:
— Кончай шабашить!
Зонтов отдал Николаю свои рукавицы:
— На! Голоруким долго не наробишь — живо водяные мозоли пойдут!
— А сам-то как без рукавиц?
— Я привышной! — улыбнулся Иван. — Руки-то мои — гли-ко! — Он показал бугристые, с твердой блестящей коркой ладони.
Нагибаясь и укладывая булыжники, слушая брань суетящегося Ивана, Малахов ощутил вдруг странное чувство: словно камнями, что он укладывал в землю, на которую пролилась ночью Федькина кровь, закладывал, замуровывал что-то в самом себе.
В рукавицах работалось много легче. К работе Николай приноровился: клал булыжники споро и ловко. Зонтов продолжал ругаться, но уже не зло, а как бы подбадривал матерком: шевелись, шевелись!
Жара начала спадать потихоньку, удлинились тени, тогда Малахов почувствовал перемену в настроении артели: мужики улыбались, тихо переговаривались, посмеиваясь. Иван тоже улыбался и, часто распрямляясь, смотрел вдоль улицы, прикрыв глаза ладошкой. Все ждали кого-то: голоса были негромки, шутки беззлобны. Малахов разогнулся и огляделся, услыхав вокруг внезапно вспыхнувший гул:
— О! Идёть!
— Смыр-рна-а!
— Явленье Христа народу!
— Не Христа, а богородицы-дево-радуйся, дура!
— Почем ты знаешь — богородицы, хе… Может, Марии Магдалины.
— Наш-ше нижайшее!
— С кисточкой!
Девушка шла по тротуару. Трепетало платье, обнажались колени, она поправляла подол и продолжала путь, слегка косила в сторону укладчиков, чуть-чуть подрагивал в усмешке видимый сбоку уголок рта. Ясно было, что встреча эта — дань уже установившемуся за какое-то время ритуалу.
Тополь тяжелел и ронял пух — ветер нес маленькие комочки перед ее ногами. Она щурилась и смахивала с лица опадавшие пушинки.
— О, матушка! Чудес-сная! Погляди сюды! Ай не глянусь? Роскудрявой какой, глянь. Поцелуй — умру! — смеялись артельщики.
Она повернула на ходу лицо и оглядела их. В этот момент Малахов поймал ее взгляд. Он сбросил рукавицы, вышел на тротуар, взял пиджак и, на ходу застегивая его, двинулся следом за девушкой.
— Эй, куды? — послышалось сзади. — Ну и парень…
Малахов не слышал — он уходил за девушкой. Остановился только на крик Анкудиныча:
— Никола! Эй, обожди!
Он оглянулся — десятник догонял его. Подошел, схватил руку и сунул в ладонь несколько монет:
— Держи, парень! Денег-то нету, поди? А за девкой потопал, туда же. Они таких не любят, брат, х-хе. Завтра приходи, ты нам подходишь, правильно работаешь, как надо. Давай, давай! — Он подмигнул, толкнул в плечо.
— Благодарствую! — Николай повернулся и пошел дальше — туда, где трепетало по ветру голубое платье, вилась перехватившая волосы лента. Догнал ее, и они зашагали рядом. Девушка только искоса глянула на него, но не посторонилась, шла, как и раньше, посередине тротуара. Однако и шаг не ускорила.
— Знаю я, о чем вы спросите, — вдруг быстро и звонко, не жеманясь, сказала девушка. — Не хотится ли пройтиться, лимонадику напиться… и так далее. Нет! Не хотится! И отстаньте. Идите… камни свои укладывайте, — усмехнулась она.
— Зачем же смеяться над человеком? Ведь я вас, кажется, не обидел.
— Да какое мне до вас дело! — Девушка пошла быстрее.
Николай отстал.
Возле кинотеатра «Триумф» она свернула во двор. Щелкнул крючок, дверь закрылась за ней.
Николай купил билет и стал ждать. Скоро картина кончилась. Повалил народ. Открылись двери и начали пускать на следующий сеанс. Незнакомка стояла в дверях и отрывала билеты. Когда зашел последний зритель, Малахов пересек улицу и протянул свой билет. Она фыркнула, прикрыв рот, сунула обратно надорванную бумажку.
— Я… ты… — Слова не выталкивались из пересохшего горла.
— Иди-иди! Началось уже…
На экране был диспансер, где лечились от туберкулеза Ксюша и Николай. Лечились они долго и все это время любили друг друга, ссорились и интриговали заодно с врачами против злых людей, проповедовавших отсталые методы лечения. А вылечившись, отправились куда-то вместе, смеясь и целуясь.
После кино Малахов долго сидел в садике. Потом купил у торговки несколько пирожков, поел и снова двинулся к кинотеатру, взял билет на последний сеанс.
Так же вошел вслед за всеми.
— Что, понравилось? — устало спросила девушка. — Или ты за чем другим? Шел бы тогда лучше домой, не терял время-то.
— А это вы, между прочим, зря, — серьезно сказал Николай. — Очень мне картина поглянулась. Душевная такая…
— И мне она тоже нравится, — так же серьезно ответила вдруг билетерша. — Уж я плакала, плакала… — Она насторожилась: — Ты иди, иди! Нечего тут…
Николай дотронулся до ее платья, сказал:
— Идем, слышь-ка, вместе! Еще раз посмотрим.
— Я на работе.
— Так сеанс-то последний!
— Пойти сказаться тогда.
— У дверей буду ждать! — вслед ей крикнул Малахов.
Они прошли в передние ряды и стали смотреть на неверно дрожащее, распластанное по стене полотно.
Девушка вздрагивала, вздыхала и ойкала. Николай осторожно коснулся маленькой руки — она отдернулась. Качнулись серьги. Он снова замер. Картина кончилась; они вышли на тротуар. Перебежали улицу — подальше от высыпавшего из кинотеатра народа, — остановились и впервые посмотрели друг на друга: открыто, лицо в лицо. Она быстро отвернулась, спросила:
— Ну, как тебе фильма — второй-то раз?
— Что ж, что второй. Фильма хорошая, жизненная, все, как в жизни.
— Ага. Как в жизни.
Девушка взяла его за рукав:
— Ты за мной не ходи. Не надо. Да кто ты такой?
— Что и сказать… Красноармеец. После демобилизации два месяца скитался, чего только не навидался, а работу только вот сегодня нашел. Да и то не знаю, крепко ли устроился. Что ж, камни так камни, была бы душа на месте. А ты кто?
— Ладно-ладно! — засмеялась она. — Слишком много захотел… сразу.
— Да мне-то все равно, кто ты ни есть. Спасибо — пошла со мной, не побрезгала, разговариваешь вот.
— Зачем ты так! Вспомнишь потом эти слова, смеяться станешь… Значит, тебе все равно?
Он склонился и коснулся губами ее виска. Она приникла лбом к его плечу.
— Смотри, парень. На огонь летишь.
— А я не боюсь, — спокойно сказал Малахов.
12
«ЭУГЕН НЕСЧАСТНЫЙ» В ГОРТЕАТРЕЖутко раздается наглый смех раздразненной женщины, и лукаво подмигивают ей уличные фонари большого города…
В больном теле — больная душа…
В больной Европе — больной танец.
Ее кумир, ее бог — шимми, шимми — суррогат полового акта.
Его танцуют все: мужчины, женщины, старики, дети — во всевозможных сочетаниях и комбинациях.
Танцуют вещи, города, страны, политика, верования, его танцует весь больной, изживший себя и свою культуру Запад.
И, наряду с потоками денег, вина, цветов, музыки и женщин, ютящиеся в подвалах чернорабочие потом и кровью добывают себе пару грошей на фунт хлеба.
Поставленная автором проблема счастья, пола и отрицания войны настолько возмутила западную буржуазию, что пьеса там нигде не была поставлена.
Эмпиреев
* * *1500 человек на праздновании Дня Стеньки Разина.
Ушли со знаменами в луга и там провели поротную маршировку.
Был митинг. Доклад «О бытовом и революционном значении Разина».
Инсценировка.
Набег персов быстр. Победа за Разиным, и в его руках княжна. В походе на Царицын казаки стали роптать — «нас на бабу променял». Разин расстается с княжной — бросает ее в воду.
Под Царицыным Разин разбит и взят в плен. Его ведут на спортполе, и там устраивается публичная казнь.
Очевидец
…Который?
Может быть, этот — в новом костюме, на углу, — завлекает он смешливую нэпаческую дочку? Она смеется охотно, ей нравится парень — крепкий и белозубый. Он угощает ее леденцами и зовет погулять в сад, под деревья; она сыплет ему в карман семечки и упирается для вида, но — ах, хочется любви душными летними вечерами! Кто он, этот парень? Нацеловавшись с девчонкой, не пойдет ли он к ночи играть «перышком» на улицах или нюхать кокаин в разудалой «малине», исходить криком в песне:
Да разве вы не видите? Никакой это не вор и не бандит — обыкновенный вузовец с агрофака, комсомолец, а деньги на костюм послали из деревни отец с матерью, продав мясо последней телки. Ступай в сад, парень, да подальше выбирай уголок — плохо придется на ячейке, если увидят тебя товарищи в компании голубоглазой нэпачки. Пройдут годы. Пыльные будни, семья и работа смахнут с памяти смешливый лик. Но не ее ли глаза вспыхнут перед тобой через шестнадцать лет, когда на последнем своем рубеже рванешься ты с бруствера впереди своей роты?..
…Поднявшись по широкой, с мраморными перилами, лестнице ресторана «Медведь», пугливо отразившись в зеркалах, Кашин заглянул в зал. Ресторан гудел: за столом в углу пели нестройно, кого-то тащил к выходу вышибала.
Он выбрал пустой столик возле стены, сел. Тотчас подлетел вихлястый, словно на шарнирах, официант: «Ч-чего иззв… Селяночка-отменна-ррекомендую… пиво свежее… от Маркова… слушш…»
Семен помялся и заказал студень, селедку, бутылку пива и немного водки. Поход в ресторан был замыслен им и обоснован перед начальником губрозыска потому, что это было единственное место, упомянутое в записке, найденной на убитом Баталове. Войнарский согласился. Скрепя сердце он наскреб денег из скупых фондов губрозыска и вручил агенту под расписку в графе «секретные расходы». «Деньгами не бросайся! — предупредил он. — Но и не нищенствуй, чтобы внимание не привлечь. Ищи, ищи нитку…»
И вот теперь Кашин сидел за столом и размышлял: не больно ли жирно будет — столько яств за счет государства? А может, слишком бедно — опять плохо. Он косился осторожно по сторонам: ждал, что на него начнут показывать, смеяться над убогостью стола — и что тогда делать? Н-да… Но никто не смеялся, не указывал пальцем. Горланили посетители, летали между столов официанты. Подкрался откуда-то принц Рике с хохлом, бельмом и горбом, пристроился к уху и зашуршал куплетец:
и Семен успокоился. Налил водки в рюмку и выпил, морщась.
Надо признаться, в ресторане Кашин был третий раз в жизни. Когда-то давно, перед самой германской, отец взял его с собой за получкой — он работал кузнецом в паровозных мастерских. По дороге домой они зашли в ресторан. «Имеем право раз в году поесть, как буржуи», — сказал отец. Сенька жадно ел вкуснейшие блюда из мяса, а отец пил под селедку водку и пиво.
Через месяц началась война, отца убили где-то в Мазурских болотах, и они остались втроем: мать, Семен и сестренка. В прошлом году умерла измученная, надорванная жизнью мать. Надо было кормить себя и сестру; после долгих поисков работы Кашин устроился пилить дрова на лесобиржу. Работа тяжелая, но платили неплохо. И в первую получку его, шатающегося от усталости и недоедания, смутили пильщики — такие же юнцы: «Гудим, ребя! Али мы не мужики?» Сначала пили под кустами возле речки, потом повалили в город, но это Семен помнил уже плохо. Где-то в ресторане (этом или другом?) он пел унылые песни, плакал о матери, лез целоваться к брезгливо отталкивающим его фиксатым парням… Очнулся на скамейке в каком-то дворе. Исчез не только пиджак с деньгами, но и совсем добрые, припасенные еще матерью солдатские ботинки. Он с трудом дотащился до дому, упал на кровать и безысходно заревел. На лесобиржу больше не пошел, было стыдно, а месяцем позже получил в губкоме комсомольскую путевку в уголовный розыск. С того времени ему приходилось выпивать, но, вспоминая свой позор, пил он мало и неохотно. Здесь, в ресторане, водка была теплая, противная — больше двух рюмок он так и не смог одолеть. Сидел, угрюмо взглядывая на посетителей. Подошла девка в кудряшках: «Свободно?» — «Занято!» — буркнул Семен. Девка отошла, а он спохватился: «Чего это я делаю? Вдруг это Маша и есть?» Он оглянулся, хотел окликнуть, но девка уже усаживалась за столик к благообразному старичку с аккуратным пробором.
Ударил оркестр. Заметалось разухабисто:
Вскочили и завертелись пары, застучали каблуки, взметывались смерчиками дымные клубы. И-эх! И-эх! Один из плясавших налетел с размаху на кашинский столик, влип задом в стоящую на краю стола тарелку со студнем, обернулся, оскалился: «Пар-рд’н!» — и снова ввинтился в толпу.
«Да… публика — стоит рублика!» — подумал Семен.
Он начал уже уставать и томиться происходящим. Поглядел в окно. Улица была уже не так многолюдна, жидкие фонари освещали редкий ток прохожих. Отраженные в оконных стеклах, горели огни в зале ресторана, двигались люди, пробегали официанты; вдруг отражения исчезли, заслонились фигурой, приблизившейся к кашинскому столику. Семен повернулся и хотел сказать: «Занято!», но субъект уже усаживался и, осклабясь, тянулся к нему, хихикал сквозь гниловатые зубы:
— Дорогому гостю доброго здоровьица! Как-кая встреча, надо же. С вас причитается, между прочим!
Семен поднатужился, вспоминая приличное светское обхождение из читанных книг, и сказал:
— Не имею чести быть знакомым. Впрочем, выпей, если хочешь.
Мужчина налил рюмку, подержал в руке. Кашин разглядывал его: мужик был плюгавенький, с темными подглазницами, плохо выбритый. Рука подрагивала, водка плескалась на скатерть. Он вылил водку в рот, занюхал крохотным хлебным кусочком. Семен мог поклясться, что где-то видел его, но где? Ах, черт возьми… Тот поставил рюмку, мутно улыбнулся.
13
Малахова приняли в артель. Тихие дни потекли для него. Были в них и радости, и печали, но в знойном, пыльном, редко-редко прорывающемся дождями лете каждое «цок» по булыжнику подвозящего песок битюга, каждая тополиная пушинка, каждая зазубринка в незамысловатом механизме артельных отношений входили в душу полно и ярко, как в дальнем, полынью пахнущем детстве.
Да, это был мир, которого он не знал прежде в своей суматошной жизни, мир, особый, замыкающийся в кругу простых и вечных понятий, — как хлеб, что ели артельщики, как трудная и нехитрая работа, совершаемая ими изо дня в день.
Самая яркая личность в артели, десятник Анкудиныч, был человеком добрым, в меру простым, в меру хитрым. Казалось, ни одна гроза отполыхавших над белым светом лет не задела его, но это было не так. Горе скребануло его жестоко и тяжко: погиб в гражданскую сын, умерла жена. Однако говорил он об этом как-то вскользь, даже виновато посмеиваясь: «А чего? Я-то ведь живой. Пить-есть, выходит, надо, робить; без бабы тоже не обойдешься».
Всю свою жизнь он мог припомнить неделю за неделей, но событий значительных в воспоминаниях этих не было: то сдал работу, то гулял на свадьбе, то просто встретил хорошего человека и поговорил о житье-бытье.
Каждый год он набирал новую артель, легко приручал ее, делался необходимым и сам себя не мыслил без этих людей; но приходил срок, и он так же легко расставался с ними.
Вскоре после появления Малахова Анкудиныч однажды с утра куда-то запропал. Вернулся после обеда, абсолютно пьяный. Подвалил к Николаю, сунул ему бумажку: «На, робь!» — и свалился спать под забор. Это было направление на работу с биржи труда. Каким путем раздобыл его хитрый десятник, так и не смогли вызнать.
Именно от Анкудиныча шел в артель дух неистребимой тяги к жизненной сласти, дух стремления к обитанию среди простых человеческих радостей. «А я вчера на каруселе катался. Ух, накружилси-и!» — кричал он, появляясь по утрам.
«О-га-га!» — одобрительно гудела артель. И тертые, в разных переделках бывавшие мужики в один голос утверждали, что не встречали десятника, при котором работалось бы так споро и яростно.
А люд и правда подобрался непростой.
Ближе всех к Анкудинычу по душевным устремлениям стоял, пожалуй, Иван Зонтов. Для него тоже артель была единственным жизненным кругом, где он мог существовать. К труду, более квалифицированному, чем укладка мостовой, он вряд ли приспособился бы, да и сам отзывался о нем пренебрежительно: «Токарь! Что за работа! Стоит, клюет целый день у станка-то». Ему обязательно надо было двигаться, кричать, и чтобы все кругом тоже шумело и двигалось. Бестолковый, неприкаянный, с никогда не загорающим лицом, он носил в себе какую-то ущербность, и люди, хоть и не понимали, в чем она заключается, при виде его неизменно думали: «Дурачок!» — и иногда, основываясь на этом, жестоко обижали, не предполагая, что он помнит и понимает эти обиды. Но он понимал и относился к ним даже серьезнее, чем другие. Так, его когда-то обидели в родной деревне, он ушел из нее и с тех пор скитался, ища счастья в работе среди таких же странников, как он сам.
Однако счастье в работе находили не все. Например, самый дюжий, кропотливый и серьезный мужик Кузьма, тот, что предложил принять Малахова в артель, заявлял откровенно и зло, что ничего хорошего в том, чтобы гнуть горб, он не находит.
«Работаю, а что делать? — говорил он. — Хватит бедовать-то, не те теперь времена. Сам на ноги не подымешься — кому ты нужон? Вот подымусь немного, тогда пускай на меня другие робят. А мне хватит, я наломался! Думаю так-ту, а душа свербит: нет, не дожить! Надорвусь да и сдохну где-нито…»
По выработке в артели он шел впереди всех, и Малахову было странно слышать такие речи.
Он, повидавший в армии разных людей и привыкший к разным наречиям, с трудом все-таки приноравливался к их диковинному диалекту, так отличавшемуся от языка, на котором изъяснялся он сам. Например, вместо «чугун» они говорили «щигун» с емким ударением на последнем слоге, вместо «здесь» — «здися», вместо «стукнул, ударил» — «паздёрнул». Но к этому, в конце концов, можно было привыкнуть, и он привык, как и они привыкли к его округлой волжской речи.
Жизнь в артели текла размеренно, будто из века в век установленным порядком. Однако иногда большой мир давал о себе знать, тогда начинались сложности, недоразумения; артельщики злились, инструмент валился из рук.
Артель была набрана из крестьян — из тех, кого страх перед голодом и ненадежностью крестьянского бытия гнал в большие города.
Незадолго перед тем, как приняли Малахова, запил артельщик Яшка Оборин — получил письмо из деревни, что забрюхатела его пятнадцатилетняя дочь, которую он, уходя, отправил батрачить к соседу-кулаку. Белоглазый, опухший, избитый, Яшка приходил на место прежней работы и бросался драться с мужиками. Его связывали, кидали на мостовую и освобождали только с концом работы. Он уходил, опустив голову на широкую грудь. Как-то Яшка пришел трезвый и, встав поодаль, низко поклонился артели. Мужики тоже поклонились ему, затем подошли.
— Домой собрался, Яша? — спросил Кузьма.
— Домой, — коротко ответил Оборин.
Получив расчет и замотав деньги в тряпицу, он оглядел мужиков:
— Прощевайте, робята.
Они загалдели:
— Давай, Яша, с боушком, да ладом там, мотри.
Он снова поклонился и пошел прочь. Артель глядела вслед.
— Пустит он ему петуха али топором засветит. Ох, Яшка…
— Туды им и дорога, мироедам! Да я бы сам…
— Так, так! Мало их, охвостней, в гражданску перебили.
— Жалко Яшку — сгинет! Засудят небось.
— Разберутся, что к чему, суд-от теперь с понятьём!
— Оно так, дак ведь смертоубийство, это тоже понимать надо…
Кузьма подошел к Малахову, хлопнул по плечу:
— Так-ту вот, Никола. Это тебе жись наша хрестьянская: и там беда, и здесь неладно, без семьи, без дома…
Жили мужики тоже артельно — снимали низ дома у зажиточного мастерового. Звали к себе Николая, но он отказался. Ночевать уходил в луга. Приходил на место, давно облюбованное, разжигал костер и подолгу сидел возле него, завороженно глядя на огонь. Нищих и иных бродяг, выходящих на костер из диких трав, он прогонял. Раз ночевать вместе напросился Филька, белобрысый сын Кузьмы, артельщик-первогодок. Ночью парень разговаривал о вещах обыкновенных, не стоящих бессонной летней ночи: об их лошади, сломавшей ногу, о том, как его избили после вечерки парни из другой деревни, о дедовой грыже; но к утру, то ли ободренный вниманием Николая, то ли разомлев от воспоминаний, признался, что работа в артели для него — сущее наказание: и скучно, и тяжело. Узкие рамки артельной жизни, строгий отцовский надзор — все это тяготило его, он собирался сбежать и податься в мастеровые. Филька тайком уже куда-то ходил, разговаривал с комсомольцами, и они к осени обещали ему помочь, даже записать в ячейку.
Малахов слушал его, но не отвечал, только вздыхал о чем-то. Вдруг рывком поднялся с травы и сказал:
— Развиднелось-то как! До края света можно при такой жизни дойти — шел бы и шел, право! Идем, Филька, пора нам…
После работы Николай подходил к кинотеатру. Она, «артельная зазнобушка», пускала его на последний сеанс, а потом он провожал ее с разговорами о картине, о кино — серьезном искусстве, где все, как в жизни. Провожать до дома она не разрешала: прощаясь, вздыхала облегченно. Это сердило и волновало Малахова — он знал, что нравится ей. Наконец он не выдержал: расставшись, перешел на другую сторону улицы и осторожно двинулся за белеющим впереди платьем.
Жила она на окраине, в доме с высоким крылечком. Зажегся свет, задернулись занавески. Николай подкрался к окну и занес руку для стука… Отдернул ее, услыхав цоканье копыт и дребезжание пролетки. Метнулся к заборчику, отделяющему палисадник от улицы, и замер.
Пролетка грохнула и остановилась рядом с крыльцом. Некто стройный, в белом кепи, легко спрыгнул с нее, взлетел на крыльцо, постучал тихо и требовательно. Пролетка рванула с места и исчезла в темноте. Дверь открылась. Девушка вышла, кутаясь в платок. Был негромкий разговор. Малахов не расслышал слов. Стукнула дверь — они вошли в дом.
Николай опустился на землю и всем телом приник к ней. И там, где лицо его касалось травы, к утру от горькой солености она завала и поблекла.
14
— Я своих долгов не забываю, — сказал Кашин. — Вот только сейчас не упомню, когда это я вам успел задолжать?
— Должны, должны-с! — затараторил субъект. — Вся ваша организация за мои ладони в должниках! Гляди, вот! — Он вывернул перед Семеном потные ладони.
— Вы о какой организации, гражданин? — похолодев, спросил агент.
— Конечно, — вздохнул пегий. — Где нас, махоньких людишек, упомнить! А ведь я у вас теперь, можно сказать, вроде непременного члена. Я имею в виду губрозыск, товарища Войнарского, — вы ведь там служите, верно?
«Завалился! — подумал Семен. — В момент. Даже не верится!» — И, напрягшись, усмехнулся:
— Изрядные у вас знакомства.
— А как же, а как же! — радостно лепетал субъект. — Вчера, например, не только как представитель искусства музыкой гражданскую скорбь выражал, но и непосредственно, можно сказать, похоронам споспешествовал!
Вчера хоронили Баталова. У Кашина перехватило дыхание. Он поерзал локтями по столу, длинно шмыгнул носом и осведомился:
— Не чужды искусства, — с удовлетворением сказал пегий.
— Но какое отношение, — Семен уже справился с собой, — какое отношение имеете вы к вчерашним похоронам?
— Так ведь я его и закапывал! И Зырянова вашего, предыдущего, — тоже я, я-с! Не только, так сказать, на ниве искусства скорбью исходил, но и сам споспешествовал-с.
— Вы что — могильщик?
— Зачем, заче-ем? — весело отозвался собеседник. — Ах, даже смешно с вашей стороны… Могильщик, это надо же — хо-хо-сс… Между прочим, представляюсь: Гольянцев Виктор Феодорович, работник музыкального искусства. Впрочем, меня больше по имени — Витя, Витенька, — испугать боятся, хо-хо. Играю в оркестре данной ресторации, на баяне-с!
— Хороший инструмент, — солидно произнес Семен. — Так вы и на похоронах играете?
— Если пригласят. Конечно, зимой этого источника дохода почти лишаюсь, военный духовой инструмент с нашим несравним и, так сказать…
— А как же непосредственно похоронам поспе… спо-спе?..
— Землю, землю лопатой в могилку сыплю! Вы ведь народ серьезный, озабоченный: по горсточке на гроб бросили и пошли. Конечно, до того ли, что дружка-то и засыпать надо, — переживания, то, се, я ведь понимаю. Не ровен час — сам там окажешься. Вот втроем и засыпаем: я, ваш начхоз, да сам Войнарский иной раз подсобит. А я, раз уж такая компания, не отказываюсь.
— Выпейте еще раз, Витя, спасибо за заботу! Так вы с похорон меня и упомнили?
— Служба такая — что упомнишь, что забудешь. Одно слово — кабак-с!
Баянист наполнил стопку, подал ее Семену. Себе налил водки в стакан из-под пива, вздохнул:
— Давайте выпьем за вашего товарища, что мы вчера схоронили! Жалею его, жалею-с. Сколько он здесь у нас высидел! Ах, царствие небесное!
— Что ж, выпьем, Витя-баянист… А… кхх… — Кашин пожевал селедку, спросил: — Вы, случайно, не в курсе, за что его убили?
Тот молчал, глядел на окно. Наконец ответил:
— Нет, не знаю. Я человек махонький, мое ли это дело!
— Та-ак… Ясно. Еще вопрос: зачем же вы ко мне сели? Узнать, не за теми ли делами, что Баталов, и я сюда пришел? А кому доносить будешь, говори?!
Гольянцев заморгал, сморщился:
— Ах, какие вы, право… А если по-человечески, так это уже и не можете, куда вам… Ну, ей-богу! — вдруг развеселился он. — Даже ручкой стукнули, вот как! Это я, помню, при старом режиме пристава одного знавал. Тот так же, чуть что, ручкой по столу — хлоп! Говори! Молчать! Такой-сякой, туда-сюда — х-ха-ха! — Витенька закатился смехом. — Умора, ей-богу!
— Да как ты… как ты смеешь, паразит! — задохнулся Семен. — Меня… С контрой!
— Вот, вот! — взвизгивал баянист. — Копия! Умора, ахх! И приятель ваш такой же букой сидел, царствие ему небесное, не дай вам бог самому экой же участи.
«Пугает! — жарко ударило в мозг Семена. — Запугивает, гад!» Он провел рукой по полыхающему лбу и с ненавистью поглядел в глаза музыканту. Тот спохватился: быстро поднялся и, торопливо бормотнув:
— Извините… Пардон, играть пора-с, — пошел к эстраде, оглядываясь.
У Кашина заболела голова. Скакали по залу люди, ухал оркестр, а он тупо и равнодушно глядел по сторонам и думал, что можно ходить и ходить сюда до тех пор, пока кому-то это не надоест. Тогда Витенька с Войнарским снова возьмутся за лопаты. А банда останется жить и действовать…
В перерыве между танцами он подошел к эстраде и позвал баяниста. Гольянцев поставил баян на стул, подошел, присунулся лицом к агенту.
Семен поймал его руку и легко дернул на себя:
— Я буду ждать на улице, возле входа.
— Меня? Ждать? — Витенька искренне удивился и, кажется, испугался, но все-таки заерничал неуверенно: — Вот и взяли дурачка, придется ночь в камере коротать. Ведь хотел с утра бельецо сменить — ах, беда! Ну хорошо, я тут небольшой прощальный банкетик закачу, извините, если пьяный приду-с.
— Зачем пьяный? — серьезно сказал Кашин. — Трезвый приходи.
— Что, правда на допрос отправите? — У Гольянцева задрожала и отвисла челюсть.
— А чего тебя допрашивать? — усмехнулся Семен. — Так, покалякаем по дороге.
Баянист уже спустился с эстрады, они отошли и стояли у стены, рядом со слабо освещенным чадным отверстием, откуда вылетали с подносами шустрые официанты.
— Какой разговор-с? — послышался Витенькин голос. — Нет у меня охоты больше с вами разговаривать. Один раз крикнули, другой раз в ухо стукнете, а сдачи я не дам-с. Уж меня так-то били, били, и ни разу в жизни я на сдачу не решился — понимал, что хуже может быть, значительно хуже-с…
Кашин не ответил, подошел к своему столику. Расплатился и спустился на улицу. Стоял, охваченный летней ночной свежестью. Мимо шли парочки. Они обнимались, ветер нес сдавленные смешки и тихие разговоры. Летел пух, стлался под ноги. Бежали пролетки, ночь шуршала колесами, голосами, слышались вскрики паровозных труб. Семен тоскливо думал о неверной Симочке, которая, разумеется, еще пожалеет о своем поведении, и не раз…
Ресторан затихал. Из него стали выходить люди, пьяно бубня и окликая извозчиков. Гас огонь в залах. Неслышно подошел Витенька и остановился рядом. Постояв, так же молча двинулся по улице. Семен догнал его.
— Послушайте, Витя, — прервал он молчание. — Вы какого происхождения?
— Как вам сказать-с… — замялся баянист. — По духовной части, скорее. Я до революции в здешней консистории чиновником служил, ма-ахонькой шишечкой. Между прочим, экзамен на чин сдавал, картуз носил.
— Если по религиозной части пошли, значит, сильно верующий?
— Нет, не так, чтобы очень-с. Служба мне нравилась: обряды, музыка, хоры. Я в детстве священником хотел даже стать, да гласом не вышел. А ваших канонов все-таки не приемлю. Те же похороны взять: речь сказали, в воздух бабахнули, и — ни аллилуйя, ни последнего целования. Да, суровые времена-с! И народ суровый, чуть что — сразу в контры определят.
— Здорово вас метнуло, — гнул свое Кашин. — Из чиновников, да еще духовных, в баянисты кабацкие вынесло!
— А вот это мне сейчас уже совсем безразлично, — глухо сказал Витенька. — Что такое, как не химера, профессия для человека, постигающего некую внутреннюю сокровенность?
Кашин озадаченно приотстал: баянист был совсем не прост, и подстроиться под его разговор оказалось трудновато. Он сделал еще попытку:
— А какой другим людям от этой сокровенности смысл?
— Не пытайтесь казаться мудрым, это не надо вам. Я не хочу вас обидеть-с, но поймите: я в два раза старше вас, уже одним этим имею право на свой мир, который со временем обретете и вы, я не сомневаюсь, хоть вы и… из угрозыска. Этот мир умрет со мной, другим от этой сокровенности не будет смысла, потому что немыслимо человеку познать чужую душу. Тем более — мою. Я ведь ма-ахонький, хе-хе! Переменим тему, переменим тему! Так чего вы хотите от кабацкой теребени-дребедени?
— Я сначала вот что хочу узнать: зачем вы сели за мой столик — разговор завели, выпивать стали?
— Это чиновничье-с. Обожаю власть предержащую! — снова заерничал баянист, но сразу изменил тон: —Любопытно стало поглядеть, ознакомиться, что же это за народ. Не успели одного прибрать — второй туда же лезет! Любопытство, просто любопытство.
— Ну, откуда тебе знать, зачем я туда пошел? Может, я просто ресторанный любитель?
— Любитель! — снисходительно фыркнул Гольянцев. — То по тебе и видать, что любитель. Хоть бы уж не темнил-с.
— Вы знаете, кто Мишу убил? — осторожно спросил Семен.
— К чему мне знать! Если и знаю — не скажу. Таким, как я, лишняя откровенность — нож острый… даже буквально. А вы знаете?
— Я знаю. Это Черкизова шайка-лейка.
— Может быть, и так, мне-то что.
Они подходили к окраине. В темноте Витенька ориентировался вполне. Кашин не спрашивал, куда они идут, шел с ним, то отставая, то снова прибавляя шаг.
— Я думал, — сказал он, — вы нам поможете, Витя.
— Ну что вы! — откликнулся тот. — Это ваше с Черкизом дело, вы с ним друг против друга стоите, ну и бейтесь себе на здоровье, кто кого! Откуда мне знать, который из вас лучше. По мне, так в сяк человек — гной, смрад и кал еси, это я в жизни твердо усвоил.
— Неправда это! — скрипнул зубами Семен.
— А вы не перебивайте! Опять двадцать пять: запокрикивал-с!
— Пр-ростите, — с трудом произнес Кашин.
— С богом, что уж там! Черкиз, значит, вам нужен. А какие, извините, у вас имеются личные достоинства, чтобы я вас ему предпочел? Скажу откровенно: знаю такого, знаком-с. И многие удовольствия от общения с ним испытываю: мягкий, деликатный, и в душе, и в движениях тонкость надлежащая обозначена… прелесть! Главное — сложный, к таким особое почтение полагается иметь. А от общения с вами, уважаемый, никакого удовольствия, простите, не чувствую. Так что сами видите… Не резон!
— А то, что он от крови не просыхает, — это что? Колчак тоже, я слыхал, свою сложность и тонкость имел: музыку там, картины любил, в театрах плакал, а кто пол-России кровью залил?
— Смрад, смрад человек, — вздыхал Витенька. Он остановился возле забора, окружавшего крохотную избушку, сказал облегченно: — Ну, вот я и дома. Спасибо за компанию!
Дотронулся до дверного кольца. Кашин удержал его руку:
— Постой! Ты отказался, я так тебя понял?
Баянист молчал.
— Так вот что! — выкрикнул Семен.
Гольянцев опасливо зашипел:
— Тише, тише!
Агент снизил голос и продолжал:
— Баталов погиб… ладно! Страшно, но пережили. Я умру — тоже переживут. Так ведь на мое место третий придет! А вместо него — четвертый! И так — пока мы эту банду не высветим. А высветим ее обязательно. А ты, подлюка, будешь со своим баяном нас на кладбище провожать да земелькой присыпать? Да как ты другому-то станешь в глаза в ресторане смотреть, а, гад?! Ведь ты их сейчас — обо мне речи нет! — на смерть посылаешь, молодых-то ребят! Вот она, твоя сокровенность, в чем заключается, ее ты ищешь? А еще о людях говоришь… Сам ты — гной и смрад!
Последние слова получились почему-то невнятными, и, произнеся их, Семен с ужасом почувствовал, что плачет — от бессилия, злости и унижения. «Ну, все! — промелькнуло в голове. — То-то этот слизень теперь нахохочется!» Однако на Витеньку поведение Кашина произвело иное впечатление. Он привалился к калитке, постоял минуту, вглядываясь внимательно в Семена, шепнул обессиленно:
— Ладно…
— Чего ладно? — упавшим голосом спросил Семен.
— Я подумаю.
Слезы мигом высохли, и Кашин сказал строго:
— Чего думать? Сейчас давай выкладывай!
— Нет, нет, — бормотал баянист. — Я не могу так… Подумаю, время надо… ты что! Легкое ли дело — с Черкизом связаться!
Почувствовавший уверенность агент перебил его бестолковые речи:
— Ладно болтать-то! Говори, когда! Я долго ждать не могу, по лезвию хожу, сам понимаешь!
— А? Да, да! — заморгал Витенька. — Послезавтра… Нет, послезавтра понедельник. В среду, в среду приходи! Да не в ресторан, а сюда, домой, где-нибудь после обеда, а? Я подумаю пока…
— Ну, думай! Слушай, — Кашин придвинулся к баянисту, — из ваших, из ресторанных, никто меня больше не опознал?
— Что, боишься? — ехидно спросил Гольянцев.
— Как же не бояться! — Семен вздохнул.
Витенька шагнул во двор и сказал вдруг:
— А ты я меня бойся. А то ведь всяко может получиться, ваше дело такое: перестанешь оглядываться — ан оно и себе дороже стало. Впрочем, договорились: приходи-с!
И захлопнул калитку.
15
КОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕНам, нужны красные купцы, маклеры, нам нужны спецы-заготовители, калькуляторы, нам нужны люди, сведущие в торговле, в экономике нашего края.
Для того, чтобы этих людей нам получить, организован губернский комитет содействия коммерческому образованию.
ИЗУЧИМ!Организовали рабочие уголок Ленина при клубе им. Владимира Ильича и решили изучать ленинизм.
И записалось уже 16 человек.
И занятия начались.
И литературу решили купить. Пока еще литературу не получили. Ждем. А ленинизм все-таки изучим.
Жогин
От баяниста Кашин возвращался счастливый и обессиленный. Улицы были темны, дорога просматривалась плохо. Только немножко отошел от Витенькиного дома и уже несколько раз споткнулся или сошел с тротуара. Кое-где еще горели окна, Семен пересекал идущее от них свечение, но дальше снова приходилось привыкать к темноте. Однако окна были, как вехи, он шел от одного к другому.
Навстречу ему никто не попадался. А сзади кто-то шел. Очень осторожно. Семен едва ли обратил бы внимание на этого идущего, если бы, случайно оглянувшись, не заметил тень, легшую на светлый квадрат окна.
«Черт возьми, — холодея, подумал Семен. — Эт-того еще не хватало». Ужас положения не сразу дошел до него: достало еще соображения в одном из переулков свернуть, перебежать на другую сторону и затаиться за кустами, лезущими из палисадника.
Он стал ждать. В одной комнатке дома напротив горел свет, там сидели за столом двое мужчин, а женщина на табуретке кормила ребенка грудью.
«Живут же люди!» — завистливо вздохнул Семен.
Преследователь вскоре показался, но действия его были совсем не такими, какими их предполагал увидеть Семен. Вместо того чтобы, резко свернув за угол, встретиться с объектом слежки лицом к лицу или же броситься за ним в темноту, он далеко по широкой дуге обогнул дом и тихо-тихо стал продвигаться вдоль палисадника, за которым как раз и стоял Семен. Кашин со страхом и недоумением ждал его приближения. «Сзади за шею, и — на себя!» — обдумывал он прием, сдерживая дыхание. В эту минуту свет из окна лег на бледное лицо человека, и Семен узнал в нем Степку Казначеева, агента первого разряда, хорошего приятеля, если не сказать — друга.
Сначала Семен опешил. Однако надо было действовать, и он, подобрав с земли сухую ветку, ткнул ею в Степкину спину и скомандовал:
— Стоять тихо! И руки вверх!
Степка бросился в сторону, запнулся, упал, и Семен насел на него. Мужики в окошке оживились, стали показывать на них пальцами, но женщина прикрикнула на них и задернула занавеску. Сразу стало темнее.
— Слезай, ты чего? Сдурел, что ли? — придушенным голосом сказал Степа.
— А ты чего это за мной ходишь? Кто тебе велел?
— Больно ты мне нужен! Войнарский просил покараулить. Он, дескать, у нас молодой, мало ли что…
Семен Обиженно запыхтел и встал.
— Перетрухал, ага? — продолжал подначивать Казначеев, отряхиваясь. — Вот так-то. Это тебе не мел у доски грызть. И не гвозди Налиму в сапоги садить.
Их учитель математики в реальном, злой Налим, ходил в училище зимой в валенках, а весной и осенью — в сапогах. Но обязательно переобувался перед уроками, в учительской у него стояли ботинки. Как-то Степка с Семеном забрались в учительскую и забили в подошвы Налимовых сапог по огромному гвоздю. На них донес кто-то из своих же ребят, и Кашина с Казначеевым хотели выгнать, но просто чудом все обошлось благополучно, если не считать денег, внесенных родителями за сапоги, да основательной порки, полученной дома.
— Давно ты за мной ходишь? — спросил Семен.
— Весь вечер. Я и в ресторане был, только в зал не заходил, все больше в вестибюле да возле буфета ошивался. Гляну в твою сторону да снова уйду. У меня там крестный чистильщиком работает. Но я все приметил и хмыря этого, баяниста, на заметку взял.
— А смысл?
— Какой еще смысл? Юрий Павлович сказал: посмотри, подстрахуй, может, помощь понадобится, мало ли что.
— Но все-таки я тебя засек! — торжествующе сказал Семен. — Засё-ок я тебя, Степа! Ловко получилось, а?
— А струхнул-то небось!
— Это верно, было маленько. Что, думаю, такое — вчера ему комсомольские взносы платил, а сегодня он за мной слежку учиняет?
Они засмеялись и вместе пошли домой. Ноги мягко ступали по тополиному пуху, лежащему на дорожках и тротуарах.
— О чем думаешь? — спросил Степа.
— Ни о чем. Ночь хорошая! А когда я домой приду, светать станет. Ой, как усну-у…
— Хорошо тебе. А у меня вот Тимка Кипин все из головы не идет. Ну что с ним делать, скажи?
С Тимкой была сложная история. Еще в позапрошлом году, когда он заглянул по служебным надобностям в городской морг, один старичок-врач сказал ему: «Послушайте, юноша, — у вас же пальцы прирожденного хирурга! Тонкие, сильные, нервные, — обратите внимание, коллеги!..» И этих слов оказалось достаточно, чтобы перевернуть всю Тимкину жизнь. Он решил стать врачом. Но для этого надо было уйти из угрозыска. В прошлом году его попросту не отпустили, и он смирился: очень тяжкое выдалось время! Но и нынешним летом, когда он пришел в комсомольскую ячейку за характеристикой, ему было отказано столь же категорично: «Не кажется ли вам, комсомолец Кипин, что ваше решение попахивает дезертирством? Штык в землю, да?» — «Какой штык? — растерялся Тима. — Почему в землю?» В общем, характеристики он не получил и решил действовать по-своему. Не выносивший раньше и запаха водки, Кипин в одно прекрасное утро появился на работе с бутылкой, деловито обстукал и выколупал залитую сургучом пробку и махом влил в себя два стакана на глазах у изумленной публики. Сразу тут же он и сомлел и был увезен на бричке домой. Теперь его поведение предстояло обсудить на комсомольском собрании, подготовкой которого занимался Степа Казначеев.
— Ну, так как ты? — опросил он Семена Кашина.
— Жалко его. Ведь учиться человек хочет. Да пускай идет на свой медфак! Что мы — пропадем без него, что ли? А выговор дать надо, это безусловно.
— Да кто его туда с выговором примет?
— А ты бы сходил, поговорил, объяснил, в чем дело.
— Больно надо! — буркнул Казначеев. — И вообще пора кончать с этими демобилизационными настроениями, товарищ. Он нужен на том посту, на котором сейчас находится. Будет время — сами его отправим учиться. А в данный конкретный момент — извини, не то положение.
— Много ты о себе воображаешь, Степка! Человек страдает, а ты за него уже всю судьбу решил. Надо ведь как-то и его волю во внимание брать.
Кашин сказал так и тут же вспомнил Баталова, свой последний разговор с ним. Тот тоже, как и Степа, считал, что если он прав, то может и за других людей решать их судьбы. Ну, а вдруг человеку только кажется, что он прав? А на самом деле прав другой. Ведь вот взять конкретный случай. Кипин хочет учиться на врача, а Казначеев — поскорее ликвидировать преступность. И оба правы. Но почему-то между этими двумя правдами — конфликт. Нет, полностью согласиться с тем, что говорил Миша, а теперь Степа, наверно, нельзя. Надо же считаться и с другой стороной — с теми, чья судьба оказалась от тебя в какой-то зависимости.
Они оба устали, злились друг на друга за то, что их мнения не совпали, и остаток пути до места, где им предстояло расстаться, прошли молча.
16
КУДА СМОТРИТ ГУБРОЗЫСК?В городе растет волна грабежей и убийств. Высказываются предположения, что это дело одной хорошо организованной банды. Несмотря на то что подавляющее большинство преступлений до сих пор не раскрыто, уголовный розыск упорно уклоняется от дачи объяснений нашей газете по этому поводу.
Губпрокуратуре и другим органам следует подумать, все ли руководящие товарищи и сотрудники в аппарате губрозыска соответствуют своим должностям.
Ночью снова был налет. Бандиты взяли почту, где находилось отделение сберкассы, убили сторожа. Невыспавшегося Кашина подняли по тревоге, но в оперативную группу он не попал, а по приказу Войнарского остался коротать время в губрозыске, подменив дежурного агента. Он злился, ходил из угла в угол и сопел.
В кабинетах и коридорах опять было пусто. Впервые в руки бандитов перешла сумма весьма и весьма значительная: семьдесят тысяч новыми советскими деньгами. Над губрозыском сгущались тучи.
К полудню приехал серый, осунувшийся Войнарский. Прошел к себе. Только в шесть часов Кашин осмелился заглянуть в его кабинет. Начальник сидел один, уткнув лицо в ладони. Выпрямился, заслышав скрип двери.
— Заходи, Сеня, — сказал он. — Посиди немножко. Меня вот в губком вызывают, — и что я там скажу? У тебя, конечно, пока ничего нет?
Семен помялся и рассказал о Витеньке. Когда кончил, Юрий Павлович произнес задумчиво:
— Любопытный тип, любопытный. Только смотри, как бы он не заморочил тебя своей сложностью. Запомни, здесь главное — не столько суть, сколько манера разговора. Могут быть две крайности. Первая — меньше говорить, больше слушать. Вторая — наоборот. Понял? Объясняю. Если молчать, он сочтет тебя глупым и, потчуя словесной шелухой, будет всячески уводить от главного разговора. В другом случае есть опасность сбиться с тона: такие, как он, пускаются в откровенности лишь тогда, когда чувствуют себя умнее собеседника. Уяснил? Когда с ним увидишься?
— В среду.
— Так. А до этого что?
— Ну, хотите, я с ним сегодня встречусь?
— Нет, не надо. Здесь все так должно получиться, чтобы он как бы сам этого захотел. А то может и в другую сторону сыграть. Ну что, все у нас с тобой?
— Нет, не все. — Семен помялся немного. — Я вот что хотел попросить… Вы меня больше не страхуйте. Зачем?
Войнарский поглядел на него с любопытством:
— Так-так. А в чем дело? Что-то случилось? — Но, поняв по упрямому кашинскому виду, что тот все равно ничего не расскажет, вздохнул только: — Как хочешь. Боюсь ведь я за тебя, Сеня.
— Все равно не надо. Я тогда себе сильнее стану казаться; а он, баянист, неужели этого не почувствует? И вот что еще: может, мне до среды по сберкассе поработать?
— Это ни к чему. Тебе сейчас нельзя быть на людях. Давай побудь пока здесь. И сегодня смены не жди.
Дежурным по губрозыску был Муравейко. Кашин попросил его:
— Антон Афанасьич, — Муравейко не терпел, когда его называли только по имени, — откройте мне баталовский кабинет.
— Зачем? — насупился дежурный.
— Да там… вещица одна.
Тот поворчал, однако взял ключ и отправился наверх. В кабинете Семен осторожно снял со стены знаменитый Мишин календарь (с «кроме того») и понес к себе.
— Вот, только умри, — бурчал вслед дежурный. — Враз все растащут…
Кашин повесил календарь на стену, уселся за стол и стал думать.
Загадка личности Баталова по-прежнему жгла его. И, став волею судьбы его преемником, он пытался анализировать каждый известный ему шаг Михаила, каждую фразу. Это становилось важным еще и потому, что, не поняв, в чем ошибся Баталов, он рисковал ошибиться сам. Даже придуманный Мишей и бездарно воплощенный на бумаге плакат заключал в себе частицу его личности. Какую? Кашин вспомнил, как Миша, пригибаясь и скользя, выскочил на него из-за колонны бывшего монастыря, пропел гнусаво: «Сын мой!..» Как будто два человека стояли теперь перед Семеном; а может, был еще и третий, четвертый? И в разговоре с Казначеевым было что-то такое… Кстати, как он там, Степка? Конечно, никакого собрания сегодня не будет, не до него. Наверняка и Казначеев, и Кипин теперь, забыв прежние разногласия, занимаются одним делом: бегают по известным только им адресам, с кем-то встречаются, что-то выясняют…
Застучали каблуки по коридору, в дверь просунулся Муравейко, брезгливо держа за шиворот конопатого заморыша лет двенадцати со спутанной черной шевелюрой. Толкнул пацана к столу; другой рукой он держал за трубку телефонный аппарат.
— Во, видал? В губоно сна лишились: какой это мерзавец у них аппарат срезал? А он спокойно погуливает с ним по барахолке… Ухх ты! — Он сверкнул глазами.
Мальчишка сжался и отпрянул.
— Ступай, ступай, Антон Афанасьич, — торопливо сказал Семен. — Я разберусь, ступай.
Муравейко вышел.
— Да ведь мы знакомы, э! — прищурился агент. — Я и, как звать тебя, знаю. Абдулка — верно, да?
— Ну и знаешь, ну и что?
— Забыл меня. Помнишь, мы к вам вдвоем заходили, еще когда Косого Фофана в больницу увезли?
— А! — оживился мальчик. — С этим, как его… Хороший мужик!
— Да, хороший. А чего ты телефоны крадешь?
— Это не я, дяденька! — плаксиво закричал беспризорник. — Вот тебе святой истинный крест, не я! Мне мужик дал и гривенник сулил, если продам.
— Какой еще мужик?
— Не знаю. Он у забора стоял и сразу смылся, когда меня вязать стали.
— Ведь врешь!
Абдулка выпучил глаза и перекрестился. Семен махнул рукой:
— Ладно-ладно! Все воровство от вас, не знаю я, что ли? Сейчас объяснение возьму.
— Слушай! — вдруг с интересом сказал беспризорник. — Мне бы с тем мужиком увидеться, что тогда с тобой был. Он, когда уходил, цветные мелки мне обещал. Забыл, что ли.
— Да нет его уже, Абдул. Опоздал ты. Вечером мы у вас были, а ночью его и убили. И не знаем, кто.
— Жалко его… — вздохнул Абдулка. — Он хороший был мужик. Подожди, подожди! Ведь и я с Цезарем той ночью на дело ходил. Цезаря повязали, он теперь в домзаке, а я на речку убежал. Отпусти, а? — Он подмигнул. — Что я тебе тогда скажу-у…
— Не темни, — усмехнулся Семен.
— Нет, верно! Видел я на реке в ту ночь фрея, который его замочил. Ух, и подлюга! Руки в крови, мигает: убил, дескать! Он и за мной гнаться хотел.
— Ф-фу ты! — выдохнул Кашин. — Вон как… Ты хоть запомнил его?
— А как же! — захвастал Абдулка. — Я, брат, шустрый!
— Да уж знаю. — Кашин покосился на аппарат. — Ты его раньше не видал, того-то человека?
— Не.
— А после?
— Не.
— Ну, парень, нагородил ты тут.
— Чего это нагородил? — обиделся беспризорник.
— А если нет, значит, бог тебя ко мне послал. — Агент встал, подошел к мальчугану и обнял. — Пошли бы сейчас домой ко мне, чайку попили, да некогда, видишь. Ты все там же ночуешь?
— Выгоняют уже. Какой-то склад хотят делать.
— Ну, и куда тогда?
— Хо! Я — да не устроюсь! На станции разбитых-то вагонов…
— Это не дело, Абдул. Ты, если выгонят, сразу сюда приходи. В крайнем случае, к себе возьму. На время, конечно, пока место не подыщем. Запомни, кого спросить: Кашина Семена Ильича. Ты грамотный?
— Есть маленько, — солидно ответил пацан.
— Ну, так я запишу, чтобы не забыл.
Он сунул бумажку в карман Абдулкиного пиджака.
— А я тебе тем временем мелки куплю. Только вот что: надо того человека, что ты на реке видел, обязательно разыскать. Так что гляди в оба! А как увидишь — или последи, или как-нибудь, а только дай мне знать обязательно. Ну что, поможешь?
— Если увижу, что ж не помочь.
— Договорились, значит. Ну-ка скажи, как он выглядит?
Записав приметы, Кашин проводил Абдулку на улицу, шлепнул по тощему заду:
— Дуй!
Только тот скрылся в переулке, из дверей выскочил дежурный:
— Ты чего это, а? Ты куда его дел-то?
— Отпустил! — беспечно ответил Семен.
Муравейко выругался и сплюнул:
— И откуда вас таких понабрали? Давай, отпускай! Пусть всё растащут!
— Не указывай! — огрызнулся агент. — Что бы ты понимал в оперативной работе…
— У меня тоже работа! У меня этот аппарат в розыске числится. Что теперь с ним делать?
— Прекратить по нему розыск, разве не понятно? А завтра я его сам и в губоно отнесу, и подцеплю, только и дел!
Муравейко потоптался, усмехнулся и сказал:
— Ну, неси, если хочешь. А только я тебе так скажу: без порядка вы все живете. Каждой вещи, каждому человеку должно быть свое место. Вот этому, — он указал в сторону, где скрылся Абдулка, — место в домзаке: он вор. А ты его отпустил — воруй! Если каждый так станет, какой же будет порядок? Поэты! А отвечать кому? Много на себя берете! Вы берите столько, сколько положено, и ни грамма больше! А то надорвешься, смотри, вроде Баталова, царство ему небесное. И-эх вы, друзья…
За дежурным хлопнула дверь.
Кашин стоял, рассматривая носки штиблет. Рассуждения Муравейко вернули его к мыслям о Баталове. И — вроде бы! — в рассуждениях этих было рациональное зерно. Так в чем же Миша ошибся? Взял на себя груз больше положенного? Значит, не прав сейчас и я, отпустив Абдулку? Допустим, это моя ошибка. Ну, а если Абдулка выведет нас на убийцу Баталова — тогда кто будет прав?
Во дворе соседнего дома, губмилиции, раздавались команды — шел развод. Из ворот выезжали конные, выходили пешие милиционеры. На тротуаре маячил Тереша. Он не пропускал ни одного развода. Молодцевато тянулся, выпятив живот, и отдавал честь. Лицо его было сонным и значительным.
— Привет, Тереша! — сказал Кашин. Тот щелкнул каблуками. — Будь другом, дай совет: как дальше-то жить?
Рюпа медленно повернулся к нему. Щеки его налились кровью, набухли. Лоб пересекла поперечная складка. Семену показалось, что сейчас Тереша изречет истину, которой не постичь обыкновенному человеку. Дурак покрутил шеей и, ткнув Кашина толстым пальцем в плечо, сказал:
— Потáка!
17
* * *Токарь инструментальных мастерских Каменских Петр избил мальчика-пионера, которого пришлось отправить в больницу.
При побоях Каменских говорил:
— Вас, гадов-пионеров, надо, как лягуш, давить всех!
Как страшно!
Старшим товарищам надо повытрясти старую спесь из Каменских.
Юнкор
* * *На помощь беспризорным Каплун (магазин готового платья) по вызову уголовного розыска вносит 5 рублей.
Абдулка бежал по улице и пел:
Песня была срамная. Прохожие шарахались. Абдулка, маленький человечек, жил на этом свете просто и беззаботно. Час назад, попав в уголовный розыск, он думал только об одном: как бы отпереться от кражи аппарата и вырваться из тоскливого серого здания. Вырвавшись же, моментально забыл об этом, и все интересы его сосредоточились на том, где бы добыть поесть. В том, что он не ляжет спать голодным, Абдулка был уверен: лихие времена прошли, и уж хлеба-то можно было достать всегда, имей только ловкие руки и быстрые ноги. Однако, как ни просто протекала Абдулкина жизнь, и в ней встречались сложности. Например, сейчас, думая о жратве, следовало позаботиться и о куске для закадычного друга Ваньки Цезаря, томящегося в домзаке. Еще сложнее обстояло дело со страстью, терзающей мальчишку, сколько он себя помнил: Абдулка рисовал. Поэтому приходилось дополнительно красть и мел, и бумагу, и карандаши, и всевозможные картинки — обыкновенную, по сути, бумагу, где, необъяснимо располагая краски, художник творил миг жизни. Он собирал картинки давно, хранил их в ветхой коробочке и часами разглядывал, стараясь понять секрет живописи.
Но есть хотелось, и Абдулка, шествуя по тротуару, зорко поглядывал по сторонам. На скамеечке, возле двухэтажного деревянного дома, сидел мальчик в тюбетейке, голубой безрукавке и шароварах. Абдулка подошел и сел рядом. Толкнул мальчишку плечом, а когда тот повернулся, оттянул двумя пальцами свои нижние веки и приподнял большим пальцем кончик носа. Получилась страшная харя. Мальчик засмеялся. Ободренный успехом, Абдулка сказал:
— Страшно, ага? Смотри, ночью не попадайся — до смерти нарыхаю. Принеси попить.
Мальчик вынес алюминиевую кружку с теплым, слабозаваренным чаем. Абдулка отпил и закряхтел:
— У, сладко! С сахаром! Никак невозможно его без хлеба пить. Мой организм сахар без хлеба не усваивает. Болезнь такая. Называется — пленер.
Мальчик снова засмеялся:
— Какой ты… Ну, пошли, накормлю.
— Не! — встрепенулся Абдулка. — Мать там, отец, ругаться станут. Или руки заставят мыть.
— Никого нету, — успокоил его мальчик. — Не бойся, пошли.
Они прошли темный, чадный от общей кухни коридор. Мальчик открыл ключом дверь комнаты и подтолкнул Абдулку:
— Заходи!
В комнате стояли две железные койки, большой письменный стол у окна — единственный стол в этом жилище. Над одной из коек висела перевязанная у рукояти красным бантом шашка. По стали вилась узорная гравировка. Голубые с золотым тиснением ножны сияли на обшарпанной стене.
— Вот это да-а! — выдохнул беспризорник. — И кто ее делал, такую?
— Не знаю, — равнодушно ответил мальчик. — Это папкина шашка.
— A-а… У тебя, поди, мать скоро придет?
— Нет, не придет. Она умерла.
Абдулка посопел сочувственно, спросил:
— Давно умерла-то?
— До революции еще. В ссылке. Ну что, садись за стол! А руки все равно придется вымыть. Давай, давай, не разговаривай! — И мальчик потащил его к умывальнику.
Потом они вместе ели хлеб с солью, холодную жареную картошку, пили чай.
— Уф! Насосался! — наконец заявил беспризорник.
Он вяло обвел глазами комнату и вдруг заметил прилепленную к платяному шкафу картинку. Там над погостом с покосившимися крестами стояла церквушка, а где-то внизу под горой катилась река и зеленел лес. Абдулка напрягся: ему показалось, что он со страшной высоты несется вниз, к церквушке, к распластанной среди лесов и полей реке, — так, что воздух звенит в ушах. У него закружилась голова, он зажмурился и воскликнул:
— Ух ты! Слушай, чего тебе за нее достать? Беда мне понравилась.
— Не выйдет, — вздохнул мальчик. — Это тоже отцовская. Он ее любит.
— Ну, ладно. А еще картинки есть?
— Можно поискать, — нехотя согласился мальчишка и стал выдвигать ящики стола, вынимать какие-то коробки, папки. Просмотрев, всовывал обратно. Небольшую резную шкатулочку без крышки поставил на стол и, вынув сверток, развернул. Оттуда выпали деньги, а мальчик, расправив бумагу, торжественно протянул ее Абдулке. У беспризорника пересохло горло: он смотрел то на деньги, то на картинку.
— Ну, чего ты? — спросил хозяин. — Не нравится, что ли?
— Нра-авится… — с трудом произнес Абдулка. — Можно… взять, ага?
— Конечно, — удивился тот. — А зачем же я искал?
Беспризорник бережно свернул бумажку и сунул куда-то за подкладку пиджака. Мальчик пошел проводить его.
— Ну, бывай! — сказал Абдулка и вразвалку зашагал по тротуару. Но вдруг остановился и повернул обратно. Приблизившись к мальчишке, он худой лапкой схватил его за рукав и спросил: — Слушай, ты кто такой? Маленький, а уже фраер. А если бы я те деньги стырил? Между прочим, надо было. То-то выдрали бы тебя как Сидорову козу!
Он горько сплюнул в пыль и убежал. Женька Войнарский растерянно глядел ему вслед.
18
В этот день Кашин так и не ушел домой, не дождался подмены: то ли не выдалось возможности, то ли в суматохе про него просто забыли. Он сидел в кабинете, приводил в порядок свои бумаги, пил чай в дежурке; к ночи привезли со станции проворовавшегося и скрывшегося с семью тысячами золотых рублей кассира губздрава. С этим все было ясно, и Семен отправил его к дежурному следователю. Потом пришлось побывать в каморке, где повесился бывший антрепренер здешней драмтруппы, теперь ярмарочный клоун и зазывала. В последнее время старик впал в полное ничтожество: глотал разную гадость, пропил всю свою одежду. Он и теперь был в одних грязных кальсонах, ничего больше у него не осталось. Кашин свез его в анатомический покой и пешком отправился обратно. Пришел уже очень поздно и сразу лег спать в кабинете на выпрошенной у Муравейко шинели.
Утром, ни свет ни заря, дежурный вошел в кабинет и начал дергать Кашина за ногу. Семен лягнулся — тот отлетел к двери, выругался.
— Получил? Так-то, брат! — спросонья сипел Кашин, оглядываясь. — Нехороший ты, Муравейко, мужик. Сам не спишь и другим не даешь.
— Вставай-вставай! Совсем разбаловались! Убийство, вставай, будь ты неладен!
— Ох! — Семена мигом подняло с пола. — Кого? Чего? — Он заметался по кабинету.
— Брось суетиться, салага. Иди умойся, пока я за заявителем схожу.
Когда дежурный ввел сухого, седоусого, растерянно моргающего субъекта, Кашин уже сидел за столом, умытый и даже слегка причесанный.
Заявитель прошаркал в кабинет и остановился, хватаясь за сердце. Семен вскочил, подставил ему стул.
— Box… Вохмин я… Спиридон Фомич… Охх…, Жи… живу на улице, это… борца революции Рыбина… И… и… — Старик бессильно опустился на стул.
Покуда ездили за следователем, Семен успел вытянуть из охающего, постоянно клонящегося в обморок Вохмина немногое.
Неделю назад его, старшего счетовода-делопроизводителя губфинотдела, послали в уезд на ревизию. Он приехал пароходом сегодня ночью и сразу отправился домой. Жил он на дальней улице. Название ее показалось Кашину знакомым, но представить четко, где она находится, Семен так и не смог, а спросить не хотел: при каждом вопросе счетовод как-то нелепо дергался и бестолково хлопал глазами. Придя домой, Вохмин долго стучался в двери, сердился, что жена крепко спит, заглядывал в окна, однако за задернутыми занавесками ничего не разглядел. Что ж, жена могла уйти ночевать и к подруге, — и Вохмин полез в огород, проник оттуда в ограду, из ограды — в избу… Что он там увидал, Семен так и не уяснил: дойдя до этого места, старик только мычал, плакал; захлебываясь и расплескивая, пил воду из подвигаемого Кашиным стакана. Так что пока приходилось рассчитывать только на информацию, полученную у дежурного.
— Успокойтесь, успокойтесь, — внушал агент. — Да что случилось-то, господи? Жену убили, что ли?
— А-ага-а… — захлипал Спиридон Вохмин. — Ах, звери… Это они мстят мне, точно. За неуклонную попытку помочь следствию… и так дальше.
— Какую попытку, о чем вы? Ладно, об этом потом. Деньги дома были? Ценности и прочее?
— Деньги… деньги были маленько. Она прошлый год дом в деревне продала — были деньги, были. Я только не смотрел, целы ли — не до того было. Ох-ху-хуу! — снова зарыдал счетовод.
— Успокойтесь, вот, вот вода. Дети, родня здесь есть у вас?
— Ни родни, ни детишек. Мы и живем-то вместе два года всего…
И старика опять будто прорвало: захлебнулся рыданиями. Семен замолчал и потащил из пачки папиросу.
В кабинет вошел следователь Веня Карабатов. Веня вел первое кашинское дело, связанное с брачными аферами, однако близко с Семеном тогда как-то не сошелся. Сейчас Веня зашел тихо и остановился за спиной Вохмина, поправляя очки и сочувственно покачивая головой. Заявитель мгновенно уловил движение сзади, отодвинул стакан, съежился и оглянулся.
— Я знаю, знаю, — закивал ему Карабатов. — Боже мой, несчастье, конечно… Да вы успокойтесь, надо ехать, никуда не денешься. Ты готов, Сеня?
На улице Веня втащил Вохмина в бричку, и они выехали со двора губрозыска. За ними тронулись Кашин с двумя милиционерами. У следователя бричка была хорошая, рессорная, сытая лошадь лоснилась, бежала хоть ходко, но спокойно. Упряжка угрозыска проигрывала Вениной по всем статьям: лошадь понервнее, бричка пообшарпаннее, на заднем сиденье зияли дыры от недавно снятого пулемета.
Перепрыгнув по мосту через маленькую речушку, они подъехали к вохминскому дому. На крыльце сидел и щурился участковый надзиратель, возле вились ребятишки, стайками подтягивались соседи, скакал черный одноногий мужик с красными, воспаленными глазами. Кашин огляделся и вспомнил это место: именно здесь, напротив вохминского дома, в избе Нюрки Филатенковой, взяли они банду Кутенцова. «Что-то насчет мести болтал старичок. Надо проверить», — подумал он и обратился к участковому:
— Что ж, давайте начинать.
Надзиратель вздохнул, поднялся и кликнул из толпы добросовестных, как он, по-старому еще, называл понятых. Первым подошел низенький татарин в старом рабочем халате, надвинутой на лоб цветастой тюбетейке:
— Можна? Моя Сабирка будет. Возьми, начальник, пумагать. Жалко Лизку, жалко Спирьку. Зачим резал? Уй, савсим нехороший. Дурак просто.
Семен поискал глазами второго понятого и, заметив нищего, крикнул ему:
— Эй, Бабин! Иди сюда, помогай!
Тот подхромал, забурчал недоверчиво:
— А ты кто такой? Мы с тобой ишшо вино не пили.
— Ну, так я Тебя знаю. На вокзале сидишь, верно? Мы как-то с Мишей Баталовым подходили, не помнишь? И с дурачком Терешей водишься, к нам забегаешь.
— Мало ли кто ко мне подходил! Мало ли к кому я забегаю! — оскалился нищий, но упоминание о Баталове и Рюпе, похоже, смягчило его; во всяком случае, понятым быть согласился.
Карабатов начал осмотр. Описал расположение дома, затем постепенно, переходя из огорода во двор, из двора в сени, пришли в избу. Первым порог переступил Семен. Вошел и остановился: так ударил в ноздри сладко-сырой запах крови.
Убитая лежала на спине возле кровати. Зияла рана на горле — оно было перехвачено глубоко, размашисто. Кровь стеклась под головой, спиной женщины.
По комнате уже двигались занятые своими делами следователь и только что приехавший врач-эксперт. Вохмин трясся в рыданиях. Сабир сидел в углу, сцепив на животе руки, и старался быть степенным. Нищий пугал его, рассказывал страшное, и татарин прыгал на табуретке: «Уй! Уй!» Внезапно он встал, подошел к хозяину и пропыхтел:
— Плохой бог Иса, Спиря. Пошто дал Лизку убить? Уй, плохой, савсим нехороший. Иди, Спирька, нашу веру — Алла беда хорошо, обида не даст.
— Замолчи ты! — резко обернулся к нему Вохмин. — Не суйся под руку, бритая башка, немаканый черт! — И он снова завыл, затряс головой: — Только снаружи огород закрывали… Можно, можно было проникнуть…
— Да! — спохватился Кашин. — Деньги-то пропали или нет?
Хозяин заметался по избе, оглядываясь; наконец припал к огромному сундуку, поднял крышку и почти исчез в нем — виден был только костлявый зад, обтянутый широким галифе с кожаными заплатами. Глухо прорыдал:
— Нету денег…
Следователь окинул взглядом комнату и сказал:
— А обстановка, в общем-то, нарушена минимально. Если б искали — все бы вверх дном перевернули. Интересно…
Семен вывел Вохмина на кухню и стал слушать рассказ о том, как жарким днем подобрал он возле дома напротив раненого человека. И как повез его в город сдавать властям, как встречен был у моста неизвестными с оружием, забравшими у него раненого и пригрозившими… «Мстят, непременно мстят!» — в страхе твердил Спиридон. Агент, однако, сомневался: за что тут мстить? И почему именно жене, а не самому Вохмину? И в поисках хоть какой-нибудь ниточки слово за словом вытягивал из угрюмого старика, где тот родился, где крестился, с какого времени проживал здесь, когда и почему приехал.
По словам Спиридона Фомича, выходило так: до позапрошлого года он работал помощником землеустроителя и как-то, приехав в одну из деревень дальнего уезда проверять наделы, встретил Лизу. У нее незадолго перед тем расстреляли мужа, за что — он не знает толком. В общем, бабочка вдовела, и он стал к ней захаживать. А вскоре посватался. После женитьбы привез ее сюда, поднатужился с деньгами — вот тогда и сторговали этот дом. Лизин дом в деревне, очень хороший, продали только недавно, все не было покупателя. Но сумму выручили изрядную. Деньги хранились в сундуке, в бумаге, сам он о них никому не говорил и жене заказал это делать.
Семен приуныл. Он понял, что впереди — долгая, тяжкая, нудная работа: ходить по соседям, собирать данные о покойнице, ее связях. Если сразу не взял след, попробуй отыщи его потом среди десятков других! Вызвал в ограду следователя и спросил:
— Ну, какие дела, Веня?
— Какие тут дела! — откликнулся тот. — Ни следов, ни орудий преступления. Только вот что не верится мне: женщины — народ все-таки пугливый. Неужели ж она изнутри в избе не закрывалась? И крючок там на месте, я проверял. Кто-то знакомый, вот что я думаю. А что? Бабочка ладная, красоточка даже. И мужа почти вдвое моложе. Можно допустить, вполне! Ты пошукай в этом направлении. И еще: с кем мне держать связь по этому делу?
— Наверно, со мной. Нет народу, понимаешь — кто по сберкассе работает, кто в губернии. Раз начал, придется пока мне крутиться.
Двое милиционеров, кряхтя и ругаясь, протискивали в двери покрытые простыней носилки. Семен отвел от них взгляд, шморгнул носом:
— Эх, жизнь!
Сразу вспомнился глупый водевиль «Принц Рике с хохлом», и Кашин произнес обреченно:
— Признаюсь, о Карабосса, работы много будет и спереди, и сзади. Впрочем, фея должна знать свое дело.
Карабатов блеснул очками и ничего не ответил.
19
ДЕВУШКИ С ПИЛОЙНаправили 10 девушек из школы фабричного ученичества на завод «Красный бурлак», в слесарный цех.
Смех пошел сначала.
— Что же девки-то делать будут?
— Девка — слесарь. Хо-хо.
А потом поутихли. И пила, и тисы у девушек в руках правильно держатся, и не хуже, чем у ребят, работа идет.
Теперь уже рабочие не смеются.
БОЛИТ ЗА СВОЕОт объединенной ячейки РКП трое товарищей поехали в Черновское к крестьянам с целью закрепления культурной смычки.
Говорили о международном положении, о сельском хозяйстве и землемерии.
Как дошло дело до сельского хозяйства, загорелись глаза у бородатых, развязались языки. Засыпали вопросами: о земельном кодексе, о сельхозбанке, о ценах на машины и т. д.
Были и жалобы.
— Не хватает семян.
— Обижают красноармеек.
— Почему мало, редко приезжают из города?
И это верно.
Нужно чаще быть в деревне, учить ее, брать жалобы и искоренять недостатки.
Очевидец
Уйдя утром в слезах от дома билетерши «Триумфа», Малахов спустился в луга, подошел к месту, где он всегда разводил костер. Разбудили его милиционеры, внезапно вынырнувшие из травы. Сначала у него дрогнуло сердце, но в тот же момент он успокоился: наконец-то все закончится. Достал из кармана справку о демобилизации, истертую и ветхую/ протянул. Один из милиционеров развернул ее, прочитал и спросил сурово:
— Чего здесь шляешься, красноармеец?
— Ночую вот…
— Нашел место! Больше-то негде, что ли?
— Негде. Да вы не думайте, — вдруг заторопился он. — Не думайте, что я побирушка, бродяга; я работаю и деньги получаю — дорогу в артели укладываю, свидетелей могу назвать или проводить.
— Ладно! — Милиционер протянул ему справку. — Дуй давай отсюда, да побыстрей! Мы вообще-то всю здешнюю публику подбираем для проверки, сильно неспокойно стало в городе, но ты ступай, красноармеец, насчет работы мы тебе верим, а дом ищи: осень на носу! Ступай, быстро!
И Николай снова поплелся к дому, от которого только что ушел в слезах и горе, долго сидел, прислонясь спиной к крыльцу, а когда настала пора, двинулся на работу.
Работала артель теперь далеко от места, где к ней пристал Николай Малахов. Давно скрылась церквушка, возле которой был им убит Федька Фролков. Дорога проходила по широкой улице, в середине ее стояла бакалейная лавочка маленького вежливого азиата: у него покупали рабочие хлеб и колбасу. При виде их, толпой подходящих к лавке, он выскакивал, кланялся и что-то быстро лопотал.
В тот день артель подошла к лавчонке вплотную. За обедом расположились на камнях.
Когда на пороге лавочки появился хозяин, Зонтов крикнул:
— Эй, паря! Иди сюды! Посиди, покурь! Да закуси с нами, что ли.
— Гы-гы! Закуси! — фыркнул Филька. — А крыса у тебя игде? Оне, японцы-те; слышь ты, одних крыс жрут, нам поп сказывал — гы-ы!
— Не японцы, а китайцы, — солидно поправил его отец.
— Крыс! Крыс жрут! — Филька от смеха валился на траву.
Малахов глянул на него с открытой неприязнью, Филька замолчал и отодвинулся.
В это время среди артельщиков произошло движение: мужики напряглись, завытягивали шеи. Оглянулся и Николай и — выронил из руки хлеб: по улице шла к ним артельная зазнобушка.
Девушка подходила ближе, и шаги ее были все тише и неувереннее. Почти поравнявшись с артелью, она сошла с тротуара и остановилась возле лавки. Вынырнул хозяин, поклонился, прижимая к груди ручки, нежно и гортанно пропел приветствие и снова скрылся в дверях. Она не обратила на него внимания: стояла, обернувшись к мужикам, комкала сдернутую с головы косынку.
Артельщики сначала растерялись: сидели молча, отложив еду. Первым опомнился Анкудиныч:
— Распялили гляделки-то! Ай не знаете, по кого любушка набежала?
— О-о! Ххе-хо-о! — загалдели мужики. — Как не знать! Наше вам с кисточкой! А мы уж прискучали без тебя — доброго здоровьица, сестрица!
Они начали подталкивать Николая:
— Не сиди, не зыркай, бежи давай! Ой, да ко мне бы такая скусная пришла — у-у-кхха-а! Ну, Никола, присушил, молодца, брат!
Малахов поднялся с земли и неуверенно, как-то зигзагами стал приближаться к девушке. Остановился, отведя глаза в сторону.
— Здравствуй, Коля… — тихо сказала она.
— Ну, здравствуй.
— Что это с тобой? Разлюбил меня, а? Неверный… — Она жалко и кокетливо сложила губы.
— Кто у тебя был? — Слова произносились медленно, с усилием.
Девушка тронула ладонью его щеку, повернула к себе лицо и, заглянув в глаза, сказала:
— Ты про это не думай. Это — не для тебя. И не для меня. Такая судьба, глупая. Хочешь, на колени встану?
— Нет! На колени — зачем же? — Малахов оглянулся на товарищей. — Неудобно…
— Пойдем! — Она схватила его руку, прижалась. — Пойдем, а?
Они пошли по улице, удаляясь от весело кричащих вслед артельщиков.
— Что ж ты меня не спрашиваешь?
— Не хочу пока, — ответил Николай. — Потом.
Вот и кинотеатр. Она встала проверять билеты, а он пошел в зал и целый вечер, до одурения, смотрел «Жену предревкома», сильную кинодраму в шести частях. И все в ней было, как в жизни.
После они двинулись знакомым путем к ее дому, и она не рассталась с Малаховым по дороге. Молчанием не тяготились, ибо было оно легким и таинственным: блестели глаза, влажно мерцали губы. Проводив ее до крыльца, он, раскинув руки, прижался спиной к забору, не отрывая взгляда от размытого сумраком силуэта.
Она отперла дверь, сказала приглушенно:
— Зайди, если хочешь.
Он перевел дыхание, оттолкнулся от забора.
В кромешной тьме Малахов зацепился за порог и ворвался в комнату кувырком, стеснив сердце болью и ужасом. Она засмеялась, зажгла лампу: он сидел на полу и охал, держась за ногу. Принесен был вазелин; Николай завернул штанину, и девушка помазала ссадину. Он завороженно, притихнув, следил за ее руками.
Они долго, долго сидели той ночью друг против друга и говорили. Однако недоговоренным осталось очень многое: некоторые события, как давнего, так и последнего времени, старательно обходились, замалчивались; если же все-таки всплывало такое, что нельзя было обойти, голоса волновались и вздрагивали. Когда разговор начал притухать от усталости и неопределенности, Николай встал, подошел к девушке и, опустившись на колени, прижался головой к ее груди. Она очнулась, положила руку на его голову, слегка оттолкнула:
— Не надо. Не надо, Коля. Подожди… подожди, хороший.
Он встал покорно, ушел на табуретку. Девушка сидела, замерев и глядя в одну точку, еще минут двадцать. Вдруг всплеснула руками и заплакала: громко, в голос, по-бабьи. Малахов кинулся к ней — она обняла его обеими руками и стала целовать, быстро и бессвязно причитая.
Проснувшись рано утром, Николай, стараясь не дышать, тихо и осторожно высвободил руку, встал с кровати и, подойдя к окну, отдернул чуть занавеску. Улица с примятой и выщербленной посередине травой, дома в садах и огородах, теплое низкое солнце подсвечивает перистые облака, кусты сирени и акации в палисаднике.
«Вот и ладно. Теперь уж все ладно. Ну и слава богу», — подумал он.
20
МОПРСтрогаль механического цеха паровозных мастерских т. Бородин М. Я., приняв вызов т. Лозор на свой счет, вносит 2 монеты по 20 бани, 1 монету по 10 бани, 1 монету по 50 бани и монету в 1 лей — все это румынские деньги. Затем 20 пфеннигов германским серебром и 1 пфенниг медный.
Тов. Бородин считает, что никто не должен жалеть денег для помощи узникам капитала.
ОБЪЯВЛЕНИЕПлемянник профессора Венцеля гражд. Р. О. Ридель обходит знакомых своего дядюшки, выпрашивая у них от его имени разные вещи, которые благополучно «перетапливает» затем в магазинах и на барахолке. Профессор просит указать своему племяннику на возможность знакомства его с угрозыском.
В среду вечером Кашин искал на окраине дом баяниста Витеньки. Плутал по кривым переулкам, выбирался из тупиков, злился. Он страшно устал за последние трое суток: щеки ввалились, глаза лихорадочно горели. Однако перед тем, как идти к Гольянцеву, Семен спал целых пять часов и даже постригся в хорошей парикмахерской. Но усталость не снялась, и он приглушал ее злостью. Злился на себя: трое суток, в сущности, вылетели в трубу — разговоры с соседями Вохминых, подругами покойной, глупыми курицами, с попом ее прихода ничего не дали, а, кроме этих разговоров, он успел сделать только одно: послать за подписью Войнарского запрос в уезд, где раньше проживала жена Спиридона Фомича. В губрозыске лучше было не появляться. Когда он зашел к Войнарскому подписать запрос, тот сидел почерневший, страшный и так тоскливо посмотрел на Семена, что захотелось провалиться сквозь пол. Везде было плохо: и со сберкассой, и с Вохминой. Но главным гвоздем в голове сидел предстоящий разговор с Витенькой. Слишком много от него зависело.
Кашину сразу невероятно повезло, он продвинулся, кажется, дальше Баталова, однако пропорционально возрастала и опасность. В конце концов, баянист может быть всего лишь приманкой. «Пусть попробует вилять! Душу выну из кабацкой теребени!» — распалял себя Семен. А когда в одном из переулков увидал знакомую калиточку с большим кольцом на двери — на кольце искусно довольно отлита была львиная морда, — страх ударил в коленки. Семен затоптался перед дверью, оглядываясь. Показалось, что со всех сторон, из всех переулков набегут сейчас бандиты и начнут терзать его здесь, перед этой подслеповатой избушкой; другие хлынут со двора, а лев с ручки будет слепо пучиться и звякать, подбадривая: «Так его! Так! Так!..» И он пожалел, что отказался от страховки. Все-таки легче было бы, если б знать, что где-то поблизости тревожится за тебя Степа Казначеев, который не даст пропасть!
Из проулков, однако, никто не бежал. «Значит, там, внутри», — думал Кашин, ощупывая револьвер. Осторожно дотронулся до львиной морды; она качнулась, звякнув: «Так его, так!» — и он снова отпрянул. Шла мимо баба с коромыслом, засмеялась и сказала:
— Эй ты, тютя! Чего потерял?
— Цыпушку ищу! — вдруг неожиданно для себя ответил Семен и, услыхав собственный голос, развеселился. Он увидал себя со стороны: взъерошенного, враскорячку стоящего перед чужой дверью, судорожно шарящего в кармане.
Он выпрямился и продекламировал, глядя поверх двери:
— О Карабосса! Выведи же меня из затруднительного положения и вразуми, что делать: остаться ли здесь и пугать человечество, или, не добившись толку, благополучно отправиться восвояси?
Постоял, вслушиваясь, словно ожидая ответа, и, схватив ненавистную морду, бухнул ею в калитку.
Хлопнула дверь в доме, кто-то завозился на крыльце. Семен приник к щели. Глазу открылся Витенька в рубашке апаш, белых парусиновых брюках, босиком. Прошлепал к калитке, отворил, пощурился.
— Здравствуйте, — вежливо сказал Кашин.
Баянист кивнул, снова уставился на него.
— Не узнаете? — Агент растерялся. — Помните, в ресторане разговаривали, а потом еще вместе до вашего дома шли?
— A-а! — Витенька оживился, захлопотал. — Из угрозыска! Помню, как же! Теперь вспомнил. Ах, память убогая! — Он хлопнул себя по лбу. — Вылетело, вылетело из головы. Разве упомнишь за всеми нашими делами. Проходите, проходите, ну, просто прелесть, что и вы обо мне не забыли. Приятно, приятно!
Однако глаза его были живые, настороженные, и, уловив их выражение, Семен подумал: «Ну, врешь. Ты ждал меня».
Они обменялись рукопожатиями, и Кашин шагнул за калитку.
Он осторожно, прижимаясь спиной к стенам, обследовал избу, все ее углы, выступы, заглянул за печку. Однако таким застарелым одиночеством повеяло на него от вида убогого музыкантского жилища, что Семен мгновенно повеселел и перестал бояться. Было душно, накурено, шибало в нос чем-то прокисшим. Агент поморщился:
— Надо бы окна раскрыть, проветрить, а то — тьфу, духотища!
Витенька качнулся в его сторону и возглаголал:
— Я тля, тля! Мне самому свежий воздух принципиально проти… вопоказан! А уж вас, коли снизошли, — па-апрашу не роптать-с! Поймите жизнь малых сих! — Он ткнул себя пальцем в грудь.
«Однако!» — подумал Кашин: баянист был пьян. Или показалось? Вот незадача, скажи… Витенька убежал на кухню, вернулся с бутылкой водки, маленькими гранеными стаканчиками. Поставил все на застеленный газетой, стоящий посередине горницы обшарпанный стол, королевским жестом указал на табуретку: «Прра-шу-сс!» Распечатал водку, разлил ее по стаканам, выпил свой, не чокаясь, молча, и стал хлебать из алюминиевой чашки холодный суп. Оторвавшись от еды, спросил:
— В чем дело-с?
— Если вы думаете, что я за этим сюда шел, — Кашин отодвинул стакан, — то вынужден огорчить…
— Разве-с? — улыбнулся в сторону баянист. — Ах, скажите! А я было обрадовался: сижу бобыль бобылем целыми днями, хоть бы, дескать, живая душа навестила! И уж так-то я вам обрадовался: выпьем, думаю, по стопочке, разговоры заведем… Ах, какие интересные могут получиться разговоры! Ведь мы оба люди незаурядные, верно-с?
— За себя не могу сказать. — Семен вздохнул. — Насчет своей незаурядности крепко сомневаюсь.
— И зря, зря! — замахал руками Витенька, словно испугавшись. — Есть, есть незаурядность, и большая-с! В прошлом нашем разговоре немало ее выказали!
— М-да… Интересно, Виктор Федорыч, что за незаурядность вы во мне углядели. Тонкость, что ли?
Гольянцев сник, понурился:
— Я уж думал, ты об этом забыл. Надеялся, дурачок! И ведь знал, что придешь, а все равно надеялся. Эх… — Он снова разлил водку. — Что ж, давай поговорим, если так. О чем, бишь, был тогда разговор?
Кашин перегнулся через стол:
— Мне нужен Лунь. Лунь, понял?
— Не знаю такого. — Витенька повел головой, голос его был равнодушен. — Не знаю.
— Или Черкиз.
Баянист быстро вобрал голову в плечи, театрально выбросил руки ладонями вперед и залопотал:
— Нет, нет! Нет его, понимаешь? Ни для меня, ни для тебя. Впрочем, не знаю, возможно, относительно тебя ошибаюсь. Но для меня — нет, точно! Что ты, боговый, разве ж я себе враг — такими делами играться? Я хоть и ничтожен, а жить люблю-с!
— Чего боишься? Как он узнает, что происходит между нами? Не думаю я, чтобы он за тобой следил.
— А ему и следить не надо, — покривил рот Витенька. — Достаточно, что подойдет, в глаза заглянет, к плечу склонится, понюхает, скажет пару слов, и — нет человека! Полная хана-с. Так что не уговаривай, не пойду я на это дело, душа моя. На Черкиза тебе выхода от меня не будет.
Семен вскочил, рванул ворот:
— Заморочил ты меня, гадюка…
Он повернулся к стене, ткнулся в нее лицом.
Застучала ложка — это Витенька хлебал суп. Голос его был вкрадчивый, словно изнеможенный:
— Разве ж я вам, любезный, обещал Черкиза? Да ну, не помню. Однако вы зря расстраиваетесь. Посудите сами, как я могу вам его отдать? Ведь это мне многое надо знать: куда, когда придет, с кем — ну, понимаете? Воленс-неволенс придется быть любопытным. А таких, как известно, не больно жалуют. Так что не обессудьте, не вижу резона через любопытство свой конец постигать, да… Не расстраивайтесь, еще раз говорю. Из любой ситуации можно найти выход, разве не так-с?
Кашин отстранился от стены, поглядел в его сторону. Баянист уловил это движение, заторопился:
— Насчет Черкиза пасую безусловно. Прямого контакта боюсь категорически и не пойду-с. Может быть, у вас боковая ниточка имеется?
Агент подошел к столу, с шумом придвинул табуретку, сел и сказал:
— Маша.
— Какая Маша? Маша? Дочь купца Тарасова? — Витенька сразу оживился, обрадовался. — Она, она — ах, прелестница! Да ведь это мед! — Он облизнулся и понизил голос. — Насчет знакомства обещать не могу-с: зафрахтована и сурьезно-с! Но показать при случае не премину. Красавица — ах, ах! — закудахтал баянист. Расплылся в улыбке и сразу стал похож на фарфорового китайского болванчика. Поползла из-под стола рука, расплескала водку по стаканам. Мягко терлись одна об другую ладошки, голос пришепетывал:
— Будучи сам небезразличен к дамским прелестям, свидетельствую: как-кой выбор-с! И бывает, бывает у нас, благодетельница! Давненько не была, правда, значит, на днях появится. Может быть, завтра даже или послезавтра — приходите! Укажу, но познакомить не обещаю: занята-с, и кавалер сурьезный, так что извините.
— Черкиз, так надо понимать?
Витенька зашипел и прижал палец к губам. Покачнулся, чуть не упал вместе с табуреткой, но, чудом удержавшись, сказал:
— Мое ли дело, любезный друг, знать проделки резвого Амура-с? Дают деньги, говорят: играй! — и я играю, но что им до того, что здесь! — Баянист ударил себя в грудь и пустил слезу. — Маш-ша… — Вдруг согнал страдание с лица и произнес совершенно серьезно: — Значит, уговорились. Она появится в ресторане со дня на день, бывает примерно раз в месяц. Но иногда приходит одна, без кавалера, тогда и уходит одна. Приходите, я покажу — ах, мед! — Витенька чмокнул кончики пальцев и потупился.
— И на том спасибо! — вздохнул Семен. — Странный ты, Гольянцев, тип. Помнишь, тогда говорил: возвышусь, низринусь, смерть найду — целую проблему выдумал, ишь! — Он засмеялся презрительно. — Ну и что возвысился теперь?
Баянист вскочил с табуретки, забегал по избе.
— И возвышусь, и возвышусь! — выкрикнул он. Остановился перед оперативником, согнулся, оперев руки в колени, обнажил желтые зубы: — Какие вы, ей-богу! Ах, обрадовался, что Виктор Федорович задешево себя продает! Да нет, не-ет! Ведь это какая радость: Машенька-то добрая, красавица — разве ж она на меня взглянет? Она по-чистому жить хочет, да не получается, вот беда! Судьба, знать, такая. Так ведь теперь вся ее судьба у меня, червя земного, в руках. Про Черкиза скажу: сейчас ты на него охотник, потому что я так захотел. А захочу — будет и наоборот. Что, правда? — Он придвинулся и задышал Семену в лицо. — Пока свои прятки не закончите, все здесь будете! — Витенька сжал кулачок и вознес его над головой. Взвизгнул: — Души ваши здесь держу! И выходит теперь: не земной я червь, а небесный — хха-ха-хха-а…
Семен оттолкнул его, сказал:
— А я-то думал, просто ты нам помочь решил.
Баянист ощерился, загрозил пальцем:
— Не-ет! Ваша власть, это верно, и я ей подчиняюсь, слов нет! Вот теперь свою лояльность кладу на ваш престол, пусть зачтется, где надо, но — бойся, бойся! Вдруг меня в этот момент Черкиз вздумает приголубить: ведь я ему все скажу, потому как мы люди во многом сходные… Хотя, если по правде, — ненавижу-с! Сильный, слушаются его, бабы красивые… А я сильных терпеть не могу — с детства от них кости трещат.
Витенька налил водки, выпил и вдруг сморщился, съежился и опустился, словно мяч, из которого выпустили воздух. Семен перехватил его взгляд и удивился: пустой, белесый и безразличный, ни за что не цепляющийся. Он оглядел Гольянцева. Тот пожевал губами и звонко, отчетливо произнес:
— Мясо трехлетней щучки напоминает по вкусу побеги молодой липы!
Семен вдумался в эти слова, пытаясь нащупать в них некий скрытый смысл, но так его и не уловил. Витенька сидел, мерно покачиваясь, и снова напомнил фарфорового болвана.
— Э… Виктор Федорыч!
Однако баянист не услышал его. С тем же остекленевшим взглядом он пел негромко и гнусаво:
До Семена дошло наконец: Витенька просто-напросто мертвецки пьян. Кашин бочком выбрался из-за стола и устремился к двери. На пороге оглянулся, но взгляд Гольянцева был пуст и невидящ. И агент угрозыска покинул этот дом.
21
Юрий Павлович Войнарский сидел возле реки и напевал. Песня была старая, слышанная им в годы ссылки от одного эсера, бывшего студента лесной академии. Вечерами они собирались у кого-нибудь в избе, и эсер, виртуозно играя на старенькой, обшарпанной, чудом хранимой во всех передрягах балалаечке, пел угрюмым басом песни центральной полосы, бродившие в крови еще с того времени, как бегал он по деревне — босой поповский сынок. Его потом, в революцию, закололи восставшие чехи.
Вода искрилась и шлепала о берег. Начальник губрозыска ждал агента Сеню Кашина — они договорились накануне, что после разговора с ресторанным баянистом Семен придет сюда. Конечно, можно было бы, и даже резоннее было бы, встретиться в губрозыске, но Войнарский придавал слишком большое значение этому разговору, чтобы вести его в наполненном шумом, топотом, телефонными звонками помещении.
Он и сам отдыхал теперь здесь, глядя на тихую воду, желтый плесик на другом берегу, легко пошумливающие рядом кусты. Было пусто и одиноко, хриповато пелась песенка, и уже не так сильно болела голова.
Человек приходит к воде за душевным покоем. Вид ее, тысячи лет катящейся по одному и тому же месту, запах свежести, водного цветения — вечно живущей и бушующей в ней жизни, взблеск рыбьих тел действуют на одинокого, пришедшего отдохнуть человека мирно и расслабляюще. Войнарскому вспомнились стихи:
Когда-то Юрий Павлович, сын земского врача из глухого уезда, имел неосторожность полгода проучиться на юридическом факультете Петербургского университета, и эта страница биографии тяжелым грузом лежала теперь на его плечах. Замешанный в студенческих волнениях, он был осужден и выслан — с этого начался его путь профессионального революционера. О едва начатом юридическом образовании до революции как-то и не вспоминалось. После Октябрьских дней, когда стали искать грамотных людей для работы в ЧК, прокуратуре и милиции, до Войнарского так и не добрались: он успел уйти на фронт. После демобилизации съездил к старику отцу, забрал от него сына Женьку и приехал в этот город, знакомый еще по боям с Колчаком. На большие должности Войнарский не рассчитывал, готов был работать, куда пошлют, но тут-то судьба и сыграла с ним шутку: появление революционера-профессионала с солидным стажем конспиративной работы, фронтовика, награжденного именным оружием, да еще бывшего столичного студента-юриста произвело свое впечатление… В общем, встретили его с распростертыми объятьями и тут же назначили начальником губрозыска. Были, однако, люди, отнесшиеся к этому назначению с подозрением: слишком не вязался вид высокого, нескладного человека в пенсне с образом начальника грозного учреждения. Вспоминали его предшественника: тот ездил только на тройке, приводя в яростный восторг всех городских собак, а напившись, палил в воздух из маузера. И тем не менее новый начальник, человек тихий, не стесняющийся своего интеллигентского происхождения, как-то незаметно, без крика, скандалов и особенных увольнений, в сравнительно короткий срок сумел превратить аппарат угрозыска в коллектив сильный профессионально и нравственно.
Следует заметить, что в те годы угрозыск, существуя в системе милицейских органов, тем не менее считался подразделением самостоятельным. Это сообщало ему некую исключительность. Исключительность способствовала поддержанию среди молодых сотрудников легкого налета пинкертоновщины, суперменства, даже анархических тенденций.
Проще всего было бы дисциплинарно, приказами и наказаниями, попытаться пресечь ненужные настроения. Однако Войнарский не сделал этого. Исподволь, но уверенно и неуклонно он прививал коллективу дух идеи и подвижничества, ибо знал: сотрудник, вкусивший его, будет нести тяготы опасной своей работы не с хвастливым сознанием совершаемого ежедневно подвига, а с чувством труженика, возделывающего нелегкое свое поле. Суперменские настроения Войнарский искоренять особенно и не старался: чрезмерная борьба с ними рано или поздно привела бы к мелочной опеке, канцелярщине и боязни самостоятельных действий. Да и сам Юрий Павлович в достаточной степени был романтиком, чтобы не сознавать всю притягательность суперменства для молодых ребят-комсомольцев, основного состава уголовного розыска. Для них не было большего счастья, как с юмором, с этаким поигрыванием говорить об операциях, засадах, ранениях; мол, было дело — и поди разберись, ухало ли сердце навстречу пыхающим выстрелам, обливалось ли жаром тело, почуяв в себе горячо раздирающий клетки кусок металла?
За всей круговертью свалившихся в последние дни на него дел Войнарский ни на минуту не забывал о Кашине: тот был единственным человеком, которому хоть немного «посветило» в деле розыска неуловимого Черкиза. И боялся за него. Несмотря на уговор, он хотел все-таки послать кого-нибудь подстраховать Семена, но, вызвав Казначеева и услыхав объяснения по поводу их нечаянной встречи, сплюнул в ярости, изругал обоих: «Конспир-раторы! Господи, ну за что же мне такое наказание?!» — и отказался от своего намерения. Кашина эта подстраховка вряд ли спасла бы, а замеченная слежка могла пресечь единственную тонюсенькую ниточку.
Юрий Павлович сознательно оставил также Семену розыск по делу об убийстве Вохминой: он почти никогда не перепоручал расследований, начатых одним человеком, другому, кроме случаев исключительных, например, гибели или увольнения. Агент, своими глазами увидевший обстановку, следы преступления, обычно результативнее ведет поиск. Потом — у человека всегда должно быть в запасе какое-то дело. Еще неизвестно, чем кончится вся эта затея с Черкизом.
Раздалось посвистывание, кусты вверху зашумели. Войнарский обернулся — по тропочке спускался Семен.
Двигался он вразвалку, выражение на лице имел таинственное. Приблизившись, шлепнулся на траву, не поздоровавшись. Начальник губрозыска потянул носом:
— Ты выпил, Сеня? С горя, с радости?
— Так получилось, — неохотно ответил агент. — Лезет со своей водкой, мразь проклятая. У-у, раздавил бы!
— Э, да ты и злой к тому же! Что, не получилось?
— Кто его знает, сам не разберусь…
И Семен рассказал, как он ходил к Витеньке.
— Зачем же сердиться? — выслушав, сказал Войнарский. — И то хлеб. Неплохо, неплохо.
— Да ну его к черту! — зарычал Семен. — Вот юлит, вот юлит. Я, мол, человек сложный и простым людям не очень-то доверяю. Для него сложный негодяй милее, чем простой праведник. А я думаю — обыкновенный подлец.
— Что я тебе отвечу? — с грустью проговорил Юрий Павлович. — В чем-то ты прав, наверное. А все-таки скажи мне кто-нибудь, что я личность простая, без сложностей, — ведь обижусь. Вида не покажу, а обижусь. Мало ли чего время и природа в человеке не намешают! Вот разбираться во всем этом мы с тобой и поставлены.
— Что вы! Разве разберешься?
— Приходится, такое дело. Я вот теперь тоже мучаюсь: кажется, никто лучше меня не знал Мишу Баталова… Эх, парень, парень — от всех ушел, все скрыл. Ты не думал, Сеня, почему так получилось?
Кашин не ответил, только поежился.
— Н-да… Тоже сложный был человек. Все хочу домой к нему сходить, с бабкой потолковать, да времени нет. И тебе неплохо бы, все-таки по его следу идешь.
— Я схожу! — серьезно пообещал Семен. — Обязательно схожу. Вот что еще: неужели самое главное — перед собой оправдаться?
— Нет, это вряд ли. Во всяком случае, сложностью этой ничего оправдать нельзя. А Гольянцева я немного понимаю. Натура такая — трусливая, всеми битая. Чего уж теперь, казалось бы, надо человеку? И жизнь, по сути, прошла, и место сытое, не пыльное, а тоже, смотри, справедливости ищет. По-своему, а ищет. Я вот думаю, не появись ты тогда в ресторане, он все равно бы нашел к нам лазейку.
— А почему же он Баталову не помог?
— Может, и помог, откуда ты знаешь? А может, и не помог, вот теперь и терзается, что на его глазах парень сгорел.
Семен повернулся резко, хотел что-то сказать, но Войнарский остановил его:
— Тише! Глянь-ка туда. Видишь, язенок плавится? Видишь?
Язенок всплывал, плескался, ввинчивался в зеленую глубину гибким своим телом. Вдруг что-то быстрое и тяжелое ударило рядом, пузырьки взвились вверх, и рыба, испуганно дрогнув, стремительно унеслась к тени прибрежных ив. А Семен Кашин, кинувший гальку, стал следом за Войнарским подниматься по угору.
22
КЛУБ ОТКРЫЛСЯСтроили наполовину сами рабочие, сверхурочно. Недавно открыли. Теперь лесозавод имеет уголок культуры — свой клуб.
На торжественное открытие пришли все. Приветствовали и от губкома профсоюза, и от ячейки ВКП(б), и женотдел, и ленинцы-новобранцы.
Митинговали. Спектакль. Потанцевали.
Немножко смешно было, что президиум собрания был составлен из товарищей, не принимавших никакого участия в постройке.
Ну, да это ничего. Главное — еще одним уголком культуры на производстве больше.
Дрягин
ОБЪЯВЛЕНИЕПохищен профсоюзный билет на Кондрякова Н. Я., выданный союзом торгслужащих за № 1986. Считать недействительным.
В тот день, когда Николай Малахов впервые проснулся в стенах неожиданно ставшего родным дома, он не пошел на работу. Встав с кровати, нашел на столе записку: «Колинька дорогой я ушла на базар. Не думай что я цыганка ветренная. Пусть все будет хорошо как в кино а о раньше не станем вспоминать. Ну до встречи куплю луку укропу квас есть сделаю окрошку».
Николай снова лег, закинул руки за голову и тихо засмеялся: он был дома наконец. Он обрел его, свой дом, — крыша, под которой он находился, была его крышей, а женщина, что жила здесь, была его женой. Нежность, любовь, хмель свободы и радости бродили в сердце, кружили голову. Разве мог этот родной, отгороженный от остального мира крохотный кусочек пространства сравниться с тем, что раньше заменяло ему кров: застланное низкими тучами серое бивуачное небо, казарма, квартирка Фролкова, чистые звезды пригородных лугов. Там он находил приют — тревожный и ненадежный. А здесь… Он положил руку на грудь и глубоко, судорожно вздохнул. Встал, оделся, заправил кровать, сел на табуретку и стал ждать ее возвращения. Тикали ходики, плескалась черемуха за окном, пахло закисающим квасом и малиновым вареньем.
Она пришла около полудня — стукнуло в сенках, растворилась дверь, — бросила у порога тяжелую сумку, прислонилась к косяку и сказала:
— Ох, задохнулась… Уж я торопилась: ударило в голову, что ты от меня ушел. Чтой-то я — ах, дурочка! Ну, здравствуй опять.
…День был тих и зноен. Очнувшись после недолгого послеобеденного сна, она стала собираться на работу. Малахов пошел проводить, уговорив заглянуть по дороге к артельщикам. Те, увидав их вместе, торжественно умолкли и только смущенно покряхтывали. Наконец десятник не выдержал:
— Што, женился? Ах ты, едрит твою… — Он закашлялся, сплюнул и, подойдя к ним, сунул Николаю ладонь. Затем взялся за пальцы девушки, прильнул к ней и быстро клюнул в щеку. Отскочил, взъерошенный и зардевшийся; подмигнул Малахову и победно обвел глазами мужиков. Те захохотали, загалдели и стали подходить к жениху, гулко бухая его в спину. Он растерянно улыбался. Кто-то затянул «Во лузях, во лузях», но его оборвали. Огромный Кузьма яростно чесанул затылок и прогудел:
— Ну и свадьба, мать честная! И по усам не текло, и в рот не попало.
Николай глянул на него; что-то сообразив, закружился среди мужиков, наговаривая:
— Обождите, обождите! Вот я ее на работу сопровожу, да и вернусь, тогда уж сообразим, сообразим!
— Ты оставайся с ними, — сказала она. — Вон они какие — чудные, ей-богу! Я одна дойду. А ты встречай меня, ладно? Не загуляй, смотри! — И пошла по тротуару.
Анкудиныч вынул деньги, отсчитал несколько ассигнаций и помахал ими:
— Вы меня поняли, нет, мужики? Теперь, значит, шабашим, и — гулять, а потом я поровну со всех вычитаю, не надо бы парня на первых порах в убыток вводить.
— До-обро-о!
Как тут и был, вывернулся из дверей своей лавки раскосый азиат с косичкой и замер, вежливо кланяясь и прижимая к груди короткие ручки. Десятник подозвал его:
— Подь-ко сюды, хмырь черемной!
Тот подбежал, забормотал, сгибаясь учтиво:
— Дластуйте, длуга. Сево-сево нада?
Анкудиныч протянул деньги:
— Обиходь, чтобы все честь по чести. Неси на ту сторону, где полянка. Пойдем, мужики!
Они пошли на полянку, под деревья, что росли сбоку от лавки. Хозяин ее расторопно притащил водки, колбасы, молодого лука и хлеба. Десятник плеснул в первую кружку, протянул ему:
— Давай-ко выпей, нехристь, за доброго человека.
Азиат гортанно рассмеялся и, быстро-быстро замотав головой, убежал обратно в лавку.
Анкудиныч крякнул досадливо:
— Ну, до чего же вера у людей вредная! Не дозволяет!
— Да! Вера! — откликнулся одноглазый Ефим. — Скажешь тоже — вера! Я с этими друзьями в гражданску в Сибири стречался. Эдак-ту станцию брали, дак напоролись на четверых — ни один лыка не вяжет! Закололи, а они и не почувствовали небось — совсем освинели! Не пьет человек — и все, какая тут, к черту, вера.
— Ладно-ладно! — перебил его Кузьма. — Рассвистелся, свистун! Давайте-ко, други, поднимем вино за артельщика, дорогого нашего товарища! Мужик он дельный, самостоятельный, зря слова не скажет, по работе его хаять грех, дай бог хоть кому такого работника. А что женился — так и в этом ему полное наше почтение: пришла пора семью заводить, робят ростить. Жалко, невестушки-то нету, уж больно она нам люба была! Даже не расцеловал ее на радостях, всю обедню мне испортил, старый черт! — Он покосился на десятника.
Тот подмигнул, облизнулся и полез чокаться.
Сидели долго. Степенно выпивали и крякали, вели разговоры про работу и деревню. Чуть не вышел было конфуз от Фильки: он быстро опьянел, сидел, глядя в одну точку, и вдруг обратился к Малахову:
— Слышь, Никола, а она это у тебя, честная была?
Анкудиныч выгнулся, схватил его за грудь и опрокинул на траву.
— Лежи, не вякай! Ну что с этим народишком поделаешь! — вздохнул он, придвигаясь к грустно притихнувшему Николаю. — Деревня, брат. У их на том все держится. Какое у тебя есть понятие, шшенок! — крикнул в сторону барабавшегося в траве Фильки. — Я вот, к примеру, на вдове женат — дак что теперь? Ты, Никола, на это не гляди, мало ли что люди сбрешут? А ты, Филя, — чалдон, и больше никто!
Снова пили — за жениха, за невесту. Приглашали жить в свои деревни, обещая задешево выторговать дом. На душе Николая было светло и чисто, хмель не брал его — он плакал от восторга и умиления и тут же улыбался непослушными, прыгающими губами.
— Слышь, Никола, — захрипел, придвинувшись к нему, Кузьма. — Ты вот что… ступай-ко давай, не надо бы тебе сегодня много пить — что баба о тебе… о нас подумает? Нехорошо будет на первых порах. Мы-то останемся ишо, а ты шел бы, право, а то запьянеешь, мотри.
Малахов согласился, вскочил на ноги и стал прощаться. К нему подполз Анкудиныч и, вытащив из штанов кошелек с деньгами, начал совать его в карман малаховских брюк. Николай растерянно отталкивал его руку, а десятник лез и лез, икая и брызгая слюной.
— Возьми! — крикнул Зонтов. — Он пьяный-пьяный, а соображает, что деньги трезвому человеку надо отдать, не ровен час — обчистят пьяного-то, и тю-тю артельному капиталу. Завтра отдашь, чего там.
— Не! Не! — гудел десятник. — Послезавтра выходи! Гул-ляй, брат! Уважаю-у!
— А как же сами-то без денег?
— Иди-иди! — вмешался Кузьма. — Управимся как-нибудь. Еще захотим — у узкоглазого в долг попросим. Он мужик хороший, не откажет, поди. А ты, ежли денег на подарок бабе надо, то-другое, — бери, после рассчитаешься!
— Пока! — Малахов повернулся и пошел от галдящей компании. В голове хоть позванивало, но шаг был легкий.
23
ТОЛСТОКОЖИЕСначала ударили электромонтеры паровозных мастерских по администрации приказом образца 1924 года:
— Давай галоши.
Не помогло.
Ударили вновь более усовершенствованным орудием — бюллетенем № 20 образца 1925 года:
— Давай спецгалоши.
Крепка кожа администрации, не прошибает.
Теперь бьем дальнобойной сокрушительной артиллерией — нашей газетой:
— Давай галоши.
ЛОШАДИНЫЙ РАЗВРАТЛошади учреждений и предприятий должны использоваться только для дел предприятий, а не для личных надобностей завов, замов и т. д.
И справедливо возмущается рабкор Охохо:
— Считают, считают расходы да дефициты, а не сокращают такие завов аппетиты.
Жестокая борьба с лошадиным развратом — необходимость. Ее мы повели и будем вести сурово.
* * *Спекулянт Гусев, пролезший через биржу труда на кирпичный завод «Красный строитель», преспокойно исполняет должность десятника и поглаживает животик.
Рабкор 19
Часы саксонского фарфора показывали семь вечера. Старый Бодня осторожно взял их с огромного, обитого железом ломбардного прилавка и, нежно прижав к груди, заворковал:
— Опять сдаете?
Кашин развел руками. Вчера он приобрел на толкучке почти новые штиблеты, израсходовав деньги, ссуженные ему для служебных целей. Получка предстояла лишь через неделю, и единственная кашинская драгоценность снова была пущена в ход.
Выйдя из ломбарда, Семен пересчитал деньги. Предстояло еще потратиться: купить подарок старухе, баталовской хозяйке, которой он собирался сегодня нанести визит.
Покупка подарка старому человеку — дело ответственное. Кашин сознавал это. Надменно, не спеша выступая новыми штиблетами, он двинулся в обход магазинов. Конечно, можно было обойтись какой-нибудь безделицей вроде платка, как поступил бы на его месте человек более простой. Однако не зря молодой агент угрозыска причислял себя к людям деловитым и практическим. Он методично обследовал один магазин за другим, приценивался; вовремя сообразив, что возможен лучший выбор, вздыхал и отходил. Наконец торговая улица кончилась. Выйдя из очередного магазина, Семен увидал перед собой только одинокую скобяную лавку. В ней по стенам висели хомуты, сбруя, косы, стояли наковальни, мешки с известкой.
— Чересседельнички новые-с! — подлетел к нему приказчик.
Кашин, недоверчиво хмыкнув, шагнул к прилавку. На широких полках среди весов, безменов и сепараторов одиноко белела фаянсовая сахарница с надписью: «Все в культпоход!» Под надписью работницы в красных косынках, шагая в ногу, приближались к идущему за сохой бородатому крестьянину.
— Сколько стоит? — чопорно спросил Семен, указывая на вещь. — Заверните! — и купеческим жестом бросил на прилавок деньги.
Бабка сидела за столом и раскладывала карты. Увидав Кашина, не поднялась, только бойко повела глазами.
— Здра-авствуйте! — вежливо пропел Семен.
— Здравствуй, здравствуй.
— Как живете?
— Станешь жить — само живется! Да ты кто такой? Я ведь тебя не знаю, а ты сразу: «Как живете?» Совсем обиходу не знат!
Была баталовская хозяйка толстая, дородная, с рыхлым пористым носом. Встретишь такую — и пройдешь мимо: мало ли их, старух, по городу? И пока не дойдет до знакомства, не задумаешься: почему одна? Где семья? Была ли? Как, какими радостями и печалями минул ее век?
— Видите ли, — засмущался Кашин. — Я, собственно, от имени товарищей… Мы с жильцом вашим… бывшим, конечно… Мишей Баталовым… вместе работали.
Хозяйка всплеснула руками и заплакала. Поплакала, покрестилась и сказала, прокашлявшись:
— Дак тебя друзья прислали или ты сам по себе?
— Сам по себе вообще-то.
— Ну, тогда ладно. А я подумала — занарядили человека. Кому это надо — мне, Мише покойному? Кто любит — сам придет, других посылать да слушать не станет. Садись, садись.
Она оглядела Семена.
— Как же ты, такой молодой да баской, на такую проклятушшу работу попал? Или уж — трын-трава? Ни дома, ни жены, ни кобылки вороны?
— Да, так, наверное. Но у меня было и другое: не из чего было выбирать. Предложили эту работу, я и пошел. Да, да, так.
— Чего ты задакал? Или уж неча больше говорить? Тогда и «да» за разговор сойдет. Мишу-то хоть хорошо знал?
— Нет, не очень. Мы только раз и поговорили как следует — перед его смертью… — Кашин утопил голову в плечи. — Я хотел, чтобы вы сами мне о нем рассказали. Он у вас долго жил.
— Нашто тебе? — насторожилась старуха.
— Просто так, интересно. Я сейчас как раз его делом занимаюсь. Чтобы, как он, не ошибиться.
— На кой шут вам эти дела? — заворчала бабка. — Вот Мишанька в последнее время весь извелся, одни скулы да чуб. Бывало, ругаю, ругаю его: «Угомонись, отдохни ты! У его, у жулика-то, сто дорог, а у тебя — одна. Их, нечисть-то, лешак в решете нес, да растрес, всех не уловишь!» Дак он разве послушат, такой поперешной… Ой, деушка, пой, да дельцо помни, давай-ко самовар ставить.
Вдвоем они стащили на пол огромный самовар и начали разжигать. Семен с азартом взялся за это дело, испачкал лицо и руки, раздувая угли. Когда в трубе загудело, он похвастал:
— У меня тоже самовар есть!
— Тебя хоть как зовут-то? — спросила хозяйка.
— Сеня… Семен Ильич.
— Вот и ладно. А меня — Олександра Миновна.
— Ой, я ведь вам подарок принес! — воскликнул Кашин и подал бабке сахарницу. Она зарделась, чинно поклонилась.
— Нравится?
— Ну, как же! Ведь это какая приятность. Всяка душа калачика хочет, тем и жива. Благодарствую, Семен Ильич.
Она села, снова пригорюнилась.
— Что же тебе про Мишу рассказать? Какой он был? А всякий. Только плохо о нем говорить не стану, кто кому миленек, без умывочки беленек. Он со мной о своих-то делах не больно толковал. Утром соскочит, убежит, вот и жди, когда появится. Другой раз совсем не придет. Я уж тогда всю ночь по дому бегаю, места не нахожу. Прямо сердцем я чуяла погибель его. Ох, говорю, Мишка, пропадешь! А он уж, проворной, все мои присказки выучил да перенял, дак смеется: «Ничего, мол, бабуся, тонуть, так в море, а не в поганой луже, сама говорила…» Мишанька, Мишанька, оставил меня одну…
— И все-таки в чем-то он ошибался, — глухо произнес Кашин. — Не верится, чтобы иначе…
Старушка пытливо посмотрела на него.
— Экие вы прыткие стали. И после смерти человека судить наладились. Мне ваши дела не нужны, только скажу тебе, Семен Ильич: людское сердце не лукошко, не прорежешь в нем окошко. Сами уж правых да виноватых ищите.
— Для нас это важно, понимаете? Чтобы его же дело до конца довести.
— Всякий, всякий Миша бывал. Книжки мне читал, все про благородных… Ладно уж, скажу тебе. Блажной он был. Как всполыхнет что-нибудь в голове — вынь да положь, ничего больше не хочет знать. И ведь не остановится, не оглядится, покуда по-своему не сделает.
— Иной раз некогда оглянуться, — веско сказал Семен. — Да и негде.
— Не ври! В городе места много, на любом посиди да вперед иди. Ой, да хватит, снимай трубу-то.
Вдвоем они пили чай. Ради случая Олександра Миновна даже извлекла откуда-то заветную баночку смородинового варенья. За чаем она так и сыпала поговорками и присказками. Кашин тоже решил не ударить лицом в грязь и, порывшись в памяти, вдруг бухнул пословицу:
— Прасковья мне тетка, а правда — сестра!
Осекся и замолчал. Бабка испуганно глянула на него и тоже замолчала. Обоим стало неловко.
— Пойду я… — нерешительно сказал агент. — Можно, Мишину комнату посмотрю?
Койка в баталовской каморке была уже убрана, но на стенке висела его фотография в черном ободке, пылилась на гвозде старая Мишина шинель с кавалерийскими «разговорами». Кашин снял с подоконника тоненькую книжицу в бумажной обложке — «Мертвец-мститель» из пинкертоновской серии; полистав, положил обратно.
Комнатка стояла пустая и голая, видно, хозяйка не решалась еще перетаскивать в нее свои вещи. А может быть, ждала уже сюда нового квартиранта.
Он вышел и стал прощаться.
— Заходи, Семен Ильич, — сказала бабка. — Да смотри, там, у себя, без оглядки не летай. А то, как Миша покойный, — летать-то умел, да сесть не сумел. Ну ничего, помучишься — научишься.
Перед домом напротив девочки играли «в клетки». Устроив из досок и палок крохотное сооружение с неким подобием крыши, они, забравшись туда, пели тоненько:
На главной улице тени были большие, длинные, редкие. Думая о том, что опять не удалось обнаружить скрытой пружины баталовского поведения, Кашин шел домой. Вдруг визгнула над ухом труба, задолбили по булыжнику подковы — это красноармейский эскадрон возвращался из летних лагерей. Густая, подсвеченная желтым солнцем пыль окутала Семена; он чихнул и засмеялся.
24
БЕСТОВАРЬЕ НА РЫНКЕНа рынке наблюдается острый товарный голод. По данным окрвнуторга, на рынке чувствуется недостаток в махорке, кожаных изделиях, металлических изделиях и ряде других товаров. Губвнуторг решил не выпускать за пределы округа продукцию фабрик и заводов, находящихся на территории губернии.
* * *Недавно особую трудовую школу-коммуну имени Пестеля посетил с проверкой ответственный работник Наркомпроса тов. Кривощеков. Каковы же были его радость и удивление, когда среди воспитанников он встретил своего сына Валентина, 13 лет, утраченного им четыре года назад, в поездке на Украину! Встреча вызвала слезы и у детей, и у взрослых. Выступив после этого перед воспитанниками, тов. Кривощеков выразил надежду, что, пройдя процесс трудового перевоспитания, его сын снова соединится с любящим отцом (тов. Кривощеков — вдовец со времен гражданской войны).
Юнкор
Уйдя от пирующих артельщиков, Малахов двинулся на базар. Потолкавшись возле лабазов, нашел подходящий платок: синий, с красными цветами. Осмотрел, понюхал зачем-то и остался доволен. Расплатившись, сунул кошелек в карман, и в тот же момент сзади произошло странное шевеление: раздался крик, он почувствовал удар по ноге, и сбоку возник мужчина в белой парусиновой паре, при жестких кайзеровских усах. Он крякал и ухмылялся, держа одной рукой за шиворот грязного извивающегося мальчишку, другой — протягивая Малахову кошелек Анкудиныча. Сунув деньги недоумевающему Николаю, усатый с размаху ударил мальца кулаком в лицо и завопил:
— Ахх ты… — задохнулся. — Ахх, ворюга царя небесного. Я давно-о за ним слежу — непременно, думаю, он тут должен пакость сотворить: крутится, туда-сюда зыркает — ну, нечистый дух! И глядите-ка, моя вышла правда. Только гражданин деньги вынул да портомонет обратно положил, он его из кармана-то и хвать! Ну, от меня не уйдешь, думаю. — Он довольно засмеялся и снова смазал мальчишку по лицу.
— Ты что же — воруешь, значит? — У Николая перехватило дыхание от ненависти и страха, что нет, не оправдаться бы было, если б пропали артельные деньги, — все, все тогда… Он сгреб беспризорника за шиворот, тряхнул, повернул к себе лицом. У того плеснулся ужас в зрачках, хриплый крик рванулся из горла — он узнал Малахова. И Николай вспомнил страшную ночь, когда убиты были чекист и Фролков, кусты на берегу реки и бессвязный, нелепый разговор с этим беспризорником. Мучительно сжалось сердце, и он, пробормотав: «Ну-ка идем, идем отсюда…» — начал проталкиваться вместе с мальчишкой через окружающую их толпу.
— Веди, веди его! — гомонил вслед парусиновый усач. — Я бы с ним и цацкаться не стал, что толку: посадят его в домзак, а он выйдет да опять пакостить начнет! С ними вернейшее дело — отвести за угол подальше да так дать, чтоб дух из него вон! Эх, камуния — ведь это подумать тольки, что она за гниду развела!
Малахов долго вел отбивающегося мальчишку по базару, свернул в пустое пространство между лабазами, наполовину забитое ящиками. Там отпустил воротник ветхого пиджака и, крепко взяв за плечи, сказал сурово:
— Тебя ведь звать Абдулка, верно? Помню, не думай, я из той ночи все до единова помню. Зачем же, парень, воровать-то у меня? Случись кто другой — пришлось бы в домзак идти, а то забили бы — только и делов. Да как ты такой грех не побоялся взять, деньги-то не мои, артельные, мне после того не жизнь бы была, нет, не жизнь…
— Пус-сти-и! — завизжал Абдулка и, подпрыгивая, стал царапать ему грудь, добираясь до горла. Упал на землю между ящиков, замер, скорчившись. Николай опустился на колени, тронул Абдулкину голову.
— Да ты не того, не того… Я понимаю, есть-пить тоже надо, как же. Голод не тетка, верно, да и житуха твоя — волку позавидуешь небось. Поднимайся, пойдем давай.
Беспризорник поднялся, покорно опустив голову. Затем схватил руку Малахова и прижался к ней щекой.
— Слышь, дяденька, — сдавленно шептал он. — Ради Христа, ради матушки твоей, не убивай меня, а? У меня дружок в домзаке теперь — страшно ему будет жить, когда он о моей смерти узнает.
— Ты… тты что… что?! — крикнул Малахов, отталкивая мальчишку. — Кто… да как ты это удумал? Чтобы я… тебя… да разве ж я убивец, господи?!
— А то нет? — Абдулка поднял заплаканное лицо. — Кто же тогда чекиста-то убил? Я знаю, что его той ночью убили, а ты… ты сам мне сказал… тогда, на речке.
Николай быстро, нервно засмеялся. Беспризорник попробовал было рвануться в образовавшуюся между ящиками и телом своего пленителя щель, но Малахов подставил колено и задержал его. Крепко взял за руку и потащил с базара. По дороге сказал:
— И выходишь ты, Абдулка, совсем глупый человек. Я-то думал… а ты — совсем дурак, эх!
— Почему дурак? — упираясь, семенил за ним беспризорник.
— Да потому, что никакого чекиста я тогда не убивал. Какой мне в том резон — сам посуди, ну?
Мальчишка ускорил шаг, забежал вперед Малахова и зло крикнул:
— Будя врать-то! Сам мне об этом сказал!
— Мало ли что сказал. Был я при том, как его убили, верно. И так мне дерзко это на душу пало — чуть сам не помер. Нет, думаю, ежли так, то и тебе жить невместно, да того человека, что смерть ему учинил, и… попортил. Понимаешь, нет?
— Вре-ошь… — тянул плетущийся сзади Абдулка.
Они сели на скамейку возле одного из домов, и Николай, обняв беспризорника за плечи, промолвил:
— Ты послушай меня. К примеру, демобилизовался я нынче весной, а до того семь годков в армии бухал.
— В красной, что ли?
— А то в белой! Я к здешней шпане случаем попал, и все, веришь ли, словно во сне был. Хотел уйти — да не получилось, потом подранил один меня. Ну, я хоть и виноват опять, что не смог смерти того парня угадать, думал — ой просто поговорить с ним хочет, но в остальном все по своей совести порешил, так-то вот!
— Чего ж в угрозыск не пошел? — спросил Абдулка.
— Угрозыск — оно конечно… Только я вишь что думаю: то, что я человека порешил, они, конечно, в добре не оставят. И потом, я для этой шпаны, что ни говори, чуточку вроде как своим могу посчитаться — сколь я ихний хлеб ел да ранен был, а поди докажи, что они сами меня пырнули. Вот и выходит казенный дом, дальняя дорога — это в лучшем случае, учти. Ну, я того не боюсь. Дело в другом: после того как мы с тобой виделись, больно хороша жизнь у меня сложилась: работа появилась, а главно — девушку себе нашел, да такую — ах ты, брат! Как мне теперь в угрозыск от всего этого идти, ведь я без нее… — Николай отвернулся.
— Верно ты его пристукнул, — тихо сказал беспризорник. — Давить нас всех надо, как клопов. А в угрозыск не ходи, мало ли что…
— Ты… ах, понял меня… спасибо, брат! Я вначале-то испугался: ведь одному тебе рассказываю, так поймешь ли? А ты молодца, Абдулка! Насчет себя не наговаривай, зачем с ними равняешь? Это — другое дело, когда мальчонка от голоду пропитание хочет добыть. А они-то — сытые, гады… Однако пойдем, пойдем!
Малахов суетливо схватил беспризорника за рукав пиджака и потащил к трактиру. Там взял для него щи, рубец, сам сел напротив и смотрел, как парень с жадностью, лихорадочно сверкая белками, поглощает пищу.
«Мотает их, сердешных… Совсем малец еще. А понятия — как у мужика. Не надо бы его бросать, ни за что пропадет парнишка», — думал Малахов. Приговаривал:
— Ешь, Абдул! Не торопись, не торопись, успеешь.
Наконец Абдулка выбрался из-за стола и вопросительно глянул на Николая. Тот спросил:
— Где живешь, бедолага? Спать-то есть где?
— Чего мне! — тряхнул патлами беспризорник. — Раньше в подвале жил, да вчера пришли: выметывайсь, мол! Склад будут устраивать. Да я ушлый — нынче на станции, в старом вагоне, ночевал. Теперь туда же пойду, наелся — во! — на два дня хватит. Благодарствуем вам. — Он поклонился. — Пойду я, спасибочки.
— Подожди! — остановил его Малахов. — Идем-ко со мной.
— Куда? — снова насторожился Абдулка. — Куда это… зачем?
— Негодно по подвалам да вагонам таскаться. Помрешь так, а то забьют или в домзак посадят. Мало ли что случается по причине неустроенности! Я знаю, сам только вчера крышу обрел. Ну, да куда ж тебя теперь девать! В тесноте, да не в обиде — пора, Абдул, свой дом иметь. Оденешься, ремеслу обучишься — хочешь?
— Ага. А Цезаря к себе возьмем?
— Это дружка твоего? Кхм… — Николай замялся, поскреб затылок. — Ладно, посмотрим. Видно будет.
Было уже поздно, темно — еле успели они на последний сеанс в «Триумф».
— Вот, парнишку прибрал, — встав перед ней, виновато сказал Малахов. — Абдулка его звать. Мы с ним это… друзья маленько! Нынче встречаю — совсем обезумел с голоду да бесприюту. Воровать стал. Ну уж, думаю, последнее дело! Привел — пусть хоть чуток отойдет!
— С нами жить будет?
— Ну да. Хоть месяц, неделю — разреши! Совсем пропадет парень, жалко, ей-богу!
— Ах, Коля, Коля… — Она грустно улыбнулась. — Делай, как знаешь. А мальчонка-то — худой! Скулы, ребра да лопатки. Без отца, без матери, сиротинушка! — быстро заморгала, утерлась платочком и, наклонясь к Абдулке, сказала сквозь плач: — У нас-то хоть не воруй, идол!
— Вот еще! — окрысился беспризорник. — Дура ты набитая!
— Ну, пускай так. — Она спохватилась, толкнула их к лестнице. — Ступайте в зало. Давно началось!
— Что идет-то? — задержавшись, важно спросил Малахов.
— «Сын маэстро», — понизив голос, ответила девушка. — С участием Джекки Куган. Сильная мелодрама!
— Во, видал? — Гордость была в малаховском голосе, когда он, подталкивая мальчишку, устремился по лестнице. — «Сын маэстро»! С участием… не как-нибудь там тебе!
— Хорошая девка! — пыхтел Абдулка. — Баба твоя, да?
— Ага, — ответил Николай.
Дома, за чаем, он, помявшись, спросил у Абдулки:
— Где ляжешь, друг-товарищ?
— В сенках, конечно! — отозвался тот. — Тряпье туда бросьте, что есть постарее, все равно кипятком шпарить: вша есть!
— Завтра выведу! — пообещал Малахов.
Беспризорник глянул на него с тоской и страхом.
Наутро они осмотрели Абдулку в палисаднике. Одежда была настолько ветхой, что ремонту, несомненно, не подлежала. Переглядывались, качали головами. Пошли домой, выскребли все наличные деньги. Поколебавшись, Николай добавил бумажку из кошелька Анкудиныча, и с этим капиталом двинулись.
Штаны на толкучке выбрали хорошие: из чертовой кожи, без единой заплаты. Косоворотку — ношеную, но красивую: мелкий белый горошек по синему фону. Купили еще старые, разношенные ботинки и с этими покупками вернулись.
Абдулка отнесся к новой одежде безразлично, его вполне устраивало привычное старое тряпье. Но Николай, не слушая его, велел раздеться, унес старье в огород, облил керосином и сжег. Вытащили в сад лохань и начали мыть парня. Вода, сначала черная, без пены, светлела с каждым новым тазом. Малахов драил исхудавшее Абдулкино тело яростно и исступленно, тот стонал и корчился, но через полчаса, переодевшись и расчесавшись частым гребешком, вошел в дом расслабленный и тихо улыбающийся. Двое, пустившие его под свою крышу, сидели рядом на лавке, положив руки на колени, и, склонив головы набок, умиленно смаргивали глазами: не могли наглядеться. Абдулка прыснул, покраснел и сказал:
— Спасибочки вам. Пойду я, чего тут.
— Куда? — заполошилась хозяйка. — Садись давай: и ты, и ты, Коля, сейчас на стол соберу.
— И далеко ты наладился, интересно? — Малахов подвинул к столу табуретку, сел, забарабанил пальцами.
Беспризорник пожал плечами.
— Не думай никуда ходить! Живи здесь, чего там! — Хозяйка всплеснула руками, засмеялась: — Ну, беда! Не было, не было в этом доме мужика, а тут сразу двое. Ох, ребята.
— Живи-и! — Николай обрадовался, схватил Абдулку за шею и притянул к себе. — Не век воровать; учиться отдадим, к ремеслу приспособим, хорошо, брат!
Беспризорник вдруг зашипел, заплакал, вырвался от Малахова и исчез в дверях.
— Чего ты, куда?!
Выбежав на крыльцо, увидали, как свернул он в переулок. Обескураженно, не глядя друг на друга, вернулись в дом.
25
В назначенный Витенькой день агент уголовного розыска второго разряда Семен Ильич Кашин появился в ресторане «Медведь» засветло. День был будний, посетителей мало; еще не играл оркестр, не появился и баянист. Кашин спросил пива и заказал из любопытства какую-то мусаку (это оказалась жареная тыква с тушеным жирным, густо наперченным мясом). Выпил пиво, помудрил над диковинным блюдом: и с какого же конца за тебя взяться! — затем, воровато оглядываясь, стал есть. Сунет кусок в рот, проглотит и оглядится: вдруг кто-нибудь уже смеется над тем, что он неправильно ест это яство! Однако люд был занят своими делами, и Семен, осмелев, вскоре прибрал всю нехитрую закуску. Под конец даже съел, разохотясь, несколько кусочков хлеба, насаживая их на вилку и обмакивая в соус. Тут уж Кашин не таился: чего-чего, а вилку держать так, как положено в обществе, он умел — когда-то научила докторша госпиталя, где работала мать; приметив постоянно пропадающего в госпитале голодного мальчишку, сиделкина сына, эта суровая, одинокая, измученная тяжким трудом старуха стала брать его обедать к себе домой и там учила держать ложку, вилку, не чавкать за столом.
Но Семен не вспомнил сейчас доброй докторши — другим были заняты мысли. Вчерашнее посещение баталовской хозяйки тоже отошло на задний план после того, как он, зайдя в губрозыск узнать, есть ли ответ на запрос по убийству Вохминой, застал там несчастного старика — мужа убитой. Он сидел, горбясь, на стуле возле дежурки, губы дрожали, нервно подергивались плечи. Он поглядел на агента жалобно и заискивающе, и Семен проскочил мимо него безмолвно, корчась от стыда: дни идут, а нет никаких зацепок по этому делу. Что же еще можно сделать? — ведь ответа из уезда до сих пор нет. Старается и Веня Карабатов, по своей линии, так у него тоже не беспредельные возможности… Пропал, сбежал из больницы Леха Мациевич по прозвищу Косой Фофан, и затерялся след его — вероятно, умотал туда, где потеплее. Еще одна ниточка, зацепочка исчезла вместе с ним. Такие дела. Сиди, думай: удастся ли миссия, ранее добровольно взятая на себя Мишей Баталовым, — миссия, ради которой ты, Семен Кашин, коротаешь вечера в этом неприличном для комсомольца месте?
Осторожно, шаркая подошвами, к столику подошел Витенька и встал, угодливо подкашлянув.
— Здравствуйте, Гольянцев.
Баянист сразу переменился: взмахнув причудливо руками, как в фигуре старинного танца, громко зашептал, не сходя с места:
— Ах, бат-тюшки! Я вас тогда не испугал, надеюсь? Со мной бывает-с: отключаюсь на полдороге, ха-ха! Никуда не денешься, веселие есть пити!
— Да хоть не забыто, о чем договаривались? — Семен чуть не дернулся, увидав знакомое кривляние, но стиснул зубы и сдержался.
— Как же, как же-с! По всем признакам, — Гольянцев приник к уху оперативника, — не сегодня завтра всенепременно должна быть! Уж вы ждите, любезный!
— А если она войдет, как я узнаю?
— Это оччень просто! Когда приходит прелестница, мы завсегда «Кирпичики» играем!
— Что, любит?
— Обо-жают-с! — Витенька повернулся на каблуках и исчез.
26
Прочесав через город, Абдулка свернул во двор дома, в подвале которого жил когда-то вместе с Цезарем и другими товарищами. Дверь подвала была теперь заколочена, валялись ящики, но не сам подвал интересен теперь был Абдулке — он бросился к углу ограды, обносившей забор. Там он когда-то зарыл «заначку» на самый крайний случай: массивное золотое кольцо с печаткой, месяц назад снятое с пальца пьяного нэпача. Подобранным по дороге железным прутком беспризорник раскидал землю… вот! Выхватил сверток из ямки и опрометью бросился со двора.
Добежав до обшитой красным железом, плотно стоящей на земле лавки «Писчебумажныя товары Проскомидина», Абдулка остановился, отдышался и, стараясь ступать солидно и независимо, вошел. Проскомидин торговал сам — старый, юркий, с постоянно кривящимся от изжоги лицом; был он в поддевке, несмотря на жару, сидел, зевал за прилавком. Увидав мальчишку, насторожился.
Абдулка прошелся вдоль прилавка, оглядывая товар.
— Чего тебе, чего? — забеспокоился купец. — Шел бы ты, парень, пожалуй.
— Краски давай! — буркнул беспризорник.
— Краски-и? — Проскомидин зашелся гыгающим смехом. — Нашто они тебе, голоштанник? Како место имя красить? Иди, иди отсюда.
Абдулка вытащил из кармана кольцо и показал. Купец рванулся к нему из-за прилавка, но мальчишка отдернул руку.
— Уворовал колечко?
— Нет, купил! — закривлялся Абдулка.
— Покажи, покажи! — тянулся Проскомидин.
Но Абдулка уже плясал в проеме двери, упрятав за спину руку.
— Эхх… Краски, говоришь, надо? Ну, гляди, я разве что. — Купец положил на прилавок несколько коробок. Беспризорник подошел и, затаив дыхание, начал рассматривать краски.
— Мне самые лучшие, — наконец проговорил он.
— Да нашто они тебе, голоштанник?
— Рисовать охота.
— Хо! Рисовать! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Да ты умеешь ли красками-то?
— Не. Ну, попробую. Подумаешь, невидаль! Делов-то!
— Попро-обую! — передразнил его Проскомидин. — Одна девка пробовала так-то… Бери вон карандаши да убирайся.
— Колечко видишь? — Абдулка выдернул из-за спины руку. — Больше не увидишь!
— Обожди, обожди! Имею краски в тюбиках, сиречь масляные, они и есть самолучшие. Дорогие, не стоит их твое колечко, но главное — учиться надо ими владеть, а так толку не будет. Рисуют ими по холсту или по фанерке, после долгого учения. Тебе с ними никак не справиться. Бери эти, акварельные: распрекрасным образом на бумаге можно малевать! Знатные красочки: аквамарин, лазурь.
— Лазурь… — зачарованно повторил Абдулка.
— И три кисточки в придачу дам. Ты покажи, покажи кольцо.
Беспризорник протянул. Купец обтер кольцо рукавом поддевки, глянул внутрь, усматривая пробу.
— Неплохое, неплохое. — Он усмехнулся, искоса глядя на мальчишку. — А если я его в угрозыск отнесу! А тебе — шиш, не краски!
— Спалю вместе с лавкой, — сквозь зубы сказал Абдулка. — Ненавижу вас, гадюки!
— Ну-ну, ладно! — примирительно затараторил Проскомидин. — Забирай краски. Вот и кисточки тебе. Ступай! Чего стоишь?
— Бумагу дай.
— Бумагу? Не жирно ли будет? Дяденька, дай напиться, а то так есть хочется, что даже переночевать негде… — ворчал купец, вытаскивая большой лист плотной бумаги. — Бери, нищеброд! Совсем сожрали, ох, пречистая дево!
Но Абдулка, не слушая его, выскочил уже из лавки и понесся по залитой солнцем улице. Он ворвался в дом с ликующим воем, хлопнул на стол краски:
— Во!
— Что, что? — обрадованно засуетились Маша с Николаем.
— Рисовать буду! — Он опять ринулся к двери.
Малахов удержал его:
— Поешь сначала, глупая голова!
После обеда Абдулка ушел в палисадник, раскрыл заветную коробочку, носимую всегда с собой, и извлек из нее сложенные в тугие пакетики, обвязанные нитками картинки. Наклеил хлебными крошками на найденную в доме картонку одну из них, подаренную недавно накормившим его мальчишкой, развернул белый лист и принялся за работу.
Под вечер Маша стала собираться: достала и надела лучшее свое, синее с искрой, платье.
— Куда ты? Ведь говорила — выходная сегодня.
Она села рядом, обняла, прижалась:
— Надо мне идти, Коля. Не переживай, ладно? Тебя, тебя люблю, господи…
У него закололо в груди. Вспомнились пролетка, подкатившая к дому, некто стройный в белом кепи, каблучками: цок-цок-цок — по ее крыльцу. Тихий разговор… Николай перевел дыхание, спросил прерывисто:
— Ты к тому пошла… кто приезжал тогда, я видел… Лучше ты убей меня, если так.
— А ты не причитай, кавалер!
«Вот и все, — подумал Малахов. — И ничего больше не будет».
Раненный, слепой и беспомощный, растопыренными пальцами щупая зыбкое пространство, плутая и путаясь, он достиг золотой вершины. Тихое солнце стояло над ней, кружился тополиный пух, ждала ласковая женщина, гнулась над дорогой артель, исполняя нелегкое свое ремесло, — и там, где ложился булыжник, был счастлив и он, Николай Малахов. Скатился с горы камень, ударил, и снова поволокло его вниз — к пустоте, подобной той, что увидел он перед собой когда-то, сойдя с ночного товарняка в незнакомом городе. Но теперешняя пустота была страшнее: за ней стояли голод, и позор, и убийство, и страх потери всего, дорогой ценой обретенного.
Неужели жизнь, которой он жил теперь, была обманом? И женщина — не кроткая, льнущая к мужу голубица, и артель — не братство людей, где только правда и добро, и не будет счастлив мальчик, подобранный им на улице?
А ведь только что казалось, будто все прошедшее над головой горе осталось позади крутиться мелкими водоворотиками, и вот они запенились, взбесились, слились — огромной воронкой разверзлось перед Малаховым и будущее, и настоящее.
Маша еще что-то говорила, гладила его волосы, нервничала, а он сидел, горбился и молчал.
Она ушла.
Тихо, дремотно было в маленькой комнатке. Звуки с улицы доходили сюда словно сквозь воду. Капал воск со свечки перед маленькой иконкой, и тошнотно, сладко пахло малиновым вареньем и перестоявшимся квасом.
27
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРСегодня — бенефис О. Т. Мирской-Горевой в «Генеральше Матрене», в 4 д. Крылова.
Завтра — последняя гастроль Московского театра Советской действительности.
«СИНЯЯ БЛУЗА»Репертуар, пользующийся в Москве колоссальным успехом.
Цены местам от 30 к.
* * *В губсуде началось дело местной организации винтреста по обвинению в расхищении тысячи восьмисот ведер спирта.
Оркестр заиграл «Кирпичики».
Девушка вплыла в проем двери, повела головой — сверкнули серьги, — лениво и свободно, не уклоняясь от праздных глаз, пошла к столику в углу зала. На ходу махнула рукой оркестру, подмигнула — музыка грохотнула неистово… Тугое платье, синее с искрой, полные плечи, лицо со смуглинкой, короткий прямой нос, взгляд влажный и уверенный… Да, она была красива! Только улыбка чуть горчила. Замерли жующие челюсти, упали на столы суетящиеся руки: теперь все смотрели на нее. Какой-то до изумления пьяный жирный нэпач, перегнувшись в ее сторону с кресла, мычал страстно и мучительно, ворочая белками. Витенька Гольянцев утер рукавом пеной вспузырившуюся в углах рта слюну, привстал со стула и запел:
Рявкал оркестр, и уносились жалкие, наивные слова через окно на улицу. Кто-то ругался и морщился, кто-то замедлял шаги и слушал — ибо многим, многим ведомо великое горе любви, постигшее несчастную девчонку, — оно всегда понятно человеку, как невнятно бы ни было поведано.
Кашин разглядывал Машу: она пусто смотрела в потолок, обмакивая иногда платком глаза. Подбежал официант — отмахнулась. Тот выпрямился, осклабился: «Слушш…» — но, лишь смолк оркестр, уже тащил, виляя задом, поднос: полграфина вина, балычок, икорка. Она сразу налила рюмку, выпила и стала рассеянно жевать бутерброд.
Шло время, а Маша все сидела одна. Подсаживающихся к ней или приглашающих на танец она отвергала коротко и энергично.
Вечер, шум и смрад обдавали агента угрозыска. За стол к нему привалились трое юных, худосочных, белесых, похожих друг на друга — видимо, из конторских. Пламенея угрями, они пили водку с пивом, слабогрудо выкрикивали: «П-па диким са-тепям За-абайкалья-аа…» — куражились над официантом и наконец, ослабев, засобирались к девицам. Особенно неприятен был один из них: он все время бегал в уборную и, возвращаясь, подозрительно вглядывался в Семена. Сипел, нарочито сгущая голос, в подражание начальству: «Нет, ты пага-ди! Йя тебе сделаю-ю…» И лез к нему со своим пивом и нечистым лицом. Не опасайся Кашин скандала, он давно бы выбросил из ресторана всю тройку да еще перетряхнул бы ее на улице. Но тут приходилось сидеть тихо, криво улыбаться и даже подхихикивать на скверные анекдоты конторщиков.
На какое-то время внимание отвлеклось Витенькой — он вдруг возник рядом и начал кружить вокруг стола с видом таинственным и значительным, подмигивая и запинаясь за кресла. Кашин хотел встать и подойти, однако Гольянцев, приложив к губам палец, долго шипел в его сторону, а затем исчез.
«Заблажил. Опять напился…» — с тоской подумал Семен.
В одиннадцать Маша подозвала официанта. Не спуская с нее глаз, агент рванулся к пьяному, крадущемуся из-за какого-то столика к эстраде баянисту, схватил его за руку, зло бормотнул:
— Доведут тебя шуточки, алкоголик. Где Черкиз — ну?!
— Че… Черкиз? А… А-а… — Витенька заулыбался, расцвел, посунулся целоваться — Кашин еле увернулся. — Не… Нету Черкиза. Дела, видать. Да ты его, никак, хватать собрался? Один? Не надо. — Он затряс пальцем. — Разве ж такой, как он, появится здесь без охраны? А одному тебе — пустое дело, и клочков по заулочкам не найдут-с… — Гольянцев уже не казался пьяным, хоть и покачивался взад-вперед и тыкал больно кулаком в грудь собеседника.
— Да хоть бы увидеть, увидеть его, — простонал Семен.
— Увидеть? Нет, не знаю. Не обещал. Насчет Машеньки разговор был, помню-с. Да вот и она, невозможная! Прельстила бесталанную головушку-у! — неожиданно завопил баянист, повернувшись к Маше и простирая в ее сторону руки.
На них заоглядывались. И Маша, посмотрев в их сторону, презрительно усмехнулась. Кашин скрипнул зубами, отпрянул от Гольянцева и двинулся к выходу.
Она вышла сразу вслед за ним. Внимательно поглядела по сторонам (Семен нырнул за угол) и пошла вниз по улице. Агент перешел на другую сторону и осторожно пошагал следом. Когда с освещенных центральных кварталов она свернула в боковые, глухие и темные, агент растерялся: не дай бог упустить ее, такая будет незадача. Лихорадочно работал мозг, перебирая варианты. Раньше свою схему поведения Кашин строил примерно так: если Маша не встретится с Черкизом в ресторане, идти за ней до дому и, выяснив, где живет, установить наблюдение. Однако в таком плане были и недостатки: Черкиз мог не пойти на контакт с Машей в ближайшее время, а оно стоило дорого. И Семен решил рискнуть: хоть риск был и велик, очень велик, но удача сулила многое…
28
Он ускорил шаг, хоть и шел, как прежде, сторожко и крадучись. Так! Так! Так! — приближался стук каблуков. Зашуршало вблизи платье; шаги замедлились и стихли — она остановилась. Встал и Кашин. Не доходя до нее метров пяти, задыхаясь, спросил:
— Вы ведь Маша, да? Маша Тарасова?
— А тебе-то что? Ну, подходи, подходи… — В темноте он углядел, как девушка раскрыла ридикюль и сунула туда руку.
— Извините, прошу вас. Наверно, странным может показаться: темно, глухая улица, вдруг мужчина окликает…
— А ты подойди, подойди, — нервно пела Маша, — а то я тебя по голосу никак не признáю.
— Красотою вашею пленившись, — вдруг ни с того ни с сего залгал Кашин. — Красотой вашею пленившись, еще в ресторане, позволил себе следовать за вами на достаточном удалении, дабы не спугнуть резвого Купидона (боже мой, боже мой, какую дичь я плету!) О, Карабосса! Ради бога, зажмурьте эти ангельские глазки; они прожигают кафтан мой до самого сердца; я не снесу их пламени.
— Иди сюда! — донеслось из темноты.
Он сделал два шага и остановился.
— Ручку-то выньте из ридикюля. А то неудобно может получиться.
— Спички есть у тебя?
— Нет, — удивленно ответил агент и для убедительности похлопал себя по карманам.
Она бросила коробку — та упала к ногам Кашина и откатилась в сторону. Он поднял ее.
— Освети лицо.
Вспыхнула спичка, другая; Маша напряженно всматривалась. Затем спросила:
— Это ты с Витькой-музыкантом на меня в ресторане глазел?
— Ага. — Кашин поежился, не узнав своего голоса: какой-то тоскливый, виноватый, противный.
— Зачем же?
— Э… Мне… Купидон… — завертелся Семен и вдруг, облившись с головы до пяток холодным потом, брякнул: — Имеем сведения, что вы, гражданка Тарасова, состоите в любовницах уголовного бандита Черкиза! — и дернулся к ней.
Рука ее снова прильнула к ридикюлю. Агент застыл.
— Вон оно в чем дело… — Кашин слышал ее дыхание. Иногда оно сбивалось, и слова тогда выходили прерывистые, бессвязные. — Ты… ты, значит, вот кто такой, ухарь-купец, удалой молодец. Будь ты проклят вместе со своим Черкизом, надоели, сволочи! — Она всхлипнула. — Стой, говорю! Ну, чего надо?
— Не извольте беспокоиться, гражданка Тарасова. Была бы возможность, я бы к вам не обратился. А так получилось, что нет возможности.
Она помолчала и спросила:
— Откуда ты взял, что моя фамилия Тарасова? Вот выдумал, надо же.
— Тот самый Витька-музыкант сказал, баянист Гольянцев.
— Ну, запивашка. Много он знает, вы его больше слушайте! Вот придумал, дурачок.
— Если дочь, почему же придумал? — растерялся Семен. — Конечно, в случае последующего брака…
— Не болтай! Не было никакого брака. И фамилия моя всю жизнь не Тарасова, а Лебедяева — понял, ты, Купидон?
— Эх, совсем запутался я! — Заскреб в затылке агент. Выиграв время, он почувствовал себя увереннее, свободнее. В ней тоже исчезла прежняя настороженность. — Лебедяева, значит…
— Ладно, хватит! Чего тебе надо? И документ показывай, почему я тебе должна верить?
— Тогда я подойду.
— Ну, подойди, что ли.
Кашин приблизился к Маше и протянул удостоверение. Светил спичкой, пока она читала.
Отдав документ, Лебедяева вздохнула:
— Час от часу не легче. Значит, Черкиза ищете? Застит он вам свет-то, соколики.
— Ясно, застит, — тяжело засопел Кашин. — Таких парней, друзей моих, убивает! А ты с ним крутишь. Такая же, видно. Постыдилась бы.
— Ну, ты! Нашел с кем про стыд разговаривать. Молчи, молчи…
В конце переулка послышалась колотушка. Почти одновременно выскочила из вязкого, душного мрака собачья свора и забесновалась вокруг них. Семен нагнулся — собаки отскочили, но через мгновение вынырнули снова, и лай их сделался еще более яростным. Он взял Машу за локоть:
— Пошли.
Шли по переулку: Лебедяева — впереди, Кашин — сзади, ногами отбиваясь от наседающих собак. Когда колотушка поравнялась с ними, послышался дребезжащий старческий голос:
— Ну-ко стоять! Хто тут ходит, безобразничает?! Давать мне ответ!
«Храбрый дед», — подумал с уважением Кашин и, подойдя к низенькой, облаченной в какой-то белый хитон фигуре, сказал:
— Гуляем, понимаешь ли, с барышней, никого не задеваем, никому не мешаем.
— А почему в энтом месте? Взяли моду — в темноте жаться. Идите в центр, там и жмитесь, сколь охота, а тутока и до греха рукой подать! — продолжал бушевать дед.
Агент нагнулся к нему и сказал негромко, но внушительно:
— Ты бы, дедуся, лучше с собачками распорядился — не ровен час барышню искусают. Быстро, быстро, я не шучу.
Тот постоял мгновение, потряс седыми патлами, что-то соображая, и вдруг, подняв палку, ринулся в кучу рвущихся к ногам Кашина собак. Они исчезли с удаляющимся воем; исчез и старик, кашляя и ругаясь, стукая колотушкой.
Семен окликнул Машу и услыхал из темноты:
— Спасибо, кавалер. Собаки, да еще ночью… ух, боюсь! — Она передернула плечами. — Что ж, проводи, если так. Видно, что из угрозыска, отчаянный!
Семен так и не понял, издевалась она или говорила серьезно.
— Чего-то вы, — недовольно забурчал он. — Дело серьезное, а не пойму вашего отношения.
— Какое отношение! В ресторане выследил, в попутчики навязался, да еще отношение требует! Кажется, с моей стороны никаких намеков не было.
— Мало ли что не было. А с бандитом-то связалась?!
— С бандитом… Что бы ты понимал, дурачок молодой.
— Странно вы, гражданка, со мной обращаетесь, — вдруг ожесточаясь, скрипнул Семен. — «Ухарь-купец», «дурачок»… Прошу не забываться!
— В самом деле, пацан ты еще, — невесело произнесла Маша. — Со мной тебе совсем шуметь неинтересно, смотри… Что, испугался? — Она повернула к нему лицо, блеснули в усмешке зубы. — Поучила бы тебя благородным манерам, да недосуг теперь. Ну, мне тут и до дому рукой подать, — заторопилась она. — Ты не ходи дальше-то, а то муж еще невзначай увидит.
— Муж? Какой муж? А говорила — замужем не бывала. Может, ты Черкиза за мужа считаешь?
— Отстань ты с Черкизом! Сказано тебе — муж! — Она неуверенно улыбнулась.
— Законный, что ли?
Лебедяева замялась:
— Законный, не законный — какая разница!
— Так, ясно. Известны нам такие мужья.
— Известны так известны. Начальству, как говорится, виднее. А ну, иди отсюда! Му-уж! Что бы ты понимал!
У Кашина заболела голова: ни лжи, ни правды не мог он различить в этом долгом разговоре. И уйти так просто тоже не мог: своей связи с Черкизом Лебедяева не отрицала, следовательно, могла потянуться и ниточка. Он потоптался немного в нерешительности, затем сказал, прокашлявшись:
— Не сердись, извини… — И добавил зло и решительно: — А что я знаю? Теперь все спуталось. У меня одно на уме, пойми: зацепить эту свору, и — одним махом!
— Пустые твои слова. Говоришь: зацепить махом. Как же так можно? Зацепи, попробуй, я плакать не буду. А мне самой его отдать — нет уж, извините. Ну, отдам, допустим. А если сама после в чем-то виновата окажусь — меня-то хоть пощадите?
— Нет, это вряд ли.
— Вот видишь. Ох, запуталась я… Только успела подумать, что наконец-то душа на место станет, — опять голову заморочили, окаянные…
Они надолго замолчали. Наконец Кашин спросил:
— Так кто же твой муж?
— А я не знаю. Парень как парень. Ждет меня теперь. Ну, пускай ждет! Подождет небось! — Лебедяева захохотала, затем притихла и предложила: — Здесь рядом скамеечка есть — хочешь, посидим?
Сели на лавочку перед каким-то домом. Светало, и рассветная дрожь охватила Семена; он зябко тер ладони и пугливо поглядывал на спутницу. Что была Витенькина тонкость перед вязкой и смутной душой этой женщины? Как понять ее? Да и поймешь ли, не зная жизни Марии Лебедяевой?
Расскажем же ее.
29
Начать с детства — полусиротского, холодного, когда надо было прятаться от злого, вечно пьяного после смерти матери отца. И, проводив его самого на кладбище, стояла она на толкучем рынке, спасаясь от голода продажей последней рухлядишки. В то время и приметил ее купчишка Тарасов, только начавший неслыханно лезть в гору на военных поставках. А вскоре ее, пятнадцатилетнюю, разряженную медоточивой сводней, привезли в купленный на ее имя Тарасовым домик — на позор и стыд. Быстро забылась темная отцовская каморка.
Жил с нею Тарасов открыто, без боязни, водил домой, не опасаясь скандала, с молчаливого согласия жены, хворой и тихой богомолки. Иногда, в припадке пьяного юродства, одевал в гимназическое платье и делал визиты заезжим компаньонам, рекомендуя своей дочерью. Сомнений обычно не возникало, даже в городе кое-кто, не знавший раньше Тарасова, клевал на эту удочку. А сама Маша находилась все время в состоянии угарного страха, полулюбопытства-полуотвращения: Тарасов наезжал чаще ночью, хмельной, был тогда жаден и бесстыден. Иногда же целый месяц проходил в сонной одури, тогда она знала, что властелин ее кутит в ресторане, том же «Медведе», с другими женщинами; от ненависти ее тошнило, она кричала и бегала по просторной, жарко натопленной квартире. Уйти от купца не было смелости. Приставленная к ней Тарасовым бабушка-задворенка нашептывала: «Здесь хоть старик, да один, да богатой. И сыта, и одета, и обута — моли, девка, бога, что такую жизнь тебе послал, милосердец». И она думала: «Да, наверно, так». По сути, она и не чувствовала себя рабой, презренным существом: годы, проведенные в квартале мещан и мелких чиновников — коллежских регистраторов и губернских секретарей — люда ничтожного и насекомого, укрепили ее в мысли, что женщина должна «принадлежать». Таким, как она, имеющим богатых содержателей, окружающие выказывали уважение, искали их знакомств, растягивали губы в выжидательно-радостной улыбке: «Рручку-сс!» — хоть после, дома, с наслаждением клеветали и плевались. Но Маша не видела этого. Впрочем, один раз унижение потрясло ее. Было это в январе семнадцатого года, когда Тарасов нагрянул к ней ночью с пьяным офицеришкой, поручиком интендантского ведомства, и под утро, обезумев от вина, вдруг заорал офицеру: «Бери девку, дарю!..» Она бросилась мимо ревущего купца и пускающего слюни поручика в сени. Босиком выбежала в палисадник и там упала на снег, забилась в истерике. Перепуганные купец с офицером занесли ее домой и ушли, а она осталась метаться в горячке.
Почти два месяца боролась Маша с болезнью, обостренной простудою. Выйдя на улицу, тихая и ослабевшая, сидела на крылечке и не узнавала города: люди ходили, словно пьяные, — с ливенками, красными бантами и повязками, кричали: «Свобода!» — «Что? Какая еще свобода?» — удивлялась Маша. Узнав, что свергли царя, поплакала: ах, бедняжка… На первых порах казалось, что революция обтекла ее, не коснувшись: по-прежнему принимала она купца, нацепившего красный бант, пила по вечерам чай и играла в карты с бабкой. Однако к новой зиме задуло сильнее, сильнее, сильнее, и февральским вьюжным вечером от заплаканной бабки узнала она, что за большими амбарами у пристани расстрелян красногвардейцами их благодетель, спаливший три баржи отборного зерна, чтобы не досталось оно голодному рабочему и боевому люду. Былые обиды легко высушили слезы, но пришли пустота и страх. Отлетела целая жизнь, ставшая привычной, — подлая, зато безбедная. И надо было начинать другую — какую же? От купца осталось немного денег, на которые ничего уже нельзя было купить, несколько недорогих колец и стекляшек, мебель, одежда, кой-какая мелочь. Бабушка-задворенка тоже куда-то исчезла, и Маша сама ходила на рынок продавать вещи, тоскливо стояла возле забора, отшатываясь от мужчин, пытающихся заглянуть под шляпку. Однажды встретила среди барахольщиц бывшую свою подружку по Харитоньевской улице. Та начала плести о причитающемся после смерти содержателя наследстве, потому как Лебедяева жила с ним «почти в законе», рассказала о своей знакомой, которая «до суда дошла и высудила», и Маша, воспламенившись надеждой, пошла в дом покойного любовника. Прислуги там уже не было, и она после долгих попыток дозвониться зашла в незапертые двери. Запустение, пыль; впрочем, в доме жили: тикали часы, вытерто было стоящее в прихожей зеркало. Первый этаж пустовал, но, постояв немного и прислушавшись, Маша уловила донесшийся сверху, со второго этажа, тяжкий вздох и кашель. Она нарочно громко, топая и напевая, поднялась по лестнице, огляделась, толкнула первую попавшуюся дверь и замерла: в огромной спальне, за столиком возле широкой, аккуратно прибранной супружеской постели, сидела жена Тарасова — седая, безобразно накрашенная, похожая на мумию старуха. Она узнала Лебедяеву — зрачки ее дрогнули, сильной сухой рукой она рванула мешком сидящее на костлявой фигуре декольтированное платье, каких никогда не носила при жизни мужа, — обнажились иссохшие, желтые козьи груди. Затем быстро сунула трясущуюся руку в ящик стола и, вытащив оттуда револьвер, выстрелила. Пуля с грохотом ударила в стену, рикошетом ушла в пол. Завизжав, Маша выскочила из спальни и покатилась по лестнице, провожаемая сумасшедшим, вперемежку с кашлем, хохотом старухи.
Опять Маша неделю пролежала в лихорадке, с горечью осознав за это время, что процентов с прошлого для нее нет и быть не может, и после выздоровления снова пошла на базар. Торговлишка была редкая, скудная, вещи потихоньку исчезали, и начинался уже голод, осень, сумерки, когда на улицах забегали люди, где-то в центре трещали пулеметы, за городом бухали орудия, а на рассвете в дверь ее дома постучали. Маша вышла в сени, прислушалась. На крыльце постукивал кованый каблук, звякала шпора. Она открыла. Изогнулся в поклоне, протягивая букет, пыльный поручик, затянутый ремнями. Он загадочно улыбался, шевелил бровями, и Лебедяева, вглядевшись, узнала офицера, с которым приезжал к ней Тарасов в ту памятную позорную ночь.
Она приняла букет и посторонилась, пропуская его. В комнате он сочувственно почмокал губами по поводу запустения, затем открыл принесенный саквояжик и извлек бутылку шампанского: «За освобождение, за встречу — изволите-с?» Маша, настороженно косясь, принесла рюмки, поручик наполнил их и отрекомендовался Борисом Красносельских, сыном бывшего председателя земельной управы. Маша пила и разговаривала неохотно. Когда Красносельских ушел, оставив саквояжик с продуктами, она долго сидела в оцепенении. Лебедяева сильно изменилась за лето: огрубела характером, барахолка дала норов, острый язык; из испуганного, рано познавшего жизненную изнанку подростка она превратилась в женщину, но не было дорогого дружка, который пробудил бы ее к волнению и любви.
Однако надо было жить, и когда Борис вечером заехал к ней и пригласил в ресторан на офицерскую пирушку по случаю взятия города, она не отказалась. Там пили, танцевали, палили в окно из револьверов. Уже под утро поручик отвез Машу домой и остался у нее…
Связь была долгой, равнодушной, в конце концов оба стали тяготиться ею. Поручик первым разорвал эти непрочные узы. Однажды в ресторане он сослался вдруг на срочные дела и ушел. Маша одна уехала домой на извозчике. Больше Борис не показывался. Скоро город заняли красные. Кончились запасы, когда-то притащенные предприимчивым поручиком, пошла она на барахолку, но и продавать было уже почти нечего. Зимою металась поземка, задувая в подворотни магазинов, выстуживая голодных, стоящих в очередях людей; скакали всадники. Летом полыхали грозы, палил зной, дробно топали походные колонны, текли беженцы из деревни в город и из города в деревню… Помаявшись, ушла этой дорогой и Маша: заколотила окна, двери дома, долго кружила по пыльным проселкам, пока не пристроилась нянькой в дом богатого мужика за харчи. Жена его умерла в послеродовой горячке, восьмерых ребят — от трех месяцев до тринадцати лет — пришлось, обшивать, выкармливать, пестовать. Хозяин был хоть куда: ражий, борода лопатой, он на первых порах не упускал случая лапнуть, «пошшупать» городскую. Но, быв однажды жестоко бит ею — ночью, при реве испуганных ребятишек, — надолго удивился и попытки свои оставил, довольствуясь деревенскими бобылками.
Тяжкий крестьянский труд, бессмысленность жизни, угнетали, но уйти было нельзя: даже в деревне приходилось есть хлеб с толченой древесной корой. Наезжали продотрядники — смешливые красноармейцы и суровые матросы, — и несся по их следам, убивая, отбирая хлеб, Сенька Кудряш со своей бандой — бывший уездный телеграфист, тенор-любитель. Пожаловал он как-то и в тихую, стоящую в стороне от больших дорог Гарь — деревеньку, где жила Лебедяева. Было это под осень, утром, — сидели и завтракали. Вдруг хозяин, Платон Евсеич, сунулся в окно, охнул и выбежал из избы. «Кудряш! Кудряш!» — завизжали ребята. Имя это взбудоражило даже престарелую мать хозяина — она с подвыванием сползла с печки и стала бестолково и подслепо кидаться по горнице, натыкаясь на стены, стол, лавки, вскрикивая: «Наехал! Наехал, голубок, господи Исусе Христе!»
Кудряш вошел в избу. Был он благостен и учтив: помолился на иконы, поймал и чмокнул руку у заверещавшей старухи, сел за стол. Маша отодвинула чуть занавеску из кухни. Сенька был уже лысоват, длинные кудри вились только по бокам, а спереди просвечивала плешь. Следом за ним внесли четверть красного вина — самогонку и брагу атаман не употреблял. Днем раньше из Гари ушел продотряд, и теперь атаман, благодушно подхохатывая, рассказывал, как они настигли бойцов. «Уж мы их накорми-или!» — и заливался икающим смехом. Ему вторил Платон Евсеич. Подвыпив, Кудряш спросил хозяина: «У тебя, я слыхал, городская живет? Покажи». — «Маруся, поди сюды!» — крикнул тот. Она вышла. Сенька взбил остатки кудрей, налил рюмку и с поклоном поднес. Маша выпила, крякнула по-деревенски и закрылась рукой. Разомлевший Кудряш велел принести с брички гитару и запел: «Д’глядя на лу-уч пурпурнаго зака-ата…» — с вокабулами, переходами — явно хотел понравиться. Походил по избе, хромая. Отозвал хозяина в угол, там что-то спросил. Платон Евсеич зачмокал и, молодцевато вытянувшись, невнятно затрубил в ухо атаману, разглаживая усы. Маша побледнела, ушла на кухню. Кудряш последовал за ней и там, прижав в угол и нетерпеливо звякая шпорой, зашептал: «На сеновал ляжешь, вечером один приеду. Понравишься — с собой увезу, озолочу». Полез целоваться, пачкая лицо слюнями. Оттолкнула его, пробормотала: «Уходи, уходи ты…» Он резко отпрянул и пошел из кухни. Вдруг остановился, сунул руку в карман синих диагоналевых галифе и вынул витой массивный браслет: «Держи!» Она замотала головой: «Мне краденого не надо». Кудряш сморщился: «Ну, зачем так… А впрочем, каждый предполагает иметь свой доход», — надел браслет на ее руку и исчез. Раздались крики, заржали лошади. Маша глянула в окно: люди Кудряша кончали таскать в ограду мешки с двух продотрядовских подвод. Затем пошли в огород за мукой, что хранилась в хитроумно спрятанных под землей сусеках. Муку погрузили на телегу, хозяин взял вожжи, на другую бахнулся в солому гармонист и заорал частушки; колонна тронулась.
Как только стихли за деревней крики и гиканье, Маша спустилась в ограду и заседлала хозяйского Гнедого. Связала две котомки с зерном, перекинула их через круп, привязала к седлу торбу с нехитрой своей рухлядишкой, расцеловала ребятишек и с трудом, поддерживаемая старшим, Афонькой, залезла на коня. Пригибаясь к шее, тронулась со двора. Конь, игручий и звероватый, нес свою кормилицу тихо и осторожно. Ездить верхом Маша научилась, но без седла, и сейчас скользила, хваталась за него, сжимала ногами бока лошади. Однако скоро начала привыкать и даже чуть-чуть поторапливала коня. Оглядывалась: — вдруг хозяин что-нибудь забыл и вернется назад? Страх передался Гнедку: он нервно фыркал, норовил перейти на рысь. Кожа его содрогалась. Они уходили в сторону, противоположную той, по которой ушла банда, — пятнадцать верст было до большой, стоящей на тракту деревни; дальше еще тридцать верст по тракту, и — станция. Только бы успеть! Маша крикнула, дернула уздечку, лошадь пошла галопом. Сидеть стало легче, чем при тряской рыси. Ужас, наслаждение, лес кругом, дробный топот — эхо-оой!! Это была свобода, впереди — город: гудящий, затягивающий, с синема, с барахолкой, семечками, качелями в саду, там не болят руки, изломанные тяжкой крестьянской работой, не стучат ложками по столу восемь голодных, не зовут за амбары ухватистые деревенские ребята. Эхо-ой!
С гиканьем, словно в дурмане, выскочила она на тракт. К станции подъехала вечером. Устала, тело болело, сверлил страх: беда, если нет поезда, — тогда догонит хозяин, изобьет и увезет к Кудряшу.
На счастье, стоял воинский эшелон. Сновали красноармейцы, пыхтел паровоз у водокачки. Машу окружили, загоготали: «О, раскрасавица!..» Она, не отвечая, привязала к коновязи мерина, стащила зерно, поволокла котомки к поезду. Бойцы отобрали их и с криками: «К нам, к нам!» — стали вырывать друг у друга; началась свалка. Напрасно она разнимала их, говорила, что скорбна животом и потому по мужской части совсем не прелестна, — они хохотали, к ним бежали из других вагонов, тоже вваливались в кучу, а она стояла рядом, растерянно моргая, и сердце закатывалось от мысли: сейчас, вот порвется котомка, и зерно прольется на землю… Вдруг взвился над гвалтом крик: «Прекра-тить!» — и куча мала начала рассасываться. Маша повернулась к эшелону — оттуда шел, чуть подпрыгивая, затянутый в портупею, в форме, более добротной, нежели бойцы, — видимо, командир. Шашка болталась сзади, стукала по шпоре. Не бритые еще усы, нарочитый басок — лет девятнадцать, не больше. Он подошел к свалке и начал растаскивать, приговаривая: «Грищенко, тебя куда посылали? Давыдов, винтовку вычистил? Сейчас проверю. Фотин, чтобы это было в последний раз, марш!» Они нехотя вставали, отряхивались, брели к вагонам. Командир обратился к Лебедяевой: «Дезорганизуете личный состав, гражданка. Документики позвольте». — «У меня вот только…» — Она потащила из белья, отвернувшись, трухлявую бумагу, выданную два года назад при регистрации в исполкоме. Справка была написана от руки, с огромной печатью, на которой не было ничего, кроме серпа и молота, и гласила следующее: «Настоящая выдана в том, что Лебедяева Мария Аверьяновна, 1901 г. р., является девицей мещанского происхождения, образа жизни непролетарского, а посему нуждается в коренной перестройке ее мелкобуржуазного мышления для равноправного вхождения в Светлое Царство Социализма. Что и доводится до всеобщего сведения. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Командир прочел справку, вернул, глаза его сверкнули, и он, указывая на котомки, сурово спросил: «Мешочница, значит?» — «Нет-нет! — метнулась к нему Лебедяева. — Это я два года в деревне была, заработала! Вот, глядите», — и зачем-то показала руки. «Бога-ато! — кинув взгляд на котомки, усмехнулся военный. — Что, и лошадь заработала?» — «Лошадь не заработала. Лошадь хозяйская, конечно». — «Значит, на поезд ее не потащите?» — «Ага, ага!» — закивала Маша. «Здесь и бросите?» — «С хозяином договорилась, он приедет, заберет!» — прилгнула она, вдруг обернувшись и взглядывая вдаль, на дорогу, — нет, не клубится пыль, не скачет Платон Евсеич… «Да вы куда едете-то?» — уже мягко, улыбаясь, спросил военный. Маша сказала. «И очень торопитесь?» Она снова закивала, по-собачьи приклоняясь. «Вообще-то я ротный, — сказал командир, — но в данном эшелоне назначен комендантом. Вон моя теплушка — видите? Нас там много, но у меня свой уголок, так что, если хотите…» Он взвалил на себя котомки и, упруго ступая, пошел к вагону. Она, слабея от радости, за ним. Закуточек был маленький. Лебедяева пристроилась в уголке и замерла. Когда поезд тронулся, глянула в окно и вздрогнула: к станции бешеным галопом скакал всадник. Борода металась по ветру — это был хозяин. Последние вагоны миновали станцию, а он, ворвавшись на нее, стал бешено избивать ни в чем не повинного Гнедка. Маша взгрустнула, но долго думать о том, что было, да прошло, не могла.
Быстро, сполохом пролетела ночь на руке юного ротного командира. Под утро Маша, проснувшись чуть свет, стала пришивать пуговицы к его гимнастерке; смотрела, пугливо улыбаясь, а он спал, раскинувшись, и не видел снов. Они не шли к нему, так как он считал их блажью, да и что он мог в них увидеть? Свою прошлую, будущую жизнь? Прошлую — может быть, но кому дано узнать свое будущее? Пока же он спал — молодой, сильный, гибкий, — и тонкая слюнка стекала с губы, а рядом женщина, познавшая его, пришивала пуговицы к ломкой от пота гимнастерке.
Поезд миновал мост и вошел в город. Закурились белесые тощие дымы, потянуло черной, теплой мазутной пылью. Комендант проснулся, когда состав уже замедлял ход у станции. Потащил к двери лебедяевские котомки. Они зашагали через пути к бурлящему вокзалу. По дороге он остановился и тихо предложил: «Слушай… оставайся, право! Поедем со мной туда, на юг!» — «Нет-нет! — испугалась Маша. — Прощевайте, лихом не поминайте, как говорится». Она усмехнулась, взяла у него котомки, взвалила на спину и, не успел он опомниться, затерялась в пестрой вокзальной толпе. Командир постоял немного, зачем-то стащил с головы выгоревшую фуражку и, вздохнув, двинулся к эшелону. Маша же шла и шла вдоль железнодорожной насыпи, затем с трудом взобралась на нее, села на котомки и стала ждать. Вот засвистел, тронулся и полетел на нее паровоз. Она подняла руки, что-то крикнула; но быстро шла машина, нельзя было даже разглядеть лиц высунувшихся из теплушек красноармейцев, только профиль его, четкий и стремительный, впечатался в одно из окон. Ушел поезд — и что ушло с ним? Любовь, дурная и шалая, искорка, вспыхнувшая между двумя людьми; дотлела бы она, эта искорка, да и погасла, если б рванулась Лебедяева на юг этим поездом, или, разгораясь, светила бы и светила? Время прошло, и никто не даст ответа. Да что ж, дело такое, моргнешь — не вернешь; ведь не бросать же, на самом деле, две котомки отборного зерна, да и дом кой-чего стоит, эдак и пробросаться недолго. И она пошла в город, к своему дому.
Окна его были заколочены, замок сорван, внутри — грязь, пыль, запустение: видно, жили в нем случайные люди, спали на лохмотьях, а потом либо вымерли от голода, либо подались куда-нибудь в хлебные края… Она почихала от пыли, присела на порожек, пригорюнилась: ах, опять надо жить, это что же такое… — и пошла к соседке, за веником.
В этом доме, пустом и холодном, прожила Маша зиму: меняла зерно на другие продукты, продала подаренный Кудряшом браслет, но весной снова забедствовала. А однажды утром, когда выходила из дома, со скамейки поднялся и загородил дорогу человечек в обтрепанном плюшевом жилете, залепленных грязью сапогах, стареньком картузе. «Вот встреча, ну и встреча! — заохал он, хлопая себя по ляжкам. — Все хорошеете, душа моя, Маша, нет, подумать только!» — «Не притворяйтесь, Боренька, голубчик, — промолвила Лебедяева, — ведь не нечаянно же вы меня встретили, коли на лавочке поджидали». Красносельских дернул головой, кинул ее на грудь и застыл, прижав к сердцу руку. «Что же опять здесь? — спросила она. — Ведь вас здесь, Боренька, многие знают. Не боязно?» — «Верно, верно, — помявшись, отвечал Борис. — Время такое — приходится и опасностей избегать». — «А по каким делам здесь, Боря?»
Тот отвернул лицо, скривился, ноздри его дрогнули, и она поняла: нет, не скажет. А если и скажет, то наврет.
«Ну, пусть его», — подумала Маша и уже махнула рукой, прощаясь, но Красносельских задержал ее: «Я, знаете, специально зашел повидать вас, тут вы не ошиблись. И так-то, поверьте, стало тоскливо… Вспомнить бы все, что раньше было, хоть немного еще так пожить».
«А вот на это зря надеетесь, Боря, — сказала Лебедяева. Усмехнулась: — Вы, конечно, как и раньше, ужасный душка и для девицы несомненная погибель, но какая наивность, я удивляюсь. Нет уж, прошли времена».
«Жаль, жаль! — искренне заявил Борис. — Но хоть в ресторан-то со мной не откажетесь сходить? В последний раз, на прощанье. Ах, будет что вспомнить. — Он закатил глаза. — Шампанское, полутьма, женская рука с апельсином».
«Сегодня вечером! — крикнул он, отходя. — Приходите в „Медведь“, я буду с другом!» — И скрылся в переулке.
Она взволновалась в тот день, нагладила старенькое платье и вечером, войдя в зал «Медведя», тихо охнула — так отвыкла от лампионов, угодливых официантов, россыпи блюд на столах. Борька, виляя между столиками, бежал навстречу в кургузом сером костюмчике, с нелепой тростью. Завертелся вокруг, ухватывая за локоть. Повел Машу к дальнему углу — там за столиком одиноко горбился человек.
30
Третий член компании был высок; волосы светлые, мягкие; серые, рано постаревшие глаза. Нос тонкий, с горбатинкой. Когда Красносельских представил Машу, он встал, стукнул каблуками: «Очень приятно — я это вполне искренне, поверьте!»
Борис при нем сразу слинял, сдвинулся на задний план. Он и сам почувствовал это: хоронился, конфузился, быстро, украдкой пил, не чокаясь и отворачиваясь к стенке. Опьяневши же, загнусил под нос: «Р-развеселые ребята, одним словом, удальцы, и-эх, царю вер-рные, покорные, на службе молодцы!..» У нового знакомого презрительно дернулся рот, но судорога перешла в улыбку, он склонился к Лебедяевой: «Позвольте вас?» Танцевал он отменно: прямой корпус, даму держал далеко и необыкновенно чуток был к музыке. «Можно вас… сопроводить сегодня?» — спросил он. «Нет уж. Сама доберусь как-нибудь». Как только вернулись к столику, Красносельских поднял вдруг голову, поглядел на них внятно и пристально. «Тебе надо проветриться, Боря», — проговорил новый знакомый. Тот сразу побелел, как бумага. Хлопнул рюмку, сказал: «Хорошо, Мартынов, я уйду», — и быстро вышел из зала. Маша насторожилась. Сославшись на непорядок в прическе, выскочила в вестибюль и спустилась по лестнице. Облегченно вздохнула, когда оказалась на улице. Но не успела пройти и двух кварталов, как была окликнута с извозчика Мартыновым: «Марья Аверьяновна, ну разве можно? Ночью, в городе, одна… Садитесь же, бог свидетель, я не сержусь». Она, цепенея, села в пролетку и сказала адрес. Напротив дома слезла и, не оглядываясь, двинулась к крыльцу. Услыхала, как скрипнула рессора, — он тоже спрыгнул, зашагал следом. Остановилась, задрожав, и повернулась к нему. Тотчас из мрака проявилась фигура Борьки — он выплыл откуда-то сбоку и быстро приблизился. Мартынов отпрянул, а Красносельских схватил Машу за руку и притянул к себе. Некоторое время все стояли молча; наконец Мартынов шагнул к Борьке, обнял, крепко поцеловал в губы и, отшатнувшись, прочеканил: «Люблю, Борька! Узнаю: старый юнкер, рыцарь! Верность Прекрасной Даме — это ли не идеал?» — и скрылся в темноте.
Дома Маша постелила постель, сказала: «Спасибо тебе, Боренька, голубчик мой». Но Борька так и не прилег всю ночь, сидел в углу, и по вздохам его, по судорожному сглатыванию Маша поняла: ему невыносимо страшно после того, что произошло между ним и Мартыновым, его другом. Утром он тихо, не раздеваясь, пристроился с края кровати, а когда она проснулась, зачем-то начал рассказывать о гимназии, смеялся над инспектором, учителем латыни, вспоминал, как ходил на каток. И хоть Лебедяева знала его хорошо: злой, хитрый, мелочь, — а в этот раз пожалела искренне. Человек все ж таки, не деревяшка, ишь, как убивается. После его ухода тяжко стало Маше на душе от этой встречи. Шли дни, а тяжесть эта не снималась — так было тускло, отвратно…
31
Однако в ту пору подоспела и удача: уволили из «Триумфа» билетершу, вечно пьяную старушку, и биржа подослала на ее место Лебедяеву. С работой стало поспокойнее. Появился какой-то порядок жизни: теперь валяться в постели, раскладывать до одури карты было недосуг, и, когда выгадывалось на это время, праздность доставляла удовольствие, не то что прежде. И призрачная жизнь синема увлекла Машу. Так легко, весело, даже в трудностях скачуще нелепо, неправдоподобно жили там люди, и в то же время было все, как в жизни, а она думала: прекрасно, прекрасно так жить, — и не хотелось наружу из темного зала.
Тихо текли дни, пока опять не появился Мартынов. Элегантный, тонкий, чертом взлетел на крыльцо; будучи впущен, закачался на стуле, попыхивая душистым табаком. Однако разговаривал уважительно и комплименты отпустил только обязательные. Маша спросила, как же ей его звать-величать, и он ответил просто: «Сашей, Сашкой, Сашичкой — ну, тут уж сами выбирайте. Мне это приятно, так что вы не смущайтесь, прошу вас…» Тасовал карты, выкидывая и разглядывая то одну, то другую. Наконец смешал их, бросил и сказал: «Вот и потеряли мы с вами Бореньку». — «Что, что?..» — не разобрала Лебедяева. Он истово перекрестился: «Утонул. Судорога в речке схватила. Царствие небесное, хороший был офицер». Она наладилась плакать, но Мартынов оборвал: «Сегодня поминки, я приглашаю. Тесный круг, только друзья, не извольте беспокоиться, роднуша».
Собирались в трактире Гарифуллина; для других он был закрыт, и у ворот дежурили верткие, ладные парнишечки.
Публика удивила Машу: чувствовалось напряжение в жестах, словах. Да и сами поминки больше смахивали на обыкновенную пьянку: не было ни речей, ни тостов, просто по команде Мартынова все сгрудились вокруг столов и начали глушить водку. Маша глянула на него — он брезгливо поморщился и, склонясь к ней, сказал: «Вообще народец, знаете, неважный — люмпены, дно. Но меня слушают, подлецы!» Это сказано было с гордостью. «Да кто это?» — спросила она. Мартынов не ответил; он встал и, вскинув руку с рюмкой, громко произнес: «Месье и медам! Предлагаю тост… за королеву!» — и указал на Лебедяеву. Она густо покраснела, втянула голову, в плечи. Трактир загудел. Все оборачивались к Маше, чокались, что-то выкрикивали. «Зачем вы так, Саша? — обернулась она к Мартынову. — Лучше бы за Борину память выпили, а то непонятны мне ваши поминки». Он положил ладонь на ее плечо, сжал властно: «Я же говорю — не извольте беспокоиться, голубушка Марья Аверьяновна, все идет нормально, лучше некуда. Всему свой черед, сами увидите, Кармен», — и заглянул в глаза. Чему черед — так и не поняла Лебедяева.
Уже отбивал чечетку кто-то фиксатый в коротком пиджачке. Мартынов сидел разомлевший, тоже что-то выкрикивал, хлопал в ладоши, чокался с подходившими, но по мере того, как он выпивал, взгляд становился тяжелее, глаза глубже уходили под лоб, набухала и подавалась вперед челюсть. С Машей был изыскан и учтив, говор его весьма отличался от полужаргона окружающих, и теперь, в этом окружении, особенно выделялись ум и сила, вознесшие его над этими людьми. Вдруг протиснулся к ним серый, пушистый, большой парень и забормотал: «Можно, я с тобой за упокой Борькиной души выпью, Черкиз? Ловко ты его — этими-то руками…» — Он показал пухлые свои ладошки. «Отойди, Сулема!» — оттолкнул его Мартынов. «Не-ет, ты скажи, — не унимался парень и внезапно замахнулся на Лебедяеву: — Убью, сука!» — «Какой вы неспокойный сегодня, Степушка, — мягко сказал Мартынов, взяв его за локоть. — Я недавно прочел в газетке, что завезли новый препарат от нервов и секретных болезней, так что вам будет вдвойне полезен, золотко. Ступайте. Ах, как вы меня обидели!» — Голос его был грустен, он вытер платочком глаза и отвернулся. Парень осекся, побледнел, но сзади его уже взяли за руки, потащили к двери…
Маша бесстрастно наблюдала эту сцену и, когда парня выволокли, налила в свою рюмку вина, чокнулась с Мартыновым: «Ну, за убиенных, Сашичка, добрый человек. Или как там тебя — Черкиз, что ли? Бога-то не боишься?»
Она встала, пошла к выходу, но посередине повернула назад и, подойдя снова к Черкизу, с маху, сжатой в горстку рукой сильно ударила его по лицу. Трактир ахнул и замер. «Вот! Хоть это с меня получи! — крикнула она и обернулась в зал: — Чего ждете? Тут я, терзайте!» Но Мартынов сделал жест, все расступились, и она, замирая, двинулась к выходу. Сквозь тишину ударили в спину громкие его слова: «Вот теперь-то вы мне вдвое дороже стали, голубушка Марья Аверьяновна. Да не бойтесь, не бойтесь, кому, кроме меня, вы и нужны-то?»
Вскоре Лебедяева встретила его в «Триумфе», во время работы. Он пришел на сеанс один, выждал, когда фильм начался, спустился к ней и сказал:
«Хотел бы просить вас, голубушка, на небольшой разговор. Выйдемте тут, рядом, в скверик возле театра, если не возражаете».
«А если возражаю?»
«Зачем же противиться? Ясно, что вы, как человек по отношению ко мне холодный и даже недоброжелатель, сейчас сильнее — можете и обругать, и ударить, и даже плюнуть в меня, я же вам не отвечу, хоть и любое унижение претерплю».
«Хорошо, идем…»
Они вышли на улицу. Ветер падал сверху и рвал листья из-под ног. Мартынов остановился, развернул большой бумажный пакет, вынул оттуда цветы, отдал Маше. Она взяла, немного поколебавшись, опустила в них лицо и задохнулась ароматом. На душе было жутковато, приятно — никто еще не дарил ей цветов, никогда. Они дошли до скверика, сели на скамейку, и Маша сказала:
«За цветы спасибо вам, Сашичка. Я слушаю — ну?»
Черкиз напрягся, ноздри его задрожали.
«Вы этот букет в порядке исключения приняли, или… еще можно принести?»
Лебедяева поежилась зябко:
«Холодно, ветер… Что ж, носите, если есть охота. Только зачем, вот непонятно».
«Да люблю же я вас, Марья Аверьяновна, — сказал тихо Мартынов. — О любви хочу вас просить».
Маша повернула к нему удивленное, растерянное лицо — о любви ей тоже говорили впервые.
«Что-то не узнаю вас, Сашичка. Разве ж такие, как вы, просят о чем-то? Они, если им надо, берут и хозяев не спрашивают, я так понимаю. Про любовь говорите — это тоже напрасно, пожалуй. Зачем она вам?»
«Ну, не скажите, без человеческого чувства тоже нельзя. Мне с этими людьми, с которыми вы меня тогда видели, теперь уж до конца идти; но опуститься до их уровня — не-ет! Я их в страхе держу, но не дай бог, если они во мне своего почувствуют! Тогда — точка, все. Пока чужой — умный, жестокий, но чужой, — я бог, и им все ясно. А кому не ясно… — Он ударил кулаком по скамейке. — У них своей жизни нет, это народ темный, из скотов. Мне же без своей, другой жизни нельзя, понимаете? И не только по деловому основанию — все-таки, как-никак, я классическую гимназию закончил, потом — московский юнкер, алекеандровец, в гвардейском полку служил, так что и с этой стороны свои запросы могут быть…»
«Туманная ваша речь, Сашичка, — сказала Лебедяева. — Про жизнь какую-то свою, про запросы — зачем мне это?»
«Э-э! Не скажите! — возбужденно закричал Мартынов. Глаза его блестели лихорадочно, и Маша подумала: что это с ним, не выпил ли? Качнулась в его сторону — винцом припахивало, точно. — Э-э, не скажите! Прямое, прямое к вам отношение этот разговор имеет! Разве забыли, что в любви я признался?»
«Некогда мне, Саша. — Она встала со скамейки. Мартынов тоже вскочил, схватил ее за руку. — Была нужда, любовь еще с вами иметь! Чепуха какая!»
Лебедяева вырвала руку и пошла по аллейке. Черкиз обогнал ее, загородил дорогу.
«Да вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, — усмехаясь, заговорил он. — Полюбите! Я человек смирный в личной жизни, сильно докучать не стану, а цветочки вам приятны, ведь вижу».
«Можете их обратно взять».
«С головы до ног, всю цветами осыплю, — зажурчал Мартынов. — Песни под окнами буду петь, любого взгляда дожидаться, стихи писать. В этом мире только два человека друг друга достойны — вы и я! Я ведь совсем не так самоуверен, как раньше могло показаться, уж вы за те, прежние, речи извините великодушно, у меня тоже душа есть. И покой потерял с того времени, как в последний раз вас увидел, точнее, с момента, как ударили. А сегодняшнюю ночь и совсем не спал, и выпил перед тем, как к вам идти — чувствуете? — а не пойти не мог, не мог себя заставить. Стихи даже сочинил — вот, не изволите ли выслушать?
Ну как, ну как — нравится ли?»
«Уходите, Сашичка, — пересохшим ртом сказала Лебедяева. — Что это, глупость какая вам пришла, ей-богу, — в любви признаваться, стихи писать».
«Ваше слово — закон, царица, я ухожу. Но видеть, воспевать, любить — это вы мне никак запретить не можете. И, поверьте, о любви своей больше напоминать не буду. Станете вы, не станете на меня внимание обращать — какое мне дело? Любовь душе нужна, чтобы, как когда-то в гимназии, плакать, подушку ночами рвать, стихи сочинять…»
«Стихи, значит, сочинять, а после со своими гавриками гадость творить? Так, что ли?»
«Не совсем. — Черкиз вздохнул, прищурился. — Вы больше моих людей не увидите, клянусь. Глупость сотворил, конечно, что тогда вас в трактир повел, — так ведь и цены истинной вам еще не знал. Да и, кстати, они свои дела без меня обделывают, я при них — человек идеи, случайный, можно сказать».
«Ой-ё-ёй, Сашичка! — погрозила пальцем Лебедяева. — Давно ли по-другому говорили!»
«Мало ли что по-другому. Кое в чем влияние имею, не отрицаю».
Они дошли до кинотеатра. Возле входа он задержал Машу и устало сказал:
«Вы уж не отталкивайте меня, Марья Аверьяновна. Раз в месяц улыбнетесь — я той улыбкой до-олго сыт буду. А если куда-нибудь — в ресторан, скажем, на люди со мной покажетесь — о-о-о! — Он закатил глаза. — Значит, решено: с этой поры я — ваш трубадур!»
«Ну что вы, Саша…» — Лебедяева попыталась скрыться в дверях, но Черкиз удержал ее:
«Нет, уж позвольте, Марья Аверьяновна, это уж позвольте», — твердо сказал он. Зрачки его сузились, губы стали тонкими, и она, помолчав, сказала: «Ладно, ладно, пусти…»
«До свиданья!» — Он перебежал дорогу перед испуганно квакнувшим авто и скрылся.
Маша же, растерянно улыбаясь, вернулась за свою стойку обрывать билетики. Думала: «Ну, Сашка, болтун — оболтал меня, окаянный!» Она почему-то не сердилась на него — то ли потому, что так приятно пахли цветы, принесенные им, то-ли от разговора о любви — почти настоящего, со стихами. И совсем как в кино, склонялся перед ней в поклоне модно одетый человек с тонким профилем, а она хмурилась и отвергала его, недоступная. Конечно, не могло быть и речи о каких-то чувствах, о которых болтал Мартынов, — вот еще, чего выдумал! — но если так просто, из дружбы, пускай ходит, черт с ним.
Другом Черкиз и вправду оказался незаменимым: он появлялся рядом тихо, незаметно — приходил домой или встречал ее после работы, дарил цветы, стихи, читал с ней книжки, беседовал о кинокартинах, приносил чай, сахар, бутылку хорошего вина, конфеты. Иногда заявлялся поздно вечером, ночью — снова пили чай, вино, играли в карты, — но никогда не просил оставить. Несмотря на темь, мороз или слякоть, одевался и уходил. Это было даже удивительно и иногда — что скрывать? — неприятно.
Менялись времена, настраивалась жизнь, Лебедяевой же казалось, что живет она все так же, без перемен, целый век, два и не будет окончания этому тихому житию без любви, без надежды.
Однажды она пошла с соседкой, Куприянихой, на демонстрацию — просто так, посудачить, пощелкать семечек, потолкаться возле украшенных кумачом лабазов. Но, когда красные флаги заполыхали над улицей, она ощутила вдруг неведомую ранее пустоту в душе. Пустота эта пугала, была страшная, жадно сосущая. Ветры свистели над головой, взвивались голуби, уверенно шли люди, смеялись и кричали. Сердце ее ударилось с размаху о мостовую, и стало так тошно — хоть в петлю… На обратном пути она зазвала Куприяниху в церковь, отстояла пол-обедни и ушла в такой же тоске. С той поры она и зачастила в «Медведь». Но как сказать — зачастила? Примерно раз в месяц, когда становилось совсем уж невыносимо, приходила она туда. Если не было уговора с Черкизом, все равно она знала: ему скажут, на другой день придет обязательно, и будет хорошо. Они потанцуют, он станет целовать руки, читать стихи, говорить любезности — ах, Сашка, Сашка! Что ни говори, он кавалер не из плохих, где встретишь теперь такую обходительность! Впрочем, и с ним произошли перемены: появилась уверенность, словно почувствовал за спиной силу; в разговоре стал смел, в жесте быстр и краток.
Так прошел год — снова закружился лист, и закружилось в воздухе, в атмосфере лебедяевского дома нечто такое, что обязательно возникает между мужчиной и женщиной, тем более когда они молоды и беспредельно одиноки. Она стала задумываться над значениями и даже интонациями сказанных фраз, ловила взгляды и отворачивалась, поймав их, вела себя неловко и скованно — то долго молчала, то смеялась безудержно. Однажды, когда она пошла в сени проводить и закрыть за ним двери, Мартынов вдруг обнял ее и стал жадно целовать. Она вырвалась, крикнув: «Сашка! Что ты, Сашка?!» — кинулась в квартиру, захлопнула дверь. Он долго стучал, бормотал: «Пусти, ну, пусти…» — Лебедяева не открыла. На другой день он пришел к кинотеатру, остановился у входа и долго смотрел на нее через стеклянную дверь. Маша холодно глянула в глаза Мартынову, усмехнулась, но не поздоровалась, даже не кивнула, и он ушел. Вечером поплакала дома одна, опять одна, и подумалось даже: да полно, уж не полюбить ли его в самом деле? Однако дума думой, а сердце-то знало, что этого никогда не произойдет, ибо ясно было, что снова начнется то, от чего ее избавила когда-то смерть купца Тарасова: угар и бесстыдство, разная гнусь. Да еще вперемежку с истериками и чтением стихов. Купец хоть был прост: брал свое да и уходил восвояси. А этот — душу вынет, досыта наизгаляется… А любить все равно хотелось, и она все чаще вспоминала красного командира, с которым ехала в город из деревенской стороны. Так чисты и неумелы были его поцелуи в теплушке, такие простые разговоры они вели ночью в громыхающем на стыках поезде… Чего не уехала с ним тогда? Попробуй найди здесь такого, если ходит и домогается любви один только Сашичка Мартынов, да и тот в своей шайке никакой не Сашичка, а просто Черкиз. Тяжко, тяжко было жить, и все чаще она думала: да полно, не прекратить ли вообще все это дело, не наложить ли на себя руки? Думать об этом было и страшно, и сладко.
Весной Маша свела знакомство с артелью. Сорвался и зашагал однажды за нею парень, неловкий и тихий, с быстро вспыхивающей улыбкой. И дрогнула ее душа. Он был похож на того командира — ясный и спокойный, с простыми и сердечными разговорами. К тому же без памяти любил кино.
Ударил ветер, сдул со стола карты с гаданием, ударил наискось, наверняка, закружил, затрепал тюлевые занавески. Пришла, пришла наконец сладость любовная — Коля, Коленька, — а гордилась-то поначалу, гордилась, не допускала, после ревела в подушки, дура, металась по одинокой квартире. Даже дом свой не показывала, боялась: вдруг стоит, нетерпеливо покуривает у крылечка Сашичка, милый друг, страшный человек. И лежит пистолетик в кармашке у мила друга Сашички, — ее-то он не тронет, не посмеет небось — ах, Коля… Не дай бог. И узнать про любовь к Коленьке не дай бог Черкизу. А все-таки узнал, проглядела, не уберегла, голова садовая. Заявился как-то ночью, только-только пришла она со свидания. Сказал:
«Прошел слух, драгоценная Марья Аверьяновна, что приключился с вами некий романец?»
Она сразу ослабела, села на стул, но, собравшись с силами, зашептала:
«Тебе-то что? Твое дело, казалось бы, и совсем сторона».
«Ах, ах! — удивился Черкиз. — Человек посвятил вам жизнь — и вдруг такой несчастливый случай…»
Она хотела упасть ему в ноги, однако сдержалась. На ватных ногах, по-утиному переваливаясь, засеменила по горнице, выкликая:
«Ты не тронь его, Сашка! Слушай, слушай, Сашка, ты не тронь его! Все грехи твои отмолю, покрою. Да разве ж я о чем тебя просила, ну, скажи? Господи, господи! Да ведь ты его не тронешь, верно, Сашка?!»
Мартынов засмеялся и ушел.
Больше он не появлялся. И от этого страх Лебедяевой еще более усилился. Стали проходить возле дома невиданные раньше в этих краях парнишки в кепках и рубашках-бобочках, приставать к соседским девчонкам. Доведенная до безумия постоянным страхом, бессонными ночами, любовью к Коленьке, которому постоянно грозила месть Черкиза, Маша решилась на жест крайний и истерический: отправилась в ресторан, спрятав в ридикюль небольшой кинжальчик, купленный у похмельного типа на рынке. Она твердо знала, что произойдет, когда они вместе выйдут из ресторана и направятся к ее дому. Надеялась на встречу, а ее не произошло. Произошла — только совсем не с тем, с кем думала, а с этим пухлогубым парнишкой, Купидоном из губрозыска. И ему тоже нужен Черкиз, ни больше ни меньше. Но одно дело — самой избавиться от навалившегося страха, какими бы последствиями это избавление ни грозило, совсем другое — совершить это чужими руками. Ведь тогда выходит уже не избавление, а подлость…
Такими мыслями мучилась Маша, сидя на скамеечке темной ночью с тихо насвистывающим агентом уголовного розыска Семеном Кашиным. Он чиркнул спичкой, прикуривая, но, увидав лицо Лебедяевой, поспешно загасил ее. Она опомнилась, встрепенулась, ощутив себя в шевелящей листьями темноте.
Как можно было уйти, оставить его! Придет сейчас домой, а он лежит застреленный, в лице смертная мука, рука прокушена от ужасной боли… А мальчонка? Ох, боже!
— Слушай, Купидон, — простонала она, — ты в бога веришь?
— Нет, не верю, — ответил Семен.
— А душа-то, душа-то хоть есть?
— Душа? Душа, думаю, есть.
— Она умрет с нами?
— Душа бессмертна, — убежденно произнес он.
— Ну, если так — слушай…
32
В МИРЕ НАУКИУчеными установлено, что пределом скорости, какую может достигнуть человек, будет скорость 500 верст в час.
При скорости больше, чем 500 верст в час, в организме происходят губительные изменения и сдвиги, ведущие к немедленной смерти.
Следовательно, достижение скорости свыше 500 верст в час невозможно не только по техническим, но и медицинским причинам.
А ГДЕ КУЛЬТУРА?На скамейке в театральном саду молодежь. В нарядах — отважная независимость: сапоги и валяные галоши в сочетании с женской ножкой с французским каблуком… Нужно полагать — второступенцы.
Ведут беседу:
— Миша… пфу-пфу… я тебя… фу-пфу… сегодня… фу-фу… ночью… пфу… видела во сне.
— Го… пфу… я счастлив.
— Эй ты, кудрястый, семя есть?
И брюнетистая отроковица страстно хлопает по оттопыренному карману обладателя «семя» и шевелюры.
Круговое угощение. Компания в припадке коллективного творчества споро лузгает семечки. Шелуха летит по сторонам, застилая густой пеленой дорожки, траву и прохожих.
Дикари! Свое собственное благополучие загаживают, замусоривая общественные места.
Арнольд
С утра Семен вразвалочку, попыхивая стрельнутой папироской, отправился шататься по губрозыску. С видом благодушным и расслабленным. От него отмахивались, даже выгоняли, но он снова втирался в кабинеты и все рассказывал сюжет какого-то нудного водевиля. «О Карабосса!» — кричал Семен. Он был счастлив и не понимал, почему товарищи его занимаются всякими неинтересными делами, вместо того чтобы ликовать вместе с ним. Он забыл, что еще вчера сам был таким. Помнит ли удачник прошлые горести!.. Кашин опьянел от тайного посула, данного ему Лебедяевой. Посула немаленького: в случае удачи это давало самого Черкиза, Семен всячески оттягивал миг наивысшего своего торжества-доклад Войнарскому — и, расхристанный и сияющий, отправился в конце концов перевести торжествующий дух во двор губрозыска. Во дворе, под останками окончательно разломанного локомобиля, мирно сидел и грыз сухарь нищий Бабин, а на самом солнцепеке шлепал губами, распластавшись на пузе, дурак Терешка. Семен подошел, опустился рядом. Нищий, не обратив внимания, продолжал свой разговор:
— Блажен муж, а блажен муж, — тянул Бабин, отрываясь от сухаря, — подь ты к лешему. Обособился, окопался возля какой-то железяки, в душаку твою мать. Теперь и справная железяка не завсегда человека кормит. Шел бы, к придмеру, в церкву, право, блажен муж. И сытый, и пьяный. Вот хоть бы как я…
— Яма! — гукал Тереша, поддерживая разговор.
— Эхх! — вздыхал нищий. — Беда мне с тобой. Сколь я тебя кормлю, и никакого с тобой проку. И забрался-то в узилище, окаянная башка! Ходи сюда, яко тать, больно мне это надо. Жди, покуда обоих не заарестуют.
— Бда-ады! — соглашался дурак.
Нищий сунул в кошель остаток сухаря, потянулся и заелозил деревяшкой по земле, подымаясь. Агенту сказал с сожалением:
— Вы хочь бы его на довольствие взяли, бестолкового углана. Только ведь подле меня кормится, блаженный. Глядите, помрет, когда уйду, — грех на душу запишете.
— Что, уходить собрался?
— Хочь подлинно пока не решил, а уйду, чувствую. Чижало мне на одном месте. Я ведь странник, паря. Раньше, бывалоча, как зима — к монастырям жмусь, а летось — то в бурлаки, то просто бродяжу. Счас чижало, конешно. — Он похлопал себя по культе.
— Это раньше, я слыхал, калики перехожие бродили, все правду искали. А ты-то куда, зачем пойдешь?
— Правда что, — уклонился от ответа нищий. — Я свою правду завсегда найду. Народишко интересный попадается, вот что занятно. Может, не только это, ну страдаю на одном месте, спасу нет. Так вы глядите — помрет без меня парнишко. И чего он сюда присосался, глупой?
— Наверно, к защите клонится. Чует, что уж здесь-то его никто не обидит, — объяснил Семен. — Так он ничего, дисциплинированный.
— Это ты верно, пожалуй, насчет защиты. Он хоть и дурак дураком, а власть нюхом распознал. Знает, что здесь хоть бить не станут. А все ж таки кормили бы маленько.
— Ему начхоз кашу таскает, если от задержанных остается.
— Ежли так, значит, не помрет. — И Бабин, скрипя костылем, отправился со двора.
«Э, глупый разговор! — подумал агент. Рюпа ползал по траве, поддевая щепочкой какого-то жука. — Вот, такая и вся жизнь», — умозаключил Семен. Его потянуло вдруг к широким философским обобщениям. Он пошел к себе в кабинет и заперся там, отгородясь от житейской суеты.
Сердце, омраченное было разговором с нищим, снова затрепыхалось горделиво и радостно. Сегодня был его, Семена Кашина, день. Шутка сказать, весь губрозыск столько времени не мог выйти на след Черкиза, и вот он, никому доселе неизвестный, ничем пока не славный агент второго разряда… ух ты, ччерт!
Кашин открыл сейф, достал оттуда затрепанную книжку: старинный, принадлежавший некогда Баталову роман. Всю литературу, оставшуюся после Михаила, начальство велело раздать сотрудникам как бесхозную. Буквы в книге были крупные, а заголовки глав украшали затейливые гравюры. От книги исходил вкусный запах добротной лежалой бумаги и крепкого кожаного переплета.
«…И вот теперь этот страшный час наступил, а вы, без сомнения, те избранные воители, коим святой повелел открыть доверенное мне. Как только вы совершите все должные обряды над моим бренным телом, вскопайте землю под седьмым деревом слева от этого убогого жилища, и ваши страдания будут… О господи, прими мою душу!
С этими словами набожный отшельник испустил дух».
«Эх, Миша, Миша! Избранный воитель! — снисходительно почему-то думал Семен. — Как это ты так? Ведь говорил, говорил я тебе!» На самом деле он ничего дельного никогда не сказал Баталову, да тот никогда бы и не стал его слушать. Но сегодня хотелось считать именно так, приятно было сознавать, что именно им взята высота, в страшной бездне которой исчез недавно его кумир. Гордость не позволяла теперь принять даже баталовских увлечений; презрительно оттопырив губу, агент перевернул страницу.
«Три капли крови упали из носа статуи Альфонсо. Манфред побледнел, а княгиня упала на колени.
— Смотри! — вскричал монах. — Видишь ты это чудесное знамение, гласящее, что кровь Альфонсо никогда не смешается с кровью Манфреда?
— Высокочтимый супруг мой! — промолвила Ипполита. — Смиримся перед господом…»
«Что ж! Молодежь должна идти дальше старших, — продолжал свои умствования Кашин. — У нее всегда и кругозор шире, и подготовка лучше. А может быть, — он содрогнулся от мысли, — она и вообще… умнее?!»
Он даже закашлялся, захрипел, но в следующее мгновение эта мысль уже вошла в него убеждением: то, что приходило ему сегодня в голову, не могло быть ложным — ведь это придумал он, Семен Ильич Кашин, тот, в чьих руках почти находится теперь неуловимый Черкиз. Дыхание подпирало грудь от восхищения собой.
«… — Склонитесь перед Теодором, истинным наследником Альфонсо! — возгласил призрак и, произнося эти слова, сопровождаемые раскатом грома, стал величаво возноситься к небесам; покрывавшие их тучи раздвинулись, после чего видения сокрылись от взора смертных, утонув в сиянии славы…»
— Кашин! Кашин! Эй, Карабосса! — донесся из коридора чей-то голос. Дернули дверь, и кто-то снова закричал, удаляясь: — Эй, Кашин! Войнарский вызывает!
Семен закрыл книгу обратно в сейф, приосанился, причесался перед зеркальцем и, надменно вздернув подбородок, вступил в коридор.
Юрий Павлович был явно не в духе: сидел за столом, грыз пустой мундштук и строчил под копирку очередной приказ. Поздоровался и указал Семену на стул.
— Где ваша революционная дисциплина, товарищ агент? С утра вы разлагаете личный состав пустыми полумещанскими разговорами, потом я видел вас во дворе, там вы составляли компанию олигофрену и очевидному люмпену. А так ли хороши дела, товарищ?
Семен обалдел. Войнарский не целовал, не обнимал его, не производил срочно в Красные Герои угрозыска за необыкновенную оперативную сноровку…
«Да ведь он же еще ничего не знает!» — догадался Кашин, приподнялся от волнения со стула и начал сбивчиво рассказывать о необыкновенном своем успехе. Войнарский слушал его, не меняя брюзгливого выражения лица.
Семен закончил; скромно сложив губы сердечком, уставился в потолок. Теперь-то уж он ждал воздаяния. И правда, начальник губрозыска несколько смягчился. Могло показаться даже, что он хочет извиниться за излишнюю суровость; по крайней мере, некоторая внутренняя борьба на его лице отразилась. Но Семен плохо еще знал Войнарского. Быстренько покончив со своими переживаниями, Юрий Павлович жестко сказал:
— И все-таки не вижу причин для особого ликования. Когда массой овладевают демобилизационные настроения, знаете, что происходит?
— Вы, кажется, маленько спутались, товарищ начальник! — озлился вдруг Семен. — Я пока что не масса, а конкретная личность, всего лишь Кашин Семен Ильич, агент второго разряда.
— А я помню, — ответил Войнарский. — И хоть вы и сам Кашин, а настроение все-таки это… прекратите. В каком состоянии дело об убийстве Вохминой?
— Жду ответа на запрос.
— Возьмите! — Войнарский подал конверт. — Лежит уже второй день, могли бы поинтересоваться.
Агент дрожащими от обиды руками рванул из конверта бумаги. Начальник остановил его:
— Подожди. С этим сам разберешься. Сейчас займись другим. К трем часам представить мне план операции по взятию Черкиза. Состав опергруппы определишь сам. Справишься?
Кашин зарделся. Такими делами в губрозыске занимались лишь опытнейшие, крупные оперативники. Поручая ему составление плана, Войнарский как бы причислял его, Семена, к их лику.
— Та-ак… — задумался Юрий Павлович. — Все у меня к тебе, что ли? А, нет! — Он отодрал от копирки лист только что написанного приказа, отдал агенту. — Получи. Для порядка.
Приказ гласил:
«За нарушение революционной дисциплины, выразившееся, как-то:
§ 1. В отвлечении масс сотрудников от выполнения основных обязанностей по борьбе с преступным элементом и иными социальными аномалиями путем ведения досужих посторонних разговоров в период времени с 8.25 до 10.15;
§ 2. В поддержании не оправданных текущей оперативной обстановкой сношений с деклассированными элементами Пигиным и Бабиным с 10.15 до 10.40;
§ 3. В отсутствии на непосредственном рабочем месте с 10.40 до 11.25.
приказываю:агенту 2 разряда Кашину С. И. поставить на вид (устно)».
— Все грехи на меня взвалили, — угрюмо пробурчал Семен. — А Черкиза вам кто нашел?
— Не все, Сеня, — не отвечая на вопрос, сказал Войнарский. — Еще не все, — ласково добавил он. — Иди, работай, дорогой. И не пыжься раньше времени, Черкиз-то еще на воле ходит. Возьмем — похвалю, а теперь пока еще не за что. Теперь уразумей стратегию этого дела: Луня надо искать, вот что. Черкиз — не главная, в конечном счете, фигура. Если закоротиться только на нем, как бы через полгода не пришлось снова иметь дело с бандитским подпольем. Ладно, поглядим, что сегодня получится… Рано, рано еще, говорю, победу-то праздновать.
Семен, фыркнув, устремился из кабинета.
«Вот, — подумал Юрий Павлович, — и у этого начинается…»
Ему было жалко Кашина, и самому хотелось меньше всего предстать перед ним этаким жестоким, мелочным, сухим стариком. Но он чувствовал, что только так можно отрезвить, образумить агента. Может быть, это убережет его от представления о себе как о бездумном удачнике. Может быть, это убережет его от повторения баталовских ошибок…
Ничего. Злее будет.
За донесение из уезда Кашин принялся уже ближе к вечеру, когда план операции и состав опергруппы были согласованы и утверждены Войнарским. Оставалось еще три часа. Мысли отвлекались предстоящей опасностью, неизвестным; хотелось уже сейчас куда-то бежать, что-то делать, и содержание донесения показалось Кашину вязким и неконкретным.
«Губрозыск,ВойнарскомуУстановленными согласно Вашему запросу (прилагается, л. 1) разведданными выяснено:
Балуева Лизавета Андреевна, 1895 года рожд., уроженка д. Успенка, соц. происхождение — крестьянка, отец — крепкий середняк, по данным волячейки — беспартийная, по суду не привлекалась, компрматериалов нет. Проживала в д. Успенка с 1895 по 1924 гг. Вышла замуж в 1913 году за сына зажиточного крестьянина. Девичья фамилия Балуевой — Кичигина. В сентябре 1916 г. ее муж, Балуев Митрий Карпович, приезжал в отпуск с фронта в чине прапорщика. Весной 1918 г. он появился в деревне в форме колчаковского поручика, пробыл три дня и лично расстрелял двух сочувствующих Советской власти успенских жителей. Последнее время его пребывания в деревне — март — май 1922 г. Жил у жены на нелегальном положении. 6 мая 1922 г. Балуева Л. А. явилась в уездную ЧК и заявила о местопребывании мужа. По приговору Особой Коллегии Балуев М. К. был расстрелян 21 мая 1922 г.
Летом 1924 г. Балуева стала сожительствовать с приехавшим, на съемки помощником уездного землеустроителя Вохминым С. Ф., а в сентябре того же года, продав избу, выехала вместе с ним в неизвестном направлении. Переписки с односельчанами не ведет.
Ее сожитель, Вохмин С. Ф., 1870 года рожд., урож. Тульской губ., соц. происхождение — из мещан, б/п, совслужащий, проживал в уезде с сентября 1921 по сентябрь 1924 года. Жил на квартире. По суду не привлекался. Сведениями из прошлой жизни, компрматериалами по месту жительства и месту прежней службы не располагаем.
Субинспектор Начевный».
Заставить себя прочитать донесение еще раз Кашин так и не смог. Сунул его в сейф и снова отправился по кабинетам. Только на этот раз уже не кричал: «О Карабосса!» — а вел тихие и значительные разговоры с товарищами. Сейчас эти разговоры были ему тем более приятны, что ребята, догадываясь о его роли в предстоящем деле, относились к нему как никогда серьезно и уважительно. За час до выхода нервное возбуждение Семена достигло апогея. Чувства обострились, и, как это часто бывает даже с людьми очень сильной воли, малейшей детали, малейшему оттенку в голосе другого он придавал значение и воспринимал все только применительно к предстоящему событию. Так, совершенно неожиданно забежал начхоз, пожилой бурят Болдоев, и сообщил, что на склад поступили хромовые сапоги — давняя мечта Семена — и можно получить. Это был хороший знак. Еще Родька Штинов сообщил мимоходом, что кумышковарку Лизку Козу пьяную поймала на вокзале железнодорожная милиция во время хулиганских действий и теперь ей будет суд. Тоже неплохо — лишнее дело с плеч! Сам презирающий всех, дежурный Муравейко в этот раз поздоровался с Кашиным первый и дольше обычного жал руку. Знамения всё добрые, и настроение у Семена, когда он с группой оперативников во главе с Войнарским выходил из губрозыска, было приподнятым. У выхода, напротив дежурки, сидел и горестно, ища сочувствия, вглядывался в лица сотрудников Спиридон Вохмин. Он ходил сюда каждый вечер, как на службу, и его уже знали здесь. Но Семен не увидал его и пронесся мимо, не остановившись.
33
Что-то надломилось в артели после малаховской «свадьбы». Через день неожиданно угодил в кутузку за пьяное безобразие Фока Ескин по прозванию Худой Мужик. Он был низенький, сварливый, давно и безуспешно бегающий к знахаркам лечить дурную хворь. Во время работы, наклоняясь за камнями, он забавно совал головой вперед, словно подныривал. Постоянно сосал толстые губы — они еле угромождались под тоненьким, горбатым, клювиком сидящим на лице носиком — и отверзал их только для того, чтобы изрыгнуть очередную непристойность. «Тюня Страм» — это было еще одно прозвище Фоки, им наградил его Анкудиныч.
Отработавшись, артель отправилась искать его по питейным и милицейским местам. Нашли, уговорили отпустить на подписку: хрипели, стукали в грудь перед начальством, а когда, выручив Худого Мужика, отправились домой, заглянули, не сговариваясь, в трактир и там жестоко напились все. Началось с подначек, нервных, торопливых, а кончилось дикой дракой возле трактира — там бились насмерть, лицо в лицо, и ни у кого не было пощады друг к другу. Видно, не случаен был всплеск этой дикой ярости у людей, изможденных тяжкой, в наклон, работой в страшном зное, обрушившемся на город. А может быть, так раздражающе подействовал на них вид чужого счастья? Наверно, и так.
В больницу, однако, никто не попал. После драки обезумевшие артельщики, каждый сам по себе, разбежались по городу, но через час снова собрались у трактира, словно сговорились, и, матерясь угрюмо, потащили избитых товарищей в убогое свое жилище.
Туда прибрел следующим утром и Малахов, не нашедший артели на прежнем месте работы.
Сильно избиты были, лежали и не вставали только двое: Худой Мужик и Филька, самый молодой артельщик. Остальные ходили бочком, виновато, тихо опохмелялись и что-то бурчали по углам. Кузьма, Филькин отец, сидел возле него на табуретке и негромко подвывал: то ли пел, то ли плакал.
Иван Зонтов, конфузясь, перхая и сбиваясь, рассказал Малахову вчерашнюю историю. Тот поудивлялся и, отказавшись от предложенной водки, направился к Фильке. Парень потянулся к нему, пытался улыбнуться разбитыми в кровь, подернутыми коростой губами.
— Вот беда-то, Никола, — зашипел он. — Гли, как утартали, а ведь я только и делал, что разнимал их.
— Вот и получил! — буркнул Малахов. — Молодой, не знаешь, что в драке, как и в любом другом деле, самому злому и самому доброму одинаково достается: обоим на полную катушку.
Филька что-то заобъяснял, заторопился, но Николай не слушал, пробирался к двери, качая головой в висящем над потолком махорочном дыме.
Он пошел домой. Когда почти подходил уже к дому — вдруг выскочила из-за угла роскошная пролетка извозчика-лихача, свистнула мимо, ударила в плечо лакированным крылом и сшибла на мостовую. Правда, нельзя сказать, чтобы сильно расшибся… Но странно, странно начинался день — тревожно и опасно!
34
Милон:
- Зрю ль тебя, не зрю ли, равну грусть имею,
- Равное мучение терплю;
- Уж сказать и взором я тебе не смею,
- Ах! ни воздыханьем, как люблю.
- Все любовны знаки в сердце заключенны,
- Должно хлад являти и гореть:
- Мы с тобой, драгая! вечно разлученны;
- Мне тебя осталось только зреть.
Прелеста:
- Жизнь мою приятну пременил рок в злую,
- Сладость обращенна в горесть мне;
- Только ныне в мыслях я тебя целую,
- Говорю с тобою лишь во сне.
- Где любови нашей прежние успехи,
- Где они девалися, мой свет!
- О печально сердце! Где твои утехи!
- Все прошло, и уж надежды нет.
Слова хоть с трудом, но можно было разобрать: написаны они были карандашом, с бесчисленными ятями, внизу огромного листа бумаги, являвшего собой картину. Два бесформенных, расплывшихся аляповатых пятна — красное с голубым, а вверху, посередине — большие жирные точки: желтые, красные, зеленые.
От продолговатых пятен, обозначающих незадачливых любовников, отходили навстречу один другому пересекающиеся посередине линии — руки, что ли?
Николай и Маша старались не смотреть на Абдулку. Маша подошла, поцеловала в макушку: «Эх, мальчишечка, спасибо. Дай-ко я тебя подстригу». Рот Абдулкин дернулся, брызнули слезы. Он взвыл и, оттолкнув Машу, бросился вон из избы. Зацепился за порог, грохнулся в сенках, завыл еще громче и был втащен Малаховым обратно в горницу. Беспризорник всхлипывал и содрогался от ненависти, пока ко лбу его прикладывали пятаки, и бормотал:
— Сожгу, сожгу купчину, мироеда, сплутатора! Это он нарочно такие краски сунул.
— Ну и не рисовал бы ими! — успокаивала его Лебедяева. — Взял бы карандашики цветные — да и благословясь. Чем плохо? А то — купец, купец…
— Это она верно толкует! — поддакнул Николай. — Красками-то — это тебе, брат Абдул, не так просто! Любое ремесло так просто не постигнешь — учиться надо! Давай в школу ступай, а там вместе с иной наукой и рисование превзойдешь!
— Ну да, в школу! — жестко усмехнулся Абдулка. — Кто же меня кормить-то станет, интересно?
— А мы усыновим — верно, Маш? Пока своих ребят нету — живи с нами, а будут — не помешаешь, где один, там и двое. Или трое… а?
Маша вспыхнула, пожала неуверенно плечами:
— Мне-то что! Пускай живет сиротка.
— Сиро-отка! — передразнил мальчишка. — Да сами-то вы кто такие? Венчанные, что ли? Только сойтись успели.
Абдулка плюнул, сгреб брошенную на пол картину и понес из дома. Малахов поперхнулся квасом, задышал недобро, однако сдержался:
— Ты подожди, постой. Зачем рисовал-то?
— Так… Вам хотел подарить вообще-то…
— М-да… Это конечно… Сам все придумал или срисовал?
— Сам… срисовал! — Беспризорник выскочил из избы и, вернувшись через минуту, протянул сверток. — Вот, смотри.
Это была олеография на манер старинного лубка — добротная, на глянцевой бумаге, с отливающими атласом красками. Милон был в голубом кафтане, розовых чулках, в розовом же парике; привстав на цыпочки, тянулся он к пышной Прелесте. У нее платье красное с зеленым атласным лифом, как у карточной дамы, огромные букли, на щеках тщательно выписанные румянцы, словно два больших яблока. Она горестно морщила алый рот и тоже, встав на цыпочки, протягивала руки Милону. Вверху картины, посередине, некто розовый, похожий на поросенка, кидал в них цветы. Стихи, старательно переписанные Абдул кой, помещались внизу. Картинка, подаренная Женькой Войнарским.
— Эхх… — вздохнул наконец Малахов. — Вот оно, мать моя, как в жизни-то бывает. Где, говорит, любови нашей прежние успехи.
…Вернувшись утром домой с раскарябанным пролеткой плечом, Малахов был угрюм и подавлен. Маша виновато; приниженно крутилась вокруг него, пыталась ставить примочки к разбитой коже. Он отодвигался, косился, и она старалась касаться его реже и ласковей, чтобы не спугнуть. И у нее болела душа, да разве все ему скажешь? Нет на свете мужчины, который бы понял пóзднее, под утро, возвращение близкой ему женщины.
Что было делать? Малахов попытался сжаться, сделать вид, что ничего не произошло. Разумеется, это его желание не было, да и не могло быть искренним, ибо за ним подразумевается равнодушие, а равнодушным он не был. И ненависть, и любовь трясли его попеременно, как озноб. И он, свинцово ворочаясь по горнице, еле мог разжать губы, чтобы вести необязательные речи.
Мельтешился, хлопотал о своем мальчишка, подобранный на улице. Но и это мельтешение не вносило в день покоя и семейности. С ним старались быть прежними, чересчур, насильно давили из себя доброту — и даже доброта эта была бесполезной, необязательной. А он, единственный среди них, открыто печалился своими горестями, но, боже, как же он был счастлив ими!
К середине дня залетали по стенам солнечные зайчики, разорвалась в погребе бутылка с шипучей наливкой, заперекликались под окнами крикливые, веселые голоса, и тогда Малахову на мгновение показалось, что жизнь еще может пойти по-старому — это когда дружно, тихо и счастливо живут в доме три человека и, словно икона, реет над их головами аляповатая атласная олеография с Милоном и Прелестой. Но только мгновение такое мелькнуло, а дальше снова покатилось все в пропасть и тьму, потому что пуще прежнего обострилось чутье, и удалось заметить и Машину нервность, ц торопливость ее движений; тогда он понял, что сегодня вечером она опять уйдет. А потом он уже знал, что будет с ним, и на этом успокоился. Конечно, пока она дома, никак нельзя выскочить, громыхнуть дверью — он был нужен ей, покуда не пришло ее время снова исчезнуть, раствориться, ибо и так уже было ясно, что в тяжелом мраке блуждает и ее душа. Однако пусть идет время; скоро будет надето платье, цветастое и нарядное, туфли на высоком каблуке. Но зато уж после ее ухода он не останется здесь больше ни на минуту.
35
И вот она ушла. Когда стояла на пороге, Николай спросил безнадежно:
— Где хоть бываешь?
— В «Медведе». Знаешь, ресторан такой, с чучелом? — просто сказала Маша.
Он усмехнулся:
— Весело живешь, хорошо…
Она не ответила, только рука дрожала, когда подгребала ридикюльчик со стула.
Сразу после ее ухода Малахов встал и начал одеваться. Заглянул Абдулка:
— Ты куда?
Николай махнул рукой:
— Не мешай!
Одевшись, нашел огрызок бумаги, карандаш и написал:
«Маша радость моя я убил человека но ничем не виноватый спроси парнишку в случае чего он раскажет если меня посадят я пошол в угол. розыск подам заявленье а там хоть пусть стреляют или смывают пятно с моей красноармейской а теперь пролетарской совести. Если посадят жди верно коли сможешь а мне другой дороги кроме как к тибе нету парнишку не бросай жолоб вернусь доделаю сахар в квас бросил примус купи обезательно а суп я вынес в сенки чтобы не прокис. Маша дарагая спомни кино тайны Парижа очень сильная кинодрама и у нас жизнь такая же полна страдания а потом будет полное царство счастья.
С горячим приветом к тибе неноглядная Николай Малахов».
36
Поздним утром того же дня в небольшом окраинном домике с палисадником в кудрявых рябинках проснулось еще одно действующее лицо нашего повествования: Черкиз для одних, глава громил и бандитов; и Александр Александрович Мартынов для других — человек милейший и обаятельный, даже немного поэт.
Комната, которую он снимал у хозяина под видом разъездного торгового агента, имела вид девичьей — так в ней было чисто, светло и уютно, хоть и не весьма просторно. Две гравюрки на стене, и притом весьма недурные; еще одна рамка: пожилая, усталая, красивая дама в тяжелой пелерине. Небольшая полочка с книжками, поэзией преимущественно: Лермонтов, Апухтин, Тютчев, Веневитинов. На спальном столике, обложкой вверх, для любопытных глаз хозяина ли, другого ли постороннего человека — пухлый «Капитал». Роскошный трельяж с баночками и кремами, и среди них на подставке — фото заседланного красавца-иноходца. Еще лошади по стенам: здесь, там… Умные глаза, крутые бока, лоснящиеся крупы. Ни малейшего признака беспорядка, конечно. Пилочка для ногтей — в специальном бокальчике, для того предназначенном; обувная ложка с витым шнурком — на крючке у дверей, и горе тому, кто положит ее в иное место. Вчера, например, был нервический припадок после того, как приходил вечером некто неясный с долгожданной вестью. Заметался по своей ухоженной квартирке Александр Александрович, разыскивая заветную тетрадочку с мыслями, изречениями и стихами собственного сочинения. Не найдя на привычном месте, упал в креслице, бахнул о его ручку дорогую пепельницу — и вот, испортил вещь. Тетрадочку после, спокойно подумав, нашел, естественно, и тогда так стало жалко пепельницы — хоть плачь.
Итак, Александр Александрович Мартынов проснулся.
Будто щелкнула в мозгу тонкая пружинка: тинк!
Легко спрыгнул с кровати, побежал к умывальнику во дворе, фыркал и плескался под ним. Еще в юнкерском, памятной и милой Александровке, прекрасен был момент пробуждения: вставай, вставай! — поет труба; тугим луком сгибается тело, сбрасывая одеяло. Впереди день — твой день!
По сути, мы ничего почти не знаем пока об этом человеке. Потому обозначим кратко вехи, хоть бы до переворота: пухлый приготовишка с ранцем, спешащий на урок, путаясь в полах длинной шинели; гимназист выпускного класса, прячущийся в театре от вездесущего инспектора; юнкер, целующий гимназисток на уютных сокольнических дачках; бравый офицер — подпоручик, затем поручик…
Не подоспей революция, перечень этих вех можно было бы продолжить без особого труда: служба давалась Мартынову легко, прошло время — стал бы он и превосходительным, а может быть, и высокопревосходительным, носил бы шинель на красном подкладе, вышел в отставку с большим пенсионом и гулял бы с внуками по тем дачкам — седой благородный генерал.
А его вместо этого занесло черт-те куда, подумать невозможно — в бандиты!
Ударит час, обрушатся расписанные надолго и накрепко судьбы, и кидает людей той порой пригоршнями, россыпью в белый свет, как в копеечку! А дальше мучило, трясло, перевертывало на ухабах — и вот, довертело… Но дело не в этом. Почему же путь, презираемый обычно просвещенными людьми, достался именно ему, Александру Мартынову?
По части денег, отметим это сразу, он всю жизнь был довольно равнодушен. Хватало бы на еду, одежду, маленькие бытовые мелочи. Не замечалось в нем и особенного честолюбия, в отношениях с товарищами и подчиненными по службе он держался ровно и доброжелательно, твердо усвоенный устав офицерской чести выполнял свято, хоть и не всегда это было ему выгодно.
Единственно, чего всю жизнь не хватало нынешнему Черкизу и к чему он всю жизнь стремился, была любовь. Он ждал и искал ее со стороны самых разных людей. Ни солдат, ни партнер по игре, ни последний извозчик не могли избежать чар, направленных на них жаждущим любви целого света Александром Мартыновым. Найти для каждого необходимое тому слово, интонацию, затронуть точно и больно поющий нерв, который отзовется сразу и благодарно на опытную в добывании любви к себе душу, — о, это была целая наука! Иногда это удавалось ему, иногда нет, но в любом случае он рассматривал удачу или неудачу как вопрос тактики и тогда подробно анализировал взгляды, слова, вздохи и касания. Бывали удачи, бывали. По крайней мере, те двое, что нам известны — Маша Лебедяева и баянист Витенька Гольянцев, — в большой степени испытали силу мартыновского обаяния и поддались ему, несомненно. Однако любовь их к нему, как известно, тоже имела свои границы. Полную же любовь к себе, самозабвенную и истинную — так ему казалось, — он испытал именно в мире, где господствовало звонкое и хлесткое имя — Черкиз! Любовь, вера, безусловная и слепая, со стороны людей самого различного происхождения и умственного уровня — от бродяг и микроцефалов до бывших студентов, офицеров и дьяконов. И всеми ими управлял он — сильный, умный, когда надо, безжалостный, порою ласковый и доверительный, — применяя ту же науку достижения любви. Только что выбор средств здесь был, соответственно, более широк: в него входило не только размягчение души испытуемого, но в ряде случаев и просто примитив, как-то «удар-скуловорот» да и кое-что посильнее, что позволяло ему возвышаться в своих мечтах до настоящего «рыцаря плаща и кинжала».
Когда-то заброшенный в этот город в поисках тайной белогвардейской явки, нашедший ее разгромленной и едва сам не угодивший в руки ЧК, он попал в шайку совсем случайно. Однако мысль о побеге ушла как-то разом, едва он понял, что только здесь возможна для него настоящая жизнь — обожаемого владыки. С этого началось его новое бытие: справиться с тогдашними главарями орудовавших в городе шаек и объединить их под своим руководством он сумел без особого труда. Явку, к которой он стремился несколько лет назад, Черкиз все-таки нашел, хоть и не в том лице, какое предполагалось. Новый союзник держал Мартынова на расстоянии: «Извольте же слушать столбового дворянина и старшего по чину, поручик!» И Мартынов слушался, выполнял все приказы, твердо памятуя, однако, о том, что Лунь признавать не хотел, совсем упускал из виду: он, конечно, голова и личность в этом смысле замечательная для дела, ну, а если глянуть по-другому? Пожилой человек, немощный именно тем, что сила реальная — не у него, нет… Недавнюю операцию по взятию сберкассы оба положили считать последней: стало опасно, недавно угрозыск совсем сел на хвост, пришлось убирать одного… Хотя и с этим получилась неувязка: Федьку утром нашли убитым, а посланный с ним новенький вообще куда-то исчез. Ладно, теперь осталось уже совсем недолго… Формально, как Черкиз объявил своим, дележка — «тырбанка» — откладывалась до прибытия посредников, должных обменить ассигнации на золото; но были куплены уже два билета: без всякого дележа Черкиз и Лунь уезжали на Восток, к маньчжурской границе, и вот там-то Александром Александровичем Мартыновым запланирован был последний выстрел…
До вчерашнего вечера предстоящее тяжелым грузом висло на сердце, однако весточка, что принес некто неясный, наполнила радостью безмерной, и радость глушила тревогу. Пришла в ресторан, звала к себе, давала знак женщина — сладкая, далекая, недоступная доселе! Четыре года копил он этот миг, готовил, лелеял — и вот, и вот, когда уже совсем было потерялась надежда на успех, она зовет его. Значит, отказалась-таки от своего чумазого, поняла, радость, его, Сашичкино, предупреждение. Это при нем-то, живом, невредимом, попробовать добровольно от него отказаться — ах уж, нет! И меры, в ином случае, были бы приняты незамедлительно, будьте уверены. Но — поняла, все поняла, милая… Еще одна гордость питала Мартынова все эти годы: он ни разу не усомнился в том, что вынес из всех своих жизненных перипетий душу чистую, нежную и способную к высоким устремлениям. Не было лишь — и это было его печалью — человека, который оценил бы его. И вот теперь зов женщины он воспринимал не только как залог правоты своей жизненной линии, но и как закономерное обретение такого человека. И где-то уже брезжилось этакое неясное, мерцающее такое, вроде совместного житья в Квантуне… а, дьявол!
Сегодня вечер — его вечер!
Сегодня ночь — его ночь!
О Кармен!
Кстати, надо будет сказать ресторанщикам, чтобы подтянули у пианино «до» во второй октаве, — в конце концов, это становится уже неприличным, господа!
37
* * *Состоялся суд над Козловым Петром Егоровичем, членом ВКП(б), 35 лет, кавалером ордена «Красное Знамя», по обвинению в провокационной деятельности в период 1910–1912 гг. Козлов признал себя виновным. Бывший провокатор приговорен к высшей мере социальной защиты, но по давности совершенных преступлений, молодости в то время обвиняемого расстрел заменен 6 годами лишения свободы со строгой изоляцией. Приняв во внимание боевые заслуги Козлова на гражданских фронтах, срок наказания сокращен наполовину и без строгой изоляции. Кроме того, Козлов лишен «Красного Знамени».
Выйдя к центру, Малахов остановил прохожего милиционера и спросил адрес губрозыска. Направился туда, не глядя по сторонам, часто обтирая обильно выступающий пот. Он все решил для себя. Голова была пустой и тяжелой, и тяжел был его медленный шаг. Подошел к двери с вывеской, постоял немного и, судорожно уцепившись, рванул на себя большую ребристую ручку. Дверь отворилась с лязгом, втянула Николая в прохладное помещение и выбросила на ступеньки идущей вниз лестницы. Напротив ступенек зияло окно, там громоздился дежурный. К нему все время заходили люди, нервно разговаривали, смеялись, выходили обратно — и, мимо Малахова, — вверх, на улицу.
Николай подошел к окошку. Тихо, склонясь к голове дежурного (тот брезгливо откачнулся), просипел:
— Слышь, товарищ, мне бы это…
— Чего?! — крикнул дежурный.
— Как и сказать-то, не знаю…
— Псс… Ну, сядь тогда и сиди! Не зна-аю… Я знаю, да? Ладно, разберемся, некогда сейчас, не до тебя, видишь. Отойди пока, не мешай!
Малахов сел на один из стульев, сколоченных между собой, — к сиденьям их аккуратно привинчены были жетончики с инвентарными номерами. Глянул по сторонам. Кроме него, возле дежурки сидел еще один посетитель: пожилой, скорее даже старичок — седоватый, с пробором посередине лысеющей головы; лицо гладко выбрито. Тусклый взгляд, скорбно подергивающийся рот. Он оживился, когда вошел Малахов: внимательно оглядел его, отвернулся и снова уставился в одну точку. Николаю показалось, что где-то уже приходилось видеть этого человека, но за сегодняшними заботами некогда было напрягать память, и он не стал этим заниматься.
Оперативник привел пьяного одноногого нищего. Старичка позвали понятым, подписать протокол личного обыска — видно, он был здесь известен, это Малахов уловил по вежливым и осторожным фразам дежурного. Нищий гугнил и настукивал деревяшкой, пытаясь приплясывать. Расписавшись, старик сел на прежнее место и снова застыл.
Казалось, вечность прошла. Малахов хотел уже снова встать и подойти к дежурному, как вдруг загрохотали сапоги по лестнице со второго этажа, кинулся к окну мужчина в кожанке с монгольским разрезом глаз на желтом квадратном лице, спросил:
— Слушай, ты не знаешь, где Динмухаметов?
— Будто не знаешь, Болдоев! — важно ответил дежурный. — В «Медведе», там сегодня славное будет дело, Войнарский всех туда занарядил, сам оружие проверял!
Желтолицый сунулся в окошко, зашипел:
— Чего орешь, дурак? Обязательно надо орать… — и ушел, шаркая подошвами.
Николай поднялся и двинулся к выходу.
«В „Медведе“ — знаешь, ресторан такой, с чучелами?» — так сказала Маша.
«В „Медведе“… славное будет дело… сам оружие проверял!» — так сказал дежурный.
Только бы, только бы успеть, уберечь ее от губительного огня…
Внизу, за толстой стеклянной дверью ресторана, скучал швейцар: сидел, позевывая, разглядывая носки начищенных до атласного блеска ботинок. Увидав Николая, обрадовался:
— Нельзя, нельзя! Ходи обратно.
Малахов хотел отодвинуть его плечом и пройти, но швейцар оказался мужиком крепким: уцепился за рукав и тянул к двери, нашептывая:
— Ходи, ходи обратно, молодец!
— Пусти, говорю, дядя, ты что, пьяный, что ли?
— Неправдычка, неправдычка! — словоохотливо заболботал швейцар. — Мы оченно даже трезвые-с, а таких, как ты, пускать не велено, здесь заведение порядочное — вот так! В такой одеже не положено пущать.
Николай оглядел себя: сатиновая косоворотка, мешковатый грязный пиджак, на ногах — армейские застиранные галифе, стоптанные сапоги. Н-да, конечно… Он сделал все-таки шаг к швейцару:
— Слышь-ка, дяденька…
— А я говорю — в трактир, в трактир иди! — снова потянулся к нему швейцар, хотел еще что-то добавить, но не успел: сверху, из зала, сквозь грохот музыки, донесся выстрел. Тотчас оркестр смолк; тишина же через мгновение взорвалась визгом и криками. Малахов кинулся было вверх по лестнице, но отброшен был катящимся сверху валом народа. Впереди, отшвыривая догонявших и наседавших сзади людей, бежал худощавый длинноволосый мужчина, породистый, тонколицый. Глаза у него были белые, рот перекошен в яростном крике. Добежать до двери он не успел: сзади уже заворачивали руки. Он с трудом протащился через отделяющее его от двери пространство, навалился на дверное стекло ослепительно белой манишкой, ударился в него лбом. Голова откинулась — он вдруг подпрыгнул, и, судорожно изогнувшись, тело обрушилось на пол.
Нападавшие, видно, растерялись — некоторое время стояли молча, поглядывая то на тело, то на окружившую их притихшую толпу. Вдруг сквозь нее протиснулся высокий человек в пенсне. Он подошел к лежащему, перевернул его на спину, расстегнул пиджак — безобразное коричневое пятно расплылось на груди слева. Войнарский выпрямился, сказал глухо:
— А ведь он убит. Стреляли с улицы. Чего же вы стоите?
Оперативники отнесли убитого в сторону и выскользнули за дверь.
— Всем разойтись! — крикнул начальник губрозыска. — Задержанных уведите!
Толпа мгновенно рассосалась: кто бросился обратно — доедать и допивать, обсуждать случившееся, кто — домой, перепуганный. Малахов, притиснутый в самый угол, перевел наконец дух. Он подошел к распростертому напротив вшитых в стену зеркал человеку и неожиданно замер, оглянувшись на лестницу: по ней спускалась Маша. Неверными шагами, пошатываясь, она подошла к, скалящемуся отвисшей челюстью — тому, кто еще только что был Черкизом, — и, опустившись на колени, закрыла ему глаза.
38
ОТЧИТЫВАЮТСЯ СОВОРГАНЫКумышковарение и хулиганство, поножовщина пустили глубокие корни в деревне. Соворганам пришлось проводить две кампании — одну по борьбе с кумышковарением, другую — по борьбе с хулиганством.
Известные результаты достигнуты. Итоги кампании по борьбе с кумышковарением таковы: 2486 переданных в нарсуды дел и в качестве трофеев — 1705 аппаратов и 470 отобранных ведер кумышки.
В общем, репрессивные меры приняты еще с зимы, суровая кара самогонщикам значительно подрезала крылышки развивающейся самогонной индустрии.
Уголовный розыск работает весьма продуктивно. За этот год задержано рецидивистов до 95 чел., совершивших преступление в первый раз — до 835 чел. Ликвидирован ряд крупных банд и шаек, главари их задержаны или убиты при задержании. Пойманы такие крупные преступники, как чета Пермяковых.
* * *Почему это жены милиционеров, работающие на погрузке пиломатериалов в баржи, во время погрузки одеты в форменную одежду милиционеров?
Разве эта прозодежда дается их мужьям для того, чтобы рвать ее на погрузке?
Форма милиционеров не может заменять спецодежду.
Рачье Ухо
— Это называется — ситуация по Гюго. Это называется — ситуация буквально по Гюго.
Так Войнарский открыл совещание. Начало ему понравилось; он бросил внимательный взгляд на присутствующих: кто как реагирует? — и продолжил:
— Ребята вы хваткие, молодцы, нечего сказать. Как вы его настигли… А вот взять-то и не сумели. Помните, у Гюго — матрос ловил пушку на корабле? Сначала сплоховал, не закрепил как следует, а в бурю она сорвалась, ну и… Поймал он ее; за это ему — орден, а за оплошность — расстрел, и за борт! У нас, правда, подучилось наоборот: сперва поймали, потом упустили. Кого же награждать, кого наказывать? — Добавил, помолчав — В первую очередь, себя, конечно…
— Может, замнем это дело для ясности? — осмелев, подал голос из центра первого ряда Семен Кашин.
— Ты-то что! С тобой как раз все ясно. Ладно, если уж хочешь, с тебя и начнем. — Голос Войнарского сделался торжественным и официальным: — Товарищи! За образцовое выполнение важного оперативного задания по поимке уголовного бандита Черкиза агент второго разряда Кашин Семен Ильич награждается бостоновым костюмом коричневого цвета, двубортным. Болдоев, вноси!
Начхоз выскочил из кабинета, через мгновение явился обратно. Вошел тихо, почти на цыпочках, хитро и маслянисто выглядывая из-за покачивающегося впереди, вознесенного на уровень плеч подарка. Войнарский бережно принял костюм из его рук, обдул легонько и стал пальцем подзывать Кашина, повторяя почему-то шепотом:
— Иди, иди сюда.
Тот поднялся и заежился под взглядами, зароптал:
— Не надо мне никаких костюмов. Тоже, нашли нищего. Благодарствую, конечно…
Болдоев ухватил его сухой жилистой ручкой, потянул вперед:
— Иди, говорю! Самы луччи… сам Палыч выбирал. Иди!
Прежде чем вручить подарок, Войнарский примерил его сзади, по плечам, и удовлетворенно крякнул:
— Как раз!
Агент совсем растерялся. Совал ладонь куда-то мимо руки Войнарского, хотел было еще что-то сказать, но вместо этого глупо, по-детски, хихикнул. Войнарский махнул рукой, толкнул его в спину, и Семен поплелся на свое место. Оперативники били в ладоши, взрыдывая от смеха. Войнарский, тоже вдоволь насмеявшись и накашлявшись, прервал эту бурю восторга:
— Отставить, отставить веселье! Штинов, я кому сказал! Ох, заплачешь ты у меня сегодня, чувствую.
Все сразу угомонились и притихли.
— Теперь будет грустно, ребята, — сказал начальник губрозыска. — Первое: мы так и не нашли сберкассовских денег. Второе: знаем о некоем Луне, истинном главаре, идеологе и организаторе всего бандитского подполья. Но ни один из взятых нами приближенных Черкиза в лицо Луня не знает. Похоже, на связи с ним был только один Черкиз. А коли мы до него не добрались, может статься так, что через полгода-год появится новый Черкиз со присными… Все-таки никак не могу понять, — продолжал он, — почему никого из наших не было возле входа со стороны улицы? Ведь Мартынова убили именно оттуда. Кто-то из вас мог, наверное, догадаться, разве ж я могу все предусмотреть? Эх, вы… Ну, дальше. Об операции знали только вы. Кто еще и как мог узнать о ней? Причем узнали, видимо, в самый последний момент, ибо работали очень рискованно. Сидите и думайте, это вам уже не шуточки.
Хлопнул стул — поднялся Болдоев. После вручения Кашину подарка он постеснялся уйти — пробрался в угол и там сел, уперев локти в ладони, низко опустив коротко стриженную голову — будто задремал. Теперь он встал, прижал правой ладонью к боку левую руку и заговорил. Когда-то, когда Болдоев работал еще оперативником, эту руку ему прострелили, пуля задела главный нерв, и стоило начхозу заволноваться, рука начинала болеть, его корежило и трясло.
— Можете так не смотреть, — дернул головой бурят, уловив тяжелый взгляд Войнарского. — Я никому ничего не говорил. Но вчера в моем присутствии и в присутствии еще троих граждан дежурный по губрозыску Муравейко на мой вопрос, где находится Динмухаметов, сказал, что в ресторане «Медведь» проводит важную операцию. Я сам не ходил в ресторан — был здесь, в резерве. Случилось это в двадцать десять, за полчаса до начала операции. Теперь так: кто эти граждане? Известный нищий и бродяга Бабин. Старик — по-моему, потерпевший по делу, что находится у Кашина. Третьего я не знаю, но могу дать приметы и опознать. Разговаривали они между собой или нет, я точно не помню; кажется, что нет. После разговора с Муравейко я поднялся наверх, а когда через пятнадцать минут спустился обратно, всех троих уже не было в помещении. Вот, все.
В медленных житейских разговорах Болдоев говорил с сильным акцентом, путал и врал слова, но при докладах акцент почти исчезал, язык становился краток и емок.
— Та-ак!.. — Войнарский почесал подбородок. — Уже интересно, уже кое-что. Что ж, за неимением лучших, станем отрабатывать этот вариант. Болдоев! Садись за стол, пиши рапорт о вчерашнем и словесный портрет того, третьего. Все расходитесь! Через час зайти в канцелярию, списать приметы разыскиваемого. И — будем искать. Руководить буду сам. Отработкой Вохмина займется Кашин, ему это проще, Бабина… ты, Динмухаметов, его тогда задерживал, ты и отрабатывай. Сделаете по ним установки и вечером доложите. Все! Сейчас я иду в губпрокуратуру, вернусь в шесть, не раньше, так что у кого срочные дела — подходите.
— Насчет сберкассовских денег интерес имеется! — выкрикнул кто-то запоздало.
— Один из задержанных, некто Фингал, знает посредника Мартынова по обмену ассигнаций на ценности — это железнодорожник, тормозной кондуктор Осипов, он сейчас в рейсе. По нему тоже работают, уже со вчерашнего вечера, и должны встретить. Все теперь? Болдоев! Портрет сдашь на машинку, рапорт положишь на мой стол, и сразу — на дом к Муравейко. Пока — домашний арест. Оружие изъять! Комсомольское собрание на сколько назначили?
— На шесть!
— Постараюсь быть!
39
КОМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА?В нарсуде 5 участка слушалось дело по иску гр-на Яновского к гр-ке Третьяковой о возвращении сына.
Истец доказывает, что сын ни в коем случае не может находиться на воспитании у Третьяковой. У нее совсем не пролетарская идеология, она находится целиком под влиянием своих родственников, которые в большинстве своем люди старого закала.
Третьякова же ссылается на плохой характер отца, на то, что ему нельзя отдавать ребенка, что его иск — лишь месть с его стороны.
Решение суда такое.
У Яновского имеется порядочно заслуг перед революцией (он красный командир и т. д.). Сама Третьякова непролетарского происхождения, и ее взгляды на жизнь могут помешать воспитанию ребенка.
Поэтому суд обязал Третьякову передать сына (шести месяцев) его отцу, когда ребенок достигнет полуторалетнего возраста. До этого срока ребенок останется у Третьяковой, так как обстановка, в которой он будет жить до 1½ лет, не отразится на его психологии.
ШЕФ, ПОМОГИ!Каждую зиму в школе № 5 холод, грязь.
— Обогрейте нас, — просят дети.
Теперь осень, и зима уже не за горами, а в школе опять нет ни полена.
Кирпичный завод! Ты, кажется, шеф этой школы?
Дай ей дрова.
Костюм Семен Кашин сразу отнес домой. Он вообще попросил себе отгул на этот день и получил его без разговоров. Дома он надел и пиджак, и брюки со свежей рубашкой, долго красовался перед зеркалом и даже, осмелев, решился пройтись в таком виде по двору и посидеть на скамейке под липами. Одно его мучило: пиджак у него, хоть и худенький, все же был, а зимнее пальто у Надьки, у сестры, стало совсем ветхим, да она из него и выросла. Поэтому он решил брюки от костюма оставить, а пиджак продать и купить пальтишко. Надьке много еще предстояло покупать: все старье на ней трещало по швам, становилось коротким и узким.
Сестре нынешней весной стукнуло двенадцать. Каждый год она уезжала на лето в деревню к тете Шуре, сестре матери. Семья у тетки была зажиточная, девочку они брали охотно, но и работала она наравне с их родными детьми. Возвращалась Надька окрепшая, разговаривала по-деревенски, учила девчонок во дворе петь частушки.
Сегодня она приезжала, и ее еще предстояло встретить. Переодевшись в свою обычную одежду, Семен отправился на вокзал. Там он купил газетку, прошел на перрон и уселся на лавочку ждать поезда, Настроение у него было хорошее. Воспоминание о полученной из рук Войнарского награде грело его сердце. Однако скоро ему стало скучно, и он подумал, что неплохо бы встретить сейчас знакомого и поговорить с ним о чем-нибудь интересном.
Вдруг за спиной его послышалось легкое шевеление, и, не успел он оглянуться, в затылок ему уперлось что-то твердое, и голос сказал негромко:
— Сидеть! Тихо!
Семен оцепенел. Но уже в следующий момент он молниеносным приемом ринулся, сгруппировавшись, вниз и в сторону, свалил противника и сел ему на спину. Возможно, этот блестящий прием и не удался бы Кашину, если бы на него напал настоящий враг. Но сейчас в железных кашинских объятиях тяжко кряхтел не кто иной, как друг, сослуживец и комсомольский вожак Степка Казначеев. К ним уже бежали железнодорожные милиционеры и, оказавшись на месте схватки, тоже стали заламывать за спину Степкины руки. Семен не мешал им. И только когда Казначеев взмолился:
— Ну, кончай, Кашин, это же шутка была, непонятно, что ли? — Семен предъявил милиционерам удостоверение и сказал:
— Спасибо, товарищи, за помощь. Это опасный тип. Теперь я сам им займусь.
Когда они остались одни, Степка, потирая сцарапанный нос, сказал смущенно:
— Опять ты меня обдурил. Но если бы на самом деле — никуда бы ты, брат, не делся!
— А ты что — опять за мной шпионишь? — обозлился Семен. — Сейчас-то тебе что от меня надо? Опять задание получил?
— Получил, — согласился друг. — Только совсем не то, какое ты думаешь. Жду тормозного кондуктора Осипова. Слыхал о нем?
Кашин кивнул.
— Мы здесь втроем дежурим, — продолжал Казначеев. — Только ребят я в буфет отпустил, чаю попить. Сам вышел прогуляться, гляжу — ты сидишь. Хорошо, что ребят со мной не было, а то увидели бы они, как ты меня терзаешь, — позору-то… Но ты ведь никому не скажешь, а, Сень? — Он просительно заглянул в кашинские глаза.
— Ладно, живи, — великодушно разрешил тот.
— Что, думаю, он здесь делает? Его зря Войнарский не пошлет. Может, ты нас проверяешь?
— Да никого я не проверяю. Сестренка должна из деревни приехать, вот и сижу, жду.
— Ну-ну! — недоверчиво усмехнулся Казначеев. — Давай заливай! Сестренку он встречает… Ладно, я понимаю, что у вас с Юрием Палычем свои секреты завелись, не для таких любопытных.
— Да ты чего, Степ? Какие секреты? Все, как было, так и осталось.
Степа понимающе прикрыл глаза, кивнул: «Рассказывай, рассказывай! Знаем мы…»
Кашину стал неприятен этот разговор, и, чтобы прекратить его, он спросил:
— Слушай, Степа, ты такую Симу Караваеву не знаешь?
— Караваеву, Караваеву… — Казначеев закатил глаза, пощелкал языком. — А! На конфетной фабрике работает?!
— Все-то ты знаешь.
— А мы три месяца назад ихнюю ячейку проверяли. Я в комиссии был. Обуржуазились девчата. В чулках шелковых ходят. Помню я эту Симу. Тоже курочка… Она что, нравится тебе?
— Как сказать…
— Нравится, значит. Постой! А ты помнишь Володьку Дядьева? В реальном на класс старше нас учился. Верзила такой стал. Он теперь в политехникуме учится. Так вот — я их позавчера вместе видел.
Слова эти поразили Семена в самое сердце.
— Ты не ошибся? — схватил он Степку за локоть. — Это точно они были?
— Какие, к черту, ошибки? — обиделся тот. — Чай, не темно еще было.
— А может, это они просто так, — цеплялся за соломинку Кашин. — Ну, встретились, погуляли, мало ли…
— Так я разве что! Может, так оно и было. Иду, смотрю — гуляют. Под ручку, правда.
Этими словами, сколь бы правдивыми, искренними и доброжелательными они ни были, Степа отплатил Семену за все сегодняшние унижения. Кашин сразу сник, сел на лавочку и пробормотал:
— Ну что, ну что она в нем нашла!
— Выходит, нашла! — подливал друг масло в огонь. — Он ведь не только студент, он еще и поэт, в литкружок при газете ходит, голубую блузу носит. Не то что мы — оперá зачуханные. Да шучу, шучу, не дергайся. Ну, случилось такое — ну и что теперь, стреляться, что ли? Забудь ты ее, мещанку.
«Легко тебе сказать», — думал Кашин. Но и Степа, глядя на его лицо, тоже расстроился. Умолчать, не рассказать про Симочку и Дядьева, уж коли зашел разговор, он не мог, потому что всегда говорил прямо в глаза все, что думал и знал. Оставалось только сочувствовать.
— Да не переживай, — сказал Степа Кашину. — А то я сейчас тоже рассоплюсь, а мне этого сегодня нельзя. Мне еще тормозного кондуктора надо дождаться, а вечером собрание проводить. Что же с этим Тимкой Кипиным делать, вот ума не приложу…
— Ты же тогда твердил мне: дезертир Тимка, дезертир трудового фронта! Вот и поступай соответственно.
— Но ведь сам-то ты по-другому думал!
— А, ладно! — Злому на весь свет Семену было не до Кипина. — Вон мой поезд идет.
— Так ты правда, что ли, сестру встречаешь? — заморгал глазами Степка.
— А ты думал — шпиона, что ли? Эх вы, опер Казначеев… Ну, пока!
— На собрание-то придешь?
— Приду.
Подошел, с лязгом и скрежетом остановился поезд. Семен пошел вдоль вагонов, высматривая Надьку. Он знал, что сестра страшно любит прятаться и потом с визгом вылетать из неожиданных мест, и поэтому часто оглядывался. Но все-таки прокараулил: она наскочила сзади, обхватила и завопила на весь перрон:
— Ага-а! Попался! Пошто вчера кусался?
А когда он повернулся, она уже стояла, смирная, склонив набок голову, и глядела на него.
— Ну, здравствуй, путешественница! — Как он ни был с ней строг, а все же не мог удержаться: обнял ее. — Что ж ты нынче так рано приехала?
— Я, Сеничка, очень по тебе наскучалася, — как-то очень уж преданно смотря ему в глаза, ответила сестра. — Да и надоел мне этот ихний сенокос. Все мои ноженьки, все рученьки я на ём исколола.
— Так вот почему ты удрала! Хитрюга! С этого и начинала бы. И картошки свежей не попробовала?
— Попробовала, Сеничка! И тебе привезла. — Она подняла с земли холщовый мешочек. — И тетя Шура с семейством велели тебе кланяться.
Семен не видел Надьку целых два месяца, за это время она еще больше вытянулась, похудела и теперь походила на белого голенастого цыпленка, только-только начинающего отращивать перья.
«Опять сколько одежи надо! — сокрушенно подумал Семен. — Все равно за зиму все издерет».
— Ну, пошли! — сказал он. — Сейчас сварим картошки, самовар поставим, а там и подружки твои набегут. Я им сказал, так они с утра уж небось сами не свои.
И, взяв у сестры мешочек с картошкой и букет полевых цветов, Семен двинулся вместе с ней по перрону. Его друг, агент первого разряда Степа Казначеев, провожал его взглядом. Степе было грустно, что у него нет ни сестры, ни брата младше его возрастом, кого можно было бы вот так вот встречать или провожать. Да, в конце концов, иной раз просто отругать по-родственному.
40
Кинореклама«ВОЗВРАЩЕННЫЙ СВЕТ»Выпуск Межрабпом «Русь»Трахома — опаснейшая социальная болезнь. Особенно широкое распространение получила она в условиях старого помещичье-капиталистического строя. Картина отличается простотой художественной постановки и бесхитростностью сюжета.
На примере больных Василия, Константина и Дуняши и их полного выздоровления в трахомной больнице зритель ясно видит, какую работу по борьбе с трахомой провела и продолжает вести Советская власть.
«Возвращенный свет» — хорошая картина.
Наряду с такими картинами, как «Аборт», «Дети — цветы жизни», она стремится к поднятию культурного уровня зрителя, приобщению его к советской общественности и помогает ему ознакомиться с работой Советской власти по борьбе с трахомой.
Петр Живущий
В середине августа дожди пали на город. Обильные, с ветром, хлестали по мостовым, крышам, окнам. Артель не работала целую неделю, и всю эту неделю Малахов с Абдулкой-приемышем высидели на крыльце больницы: ждали, когда откроется приемный покой и можно будет увидеться с Машей. Она попала сюда на другой день после того вечера в ресторане, когда убит был Сашичка Черкиз: вдруг поднялась температура, начались рвота, бред — и увезена была в медицинском экипаже. Три вечера подряд рвался к ней Малахов; его не пускали, говорили, что больная в тяжелом состоянии. На четвертый разрешили пройти в палату. Он дрожал от нетерпения, переобуваясь в тапочки, потом оттолкнул санитарку и вихрем понесся по коридору. Забежал в палату. С нескрываемым любопытством глазели лежащие женщины, значительно поджимали губы, перешептывались. «Экие полоротые!» — с досадой подумал Николай. Около Машиной койки он опустился на колени, что-то забормотал, прижался к разметанным по больничной ватной подушке черным густым прядям. Она с трудом повернула голову в его сторону:
— Коленька, милый мой…
Он припал щекой к ее горячему лицу, спросил:
— Ну, что это с тобой? Разве можно… болеть-то так…
— Ох… — Она хрипло, с трудом засмеялась. — Разве ж я виновата, золотко мое? Устала… враз скрутило…
Он прислонился головой к спинке кровати и заплакал.
— Эй, растютюй! — крикнула какая-то бабенка. — А ну, кончай реветь! Без тебя тут реву не хватает. Гли, бабы, что за мужики пошли — ну ни стыда, ни совести.
С того дня здоровье Маши пошло на поправку. Последние дни она уже поднималась, подходила к окошку и улыбалась, маячила им, уныло мостящимся на залитом дождем крыльце. Иногда дежурным нянечкам становилось жалко Малахова с Абдулкой, они открывали дверь и пускали их внутрь, советуя хорониться от врачей. Спускалась Маша, и все трое забирались куда-нибудь в уголок, садились на стулья и сидели молча, положив руки на колени. Тихо иногда разговаривали: о будущем, о том, как станут жить, когда Маша вернется домой, как будут жить через месяц, год… Вечером Николай с приемышем собирались и шли домой. Шлепали по лужам вдоль улиц, мимо зданий, мимо раскинутого посреди городской площади шатра шапито. Там, внутри, за намокшим брезентом, поквакивал оркестрик, гукал клоун под рев радостных глоток:
— Может, зайдем — хочешь? — спросил как-то Малахов.
— А ну его! — отмахнулся приемыш. — Что я — ребенок, дите?
Николай засмеялся, хлопнул Абдулку по спине:
— Потешный ты, брат Абдул! А жить-то сколь хорошо — чувствуешь?
Бывший беспризорник недоверчиво усмехнулся.
Звездочка, однажды взошедшая высоко-высоко, недосягаемо почти, грела теперь, была рядом, близко; свистел ли ветер вдоль улиц, сбивая первые листья, всходило ли позднее солнце над тьмами живущих надеждой людей — она спускалась, незатмеваемая, прожигая подбитый ватой пиджак. Малахов опускал руку на стриженую голову мальчугана, заглядывал в глаза ему: «Ну как, хорошо тебе?» Тот ежился, вырывался и уходил горбясь, руки в карманы; но кто видел, как плакал он, убегая к реке, к месту, где встретил некогда Малахова? Он сам упросился ходить на работу вместе с Николаем, мостить улицы, и Малахов обрадовался: зачем, правда, мальчишке скитаться одному по городу, когда дома нет — даже поесть сготовить некому. Написанная Малаховым перед походом в угрозыск записка давно уже была разорвана и брошена в печку. С этим покончено — Фролковы, Коты, уголовный розыск… Живи спокойно, зачем тебя туда понесло? — злился он на себя. Раньше надо было думать!..
41
ВЕШКУРОВ, ПОЛЕГЧЕ, ОСТАВЬ СТАРЫЕ УХВАТКИ!Главой заготовного цеха кожзавода является Вешкуров. Он большой спец, да еще старый.
Решил производство поставить. Дело, конечно, хорошее, но беда, когда в этом случае он применяет старые выходки, в наше время отжившие.
— Выгоню, уволю…
Рубит сплеча спец Вешкуров.
А завком, а РКК, а производственная ячейка разве вам, дорогой товарищ, позволят самочинно это сделать?
Нет, не позволят, и даже не позволят применять старые отжившие методы увеличения производительности труда.
Некоторые работницы волком воют от вашего административного режима.
Не забывайтесь, гражданин Вешкуров!
Если вы и хороший спец, но если с рабочими держите себя, как старый Держиморда, то, извините, и к вам мы можем применить то же самое.
Ячейковая
ПРОИСШЕСТВИЯГр-ка Рылова в гостях у подружки гр-ки Безматерных в компании других визитеров напилась самогона и бражки, от которых тут же скончалась.
Поставщица кумышки гр-ка Курдюмова и радушная хозяйка привлекаются к ответственности.
Снизу послышался шум. Это опять дежурные изгоняли из губрозыска Бабина. В то время, когда началась история с убийством Черкиза, нищему досталось изрядно: его вызывали, снимали показания, привозили из каких-то притонов совершенно бесчувственного, протрезвляли и снова допрашивали, сажали в «байдарку», опять выпускали. Однако, так и не добившись твердого ответа на вопрос, что делал Бабин после того, как покинул дежурку за двадцать минут до начала операции, — решили отступиться. Правда, с Бабиным была еще одна закавыка: доставив нищего в губрозыск в день происшествия, его первым делом тщательно обыскали, но никакого оружия при нем, несомненно, не было. Не мог же он его где-то раздобыть за двадцать минут! За такое время и здоровый человек еле успел бы быстрым шагом дойти до «Медведя», а Бабин-то одноногий! Так возились, возились с ним впустую — и отступились. Но не тут-то было! Начались дожди, и нищий, приобыкнув в губрозыске, стал наведываться в него запросто, в любое время дня и ночи. Здесь ему было сухо, тепло; хоть и покрикивали, однако не обижали. Вид его, рвущегося вечером со скандалом и криком в «байдарку», а утром выспавшегося, весело настукивающего деревяшкой навстречу идущим на работу сотрудникам, стал вскоре всем окончательно невыносим, и уже проклинался на все лады Ренатка Динмухаметов, задержавший его с краденой рваной шалюшкой на шее, тем более что сам Бабин к той краже не имел, как оказалось, ни малейшего отношения, а выпросил шаль у одной из своих кавалерок-бродяг. Он приходил в губрозыск и днем, трезвый, палил внизу цигарки или разговаривал во дворе со своим подопечным Терешкой. Войнарскому даже советовали выставить пост на входе, дабы оградиться от Бабина и прочих докучливых посетителей, но он сказал так: «Хотите, чтобы к нам народ перестал ходить? Чтобы работать не мешали? Нет уж, пускай лучше мешают, тормошат немножко. А иначе зачем мы нужны? Разогнать, и дело с концом». Посудачили об этом, но спорить не стали, и Бабин продолжал свои визиты. Боялся он здесь только одного человека: старика Вохмина, потерпевшего по делу об убийстве жены. Вохмин так сурово разговаривал с ним, так громогласно обличал его, закосневшего в самых гнусных пороках, что нищий мгновенно стушевывался и исчезал. К Вохмину тогда тоже поцеплялись немного, но слишком скорбен и бестолков был его вид, чтобы можно было замыслить какие-то обвинения в адрес этого удрученного горем человека. И ответ его на вопрос, куда он делся в вечер операции, был прост и естествен: увидав, что никому до него нет дела, поплелся он тихонько на кладбище, поплакать на могилке жены…
Перед тем как заявиться в губрозыск, Бабин всегда высматривал, там ли старый Спиридон. Если тот сидел внизу, на обычном своем месте, бродяга уходил и прятался где-нибудь за углом, а как только старик покидал учреждение, врывался туда и принимался бушевать.
— Что есть человек?! — орал он. — Гиероглиф!
А когда его начинали утихомиривать, пел, принимая позы распинаемого мученика, песни духовного содержания, чаще всего «В бездне греховней валяяся, неисследную милосердия призываю бездну…»
Слушая доносящиеся до кабинета возню и ворчание, Кашин тосковал. Его уже не радовало, как еще недавно, воцарение внизу Бабина, которое означало раньше некую отраду: что уплелся наконец этот постоянно надрывающий душу Семена старик Вохмин… Дело об убийстве его жены, висящее на Семене, двигалось, двигалось с большим скрипом да понемногу и совсем притихло. Выбраны, перебраны были не по разу все свидетели, все возможные улики, и теперь совсем не за что было зацепиться. Войнарский не торопил его: выслушивал, давал советы, но, как в последнее время начал понимать Кашин, сам в раскрытие преступления не очень-то верил. Для агента наступила какая-то странная пора полудействий-полубездействия, тягостная в первую очередь потому, что теперь аппарат губрозыска работал в полную свою мощь и силу, люди валились с ног, сутками не отдыхая: заканчивалась ликвидация Черкизовой банда. И вот в этой-то работе, в выполнении которой он считал себя главным лицом, Кашин как-то сразу оказался не у дел. Другие бегали, стреляли, разрабатывали хитроумные оперативные комбинации, а он все копошился с делом, которое, похоже, все равно придется сдавать в архив нераскрытым. Он-то думал, что после того, как его стараниями угрозыск начал одну из самых блестящих своих операций, взметнется новый виток его жизни, яркий и опасный, тернистый и героический, и там, на этом витке, он будет уже царить в ином обличии: в некоем сияющем ореоле бесстрашного и мудрого оперативника, почти легенды, каким был в свое время Миша Баталов.
Он даже замыслил обмен новеньких хромовых сапог на старую, давно потерявшую свой вид и блеск кожаную тужурочку. У Баталова такой тужурки никогда не было, но ведь Семен считал, и не без оснований, что в бою, проигранном самим Мишей, он вышел победителем и теперь имеет право на почести, по крайней мере равные тем, какие некогда воздавались Баталову.
Формально так и выходило: чествовали, хвалили, наградили, благодарность в приказе… А по сути все осталось по-старому. Больше того — стало хуже, чем раньше. Дело не в ребятах — он на них хоть и обижался поначалу за то, что их отношение к нему ничуть не стало более уважительным, но, в конце концов, это можно было пережить. Войнарский — вот кто стал главной загадкой! Нет, он по-прежнему был с агентом ровен и приветлив, к месту упоминал о его заслуге, но, тем не менее, от-дальнейшего участия в ликвидации Черкизовой банды отстранил и серьезных дел больше не поручал.
За всем этим была теперь для Семена не жизнь, а сплошная серость и мука. Надьку надо собирать в школу — на это уплыл уже пиджак от дареного костюма, да вдобавок придется опять нести часы в ломбард, к хитрому оценщику… Симочка Караваева, к которой он после разговора со Степкой заходил подряд три вечера, надеясь все-таки на лучшее, наотрез отказалась выйти с ним на улицу, ссылаясь на дождь, и вообще всячески намекала на позднее, неподходящее для визитов к порядочной девушке время. Невольно вспоминались куплеты прелестной Абрикотины, которые Кашин, страдая, повторял про себя:
«О Карабосса!» — вздыхал он.
Все заблуждались, все страдали — о себе, друг о друге, каждый занимался своим делом, большим или маленьким, но никто, а тем более сам Кашин, не подозревал, что именно он стоит сейчас ближе всех к разгадке вопроса, занимающего массу людей в городе — от секретаря губкома, начальника ОГПУ, Войнарского до любого рядового сотрудника. Ибо что был Черкиз, по сути обыкновенный бандит и убийца, по сравнению со зловещей тенью, стоящей за его плечами? Называлась тень: Лунь.
42
Абдулка бежал к домзаку, размахивая маленькой холщовой торбочкой. В торбе были хлеб, сахар, огурцы, помидоры и немножко табачку. Все это предназначалось к передаче задушевному дружку Ваньке Цезарю, томящемуся в «предварилке» уже два месяца. Передачку сгоношили вместе с Малаховым — тот принимал в судьбе Абдулкиного приятеля самое искреннее участие. От Цезаря только один раз удалось получить весточку. Эти каракули они разбирали втроем: Абдулка, Николай и Маша — целый вечер и поняли только, что жизнь у Ваньки идет в основном «щисливо», насчет дальнейшей дружбы у него намерения ясные («сука буду не брошу»), а больше всего просит передать привет маленькой подруге, бродяжке Верке Пиратке, и также просит жратвы.
Корявое послание было принято к сведению. Верку Пиратку Абдулка так и не нашел — по слухам, она смылась из города; насчет же жратвы Цезарю грех было обижаться: и так таскалась она ему в торбочке почти что каждую неделю, хоть недовольны были надзиратели и приходилось их всячески уговаривать и задабривать. Но оттого, что не оставляет он в беде сокровенного друга, облегчает ему жизнь сколько возможно, Абдулка был счастлив. Вот и сейчас он скакал посередине пыльной, заваленной конскими яблоками, улицы, стегал себя торбой по ногам и пел:
Песня, несмотря на содержание, получалась веселая.
Однако по дороге мальчишке захотелось сделать крюк. Думая о Цезаре, он почему-то вспомнил о мальчике, подарившем ему картинку, пытаясь рисовать которую, он так осрамился в глазах Маши и Николая. Он сам не знал, зачем ему понадобился вдруг этот парень: то ли надо было его избить, то ли попросить еще такую же… Этой проблемы к тому времени, как он вбежал во двор старого двухэтажного дома, Абдулка так и не решил. Во дворе мальчишки не было. Обвязавшись веревкой, он ползал по крыше, волоча за собой проволоку. Колени его были ободраны, движения осторожны (мальчишка боялся, конечно!), но решительны.
Абдулка лихо свистнул и завизжал по-бабьи:
— Слазий, бандит! Пороть чичас буду! Кофию с пряником не дам, баламут! А ну слазий быстро, когда мать тобой руководствует!
Крикнул и осекся: вспомнил, что матери у мальчишки нету. И, испугавшись за него, продолжал вопить:
— Куды ногу ставишь?! Слазий, едрена вошь, покуда не скувырнулся! Дай-ко я сам.
И он побежал к пожарной лестнице. Женька Войнарский с любопытством наблюдал за ним. Подтянулся на веревке, сел на гребень и сказал солидно:
— A-а, это ты… Есть хочешь? Не лезь сюда, я уж всю антенну протянул. Подожди немного, голова с непривычки закружилась.
— Отец тебя дерет? — крикнул снизу Абдулка.
— Нет, не дерет.
— Это почему же, интересно? — с подозрением осведомился беспризорник.
— Не знаю… Ему все некогда.
— Жалко! — крякнул Абдулка. — Я бы тебя у-ух как драл!
Женька засмеялся и начал слезать с крыши.
— Ты строгий! — сказал он. — А меня сегодня бабка-соседка за волосы драла. Вредная старуха! Вот она уж дерется так дерется.
— За что?
— Да просто так, по вредности. Придумала, что я у нее бутылку с подсолнечным маслом кокнул. Нужна она мне! Это ее же кот бутылку кокнул. Такой же подлый, как она, — везде нюхается. Недавно к нам в форточку залез и новую занавеску изодрал. Она меня ненавидит, наверно! — убежденно закончил он.
— Ну, ненавидит так ненавидит. Нашел о чем страдать. Может, у нее и самой-то жизнь неважная, вот она и ненавидит.
— Ой! — спохватился Женька. — Да ты ведь есть хочешь! Накормить тебя?
— Нет. У меня у самого-то сегодня — о! — Он раскрыл торбочку, показал ее содержимое новому приятелю. — Хочешь, огурец дам?
— Давай, — согласился тот. — Я с утра домой не появляюсь: она-то сидит небось на кухне, меня караулит. А, ну ее! — И он впился зубами в огурец.
— Оголодал? — заважничал Абдулка, гордый тем, что отблагодарил хорошего человека. — Тихонько жри, не давись.
Сглодавши огурец, Женька спросил:
— Чего ты с мешком бегаешь? На паперти собираешь, что ли?
— Это я другу понес, — не обиделся Абдулка. — Он у меня, брат, в домзаке сидит! За кражу, воровство. А куски я по улицам уже давно не сшибаю. Я теперь работаю. Пра-та-лерят, понял? — И он показал ладони. — И у хороших людей живу, между прочим. Усыновить хотят! — расхвастался он.
— Ты… работаешь уже?
— А чего? Хватит, поди, по улицам-то целыми днями шманаться.
— Ага. Я вот, например, только это и делаю.
— Э! — Абдулка оглядел двор. — Чего это у вас ребят тут нигде не видать?
— Не знаю. Место такое. Мелкота только водится. Пионерский отряд наш в лагерь уехал, а я от них отстал. Тоже очень хотел поехать, с весны папке говорил, а он… забыл, что ли?
— Мой бы не забыл! — отозвался Абдулка. — Он у меня — о-о, брат! Самостоятельный. Все чтобы ему по справедливости было. Он эдак-то одного бандюгу ка-эк размахнется, да ка-эк булыжником д-даст! — из того и дух вон! Так на куче с камнями и остался. Вон какой! У него и баба неплохая. Только забеременела, кажись. Ну ладно, бежать мне надо.
— Эй! — крикнул ему вдогонку Женька. — Я тоже с тобой, можно?
— Айда!
Весь тот день они пробыли вместе: отнесли передачку в домзак, купались в теплой после дождей речке. Под вечер, прощаясь, Женька сказал:
— Хороший ты парень, Абдул! Только врун ужасный. Ну зачем ты мне наврал, что твой отчим человека убил?
— Врать я люблю, верно. Без этого скучно мне жить! А вот только про Николу — сущая правда, вот те святой истинный крест!
— Как же он так? — тихо спросил Женя. — Взял, человека убил… Мало ли, что бандит… И ничего ему не было, да?
— А! Туда и дорога! — беспечно откликнулся Абдулка.
Женька ничего не ответил, повернулся и побежал прочь. Тем же вечером он спросил у отца:
— Что, если так, папка, получится: допустим, я знаю, что этот человек бандит, преступник. Возьму и убью его сам… булыжником, например.
— Ты чего это, Жень? — насторожился отец. — Откуда такие проблемы?
— Да это мне один мальчишка рассказал… что, дескать, отчим у него бандита булыжником стукнул. И на камнях после оставил.
— А что за мальчишка? — В глазах Войнарского появился блеск.
— Ну да, так я тебе и сказал! — Женька усмехнулся и полез из-за стола. — А что ему все-таки может быть, папка?
— Как мне знать! Что суд решит, то и будет. А ни убивать, ни бить у нас никому права не дано. И человек тот — преступник. Эх, Женя, когда же я за тебя возьмусь? Вот уж и секреты какие-то от отца появились.
— Ну, хочешь, я скажу тебе, кто этот парень? — звенящим от напряжения голосом спросил Женя.
— Зачем же? Этого мне от тебя не надо, сын.
На этом разговор Войнарских прекратился, и каждый сделал из него свои выводы.
43
* * *Хотя и не инженер, а не хуже инженеров директор лесозавода № 2 тов. Спиряев. Спас бревна от наводнения.
Осенью он придумал устроить мост для возки бревен с реки на двор завода и поместил там бревен в 6 раз больше обыкновенной укладки.
А чтобы удешевить продукцию лесозавода, он составил смету на техническое оборудование завода. Это нужно, чтобы улучшить сбыт и промышленность.
Рабочие надеются на тов. Спиряева.
Рабкор Пепеляев
* * *В деревне Терешино гр. Опутин собрал своей конструкции трактор. Прошло уже более 8 месяцев, а об обещанной соответствующими организациями комиссии по осмотру трактора ни слуху ни духу. Изобретатель остался забытым, и никто не может оценить его труд и установить, стоит ли работать над его совершенствованием.
РАБОЧИЕ У СТУДЕНТОВЭкскурсия строительных рабочих в анатомический музей университета попала в 3 часа дня, как раз в момент работы над трупом.
Интересно.
Зав. музеем тов. Коротаев ознакомил экскурсантов с построением организма человека, значением всех мышц, говорил о пищеводе, печени и пр., и все его слова сопровождались указаниями и примерами на лежащем тут же вскрытом трупе.
Рабочие остались вполне довольными и удовлетворенными.
Были лики серы, их черты будто подернуты пеплом. Чаще всего они входили в малаховский мозг ночью или утром, и такими же туманами и сыростью веяло от них, как от пахнувших уже осенью тех ночей, знобкого утреннего пробуждения, и еще так же, как тянуло когда-то от реки и кустов, к которым он пришел летом от кособокой приземистой церквушки, от груды камней с пятнышками осевшей на них крови.
Малахов не узнавал этих двух всплывающих в памяти лиц, но они не давали покоя, и он на улицах тревожно и внимательно вглядывался в прохожих.
Только это нарушало сосредоточенный покой, в котором протекала сейчас жизнь Николая, Маши и Абдулки. С той поры, как Машу привезли из больницы, умиротворенность, ласковая уверенность бытия воцарились в домике с высоким крыльцом. Иногда его обитатели стеснялись этого нового состояния, никогда ранее не испытанного никем из них. Для Николая с Абдулкой это было — работа, долгая и кропотливая, до усталости, что блаженно снимается дома, за квасом и ужином; длинный сон в теплой избе; выходными — обстоятельные походы в синема, к домзаку с передачками, на рыбалочку, а то и просто бесполезное лузганье семечек в огороде. Для Маши жизнь тоже приобрела другой смысл. Теперь она твердо знала, для кого выбирает овощ на рынке, модную кепку в лабазе. Удовольствием было даже пожурить припоздавшего мужика, задать трепку набезобразившему приемышу. Долго плутавшая, вместе с ними она возвращалась в мир тихих, неприхотливых, наконец-то по-настоящему необходимых ее душе, не по инерции совершаемых дел и забот. Состояние беременности усугубило ее внимание к вещам, о каких раньше вообще забывалось. Так, однажды воскресным днем собралась на кладбище, к родительским могилам. Настряпала плюшек для нищих, долго и обстоятельно одевалась, выгладила мужу и приемышу штаны и рубахи, причесала мужиков, и отправились все втроем.
Родственные могилки нашла она с трудом. Крест у отца был сырой, грязный, темный от дождей, времени и росы. «Губ. секрѣтарь Лебѣдяевъ Авериан Мокиевич. 1873–1915 гг. Да почiетъ в мiре!» Могила матери, более ранняя, лежала вовсе без креста — то ли сгнил и его убрали кладбищенские служки, то ли уворовали на дрова в лихие годы. Маша заплакала, глядя на провалившуюся землю, Николай обнимал ее за плечи и говорил: «Ничего… Это мы с Абдулом поправим, нетрудное дело. И крест новый поставим, вытешем — верно, Абдул?»
Внизу, далеко за кладбищем, блестела речка, и по дороге к паперти с облепившими ее нищими Маше вспомнилось почему-то, как маленькой она бегала с соседскими ребятами на берег этой речки. Там по праздникам и выходным фабричные парни с девчатами, конторские, а иногда и мелкая рыбешка из чиновников танцевали кадрильку под гармонь. Визжали ливенки, а они топали, кружились, подныривали под вскинутые сплетенные руки. Как это все вспомнилось? — юбки колоколом, обрывистый берег, голос гармошки, шелуха семечек… Так и не довелось самой покружиться хоть раз, прошло время — ну, да и бог с ним…
А милого ее друга не терзали этой ночью кошмары. Он наконец-то увидал их сегодня — людей, приходящих во сне. Первый сидел на кладбище, скорбно притулясь к свежеструганому кресту; второй же был — тычком сидящий на паперти лохматый одноногий нищий.
44
Юрий Павлович Войнарский поморщился и встал: вот уже несколько минут из-за двери кабинета доносилась чья-то торопливая, бессвязная, бубнящая речь. Порой голос даже срывался на визг, и тогда начальник губрозыска нервно дергал головой, будто отгонял муху. Когда задверный речитатив добрался до самых высоких нот, он не выдержал и, громко шлепая парусиновыми штиблетами, пошел из кабинета. В приемной толстый татарин, стоя за барьером, кричал испуганно отмахивающейся от него секретарше:
— Защим бандит дорога мостил?! Когда ранен был, от Спирьки Вухмин убегал! Уй, какой хитрый! Хи-итрый! — Он потряс пальцем, сцепил на животе руки и оглянулся на Войнарского.
— Зачем же так громко кричать? — укоризненно проговорил Юрий Павлович. — Ведь люди работают. И оставьте в покое бедную женщину. Уж она-то наверняка ни в чем перед вами не виновата.
— Бедна… женьчин? Какой такой? — Сабир растерянно захлопал глазами.
— Вот пришел, вот кричит, — пожаловалась секретарша. — Говорю ему, говорю, чтобы обратился к дежурному агенту. — Она отвернулась, поджимая губы.
— Не знаете порядка, гражданин! — строго внушал начальник губрозыска. — Порядка не знаете, а идете в учреждение. Ну, да что теперь! — вздохнул он обреченно. — Проходите!
Одно из бестолковой речи посетителя он усвоил четко: имя Спиридона Вохмина. Сначала хотел сразу же отослать Сабира к Кашину, но в последнюю секунду передумал и решил поговорить с ним сам.
На предложенный начальником стул Сабир не сел, а сразу забегал по кабинету:
— Уй, хитрый! Уй, худой! Еду к Хамидуллину… телега, булыжник, малайка туда-сюда… Пащиму не помогать? Сабирка работать всегда любит…
Целый час бился с ним начальник губрозыска, прежде чем удалось ему уяснить суть рассказываемого. А состояла она в том, что сегодня Сабир поедал на своей телеге к свояку Хамидуллину. По дороге путь ему преградила подвода, нагруженная булыжником. У возчика что-то случилось с осью — что именно, Войнарский так и не понял, — но, во всяком случае, булыжник надо было сгружать на землю, снова потом укладывать на подводу, и, чтобы избежать этого, мужик предложил Сабиру перегрузить камни на его телегу, а потом и доставить куда надо — за вознаграждение, понятно. Татарин согласился, они вдвоем перекидали груз, и Сабир двинулся к артельщикам. Здесь-то он и встретил среди рабочих парня, когда-то подобранного им и Вохминым возле ворот дома, где был взят Кутенцов. Разгрузившись, Сабир помчался в губрозыск, позабыв про свояка.
— Значит, работает? — недоверчиво спрашивал Юрий Павлович.
— Работает! — кричал, задыхаясь, Сабир. — Работает! Работает!
— Н-ну ладно. Подпиши-ка здесь. Умеешь ли?
Сабир, приспосабливаясь, долго гнулся над бумагой. Наконец, пыхтя, с трудом вывел огромное «С» с крохотным крестиком внутри. Выпрямился, гордо озираясь.
— Спасибо, товарищ. Якши!
Тот снова сцепил руки на брюхе, запел:
— Сабирка всегда-а…
Проводив татарина, Войнарский вызвал к себе Семена.
Тот вошел подобравшись, настороженно, и в позе его начальник губрозыска уловил предубеждение.
«Эх, парень, парень!..» — сожалеюще подумал Юрий Павлович и сказал:
— Как там дела с Вохминой?
Тот пожал плечами:
— Никак, вы же знаете.
— Плохо, плохо…
— А то хорошо!
— Ты, кажется, чем-то недоволен, Сеня? Что с тобой, голубчик?
— Да нет, всем доволен. Какое может быть недовольство на службе?
— Тогда не ерзай, нормально разговаривай.
— И так нормально! — начал заводиться Семен.
Войнарский резко приподнялся на стуле, яростно схватил со стола силомер, взмахнул рукой…
Кашин втянул голову в плечи.
Начальник губрозыска глянул на шкалу, удивленно ахнул и, бросив прибор на стол, пригладил пятерней волосы. Агенту показалось, что таким образом Войнарский похвалил себя, как будто говоря: «Молодец, Юра, молодец, хороший…» — и Семен усмехнулся.
Юрий Павлович и вправду будто подобрел. Сказал размягченным голосом:
— Артель дорожных рабочих мостит улицу имени Жертв царизма. Надо туда сходить, товарищ агент. Составить список артели, и, самое главное, — кто с какого времени там работает. Артель, как мне кажется, из крестьян, но народ там может быть разный. Потолковать с десятником, рабочими — только чрезвычайно осторожно, на нейтральные темы, лучше всего житейские. Результаты обдумаем вместе. Такое тебе задание.
— Вот так задание! — фыркнул Семен. — Это ж работа для стажера! Набрали новеньких — пускай они и ходят, проверяют всякие артели. Мне в том какой интерес?
— Предполагаю, что интерес может быть. Поступил сигнал, что в артели работает человек, подобранный некогда Вохминым после взятия кутенцовской шайки и затем исчезнувший при загадочных обстоятельствах.
— Что ж в них загадочного! Ведь Вохмин ясно сказал, что его отобрали на мосту.
— Ну да, ну да! Но парень-то интересный, верно? Хитрый! Не задержан, разгуливает себе, где-то работает. Установи его и поговори с ним, Сеня.
— А зачем он мне нужен?! — снова окрысился агент. — Я занимаюсь убийством Вохминой, и все! А вы мне специально хотите подкинуть… я знаю, зачем вам это надо!..
У Войнарского хищно вздернулась верхняя губа. Однако, пересилив себя, он сказал спокойно:
— Вот об этом ты зря беспокоишься. Выгнать я тебя и так могу, и никаких объяснений давать не буду. Иди и делай, что приказано!
Он взял два листа бумаги и стал аккуратно втискивать между ними хрустящий копировочный лист.
«Сейчас приказ напишет…» — уныло подумалось Семену.
Из окна влажно потянуло, и, спасаясь от хлынувшего, над городом ливня, в кабинет влетел воробей, весело заскакал по чистому исщербленному полу. Начальник губрозыска скомкал бумагу вместе с копиркой, нацелился, прищурясь, и бросил в птицу. Воробей, чивкнув, вспорхнул под потолок, уселся на раму портрета Маркса, удивленно лупая глазками, стал смотреть на происходящую внизу жизнь. Эта жизнь непонятно двигающихся, громко трубящих и грохочущих существ была любопытна птице — склонив головку, она наблюдала за ними. Открылась дверь, и образовавшийся сквозняк вынес воробья на улицу, под дождь.
Семен же двинулся к себе. Сначала его решение было окончательным и твердым: ни в какую артель он ни за что не пойдет. Просто не позволит, чтобы им помыкали, как желторотым новичком! Однако, вдумавшись в слова и интонации голоса Войнарского, он потихоньку пришел к выводу: стоит ему сейчас ослушаться, и другого разговора больше не будет. Его просто выгонят из угрозыска, не давая никаких объяснений. Напишется знакомым образом приказ под копирочку — и все, гуляй, Сеня! А куда же он тогда пойдет?
И, содрогаясь и всхлипывая от ненависти к Войнарскому, Семен понесся разыскивать улицу Жертв царизма, где укладывала мостовую таинственная артель.
45
Нищий ковылял рядом с Малаховым и зевал на всю окрестность:
— Как меня не знать! Бабина — кто не знает! Тоже и уважают, слышь! У тебя, к случаю, деньги нет, а у меня есть. Ну и на, возьми, да другой раз и сам бездольному дай. А все ж уйду я, друг-сердяга. Охота уж мне теперь возля Лавры пожить, там у монахов сыто, а здесь — строжать стал народ!
— Нет, подожди! — не унимался Малахов. — Да где ж это я тебя видел-то?
Бабин похрумкал сухариком.
— Это — дело твое, ты и думай. Только… в губрозыске я тебя не стречал? Я там ча-асто теперь бываю. Тоже уважают! — вильнув глазами, хвастанул он.
— В губрозыске? Это может… Точно! Тебя там обыскивали, да? И старичок еще, добросовестный, был. Ох, господи! — Он схватился за голову. — Вон что! А я-то мучаюсь… Нет. Я тебя и раньше видел.
— А! — равнодушно откликнулся нищий. — Отстань, надоел. Хошь, гривенник дам?
— Все-таки интересно: почему это твоя личность меня в такое смущение ввела? Из снов ведь не вылазил! Не так это просто…
— Приду в губрозыск, — втолковывал свое бродяга, — робята счас это: «О, Бабин! Друг сердешной, таракан запешной! Давно тебя ждем-пождем…»
— Где-где это тебя так встречают?
— В губрозыске, где! Я там всех робят знаю! Уважа-ают…
Однако при подходе к знакомому зданию Бабин обнаружил неуверенность: замедлил шаг и стал красться, прячась за углы домов. Николай хотел уйти, но Бабин сам не отпустил его. Хватаясь за локоть, словно ища защиты, он бормотал торопливо:
— Как бы того старичка не встренуть, добросовестного-то. Правди-ивый старичок. От таких костылем не отобьёсся. Всю суть наизнанку вывертывает. Боюсь же я его, друг-сердяга!
Малахов не ответил: сопя и напрягаясь, ждал, когда выйдет из здания второй человек, образ которого не давал покоя; вот он появился. Николай выскочил из-за угла, где прятался вместе с бродягой, и быстрым шагом бросился догонять его.
…Зачем, ну зачем он это делает?!
Шататься по городу вечерами, вступать в разговоры с лохматым одноногим, идти следом за тихим, убитым горем старцем вместо того, чтобы выйти после рабочего дня на крылечко, окликнуть проходящего соседа и разговаривать с ним о вещах вроде бы простых до времени, пока не утихнет небесный пожар за горизонтом и ласковый женский голос не позовет в дом.
Страдает человек, и тяжки его страдания; ценой потрясений, тяжелейшей душевной работы достигает он наконец состояния житейского покоя, и вот снова кричит его душа, и идет он из дома, чтобы новые страдания, еще тяжелей прежних, пали на его долю.
Так что же понесло Николая на поиски и разговоры с чужими людьми? Он сам боялся признаться себе в том, как в некой слабости. Единственное, что брезжило в сознании, — люди эти каким-то образом связаны с темной полосой в его недальнем прошлом, где были банда, Фролков, вертлявая Раечка, сушки, высыпавшиеся из кармана простертого посреди улицы парня.
Узнала бы Маша, какими путями ходит теперь ее любимый, — небось нашептала, перекуковала бы ночной порой: «Подальше, подальше от них! Пожалей, дай пожить…» Но он никому не открывал своих мыслей, и новое его состояние было пока тайной для других.
…Догнав старика и поравнявшись с ним, Малахов сказал негромко и как будто безразлично:
— А ведь я тебя знаю, дядя…
Сказал и стал обгонять его.
Вохмин цапнул его сзади за плечо.
— Встречались, как же! Сидели, я помню, вместе возле дежурки! Угрюмый ты был, насупился — ну, думаю, этот не иначе, как с важным делом. А я вот хожу, хожу! — и бесполезно! Наверно, уже надоел со своим горем, надоел, вроде того нищеброда, — тьфу, нечистый дух, прости меня господи…
— Нет, я и раньше вас где-то встречал, только вспомнить пока не могу.
— Ну, народ пошел! — Старик развел руками. — Все-то он знает, только ничего вспомнить не может. Сдается, и мне ваша личность небезызвестна. Я тогда, в губрозыске, вспоминал… что-то, думаю, было экое… Ну, да мне, старику, и забыть не грех.
— А где вы живете? — поинтересовался Малахов.
— Вот небось такие, как ты, и женку мою загубили. А почем знать — может, теперь тебе я нужен?
Он отпрянул к забору, схватил палку и, замахнувшись, крикнул:
— Не дамся, не таковский! Со мной еще справдать надо!
Малахов с расстояния еще раз внимательно посмотрел на него, качнул головой: «Нет, не могу вспомнить…» — и зашагал домой, понурый.
Старик топал за ним следом. Когда Малахов останавливался или оборачивался, тот поднимал палку и грозил ему.
Так шли они, пока не затерялись в кутерьме узких улочек с деревянными домами, палисадниками и огородами…
46
Заметив наблюдающего за ними издалека человека, артельщики запереглядывались; а вскоре подлетел к Семену их старший — рыжий, низенький, сильно пожилой уже; редкий волос пухом лез из-под картуза — и осведомился:
— Часом не из начальства будете?
— Губсовпроф! — отчеканил Семен. Достал из кармана мандат уголовного розыска, раскрыл и показал издалека, чтобы не разобрать было, что за документ. — Уполномоченный по проверке колдоговоров! Надо бы глянуть, как тут у вас… Не надо бояться, у нас тоже работа…
— А я и не боюсь! — хмыкнул десятник. — Чего мне теперь бояться, на старости-то лет!
— А смерти, например?
— Чего ее бояться? Пока живу — и смерти, выходит, нет. А помру — и совсем она мне будет безразлична… Каку, значит, проверку-ту учиняете?
— Нужен полный список рабочих по годам рождения, кто откуда, регистрировались ли на бирже, кто где имеет проживание на данное время, жилусловия тоже проверим; как с прозодеждой, расценки и прочее… — забубнил Семен. Ему было стыдно отрывать от работы людей, занятых добрым делом, и снова неприязнь к Войнарскому, зябкая, до мурашек по телу, окатила его.
— Это можно! — бодро ответил десятник. — Вот только вспомню ли сейчас? Что-то… болит моя головушка, охх… Пойдем-ко давай, маненько поправимся сейчас, а после уж я тебе всю подробность доложу. — Глаза его сразу как-то оплыли, он схватил Семена за руку и потянул за собой. Кашин вырвался, зашипел:
— Что ты, что ты! Разве можно, на службе ведь я, с ума сошел!
Тот кряхтел безнадежно и обиженно, озирался по сторонам. Семен понимал его: разных проверяющих, уполномоченных и агентов мужик повидал на своем веку куда как достаточно, знал, что добра от них ждать не приходится, и по мере возможностей избавлялся от них методом простым и испытанным. Других способов избежать докуки он не знал и теперь пребывал в растерянности и крепкой досаде, даже хватил кулаком по колену. Кашин не дал ему опомниться:
— Ну, давай сюда списочек-то, давай! Рработнички… — Он сдвинул вперед кепку, изображая заматерелого хозяйственника.
Фрол Анкудиныч вынул из кармана трухлявую, рваную на сгибах бумагу, протянул с тоской. Они отошли в тень, и Семен углубился в чтение.
Прочитав, ткнул в список пальцем и показал на рабочих:
— Все здесь?
— Все! Правда, есть еще мальчонка один — я его за куревом услал.
— Эксплуатация детского труда?
— Так сирота, сирота мальчонка, — заюлил десятник. — Пригрели возле себя, чтобы не загинул, не приведи господи, в воровстве. Николы Малахова вроде считается приемный сын.
Кашин покивал головой. В сущности, ему было все равно. Он заставил десятника поставить возле каждой фамилии число и месяц зачисления в артель и лениво смотрел, как десятник, старательно мусля химический карандаш, морща лоб и подолгу задумываясь, проделывал эту нехитрую операцию. По разумению Кашина, более чем нехитрую, ибо дата везде ставилась одна и та же. Только над фамилией, замыкающей список, Анкудиныч маялся долго, аж вспотел, высчитывал и бормотал. Неуверенно вывел цифру. Агент потянулся за бумагой, хотел что-то спросить, но неожиданно осекся: только что выведенная дата была датой гибели Баталова.
— Так-сс…
Запалившее после дождя солнышко стало печь голову Семена еще яростнее.
У него и мысли не мелькнуло о том, что могла произойти ошибка, возникшая из случайного совпадения. Злоба на Войнарского исчезла и сменилась великой благодарностью и восхищением. Однако, будучи уже твердо убежденным в своих способностях, Семен моментально переключил рассуждения с Юрия Павловича на себя, и теперь они имели примерно такое выражение: «Ну что ж, Семен Ильич, все правильно! Вот вам и Мишин убийца, пожалуйте бриться. А кто его нашел? Вот то-то…» Кашин вспомнил вдруг утро, когда узнал о смерти друга, как он клялся поймать его убийц и довести дело до справедливого возмездия. Бессильный и злой крик, исторгнутый им тогда, пророкотал в нем теперь грозно и торжественно. Он сунул руки в карманы, нагорбился и как-то ныром, волоча ноги, заходил от удивленного десятника к забору и обратно. Спохватился, успокоился и начал расспросы:
— Этот… — Он указал в конец списка. — Э… Чтэ? Почему позднее других? С биржи, что ли?
— Ну конечно! — заволновался Анкудиныч. Покопался в своих бумажках и подал Семену направление. Тот глянул искоса: документ был выдан через неделю после фактического появления Малахова в артели, дата какого значилась в списке. Десятник, посмотрев на кашинское лицо, понял, что допустил ошибку, заоправдывался:
— Да из-за него у нас особая вышла статья. Заведовал один мужик, а Никола в то время и заявись: «Возьмите да возьмите!» Ну, проверили в работе да взяли, куда же было деться? А потом уж я его через биржу запросил. Он мужик-от неплохой, трудящий… — Он искательно поглядел на Семена.
«И тебя проверить не мешает, не одна ли вы тут шаечка-леечка! — думал Семен. — Ладно, это можно по ходу…»
И, вспомнив слова начальника о сугубой осторожности, потянулся с хрустом и сказал:
— Надо бы мне этого Малахова запомнить на всякий случай. Всякие, знаете, бывают недоразумения. Эдак один, я помню, и работал-то месяц всего, а расчет затребовал за весь сезон. По судам всех затаскал! — Кашин сделал страшные глаза. — Отказали, конечно, но сколько мороки, ты подумай…
Десятник крякнул огорченно: эх, бывают же люди! — и показал на русоголового скуластого парня в трепаном пиджаке, застиранных армейских галифе, разбитых сапогах. Парень сидел среди перекуривающих артельщиков и что-то рассказывал худому чернявому мальчугану. Мальчишка ужимался, хохотал в кулачок, пока не встретился с остановившимся на нем взглядом агента. Встретился и застыл.
Кашин поманил его пальцем. Мальчишка, выбравшись из компании, медленно пошел к нему. Остановился поодаль и крикнул:
— Эй ты, угро! Рестовать пришел?
— А ты что здесь делаешь, шалопут?
— Роблю! — гордо ответил мальчик. — Пра-та-лерят, понял?
— Что ж за мелками не приходишь? Я ведь купил, не позабыл.
— Мне теперь не надо! Я скоро в школу пойду, красками выучусь рисовать. Уже теперь которые знаю: лазурь, охра, аквамарин… А по ширме я больше не работаю. Ну его — еще убьют!
— Где же ты теперь живешь, Абдул?
— Вон, у того мужика! — Абдулка беспечно указал на Малахова.
— Что ж, если так… А уговор наш помнишь? О том, что сразу ко мне прибежишь, если встретишь мужика, что нашего с тобой друга убил?
— Помню.
— Ну и как — не встретил еще?
Мальчик задержался с ответом, наконец сказал тихо, но решительно:
— Нет, не встретил.
Агент склонился к нему, взял за подбородок, заглянул в глаза и спросил жестко:
— А не врешь? У нас ведь приметы его есть, так что гляди. Сам давал, не забыл это?
— Пошел ты!.. — Абдулка вырвался, отбежал и яростно, с надрывом, крикнул: — Хряй, откуда явился! Спрашивает, интересуется, вежливенький такой — мелки, мол, купил… Кто тебя сюда звал, легавый?! — И припустил вдоль улицы — только пятки засверкали.
Артель уже работала. И мужики, сколь можно потакавшие безродному мальчугану, не обратили особого внимания на его исчезновение.
47
Семен летел в губрозыск, лихорадочно приборматывая: «Ясно… ясненько… Вот ты где окопался, гад!»
Предчувствие грандиозной удачи мучило его, но недоставало какого-то штриха для того, чтобы не трепыхаться в этом предчувствии, растаращив глаза и барабая руками. Надо было глянуть кой-какие бумаги. И, заскочив в кабинет, Кашин первым делом, торопясь и путаясь, разыскал словесные портреты, некогда данные Абдулкой и начхозом Болдоевым. Теперь следовало сопоставить описания человека, заходившего в губрозыск перед операцией с Черкизом, и человека, признавшегося беспризорному в убийстве. Нашел оба листочка и, превозмогая нетерпение, отложил в сторону. Удача, которую ему сулило то, что он знал почти наизусть, стала так нестерпимо близка, что он завертелся, будто сидел на горячем, не зная, что предпринять, чтобы не выплеснуть раньше времени бушующую внутри энергию. Кашин распахнул окошко, свесился вниз, чтобы немного успокоиться. Было тихо и прохладно, с хоздвора тянуло запахом конского навоза. Локомобиль общими усилиями губрозыска и коммунхоза наконец-то списали и увезли в лом, и теперь Рюпа сидел возле коновязи, в телеге с соломой, тоскливо и тупо уставясь на место, где раньше громоздилась машина. В телеге спал бродяга и беззаветный пьяница Бабин. Вид этой идиллической и глупой картины так грубо не вязался с открывшейся Семену действительностью, что он сплюнул вниз: «Эх, вы, вредоносцы!» — и захлопнул окно. Возбуждение еще не улеглось; он выглянул в коридор. По нему неприкаянно слонялся Тимка Кипин. Он пришел за расчетом и теперь ждал, когда придет кассир и откроет кассу.
Вид у Тимки был смущенный и немного виноватый: впервые за несколько лет он чувствовал себя лишним, никому не нужным в этом здании. Недавнее комсомольское собрание приняло решение не только просить уволить его из губрозыска с хорошей характеристикой, но и выдать ему рекомендацию на медфак. На этом настоял Войнарский. Только Степка Казначеев был против. Семен голосовал вместе со всеми, хоть и таил в сердце зависть и раздражение. Он завидовал Тимке, который при такой безработице все-таки бросал неплохо оплачиваемую службу и уходил от нее в неизвестность, на голодные студенческие харчи. А на семью ему рассчитывать не приходилось, жили они очень бедно. Бросить за здорово живешь работу, попасть на которую сам Семен Кашин считал за великое счастье, неслыханное везение! Да, для такого решения нужен был железный характер! Вот он, Семен, на это никогда не пошел бы, не хватило бы смелости. И это непонятно унижало его перед Тимкой, настраивало против него. Сейчас, увидав в коридоре Тимку, он вспомнил утренний разговор с Войнарским, когда тот грозился его уволить, и, тяжело засопев, вернулся в кабинет. Ничего, он еще себя покажет. Вот разберется с этим делом, тогда увидят, кого затирают и считают незазорным обидеть…
Сел за стол, взялся за бумаги. Сличив оба описания, перевел дух. Теперь все было окончательно ясно, улеглось на свои места. Но неужели он, Кашин Семен Ильич, агент второго разряда губрозыска, настолько талантлив в своей профессии, что вышел на след неуловимого Луня? Именно так получалось по всей раскладке или, по крайней мере, что-то очень похожее. И он еще раз похвалил себя за то, что не задержал подозреваемого немедленно, лишь только убедился в своем подозрении. С Войнарским такие штуки обычно не проходят. Что ж, тем лучше! Доказательства будут, не волнуйтесь! Первое и основное, чем он располагает: этот мужичок, Малахов, — баталовский убийца. Он появился в артели в день гибели Миши. Что ж, артель — хорошая легальная крыша, а если предположить, тем более что в ней у него свои люди… Ведь когда убили Мишу, еще одного убитого нашли на куче камней, там, где работала артель. Подозрительный народ! Второе: именно его, Малахова, видел мальчишка в ночь убийства, в этом тоже нет сомнений. И парень врет, врет явно и нагло! Чем уж они его там купили или запугали? Третье: по словам Войнарского, именно Малахова, опять же (правда, пока предположительно), подобрал Вохмин в день взятия кутенцовской банды, причем — был он отбит, значит, не из простых… Четвертое: он был тем, кто, узнав со слов Муравейко об операции в «Медведе», пошел туда и застрелил Черкиза. Бабин и Вохмин опознают его, безусловно.
Семен обвел взглядом кабинет и задержался на пресловутом баталовском календаре «Дней отдыха на 1926 год». Вид этой бумаги показался ему отвратителен: чего стоили одни желтые бутоньерки по углам! Снять и выбросить календарь он так и не решился, но впервые поймал себя на мысли, что при виде его не испытывает ничего, кроме раздражения.
Идти к Войнарскому после утреннего разговора было все же страшновато, но Кашин толкнул дверь в приемную небрежно и размашисто. И огорчился ответом секретарши: оказывается, пока он отсутствовал, начальник губрозыска по срочному вызову уехал в губернию, в дальний уезд.
48
На работу в артель Абдулка тем днем так и не возвратился. После работы мужики поудивлялись: «Чего это с мальцом? Неуж забаловал? Ты уж его посеки, что ли, Никола…» Малахов шел домой рассерженный, убежденный, что Абдулка уже там. Но его не было, и днем он дома, как сказала Маша, не появлялся. Тревожась, они ждали его, покуда не стемнело, и Николай вспоминал, что приемыш кинулся бежать после того, как поговорил с ним пришедший в артель по служебной надобности красивый сероглазый парень в кепочке. О чем они говорили? Несмотря на беспризорные годы, мальчишка был крайне чуток к обидам, и уж Малахов-то знал, сколь быстра смена настроений у его маленького Друга!
Кинулись по милицейским участкам и больничным приемным покоям. Бесполезно: ни среди мутной орущей пьяни и ворья, ни среди тихих от горя и боли обитателей больниц не было мальчишки Абдулки, случайного приемыша. Николай сам устал и несколько раз отсылал Машу домой, говоря, что в ее положении не надо бы бегать ночами по городу; она не слушала его и все шла, шла рядом, а обессилев, садилась передохнуть или тяжкой ношей висла на малаховском локте. К утру, обежав весь город, они оказались на вокзале. Мальчишка спал в большом зале, на полу, среди оравы грязных, сопящих и ругающихся во сне беспризорников. Они облепили все вокзальное здание, их уже не шугали станционные милиционеры, знали, что бесполезно: выгонишь, они выйдут, побродят немного и снова вернутся обратно. Тоже и жалели: куда ж девать бедных, затрепанных мальцов и девчонок, когда осень на дворе и холодными, сырыми стали ночи? Время от времени проводились облавы, от которых ребята спасались как могли, производя великий шум. Изловленных отправляли в немногочисленные еще колонии, а «спасшиеся» продолжали свою жизнь: нищенствовали, воровали, ночами снова приходили на вокзал, где забывались беспокойными снами.
Абдулка дергался, вздыхал и чесался. «Опять вошей наловил», — бормотала Маша, шмыгая носом от счастья. Малахов вытащил Абдулку из середины вповалку лежащих тел и поволок к выходу. Тот вяло болтал ногами, отбивался, но вдруг, мгновенно проснувшись, рванулся из рук и завопил:
— Шухер, шпана!
Стали подниматься головы, вот уже кое-кто вскочил, поддергивая лохмотья. Однако Николаю не было до того дела. Вытащив мальчишку на воздух, поставил его перед собой и, размахнувшись, залепил леща. Приемыш шмякнулся на землю, поморгал и спросил спокойно и деловито:
— Чего дерешься? Меня нельзя бить.
— Нельзя-а!.. — передразнил Малахов. — А кто ты такой?
— А вот такой. Немазаный-сухой. И можешь отваливать вместе с ей! — Он указал на Лебедяеву. — Не нужны мне ваши милости. Ква-асом поят! Идите вы вместе с вашим квасом… Я теперь в Сибирь поеду.
— Зачем же в Сибирь? — удивилась Маша.
— Да, говорят, хорошо там живут ребятишки. Дескать, отвели им землю, настроили домов, лошадей, все дали — живите сами по себе, мы к вам не касаемы! Ну и живут, крестьянствуют. А живут всё семьями, девчонки у них завроде хозяек. Вот, туда поеду.
— Эко набрехали тебе, брат Абдул! — захохотал Малахов. — Ну, просто кругом оплели. Жениться, значит, хошь?
— А чем я хуже тебя?
— Ну да, верно… Пошли-ка давай домой, хватит дурочку строить.
— Не пойду.
— Пойдешь! — рыкнул Николай. — Свиненок! Люди из-за него ночь не спят, погляди на нее, совсем с лица сбилась, а он — в Сибирь собрался, вона! Обидчик ты, вот кто! Взял, убежал, не сказал ни слова… Может быть, тебя тот парень замутил, а, Абдул?
— Никто меня не замутил! — Абдулка отвернулся.
— Пойдем, миленький, — сказала Маша. — Вот — взял, сам себе придумал страдание. Если мы виноваты, что-нибудь не так сказали или сделали — ну, прости, тоже ведь люди…
Абдулка захлипал, заревел неумело, с шипом и клохтанием. Маша обняла его за плечи:
— Пойдем, миленький!
И они стали спускаться с вокзальных ступенек.
А Малахов окинул взглядом вокзал и прилегающую площадь. Недавно, совсем еще недавно он шел здесь — путник с пылью дальних губерний на сапогах. Так же ухали паровички, желто светили фонари, на том же месте грудились извозчичьи экипажи… Ничего не изменилось, кроме жизни.
49
БЕЗ ПОПОВНе показательно ли обилие корреспонденции о революционных крестинах? Показательно. Этим рабочий как бы закрепляет свою неотторжимость от революции.
Так, в клубе металлургов «октябрил» своего сына рабочий мартеновского цеха Биянов.
Сделали доклад о новом быте. Назвали ребенка Марксом, в честь К. Маркса, и зачислили в комсомол. Отец тут же получил для него комсомольский членский билет.
А в клубе «Коммунальник» беспартийный же рабочий Ханжин с женой «октябрили» свою дочь. Имя новорожденной дано Роза Люксембург. Она принимается в ряды юных пионеров отряда имени Ленина. Родители клятвенно обещали товарищам воспитывать свою крошку в коммунистическом духе и сделать из нее борца за идею революции во всем мире.
Рабкор 214
Набегавшись за ночь, спали долго, тем более, настало воскресенье. Проснулись, обстоятельно поели и отправились в городскую баню. Там Малахов с Абдулкой, напарившись до звона в ушах, зашли к парикмахеру, подстриглись и даже спрыснулись чуток розовой душистой водичкой. Ожидая, пока выйдет Маша, тянули холодный морс. Малахов, разомлев, пытался заговорить с приемышем о предположительном течении его будущей жизни, но тот не был расположен к душевным разговорам, молчал и отворачивался, и Николай, смутясь, прекратил свою попытку. Ночной плач беспризорника он принял за раскаяние, а это, видно, было не так.
Пришли домой и, не отдыхая, начали собираться. Абдулка удивлялся:
— Чего-то вы сегодня экие… блажные! Ну и катите, куда собрались, а мне и здесь ладно покуда.
Но все уже было обговорено, и никто не стал его слушать: приодетый как можно наряднее, он с Машей и Малаховым отправился на дом к десятнику Анкудинычу.
Десятник с «кумой» — толстой, поперек себя шире бабой, рябой и веселой, — сидел за столом и пил сладкое красное вино. Они забегали, затопали по избе, таща к столу нежданных гостей. Николай, чтобы не обидеть, вытянул стопку, но от последующего принятия отказался категорически. Вызвал Анкудиныча на кухню, пошептался с ним, и старик, чему-то обрадовавшись, кинулся переодеваться. Объявился важный, надутый, в чрезвычайно дорогом, но дурно сшитом костюме.
— Ты куда, хозяин? — заволновалась баба.
— Молчать! — визгнул десятник. — Не твой спрос! Тыква!
— Ну, ино я спать пойду… — Она позевала большим ртом и убрела.
В доме, где жили артельщики, удалось застать только Ивана Зонтова; остальные, собираясь уже к своим деревням, ушли с утра на рынок, по магазинам: покупать гостинцы и предметы, необходимые обиходу. Ивану ничего этого не было нужно — он лежал на койке в углу, покуривал, и ему было хорошо. Выслушав Николая и десятника, он быстро, без слов, оделся в одежонку почище и так же безмолвно зашагал с ними по направлению к местам, где располагались разнообразные городские учреждения.
Решением губисполкома одно из воскресений месяца было объявлено для загсов рабочим днем. Потребность видно, ощущалась, по крайней мере, придя туда, они встретили изрядную очередь. Абдулка что-то заскучал — ему было непонятно, что хотят делать, зачем собрались вместе и притащили его сюда эти четверо.
Очередь, однако, двигалась, люди выходили из кабинета: новобрачные — весело, с торжественной возней и шумом; разводящиеся — тихо и торопливо; регистрирующие смерть — осторожно, обходя всякое веселье и движение, находясь в тяжком и замкнутом мире случившегося горя.
Письмоводитель — рыжий старичок с жидкими косицами на висках, кривым, похожим на запятую ртом — равнодушно вписал в толстую книгу фамилии Малахова и Лебедяевой, заставил десятника с Зонтовым расписаться как свидетелей. Бочком полез из-за стола, протягивая новобрачным сухую, лопаточкой, ладонь. Поздравил, оглядел с удивлением: «Ну, что еще? Сделали дело — уходите, чего очередь держите?»
— У нас вот еще… — заторопился Николай. — Мальчонка… усыновить бы надо.
— Кто усыновляет? Чей ребенок? Ваш? — Он обратился к Лебедяевой. — Или мужа?
— Он ничей, — ответила Маша. — Нет у него ни отца, ни матери. Беспризорник.
— И вы, э… решили усыновить? — Кончик запятой удивленно полез вниз.
— Ты работай свою работу, гражданин! — вмешался Анкудиныч. — Развел тут, понимаешь, церемонию!
— Прошу посторонних не мешать! А ты, мальчик, изъявляешь согласие?
Абдулка стоял бледный и растерянный, не зная, что ответить: слишком неожиданно было то, что он услышал. «Да чего спрашивать! Согласен, ясно!» — донесся до него малаховский голос. Вот сам Николай склонился к нему, спросил:
— Тебя как крестили-то?
— Колькой… — толкнулся шепот сквозь пересохшее горло.
— Ну, тогда мы с тобой совсем станем тезки! А отца твоего как звали?
— Не знаю. Не помню.
— Значит, фамилию и отчество с меня пишите. Вот так!
— Перестаньте распоряжаться-е! — разозлился вдруг письмоводитель. — Скорые какие выискались! Извольте глянуть: пришли — и все сразу им сделай, одним махом.
Но тут Иван Зонтов неожиданно для всех заворчал столь грозно и тревожно, что старичок испуганно вскинулся и склонился над книгой.
Немножко выпили в летнем павильончике: за чету, за нового Малахова. Один Абдулка ничего не ел, отказался даже от морса: так путано, тяжело было на душе от дум про парня из губрозыска, подбирающегося теперь к Николе, — не зря, совсем не зря пришел он тогда в артель! Что он, Абдулка, наделал — сказал тогда летом, что знает убийцу! Описал и приметы — но нет, дудки, теперь из него слова не вытянуть! Да только это и не нужно, если уж разыскали, так просто не отвяжутся. И сказать Николе про этот разговор тоже страшно: вот, подумает, прибрал сына на свою голову — я его за человека посчитал, а он, подлюга, меня же в тюрьму норовит определить… Смеются, пьют вино, а что знают? Ничего не знают… И холодно было мальчишке: он ежился, прятал руки глубоко в карманы.
От павильона разошлись. Десятник с Зонтовым в одну, а Малахов с Машей и Абдулкой — в другую сторону. Они направились в фотографию. Это была малаховская идея.
«Будет фото! — заявил он. — На всю жизнь!»
Фотограф, унылый и горбатый, долго обиходил их, рассаживал, пересаживал, отбегал, вскрикивал и снова исправлял недостатки композиции. Даже принес и предложил Малахову надеть затрепанный галстук, но он оказался непреклонен, и галстук был унесен. Наконец снимающий подошел к аппарату и плавно, словно совершая магический ритуал, потянул на голову черную ткань. Малахов напрягся, вздернул плечи; фотограф расслабленно помахал рукой:
— Свободнее! Голову поверните влево-влево-влево… так! Внимание… — Пыхнул магний, фотограф выскочил из-под накидки и потер ручки: — Хар-шо-о…
Из фотографии не торопясь двинулись домой, к пирогам и чаю, к тихому вечернему безделью.
А минутой позже в фотографию, только что покинутую ими, вошел агент губрозыска Семен Кашин.
50
* * *Преступники, ограбившие партийца Якимова, — Алексеев, Харинский и Визигуллин — пойманы угрозыском и преданы суду.
* * *По донесению начальника Боровковской милиции губпрокурору, вчера в районе Чугалинского сельсовета, в лесу, был зверски убит селькор центральной крестьянской газеты П. С. Вяткин. В боковом кармане убитого вырученные накануне от продажи овоща 10 руб. 31 коп. не тронуты. Убитому нанесено 8 кинжальных ран в грудь и живот, перерезано горло.
Ведется дознание.
Постукивая костылем, Бабин бродил по зданию, в одном из кабинетов которого помещалась камера народного следователя, и напевал негромко:
Голос у него был приятный, низкий, хоть и хриповатый от усердного пьянства. Иногда нищий подходил к двери, прислонял голову и слушал.
Там происходило опознание личности по фотографии. Понятыми приглашены были: свидетельница по находящемуся в производстве у Вени Карабатова делу о грабеже — девица несомненного поведения, и потерпевший по тому же делу — толстый старообразный парень, одутловатый и нечистый. Девица явно старалась охмурить Кашина: болтала кудряшками и что-то ворковала, пытаясь тронуть за руку, а когда он сердился и одергивал ее, часто дышала грудью и пучила глаза, изображая страсть.
Веня разложил на столе фотографии, заполнил начало протокола и, картинно взмахнув рукой, позвал первого опознающего. Спиридон Вохмин подошел и склонился над карточками…
Фотографию Малахова с семейством принес следователю Семен. Он очень добросовестно поработал накануне: пошел утром по выписанному из бумаги десятника адресу и занял наблюдательный пост за грудой бревен в маленьком переулке-тупичке.
Подозреваемый появился только после обеда, и вот тут-то Кашина и ждало новое грандиозное открытие: вместе с ним спустились с крыльца не только беспризорник Абдулка, но и — батюшки-светы! — Мария Лебедяева, бывшая Черкизова подруга! За ними, спокойно и незаметно, он проследовал в город и отпустил их только после фотографии.
Потрясая мандатом, он с грозным видом налетел на испуганного фотографа, заставил тут же проявить пластинку и отпечатать снимок. Только изъяв его и бережно спрятав на груди под пиджаком, успокоился и отправился выполнять вторую часть намеченной на день программы: покупать галоши сестре Надьке.
…Старик Вохмин бестолково тыкал пальцем в фотографии, все время переспрашивая:
— Это кто? А? А это? А? — в конце концов, кажется, сообразил, что от него требуют, вгляделся и развел руками: — Нет, никого не знаю. Годы — какая уж тут память!
— Не можете опознать среди предъявленных на фотографиях личностей человека, подобранного вами возле дома Филатенковой?
— Нет.
— А сидевшего в коридоре губрозыска двадцать седьмого июля сего года?
— Не могу, не могу! — тряс головой Вохмин. — До того ли мне было, посудите? Кого я там только не видал, разве всех упомнить… Сидел, кажется, какой-то молодец, после на улице ко мне приставал, убить грозился, но — нет, на личности плохая память.
— Следовательно, не помните? — напирал Веня.
— Нет, не помню, куда ж тут деваться!
Старика отпустили и пригласили Бабина.
Бродяга сразу ткнул в вырезанное из семейной фотографии и помещенное среди других карточек малаховское лицо.
— Как не узнать! Это не из-за него, случайно, вы всю мою душу вымотали?
— Еще неизвестно, кто кому, — буркнул Семен.
— Так-так-та-ак… — тянул Карабатов, заполняя протокол. — Теперь мы это дело оформим.
Тут Бабин заметил девицу, приосанился и бочком-бочком начал подбираться к ней. Кашин нетерпеливо ждал, когда следователь кончит возиться с бумагами, чтобы выпроводить их поскорей, — до того были неприятны.
Однако в коридоре раздались четкие шаги, и в кабинет заглянул Болдоев, вызванный Веней по телефону. Он тоже должен был участвовать в опознании. Нищему дали понять, что теперь он будет здесь лицом лишним, и, подписав протокол, Бабин с сожалением удалился. Вышел на улицу и встал против окна, подглядывая, когда освободится намечаемая им на сегодня подруга.
Болдоев недолго задержался в карабатовском кабинете.
Он тоже категорически опознал Малахова.
51
Войнарский вернулся на следующий вечер. Узнав о готовящейся облаве на «малине» у Муськи Сибирячки, затребовал список с составом опергруппы и, поразмыслив, вписал туда свою фамилию. Муська была обыкновенная халда и пьяница, скупщица краденого. То, что на ее квартире устраивают сходки городские карманные воры и форточники, не было тайной для губрозыска. Публика это была мелкая, и прикрывать Муськину «малину» пока не торопились: ворье моментально перебралось бы в другое место, и утратился бы оперативный контроль над ним.
Сегодня был особый случай. Еще в апреле, перебив конвой, бежали с этапа пятеро: убийца, два грабителя, хулиган и карманник. Случилось это далеко на востоке, и с той поры, пятная свой путь кровью, они пробирались сюда, в город, коренными жителями которого являлись и где были в свое время взяты неутомимым губрозыском. Вооруженные, они после побега стали вдвойне наглы и опасны. Хулигана и одного из грабителей застрелили в дороге, и теперь только трое озверевших в одиночестве людей, преступлениями добывая себе пищу, ночлег и одежду, рвались к дому, неизвестно на что рассчитывая. Их ждали здесь, и все-таки поступившие сегодня сведения о том, что эта тройка вот уже целую неделю живет в городе, прозвучали словно гром среди ясного неба. И уж совсем невероятной показалась информация, что все трое вечером появятся в доме Муськи Сибирячки, на воровской сходке. Дома осторожность, видимо, изменила им, коль скоро решились они выползти на люди.
И Войнарский не случайно сам возглавил группу: считал, что начальник должен время от времени принимать участие в рискованных операциях, укрепляя тем самым авторитет. В сегодняшней облаве была для него еще одна деталь: фон, на котором она должна происходить, — сама пропойца Муська и ее окружение, — настолько хорошо были известны оперативникам, что могли настроить их на легкомысленный лад, а это приводит иной раз к печальным последствиям.
Семен Кашин пытался было прорваться к начальнику губрозыска со своим докладом, но потерпел неудачу. Сначала держала стоявшая насмерть в дверях кабинета секретарша, и только удалось, оттеснив ее, упереться плечом в дверь, как она открылась, и Семен головой вперед полетел в кабинет. Юрий Павлович, уже одетый, поглядел на него.
— Ты куда, Сеня? — спросил он.
— Туда! — Кашин показал внутрь кабинета.
— А-а! — Начальник прошел мимо и вдруг остановился. — Разве ты не едешь с нами?
— Вы же меня никуда теперь не берете!
— Э-э! Что за обиды! Оружие в порядке? Через пять минут выезжаем, учти!
Поехали на большой, взятой в ОГПУ грузовой машине. Грузовик трясся и чадил, и Войнарский, сидящий в кузове среди оперативников, болезненно морщился, придерживая пенсне. Поменялся местами с кем-то из ребят и сел рядом с Семеном.
— Ты ходил в артель? В артель, я спрашиваю, ходил? — напряг он голос, пытаясь перекричать дребезжание машины.
Агент кивнул. Неожиданно для себя подмигнул начальнику и прижал к губам палец:
— Что я зна-аю!.. Но это пока тайна.
«Что за тайна? Какая тайна?» — подскакивая на железной скамейке, недоумевал Войнарский.
Кашин и сам не знал, зачем он вдруг ляпнул Юрию Павловичу про какую-то тайну. Просто, наверно, ему не хотелось сейчас разговаривать о главном. Мчался грузовичок, сидели обок с ним, Сеней Кашиным, лязгая зубами на ухабах и заваливаясь на поворотах, друзья-оперативники, прекрасный все народ — и ну их к черту, всякие умствования в кабинетной тиши! Здесь все равны, все одинаково возбуждены и взволнованы предчувствием опасности. Он даже поскуливал от ликования, прибежав к себе в кабинет после распоряжения Войнарского облачаться в старую, обмененную на хромовые сапоги кожаную куртку. И теперь, сидя в несущейся сквозь сумерки машине, он лихорадочно поблескивал глазами, оглядывая серые в начинающейся темноте лица своих товарищей. Радовался: сегодня надо стоять, где поставят, делать, что прикажут, а если уж ошибешься в чем-нибудь, спрос не будет особенно велик, ибо что не прощается человеку, достаточно смелому и отважному! И была мысль среди ликования: есть, есть преимущество в пребывании равным среди равных, обыкновенным опером, розыскником, постоянным членом группы захвата — перед теми, кто считается «королями» губрозыска. «Это дутое величие!» — даже так подумал было Семен, но вовремя спохватился: ему не хотелось терять самому себе предназначенные лавры. Так и остался открытым вопрос: кем же лучше быть — таким, как Миша Баталов, и нести ответственность за все, что ты надумаешь и сделаешь, и тут уж тебе нет скидок ни на смелость, ни на отвагу, — или, затерявшись в массе таких же, как ты, тоже делать свое дело, опасное и необходимое, только здесь уже ответственность ложится не на одного тебя, часть ее берут и товарищи, и начальник, и тот же «король», разработавший операцию, добывший нужные сведения.
План был согласован и утвержден заранее, четкий и тщательный, и в нем каждому отводилось свое место. Оставив машину с притушенными фарами квартала за два от Муськиного дома, оперативники россыпью, кружными улицами и переулками двинулись к нему. Кашин, примкнувший к группе захвата в последний момент, указаний насчет своей роли в предстоящем деле так и не получил. Это его тревожило, и он, увязавшись за Степкой Казначеевым, спросил полушепотом:
— Что я буду делать, Степа?
— Тебе разве не сказано?
— Нет. Я просто не успел.
Степка округлил глаза и сказал восхищенно:
— Но зато какой оперативный простор! — И тут же сжалился: — Ладно уж, держись рядом, что ли.
Они перелезли через забор в огород и заняли место возле окна, по обе его стороны.
Спустя примерно полчаса гости перестали постукивать в двери Муськиного дома: компания собралась. Там началась пьянка, запикала гармошка, кто-то заскакал под нее по избе.
Войнарский стоял на улице, ждал условного сигнала из квартиры: по нему он должен был узнать, есть ли среди гостей те, которых так долго и безрезультатно ищут по всей республике. Наконец отдернулась занавеска, распахнулась половинка окна, и сильный мужской голос дурашливо пропел в темноту:
Поющего оттянули за плечо, прикрыли окно, задернули занавеску.
Выждав еще минут десять, начальник губрозыска покинул свое укрытие, пересек улицу и поднялся на крыльцо. Сунул длинный ножик в дверную щелку, сшиб крючок и вошел в сени. Постучав, встал за косяк. В избе притихли. Гомон смолк, к двери кто-то подошел.
— Чего стучишь? — гнусаво крикнула хозяйка. — У нас все дома, никого не ждем.
— Здравствуй, Муся! — сказал Юрий Павлович. — Это я, Войнарский.
Раздался удар, крик — это отшибли от двери Муську. Загрохотало, пуля, свистнув, прошла сквозь дверь и унеслась куда-то в огороды.
— Это же бесполезно, граждане! — крикнул Войнарский. — Дом окружен, бесполезно, повторяю! Выходи, Ухач! Ты, Фима, тоже выходи! И Свиста с собой захватите!..
— Сволочь, падло… — сипели из-за двери. — Кобра очкастая…
— Ну, некогда мне, — устало сказал начальник. — Имейте в виду одно: учитывая опасность этих троих, мною дан приказ в случае сопротивления просто перестрелять их. Но при этом могут пострадать и… кгмм!.. невинные! Муся, я это говорю относительно твоей компании.
Тотчас за дверью послышались возня, крики, снова выстрелили. Зазвенели стекла, и обезумевшая от страха орава полезла из дома. В суматохе кто-то тихонько отомкнул изнутри дверной запор, и Войнарский проник в избу. За ним тенями пронеслось несколько человек из группы захвата.
В темной избе при свете фонариков обнаружилась такая картина: в углу стонала и материлась, зажимая ссадину на голове, хозяйка Муська. Трое карманников распластали по полу грабителя Фиму и, оттягивая его голову за волосы, с размаху квасили лицом об доски. Карманник Свист с простреленным плечом жался к печке; плечо прострелил напарник в отместку за то, что Свист вел его к старым друзьям-ворам, а привел в засаду. Сам Ухач бился под окном в руках Кашина и Казначеева. Карманники тараканами бежали по огороду, лезли на забор, их излавливали и тащили обратно в избу, пред очи Войнарского. Перепуганных воров он велел отпустить; Муське Сибирячке сам прижег рану на голове; троих пойманных предстояло отвезти в домзак, постановления на арест их были получены еще утром. Сам Юрий Павлович к машине уже не пошел и от предложения подвезти отказался, заявив, что ему тут совсем рядом.
— Может быть, составишь мне компанию, Сеня? — спросил он Кашина. — Тебе ведь тоже здесь недалеко, кажется?
Семен шел рядом с Войнарским и удивлялся: как это он ориентируется кромешной осенней ночью в невообразимой толчее домов, улиц, поленниц и сараев? Начальник двигался медленно, большое его тело устало покачивалось. Он говорил о результатах своей поездки в уезд, где кулаки убили председателя и трех возчиков единого потребительского общества и сожгли их вместе с подводами. Потом переключился на другое:
— Что у тебя новенького?
— Я был в артели, — стал объяснять Семен. Горячности, с какой он вечером пытался ворваться в кабинет Войнарского, не было и в помине, и к своим успехам теперь, после операции, он относился почему-то скептически. И даже удивляться этому не было сил. — Видел этого парня. Самое интересное: он живет с Лебедяевой.
— С Лебедяевой? Через которую вышли на Черкиза? И какие ты сделал выводы?
— Нищий Бабин и Болдоев опознали в нем по фотографии человека, который сидел в губрозыске перед убийством Черкиза. Ну, тот, третий, помните?
— И фото достал, и опознание провел… Все-таки ты молодец, Сеня! А как вы сегодня со Степой Ухача… Постой-постой, там же еще Вохмин и этот, Сабир, что ли?
— Вохмин не опознал. Жалуется на память. А татарин уехал к родне, куда-то в деревню.
— Видел два раза, оба — при исключительных обстоятельствах, и не может опознать? Вроде бы не такой уж глубокий старичина. Что ж, данные интересные. Но какие твои главные предположения, скажи?
Они подошли уже к дому Войнарского. Юрий Павлович остановился у калитки во двор, снял пенсне и провел рукой по глазам. Рот его утратил твердость, стал бесформенным и вялым, подбородок дергался от едва сдерживаемой зевоты, — которые сутки он не спал?
— Я думаю, что это Лунь. — Глядя на начальника, Семен так и не смог сдержаться, все-таки зевнул. И тут же проклял себя: вдруг Юрий Павлович воспримет это как неуместное кокетство? Заторопился и продолжил: — Более того: убежден, что именно он убил Баталова.
— Даже так! Какая же у него была необходимость делать это самому? Мог поручить Черкизу.
— Может быть, отношения между ними не были такими тесными и это убийство мог взять на себя только Лунь? И потом, я считаю, что там обязательно происходили разногласия. Вы поглядите, как хладнокровно он убрал Черкиза!
— Это еще ни о чем не говорит. Ты плохо знаешь этот мир, если делаешь такие предположения. Плохо пока знаешь, Сеня…
— А вы много знаете?
— Ну, много не много, а живу дольше тебя, кое в чем разбираюсь.
— То-то все ворье сегодня поотпускали!
— Куда же было его девать? Карманника можно ловить только с поличным, а так — что толку! Где свидетели, где доказательства их преступлений? Осрамишься на весь свет… Значит, Лунь, говоришь?
— Я так думаю, да.
— Если вышел на него — работай. Но неужели действительно так? Что-то больно уж тебе везет в последнее время… Ты все-таки поосторожнее с этим парнем, Сеня. Здесь может быть не такое простое дело. Помнишь — в ночь, когда мы потеряли Баталова, был убит еще один человек, неопознанный? А почему не предположить, что именно он исполнял тогда чью-то волю? И акт его убийства… продиктован благородной местью, что ли… Я тут как-то с сынишкой разговаривал… Были, помню, соображения на этот счет… но сейчас уже… выдохся, извини… Пока, Сеня!
Он прошел через двор и открыл ключом дверь. Света в коридоре не было. На ощупь, стараясь не шуметь, он стал пробираться к комнате, где спал сын, ожидая его в тревожных снах.
52
Не было спокойно на сердце.
Даже дом и семья не приносили покоя. И Малахов продолжал колесить по городу, вглядываясь в прохожих, а ночами все чаще выходил на крыльцо, под яркие осенние звезды.
Странствуя по улицам, он теперь не узнавал их: это был совсем не тот город, где он некогда жил поздней весенней порой. Этот, теперешний, замечателен был тишиной и спокойствием, соборными звонами, бабьим летом на бульварах. В нем просто не было места котам, фролковым, монахам, страшным и грязным притонам, способным окурить человека до беспамятства. Ни ножей, ни револьверов, ни драк, ни бродяг в низинных лугах, куда приходил он давними временами искать ночлега.
Тогда его, совсем не готового к встрече с тяжким и кровавым полубродягу, искала опасность; теперь он сам искал ее — и не находил, хотя знал, чуял, что она где-то рядом. Но девушки бежали по тротуарам, крепкие ноги в шелковых чулочках летели по осыпающейся листве; почтенные совслужащие, мастеровой и иной работный люд заполняли окружающий теперь Малахова мир; тихие пьяницы грудились у пивных. Однако, отворачиваясь от этого спокойствия, он снова и снова исступленно метался по местам, способным пробудить горькие воспоминания. Что-то должно было открыться ему в этих местах, обратного случая не могло быть, и если бы он произошел и не было бы сдвига в малаховской памяти и душе — сердце надсеклось бы, пустота проникла в него, и он ушел бы из этого города, оставив все, что он ему дал: любовь, женщину, ожидаемого ею ребенка, мальчишку-беспризорника — приемного сына. Он знал, сколь ужасен и для них, и для него был бы этот побег и как он бесполезен, и все-таки предполагал, что он может случиться. И, скитаясь по оставленным в горькой памяти местам в поисках некогда ускользнувшего, Николай сам не знал: отрезает ли он себе путь обратно, к добротной семейной и трудовой жизни, или, наоборот, возвращается к ней. Тогда — покой навсегда. Может быть…
Первым делом отправился он к местам, где проводил некогда свои ночлеги. Там так же помигивали вечерами костерки, грелись возле них люди, ругаясь остуженными голосами, но их было уже мало, да и те собирались уходить перед долгой зимой: кто на юг, кто — в теплые подвалы. Здесь Николай не встретил знакомых и без сожаления покинул пропитанные туманом низины.
Потом песенка вспомнилась ему: «Ты куда, дочи, колечико девала?..» Вот и дом Фролкова, окошки горницы, где он лежал когда-то. Сгорбленная старушка вышла из дверей, прошла мимо Малахова с маленьким узелком. Он провожал ее, идя позади, до церкви. Содержимое узелка было роздано нищим. Постояв у дверей, Николай осторожно проник внутрь храма. Старушка купила свечку, затеплила ее, поставила и стала молиться. Он смотрел на колыхающийся, возносящийся вверх язычок пламени, и не было в нем ни жалости, ни раскаяния.
Следующей памятной вехой была изба, в которой Фролков и бесстыдные девки опоили и окурили его дурманным зельем. Он искал ее долго, но, увидав, узнал сразу. Не стучась, вошел. В пустом грязном помещении его встретила одна девка с жирной спиной, да и от нее Малахов не мог получить никаких объяснений: так бестолкова она была и напугана его приходом. Николай спросил:
«А где же все другие?»
Девка всхлипнула, плеснула ладонями по толстым ляжкам и заголосила:
«Та-ам!.. Все та-ам!..»
Где «там» — он не стал допытываться, и так все было ясно, только сказал на прощание:
«Ну, ты-то почему здесь? Тоже туда иди!»
Она опрокинулась на койку и заголосила еще сильнее, искоса, сквозь пальцы, взглядывая на гостя. Николай сплюнул и ушел.
Последний его визит был к жилищу Филатенковой, кутенцовской марухи. Освободившийся дом занимал теперь приехавший срочно из деревни Нюркин брат с многочисленным семейством — мужик вида угрюмого и решительного. Он так поддал Малахову с крыльца, что тот чуть было опять не влетел в спасший его от Монаха и чекистов сараюшко. Вскрикивая: «Зачем же так? Эх, вы, товарищ!..» — он выскочил из калитки и долго стоял перед домом, сжимая кулаки.
В ярости и тоске он не видел, как за спиной его, на лавочке дома напротив, переговаривались Спиридон Вохмин и только что вернувшийся из поездки к родне Сабир.
— Смотри, Спирька, опять пришел! — волновался татарин. — Уй, хитрый, страшный.
— А, не наше дело! — откликался собеседник. — Тоже мне, пришествие Христа! Кто он мне — кум, сват? И ты в это не мешайся!
Сабир помолчал — видно, обиделся, — но через минуту снова запыхтел:
— Уй, Спирька, неправду сказал. Как не наша дело? Я угрозыск ходил, заявления давал. Защим дорога мостил?
— Какая еще дорога? — лениво спросил Вохмин. — Кто мостил-то, немаканая твоя душа?
— Вон эта, бандит! — Татарин показал на удаляющуюся от дома Филатенковой малаховскую фигуру. — Приехал, вижу — дорога мостит! Я заявления давал.
— Ходишь, путаешься, куда не надо. Гляди, дождешься, что и самого упекут… дурак!
53
Всю ночь Лунь мучился бессонницей. Пил несвежую воду из глиняной корчаги, выходил на улицу и курил, раскладывал при жидком керосиновом свете старые карты. Но не сходился ни один пасьянс.
После того как он убил Черкиза, сразу возникло вдруг несколько затруднений. Исчезла надежда на последнюю акцию со сберкассой — она должна была принести золото, самую абсолютную валюту. Деньги у Луня были, и немалые, но черта ли толку в советских деньгах, когда надо было уже уходить из этой страны, сбрасывать с лица осточертевшую, рабски изъевшую лицо маску? Участь Черкиза все равно была решена, он должен был погибнуть, но немножко позже, в момент их встречи перед отъездом, при разделе золота, ибо так решил Лунь, он же по настоящему имени Виктор Иванович Карамышев, бывший жандармский подполковник, в гражданскую — начальник корпусной контрразведки одной из южных белогвардейских армий. Однако Черкиз так и не узнал, что Лунь совсем не собирается уезжать с ним. Надо было еще немножко повременить: со дня на день ожидался человек из Центра, ему надлежало передать кое-какие связи в обмен на помощь в переходе границы страны, на которую Лунь работал вот уже пять лет. Правда, связей осталось всего ничего, и те дрянные, ненадежные, полунужные… Еще два года назад здесь была довольно крепкая организация, но, как говорится, была, да вся вышла. Одних выхлестнули чекисты, другие смылись куда-то, не оставив следа, третьих пришлось убирать самому за отказ от работы. Из надежных в последнее время оставался один — Черкиз. Когда Карамышев только свел с ним знакомство, он остался не очень им доволен: все-таки занятие бандитским ремеслом позорно для дворянина. Но потом переменил позицию, потому что понял, что за неимением других это пока — наиболее действенное, приносящее немедленные плоды средство борьбы с ненавистной властью. И, придя к такому выводу, Лунь решил сам взять в руки все это темное подполье, объединив его под своей непререкаемой волей. Удалось. Не без помощи Черкиза, царство ему небесное. В самый последний момент пришлось убрать его, и это было неизбежно, ибо по натуре Черкиз — фат и пижон и обязательно бы выдал Луня. Шайка же у него была крепкая, в случае восстания удар в спину новой власти предназначался верный. История знала такие моменты. Об этом мечтал Карамышев в начальный период дружбы с Черкизом. Время шло, шло, и не было никаких восстаний, да и не предвиделось, старая жизнь не возвращалась. Надетая маска стала тяготить Луня. Он долго входил в образ и твердо знал, что с ролью не будет осечки: Лунь считал себя незаурядным актером, брал в свое время уроки у известного трагика. В любительских спектаклях ему не было равных, дамы закидывали цветами. Но носить изо дня в день, не снимая, одну и ту же личину, в конце концов сжиться с ней, дойти до того, что начать порой и думать не по-своему, а мелко и суетливо, — фу, пакость! Тогда как можно, надев свежее тонкое белье, тянуть прохладное шампанское в одном знакомом парижском кафе… Ничего, терпение, осталось недолго, вот-вот прибудет смена, а пока… Обстоятельства сложились так, что этот мальчишка из губрозыска вполне мог сесть на хвост. Нутром матерого контрразведчика Лунь чувствовал опасность, которая ходила рядом, кругом него, хоть и никак не проявлялась внешне. Осторожность, осторожность… Надо и постеречь одного человека, опасно он ходит, и нельзя исключить в отношении его решительных действий. Во всяком случае, надо быть готовым ко всему…
И Лунь, кряхтя, снова поднимался с постели, пил воду из корчаги и раскладывал пасьянсы. Но, как назло, ни один не сходился.
54
Между прочимВЕРХОМ НА КРОКОДИЛЕАнглийские газеты сообщают, что дрессировщик крокодила Уолд, находящийся в Испании, сделал путешествие верхом на крокодиле по морю из Пальмы в Валенсию. Между этими портами 130 миль. Уолд устроил маленькое седло из дерева, поместил его на спине крокодила и уселся верхом. Крокодил проплыл все расстояние в 12 час. 46 мин., и дрессировщик нисколько не утомился. Время от времени он подстегивал своего «коня» палкой, и тот плыл быстрее. Крокодилу, которого оседлал Уолд, 400 лет, зовут его Горацио. Он приплыл в Валенсию вполне бодрый и получил обильное угощение. Публика шумно приветствовала и всадника, и его морскую лошадь.
* * *Один из американских химиков Дюпон считает, что сон, во время которого происходит удаление ядовитых продуктов, накопившихся в тканях в течение дня, скоро перестанет быть необходимостью. Он нашел такой химический порошок, принятие которого внутрь производит необходимую очистку тканей.
Таким образом, скоро сон станет излишним, и бюджет времени человека значительно увеличится.
* * *На днях французская полиция задержала банкира-миллионера Жозефа Оберта. Этот капиталист, как оказалось, наряду со своими подозрительными банковскими операциями, занимался обыкновенным карманным воровством.
Осенняя земля в саду была притоптана и холодна. В том уголке, где пристроился на скамеечке Семен Кашин, тишь и легкая морось. Только издалека, с аллейки, слышались звон и крики: ребята играли в расшибалочку. Агент зяб: он ежился, прятал подбородок за воротник кожаной куртки, однако не уходил. Куда ему было идти? Домой, щунять Надькиных подружек, привыкших к его вечному отсутствию и превративших их каморку в свое постоянное обиталище?..
Однажды летом он так же сидел на этой скамейке; встав с нее, пошел в город и там встретил Мишу Баталова. Желторотик, обдумывающий всерьез-планы поимки какой-то несуразной Лизки Козы, — все же он был счастлив тогда! Вот и нет уже Миши, и никто не ждет его, Семена, и так зябко на этой скамейке… Прошло лето, взят его стараниями Черкиз, но кто увидел, что он умен? Вступил в опасную схватку с убийцей Ухачом — и кто оценил его смелость и удачу? Встречался он этим летом и с симпатичной Симочкой, и с красивой Машей — и ни одной не было дела, что он тоже красив. Теперь Симочка гуляет под ручку с этим долговязым, ничего собой не представляющим Дядьевым, а Лебедяева — та вообще… связалась…
В таких меланхолических, без ожесточения, мыслях Семен Кашин коротал вечер после работы. Удивлялся тому, что еще совсем недавно думал бы и о соперниках, и о тех, кто мог предпочесть ему другого, не иначе, как со злостью и раздражением. Сейчас же он был спокоен, ибо начинал понимать в последние дни, что за красотой, смелостью, удачливостью и умом должно быть еще что-то такое, без чего не добиться ни уважения, ни любви, будь ты хоть трижды смел, умен, красив и удачлив. Это началось у него с той ночи, когда в доме Муськи Сибирячки брали они троих беглецов. Тогда, идя домой вместе с Войнарским, все еще физически ощущая сильное, верткое тело бьющегося в руках Ухача, он думал про Юрия Павловича: вот идет рядом с ним человек нескладный, некрасивый, тяжелый в обращении, вряд ли счастливый, нервный и издерганный тяжкой работой, наверняка позабывший и думать о собственных красоте, смелости и удаче. На него часто злы: он бывает иногда и слишком прям, и просто несправедлив. Однако спроси не только Семена, любого парня из губрозыска, и все ответят: «Нет лучше его!» — «А почему?» — «Просто он — человек!» — и больше ничего не скажут.
Войнарский сегодня не принял Кашина, сославшись на занятость, и Семен расценил это как знак безусловного доверия. Отныне он, прошедший некую проверку, будет самостоятелен, никто не станет опекать его, и отвечать за свои действия будет только он сам. Это сначала обрадовало, потом стало как-то не по себе и наконец стало просто страшить — оттого он и пошел после работы в тихий вечерний сад, сел на знакомую скамеечку.
Сегодня днем он сбегал еще в загс, куда заходили в воскресенье Малахов с Лебедяевой и беспризорником, выпросил у криворотого письмоводителя шнурованную книгу регистрации, и то, что он там нашел, было еще одной из причин его вечернего одиночества.
Зачем Малахову понадобилось жениться на Лебедяевой и тем более — усыновлять мальчишку? Чтобы связать их семейными узами, закрепостить, сплести в один с собой узелок? Это выходило слишком уж по-хитрому: такие гады, как Лунь, всякие людские отношения решают более просто и радикально. Потом — беспризорники слишком вольный и своенравный народ, чтобы их можно было удержать возле себя чем-то, кроме любви. И червячок сомнения впился и глодал потихоньку кашинский мозг. Еще и слова Войнарского о том, что здесь надо быть очень осторожным, были тому причиной. Значит, и Юрий Павлович сомневался на этот счет — такой фактор тоже следовало учесть. А может быть, Малахов и действительно… случайный? Но ведь есть же еще показания Сабира! Что-то здесь не вязалось…
Теперь ты один, тебе не подскажут ни Баталов, ни Юрий Павлович — думай же, Сеня, думай! Но трудно, трудно взять ответственность за чужую судьбу, когда нет уверенности. Интересно, какой путь избрал бы здесь Баталов? Тот наверняка не стал бы колебаться, любую ответственность взвалил бы на себя без страха и сомнения. Семен представил, с каким презрением отнесся бы Баталов к его колебаниям, ему стало стыдно, и он почувствовал себя таким тупицей и мозгляком… Втянул в плечи голову, встал, потоптался и направился к выходу из сада. Было и еще одно: все-таки он втайне гордился своей выстроенной по малаховскому делу логической цепью, и положить на нее крест вот так, сразу, казалось трудно.
«Иди же и действуй! — сказал себе Семен. — Слава и удача ждут вас, синьор! — И тут же урезонил себя: — Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца!»
Он похлопал себя по обшарпанной куртке и вышел на центральную улицу города.
Идти и действовать просто так, не зная всей правды, он уже не мог. Но как узнать ее, правду? Так велика и сложна жизнь, лежащая пока за закрытой для Кашина дверью; для того, чтобы толкнуть ее, эту дверь, надо обладать отвагой незаурядной, ибо кто знает, что встретит тебя на первом же шагу: беседа ли, в которой нет ни лжи, ни настороженности, и тогда многое можно постигнуть, — или выстрел в упор, наповал, и тогда — всё?!
И Семен набирал мужество, чтобы, толкнув эту дверь, прорваться туда, где сердце обретет новое дыхание, опыт и сострадание.
Зачем же, зачем было Малахову жениться на Лебедяевой и усыновлять мальчишку?..
Исчезла морось, и стало даже как будто теплее, едва агент покинул сад и попал в вечернюю городскую жизнь. Сейчас в это время уже стемнело, серые тучи висели над степенно фланирующими или спешащими по делам людьми. Лица девушек были затемнены и таинственны, и многих можно было счесть красивыми в легком полумраке. Вот двое с хихиканьем толкнули Семена, ойкнули и отшатнулись, будто в ужасе. Он вскрикнул дураковато и, забыв все свои мысли, пристроился к девушкам — знакомиться. Ему стало весело среди смеха и беззаботного лепета сверстников, вышедших на улицу в эти часы в поисках запаха осенних деревьев, отдыха и поцелуев.
Однако знакомство так и не состоялось: девицы встретили компанию знакомых ребят и, не приглашая Семена, убежали к ним. Опять он — в который раз! — остался с носом. Но, настроив себя на деловой лад, Семен и не подумал сдаваться.
Счастье ждало его впереди, чуть ниже главного из городских перекрестков; было оно сероглазым и весноватым, в вязаном зеленом берете с помпошкой, роскошном жакетике в узкую талию. Шуршала юбочка-шотландка, постукивали толстые каблуки на туфлях с пряжками — девушка шла по тротуару впереди Семена, неуверенно пытаясь отвязаться от огромного, шпанистого вида парня. Останавливалась и прижималась к стенам домов, когда он клонился к ней, пытаясь обнять. Пробовала звать прохожих, но кому хочется вечером, когда душа стремится к отдыху и покою, ввязываться в какое-то сомнительное дело, терять время, силы, испытывать боль, падать на мостовую, пачкая чистую одежду?
Догнав их и поравнявшись, Семен ухватил парня за шкирку и подтянул к себе. Тот закрутился, беззлобно ругаясь, и в это время агент завернул ему руку. Случайный кавалер закряхтел и выругался уже более основательно. Улучив момент, Семен отшвырнул его подальше, вытащил мандат и, раскрыв его в поднятой руке, крикнул: «Пойдем-ка давай со мной!» Парень присел от изумления, сорвался с места, замешался в толпу.
Прекрасная Дама, вырванная из рук злодея, смотрела на Кашина, однако, с некоторым разочарованием: видимо, шпанистый не был ей совсем уж безразличен.
Но и этот, в кожанке, оказался довольно мил. А когда вышли на густо освещенную центральную площадь и она как следует разглядела его наконец — счастливо запунцовела: парень был красив. К тому же смел и благороден. Так удачный случай помог оценить, в конце концов, незаурядные качества агента второго разряда. Грусть по шпанистому моментально улетучилась, влюбленность понуждала говорить торопливо и сбивчиво, а пора поцелуев еще не пришла. И, не замечая дороги, они вышли к ослепительным витринам кинотеатра «Триумф». Встали в очередь. Семен, холодея, посчитал деньги и успокоился: на два билета хватало. «Хоть бы там не работал буфет», — размышлял он. Но за отсутствием уверенности все-таки продержал свою даму на улице почти до начала сеанса под предлогом красоты вечерних сумерек. Шли мимо, спеша на тот же сеанс, Малахов с Машей и Абдулкой, покрутился у витрины старый Спиридон, шаркая ногами, уныло плелся оценщик ломбарда Бодня, мчалась за город на двух тачанках поднятая по тревоге опергруппа, друзья Семена, но сам он ничего этого не видел, занятый разговором с весноватой и пухлогубой спутницей.
Раздались первый, второй звонки; оттолкнувшись от ограждающих витрину поручней, Семен взял девушку за руку и сладко почувствовал, как пальцы ее дрогнули и разжались в его ладони. Победным шагом, неся перед собой билеты, он шествовал к двери, повернув лицо к той, у которой падала с виска золотая прядка. И хор Гениев из глупого старинного водевиля вопил ему вслед:
55
— Ходит и ходит, ходит и ходит, — ворчал Абдулка. — Второй уж раз прошел. И вчера ходил.
— Кто это там ходит? — выглянула в окно любопытная Маша.
— Вон тот мужик. — Мальчик показал вслед удаляющемуся по улице человеку.
— A-а, этот! Погорелец, нанялся Гришке Зую дрова колоть. Поля говорила — де-ешево!
Николая не было с утра: ушел за расчетом. Тоска по дому одолела мужиков, и артель распалась.
Ожидая его, поиграли в карты. Абдулка все время оставался подкидным, злился и уросил. Маша давилась смехом, била его по лбу растрепанной колодой, — только вдруг заплакала, сыпанув по столу карты, бросилась на кровать, лицом в нежнейшего пуха подушки.
— Ладно реветь-то! — грубо сказал Абдулка и ушел на улицу, не в силах вынести женского страдания.
Что-то поломалось в семье. Николай часто уходил из дома, бродил где-то. Возвращался поздно, торопливо ел, звенел тарелкой, а глаза блестели сухо и болезненно.
«Что с тобой; Коля?» — спрашивала женщина.
Он отмалчивался, натянуто улыбаясь. Об ухажорке не могло быть речи, а тогда что же?! И оба — Маша, Абдулка — мучились, глядя, как спадает с лица этот ласковый и обстоятельный человек. Страдал Малахов, страдала вся семья; нервность и недоверие грозили обернуться близкой печалью. Больше всего боялись: однажды уйдет из дома и не возвратится больше, закрутится и сгинет неведомо куда. Ничего не объясняя, Николай утешал их. Такой вот стала жизнь: без веселья и надежды.
Малахов вернулся раненько, не утруждая себя в тот день блужданиями по городу. Был он чуть хмелен, разговорчив. Поцеловал жену, отдал ей деньги, шлепнул по затылку приемыша и, сев на стул, начал неспешно рассказывать о прощании с артельщиками, друзьями-товарищами. Несколько человек уезжают сегодня, другие разбредаются завтра утром, и завтра утром они с Анкудинычем пойдут провожать их, последних. Другая новость была радостной: через какую-то дальнюю родню десятник договорился, что Малахова возьмут в затон для испытания в работе по плотницкой и столярной части, опять же помимо биржи. Сообщив это, Николай возбужденно заходил по горнице.
— Не верится, да? — спросила Маша.
— Ну что ты! — горячо отозвался Николай. — Это ведь такое дело… что ты! Тоже и о вас подумать надо: поить-то, кормить, тезку в выучку отдавать! — кивнул на приемыша.
Она повеселела:
— Ну и слава богу!
Коли такое настроение — никуда не уйдет!
И снова время до вечера текло в тишине и неторопливости. Крались вдоль улицы озябшие коты — вот один взобрался на проложенную под окнами доску и, остановившись перед стеклом, фыркнул, злобно щерясь, на людей в избе. Еще доносились звонкие стуки раскалываемых дров, покрикивала кукушечка в часах, одетые в атлас и сафьян Милон и Прелеста со старой олеографии, висящей теперь на стене, тянули друг к другу руки, а сверху резвый Амур сыпал на них цветы. Но ни один бутон так и не долетел до них, как не коснулись одна другой их руки.
Когда спустились сумерки, мир и покой, царящие в доме, стали мешать его обитателям. Все трое слонялись, не зная, на чем остановить взгляд. Не вязались разговоры, и карты валились из рук.
— Ты бы пошел, Коля, побегал с ребятишками, поиграл там, что ли? — вяло предложил Николай.
— Чего еще! — огрызнулся мальчишка. — Не нужна мне ихняя игра, не маленький, чай! Да они и не берут, говорят — вор, бродяга… Ну и наплевать!
А к восьми стало окончательно ясно, что дома не усидеть. Первой по этому поводу высказалась Маша:
— Пойти бы куда-то — а, ребята? В цирк бы я сходила. Там музыка, клоуны, уж-жасно иной раз смешно!
— Наверно, не попасть, — подумав, ответил муж. — Пропасть там народу вечерами.
— И правда, — согласилась Маша. — Да и билеты-то, поди, дорогие. Не напасешься — в цирк ходить! А давайте-ка я вас лучше в кино свожу.
— Опять в кино! Позавчера были!
— Так то позавчера! — встрепенулся на стуле Абдулка.
— А и верно, собирайтесь-ка, надо сходить. Что, бишь, там сегодня?
— «Всадник без головы»! — торжественно возгласила Маша. — В главной роли Мориса Джеральда — удивительно красивый и неподражаемый Гарри Пиль! Захватывающие трюковые съемки! Сногсшибательный боевик в семи частях!
Мужчины выслушали информацию с почтением, и, подтверждая эти сведения, Николай высказал свое мнение:
— Да, хорошая вещь!
«Всадник» шел в «Триумфе» давно, и уж никак не меньше двух раз Малахов с Абдулкой смотрели эту фильму, не говоря о Маше, — та вообще без числа. Но так сладостно мерцал всегда экран, так втягивали в себя умещающиеся на нем просторы!..
Они быстренько собрались и по заляпанным грязью улицам, кой-где по узким тротуарчикам стали пробираться к центру.
Абдулка тащился сзади, отягощаемый своею бедой. Он понимал, что молчать дальше нельзя, невозможно. Время неустанно сматывало свои клубки, Никола ходил, как в тумане, блаженный, ничего не подозревал, и только он, Абдулка, — так он думал! — знал правду. Однако не решался сказать ее и мучился с того момента, как убежал от пригревшей его артели, верной еды и надежного крова к голодной и вшивой братве.
Конечно, сказать Николе об оперативнике — дело вроде бы простое, но тогда всплывет невольное предательство, когда-то совершенное, — и сможет ли после этого Абдулкина душа вынести близость к этому человеку? Но что же лучше: сказать — и сгинуть, может быть, самому, или не дать сгинуть другому, назвавшему тебя сыном?
Он догнал Малахова и, оттянув его назад, вытащив из-под Машиного зонтика, заставил идти рядом.
— Слышь, Никола! — Гортань его пересохла, он задыхался. — Никол, помнишь, парень в артель приходил? Ну, красивый такой, в кепочке. Он из угрозыска, Никола, я его знаю. Да про тебя дознаётся, вот что!
— Что же ты… да неужто?! — тревожно воскликнул Малахов. — Зачем же он с тобой разговаривал?
— Приходилось раньше… встречаться. Ты не думай, — заторопился приемыш, — я ему ничего не сказал. А вот про тебя он сильно хотел допроситься. Больше ни про кого. Но я не сказал, ты не думай!
— А что ты можешь про меня сказать? — жестко спросил Малахов.
Абдулка смешался и замолчал, а Николай, добавив шагу, снова пристроился под Машин зонтик.
Но сердце Малахова дрогнуло и окуталось первым предчувствием.
Мальчишка вяло шлепал сзади. Разговор не принес облегчения: ведь он так и не решился сказать полную правду.
Примерно в квартале от «Триумфа», под фонарем напротив булочной, они увидали спящего прямо на земле косматого одноногого мужика с котомкой. Возле него растерянно перетаптывался толстый, прыщавый и белесый дурак.
«Фy ты, дрянь какая!» — воскликнула Маша.
Николай поглядел на освещенное лицо знакомого нищего, и облик его, медленно вмещаясь в загаженную внутренность недавно посещенного Малаховым притона, проплыл и остановился на том месте, где безобразная баба лупила его рваной галошей по косматой башке, а он хвастал своим богатством.
Одной загадки не стало, но и муть не рассеялась, и безразличны уже были и вечер, и кино, и тянуло домой из холодных мозглых улиц, где нет укрытия ни от взгляда, ни от ветра.
Фролков!
Это было второе предчувствие.
— Здравствуй, Паня! — степенно поздоровалась Маша со сменщицей-билетершей.
Та посторонилась, пропуская их:
— Вся, как говорится, компания в сборе? — и вежливо посмеялась вслед.
Они вошли и сели на предпоследний ряд, на места, всегда оставляемые администрацией для разного рода экстренных случаев. Вдруг Абдулка толкнул Малахова в плечо:
— Смотри-смотри! Тот опер, в кепочке! Видишь, с кралей в зеленой кофте? Он, точно он!
Двое — парень и девушка — и верно усаживались в передних рядах, самых дешевых. Они ни разу не обернулись, и Малахов не видел их лиц. Зачем он здесь, этот парень? Нет, неспроста он пришел на тот же сеанс…
Третье предчувствие опахнуло его уже в темноте, когда погас свет и на экране по бескрайней прерии потащился обоз фургонов и дилижансов — в поисках лучших земель, тучных пастбищ, сладкой воды.
56
Семенова спутница, случайная знакомка, сразу забыла о нем, только началась фильма. История горькой любви мустангера к Луизе, прекрасной креолке, поглотила ее, засосала, и напрасно было думать, что она возвратится из черно-белых гасиенд, лесов, таверн и каньонов раньше, чем восторжествуют наконец добро и верность и уничтожено будет зло, повержено в прах. Кашин к картине был довольно равнодушен: слишком хорошо знал эту повесть, чтобы увлечься происками какого-то гнусного капитана из плантаторских прихвостней. «Вот Мишки-то нету, — подумал он и опечалился. — Ему бы наверняка понравилось». По теперешним догадкам самого Семена, добро и зло находились в более сложных отношениях, чем толковалось со старого, засиженного мухами экрана. Он чувствовал себя старым и умудренным, даже чуть-чуть закряхтел, но тотчас опомнился, спохватился и, взяв спутницу за теплый локоть, пожал его. Она зашипела и выдернула руку. Семен затосковал окончательно и стал вертеться по сторонам, вызывая яростный шепот.
С трудом он досидел до конца сеанса, переживая безразличное отношение спутницы. Когда зажегся свет и загрохотали стулья, она довольно долго не двигалась с места, вытирая глаза платочком. Глядеть на нее было смешно и грустно, но Кашин ничего не мог с собой поделать: девушка нравилась ему. Поскольку не терпелось на улицу, где свежо и прохладно, он переключил внимание на толкотню у выхода. К образовавшемуся там круговороту подходили новые и новые, втягивались и исчезали в нем. Вдруг от двери донесся чей-то внимательный и настороженный взгляд, и Семен, невежливо бросив знакомке:
— Мне, извини, надо быстрей! Жду у выхода! — побежал вдоль ряда, сбивая колени об откинутые сиденья. Ввинтившись в толпу, моментом настиг Малахова и, напряженно улыбаясь в испуганное лицо, сказал:
— Здравствуйте, Малахов! Есть разговор, вы подождите…
Кашина развернуло в толпе, Малахов исчез, и перед агентом нос к носу появилось удивленное лицо Лебедяевой:
— Эй, привет, Купидон! Как живешь? Кого ищешь? Теперь, поди-ка, и работать нечего?..
— Да нет! — ответил он, застеснявшись. — Есть кое-что, маленько!..
Но вот всех выбросило в тоннельчик, и они оказались все четверо друг против друга.
— Мне надо поговорить с ним! — указывая на Малахова, сказал агент Маше и Абдулке. — И с вами. Но сейчас вечер, здесь шум, люди; наверно, лучше бы все-таки завтра, в губрозыске. Однако главный вопрос я хочу задать теперь. То есть не здесь, конечно, а по дороге — провожу вас, ведь это можно?
Они ничего не ответили. Маша, нервно комкая ридикюль, шатнулась назад, в тень, чтобы не видеть малаховского лица, а Абдулка, забежав вперед, на цыпочках крался к выходу из тоннеля, окидывая иногда взглядом шествующую впереди троицу. Желтый свет одинокой тоннельной лампочки кончился, и в редкой уже толпе они вышли на улицу.
Приемыш выскочил первым — и тотчас темный, терпеливый силуэт, уже знакомый ему по сегодняшнему дню, откачнулся в сторону и замер у витрин, прячась за прохожими.
…Что-то оглушительно треснуло в стылом воздухе, и Малахов, выбросив вперед руки, начал падать на заляпанный грязью тротуар. Он почувствовал грохот прежде, чем тот раздался; удивленно повернувшиеся в сторону его глаза, еще не заполненные болью, четко отразили бледный, мелькнувший в оранжевой вспышке лик. Тогда не стало другой загадки, вспомнилось: он лежит в повозке, и седой человек что-то приказывает мужчине, таинственное отношение к смерти которого в ресторане «Медведь» имела его нынешняя жена, Мария.
А потом стало больно, и он не мог уже вспоминать, только видел неестественно большие и темные, заслоняющие фонари, лица склонившихся над ним. Они плыли, уносимые кровавым туманом, боль колола сердце, и вот только трое остались, и он узнал их и шевельнул губами; они обозначили его жизнь и сейчас требовали его возвращения: женщина, с лентой вокруг волос, в ореоле тополиного пуха, давшая ему любовь; мальчуган, встреченный на берегу, в низине утренней реки тогда, когда пришло время задуматься о смерти, и незнакомый парень, с которым предстояла, но так и не случилась длинная, добрая и задушевная беседа.
Он уходил от них, а они звали, чтобы он вернулся.
Николай еще мог сказать им — тогда бы они все поняли, простили его — но глаза, открывшиеся последним, усилием, стекленели уже, сердце остановилось, и он умер.
После выстрела, когда Малахов стал падать, будто наткнувшись на тонкую стенку и обрушив ее, Семен, забыв обо всех оперативных заповедях, даже не обернулся в сторону, откуда вылетела губительная пуля. С одной мыслью: спасти этого человека! — он кинулся к Малахову, но не успел даже подхватить его. Тот дышал еще, хлюпая грудью, силился что-то сказать агенту, но и прислонившись ухом к его губам, Кашин не разобрал ни слова.
Маша с воем ползала на коленях вокруг простертого тела, пластая чулки.
Не было и не будет плача горше.
А Абдулка, приемыш, бежал в это время по темным переулкам, задыхаясь и припадая к земле. Жался к заборам, когда возле редких столбов с подвешенными на них бледными лампочками останавливался, оглядываясь и отдыхая после убийства и бега, Спиридон Вохмин.
…Той ночью на улице Борца Революции Рыбина, подожженный Абдулкой, сгорел дом старого Спиридона. Выследив его, а затем проникнув в избу, мальчишка не обнаружил там хозяина: Лунь успел уже скрыться известной только ему дорогой.
Той же ночью Абдулка, спасаясь от сырого, хлещущего по сторонам товарняка ветра, корчился на тормозной площадке, направляясь в далекую сибирскую сторону — туда, где в синем краю братва обитает вольно и зажиточно, без крови, обид и житейской неразберихи. Свет звезд провожал его, ветер, срывающийся с крыши вагона, студил худое тело, и далекая впереди лежала дорога. И не в Сибири она кончалась, не мерены были ни ее версты, ни часы, ни годы.
Той же ночью ушел из города нищий Бабин с дурачком Терешей Рюпой. Они пробирались в заветную Лавру, к скудному, но надежному монастырскому куску — до следующей весны.
Этой ночью самовольно окончил свою жизнь, прекратил ее движение в потоке чужого и непонятного времени ресторанный баянист, бывший консисторский чиновник Витенька Гольянцев.
Разбрелись по деревням артельщики, унося память о знойном лете, дождливой осени, городских мостовых, уложенных большими, сплюснутыми вечной работой жёсткими руками. Вряд ли эта память была долгой; во всяком случае, когда они другими годами приезжали в город за утварью или по каким-либо иным крестьянским делам, то лишь отмалчивались, слушая Анкудинычев рассказ о малаховской гибели. И то — мало ли у них было своей беды!
А наутро старый Бодня, оценщик городского ломбарда, пришаркав на работу, отпер большим ключом кованую дверь и, бросившись к прилавку, заласкал, щупая чуткими пальцами, изящные, когда-то кропотливо сработанные иноземные часики, недавно снова отданные в залог красивым парнем в кепочке и кожаной куртке.
ЭПИЛОГ
Прошло пятьдесят пять лет.
И встретились два человека.
Встреча не была случайной, перед этим один искал другого — долго, настойчиво, неутомимо, пока не нашел. Родной сын Николая и Маши, войдя в зрелые, близкие к старости года, поставил себе цель — разыскать мальчишку с блеклой, бережно хранимой им фотографии, с которой, молодые, живые, глядели мать и отец.
Сын Малахова не носил его фамилии: скоро после описанных в романе событий Маша уехала из тех мест куда глаза глядят и приткнулась на жительство в рабочей слободе небольшого волжского городка. Там и родился Колька. Когда горе приглохло, Маша вышла замуж за мастерового человека. Детей у них не было, и они баловали Кольку. Но в войну погиб на фронте хозяин, а чуть погодя ушла следом сама Мария Аверьяновна: полезла за картошкой в погреб да и осталась там, в темном подвале, схватившись рукой за сердце. Прибежал из ремесленного сын, спустился в открытый погреб и закричал, заколотился о стылую землю. Горе, горе! И не было ему, рано узнавшему одиночество, с той поры покоя, особенно в долгие осенние вечера, когда свищет на улице ветер и рвет мокрое белье с веревок…
В сущности, нас не должны особенно интересовать ни фамилия, ни иные данные этого человека, ровно никаким образом не участвующего в основном сюжете. Можно назвать его просто: Сын. Но как тогда быть с другим — тем, кто сидит сейчас напротив него?.. Поэтому обозначим для удобства повествования: Николай Николаевич Бачурин, инженер завода в родном ему волжском городке. Женат, взрослая дочь, внучка… Что же пустило его кружить по России в преклонном возрасте, какая боль, какая забота?
Скорее всего — потребность в памяти. Потребность, возникающая у людей после какого-то возрастного порога. И чем дальше по жизни в сторону заката, тем больше эта потребность. Надо оставить память, надо — оправдать перед потомками не только свою собственную, но и жизнь родителей, и более давних родственников. В молодости об этом не думает никто. В старости же — очень и очень многие. Чтобы привести в полный порядок алтарек своей памяти, Бачурину недоставало именно ясности с братом, пасынком его матери и отца, исчезнувшим в тот вечер, когда был убит отец… Но почему он это сделал? Просто — взял и убежал? Нет, что-то тут не сходилось… Чтобы разобраться с мучившим его вопросом, Бачурин ездил на родину матери, рылся в архивах, выяснял, кто занимался делом отца. Встретив фамилию Кашина, стал разыскивать его. Однако из людей, работавших в то время, никого уже не осталось в живых. Только профессор медицины Тимофей Егорович Кипин, бывший главный хирург области. К нему и пришел как-то вечером сын Малахова и Лебедяевой. Старик расчувствовался, долго рассказывал о том времени, о работе, о Войнарском, умершем в тридцатом году от инфаркта, о Степе Казначееве, убитом в том же году на раскулачивании…
Под конец сказал:
— Да, насчет Кашина. Адрес его я дам, сами сходите, узнаете, что нужно…
И от старого, сухого, с подернутыми катарактой глазами Семена Ильича узнал Бачурин историю, которой никогда не знал раньше. Ведь мать говорила, что отца убил неизвестный бандит, когда возвращались из кино. А тут было — жаркое лето, дорожная артель, встреча тополиным днем, мальчишка-беспризорник Абдулка, Черкиз, старый Лунь… Луня задержали в Туапсе через неделю после побега. Тогда и выяснилось, почему он убил свою жену. Прознав о его двойной жизни, она решила заявить об этом, как уже сделала однажды, в случае с первым мужем. Написала бумагу и положила за божницу, не рассчитывая, что Лунь явится ближайшей ночью…
Однако самое главное, что сделал Кашин, — это рассказал, как и где стал бы искать брата, доведись ему быть на месте Бачурина. Дело в том, что он пережил еще одну встречу с Абдулкой. И произошла эта встреча на войне летом сорок четвертого, когда инженерный батальон капитана Кашина гатил дорогу для танков через белорусские болота. Перед тем как начать движение, к нему подошел командир роты, которой первой предстояло идти над топью, и отрекомендовался: «Старший лейтенант Малахов». Капитан сразу узнал его, услыхав фамилию и вглядевшись, но не подал виду, а только спросил, не приходилось ли тому бывать в местах, откуда сам он, Кашин, родом. Малахов ответил, что приходилось, но только в детстве, когда беспризорничал. «А откуда призывался?» — снова полюбопытствовал Кашин. «Из Иванова», — скупо ответил тот. Они прошли по гати, и Малахов заторопился к машинам. Когда первый танк загрохотал мимо капитана Кашина, стоящий в башне человек вдруг сдернул с головы шлем, махнул им в его сторону и что-то крикнул, склонясь с брони. Семен Ильич вытер рукавом слезы и поднял вверх фуражку, провожая колонну. Лучше всего было бы теперь посидеть тихонько одному, вспоминая прошлое, а нельзя — пошло большое наступление, в нем нет покоя ни днем ни ночью! Как, впрочем, всегда на войне…
Ни до, ни после этого случая жизнь Кашина не была легкой. Из угрозыска поступил по комсомольскому призыву в военно-инженерную школу, войну встретил кадровым командиром, «отпахал» ее всю — с госпиталями, наградами, взлетами и падениями, закончил боевой путь в Праге и остался служить в армии. Вышел в отставку подполковником и с той поры безвыездно жил в родном городе. Жена его умерла, но семья осталась большая: сыновья, дочери, внуки, правнуки…
— Я бы искал этого Абдулку в Иванове, — такой совет дал Кашин Бачурину. — В войну он был уже в том возрасте, когда редко меняют жительство. Придешь в адресный, назовешь данные: Малахов Николай Николаевич, года примерно с четырнадцатого-пятнадцатого…
Два человека, два брата вели разговор в маленькой однокомнатной квартирке Малахова, на пятом этаже старого дома.
Сразу между ними возникло неравенство отношений. Малахов, выслушав рассказ Бачурина, кивнул коротко и согласно и сразу перешел на «ты». Инженер не мог пока преодолеть этот барьер.
— Как нам называть друг друга? — сказал он. — По имени-отчеству не очень, вроде, удобно, ведь мы полные тезки. Просто по именам — тоже не совсем…
— Мне все равно. Зови хоть по имени, хоть как. Это неважно. А Николу с Машей я часто вспоминаю. Хорошие были люди! Пропал бы я без них. Вот отец твой — он мне веру в людей дал, а без нее — трудно выжить… Ты говоришь, был у того оперативника, что Николой тогда занимался? Я его тоже помню. Особенно первую нашу встречу. Нет, он парень был наверняка хороший, понравился даже мне. Спросил, где живу, да как, мелки цветные пообещал купить. Если, мол, совсем худо станет, так ты приходи, что-нибудь надумаем. А вот хочу ли я жрать — спросить и не подумал. Пустой вышла его доброта, и человек сразу стал виден. Отец твой поймал меня, когда я кошелек из его кармана тащил, и все-таки хватило у него после этого души не только накормить, но и в сыновья меня записать. Вот почему я — Малахов!
— А я нет, — сказал Бачурин. — Ну и что?
— Нет, ничего…
Стало тихо. Только снизу неслись к окнам звонки трамваев и крики ребят.
— Взять постороннего, — прервал молчание гость, — так нипочем не угадает, кто из нас настоящий малаховский сын, а кто нет. Если станет судить по фамилиям, так даже сомнений не возникнет.
— Угадает не угадает — какая разница? В том ли дело? Неужели для тебя это так важно? Ты вот говоришь: сын, сын, настоящий, не настоящий. Да ведь для Николы-то, отца твоего, мы одинаковыми были бы, разве он нас по этому бы различал? Гораздо важнее — быть ли нам братьями, вот где серьезный вопрос стоит. Годы, судьба — все разное…
…У Абдулки жизнь тоже сложилась непросто. Школа-коммуна, неудача с поступлением в художественное училище, скитания, случайная встреча с Ванькой Цезарем, воровские «малины», годы заключения. Вырвавшись из этого круга, он стал работать шофером в Иванове, учился на курсах механиков, а перед войной был призван в армию. Служил на Украине, там женился, там встретил войну. В первые ее дни погибли под бомбами его жена и маленький сын…
А он остался жить. Военная дорога дышала смрадом горящих танков и тел в них, рвалась оглушительным грохотом танковой пушки, прыгала в триплексах пехотными колоннами, падала осколками в кровавый медсанбатский таз…
После войны он вернулся в Иваново и бобылем прожил там до пенсии, работая в гараже.
…Перед тем как лечь спать, братья спустились в небольшой дворик, зажатый между домами. В темном небе пылали сполохи: где-то далеко за городом собиралась первая летняя гроза. Пахло сиренью.
— Еще одна весна позади! — сказал Малахов. — Говорят, что это — самое неблагоприятное для старых людей время. Какое-то физиологическое объяснение. А я думаю, что мы мрем весной от радости и воспоминаний. Осенью — от тоски, что можем не дожить до другой весны… А теперь вот — снова лето! — продолжал он. — Наверно, ночью будет дождь, смочит зелень. Еще на моей памяти здесь был густой лес, куковала кукушка. Спросил бы сейчас: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?» — да не у кого.
Далекие молнии освещали его лицо, и Бачурину показалось на мгновение, что это блики пожара играют на лице мальчишки, только что поджегшего дом старого Луня.
— Все-таки странно, — Бачурин остановился, повернулся к Малахову. — Все жили, проходила жизнь. Прошел отец, прошла мать, проходим и уйдем мы. Останутся другие — моя дочь, внучка. Но ведь и у них не все будет в радость. Отец с матерью вот думали, что у их детей все будет нормально, а однако же не так получилось, как они хотели. Я иногда думаю в хорошие минуты: «Ну, вроде, все, дальше уж не будет ничего дурного. Хватит, сколько можно?» Время пройдет — и снова… Вот и вспомнишь: «Долго ли муки сея, протопоп, будет? — Марковна, до самыя до смерти! — Добро, Петрович, ино еще побредем…»
— В радости ли все дело? — помолчав, ответил Малахов. — Она — цель, надежда, без которой нельзя жить. Но у жизни должны быть и другие мерки. И себе я отвечаю на этот вопрос так: жили — значит, была в нас нужда…
— А исчезнет она — значит, и нас не станет? Уйдем вместе с памятью?
— Так не бывает. Что-нибудь все равно остается. Есть стихи, я прочту тебе их, послушай:
Гроза разворачивалась и заслоняла звезды. Молнии озаряли двор. И нервный, дрожащий свет близких улиц прыгал и отражался в окнах верхних этажей.