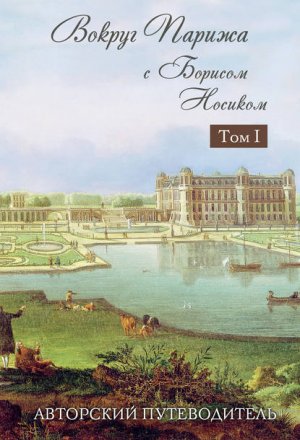
Остров, к которому мы причалили
С юных лет я любил бродить по островам и, грех жаловаться, посетил их немало (все же меньше, чем мечталось). Все путешествия (даже неудачные) незабываемы – от поездки на Хачин, что посреди Селигера, до путешествий на малайский Панкор, на Джербу, Тенерифе, Мэн, остров Беринга, Олерон, Белый, Диксон, Майорку, Крит, Сардинию, Суматру, Сицилию, Колгуев, Делос, Кипр…
И вот мы отправляемся с вами на Французский Остров… Что за название такое «Французский Остров» и где он лежит, в каком океане? Что за волны плещут у его берегов? Понятно, что волны Франции и Европы, но все же… Это что – официальное географическое название? Конечно, официальное, и притом вполне точное. Но, конечно, и поэтическое название тоже. Полагают, что впервые оно появилось в XIV веке у летописца и поэта Жана Фруассара, а называют Французским Островом центральную часть Парижского бассейна: от Парижа километров на 80–100 в окружности. И впрямь нечто вроде твердого острова, намытого былым морем, покрывавшим некогда всю низину. Остров, омываемый здешними реками – Сеной, Уазой, Марной, Урком, их множество то лениво плещет, то интимно журчит вокруг Острова.
Поэтическое это название оказалось очень точным. Уже много столетий оно приводит в восторг и географов и поэтов. «Что это за остров? или островок? – восклицал три четверти века назад завсегдатай «Клозри де Лила», парижский «король поэтов» Поль Фор. – Какие глубокие воды и волны подступают к этой земле в отдалении от всех миров?…Границею вод над тростниками тянется лента туманов… О ты, граничащий с Марной и Сеной, Уазой и Тэвом, Бёвроном и Луэном, ты воистину остров! Но может, ты остров мечты? Нет, ты и впрямь остров, остров тонких оттенков, своеобразная ограда, в которой дремлет, мечтая, Франция…»
Другой французский поэт (Валери) встревоженно и интимно перекликался с бесценным островом:
На счастье, у острова этого не только тысяча лиц, но и тысяча голосов. А сокровища Французского Острова несметны. Настоящий Остров сокровищ: сокровища природы, произведений искусства, создания интеллекта и рук человеческих, памятники истории, отзвуки человеческих судеб… Ибо острову этому суждено было стать ядром Франции, колыбелью французской монархии, городом, объединившим страну, городом религиозных святынь, соборов и монастырей, родиной поэтов и мыслителей. История сделала свой единственный выбор – силы притяжения потянулись не к великолепным Орлеану или Отёну, а к маленькому, зачуханному Парижу. Но Остров не исчез, не растворился, не затерялся в толчее Парижа. Он сохранил свое лицо, он отстоял свою непохожесть, которую подпитывали соседи – Бургундия, Нормандия, Шампань… А где они нынче, здешние паризии, здешние франки, где все эти страны, о которых еще помнят, – Валуа, Гатинэ, Вексен, Мантуа, Юрпуа, Бос… О них порой напоминают названия здешних деревень (Руасси-ан-Франс, Кормей-ан-Паризи…). А то вдруг какой-нибудь старый крестьянин из Бри, перебираясь на правый берег Сены, заявляет, что он ненадолго, до обеда, съездит во Францию. Или какая-нибудь бабуся в Лаоне, отворачиваясь от южного ветра, жалуется, что нынче дует из Франции… А ведь она даже раньше, чем «затерялась Русь в мордве и чуди», шагнула вширь, страна Франция…
Конечно, историки спорят и о датах образования Острова, и о его границах. Историк Марк Блох, который в публикации 1913 года сообщил, что он отыскал название Острова в хрониках Фруассара, упомянул, что оно отнесено там уже к 1387 году. Другие историки нашли такое же упоминание в королевском акте, выданном знаменитому соратнику Жанны д'Арк Лаиру в 1433 году (там сказано: «…в странах Иль-де-Франс, Пикардия, Бовэ…»). Но еще и во времена Людовика XIII к собственно Острову причисляли лишь страны Валуа, Мантуа, Юрпуа, Французский Бри и Французский Гатинэ… На севере границы Острова проводят по болотам и лесным речкам – то по Тэву, то по Нонетте, то в лесу близ Руайомона, то северней Санлиса, в лесу Алат…
От далеких времен сохранил Французский Остров соборы и аббатства, картины, замки, города и деревни, виллы художников, дома, где писали стихи и сочиняли музыку, где рождались и умирали те, кто составили славу Франции. Сохранил романтические дворцы, стены которых помнят звуки шагов прекрасных женщин, крики страсти, любви, муки и ненависти…
Здесь получили развитие или даже были рождены стили архитектуры, которые называли французскими и королевскими. Здесь рождались города и городская архитектура. Здесь стоят над гладью прудов и рокотом каскадов, над выверенными коврами французских садов и лабиринтами парковых дорожек прекрасные замки, творения лучших зодчих Франции (туристу не обязательно мчаться к ним за сотни километров на Луару). Здесь выдерживали лучшие сыры и вина. Здесь вызревали французские вкусы… Здесь могилы французских королей и многих знаменитых людей Франции. Есть и русские могилы (не только в Сент-Женевьев-де-Буа, но и в Бийанкуре, и в Монморанси, и в Иври), потому что на Острове жили русские изгнанники «первой волны» русской эмиграции (островное жилье было дешевле парижского).
Конечно, впервые приехавшему в Париж хочется прежде всего насмотреться на знаменитый Город-Светоч. Парижа может хватить на месяцы и годы. Но через несколько дней в рассуждениях утомленного городом энтузиаста появляются элегические ноты. Он вдруг заявляет, что хочет увидеть Францию. Потому что Париж – это еще не вся Франция. И как писал кто-то, Париж – это не Франция, это особый мир (кто-то писал и о том, что Нью-Йорк не Америка, а Москва еще не Россия, что ж, в этом немало справедливого). А он, приезжий, хочет погрузиться во французскую глубинку, постоять рядом с удильщиком на берегу, пообедать в деревенском ресторане, посидеть с кружкой пива среди «простых французов». Он хочет подышать духом провинции. Ему надоела толпа «бывших провинциалов», вообразивших себя столичными жителями…
Вот тут на помощь и приходит Французский Остров, где есть и «глубинка», и глушь (в получасе езды от Парижа), и чудесные замки, и потрясающие музеи, и фермы, и запах конюшни, и королевские парки, и холмы, и речушки, и цветущие поля рапса и подсолнухов, и пшеница, пшеница, пшеница… Мягкие очертания сладостных пейзажей Иль-де-Франс воспеты французской поэзией, а также куда более известной и влиятельной французской пейзажной живописью.
И любители провинции и глубинки (я лично из их числа) ловят не меньший кайф, чем на площади Согласия, на площади какого-нибудь крошечного французского городка (с полтысячей душ населения), стоя у старой кирпичной мэрии, среди моря цветов, в кругу искусно обстриженных каштанов. Или у портала средневековой церкви. Или под стенами старинного замка, от которых ручьями сбегают вниз узкие улочки, застроенные старыми, элегантными деревенскими домами. Над цветущими садами, где зреют фрукты и жужжат пчелы…
На все четыре стороны уходят от Парижа дороги. От «национальных» же госдорог (безликих автострад мы вообще избежим, конечно) веером расходятся департаментские шоссе, а в сухую погоду доступны и лесные, и проселочные дороги, которые тут отнюдь не плохи… И каждая дорога (как и каждая станция железной дороги с ее мирным буфетом) припасла свои тайны и свои сокровища, потому что он и вправду Остров Сокровищ, этот Французский Остров, Остров Франции, Ile-de-France…
Что ж, если вы решились двинуться в странствие по знаменитому этому острову Иль-де-Франс, выберите себе сами направление, а из нашего списка в конце книги выберите и потом найдите на какой-нибудь хорошей, подробной карте и города, и деревни, и замки. А мы уж постараемся быть вам полезными и любезными собеседниками в дороге – о чем еще мечтать автору?
Начать я полагал с поездки на север, а потом на восток (все ведь мы чуток северяне и чуток евразийцы), но всегда можно переиграть очередность. Что же до ближних пригородов Парижа (туда нынче без труда домчишь на метро и в автобусах), то с ними немало связано русских, эмигрантских воспоминаний: здесь следы Цветаевой, Бердяева, Ходасевича, Мечникова, Карсавиных… Здесь возникали малоизвестные тогдашним французам, да и тогдашней России тоже, «мозговые центры» эмиграции, а порой – и шпионские центры. Здесь жили эмигрантские герои, гении, мученики… Но и злодеи тоже… И еще одно предлагаю для начала – съездить в один замечательный старый замок, который стоит в юго-восточном парижском пригороде, потому что с него не одно только наше странствие начаться может, но и любое погружение в глубины французской истории, ремесел, искусств, любовей…
Могучий Венсенский замок
Эта великолепная устрашающая крепость на ближайших восточных подступах к столице Французского Острова, так похожая, по меткому наблюдению Мишле, на боевой английский замок, увы, не пользуется любовью могучей здешней индустрии туризма, как все коммерческие организации желающей сделать цену своих услуг весомой, – иначе и клиент уважать не будет. А Венсенский замок… что ж, сел в поезд метро первой линии – и ты уже здесь, затраты минимальные (разве что в замке заставят взять гида)…
Ну а нам с вами что до конторы туризма? Мы свободные люди. Мы поедем в Венсен. Доедем на метро, а от станции пешочком…
Уже на подходе к этой гигантской квадратной крепости, с ее оборонительными стенами и рвом, с ее девятью неприступными высоченными башнями, мы почувствуем веяние истории, ощутим запах пороха, трепет битвы, неизбежное чувство беды, угрозу неволи (тут ведь и тюрьма была тоже)…
Но отчего же все-таки не в Венсен везут вас туристские гиды, если здесь такой жуткой и подлинной красоты высится замок? Если здесь это странное и влекущее сочетание грозной крепости с парадным двором XVII века, с итальянскими портиками? Если так подолгу и так часто жили здесь короли, пировали, справляли свадьбы (и Филипп III, и Филипп Красивый и прочие), если здесь умирали они, отбывая, скорей всего, в ад, – и Людовик X, и Филипп V, и Карл V, и три последних «про́клятых короля» из династии Капетингов, и бедняжка Жанна Наваррская (которая тут праздновала свадьбу с Филиппом IV, имея от роду одиннадцать лет, – берегите дочек, им и нынче страшновато в Париже)… Да и Карл IX (один из виновников Варфоломеевской ночи) умер здесь, терзаемый видениями кровопролитья, и Генрих III, и воистину всесильный Мазарини (даром, что ли, суеверный монарх Миттеран назвал его именем любимую внебрачную дочь), и английский король… А Людовику XV прадед его, умирая, завещал немедля удалиться из Версаля в Венсен ради одного только здоровья, потому что место в Венсене здоровое и воздух там целительный, чистый (точнее, был чистым). И правнук послушался, высидел в этой глуши целых десять недель – кто ж больше высидит, стосковавшись по суете и вони версальского муравейника?
Впрочем, до конца Старого режима (до революции 1789 года) еще далеко, не будем забегать вперед и наспех прокручивать пленку (даже ту торопливую, видеозвуковую, что демонстрируют терпеливым туристам в донжоне здешнего замка). Вернемся в IX век, когда Венсен стал собственностью французской короны, а здешний лес – любимым охотничьим угодьем королей.
Людовик VII построил на том самом месте, где нынче замок, охотничий дом, и короли зачастили сюда. Но не Людовик VII вспоминается нам, никогда не зубрившим наизусть здешние хронологические таблицы, а Людовик IX, тот, что был прозван Святым. Благодетель монастырей, строивший не дворцы с бальными залами, а бенедиктинские обители и великие кафедральные соборы во славу Божию, ставшие средоточием городской культуры, того, что называют «искусством Франции» и «искусством королей». Король Людовик Святой, который уже и двадцатилетним призывал к аскетизму и хотел стать францисканцем, а позже обрел и богатство, и великий престиж в целой Европе.
Самые прилежные из здешних школьников помнят рассказ Жуанвиля о том, как, сидя под дубом в Венсене, Людовик Святой сам творил правосудие. Он не считал свою власть просто земной, он и себя называл человеком церковным… Как же нам, добравшись сюда, не прислушаться к шелесту венсенских дубов?
Людовик IX воздвиг здесь Святую часовню (Sainte-Chapelle), наподобие тех, что были построены в Париже и тогдашней слободе Сен-Жермен. Сюда должны были перенести одну из игл с тернового Венца Христова (на дворе еще только 1239 год)…
В нынешний могучий замок, напомнивший Мишле своим обликом английские замки, превратили Венсен короли династии Валуа. Первый же из них (он звался Филиппом VI) в 1334 году начал строить главную башню, донжон, и при жизни (он умер в 1350 году) успел только заложить ее фундамент. А тут некстати – Столетняя война, опустошившая казну. Но в 1361 году король Иоанн II Добрый все же продолжил работы, а закончил строительство башни Карл V, который перевез сюда библиотеку и переправил часть казны. При Карле V была построена и квадратная оборонительная стена с башнями. Теперь, как сообщает старинная хроника, здесь могли поселиться королевские «избранники», но они не спешили переселяться, и ограда все пустовала. Карл V разобрал Святую часовню Людовика IX и заложил первый камень в фундамент новой Святой часовни.
Потом замок попал в руки заклятых друзей – англичан, и на постели Карла V умер в 1422 году от дизентерии их король Генрих V (чем было закрепить желудок в 1422 году?). Через десять лет англичан выгнали, и Карл VII стал приводить замок в порядок. Ему здесь нравилось. Он первым возвел очередную любовницу (Даму Красоты) в ранг официальной «фаворитки» и поселил ее поблизости – на Марне, в Ножане, в Городе Красоты, в Замке Красоты. И не узнаешь, была ли она красива, ведь преувеличение различий между дамами – это и есть Любовь. Звали ее Агнеса Сорель, с нее и пошла эта высочайшая должность официальной любовницы короля при французском дворе, столь высоко ныне оцениваемая историками-феминистами. Всему начало в Венсене…
Людовик XI, не слишком любивший Венсен, все же строил тут что-то, а Франциск I привлекал к работам самого Приматиче. Он, кстати, достроил и Святую часовню, освящать которую довелось уже не ему, а Генриху II (в 1552 году). Понятно, что при Генрихе II и Дама Красоты объявилась в Городе Красоты новая – Диана де Пуатье.
Но вот роковая перемена венсенской судьбы: короли охладели к чудному Венсенскому лесу и Венсенскому замку. Они предпочитали теперь Фонтенбло, Сен-Жермен-ан-Лэ или дальние замки Луары. Замок Венсен становится тюрьмой для «высокочтимых гостей». Короли наезжают сюда редко, а выдающихся узников держат в донжоне. Екатерина Медичи упекла сюда Генриха Наваррского (будущего «доброго короля» Генриха IV), а во времена Фронды отведали венсенской тюремной баланды герцог Бофор (сумевший, впрочем, бежать отсюда в 1648 году), кардинал Ретц, герцог Лонгвиль и его брат, принц Конти, – всё, как видите, чистая публика.
При Людовике XIV сюда упрятали беднягу Фуке, колдунью Вуазен (по делу об отравлении), в 1695 году – основательницу «квиетизма» мадам Гийон, а в 1707-м – янсенистов.
При Людовике XIV Венсен становится, как выразился Вольтер, «приютом отчаянья». Кребийон-сын был заключен в тюрьму в 1734 году, Дидро за свое «Письмо о слепых в назидание зрячим» – в 1749-м (здесь его и навестил Руссо, как раз в ту пору, когда он нашел для себя ответ на вопрос Дижонской академии о том, «способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов»). Латюд дважды бежал из этого несовершенного учреждения – в 1750 и в 1765 годах, а маркиз де Сад пребывал в этих стенах в 1777-м по соседству с Мирабо, который отсидел три года за участие в дуэли и провел время с пользой, сочинив здесь памфлет и «Письма к Софии».
В 1848 году сюда привезли сразу много врагов Второй империи (среди них были Барбес и Бланки), а в 1871 году у северной части крепостного рва было расстроено девять коммунаров. Убивать их было, конечно, недостойно, хотя нетрудно себе представить, сколько бы они передушили народу, возьми они власть в свои руки…
Покончив с тюремной историей замка, вернемся в XVI век, когда главная башня замка утратила привлекательность в качестве королевской резиденции и стала тюрьмой. Екатерина Медичи достроила два крыла замка и начала строительство двора. Будущий Людовик XIII жил здесь, пока был наследником, и, продолжая строительство, воздвиг Дом Короля и Дом Королевы. Строительство велось под наблюдением Ле Во и под руководством Мазарини. Цель его была разумной – обеспечить на случай беспорядков убежище для хранения казны и сокровищ. Интерьер замка был пышно изукрашен под присмотром художника и царедворца Филиппа де Шампеня, чтобы подготовить покои к возвращению короля Людовика XIV и Марии-Терезии после свадебной церемонии на острове Фезан (1660 год).
Надо сказать, что при жившем в Версале Людовике XV Венсену находили все же не одно пенитенциарное применение. В 1738 году в Дьяволовой башне замка водворились мастера из Шантийи. Тут они и научились изготовлять из полученной ими мягкой пластичной массы изделия, которые получили название «венсенский фарфор». Только в 1756 году эта мастерская была переведена в Севр, где составила основу поныне знаменитого производства. В 1743 году в Венсене была создана кадетская школа, прообраз нынешней Военной школы. Людовик XVI хотел продать этот «ни к чему не пригодный замок», но жильцы, которых к тому времени в замке обосновалось немало, решительно восстали против этой королевской затеи. И вообще время подошло не для мирных торговых операций, а для кровопролития и пропагандистских воплей. В 1791 году труженики из предместья Сент-Антуан пришли громить донжон замка, «символ деспотизма». Славу Богу, подоспел Лафайет, разогнавший толпу.
Революция, на счастье Франции, лютовала недолго. Подошла Империя. Французы нашли себе душку военного, прибравшего власть к рукам. Генерал Бонапарт увидел в Венсене прежде всего объект военно-оборонительный. Замок стал арсеналом и крепостью. Все башни, кроме Деревенской, «подстригли» под высоту куртин. В донжон продолжали привозить узников – на сей раз кардиналов, сохранивших верность папе римскому Пию VII. Начиная с 1840 года крепость понемногу превратили в оборонительный форт: засыпали ров, построили казематы, замуровали бойницы. Разломали старые здания, те, что воздвигли еще до XIV века, а заодно и северный портик, соединявший Дом Короля и Дом Королевы. На их месте построили какие-то военные бараки. Донжон превратили в склад оружия, в часовне наставили перегородок, а в королевских павильонах устроили казармы: республиканской Франции было в ту пору начхать на «проклятое прошлое». В Старом Форте был устроен пехотный музей. Вообще генерал Бонапарт и его последователи обходились с историческим замком вполне по-солдафонски. Наполеон вписал новую страницу и в историю здешней тюрьмы. В 1804 году на германской территории (напротив Страсбурга) наполеоновскими лазутчиками был похищен герцог Энгиенский, заподозренный в каком-то антибонапартистском заговоре. Привезенного в Венсен герцога скороспешно судили в ту же ночь (на 21 марта 1804 года) и, ни в чем толком не разобравшись, расстреляли под утро у подножия башни Королевы. Герцога сбросили в ров, откуда его останки были извлечены лишь Людовиком XVIII и перенесены в часовню. Если нужны доказательства того, что любимый герой романтической поэзии Наполеон замарал руки кровью, Венсен готов представить такие доказательства[1].
В сороковые годы XIX века в Венсене появился герцог Монпансье, пятый сын короля Луи-Филиппа. Он жил в Доме Королевы и числился комендантом военного форта. Надо отдать ему должное: он не позволил разломать Святую часовню.
С середины 50-х и почти до конца 60-х годов Виоле-ле-Дюк и его ученик де Бодо вели в замке кое-какие восстановительные работы. Но настоящему сдвигу общественного мнения в защиту замка способствовала широкая кампания в прессе, возглавленная Андре Юрте в 30-е годы XX века. Французы потребовали убрать из замка военных. В 1934 году в донжоне открылся исторический музей.
Во время немецкой оккупации, когда весь Париж танцевал, в Венсене было страшно. 10 августа 1944 года (самый конец оккупации) в крепости и во рву было расстреляно три десятка заложников. А вечером 24 августа немцы взорвали часть казематов и Дом Короля. В Доме Королевы начался пожар. Разрушения были значительны, но зато обнаружилась скрытая поздними постройками Триумфальная арка Ле Во.
Реставрационные работы начались сразу после окончания Второй мировой войны, и нынче Венсенский замок являет туристу и громаду Деревенской башни, и донжон, и постройки XVII века, и Малый замок – весь этот удивительный, словно забредший сюда с Британских островов боевой комплекс-дворец.
Интерьер воскрешает шаг за шагом историю Старого режима, Империи… Здесь комнаты королей и королев, королевских детей, маршалов – картины, панорамы, мебель, документы. Здесь Святая часовня с творениями мастеров – от XVI века и позже… Из Святой часовни вы переходите в королевскую резиденцию XVII века (построенную Ле Во), а потом в Дом Короля и в Дом Королевы, на эспланаду, во Двор Почета, во Двор Маршалов, на осмотр башен, и еще, и еще…
Решив погрузиться в историю Французского Острова, можно начинать с Венсенского замка…
На север!
Усыпальница королей в «Красной столице»
Собор Сен-Дени на древней дороге Новые хлопоты и новые соблазны • Варварство великой революции.
О близости Сен-Дени, его знаменитого аббатства и знаменитого собора, что всего в каких-нибудь девяти километрах от парижского собора Нотр-Дам де Пари, напоминает уже и в самом центре Парижа бывшая королевская дорога к Сен-Дени, пролегавшая по нынешней улице Сен-Дени, под аркой Сен-Дени, что на Больших бульварах, и дальше по тесной, полной всяческой средиземноморской еды улице Слободы Сен-Дени, Фобур Сен-Дени… По этой улице короли Франции ехали на богомолье. По этой улице их увозили на последнюю прогулку по Франции – к месту упокоения. Но уже и со времен последнего французского короля немало воды утекло, а мы, пожалуй, начнем с последних событий, происходивших в Сен-Дени. Я имею в виду не волнующие мир футбольные страсти на Стадионе Франции (он в Сен-Дени) и даже не бурные демонстрации школьных учителей и школьников, а замечательную находку, которую сделали недавно археологи близ усыпальницы королей собора Сен-Дени.
Начну с того, что здешняя пресса называет «скандалом в Клошмерле» (по названию романа и одноименного фильма, настолько лихо в годы моей юности дублированного на русский, что он дал моим сверстникам завышенное представление о возможностях французского юмора). Мэр города Сен-Дени (нынче это индустриальный, многонациональный город со стотысячным населением) коммунист-«перестройщик» Патрик Брауэзек решил приступить к ликвидации старой решетки у собора Сен-Дени, чтоб усовершенствовать свой город. Отдел министерства культуры, ведающий культнаследием, сказал: ни за что. Мэр пригрозил, что тогда он не построит для народа Большой стадион. В конце концов особая комиссия после многолетних трудов уладила спор, доказав, что Дебре, воздвигший в прошлом веке решетку, был худшим архитектором в истории Франции. В общем, стали ломать, копать (чего только и ждали археологи, ибо там внизу могли оказаться целые некрополи меровингских и каролингских времен) и нашли – розу. Нашли скульптурные элементы розы, украшавшей северный портал базилики Сен-Дени еще в XIII веке. То есть нашли остатки того самого фигурного круглого окна, разделенного скульптурными и витражными лепестками, влияние которого можно обнаружить в чудесных розах более поздних французских соборов. Ведь здешняя роза шла из XIII века… Конечно, и о розах, и о соборах, и о базилике Сен-Дени людьми знающими написаны тысячи страниц, и не здесь мне их пересказывать. Но обратиться к некоторым преданиям старины мы с вами просто обязаны.
Начнем с Сен-Дени, со святого Дени, а может, Дениса, который, согласно сообщенному в VI веке Григорием Турским преданию, был одним из тех семи миссионеров-епископов, что пришли в эти места из Италии, чтобы принести язычникам-галлам христианскую веру. Святой Дени и стал одним из первых здешних христианских мучеников: по приказу императора Валериана он был обезглавлен на Монмартре в 258 году, но не упал, а пошел прочь из города, к северу, неся перед собой отрубленную голову, и только в тогдашнем Католакусе (в нынешнем Сен-Дени) упал и был похоронен в восточной части этого города, рядом с двумя другими мучениками за веру. Как вы помните, в начале IV века, при Константине, гонения на христиан затихли, над могилой была воздвигнута церковь, ставшая к VI веку центром аббатства, а после того, как король Дагобер пожелал быть захороненным здесь, место это стало некрополем французских королей, покой которых не могут более потревожить ни демонстрации школьников и нелегальных иммигрантов, столь нередкие в Сен-Дени, ни крики «Судью на мыло!» на всех языках планеты, оглашающие ныне окрестности Большого стадиона, ни даже демонстрации ненависти к еще не обрезанным французам, проводимые на поле и трибунах того же стадиона легальными, а также еще нелегальными (но уже давно обрезанными) жителями предместий.
КОЛЫБЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОЙ МОНАРХИИ И ФРАНЦУЗСКОГО ОСТРОВА, НЕКРОПОЛЬ КОРОЛЕЙ – СОБОР В СЕН-ДЕНИ
Фото Б. Гесселя
Впрочем, вернемся к истокам. Аббатство Сен-Дени пережило неожиданный взлет при аббате Сюжере, реконструировавшем церковь: это был год 1122.
Позднее городок Сен-Дени не только пережил много бед из-за своего положения на подступах к Парижу (враги бесконечно осаждали Париж, а сидели-то они при этом в Сен-Дени), но также извлек из этого положения немало экономических выгод. При Людовике XV украшалась и благоустраивалась не только дорога от Лувра до Сен-Дени, но и дорога от Версаля до Сен-Дени: король был здесь частым гостем, так как его дочь Луиза стала настоятельницей монастыря кармелиток в Сен-Дени. Самым трагическим временем для этой национальной святыни Франции были, конечно, годы Французской революции, по официальной терминологии – Великой французской революции. Само древнее название города полагалось забыть навечно, ибо город был переименован в Франсиад.
Всякий, кто знаком с историей Октябрьской революции 1917 года, которую нередко называют здесь дочерью Французской революции, без труда догадается, что бесценные захоронения королей и сама базилика подверглись во время революции разграблению и варварскому надругательству. Потом, после неизбежного кровопускания, все во Франции вошло в колею. Ну а в XX веке, после того как усилиями профессиональных подпольщиков из Коминтерна (не слишком французские имена их, кстати, мало кто знает во Франции – Дёготь, Соколовская, Пурман, Абрамович, Эрне Гере и другие) была создана в Париже секция саботажно-шпионского Коминтерна, позднее переименованная в компартию, Сен-Дени стал оплотом коммунистов, или, как вдохновенно выразился поэт Блез Сандрар, «красной столицей». Самая богатая в то время партия Франции не обнищала и тогда, когда контрабандные подарки в долларах из Москвы перестали поступать в грандиозную парижскую штаб-квартиру партии, ибо финансирование этой партии происходит теми же нелегальными способами, что и тайное финансирование всех прочих партий. Разница только в том, что компартия (бывшая секция Коминтерна) сильнее своих конкурентов во всем, что касается конспирации, оттого бесконечному следствию по делу о взятках, «приписках» и фальшивых накладных так и не удается усадить руководство партии на скамью подсудимых (прочие «руководства» уже за это время погорели и отсидели). Кстати, ленинские традиции конспирации пригодились и здешним троцкистам, которые решительно возобладали над сталинистами. Впрочем, стоит ли нам с вами вообще посещать еще одну на нашем жизненном пути «красную столицу», еще один индустриальный город с его чуть ли не полутора сотнями предприятий и полтысячей гектаров индустриальной зоны? Стоит – если задержаться у великого памятника французской истории, религии и искусства – у базилики Сен-Дени, у некрополя французских монархов.
Эта базилика, что нынче оказалась неподалеку от станции городского метро, в промышленном, иммигрантском, вечно кипящем экстремистскими политическими страстями Сен-Дени, может нам многое поведать о прошлом. О начале христианства на земле галлов, о королях и войнах, о философах и богословах, о великих художниках и камнерезах. Это ведь памятник только зарождавшейся готики, а надгробия этого уникального королевского некрополя составляют истинный музей искусства, в котором перед любопытным туристом проходят шесть веков эволюции надгробной скульптуры и архитектуры.
Все начиналось шестнадцать веков назад, когда над могилами мучеников-епископов воздвигли тут первый молельный дом. Святая Женевьева перестроила его в 475 году, а между 630 и 638 годами здесь была построена новая церковь. Ее щедро одарил король Дагобер, который первым и пожелал быть здесь погребенным. Король Пипин Короткий перестроил церковь и освятил ее в присутствии самого Карла Великого. Тогда же здесь было устроено хранилище, где и в пору, когда короли стали венчаться на царство в Реймсе, по-прежнему хранились королевские сокровища и символы власти – и корона, и скипетр, и перстень… Друг и будущий советник Людовика VI Сюжер жил в монастыре с десяти лет и учился тут грамоте вместе с будущим королем. Когда он стал настоятелем в Сен-Дени, здесь началось строительство и уже можно было увидеть первые достижения французской готики. Это здесь монахи писали по-французски свои летописи и знаменитые Большие хроники, доведя их до эпохи Людовика XII. Так что в Средние века Сен-Дени был центром истории и литературы, центром учености. Здесь сложились самые долговечные и прочные из ритуалов монархии. Это здесь на протяжении доброй тысячи лет в час королевских похорон звучал знаменитый возглас: «Король умер, да здравствует король!» Клич этот говорил о непрерывности власти, о ее преемственности и надежности. Иные из королей (скажем, Пипин Короткий) предпочитали не ездить в Реймс и венчаться на царство в престижном Сен-Дени, где хранились не только королевские регалии, но и алое военное знамя аббатства с золотыми языками пламени, которое с XII по XV век служило и королевским штандартом.
Под готическими сводами базилики происходили самые памятные события французской истории. Это сюда Жанна д’Арк, раненная в 1429 году под Парижем, приходила освятить свое боевое оружие. Под этими сводами король Генрих IV отрекался от протестантской веры отцов, здесь он служил мессу, которой стоили ему власть и Париж. Именно здесь короновали французских королев, на протяжении веков – от Анны Бретонской до Марии Медичи. Здесь златоуст Боссюэ произносил свои надгробные речи.
СОБОР СЕН-ДЕНИ – ВЕЛИКИЙ МУЗЕЙ МОНАРХИИ И СКУЛЬПТУРНОГО ИСКУССТВА. НАДГРОБИЕ ЛЮДОВИКА XII И АННЫ БРЕТОНСКОЙ
Сен-Дени познал и беды – разорение Столетней войны, Религиозных войн и Фронды, когда были украдены серебряные надгробия Людовика Святого и Филиппа-Августа. Но конечно, до конца XVIII века Сен-Дени и в страшном сне не видел того, что принесла Французская революция. Сперва базилику превратили в некий Храм разума, потом в фуражный склад, потом в артиллерийский склад. Могилы были разграблены, скульптуры вывезены или изуродованы. Вытащили «короля-солнце», черного как прах, из могилы и бросили в общую яму. Как писал Шатобриан, народ «швырял прах усопших королей в лицо живым, чтобы их ослепить». Пошли в переплавку надгробия из меди, великолепные творения искусства, вроде надгробия Карла VIII, творение Гвидо Маццони из Модены. В переплавку пошли короны и драгоценности. Остальное разошлось по музеям и по карманам. Как свидетельствовал тот же Шатобриан, базилика зияла разбитыми окнами, дырявой крышей. В XIX веке новое бедствие постигло базилику – реставрационные работы бездарного Дебре. Построенный им шпиль пришлось разломать. Виоле-ле-Дюк пытался спасти кое-что. Вернули в Сен-Дени иные из старых надгробий…
Помню, в былые годы это великое множество королевских могил ранило мое отцовское сердце состраданием к доченьке, которая к урокам истории в лицее Генриха IV заучивала бесконечные списки французских монархов. У нас-то на Руси их было раз-два и обчелся. В базилике, впрочем, этот тяжкий груз французской истории скрашен усилиями скульпторов, и французов и итальянцев, – ренессансным мрамором, который тесали миланцы Микеле д’Ариа и Джироламо Вискардо, флорентийцы Донати ди Батиста и Бенедетто да Роведзано… Это, впрочем, лишь начало XVI века.
А позднее трудились французы – Пьер Бонтан, Филибер Делорм и еще десятки и сотни славных мастеров, воздвигших пышные надгробия королям и принцам крови, воинам и поэтам. Один перечень королевских могил или имен мастеров-ваятелей растянулся бы на много страниц, а есть ведь надгробия, перед которыми задержаться надо надолго, – вроде надгробия Анны Бретонской и Людовика XII или великолепного бронзового надгробия Генриха II и Екатерины Медичи.
Во многих книгах, в частности у того же Шатобриана, вы найдете романтическое описание здешнего подземелья, крипты, подземных часовен.
В северной части базилики Людовик XVIII после Реставрации устроил оссуарий, куда снесли кости королей, принцев и принцесс, которые в незабываемом 1793 году еще не все перебившие друг друга деятели революции свалили в общую яму у северного портала базилики.
В базилике Сен-Дени так много шедевров искусства, что, закончив их осмотр, не захочешь идти дальше. Сил ни на что больше не остается. Оно и к лучшему, ибо вокруг базилики местные власти затеяли ныне жилстроительство, а на что оно похоже, может и без осмотра угадать всякий. Чтоб это увидеть, не надо и во Францию ехать, тем более на прогулку по городу Сен-Дени тратить бесценное время жизни.
Путешествие в Шантийи
Французское плато Сарсель • Вилье-ле-Бель • Экуан • Музей Ренессанса • Ле-Мениль-Обри • Люзарш • Виарм • Бомон-сюр-Уаз • Аббатство Руайомон • Лис-Шантийи • Шантийи
От Сен-Дени и Парижа идут к северу прямые, точно по линейке прочерченные, дороги вроде шестнадцатой или семнадцатой национальной (госдороги), ибо к северу от Сен-Дени (а стало быть, и к северу от Парижа) протянулось плоское Французское плато, плато Франции. Если б я имел право менять старинные названия, я бы даже назвал его Франкским плато. В местах этих с середины V века обитало германское племя франков, которое и подарило свое имя этой стране, тогда как племя паризиев, населявшее парижский остров Сите, подарило свое имя только столице Франции да еще кое-каким мелким селениям. В сущности, паризии и франки заселили одну и ту же территорию – долину между Сеной, Марной и Уазой, и названия здешних поселений до сих пор отражают их былую принадлежность. Скажем, Фонтенэ-ан-Паризи лежит всего в каких-нибудь двух километрах от Шатенэ-ан-Франс, просто одно обязано своим названием паризиям, другое – франкам и былой маленькой Франции. Кстати, уже знакомый вам Сен-Дени еще и в XIX веке назывался Сен-Дени-ан-Франс. Так что не удивляйтесь, если вам попадутся на дороге эти «ан-Франс» и «ан-Паризи».
Плоская, плодородная эта местность, где крестьяне с усердием выращивали овощи и фрукты для прожорливой столицы, была в прошлом открыта всем бедам и нашествиям. Последнему нашествию подвергла ее сама гордая столица, застроившая в середине прошлого века старинный Сарсель (Sarcelles), что в 16 километрах к северу от Парижа, кварталами новых домов для городских работяг и иммигрантов. Жутковатый получился город-дортуар, спальный город для бедных. Даже термин такой вошел в мировую урбанистику, наподобие медицинского, – «сарселит». Им обозначают язвы, болезнь больших городов, жуткие пригороды вроде Сарселя. Тридцать лет спустя самые страшные из кварталов заново перестроили, пытались немного подлечить город от «сарселита», но, конечно, новый Сарсель и нынче малоинтересен для экскурсий. В старой его части уцелела построенная на месте старого храма римлян церковь Петра и Павла с великолепной колокольней XII века, с ренессансным западным фасадом XVII века (авторство которого приписывают известному в этих местах Жану Булану), с готическими хорами XIII века и нефами XV века, с порталом в стиле «пламенеющей» готики. На улице Ришбур в старой части города сохранился небольшой замок, с хозяйкой которого гостивший в замке любвеобильный сочинитель Жан-Жак Руссо завел некогда небольшой роман.
Двигаясь к северу среди поздних новостроек, самые любопытные из путников отыщут и старинный Вилье-ле-Бель (Villiers-le-Bel) с его римскими колодцами и великолепной церковью Сен-Дидье (XIII–XVI веков), которую считают одной из интереснейших ренессансных церквей на целом Французском Острове. Она сохранила очень старый фасад, XVII века складень работы Никола Прево и резной органный шкаф. В здешней часовне можно увидеть XVI века скульптуры, выполненные по эскизам Жана Булана.
Те же, кто не рискуют вторгаться в «спальный» микрокосм современного Сарселя, доберутся напрямую до Экуана (Ecouen) – это лишь в двадцати километрах от Парижа. Там, на северо-восточном склоне холма, красуется над равниной знаменитый ренессансный замок, в котором была собрана за последнее время прекрасная коллекция ренессансного искусства Франции.
В 1538 году коннетабль Анн де Монморанси решил обновить и перестроить родовой феодальный замок в модном стиле (в моде как раз и было ренессансное искусство, или, как уточняют, «второй ренессанс»). Сам коннетабль, чьим замком нам предстоит насладиться, является видным персонажем французской истории. Он был военачальником и ближайшим советником короля Франциска I. Много написано о непримиримости и прямоте знаменитого политика (среди его девизов были: «Не сверну с дороги!», «Искренность и верность», «Сохраняй и в споре спокойствие души» и еще другие, столь же возвышенные), о его верности трону (он погиб в Сен-Дени в пору Религиозных войн, и якобы его последняя фраза была: «Счастлив умереть за веру под знаменами короля»). В 30–40-е годы XVI века коннетабль как раз впал в немилость и, удалившись от двора, отдал свою незаурядную энергию обустройству родового гнезда, к которому привлек крупнейших мастеров Франции (Николо Делль Абате, Жана де Гурмона, Жана Клуэ, Бернара Палисси, не говоря уж о Гужоне и Булане). Коннетабль был ценителем искусства и меценатом. Удаления его от двора добилась фаворитка стареющего Франциска I Анна Пислё, герцогиня Этампская (впрочем, указывают и на некие его ошибки во время мирных переговоров с Карлом V). Наследник престола, будущий Генрих II, и его легендарная возлюбленная Диана де Пуатье в пику красавице герцогине, напротив, считали коннетабля своим союзником и не раз бывали в прекрасном его Экуане, где, если верить поэтическим откровениям божественной Дианы, она в преддверии своего 45-летия («баба ягодка опять», как выражались когда-то московские дамы) впервые одарила 25-летнего дофина всей полнотой своей нежности:
Понятно, что после смерти Франциска I (в 1547 году) и естественного удаления от власти его фаворитки коннетабль был возвращен Генрихом II ко двору и осыпан милостями. Новый король не раз гостил в замке Экуан, и если коннетабль не оправдал надежд Дианы на полное подчинение, то это уже новая история, а мы пока вернемся в несравненный Экуан времен его расцвета. Замок строился в стиле ренессанса, пришедшего на Французский Остров с берегов Луары, однако это был уже «второй ренессанс», более строгий и классический, вдохновлявшийся непосредственно образцами античности.
Коннетабль де Монморанси был страстным коллекционером и заполнял свой замок произведениями искусства. После казни последнего из Монморанси в 1631 году коллекции эти перешли к принцам Конде, но легко догадаться, что они были разворованы в эпоху Великой революции. Сам замок чудом уцелел от разгрома. В нем, согласно высокой военно-революционной традиции, были размещены сперва военная тюрьма, потом военный госпиталь, а позднее патриотический клуб…
В сороковые годы XVI века общая планировка замка-дворца была поручена коннетаблем Жану Булану, а в украшении его участвовал сам Жан Гужон (создатель чудесного парижского фонтана Праведников, что у былого «чрева Парижа»). В декоре фасада отразилось пристрастие Булана к древним архитектурным ордерам – к коринфскому и дорическому (на оба ордера архитектору хватило торжественных фасадов). Французский сад и ныне уводит от западной террасы замка к опушке уже цивилизованного (в стиле Ле Нотра и Ардуэн-Мансара) ближнего леса.
После войны французское министерство культуры решило разместить в замке (а в нем еще Наполеон устроил пансион для дочек легионеров, и девицы освободили помещение лишь в 1962 году) Музей Ренессанса. Вот тогда-то в тщательно восстановленный замок и перекочевали бесценные экспонаты из парижского музея Клюни, из Шалон-сюр-Марна и прочих мест. Тогда появилась здесь, в частности, знаменитая галерея расписных ренессансных каминов, а также каминов в итальянском стиле, украшенных мраморными скульптурами. Появились турецкая керамика, эмали, итальянское, венецианское, немецкое и французское стекло, произведения лучших итальянских и французских мастеров. Появились старинные кухни, и часы, и ювелирная мастерская, и ковры, и кожи, и витражи, и даже крыши.
ВНУТРЕННИЙ ДВОР ЗАМКА ЭКУАН
Но, конечно, в центре внимания знатоков и эстетов – сам замок, его украшенные люкарны (которые приписывают самому Гужону), декор королевских покоев (который приписывают самому Булану). Воистину, фантастический музей задумал министр Мальро. И подумать только, что этот достойнейший из министров начинал с ограбления памятника мировой культуры (правда, не французского) и с мелкого подхалимажа на советских конгрессах. Как все-таки растут люди…
Среди бесчисленных достопримечательностей экуанских замковых дворов можно увидеть (за мостиком, против западного входа, в саду) фонтан, посвященный голландской королеве Гортензии, той самой, что была дочерью Жозефины Богарне (неизвестно, впрочем, от какого отца), возлюбленной многих славных – в том числе и нашего победоносного императора Александра, – а также матерью (с отцами у них, как всегда, проклятая неизвестность) будущего французского императора Наполеона III. Фонтан в ее честь повелел соорудить, и вполне своевременно (в 1810 году, за пять лет до ее изгнания из Франции), ее брат, принц Евгений де Богарне.
В самом городке Экуане можно увидеть церковь XVI века Сент-Акёль (также построенную по заказу коннетабля Анн де Монморанси) с ее ренессансными скульптурами, итальянского стиля витражами.
Многие французские авторы считают, что замок Экуан может элегантностью своей соперничать с такими звездами Луары, как Шамбор и Шенонсо. А уж о неоспоримых достоинствах здешнего уникального музея и говорить не приходится! Так что если турагентства предпочитают везти туристов не за 20 километров, а за 200 (на Луару), то это уж на совести (или на счету) индустрии туризма.
Продвигаясь дальше к северу, любитель ренессансной архитектуры непременно остановится (минут через десять) в деревушке Ле-Мениль-Обри (Le-Menils-Aubry), чтобы осмотреть прелестную здешнюю (тоже XVI века) церковь с ее украшенным в стиле античности фасадом, статуей Девы над левым боковым порталом, с ее витражами XVI века и каменными надгробиями XV–XVI веков.
Еще чуть севернее (в каких-нибудь 28 километрах от Парижа) стоит близ дороги классического стиля замок Шамплатрё, принадлежавший маркизу де Ноай (он был построен в 1757 году архитектором Шевоте). Ни во двор, ни в замок нас, увы, не пустят, но зрелище, которое открывается через решетку Почетного двора, заслуживает остановки.
На подъезде к селению Люзарш можно увидеть слева еще один старинный замок – Рокемон. Когда-то он принадлежал монастырю, но был у святых братьев отобран Революцией, а в 1802 году был продан казною одной знаменитой актерке.
Живописная, стоящая на холме деревня Люзарш (Luzarches) упоминается уже в документах VII века. В 775 году Карл Великий подарил здешнюю «виллу» монахам из монастыря Сен-Дени. Стояла здесь также могучая крепость графов Бомон, которую осадил и взял (в самом начале XII века) король Карл Толстый. Вернувшись из крестового похода, граф Жан де Бомон перевез сюда из Рима кости святого Космы и его брата святого Дамиана и построил близ замка новую церковь, посвященную святому Косме. Церковь эта была разрушена в незабываемом 1793 году, однако осталась в Люзарше более старая церковь, также посвященная святым братьям Дамиану и Косме, которые славились исцелением больных (недаром в церкви этой сохранилась 1705 года латинская надпись, свидетельствующая о связи этого храма с парижским братством хирургов). Авторство более позднего, элегантного фасада этой церкви приписывают местному архитектору Никола де Сен-Мишелю. Церковь эта славится также огромною розой над порталом, деревянной облицовкой свода своего нефа и квадратной башней часовни с романским аркатурным поясом XII века…
На местном кладбище можно обнаружить старинную могилу некоего Сент-Ода. Есть сторонники той версии, что это и был маленький Людовик XVII.
В селении уцелели ворота старого замка, а также его заселенная ныне гражданами башня, с вершины которой открывается живописный вид на долину.
Люзарш славился некогда своими кружевницами и кружевами. Вдобавок имя его прославил в XIII веке архитектор Pобер де Люзарш.
В каких-нибудь трех километрах к востоку от Люзарша находятся среди леса Гуи развалины старинной церкви и то, что называют замком Эриво. Здесь с 1160 года стояло аббатство Эриво, в котором старательная Французская революция разрушила все, что смогла. Семь лет спустя национализированные эти руины приобрел знаменитый писатель и политический деятель Бенжамен Констан. Он разрушил приспособленное под общежитие левое крыло постройки XVIII века и построил там себе гнездышко, в котором и протекал его долгий и бурный роман с Жерменой де Сталь, описанный им еще через восемь лет в его сочинении «Адольф», которое во Франции считают шедевром психологического романа. Еще столетие с лишним спустя, к тому времени, когда были забыты многочисленные политические, исторические и религиозные выступления этого писателя, вышли в свет его «Дневник», «Красная тетрадь» и его интимная переписка, принесшие ему (а может, и дому среди руин в романтической гуще леса) новую славу…
От Люзарша можно было бы за каких-нибудь четверть часа домчать до Шантийи, но я предлагаю поехать в обход, через Виарм (Viarmes), ибо «нормальные герои всегда идут в обход». В маленьком зеленом Виарме у подножия холма и кромки леса Карнель, в каких-нибудь двух километрах от левого берега Уазы, есть церковь XII–XV веков с мраморным алтарем из былого аббатства Руайомон. Замечательная церковь есть и в соседней с Виармом деревушке Аньер-сюр-Уаз (Asnières-sur-Oise). Ей от аббатства Руайомон досталось в наследство замечательное надгробие маршала Франции Анри де Лорэна, которое изваял сам Куазевокс. Ко всем этим недобровольным пожертвованиям знаменитое аббатство вынудила Великая французская революция, не щадившая ни аббатств, ни церквей, ни монахов. При этом, конечно, граждане всех уровней и званий должны были поучаствовать в революционном разоре и разбое. Элегантный замок XVIII века, в котором размещается нынче мэрия (сельсовет) мирного Виарма, принадлежал некогда благородному аристократу маркизу де Траванне. Нелицеприятные историки сообщают, что маркиз этот не только с энтузиазмом приветствовал разрушение аббатства Руайомон и превращение некоторых из его построек в ткацкие цеха, но и сам использовал камень бесценных строений как стройматериал для умножения своего личного жилфонда. Так что не в одной революционной России находились аристократы, подпевавшие чужим гимнам.
Самым любопытным из моих нынешних попутчиков я предлагаю чуть севернее Виарма свернуть на запад – в сторону городка Бомон-сюр-Уаз (Beaumont-sur-Oise). Городок разместился на холме, где еще в древности стояли римские укрепления. Среди прочего археологи откопали здесь галльские монеты I века до н. э. В местности, называемой Чертовой Дырой, они же откопали две древнеримские виллы и театр. Был здесь некогда могучий феодальный замок, который осаждал в 1590 году король Генрих IV. Ныне от него осталось не так уж много – основание четырехугольной башни, основание оборонительной стены XIII века да остатки еще одной башни с мощными контрфорсами.
Здешняя церковь Сен-Лоран с ее квадратной ренессансной башней, увенчанной куполом, сохранила элементы и XII, и XIII, и XIV веков. Есть в этом городке и старинные провинциальные дома, а также руины аббатства Сен-Ленор.
А на улице Бас-де-ла-Валле сохранились здания былой дорожной станции, стоявшей близ водного пути Париж – Абевиль – Кале, – здания XV, XVI и XVII веков. Некоторые упоминания об одном из путников, делавших здесь пересадку в XVIII веке, до нас дошли в записках Сен-Симона. Сен-Симон пишет о маршале Тессе, которому в 1717 году были поручены регентом встреча и сопровождение знатного гостя из России – царя Петра I:
«Маршал Тессе весь день на всякий случай ждал царя в Бомоне, чтобы его не упустить. Прибыл царь в пятницу 7 мая в полдень. При его выходе из экипажа маршал оказал ему все должные почести, имел честь отобедать с ним и увезти его в тот же день в Париж».
Наш же с вами путь, напротив, лежит от Парижа, на северо-восток, к знаменитому аббатству, до которого от Бомона меньше десяти километров.
Бенедиктинское аббатство Руайомон, расположенное близ леса Карнель, в самой чаще Лисского леса, было построено Людовиком IX (Людовиком Святым) во исполнение обета, данного его отцом Людовиком VIII. Король Людовик Святой любил это аббатство, часто бывал в нем, участвовал в монашеской жизни и даже разносил блюда в монастырской трапезной. Недаром скромных размеров гора Кюимон, на которой стоит аббатство, получила высокое имя Королевской горы. Впрочем, несмотря на вполне умеренную высоту, гора эта и нынче горделиво царит над французской низменностью, как, скажем, трехсотметровая гора Ореховна, что чуть севернее озера Селигер горделиво возвышается над Русской равниной.
В аббатстве Руайомон веками жили монахи-бенедиктинцы из числа последователей святого Бернарда (орден Сито). Понятное дело, что богохульная Французская революция должна была по возможности изничтожить и изгадить аббатство, что и было проделано с большим старанием. От церкви осталась одна башня, из прочих построек частично уцелел знаменитый прогулочный дворик (клуатр) с его арками и колоннами. И хотя монашеское пение не звучит больше на холме со времен революционного разгула, духовная жизнь в этих стенах не заглохла окончательно. Руины были куплены супругами Изабель и Анри Гуин, жизнью былого аббатства занялся их «Фонд Руайомон Гуин-Ланг в защиту прогресса гуманитарных наук». Фонд организует тут семинары и концерты, которые пользуются всемирной известностью, так что отреставрированную трапезную монастыря время от времени оглашают звуки божественной музыки. В ту же трапезную и в великолепную кухню былого аббатства мало-помалу привозят старинные полихромные статуи (иные даже из тех, что уцелели после разгрома аббатства). Особенной известностью пользуется здесь XIV века Богоматерь, кормящая младенца Иисуса…
Чуть севернее аббатства, на скрещении лесных дорог и троп, стоит лесной хутор (конечно, это скорее деревушка, но подобные этому малолюдные, безмагазинные и бесцерковные селения называют во Франции hameau – так что, пожалуй, хутор). Подобно здешнему лесу, хутор так и называется – Ле Лис (Le Lys). Конечно, такой тихий райский уголок не мог долго оставаться незамеченным, так что оброс он мало-помалу «лесной станцией» – Лис-Шантийи. Недавно я обнаружил, что в этой лесной деревушке жил и умер довольно известный русский художник – Осип Браз. Имя его попадалось мне в письмах Чехова из Ниццы. Осип Браз приезжал туда к Чехову, чтобы дописать портрет писателя, заказанный Бразу самим П.М. Третьяковым для его Третьяковки. Насмешник Чехов писал тогда в письме милой подружке (и одной из его поклонниц – «антоновок») Александре Хотяинцевой:
«Меня пишет Браз. Мастерская. Сижу в кресле с зеленой бархатной спинкой, En face. Белый галстук. Говорят, что и я и галстук очень похожи, но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену… Кроме меня, он пишет также губернаторшу (это я сосватал) и Ковалевского. Губернаторша сидит эффектно, с лорнеткой, точно в губернаторской ложе; на плечи наброшен ее кошачий мех – и это мне кажется излишеством, несколько изысканным…»
Это было в 1898 году, и Браз уже был к тому времени знаменитым портретистом. Он написал множество портретов коллег по искусству, а также давал уроки в своей частной студии в Петербурге (набережная Мойки, № 112). У него учились и З. Серебрякова, и Н. Лансере, и будущая жена Диего Риверы А. Белова. Написанный Бразом портрет Чехова многие считают одним из лучших портретов писателя.
С 1900 года Осип Браз был постоянным участником выставок «Мира искусства», а в 1914 году даже был избран академиком. Он и после революции продолжал писать портреты, а до 1924 года был хранителем отдела голландской живописи Эрмитажа, потому как был большой знаток и коллекционер голландской живописи. Но мороз на дворе крепчал, и уже в 1924 году упрятали академика Браза в Соловецкий лагерь. За него ходатайствовали многие русские знаменитости, и через два года его, еще живого, отправили в ссылку в Новгород, где он, не щадя сил, приводил в порядок местный музей. В 1926 году ему разрешили вернуться в Петербург (уже осчастливленный новым именем) и даже разрешили работать в Эрмитаже. Но он понял, что́ последует дальше, так что в 1928 году перебрался в Париж к семье. В изгнании он еще писал картины, подрабатывал продажей антиквариата, большим знатоком которого был, но, потеряв вдруг в 1935 году жену и обоих сыновей, уехал доживать последний год жизни в лесу Лис. Впрочем, даже лесной воздух не спас его от горя и чахотки, которая унесла его 63 лет от роду…
От стен знаменитейшего на Французском Острове аббатства Руайомон можно по живописным лесным дорогам попасть в знаменитый Шантийи (Chantilly), насчитывающий много веков. Первая римская вилла в тогдашнем Кантилиусе была построена еще в галло-романскую эпоху, а в X веке здесь уже стоял первый замок (к середине XIV века разрушенный). К концу того же XIV века канцлер Франции Пьер де Оржемон построил здесь новый замок, а в середине XV века вдовая Маргарита де Оржемон вышла замуж за барона де Монморанси. Род Монморанси тут продержался два века, и первое достойное их рода жилище соорудил здесь внук Маргариты де Оржемон, коннетабль Анн де Монморанси, для которого его архитектор Пьер Шамбиж создал здесь укрепленный замок, навеянный воспоминаниями об итальянском походе коннетабля. Позднее знаменитый ценитель искусства и меценат Анн де Монморанси решил построить еще один замок и пригласил для работы тех же знаменитых мастеров, что трудились у него в Экуане, – Жана Булана, Франсуа Клуэ, Бернара Палисси, Леонарда Лимузена, Жана Гужона… В течение семи лет, которые коннетабль оставался в немилости у короля, он заполнял этот свой новый дворец (ныне называемый Малым замком или Капитанерией) ценной мебелью, коврами, произведениями скульптуры и живописи. Призванный снова ко двору Генрихом II, влиятельный дипломат и полководец Анн де Монморанси был смертельно ранен в битве при Сен-Дени (где он все же одержал победу) в немалом для той эпохи возрасте (74 года). Его младший сын прожил 81 год, был трижды женат и имел красавицу дочь Шарлотту, к которой был неравнодушен славный король Генрих IV. Шарлотта вышла замуж за принца Конде, и у них был сын, который совсем молодым стал адмиралом, а 35 лет от роду был уже маршалом Франции. Передвигался этот красавец не иначе как в сопровождении трех десятков пажей, наряженных в шелковые костюмы с золотым шитьем, и вдобавок сотни рыцарей-аристократов. Королева Мария Медичи женила его на прекрасной Марии-Фелиции Орсини, которую поэты того времени воспевали под именем Сильвии. Красавица безумно любила своего блистательного мужа, но, увы, он оказался замешан в мятеже Гастона Орлеанского и был казнен в Тулузе 30 октября 1632 года. Людовик XIII реквизировал все имущество Монморанси, а безутешная красавица вдова ушла в мелэнский монастырь, где и завершила свои дни 34 года спустя. Что до поместья Шантийи, то оно было подарено Анной Австрийской ее матери, Шарлотте де Монморанси, принцессе Конде (герцогине Ангулемской), назавтра же после известия о военной победе герцога Энгиенского, которого называют Великим Конде. Великий Конде занялся парком, пригласив для его устройства Ла Кентени и самого Ле Нотра. В этом парке хозяин давал пышные праздники, на одном из которых присутствовал сам король Людовик XIV. Именно трагические события этого праздника описаны в письме мадам де Севинье. В тот день, 23 апреля 1671 года, знаменитый повар Ватель, видя, что угощение опаздывает к королевскому столу, покончил с собой.
Каждый из последующих принцев Конде вносил усовершенствования, улучшал (или ухудшал) постройки. В 1770 году был построен так называемый Энгиенский замок в честь сына герцога (позднее расстрелянного Наполеоном в Венсенском лесу). В 1782 году принц Конде воистину по-царски принимал у себя в Шантийи графа и графиню Северных. Под этим псевдонимом путешествовали великий князь-наследник, будущий русский император Павел I, и его супруга Мария Федоровна, урожденная принцесса Доротея Вюртембергская. Гости были растроганы приемом, и когда чуть позже хозяевам Шантийи пришлось бежать в изгнание, спасаясь от ярости революции, Павел I приютил принца вместе с его полком и поставил их на довольствие. Впрочем, чуть позднее, примирившись с Наполеоном, Павел снял бесчисленных гостей с довольствия.
ОДИН ИЗ МНОГИХ РОМАНТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ПОМЕСТЬЕ ШАНТИЙИ
Последний из принцев Конде – Луи-Анри-Жозеф Конде, отец расстрелянного Наполеоном Луи-Антуана-Анри Конде, умер в Сен-Лё в 1830 году, и наследником семьи стал герцог Омаль, построивший в Шантийи Большой замок и решивший восстановить поместье, которое в 1886 году он принес вместе со всеми его коллекциями в дар Институту Франции. Восстановительные и строительные работы в замке вел с 1840 года архитектор Доме. Сегодня и замок, и парк, и музей Конде с его богатейшими коллекциями произведений искусства доступны посетителю, любому, кто не поленится преодолеть эти неполные полсотни километров от Парижа до Шантийи. Вряд ли самое дотошное перечисление всех этих галерей, вестибюлей, ротонд, залов, террас, салонов, кабинетов даст нам сколько-нибудь исчерпывающее представление о богатстве этой (как любит выражаться здешняя пресса) «пещеры Али-Бабы». Вряд ли даст его и перечисление звучных имен творцов всех этих 500 полотен, 300 миниатюр, 689 рисунков известных мастеров, 500 рисованных портретов, из которых 400 были созданы в XVI веке, а также 500 акварельных портретов Кармонеля, 600 портретов Рафе, 3000 эстампов, бронзовых статуй, эмалей, коллекций керамики, монет и медалей (их около 4000). Не по силам мне описать и сокровища здешней библиотеки (14 000 томов, 1400 рукописей, 5000 эстампов, а еще ведь есть 25 000 томов рабочей библиотеки, письма, архивы…). Однако, не избежав все же соблазна перечислений, упомяну только, что есть здесь творения Рафаэля, Боттичелли, Филиппо Липпи, Перуджино, Тициана, Сальватора Розы, Пуссена, Миньяра, Ватто, Делакруа, Энгра, Коро, Рубенса, Ван Дейка, Рейнолдса, Дюрера, Ле Нотра… Я уж не говорю о коврах, о ювелирных изделиях (и «розовом алмазе»), об эмалях.
Выйдя из музея, турист не завершает, а только начинает странствие по зачарованному миру Шантийи, ибо слева, над партерами, открывается ему терраса с каменными химерами резца великого Кусту, потом, за Королевским мостом с оленями, его ждут тенистые аллеи, что ведут мимо Энгиенского дворца, мимо часовни Святого Павла XVI века, вдоль пруда – по аллее Сильвии к дому Сильвии. Как вы, может, помните, Сильвией поэтически называл жену маршала Франции, казненного в Тулузе, Марию-Фелицию Орсини, воспевший ее поэт Теофиль де Вио. Поэт прятался в Шантийи от преследований и слагал оды красавице хозяйке (это было в 1623 году). К дому Сильвии, перестроенному Великим Конде, герцог Омаль пристроил позднее ротонду с видом на пруд, и уголок этот овеян также романтической историей любви сестры принца Конде к герцогу де Жуайёзу, который погиб во время охоты на кабана – здесь же в Шантийи в 1724 году в присутствии короля Людовика XV…
По аллеям, по мостикам, мимо скульптурных групп и статуй, мимо деревушки, построенной для празднеств, через каналы, потом по новым аллеям, мимо бассейнов, вдоль новых каналов: мимо уцелевшего в английском саду острова Любви к спасенному благодаря хитрости кабатчика от безудержного энтузиазма ревтолпы Залу для игры в мяч, в котором тоже есть и статуи, и сувениры Алжирского похода, и ковры, и кареты, и еще бог знает что, – путь наш выведет в конце концов к Большим конюшням, которые считают одним из красивейших памятников гражданской архитектуры XVIII века (построены архитектором Жаном Обером для герцога Бурбонского, бывшего министром у короля Людовика XV). В конюшнях (рассчитанных на 240 лошадей) и по краям круглого манежа – аркады, скульптуры, фонтан, над входом – великолепный скульптурный фронтон. А из окон – вид на лужайку ипподрома, на скаковую дорожку…
Боюсь, экскурсия вас утомила, а мы ведь не посетили еще ни леса Шантийи (больше двух тысяч гектаров), ни примыкающего к нему Лисского леса (еще 900 гектаров), ни ближнего леса Руайомон, ни леса Кой, ни леса Понтарме, ни леса Коард. Да ведь и в Большом парке Шантийи с его 650 гектарами зеленой прелести есть где разгуляться…
Тем, у кого все же останется время после экскурсии, отдается на разграбление уютный провинциальный городок Шантийи, его улица Коннетабля с добрым километром магазинов, основанный еще красавицей Шарлоттой Конде приют с коллекцией XVII века фаянсовых аптечных горшков. В доме № 26 на той же улице Коннетабля еще одна сокровищница провинциального городка – местная библиотека, подаренная Институту Франции одним бельгийским библиофилом и эрудитом. В библиотеке непременно встретишь за столами здешних эрудитов, которые объяснят вам, что ученость и редкие книги не в одном только гордом Париже, но и здесь, в этом улье культуры Шантийи, среди его лесов, дворцов, статуй и мерцающих прудов…
Хотя Шантийи всего в полусотне километров от Парижа, не уверен, что стоит спешить с возвращением в шумную столицу. В соседней деревушке вас с удобствами разместят в замке-отеле, принадлежащем Ротшильдам (Шато де Монвил-ларжен), или в так называемом Башенном замке (Château de la Tour), не говоря уж о постоялых дворах и недорогих отелях, которых немало в округе (вроде тех, что разместились на хуторе де ла Шоссе или в деревушке Винёй-Сент-Фирмен)…
Монморанси
Монморанси Сен-При • Сеп-Лё-ла-Форе • Энгиен
Город Монморанси (Montmorency), что разместился километрах в пятнадцати к северу от Парижа на вершине холма, царящего над долиной Монморанси и равниной Паризи (или Паризиев), издавна привлекал и новых жителей, и художников, и просто путников, искавших красоты и покоя, привлекал изумрудными склонами холма, цветением знаменитой вишни «монморанси», близостью леса с его вековыми каштанами. В конце XIX века Монморанси так неудержимо влек к себе богатую публику, что здесь сдавали в сезон до 300 меблированных вилл. Любимым развлечением дачников были прогулки по лесным аллеям среди каштанов верхом на ослах. Конечно, в эпоху автомобилей близость к перенаселенному Парижу не осталась безнаказанной для провинциального рая. Новые строения потеснили старинную часть города (а все же она уцелела), они почти свели на нет легендарные вишенники, да и прославленному лесу пришлось тяжко, не говорю уж об ослах. Только с начала 70-х годов XX века здесь взялись за охрану леса, создали охранную зону для прогулок, начали восстанавливать каштаны. И надо сказать, местные жители оказали яростное сопротивление варварству «дикой цивилизации»: они отстояли от спекулянтов часть старого города, отбились от соседства с автострадой… Так что двадцатитысячный Монморанси сохранил и поныне атмосферу провинциального городка. Лишь на плато Шампо выросли местные «Черемушки», торжественно именуемые «ансамблем жилых домов», в остальном Монморанси все же сохраняет нечто от старого идиллического облика и по-прежнему влечет к себе парижан по воскресеньям, когда им не надо спешить на работу, да и прочих туристов манит – в меру их просвещенности.
История этого старинного города тесно связана с родом Монморанси. Еще в X веке один из основателей рода, в ту пору носивший скромную фамилию Бушар (лишь в XII веке Бушары стали Бушарами де Монморанси, когда их сумел, хотя и не без труда, привести под свою руку мудрый король Филипп I, внук достойного киевлянина Ярослава Мудрого), – так вот, тот первый из известных нам Бушаров получил от последнего короля династии Каролингов позволение построить на здешнем хоть и невеликом, а все же холме укрепленную башню и стены. В XIV веке замок и город сожгли англичане, да и позднее были войны, но мало-помалу бароны Монморанси стали герцогами и пэрами Франции, а при советнике короля и камергере двора, маршале Франции и коннетабле Анн де Монморанси (XVI век) достигли высшей власти, и тогда взялся коннетабль перестраивать и достраивать начатую еще его отцом бароном Гийомом де Монморанси усыпальницу рода (а позднее – церковь), посвященную святому Мартину (церковь Сен-Мартен). Меценат-коннетабль пригласил самых знаменитых архитекторов того времени (Жана Булана и Филибера Делорма), и строительство растянулось на сорок лет. Из того, что нынче предстает взору неленивого странника, особое внимание привлекают уцелевшие старинные витражи (уцелело их 14 из 22), ценители выделяют центральный – тот, где Дева, св. Мартин, св. Блез, св. Денис и св. Лаврентий. Внимательный посетитель заметит в соборе различные надписи и памятники, увековечившие память признанного лидера польской эмигрантской колонии во Франции, некогда друга русского императора, а позднее – главы польского правительства в изгнании князя Адама Чарторыского, а также память борца за свободу Польши, адъютанта Тадеуша Костюшко, писателя Юлиана Урсына Немцевича. Это соседство не случайно. В Монморанси после подавления русским правительством Польского восстания 1830–1831 годов собралось немало представителей националистически настроенной польской элиты. Изгнанников пригрел герой Наполеоновских войн генерал Князевич. Вероятно, это он и привлек Немцевича в Монморанси, где принимал его у себя и где позднее Немцевич поселился в доме № 14 на Рыночной площади. Впрочем, иные считают, что драматурга, поэта и романиста Немцевича привлек тот факт, что в Монморанси жил великий Жан-Жак Руссо. В жизни Руссо тихий Монморанси сыграл немалую роль. Писатель снял одноэтажный дом в имении Монлуи и жил в нем почти постоянно на протяжении пяти лет, до швейцарской ссылки. Здесь Руссо завершил свою «Новую Элоизу», написал «Эмиля» и «Об общественном договоре». Руссо гостил в Монморанси у герцога Люксембургского и у своей покровительницы мадам д’Эпине. Сохранился дом в Монлуи, которому посчастливилось попасть в «Исповедь» Руссо. В доме этом жили два священнослужителя-янсениста, которых Руссо прозвал «кумушками», подозревая, что они его злейшие враги и осуществляют слежку за ним. Ныне в этом реставрированном доме собирают документы о жизни Руссо и его эпохе, изучают искусство XVIII века, ставят спектакли, печатают брошюры…
Надо сказать, что в эпоху Просвещения, да еще и раньше, в Монморанси собиралось изысканное, просвещенное общество, бывали Дени Дидро и усердный корреспондент русской императрицы барон Гримм. Многих поначалу привлекало сюда общение с меценатами Монморанси, чей род, как известно, угас в 1632 году, когда четвертый герцог Монморанси (Генрих II) был по приказу Ришелье обезглавлен по обвинению в измене. История города связана и с царствованием «доброго короля» Генриха IV, которого род Монморанси поддержал довольно рано. На старости лет (а пятидесятилетний возраст тогда считали старческим) добрый король без памяти влюбился в пятнадцатилетнюю красавицу Шарлотту-Маргариту Монморанси, которая была просватана за его друга, маршала Франсуа де Бассомпьера (позднее Ришелье упрятал его в Бастилию, где маршал написал интересные мемуары). Желая приблизить красавицу ко двору и не отдать ее другу, король написал маршалу хитрейшее письмо – вот оно:
«Бассомпьер, хочу поговорить с тобой как с другом. Я не просто влюблен в мадемуазель де Монморанси, я просто осатанел и вне себя от любви к ней. Если ты на ней женишься – при том, что я люблю тебя, – я тебя возненавижу. Предпочитаю, чтобы этого не случилось и чтобы это не испортило наших добрых отношений. Я решил выдать ее за своего племянника, за принца Конде, и держать ее подле моей жены. Это будет утешением для моей старости».
Нетрудно разгадать замысел старой лисы. Но король просчитался. Принц Конде очень ревностно приглядывал за молодкой и был вскоре вознагражден за свои усилия. После казни четвертого герцога Монморанси город Монморанси перешел в наследство его жене, а потом и всему роду Конде.
В нынешнем Монморанси осталось не так много следов былых замков и каштановых аллей. Но все же они есть, и, прогуливаясь по парку и улицам городка, можно вспомнить легенды былых лет и строки из «Исповеди» Руссо.
ЖАН-ЖАК РУССО ЖИЛ В МОНМОРАНСИ ДО САМОЙ ШВЕЙЦАРСКОЙ ССЫЛКИ.
Фото Б. Гесселя
В Монморанси селились и новые русские эмигранты, из тех, кому было на что снять жилье да вдобавок не нужно было спешить в Париж на работу. После войны, в 1946 году в Монморанси поселился с семьей известный 66-летний график, а также вполне преуспевающий художник кино и театра Александр Мартынович Арнштам. Родился он в Москве, в семье фабриканта, восемнадцати лет от роду занимался в студии Юона живописью, а также изучал химию в Берлине, готовясь, как желал его отец, стать художником на фарфоровой фабрике. Правда, в Берлине он изучал также философию и анатомию, рисовал карикатуры и посылал их в петербургский сатирический журнал – Чуковскому. Женившись на девушке из хорошей семьи, он поселился с ней в Париже и стал заниматься живописью, а вернувшись двадцати семи лет от роду в Москву, еще и закончил юридический факультет Московского университета.
С 1908 до 1918 года Арнштам жил в Петербурге-Петрограде, оформлял книги, издавал свой журнал, оформлял спектакли и даже заведовал каким-то просветительным комитетом в Наркомпросе. Казалось, что можно будет выжить. Он даже оформил книги самого Луначарского и самого Брюсова, сотворил панно «Рабочий с молотом». Но в конце 1919 года ЧК пристегнула его к какому-то наспех сфабрикованному «процессу 19-ти», так что, несмотря на заступничество Горького с Луначарским в его пользу, отсидел творец «Рабочего с молотом» девять месяцев в тюрьме, где, впрочем, создавал по заказу самого Госиздата какую-то «азбуку на тему революции» (скажем, так: «параша» – прибор для сгущения воздуха свободы, а может, еще чего-нибудь почище требовал Госиздат). К 1921 году Арнштам интеллектуально созрел и, получив с помощью тестя латвийский паспорт, двинулся через ненадежную Ригу в более надежный Берлин. В 1922 году он уже возглавлял берлинское издательство «Academia», участвовал в выставках, оформлял спектакли и фильмы, ездил на съемки в Испанию, рисовал афиши. Во время немецкой оккупации французские друзья прятали его в департаменте Дром.
Живя в Монморанси, Арнштам не только оформлял фильмы и рисовал афиши (привлекая к работе сына Кирилла), но и сам написал либретто, а также исполнил костюмы и декорации для балета «Нана» на музыку Томази (по роману Золя). Премьера состоялась в 1962 году в Страсбурге, имениннику было 82 года. Похоронив жену в Монморанси, Арнштам переехал в Париж и поселился в любимом квартале Пале-Руаяль. Он рисовал этот старинный архитектурный шедевр в разное время суток, готовя макет книги «Пале-Руаяль». Смерть застала его за работой, и его похоронили на кладбище в Монморанси, где он упокоился рядом с супругой. Было ему уже 89 лет. Полсотни лет напряженного, высокопрофессионального труда в эмиграции пошли ему на пользу.
В Монморанси похоронен и еще один русский художник – Иван Артемович Кюлев. Родился он в Ростове-на-Дону, учился у Серова и Коровина. Потом война, турецкий фронт, Югославия. В Париж к брату он переехал в 1926 году, причем весь его багаж пропал дорогой. Пришлось работать и упаковщиком и грузчиком, но участвовал он и в салонах. Рисовал иллюстрации к Гоголю. В 1930 году он вступил в общество «Икона», учился у старообрядца П. Софронова, преподавал рисование в Христианском студенческом движении. А в 1940 году написал картины на темы «Божественной комедии» Данте, Апокалипсиса и Книги Иова, провел несколько выставок – в Брюсселе, Медоне и во Флоренции. Скончался он 94 лет от роду в Русском старческом доме в Монморанси. На здешнем кладбище, кстати, немало былых обитателей этого дома…
В 1951–1953 гг. в том же старческом доме (авеню Шарля де Голля, дом № 5) прожили почти три года супруги-поэты Ирина Одоевцева и Георгий Иванов. Сохранилось письмо Георгия Иванова, посланное отсюда в США Роману Гулю с просьбой прислать в адрес здешнего русского библиотекаря «пачку старых – какие есть – номеров «Нового журнала»:
«…сделаете хорошее дело. Здесь двадцать два русских, все люди культурные и дохнут без русских книг. Не поленитесь, сделайте это, если можно. Ну, нет, это не русский дом Роговского (речь идет о русском старческом доме на Лазурном Берегу в Жуан-Ле-Пене. – Б.Н.). Я там живал в свое время за свой собственный счет. Было сплошное жульничество и грязь, и проголодь. Здесь Дом Интернациональный – бывший Палас, отделанный заново для гг. иностранцев. Бред: для туземцев с французским паспортом ходу в такие дома нет. За нашего же брата апатрида (любой национальности) государство вносит на содержание по 800 фр. в день (только на жратву), так что и воруя – без чего, конечно, нельзя, – содержат нас весьма и весьма прилично».
Такое вот вполне прозаическое письмо написал из Монморанси известный поэт. Но и стихи он писал здесь тоже:
Если выйти за черту города Монморанси, то можно обнаружить в его окрестностях немало трогательных следов старины. В полутора километрах от города, в деревушке Дёй, уцелели, даже и после военного обстрела, остатки очень старой церкви Святого Евгения. Некоторые памятники старины уцелели в деревне Сен-Брис-су-Форе. В трех километрах от города, в гуще леса, можно увидеть охотничий замок, в котором живали короли. Дальше, в деревне Сен-При (Saint-Prix), сохранились старинная церковь, а также замок Террасы, который летом 1840 года снимал своей семье для отдыха Виктор Гюго. Как некогда в замке Рош, Гюго наслаждался обществом детей – с одним строил шалаш, с другим кормил кроликов, а то и просто любовался красотой подросшей Леопольдины. Но при этом обстановка была более спокойная, чем некогда в Роше, ибо пленительной Жюльетты Друэ на сей раз не было под боком, в соседней деревне. 14 мая 1840 года Гюго писал в письме старой приятельнице:
«Если бы можно было вернуть улетевшие годы, я хотел бы все начать заново с тех чудных летних недель, когда мы проводили упоительные вечера вокруг Вашего фортепьяно, а дети играли вокруг нас и Ваш милый отец всех согревал и все освещал вокруг».
В те минувшие годы Гюго казалось, что все у него впереди, все великие достижения. Его опьяняли посулы будущего. Но вот он обрел все и понял, что ничего не могло быть лучше тех дней, когда детки его росли, подавая надежды…
Проехав (или прошагав по лесу) еще два километра от Сен-При, мы попадем в Сен-Лё-ла-Форе (Saint-Leu-la-Forêt). Здесь, под каштанами, в окружении могучих дерев прячутся целых два замка, один постарше, другой чуть поновей. Они высились еще и в начале XX века в местечке Сен-Лё-ла-Форе, то есть Святой Лё Лесной. Места эти издавна принадлежали принцам Конде, но в пору Революции были национализированы, а позднее, уже в эпоху Первой империи, были куплены братом императора, королем Голландии Луи Бонапартом и его женой королевой Гортензией, приходившейся в ту пору императору невесткой, и притом любимой невесткой. Всемогущая чета владела этими местами недолго, но успела снести самый старый из замков. А потом, как известно, в Париж вошла победоносная русская армии во главе с «белым ангелом» императором Александром I, и вот в один прекрасный весенний день 1814 года русский император посетил в Мальмезоне отставную императрицу Жозефину, с которой Наполеон развелся в 1809 году, поскольку она так и не принесла ему наследника. Во время визита Александра I Жозефине было каких-нибудь пятьдесят и она умела быть вполне обольстительной. А в тот день она очень старалась. Во время ее прогулки по саду об руку с русским императором явилась ее дочь, бывшая по мужу королевой Голландии, Пармы и Пьяченцы, а может, и еще чего-нибудь, – королева Гортензия. Она была в полном расцвете своих тридцати лет… Гортензия и не заметила, как они остались наедине с императором Александром, и она так вспоминала потом в знаменитых своих мемуарах:
«…Было трудно начать разговор… в присутствии завоевателя моей страны… К счастью, эта неловкость длилась недолго.
Мы вернулись во дворец… Он уехал, и мать выбранила меня за мою холодность».
Император не заставил себя ждать, он вернулся в прекрасный Мальмезон очень скоро и приезжал туда не раз, и один приезжал, и с прусским королем, и с великими князьями Константином Павловичем и Михаилом Павловичем, и с будущим царем Николаем. Гортензия вспоминала позднее, что Александр говорил ей:
«Моя мать-императрица просто в ужас пришла, узнав, что мои братья в Париже. Она боится соблазнов, которые таят в себе француженки. Я со страхом посылал их сюда в Мальмезон».
Так что Мальмезон для Александра был полон соблазнов.
Великие князья, впрочем, сумели противостоять соблазнам, чего не могу сказать с полной уверенностью о самом императоре.
«…Молодые великие князья, – вспоминает Гортензия, – выделялись благородством своих манер… и своими гуманными чувствами. Им пришлось проехать через многие наши деревни, лежавшие в развалинах, и они рассказывали мне об этом со слезами на глазах…»
Визиты императора и его встречи с молодой королевой участились.
«Однажды он сказал моей матери, – вспоминает королева Гортензия, – что если б он думал только о своем благе, то предложил бы нам дворец в России, да только мы не найдем там такой красоты, как в Мальмезоне, и мое хрупкое здоровье не перенесет суровости тамошнего климата».
Русский климат, снег, Сибирь вообще составляли тогда вечный предмет салонных разговоров. Но для хрупкой уроженки острова Мартиника, ее матери, и французская весна 1814 года казалась слишком суровой…
Однажды под вечер они все трое гуляли по огромному парку Сен-Лё, близ замка Гортензии. Жозефина весело опиралась на руку последнего в своей жизни поклонника. Она не отказала себе в прихоти надеть воздушное, легкое платье, забыв, как коварна весна во Франции. Была только середина мая, и к вечеру похолодало. Счастливая эта прогулка оказалась для нее роковой. Вернувшись домой, в Мальмезон, она слегла, но еще вставала несколько раз, переодевалась и выходила к царственным гостям, с легкой руки Александра навещавшим ее. 27 мая русский император прислал ей своего врача. 28-го он обедал в Мальмезоне с Гортензией и ее братом. Он находился неподалеку от угасающей Жозефины… Она умерла 29 мая. Император приказал воздать ей все почести, какие положены усопшей императрице…
Он ходатайствовал перед крайне этим раздраженным Людовиком XVIII в пользу королевы Гортензии. 30 мая король подписал указ, отдававший ей во владение замок Сен-Лё и положивший ей пенсию в размере 400 000 франков в год.
У подножия южного склона холма Монморанси раскинулось на площади в сорок с лишним гектаров недвижное зеркало вод (истинная редкость во Франции, небогатой озерами, да еще и, можно сказать, в парижском пригороде). А на берегу этого редкостного «моря» лежит прелестный курортный городок Энгиен-ле-Бен (Энгиен-на-Водах, он же Ангиен, он же Анген-ле-Бен, он же Анжен, в общем, что-то вроде Минвод). Собственно, до середины XIX века (еще точнее, до 7 августа 1850 года) это все называлось Монморанси, несмотря на многовековые попытки владельцев этих мест напрочь избавиться от имени Монморанси и стать Энгиенами. Вы, может, еще не успели забыть, что род Монморанси угас в 1632 году, когда по приказу Ришелье был обезглавлен последний герцог Монморанси. При Людовике XIII владения Монморанси перешли к роду Бурбонов-Конде. И вот на протяжении двух столетий новые владельцы пытались избавиться от ненавистного названия и ненавистной памяти Монморанси, предлагая назвать владение Энгиен. Однако всякий новый правитель, как назло, возвращал Монморанси его прежнее название. Людовик XVIII пошел навстречу бедным Конде, переименовав городок, но тут умер последний представитель рода Конде, и местные жители потребовали у короля-гражданина Луи-Филиппа, чтобы им вернули их прежнее гордое имя. Ну а в 1850 году был создан близ водной глади новый «сельсовет» (commune), его-то и назвали Энгиенским, чтобы больше не было споров. Но еще и до этого административного акта в Энгиене случилось чудо, которое способствовало процветанию этих Богом забытых мест. В 1788 году любознательный монморансийский священник отец Луи Котт обнаружил в одном из ручьев, впадавших в озеро (носившем малопоэтичное название «Вонючий ручей»), изрядное содержание серы. Сообщение, сделанное отцом Коттом в Королевской академии наук, произвело сенсацию. В особое возбуждение пришел энергичный предприниматель Луи Гийом Ле Вейяр, который уже взял в свои руки железистые воды пригородного Пасси. Не теряя времени, Ле Вейяр приобрел у принца Конде концессию на эксплуатацию серных вод Энгиена и открыл здесь водолечебницу. Видимо, еще и до открытия лечебницы распространился слух, что воды Энгиена спасают от язвы. Воду стали продавать в бутылках, в нее окунались, ею полоскали горло. Еще лет тридцать спустя это процветающее предприятие перешло в руки парижского финансиста Пелиго, который поставил его на широкую ногу: расширил территорию водолечебницы, насверлил новых скважин и окружил озеро приятным променадом. Утверждали, что воды Энгиенса исцелили от застарелой язвы самого Людовика XVIII, так что публика валила на курорт валом. При этом близость Парижа позволяла, укрепляя здоровье, не отрываться от дел, от друзей, от любовниц, от всей парижской суеты. Городок Энгиен рос как на дрожжах, и это с восторгом отмечал один из завсегдатаев курорта Александр Дюма-отец:
«Озеро Энгиен еще совсем недавно вовсе не было таким симпатичным озерком, столь тщательно причесанным, завитым и выбритым, как нынче… На его берегу не было ни окружной дорожки, ни готических замков, ни итальянских вилл, ни английских коттеджей, ни швейцарских шале».
Эмиль де Жирарден, основатель «Прессы» построил себе здесь замок, а Жан Ипполит Огюст Картье де Вильмесан, тот самый, что в 1854 году возглавил «Фигаро», и вовсе поселился в Энгиене, которому обеспечил шумную рекламу.
В 1850 году Законодательная ассамблея дала Энгиену самостоятельность, прирезав к нему 135 гектаров, к которым вскоре были добавлены еще четыре десятка. Жить в Энгиене стало особой привилегией. В летний сезон здесь праздник следовал за праздником, а к 1872 году влиятельный директор «Фигаро» получил наконец разрешение открыть здесь казино.
Процветание Энгиена приходится на Бель Эпок, а символом этого процветания стала уроженка Энгиена Жанна-Флорентина Буржуа, более известная под своим сценическим именем Мистенгет. Слава городка перешагнула границы Франции. В 1879 году здесь был открыт ипподром. В разгар сезона к пяти тысячам постоянных жителей прибавлялось ежедневно столько же приезжих: одни приезжали на воды, другие – в казино, третьи – на бега…
Перемены настигли городок уже в начале XX века. Закон 1907 года запретил все казино на сто километров вокруг Парижа. В 1914–1918 гг. в казино размещался госпиталь, и залы его открылись для публики только в начале 30-х годов (правда, не разрешали рулетку, но все же это было единственное казино в округе Парижа).
Озеро почистили в 50-е годы XX века, и теперь здесь ходят под парусом. Открыто полсотни современных залов водолечебницы. Ну а главное – прогулки, дорожки, зелень, замки, хоть и не очень старые, но красивые. Впрочем, в соседнем Обонне (Eaubonne) можно увидеть и замки XVIII века. Энгиен сто́ит прогулки…
Романтический Санлис и лесные дороги
Санлис Крепи-ан-Валуа • Шаалис • Эрменонвиль • Ла-Гоэль • Вемар
Конечно, в Санлис (Senlis) непременно надо съездить русскому страннику из Парижа – да и недолга нынче дорога, каких-нибудь полста километров. Ну а тому, кто уже добрался до знаменитого Шантийи, тому и вовсе грех не одолеть лишний десяток километров до Санлиса по северной оконечности леса, хотя бы уже и солнце клонится к горизонту. Вечером, кстати, Санлис особенно хорош. Я и сам, помню, попал сюда впервые четверть века назад под вечер, когда мягкий солнечный свет золотил стены дворцов и церквей этой «древней страны Валуа, где уже тысячу лет бьется сердце Франции» – так сказал об этих местах поэт Жерар де Нерваль. Он сказал, впрочем, лишь о тысячелетии, которое исчерпывало французскую историю городка, а ведь еще и за четверть тысячелетия до Рождества Христова было здесь поселение (как выражались римляне, оппидум) галльского племени сильванектов. Это уж потом укрепили город римские легионеры, это уж потом святой Риель окрестил здешних язычников и стал первым санлисским епископом. Историки особо отмечают тот факт, что был он византийским греком, а стало быть, пришел с Востока: с Востока свет.
В укрепленном городе Санлисе в 987 году внук Карла Великого Гуго Капет был избран на царство: отсюда пошла во Франции династия Капетингов.
В Средние века разрастались вокруг города виноградники, процветало здесь ткачество, жили в этом городке короли, строились и украшались дворцы, украшался королевский замок и непрестанно украшался, строился да перестраивался с самого X века знаменитый здешний собор Божией Матери, собор Нотр-Дам. На его суровом, раннеготическом западном портале скульпторы едва ли не впервые во Франции изваяли сцены Успения и Воскресения Божией Матери, и мотивы эти повторяли позднее мастера на порталах соборов по всей Франции многократно. Южный же портал собора создан был знаменитым Пьером Шамбижем только в XVI веке – в стиле «пламенеющей» готики, и нет в нем, конечно, мрачного величия ранней готики, как на главном портале, но зато есть узорчатость, игра фантазии, легкость. Ну а на северном портале можно разглядеть саламандру и букву F – знаки Франциска I. Собор строился, перестраивался, горел и снова отстраивался – с 1153 года аж до самого 1560-го, так что в архитектуре его великолепно представлены все течения готики Французского Острова.
В РОМАНТИЧЕСКОМ САНЛИСЕ. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР И РУИНЫ ЗАМКА, ЧЬИ СТЕНЫ СЛЫШАЛИ ПОСТУПЬ АННЫ ЯРОСЛАВНЫ
Бродя по узким, старинным улочкам за собором, можно увидеть великолепный епископский дворец, а чуть дальше – общежитие каноников, основанное еще в XI веке женой Гуго Капета Аделаидой и посвященное святому, жившему в ту глухую пору в лесах за Орлеаном. А чуть дальше была еще одна церковь XII века и, наконец, церковь Святого Петра с могучей ренессансной башней, фасадом в стиле «пламенеющей» готики (поздняя перестройка), того же стиля окнами, интересными фигурами на колоннах нефа…
Бродя по вечернему Санлису, я вышел в конце концов к королевскому замку, построенному на фундаменте старых римских укреплений. Замок был некогда резиденцией короля Хлодвига, потом жили в нем короли династии Каролингов и династии Капетингов, и позднее – в XIV веке и в XV, до самого Генриха IV, – живали в этом замке французские короли. В саду же близ замка – здание монастыря, основанного Людовиком Святым в XII веке. В настоятельском корпусе ныне размещается музей псовой охоты, где наряду с орудиями и трофеями этого излюбленного некогда занятия собраны картины художников-анималистов и коллекция старинного дорожного снаряжения… Ненавижу охоту, прошел бы мимо, но влечет меня сюда призрак одной неистовой охотницы – о ней дальше…
А крепостные стены… Редко и в хранимой Господом Франции найдешь городок, где крепостные стены III века стояли бы в такой сохранности! Но на то он и Санлис, маленький романтический Санлис, что в нем найдешь еще и развалины галло-римских арен, и старинную богадельню, основанную чуть не Людовиком VII, а в лесу близ Санлиса – еще и остатки римского святилища, посвященного неким богам-исцелителям… Вот они, те самые древние, священные камни Европы, поклониться которым спешил сюда сам Достоевский (а приехав, лишь падал на колени в комнате отеля перед жестокой изменщицей или напрочь увязал в игорных домах – человек слаб).
Улицы тихого, провинциального Санлиса, богатого древними строениями, издавна снились в добрых снах французским и заморским интеллектуалам. Бродил здесь Габриеле Д’Аннунцио, как и многие другие описавший Санлис в своей прозе. Году, вероятно, в 1924-м наезжал сюда и Хемингуэй (может, даже со своими коминтерновскими собутыльниками): во всяком случае, герои его «Фиесты» мечтают в поисках покоя вырваться наконец нечеловеческим усилием воли из угара парижских кабаков, поехать в Санлис, остановиться в «Большом олене» и походить по здешним лесам…
Что до меня, то я, побродив по залитому золотом закатного солнца Санлису, вышел наконец к месту, о встрече с которым мечтал еще и в России, – к фасаду аббатства Святого Винсента, перед которым стояла средних достоинств скульптура, изображавшая стройную молодую женщину с чудо-косами и долгожданной надписью «Анна Русская, королева Французская», а точнее, наверное, «Анна из России, королева Франции» (Anne de Russie…). Вечер добрый, Аннушка, вот и довелось встретиться… Конечно, русской эту киевлянку не всякий нынешний специалист по национальному вопросу согласится признать: все ж таки мама Ирина – чистая шведка, да и папа Ярослав, киевский князь, хоть и Мудрый, а, видать, варяжских кровей. Но, может, все же мудро поступили некогда местные скульптурные власти, обозначив просто – «Анн де Рюси», ибо тут-то оно главное и есть: сколько нам ни давай паспортов, скольким ни учи языкам сыздетства, мы «де Рюси», из России… Но и новые власти не оплошали. Новейшая надпись на пьедестале гласит нынче: «Анна из Киева». Совсем точно…
Как мы добрались сюда нынче через давший трещину железный занавес, это дело десятое, а вот как ты попала сюда, красавица наша Аннушка, без малого тысячу лет назад? Тоже, небось, не думала не гадала в девичьем тереме стольного града Киева. Судьба. Да еще и непростая судьба.
А было так. Овдовел в тесном и грязном городе Париже немолодой уже внук самого Гуго Капета французский король Генрих I, и не только что без жены остался, жена найдется, но и без законного сына-наследника, вот где беда… Умнейшие королевские советники решили срочно искать невесту, пока твердо еще на ногах стоит король, да вот где искать? Дошел, впрочем, до непролазно-грязного, но столичного Парижа, до острова Сите (на котором нынешний-то собор только еще строился), – дошел слух, что искать следует в отдаленном Киеве при дворе князя Ярослава Мудрого, девушки там хороши и крепки здоровьем (так, впрочем, и по сей день). Были уже европейские прецеденты. Будущий норвежский король, славный поэт и рыцарь Харальд Храбрый искал в Киеве руки Ярославовой дочки Елизаветы и, по обычаю галантно унижая себя в стихах, прилюдно жалился: «А меня ни во что ставит девка русская» (перевод стихов на сей раз не наш, а известного архитектора Львова). Венгерский же король Андрей сватался ко второй Ярославовой дочери. А тем временем дозрела уже и третья, круглолицая красавица Аннушка, посылайте, Ваше Величество, послов. Послали – и дело сделалось. Повезли шестнадцатилетнюю Аннушку через кишевшую разбойниками и прочим феодальным «беспределом» страну Европу в знаменитый ихний город Париж. А 19 мая 1051 года, на Троицу, Генрих и Анна венчались в соборе в Реймсе, хвала Богу, осталась запись, потому что не так уж многое нам от тех времен достоверно известно, а народ нынче все хочет знать достоверно, не доверяет простому сочинительству. Откуда-то все же известно, что невеста привезла с собой из родного Киева Евангелие на кириллице (но, конечно, не то, что хранится в Реймсе и что Петру Великому показывали как истинное, ибо то, как поняли поздней люди ученые, было куда новей), а также иконку с собой привезла православную (льщу себя надеждой, что были на ней изображены ее злодейски убитые дядья – святые Борис и Глеб). Что за свадьбой последовало, дело почти известное, как и то, чего ожидали от молодой королевы. Наверно, и она тревожилась – вдруг не выполнит предназначения, не окажется на высоте задач и требований. Сообщают, что она перешла в те тревожные месяцы в католическую веру и дала Господу (а Господь-то у нас один) обет, что ежели родит сына-наследника, то построит в Санлисе святое аббатство. Почему в Санлисе, тоже легко понять: там королевский был замок и там большую часть времени проводил двор, а не в тесном дворце на парижском острове Сите. В ожидаемый срок Анна произвела на свет сына-наследника, которого назвали Филиппом. Долгих сорок семь лет правил этот Филипп во Франции, но похоже, ничем не поразил воображение историков и современников, разве вот тем, что произвел на свет энергичного Людовика VI. Батюшка его Генрих I не зажился, хотя Анна родила ему и второго сына, который, впрочем, умер совсем маленьким. А насчет аббатства в Санлисе королева Анна обет свой выполнила. В Санлисе королевская чета проводила много времени, и королева предавалась там радостям охоты: «как ради чистого воздуха, – объясняет старинный летописец, – так ради и развлеченья этого, доставлявшего ей превеликое удовольствие». Ну а какой в точности Анна давала обет и какие при этом замаливала грехи, нам не известно, хотя и дошел до нас, уцелел трогательный средневековый текст, сообщавший, что часовня, положившая основание монастырю Святого Винсента, и впрямь построена была королевой Анной, которая наказывала каноникам-августинцам, чтобы «молились денно и нощно во искупление грехов короля Генриха, детей моих грехов, друзей моих грехов и моих собственных, дабы через это их, каноников, тщание предстать мне перед Господом без греха, без задоринки, как того желал Христос для своей церкви». О чем тут речь идет, о каких великих и малых прегрешениях, где ж нам с вами угадать через тысячу лет, однако кое-что донесли до наших дней не токмо что устные предания, но и пожелтевшие от времени записи. Скажем, в хартии об основании монастыря Святого Винсента, перечислив все достояние, которое она монастырю отдает, в таких словах объяснила королева свое намерение:
«Сердце мое отважилось наконец на воздвижение этой церкви во имя Христа, чтобы приобщиться мне в качестве одного из членов его небесному сообществу, спаянному одной верою во Христе, оттого и был отдан мною наказ воздвигнуть для него церковь во имя Святой Троицы, Девы Марии, Предтечи Господа и Святого Винсента-Мученика».
Освящение церкви имело место в присутствии королевы Анны 29 октября 1069 года, и надо отдать монастырю должное: и братия, и летописцы церковные долго сохраняли добрую память о киевлянке-королеве, потому что и семь веков спустя, до самой богохульной революции, каждый год 5 сентября, в годовщину ее смерти, служили здесь по ней торжественную мессу, после которой настоятель монастыря приглашал восемнадцать самых убогих и сирых вдовиц города Санлиса на поминальный обед. Но если день смерти королевы нам ведом, то год ее смерти остается неизвестен. В последний раз имя ее упомянуто в документах в 1075 году (еще не было ей сорока). О том, впрочем, что случилось в ее бурной жизни до этой даты, нам хотя и без ценных подробностей, а все же известно. С 1059 года, в котором отдал богу душу король Генрих 1, Анна управляла Францией как регентша при малолетнем сыне-наследнике. Все тогдашние королевские грамоты ими подписаны совокупно: «Рекс кум матре суа Регина», то бишь «король с матушкой своей королевой». Сохранился от тех времен даже автограф – кириллицей: «Анна реина». Одетая после смерти мужа, как принято, в белые траурные одежды (отчего и звали вдову «белой королевой»), несла 23-летняя красавица киевлянка все бремя вдовства и правления. А потом случилось событие вполне в духе того романтического и безжалостного века. То ли на охоте, то ли во время мирной прогулки в саду (поди теперь узнай точно) похитил молодую вдову-королеву Ея Величества Королевы могучий вассал граф Крепи, Рауль Валуа. Другие, впрочем, источники называют его Рауль II де Перрон, а третьи и вовсе – Рауль III Великий. Если верить не слишком друг с другом согласным старинным хроникам, был он человек умный и храбрый, однако без меры тщеславный, вероломный, беспринципный и безжалостный. Часто вел он жестокие войны, побежденных врагов облагал тяжким налогом, а город Верден (уже и тогда многострадальный) за неуплату каких-то ничтожных 20 ливров предал огню. Был он непокорен, строптив, с самим сюзереном, королем Генрихом I, не раз бывали у него стычки. Женат был уже вторично, и каждый брак умножал его состояние, а знаменитый его замок Крепи был неприступен. Первым браком сочетался он с богатой Адалаис, которая недолго прожила в браке и отдала богу душу. Если еще обнаружится, что помог он ей перейти в лучший мир, вряд ли это открытие кого удивит. Вторым браком женился он на своей родственнице Хакане (которую иные из старинных источников называют Алинор). И вот вскоре после смерти сюзерена, своего короля, умыкнул он при живой еще второй жене вдовствующую королеву, запер у себя в замке и заставил какого-то бедолагу священника их обвенчать. (Впрочем, немного до нас дошло подробностей про чрезвычайное это событие и про чувства славной нашей землячки; думается, не соблазнил ли он красавицу королеву еще раньше, во время лихой охоты? Он мог.)
Брошенная жена Рауля бедная Хакане пожаловалась архиепископу Реймса, и тот в послании папскому престолу донес святейшему отцу, что малолетний король Франции в горе и в замешательстве и что скорбит покинутая Раулем законная жена. Папа Александр II в гневе отлучил графа Крепи от церкви, хотя бедную вдову-королеву, вдову-разлучницу пощадил (может, больше нашего было известно Риму). Однако энергичный граф Крепи не опускал руки – энергично доказывал всем и всякому, что брошенная Хакане была наказана им за неверность. Кроме того, он доказывал, что приходилась она ему слишком близкой родственницей, так что брак их не был угоден Богу. До поры до времени, как и многим в ту пору, такое родство не слишком мешало соединяться в браке, но церковь к устаревшему этому (хотя и нередкому) кровосмешению относилась со строгостью. Так что в конце-то концов (не мытьем, так катаньем) добился энергичный и всесильный граф папского разрешения узаконить его брак, потому что доподлинно известно, что уже в 1063 году присутствовал граф с новой своей супругой и со всем королевским двором на торжествах в Суассоне. Стало быть, узаконил. Тринадцать лет прожила Анна в браке с графом Крепи и родила ему нескольких сыновей и дочек. Он покинул нашу грустную юдоль многобрачия в 1074 году, Бог ему судья, но ведь и ее следы теряются где-то году в 1075 – куда она-то исчезла, нестарая еще женщина? Иные из историков считают, что вернулась она, вторично овдовев, в родной Киев. Другие историки (в том числе и наш Карамзин) находят эту версию сомнительной. Что могла искать на забытой родине королева-католичка? К тому же шла уже в те времена в Киеве кровавая междоусобица… Но откуда нам знать? Может, именно в такую пору и потянуло ее на родину неудержимое беспокойство души?
В дарственной королевской грамоте, оставленной в пользу аббатства Клюни (был я там однажды во время своих странствий и долго толковал с симпатичным монахом из монастырской лавки о романе… Солженицына) и подписанной сыном Анны королем Филиппом I в 1079 году, отыскал я такую фразу: «Сей дар приношу я для отпущения моих грехов, а также грехов отца моего и моей матери, а также моих праотцев».
Может, ничего не значит эта фраза, обычная формула, да и кто из нас без греха. Но может, и впрямь сын темпераментной этой киевлянки, жившей в начале минувшего тысячелетия в городе Санлисе и в Крепи-ан-Валуа, может, насчитал он в лоне семьи немало грехов, отчего и сам вознамерился уйти в монастырь в конце длинного своего царствования. Он бы и ушел, если б не промедлил слишком, как все мы медлим, с исполнением главного и если б жизнь его не оборвалась внезапно. А все же хоронили его, как он завещал, в рясе бенедиктинского монаха. В том же завещании просил он похоронить его в аббатстве на Луаре, в Сен-Бенуа-сюр-Луар, ибо лежать в знаменитой королевской усыпальнице в соборе Сен-Дени, где другие лежат короли, считал себя недостойным. «Боюсь, – писал он, – что за грехи мои могу даже отдан быть диаволу».
Однако в том же завещании он выражал надежду, что святой Бенедикт, с высоты своей снисходительности взирающий на грешников, примет и его со свойственным ему милосердием.
Еще дальше в покаянии своем и страхе Божием пошел сын киевлянки Анны от графа Рауля Крепи, прозванный Симоном. Помирившись с братом своим единоутробным, королем Филиппом, отправился он в нелегкое странствие в Рим, а потом, дав обет и надев грубое монашеское одеяние, удалился в монастырь среди Юрских гор. Еще позднее совершил он паломничество в Святую землю, а умер в 1080 году в Риме и был приобщен к лику святых.
Попадете в Киев, приглядитесь к фреске XI века на стене Софийского собора: там изображено все семейство Ярослава Мудрого, так вот вторая слева, юная, круглолицая, это она и есть, многогрешная Аннушка… Но только до Киева нам теперь далеко, а раз уж попали в этот древний и такой тихий, провинциальный Санлис, не след нам из него спешить – побродим по узким его улицам, богатым старинными дворцами, вроде дворца Кермонта (XVIII век) на площади Жерара де Нерваля, XVI века дворца Перзеваля или Фламандского дворца на улице Кордильеров. К югу от площади Крей видны III века галло-римские арены, вмещавшие некогда до десяти тысяч жителей… Как бы забытый последними всплесками шумной цивилизации дремлет тихий этот Санлис, оставленный на радость сбившимся с пути любителям старины…
Конечно, история королевы-киевлянки может завлечь путника и в недалекий отсюда Крепи-ан-Валуа (Crépy-en-Valois), в старых кварталах которого среди зданий XV и XVI веков еще можно видеть башню Валуа и все, что осталось от старинного замка, который строился в X и XI веках. К той же эпохе относится и аббатство Святого Арнульда, основанное здесь в самом начале XI века, дабы упокоить в нем реликвии святого епископа Турского, перенесенные в Крепи еще в середине X века…
Главное место в нынешнем замке Крепи занимает экспозиция, рассказывающая об истории стрельбы из лука. Все это, впрочем, лишь смутно напоминает о королеве-охотнице из стольного Киева, жившей здесь так давно.
В окрестностях Санлиса немало романтических лесных уголков, замков, развалин.
А двинувшись от Санлиса к юго-востоку по 330-й дороге, попадаешь в страну замечательных лесов, парков и, что уж вовсе неожиданно, песков.
Рядом с городом стоит в парке замок времен Директории – Вальженсёз. В середине XIX века его хозяйка маркиза де Глак принимала у себя Альфреда де Виньи и Александра Дюма, который описал этот замок в одной из повестей. Чуть дальше, за оградой, увитые плющом руины аббатства ла Виктуар, Победы, его и впрямь основал король Филипп-Август в честь своей победы при Бувине (1214 год). В аббатстве этом часто жил король Людовик XI, начавший здесь строительство новой церкви (еще лежат ее живописные руины).
В десятке километров юго-восточнее Санлиса, среди леса, близ берегов речки Онет, питавшей своими водами монастырские пруды, лежали некогда обширные владения бенедиктинского аббатства Шаалис. Около 1200 года здесь был воздвигнут один из первых готических храмов Иль-де-Франс. Нынче в густой зелени парка видны руины собора, аркады прогулочного дворика, остатки залы капитула. В уцелевшем монастырском здании XVIII века размещается нынче музей Жакмар-Андре с коллекцией произведений Древнего Египта, римских мраморных скульптур, живописных примитивов, произведений Средних веков и эпохи Ренессанса. Есть в музее и несколько памятных предметов, напоминающих о похороненном неподалеку отсюда Жан-Жаке Руссо.
Еще в те времена, когда монахи-бенедиктинцы решили начать в этих местах расчистку леса, на поверхность вдруг проступили пески былого моря. Нынче двадцать гектаров этого «песчаного моря» превращены в парк аттракционов, в котором тешатся не только дети, но и взрослые. Кроме парка аттракционов, здесь есть и зоопарк.
Впрочем, тех, кто настроен не только по-отпускному спортивно, но и вполне романтически, манят в эти места тенистые дорожки одного из самых красивых пейзажных парков Франции, носящего имя Жан-Жака Руссо, манят Эрменонвильский лес и деревня Эрменонвиль (Ermenonville). Жан-Жак Руссо приехал сюда в конце жизни по приглашению его почитателя маркиза Рене-Луи де Жирардена и поселился в доме посреди парка. Здесь философ выращивал цветы, плавал в лодке, гулял по дорожкам великолепного английского парка (устроенного по рисункам Юбера Робера), но, прожив чуть больше месяца, скоропостижно умер 2 июля 1778 года. Хозяин усадьбы похоронил философа на Тополевом острове, в самом сердце здешнего парка. Могилу эту (пустую ныне, конечно, ибо 16 лет спустя прах философа был перенесен в Пантеон) посещали Сен-Жюст, Робеспьер, Наполеон и великое множество менее кровожадных, хотя и не менее знаменитых паломников.
Романтически настроенный нынешний пилигрим посетит в Эрменонвиле и Храм Философии – одно из самых знаменитых здешних парковых «строений» («fabriques»), доисторический грот, алтарь Мечтаний, ручьи и водопады, а может, и дальше углубится в лес, где все три тысячи гектаров романтической красоты размечены вполне практическими и полезными пешеходными маршрутами. Гуляйте, гуляйте, укрепляйте сердце и не спешите вослед Жан-Жаку…
Лес Эрменонвиль граничит с лесом Понтарме и лесом Шантийи. А юго-западнее Эрменонвиля, в долине Морфонтэн, лежит парк де Вальер, многочисленные пруды которого, вырытые монахами из аббатства Шаалис, вдохновляли художника Камиля Коро и поэта Жерара де Нерваля, который провел здесь детство. Парк де Вальер был устроен в XVIII веке президентом парижского парламента Ле Пелетье. Над гладью здешних прудов красовались модные парковые «строения». Усадьбу эту купил в конце XVIII века Жозеф Бонапарт, потом она перешла в руки наследницы Конде баронессы Фёшер, которую Жерар де Нерваль воспел под именем Сильвии…
Дальнейшее наше путешествие на юг от Эрменонвиля тоже будет небезынтересным. Здесь между Французской равниной и Мюльтийскими просторами Бри вклинилась страна Ла Гоэль (La Goële), не слишком хорошо знакомая даже и французам, хотя она находится в каком-нибудь получасе езды от Парижа. Многим ли знаком маленький Дамартен-ан-Гоэль (Dammartin-en-Goële), в котором уже и в Средние века звонили колокола четырех церквей? Из двух ныне уцелевших церквей особенно интересна церковь Нотр-Дам, сильно пострадавшая от Столетней войны, но восстановленная уже в 1480 году, – с могучим западным порталом в стиле «пламенеющей» готики. Стены церкви украшены резьбой по дереву XVII и XVIII веков. Самым замечательным творением в церкви называют кованую железную решетку XVIII века, при создании которой местный мастер, как считают, вдохновлялся решеткой с площади Станислава в Нанси. Полагают также, что решетка была заказана Марией Лещинской.
Знатоки и поклонники французской литературы могут сделать небольшой крюк, не доехав до Дамартена и свернув возле Отиса на запад по 26-й дороге. Проехав Мусси-ле-Нёф, где стоят ренессансная церковь и часовня старинного аббатства XII века (превращенная, впрочем, в амбар), попадут они в старинный Вемар (Vémars), где сохранилась церковь XIII–XVI веков. К удивлению его французских поклонников, знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мориак именно Вемар выбрал местом последнего упокоения, – Вемар, землю своей супруги, а не землю предков, излюбленный Малагар, который он унаследовал в 1927 году. Мориак сам рассказывал об этом своем сделанном заранее выборе:
«Среди этого пейзажа Валуа лето лишь беспокойный придаток весны и осени… Между весной и осенью в этой стране Валуа, где всего-то и бывает три сезона, я изберу свое обиталище… Сад Вемара дарит чудесную свежесть, мир и одиночество – и всего в сорока минутах ходьбы до авеню Теофиля Готье. Кладбище – близ ворот, и я попрошу вырыть там для меня могилу».
Знатоки Мориака, ища объяснение этому выбору (отчего же не в краю Жиронды, описанном в знаменитых книгах Мориака?), находили его в такой записи, сделанной писателем в 1946 году:
«Я решил, что мне нечего больше ожидать от этих моих возвращений на родину. Малагар стал для меня устрашающим после смерти последнего из братьев». Сын писателя подтверждает и этот страх отца перед воспоминаниями, и страх перед жарким летом Жиронды, и привязанность к мягкому климату долины Уазы, к пейзажу, который открывался из окна его кабинета в верхнем этаже замка де ла Мот в Вемаре. Во время войны Мориак, живя в Вемаре под именем Форе, написал знаменитую «Черную тетрадь» и напечатал ее в Париже, то есть был «резистантом». Здесь он написал первую передовую статью для «Фигаро», прославлявшую в дни Освобождения генерала де Голля, который затем пригласил писателя на обед в Елисейский дворец. В 1952 году в Вемар пришли первые телеграммы, поздравлявшие Мориака с Нобелевской премией. Зимой 1970 года (в год своей смерти) Мориак еще диктовал жене последний роман, который он не закончил (ему было 84 года). Местный муниципалитет купил этот замок, который сам Мориак в письме Прусту назвал когда-то «бонбоньеркой времен Второй империи», и открыл там скромный музей, который находится под покровительством ассоциации «Франсуа Мориак в Иль-де-Франс».
Одна из дочерей Франсуа Мориака вышла после войны замуж за молодого князя Ивана Владимировича Вяземского. В 1948 году у них родилась красавица дочь Анна, которая в ранней молодости снималась в кино, будучи замужем за знаменитым режиссером-маоистом Ж.-Л. Годаром, а потом стала писать романы. Один из последних романов Анн Вяземски (о судьбе ее русского дяди-помещика) был удостоен премии Французской академии. Вполне вероятно, что писательница напишет еще и воистину великие романы – в любом случае высокие литературные почести этой красивой внучке самого́ Мориака просто гарантированы незыблемой французской традицией.
От Вемара те, кто спешат домой в Париж, могут выехать на автостраду A1 и тем почти завершить долгое путешествие. Но самые любопытные могут вернуться в Гоэль, в Дамартен. Вся эта местность – к югу и к западу от Дамартена – богата памятниками старинной (XII–XV веков) архитектуры, а столицей ее является, пожалуй, Нантуйе, где стоит до сих пор кирпичный замок, строго выдержанный в стиле раннего Ренессанса и принадлежавший хозяину здешних мест, бывшему воспитателю, а позднее советнику короля Франциска I Антуану Дюпра. Несмотря на все повреждения и утраты, замок, как считают знатоки, сохраняет гордую и даже надменную осанку. Смерть и похороны его воспитателя, советника и прелата принесли славному королю Франциску I не только горечь утраты, но и горечь разочарования: в замке были обнаружены 800 000 экю, уворованных из казны. Помолившись о душе алчного прелата в прекрасной церкви XII века в селении Сен-Мем, устремимся к Парижу в обход самого шумного парижского аэропорта…
От Санлиса через Компьень – в гости к Дюма и Расину
Компьень Пьерфон • Морьенваль • Виллер-Котре • Ла-Ферте-Милон
Северо-восточнее Санлиса раскинулся один из самых обширных и живописных лесов Франции – Компьенский лес, окаймленный с севера холмами, пересеченный ущельями и оврагами, по которым бегут ручьи, возносящий к небу могучие кроны буков, дубов и грабов. Некогда дикие звери водились здесь в изобилии – может, это и завлекло на северо-западную оконечность леса, на левый берег Уазы страстно любивших охоту величеств и высочеств. Так или иначе, при въезде в нынешний город Компьень (Compiègne) путника еще на дороге встречает гордая надпись – «Город королей и императоров». Поскольку время королей и императоров во Франции минуло, дотошный историк добавил бы, что это был также город мук и страданий, «исторических ошибок» и всего прочего, без чего не пройти старинному городу через столетия, однако, может, гордый здешний «горсовет» отметил в придорожной надписи главное, ибо, где бывали короли-императоры, там трудились и подкармливаемые величествами художники, архитекторы, поэты, там остались памятники для потомков.
Собственно, Компьень – город уже пикардийский, но жаль было бы упустить такой город и такой лес в каких-нибудь восьмидесяти километрах от столицы, близ берегов Французского Острова. При всем уважении к королям, надо отметить, что историю этого города можно уследить и раньше появления Их Величеств на здешней арене (и в неолитическую, и в галльскую, и в галло-романскую эпохи), однако внятно история поселения обозначена примерно с VI века нашей эры. Город тогда назывался Компендиум, первыми из королей-охотников появились здесь короли Меровингской династии. Бывали здесь и Дагобер, и Хлодвиг III, и Хильдебер III. Потом вкушали здесь радости охоты Каролинги – Пипин Короткий, Людовик Благочестивый, наконец, Карл Лысый, который вообще мечтал превратить Компьень в мировую столицу наподобие Константинополя и для начала основал здесь аббатство, которому передал множество священных реликвий. Количество этих даров умножила и обитавшая здесь Матильда Английская. При Карле Лысом оживилась тут не только религиозная, но и политическая, и экономическая жизнь, расцвела торговля, стали устраивать ярмарки. Капетинги тоже любили город и осыпали его благодеяниями. Филипп-Август расширил права горожан и окружил город оборонительными стенами. Людовик Святой построил тут больницу.
Потом на город обрушились невзгоды Столетней войны. Жанна д’Арк в первый раз останавливалась в городе с Карлом VII после его коронации, но позднее именно здесь, придя на помощь городу во время осады его бургундцами, попала в плен к солдатам Иоанна Люксембургского, который и продал ее в конце концов англичанам.
Компьень пережил расцвет при Бурбонах, особенно при Людовике XIV и Людовике XV, когда в городе были построены новая больница, новый мост, замок Габриэля. Зато уж в романтические дни Великой революции город подвергся и варварскому разграблению, и небывалому осквернению своих святынь.
Первая империя постаралась вернуть городу прежний блеск и престиж. В отстроенном замке Наполеон I принимал в 1810 году будущую императрицу Марию-Луизу. Позднее, в 1814 году, город оказал упорное сопротивление прусской армии, но в конце концов взят был союзниками.
И позднее высокие особы жаловали Компьень своим присутствием. Король Луи-Филипп (в пору так называемой Июльской монархии) выдавал здесь старшую дочку замуж за бельгийского короля. Что же до императора Наполеона III и императрицы Евгении, то они неизменно проводили тут часть осени и приглашали сюда на отдых многих видных людей Франции. Понятное дело, город в связи с этим разрастался, строились вокруг замка новые богатые дворцы-«отели», и только с падением империи (1870 год) забытый высокими особами город приходит в запустение, а грядущий XX век влечет за собой новые беды. Главные начались, как известно, в 1914 году, когда в город вторглись немцы. Немцы вторгались сюда и вторично, но зато именно в Компьенском лесу подписано было в 1918 году перемирие, положившее конец самой страшной, наверное, в истории Франции войне (и неразумно посеявшее семена новой). Франция гордилась тогда победой, но это не было концом ее бед. В июне 1940 года город подвергся страшной бомбардировке (разрушено было до полтысячи прекрасных домов), а 22 июня 1940 года на той же самой (по настоянию Гитлера) поляне Компьенского леса, где в 1918 году было подписано торжествующей Францией первое (столь позорное для Германии) перемирие, было подписано новое, для Франции вполне позорное. Впрочем, несмотря на постыдность этого перемирия, оно избавило почти не воевавшую Францию от тысячи бед, пережитых другими странами Европы. Разумно ли было сдаться и сотрудничать с немцами, не мне судить, хотя думается, что даже забывчивыми французами позор этой капитуляции не изжит полностью…
В войну Компьень славился разве что своим пересыльным лагерем «Фронт-Сталаг 122», откуда евреев и «резистантов» отсылали в другие лагеря и тюрьмы, часто в лагеря смерти. Однако и это почти забыто. Думаю, что русский путник окажется менее забывчив и остановится в Компьене на скрещении парижской дороги и улицы 67-го пехотного полка, в знаменитом Руальё, где и размещался пересыльный лагерь (о нем немало писали его уцелевшие узники, а мне о нем рассказывал герой Сопротивления, сын бывшего врангелевского премьер-министра И.А. Кривошеин).
22 июня 1941 года, через несколько часов после превентивного (или, как принято было писать, «вероломного») нападения на лихорадочно готовившуюся к войне сталинскую Россию, нацисты свезли сюда, по одним источникам, три сотни, по другим – до тысячи (по сведениям ненадежной Берберовой – всего 120 и все как есть масоны) русских эмигрантов, самых видных эмигрантских деятелей (среди них было, конечно, немало и масонов, и евреев, но были среди них и православные, были и мусульмане). Несмотря на все смятение и горечь, некоторым из пожилых русских заключенных атмосфера этого разномастного сборища (здесь были и монархисты, и эсеры, и коммунисты, и беспартийные, и верующие, и атеисты) напомнила их молодые петербургские годы, былые студенческие сходки, споры между единомышленниками, между политическими противниками, аресты. «У нас в Компьене, – писал позднее мусульманский лидер эмиграции Мустафа Чокаев (Чокай-оглы), – на открытом воздухе устраивались замечательные лекции, политические диспуты». В лагере был создан даже «Народный университет Фронт-Сталаг 122», который выдавал своим слушателям и преподавателям грамоты за подписью собратьев по лагерю и бараку (как стали говорить позднее, солагерников). Уцелели две такие грамоты, выданные в «университете» профессору Дмитрию Михайловичу Одинцу, преподававшему до войны в Сорбонне и долгие годы возглавлявшему общественный совет Тургеневской библиотеки. Позднее Д.М. Одинец стал главой «Союза советских граждан», выпускал советскую газету и был (по вполне понятным и более не тайным причинам) выслан в марте 1948 года из Франции в советскую зону оккупации Германии, а оттуда был допущен в СССР. Он еще успел прожить два года в Советском Союзе (в Казани: в Москву и Ленинград его не впустили), где преподавал в университете, болел и вскоре умер. На грамотах, подаренных Д.М. Одинцу, можно разобрать подписи и лагерные номера, свидетельствующие о том, что русских заключенных было не 120 (как сообщает Нина Берберова), а больше тысячи, ибо есть номера 1059, 1135, 1244…
Человек, хотя бы поверхностно знающий историю русской эмиграции, без труда опознает знакомые имена и фамилии. Во главе длинного списка – подпись князя Романовского-Красинского (лагерный номер 119), сына балерины М.Ф. Кшесинской. Князь Владимир Романовский-Красинский (которого шутливо называли «Вово де Рюси») был одно время номинальным парижским лидером партии «младороссов», беглый «Вождь» которой (А. Казем-Бек) после неудавшегося союза с итальянскими и немецкими фашистами нашел (еще до войны) путь в советскую разведку. Может, этим и объяснялись арест и недолгое заключение князя. Возможно, что и заключение в лагерь подписавшего «грамоту» графа Петра Андреевича Бобринского тоже объяснялось его былой принадлежностью к партии «младороссов» и масонской ложе. Бобринские вели свой род от Екатерины II и Григория Орлова. Граф Петр Андреевич был поэтом и журналистом, сотрудничал позднее в «Возрождении» и «Вестнике РСХД». После смерти графа его вдова М.Ю. Бобринская (урожденная Трубецкая) издала сборник его стихов…
А вот подпись художника Юрия Черкесова. Потомок декабриста Василия Ивашева, он был женат на дочери Александра Бенуа, учился у Петрова-Водкина, в эмиграции оформлял книги, писал пейзажи, выставлялся в Салоне независимых, в Осеннем салоне, в Тюильри; на парижской Всемирной выставке 1937 года он получил золотую медаль за гравюру «Песнь песней». После Компьеня сорокалетний Юрий Черкесов впал в депрессию и покончил с собой.
Живописцем и художником кино был оставивший свою подпись на «грамоте» Савелий Шлейфер (лагерный номер 163), художником театра и кино – Янкель Гатковский (№ 1055); эти двое на свободу уже не вышли, поскольку были евреями и должны были умереть. В иерусалимском музее Яд ва-Шем из ранних документов о Компьене уцелел «Отчет о 1500 евреях, арестованных в Париже в декабре 1941 года и отправленных в лагерь Компьень».
Среди подписавших «грамоту» Одинцу – имена микробиолога Сергея Чахотина, адвоката Израиля Кельберина (отца поэта), ближайшего помощника матери Марии в «Православном деле» Федора Пьянова, молодого писателя Виктора Емельянова, автора знаменитой повести о собаке Джим, графа Сергея Игнатьева, брата советского разведчика А.А. Игнатьева и бывшего мужа актрисы Е. Рощиной-Инсаровой (в общем, не одни только масоны и евреи были в лагере).
В одном из бараков лагеря, превращенном в православную часовню, 30 сентября 1941 года отец Константин Замбржицкий крестил по православному обряду видного деятеля российской эмиграции, историка, редактора (в частности, одного из четырех редакторов журнала «Современные записки»), журналиста, мецената и политика, друга Буниных и Набокова Илью Исаевича Фондаминского. Фондаминский отказался от предложенного ему побега и ушел в газовую печь Освенцима, не желая покидать товарищей по несчастью, которых угораздило родиться евреями.
В здешнем лагере поэтесса и героиня-монахиня мать Мария в последний раз видела своего юного сына Юру Скобцова и своего сотрудника отца Димитрия Клепинина. В компьенском пересыльном лагере отец Димитрий рукоположил Юру в диаконы. Оба погибли в нацистских лагерях.
Позднее Компьень действительно служил преимущественно для пересылки евреев в лагеря смерти. Впрочем, иным из них не суждено было добраться до печей крематория. В книге Кристиана Бернадага «Поезд смерти» (Париж, 1970) рассказано, как 2 июля 1944 года более двух тысяч евреев были погружены в Компьене в эшелон № 7909. Страшная жара (34 градуса), товарные вагоны переполнены, воды нет… По прибытии эшелона в лагерь выгрузили 536 трупов. В книге приведены списки умерших и выживших в пути…
После войны в маленьком Компьене, лежащем на скрещении дорог, стали появляться предприятия пластмассовой, химической и фармацевтической промышленности. Но конечно, не они могут завлечь в Компьень клиентов самой могучей из отраслей французской индустрии – туристической. Иными словами, нас с вами пластмассой ни в какой Компьень не заманишь. К счастью, в императорском городе, несмотря на все передряги, уцелели не только реликвии военной славы (вагон Перемирия, правда, пришлось заново изготовить), но и прекрасные архитектурные памятники прошлого. Начать можно с чудом уцелевшего прелестного здания городской мэрии, построенного аж в 1502–1510 годах, в период поздней готики. Конечно, за истекшие полтысячи лет (и особенно интенсивно в первые три столетия его жизни) здание это достраивали, перестраивали, украшали и реставрировали, но, так или иначе, даже нам с вами, уже избалованным французской архитектурой странникам, здесь есть на что полюбоваться – на фасад с башенками, на балюстраду, на окна, на многочисленные статуи (каких тут только нет персонажей – и Карл VII, и Жанна д’Арк, и святой Реми, и Людовик XI, и Карл Великий…). А над ними – красивые люкарны и элегантная башенка со шпилем, с часами XVI века и колоколом 1303 года – все старое без обману.
Внутри мэрии – музей исторических фигурок (97 000 штук) в военной униформе всех мыслимых стран и родов войск, а также диорамы, воспроизводящие все великие битвы, будь они неладны.
В мэрии есть муниципальная библиотека, насчитывающая две сотни рукописей и вдобавок 1200 книг об одной только Жанне д'Арк. И тут же – пышные залы, с редкой мебелью (вон тот стол, говорят, смастерил сам Гужон для самого Генриха II), картинами и скульптурами…
Это еще далеко не все сокровища мэрии, а уж в городе их и того больше. Скажем, XIII века церковь Святого Иакова (Saint-Jacques-le-Majeur), построенная по заказу Бланш Кастильской, – каких только сокровищ искусства не скопилось в ней за века! Интересна также XIII века, но с ренессансным фасадом церковь Святого Антония…
На улице Сен-Корней можно увидеть руины очень старого аббатства Святого Корнелия, да и вообще в этом городе и старинных памятников, и романтических руин множество. Но конечно, в императорском-то, королевском городе прежде всего хочется увидеть королевский замок, где каждый метр покоев и коридоров хранит отзвуки Высочайшей поступи (в сочетании, впрочем, с отзвуками вполне низких поступков). До нас дошел замок, достроенный и перестроенный в середине XVIII века замечательным архитектором того времени Жак-Анжем Габриэлем, тем самым, что строил в Версале Малый Трианон и чудную площадь Согласия в Париже. Ограниченный стенами старого укрепления и рвами, компьенский замок поневоле принял треугольную форму, но знатоки архитектуры отмечают непрерывность его линий, выдержанную прекрасной колоннадой, стройность его фасада и гармонию всего замкового ансамбля, довольно строгого, особенно в сравнении с императорской роскошью внутреннего убранства. Замок был воздвигнут на месте былого меровингского дворца по приказу короля Людовика XIV, и строительные работы не прекращались четыре десятилетия, до самого начала Революции, во время которой замок был, понятное дело, разграблен, затем превращен в больницу (для народной больницы чем хуже разор, тем лучше), а позднее в нем разместилась Школа искусств и ремесел…
Восстанавливать замок начал счастливо обретенный Революцией император – Наполеон I (его императорские ансамбли и апартаменты вполне роскошны), а продолжил эти труды император Наполеон III. В годы Второй империи замок был окружен новой галереей, а уж после Второй мировой войны здесь был открыт музей для широкой публики, которая может проникнуться должным уважением к власти, гуляя по роскошным апартаментам императоров, императриц, короля Рима (младенца) и принцев, проходя по галереям, по музыкальному салону, по залу для игр и даже стоя в часовне. Можно отметить, что далеко не все апартаменты достаточно хороши, иные из них оставляют желать лучшего. При виде их невольно вспоминается, что, прибыв 29 апреля 1814 года в Компьень с визитом к возвращенному из ссылки королю Людовику XVIII, русский император, Царь-Победитель Александр I, осмотрев предоставленные ему королем для ночлега апартаменты, остался ими недоволен и велел немедленно приготовить экипажи, чтобы отбыть обратно в Париж, едва отобедав. Русский гость убедился, что привезенный из лондонской ссылки его послом, верным корсиканцем графом Поццо ди Борго, новоявленный король поспешил занять для себя все лучшие апартаменты в замке. Да и поведением своим во время обеда новый Бурбон никак неучтивости своего жеста не загладил. Эту странность королевского поведения русский император (как донесла до потомков графиня де Буань) тут же отметил с вполне оправданной обидой: «Король ведет себя так, как будто это он восстановил меня на троне, а не наоборот». Русский император и далее продолжил свои меткие наблюдения над Бурбонами, отметив, что «они ничему не научились». Может, это с той поры слово «бурбон» и имеет в русском тот полупрезрительный привкус, которого оно даже в суперреспубликанском французском не имеет («Прихожу я в кабинет, а там сидит какой-то бурбон…»).
Бестактность последнего из Бурбонов, была полвека спустя заглажена сыном обласканной нашим Александром I королевы Гортензии, императором Наполеоном III, который совершенно по-царски принимал в Компьене сестру русского императора Александра II герцогиню Марию Лейхтенбергскую.
В 1901 году французский президент принимал в том же компьенском замке российского императора Николая II, где у последнего состоялось свидание с лионским магом-исцелителем Низье Филиппом, которого император пригласил в Царское Село для наблюдения над беременностью императрицы. Полагали, что всесильный маг поможет рождению наследника, а все кончилось выкидышем, и, несмотря на расположение к нему царственной четы, лионскому экстрасенсу (восстановившему против себя сильную партию при дворе) пришлось вернуться на родину (можно, впрочем, надеяться, вернулся он не с пустым карманом).
Надо сказать, в Музее Второй империи, который размещается тут же в замке, можно увидеть множество экспонатов, так или иначе связанных с Россией. Равно как и в музее исторических фигурок, что разместился в компьенской мэрии, где фигурки эти среди прочего представляют Бородинское сражение (по-здешнему: Москворецкую битву), битву при Аустерлице, отступление Наполеона из России, а также военный парад 1901 года, происходивший в Реймсе в присутствии русского императора. Последняя композиция потребовала от ее автора (скромного отставного солдата, имевшего счастье участвовать в этом параде) создания 12 тысяч солдатских фигурок и 32 лет упорного, беззаветного труда, завершенного лишь в 1944 году. Да какой же прославленный своим трудолюбием китаец может сравниться в усердии с французским отставным солдатом?
Среди прочих достопримечательностей императорского города есть также Музей экипажей, колясок и автомобилей. В общем, не одни только дворцы, аллеи и парки могут заманить сюда любознательного русского странника…
Отправившись из Компьеня через знаменитый лес к юго-востоку, можно очень скоро добраться до старинного феодального замка Пьерфон (Pierrefonds) y оконечности Компьенского леса. Замок был в XIX веке усердно отреставрирован знаменитым архитектором Виоле-ле-Дюком и стал настолько «настоящим», что у иных из историков это вызывает раздражение (слишком он выглядит новеньким, с иголочки, хотя замок-то действительно настоящий и старый). Зато людям, желающим увидеть «настоящий феодальный замок», со всеми его рвами, подъемными мостами и оборонительными сооружениями, да еще стоящий близ могучего леса, – любознательным людям этим (и любознательным детям) замок, несомненно, доставит удовольствие.
Замок Пьерфон был построен около 1400 года, когда средневековая военная архитектура достигла своей высшей точки. Крутые его стены с юга отделены от плато рвом. В длину четырехугольник замка достигает ста с лишним метров, в ширину – около девяноста. В середине стен и по углам он оснащен восемью мощными оборонительными башнями. По куртинам проходят две кольцевые дороги. Обе имеют покрытие, в одной есть бойницы-машикули, другая увенчана зубцами. Башни трехэтажные, а одна из них – башня Александра, что посреди передней стены, – даже четырехэтажная.
До постройки нынешней крепости существовал здесь феодальный замок XI века, который назывался Нивелон. В 1185 году замок этот приобрел французский король Филипп-Август, а в 1392 году король Карл VI передал его вместе со всем графством Валуа своему брату Людовику Орлеанскому, который и начал строительство нового замка. Нынешний замок уже был достроен к 1407 году, когда Людовик Орлеанский был убит Иоанном Бесстрашным. Король послал графа Сен-Поля отбить замок, но тот при отходе замок поджег. Замок был передан королем наследнику Людовика Орлеанского, поэту Карлу Орлеанскому. Чуть позже замок был захвачен англичанами, потом разграблен войсками Лиги. В конце XVI века его пытался отстроить герцог Эпернонский, а потом маршал Бирон. Король Генрих IV отдал его отцу прекрасной Габриэль. Поскольку сыновья этого счастливого герцога-отца стали бунтовщиками, король осадил замок и разрушил в 1616 году оборонительные сооружения. Понятно, что все эти перипетии обошлись замку дорого. Живописные руины замка были куплены через два века Наполеоном I, а еще через 40 лет по приказу императора Наполеона III были начаты грандиозные работы по восстановлению замка по всем правилам тогдашней науки об архитектурной реставрации. Войдя в главные ворота у башни Артюс и обойдя весь замок под стенами, можно проникнуться атмосферой многовековой истории. Восстановлены не только замок, донжон, башни Карла Великого и Цезаря, оборонительные стены, но и парадный двор, и скульптурные капители, и часовня. Бронзовые скульптуры в нынешнем замке напоминают не только, скажем, о Людовике Орлеанском, но и о славном реставраторе замка Виоле-ле-Дюке… В общем, Пьерфон – один из замечательных памятников Франции…
СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК ПЬЕРФОН
Самые добросовестные из странников доберутся от Пьерфона по 335-й дороге до недалекого уже Морьенваля. Старинная деревня Морьенваль (Morienval), что лежит между долиной реки Отон и краем леса, привлекает любителей старины своей XI–XII веков церковью Богородицы и остатками бенедиктинского аббатства, основанного еще королем Карлом Лысым. В 1122 году в церковь перенесли реликвии святого Аннобера (VIII век), и Морьенваль стал местом паломничества. Сама церковь поражает своей могучей квадратной башней-колокольней XII века и двумя одинаковыми башнями поменьше, которые еще старше (XI век) и сохраняют старую каменную кровлю. Но главная достопримечательность этой раннеготической церкви – внутри, справа от хоров. Здесь обнаружен свод, образованный стрельчатыми («оживальными») арками. Сооружение его относят к 1125 году, так что, вероятно, этот скромный опыт был предтечей всех знаменитых сооружений со стрельчатыми сводами (скажем, парижского собора Нотр-Дам), всей этой знаменитой готики Парижского Острова…
В морьенвальской церкви есть много элементов XI века, да и все здесь дышит подлинной стариной. Слева от хоров – надгробные камни XII века (надгробие аббатисы Агнесы де Вири и нагробная лежачая фигура рыцаря-крестоносца Флорана де Анжеста, погибшего в 1191 году в Палестине во время осады Сен-Жан-д’Акра)…
Продолжая путь к востоку, мы выедем снова на окраину леса Ретц, где посетим городок Виллер-Котре (Villers-Cotterêts). Уж русским-то, едва ли не первым в мире почитателям Великого Дюма (Дюма-отца), не резон проезжать мимо. Виллер-Котре (с большей или меньшей уверенностью) считается родиной писателя Александра Дюма-отца. Здесь вам покажут красивый и вовсе не бедный дом его отца-генерала (стало быть, уже Дюма-деда), имевшего в своих жилах сильную примесь африканской крови. Полагаю, что именно эта примесь (так высоко ценимая многочисленными возлюбленными славного литератора Дюма-отца) привела в столь недоброе ожесточение оккупантов-нацистов, что они даже разрушили памятник Дюма-отцу в годы в общем-то довольно мирной оккупации Франции.
До недавнего времени писатель покоился на местном кладбище рядом со своей полурусской (от сына-писателя и его супруги Надежды Дюма-Нарышкиной, урожденной Кнорринг) внучкой. Сейчас внучка осталась в одиночестве, и о причинах этого я расскажу подробнее, а пока поспешим в музей.
В доме № 24 по улице Демустье открыт музей Александра Дюма, где вам с энтузиазмом расскажут (по-французски, конечно) обо всем замечательном семействе Дюма. Может, экскурсовод умолчит лишь о том, что автор «Трех мушкетеров» и прочих знаменитых «романов Дюма», будучи всего лишь на четверть негром, беззастенчиво использовал рукописи своего литературного «нефа», парижского учителя Опоста Маке, и еще нескольких белолицых «негров» (вроде Жерара де Нерваля, Теофиля Готье, Адольфа де Левена, Анисе Буржуа, Поля Мериса и пр.), но кому есть дело до секретов современного литературного производства, открытых Западом задолго до нынешней России… Впрочем, может, за то его и называют Великим, Дюма-отца, что он открыл новую эру в жизни литературного рынка.
Впрочем, в застенчивой французской прессе тому, что случилось недавно с прахом Великого Дюма, давали иные, ничуть не более убедительные объяснения. А случилось почти так, как описывала свое недалекое уже тогда погребение Надежда Тэффи:
Приплыл корабль, увез гроб Дюма в «замок Монте-Кристо», а потом гроб в сопровождении ряженых, с помпой был перенесен в Пантеон. И французы действительно сделали вид, что они ничего не понимают, когда перед последними президентскими выборами было объявлено, что президент Ширак (снова ставший вскоре президентом) одобрил предложение неких «друзей Александра Дюма» о перенесении его праха в Пантеон. Такие беспроигрышные предвыборные мероприятия придумывают не дилетанты-«друзья» на кухне, а специалисты по проведению выборов. Положить Дюма между Вольтером, Руссо и Гюго – это могло так же понравиться публике, как скажем, перенесение туда Элвиса Пресли, Жерара Филипа, Брассанса или Сименона. Конечно, последние два писали сами, но кто нынче пишет сам, в эпоху свободного рынка? По-человечески понятно, что у Дюма, который все время женился, разводился, обедал, путешествовал и волочился за актрисами, просто не могло хватить времени на 600 романов. Зато он был на четверть негром. Зато он любил Гарибальди. Именно на эти заслуги гения намекала в своих комментариях французская пресса. Могла бы добавить, что он пустил по миру образ мифического храбреца француза… И потом, что такое Пантеон? С первых дней своего существования политики пытались сделать эту церковь Святой Женевьевы учреждением пропагандистски-мемориальным. Туда вносили покойников, выносили их, снова вносили. В 1791 году ассамблея проголосовала за превращение церкви в «храм отечества» и внесла туда Мирабо. Потом Мирабо вынесли. В Пантеон вносили и выносили «друга народа» кровожадного Марата и «врагов народа» Руссо и Вольтера. С 1855 года, когда внесли Гюго и церковь снова объявили Пантеоном великих людей Франции, статус этого учреждения агитпропа уже не менялся более. Политики используют его напропалую. Жак Ширак, став президентом, немедленно внес туда великого министра-писателя Мальро. Это, конечно, не Флобер, не Мопассан, не Бальзак, но зато он был министром у де Голля, а до того был левым, и левым партиям это мероприятие не могло не польстить. Конечно, Мальро был не досидевший свой срок уголовник (он пытался украсть бесценные статуи в зарубежном храме), потом, пытаясь сделать карьеру, он бессовестно льстил большевикам и Сталину (наблюдение не мое, а старца Роллана), но Пантеон не воскресная школа. Кто смел, тот и съел. Так что Дюма тоже внесли…
Виллер-Котре славится, впрочем, не только домом и могилой Дюма. На городской площади Аристида Бриана находится необычайной красоты ренессансный замок короля Франциска I с лоджией на фасаде, украшенной фирменными саламандрами этого прославленного короля-мецената.
Если же вечер застанет вас в Виллер-Котре, не спешите прочь. Роскошный трехзвездный отель «Регент», разместившийся в здании XVIII века и со вкусом обставленный, пристроит вас на ночь по цене койки в придорожном американском сарае-мотеле или убогой каюты в отеле-кораблике «Маленькая Швейцария», пришвартованном у набережной Петербурга… Если же у вас не хватает денег на роскошный трехзвездный отель (такое случается и не с одними русскими), может, добудете комнату в совсем уж дешевом отельчике «Ле Комерс». Я-то и вовсе мирно уснул бы в своем спальном мешке, постелив его под деревом, как спал во время былых прогулок по Франции. Во всяком случае, спешить прочь не стоит. Городок Виллер-Котре лежит у края живописного, великолепного (площадью в 13 000 гектаров) леса Ретц (или леса Виллер-Котре), по которому вы спозаранку (хоть на машине, хоть и вовсе пешком – всего-то 12 километров) доберетесь до прелестной старинной деревушки Лонпон, на главную, и единственную, улицу которой вы войдете через ворота, воздвигнутые в XIII веке и каким-то чудом уцелевшие. Отсюда дорога шла в грандиозный старинный бенедиктинский монастырь, церковь которого была освящена в 1227 году в присутствии короля Людовика Святого. Обширный фасад разрушенной церкви, уцелевшие монастырские корпуса, могучие стены и контрфорсы – впечатляющие свидетельства былого могущества, былых войн и былого варварства разрушителей. В одном из монастырских помещений XIII века нынче устроен замок. Сохранился и один из фасадов XVII века, а также старинная, может, единственная в своем роде печь (не печь, а целая котельная), обогревавшая некогда залу братского корпуса…
После незабываемой лесной прогулки в Лонпон можно вернуться в Виллер-Котре и двинуться к югу. В каких-нибудь девяти километрах южнее Виллер-Котре лежит на берегу реки Урк, на склоне холма, старинный городок Ла-Ферте-Милон (La Ferté-Milon) со своим собором и руинами замка, с узкими улочками и явно ощутимым присутствием того, что путеводители скромно называют «атмосферой Средневековья».
Известно, что 27 октября 884 года в часовню здешнего замка перенесены были из парижского аббатства реликвии святой Женевьевы, стало быть, в IX веке был уже здесь и замок. Вначале он принадлежал графам Вермандуа и графам Фландрским, затем короне, а еще позже королем Карлом VI был передан его брату Людовику Орлеанскому, который в самом конце XIV века затеял грандиозную его перестройку, но не слишком много успел сделать, так как был убит в 1407 году. Замок выдержал немало осад и битв, да и нынче его величественные руины высятся над городком. Среди прочих памятников старины украшают городок два замечательных храма XV и XVI веков – собор Нотр-Дам и церковь Сен-Никола.
Но больше всего гордится городок Ла-Ферте-Милон тем, что здесь родился и провел свои детские годы великий французский драматург Жан Расин. Он появился на свет в 1639 го-ду в семье здешнего чиновника, в двухлетнем возрасте потерял мать, а в четырехлетнем стал круглым сиротой. Растила его бабушка с отцовской стороны, мадам Мари Демулен, которую он привык называть матерью. Когда Жану было десять лет, бабушка решила постричься в монахини и поселиться в том же монастыре Пор-Руаяль, куда ушла еще раньше тетушка Агнеса. Отцы из Пор-Руаяля согласились бесплатно заниматься с мальчиком, уже освоившим азы французской азбуки в родном Ла-Ферте-Милоне. На долю святых отцов из Пор-Руаяля выпал более ответственный этап воспитания (позднее воспитателям, как бывает нередко, довелось испытать разочарование в результатах своих усилий). Жан Расин обучался позднее в коллеже в Бовэ, прошел класс философии в коллеже Аркура и начал писать стихи. По случаю женитьбы короля Людовика XIV Расин сочинил оду королеве – «Нимфа Сены», после чего обратился к писанию трагедий. Встревоженные тем, что воспитанник их вступает на греховную стезю театра, святые отцы отправили его в Юзе, подальше от суетного Парижа, но упорный юноша, затаив обиду на своих воспитателей, использовал это уединение для написания новых пьес, две из которых он поставил, как выражаются, «на театре», вернувшись для этого в Париж в 1664 году. Это привело к его разрыву с монастырскими воспитателями. В последовавшее десятилетие Расин написал множество трагедий, одна из которых («Андромаха») позволила ему одержать победу над его соперником Корнелем, стяжать славу и снискать благоволение короля. Он стал придворным, вел вполне светскую, рассеянную жизнь, получил от короля (совместно с Буало) положение королевского историографа и почти перестал писать драмы (разве что по личной просьбе мадам де Ментенон). И все же в конце жизни (в 1694 году) он написал «Духовные песнопения» и «Краткую историю Пор-Руаяля» (оба произведения ждали издания больше полвека), а также завещал похоронить его в монастыре Пор-Руаяль рядом с наставником его Амоном. Когда монастырь и его кладбище были разрушены и осквернены по приказу короля, вдова Расина перенесла останки мужа (что уж там она нашла?) в знаменитую церковь Сен-Этьен-дю-Мон (ту самую, что близ Пантеона, на горе Святой Женевьевы в Париже).
Маленький Ла-Ферте-Милон с достойной бережностью хранит память о своем великом сыне. В мэрии городка стоит великолепная мраморная статуя Расина, которую заказал знаменитому скульптору Давиду Анжерскому, а в 1820 году преподнес Ла-Ферте-Милону король Людовик XVIII. Как писал творец этой статуи, он был глубоко удовлетворен тем, что ему удалось «избавить автора «Андромахи» от всей ветоши той эпохи» и представить «человека, погруженного в глубокое раздумье». Стендаль восхищенно писал, что «благодарная эта статуя исполнена трагического размышления, которое молодой Давид дерзнул придать полуодетой фигуре».
Властям маленького (и не слишком богатого) городка удалось спасти от разрушения и отреставрировать старинный расиновский дом и даже устроить в нем, пусть еще и не слишком пока богатый документами, музей Расина. Иные из документов открывают все же некоторые стороны творческой, духовной или разгульно-светской жизни драматурга. Очень любопытным представилось мне письмо монахини Пор-Руаяля тетушки Агнесы, которая, узнав, что племянник твердо решил связать себя с театром, порвала с ним всякие отношения и написала ему в 1663 году следующее:
«Я с горечью узнала о том, что вы чаще, чем когда-либо, посещаете людей, которые всем, кто хранит хоть толику благочестия, представляются омерзительными… Заклинаю вас подумать о спасении своей души и, поглубже заглянув в свое сердце, осознать всю глубину бездны, перед которой вы стоите».
Комментируя это музейное письмо отсталой и политически неграмотной тетушки-монахини, современные авторы лишь разводят руками: что с нее взять, с тетушки, и какое счастье (для великого французского театра), что молодой Расин не обратил внимания на этот лепет. Но вот, стоя над этим курьезным экспонатом из провинциального музея, я вдруг подумал о том, что ведь и сам я, после более или менее близкого знакомства с миром кино и театра, вряд ли пожелал бы своим детям стать киношниками или театральными работниками… Что же до пугающей тетушку «бездны», то понятно, что Расину не терпелось в нее погрузиться. Все мы были когда-то и молоды и ненасытны…
Манящий восток
Сперва на северо-восток: за баснями, жестокими романами и «несвоевременными мыслями»
Бонди Ренси • Ганьи • Шель • Война на Марне • Вильруа • Мо-Жуар • Ла Ферте-су-Жуар • Шато-Тьери • Лафонтен • Франко-американский монумент
Если из покалеченного беспорядочной застройкой северо-восточного пригорода Парижа вырваться на госдорогу № 3 (Nationale 3), то можно будет через пяток минут отвести душу в тихом, сохранившем садики и всяческие прелести Прелестной эпохи (то бишь Бель Эпок) городке Ле-Ренси (le Raincy). Впрочем, еще и до того, как добраться до Ренси, русский путешественник, читая придорожные надписи, непременно вспомнит о победе русского оружия в Пантене, а может, и сделает («по силе возможности») остановочку в городке Бонди (Bondy) – y того единственного строения на авеню Генерала Гальени (дом № 9), что уцелело от былого замка Бонди. Потому что такие названия, как Пантен и замок Бонди, «не пустой звук для русского уха» (как выразился однажды о своем собственном имени один покойный писатель, Царствие ему Небесное). Между Пантеном и Роменвилем после упорных боев русские войска под водительством графа Барклая де Толли одержали 30 марта 1814 года решительную победу над французами, за что граф был возведен Его Величеством императором Александром I в звание фельдмаршала. Что же до самого наступления на Париж, то оно было предпринято после военного совета, имевшего место 29 марта 1814 года в замке Бонди, куда в тот же день прибыл русский император Александр I и где разместился штаб союзников. В военном совете приняли участие прусский король и военно-политические деятели вроде Шварценберга, Блюхера, Барклая де Толли и графа Нессельроде. Вот как рассказывал (если верить запискам отставной голландской королевы Гортензии) об этом совещании сам русский император в интимной беседе с этой бывшей падчерицей Наполеона:
«У ворот Парижа все генералы сошлись во мнении, что не следует делать попытки взять столицу. Боеприпасов у нас оставалось едва на сутки, потому что император Наполеон заставил нас изменить путь и отрезал нас от обозов. Если бы Париж продержался сутки, мы, может, потерпели бы поражение. Я в единственном числе, один против всех, выступал за наступление. В полном смятении я удалился к себе после совещания…
Я горячо молил Бога, я уверовал, в моей душе больше не было сомнений в успехе».
На рассвете 31 марта в замок Бонди прибыла, чтобы объявить о сдаче города, делегация парижского муниципалитета. Делегацию препроводили в императорские апартаменты на втором этаже, и, если верить мемуарам парижского префекта Этьена Пакье, делегаты услышали от русского императора следующее:
«Так что, господа, передайте парижанам, что я не врагом вхожу в стены их города, а почитаю их только что за друзей: однако скажите им также, что один-единственный есть у меня враг во Франции и с ним я не примирюсь».
Речь, как понимаете, шла о вероломном Наполеоне I.
Вскоре русский император подтвердил эту свою решимость, потому что не успела муниципальная делегация покинуть замок, как туда прибыл маршал Коленкур с мирными предложениями Наполеона, но этот гордый аристократ не был принят русским императором. Напротив, ему объявили, что союзные войска вступают в Париж и тем празднуют победу над врагом.
В восемь утра русские и австрийцы выступили в направлении Парижа. Возглавлял войска русский император, ехавший верхом на сером жеребце, подаренном ему Наполеоном. По дороге к союзникам присоединились прусский король и его гвардия. А в это время толпы парижан собрались уже у городских ворот Сен-Мартен и дальше по бульварам – до самой Вандомской площади, столь часто в эти бурные годы менявшей как название свое, так и увенчание знаменитой Вандомской колонны (в тот момент на вершине ее гордо красовался Наполеон Бонапарт), и дальше – вдоль всех Елисейских Полей… Хотя большинство русских мемуаристов свидетельствуют о заведомо праздничном настроении и победителей и побежденных, ни та ни другая сторона не могла представить себе, в какой ликующий праздник превратится для русских и для парижан этот день 31 марта, один из великолепных дней русской истории.
Что до исторического замка Бонди, то он был разрушен сравнительно недавно, в 1848-м, после того как городок стал стремительно расти в связи с открытием (в 1827 году) судоходства по каналу Урк. Зато нынче можно воспользоваться этой новинкой (то бишь каналом) для успокаивающего нервы неспешного путешествия с северо-восточной окраины Парижа аж до самого что ни на есть Шато-Тьери. Лес Бонди от этой пригородной застройки пострадал сильно. К 1859 году его чуть не весь поделили на участки, и теперь напоминают о нем лишь построенные в 1780 году для герцога Орлеанского Лесные павильоны из местного камня, обозначавшие въезд на территорию замка Ренси. Из прочих достопримечательностей – в сравнительно нестарой церкви Сен-Пьер в Бонди сохранился XVI века (1556 года) надгробный камень Онорин де Бовэ.
Сам городок Ренси, что лежит к югу от госдороги № 3, известен чуть не с начала XII века, когда там поселились бенедиктинские монахи из Шартра. В XVII веке земли эти приобрел королевский финансовый секретарь, который поручил здесь постройку замка архитектору Ле Во (тому самому Le Vau, что застроил в Париже остров Сен-Луи), украшение его поручил Ле Брену (Le Brun), а разбивку сада – самому Ле Нотру (Le Nôtre). Увы, от замка ничего не осталось, а сад в середине XIX века был разбит на участки, на которых теперь можно увидеть все разновидности частных вилл, какие только были в моде за последние полтора столетия. Но все ж виллы не хрущобы, да и стоят они на зеленых бульварах и аллеях. Так что он симпатичный, в общем-то, городок Ренси. Ну а для тех, кого влечет современная архитектура, городок этот и вовсе находка, ибо здешняя церковь Богоматери (Notre-Dame) – первая в мире железобетонная церковь. Спроектировал ее в 1922–1923 годах (и, как считают знатоки, весьма удачно спроектировал) знаменитый французский архитектор Огюст Пере (он же строил Театр Елисейских Полей в Париже и башню в Амьене), заставивший серьезных специалистов говорить о рождении «бетонной эстетики». Церковь украшают витражи Мориса Дени.
Морис Дени (знаменитый теоретик и пророк школы «наби») создал, в частности, и фреску на тему «Битва на Марне», воспроизводящую эпизод Первой мировой войны (разговора о битве на Марне нам, конечно, не избежать), когда все такси долины Марны (это было 7 сентября 1914 года) съехались на площадь Мэрии в городке Ганьи (Gagny). Название городка Ганьи (ныне, впрочем, разросшегося до изрядных размеров, как большинство пригородных городков под Парижем) часто встречается в письмах русских писателей-эмигрантов, ибо здесь долгое время существовал Русский старческий дом. Это в него мечтал перебраться с опостылевшего юга Георгий Иванов. Это в нем вдова Иванова Ирина Одоевцева нашла себе (на девятом десятке лет) нового мужа. Это здесь умер (тоже на исходе девятого десятка лет) друг Одоевцевой, эмигрантский поэт и критик Юрий Терапиано. Он и похоронен на здешнем кладбище.
Известный Русский старческий дом существовал также неподалеку от Ганьи в старинном городе Шеле (Chelles), где на правом берегу Марны люди селились еще с доисторических времен. Здесь была найдена первобытная стоянка (так называемое «Сарацинское стойбище»), которую один из французских ученых относит к раннему палеолиту, предлагая назвать этот промежуток каменного века «шельской эпохой». В Меровингскую эпоху существовала здесь королевская вилла, на которой в 584 году был убит король Шильперик I (намекают в этой связи на некие козни королевы Фредегонды). Вдова Хлодвига II основала здесь в 660 году знаменитое аббатство, в котором она и кончила свои дни. Ни от виллы, ни от аббатства не осталось и следа (есть здесь лишь некая колонна XIII века, зато доподлинно известно, что боковые приделы собора Парижской Богоматери строил (в 1250–1270 годах) здешний уроженец Жан из Шеля. К тому же и в местной церкви сохранилось немало архитектурных элементов поздних времен аббатства (от XIII и XV веков).
Среди художников, которых судьба занесла в Шель в недобром XX веке, было немало русских (обитателей Русского старческого дома). Жила здесь до самого 1971 года художница Ольга Михайловна Бернацкая, уроженка Киева, дочь профессора, который стал позднее министром финансов во Временном правительстве, а еще позднее – у Деникина и Врангеля. Семья состояла в родстве с А.Н. Бенуа и П.Б. Струве. В юности Ольга Бернацкая училась в Петербурге на историко-филологическом факультете, с 1920 года занималась в парижской Академии Граншомьер, в парижской мастерской Григорьева, Яковлева и Шухаева, потом жила во Флоренции, а с 1930 до 1935 года – в Марокко. Уже были у нее персональные выставки, она привезла множество работ из Марокко, знала и любила эту чудную страну, но в начале 40-х годов из-за ревматизма рук перестала работать, а жить еще оставалось долго. Дружила она с Андреем Ланским, с Юлией Рейтлингер, с семьей Деникиных, с поэтом Альфонсом Метерье, большим знатоком Марокко. Ну а жила в Шеле…
В том же Русском старческом доме жил (до 1955 года) живописец, график и сценограф Николай Калмаков. Родился он в Нерви – сын итальянки и русского генерала, окончил юридический факультет в Петербурге, потом уехал в Италию, где изучал живопись и анатомию, писал мистические картины, увлекался оккультными науками, эротической (фаллической) символикой, оформлял спектакль Н. Евреинова по Уайльду (оформление оказалось для 1908 года «непристойным»), много занимался книжной графикой. В Париже художник обосновался в 1924 году, дружил с С.П. Ивановым, а в 1941 году неосторожно женился на женщине, которая, завладев всеми его картинами, сдала его самого в старческий дом, где он и прожил восемь лет. Но вот лет через десять после того, как Калмакова похоронили в Шеле, коллекционеры открыли целые залежи его картин на блошином рынке и устроили выставку в Париже и Лондоне. О нем был снят фильм «Ангел бездны». Так же назвали через тридцать лет после смерти художника ретроспективную выставку его картин в Париже…
В Шеле был похоронен в 1982 году рядом с первой женой писатель Яков Горбов. Его вторая жена, поэтесса Ирина Одоевцева, рассказала о своей жизни в старческом доме Ганьи в написанных ею в конце жизни мемуарах. Поскольку менять свой стиль (да и характер) ей уже было тогда (на девятом десятке лет) поздно, мемуары были написаны в том же, прославившем Одоевцеву в эмиграции стиле «розового» великосветского романа, способного и нынче растрогать одних и позабавить других. Понятно, что и Русский старческий дом в Ганьи превращается у Одоевцевой в некий Дом отдыха, где светская жизнь бьет ключом. Не избегну соблазна процитировать несколько отрывков из этих знаменитых мемуаров:
«Я только что прибыла в Париж, просидев всю ночь в вагоне, и теперь в такси въезжаю в сад Дома отдыха Ганьи.
Я выхожу из такси и быстро вхожу в подъезд. Из окон дома на меня смотрят какие-то старухи с явным любопытством. Значит, они знают, что я должна приехать, и ждут меня.
Да, здесь меня действительно ждут. Сам тогдашний директор Новиков идет со мной в мою комнату на первом этаже. Я вздрагиваю. Комната совсем маленькая, да еще на север… Я чувствую себя мышью, попавшей в мышеловку… Жизнь моя кончена. Меня прежней нет. Я умерла там, на юге». (Напомню, что на юге, в «проклятом Йере», был тоже старческий дом, в котором умер предыдущий муж Одоевцевой Георгий Иванов. – Б.Н.)… Мне казалось, когда я въезжала в сад, окружающий Дом Ганьи, что я вижу над воротами черную надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий»… что жизнь моя безнадежно кончилась.
Но я ошиблась, как уже не раз ошибалась, совершенно лишенная дара предвидения и предчувствия.
Нет, в тот день я никак не могла предвидеть… что мне еще предстоит «вписать новую главу в книгу жизни и стихов».
…я не поверила бы, что снова смогу улыбаться и превращать будни в праздник… Но в Ганьи нам жилось хорошо и даже празднично».
Жизнь Одоевцевой стала сплошным праздником благодаря дружбе с поэтом Терапиано. «Стихи он пишет с необычайной легкостью в необычайном количестве», – сообщает Одоевцева. Сама Одоевцева, которая думала «уйти из литературы», меняет свои планы и даже «становится журналисткой». («Я вела переговоры с Гукасовым о своем вступлении в журнал «Возрождение» в роли «эминанс гриз»… Для Гукасова я была настоящей находкой, идеальной сотрудницей. Во-первых, я не требовала вознаграждения (а надо сказать, что Гукасов был сказочно скуп), во-вторых, я знала английский язык, что в его глазах почему-то было большим плюсом. Из этого предприятия, однако, ничего не вышло».)
Как видите, чтоб писать смешную прозу, не обязательно обладать чувством юмора, так что снова предоставим слово мемуаристке:
«После смерти Георгия Иванова я решила распроститься с литературой раз и навсегда. Решение мое, как мне тогда казалось, было непоколебимым и вызывалось следующими обстоятельствами: в литературных кругах стали распространяться слухи, что после смерти Иванова мне придется уйти из литературы, так как писать я не умею, и все романы и стихи за меня писали сначала Гумилев, а потом Георгий Иванов. И я решила действительно замолчать…»
Но Одоевцева, как видите, не замолчала. Она даже не ушла из «литературных кругов». Она читала стихи на посиделках у будущего богатого коллекционера Р. Гера и в прочих местах, а ближе к восьмидесятилетию (истинный возраст женщины всегда тайна) в Одоевцеву влюбился новый обитатель старческого дома в Ганьи Яков Горбов, больная жена которого жила в старческом доме в Шеле:
«В конце концов Горбов мне сделал предложение быть его женой. Мысль эта была, конечно, неосуществима; так как жена его была жива и, кроме того, умственно ненормальна, что по существующему закону исключает возможность нового брака, а я, со своей стороны, о браке с Горбовым не помышляла и ответила ему, что если выйду замуж, то только за миллиардера, чтобы пользоваться всеми земными благами… «Тогда мне остается только одно – выброситься из окна», – сказал Горбов, но в душе, как видно, надежды не терял…
…Вскоре умерла его жена… Горбов мне сказал: «Я могу перенести эту потерю оттого, что теперь нет препятствий, чтобы вы стали моей женой. Я буду горд, если вы согласитесь носить мое имя». Мне это показалось совершенно невероятным. Мое имя (точнее, псевдоним. – Б.Н.) было связано с именем Георгия Иванова и всем тем, что неотделимо от него…
Брак состоялся 24 марта 1978 года… Писателя Горбова я не смогла вернуть к творческой жизни. Его физическое состояние, как видно, здесь сыграло свою роль. Характеры наши были совершенно противоположны. Яков Николаевич любил тишину, уединение, семейный уют – все то, что наводило на меня нестерпимую скуку. Я, наоборот, любила всегда быть окруженной людьми… Я тащила Горбова с собой… В сентябре 1982 года Я.Н. Горбов скончался. Похоронен на кладбище в Шеле, в одной могиле со своей первой женой».
Благодаря этим вышедшим в России полумиллионным тиражом мемуарам мы и узнаем кое-что утешительное о Ганьи и Шеле…
ПАНОРАМА ШЕЛЕ
Но русские воспоминания задержали нас на пути к истинному городу старины, к былой епископской столице и гнезду протестантизма, к столице сыров «бри» – к славному городу Mo, до которого нам уже совсем недалеко. На этом участке пути самое время поговорить о здешнем хлебородном Мюльтийском плато, о стране Мельда, и вспомнить о знаменитой битве на Марне, фронт которой протянулся от Mo до Вердена в ту пору, когда Великой войной начался страшный XX век.
Война 1914–1918 годов была, пожалуй, последней настоящей войной, которую вела Франция (не в одной только песне Жоржа Брассенса можно услышать этому честное подтверждение). Война была долгой, яростной и кровопролитной. Наряду с поражениями в ней были и настоящие победы, в частности, эта вот победа на Марне. В здешних местах французские войска предприняли контрнаступление против немцев (бывших уже в каких-нибудь сорока километрах от Парижа), отбросили их на 80 километров и, хотя не смогли разгромить их тогда окончательно, все же уберегли столицу Франции. Началась изнурительная и кровавая позиционная война, которая длилась три года. Здешняя земля пропитана была кровью и усеяна могилами, которые позднее превратились в солидные монументы в честь былой славы и в память о погибших. Франция потеряла тогда полтора миллиона боеспособных мужчин, ничего подобного этой войне с ней больше никогда не случалось, ибо в начале Второй мировой войны происходило то, что сами французы называли «странной» или «смешной войной» (drôle de guerre): одни сдавались в плен, другие мирно сотрудничали с оккупантами, столичный Париж с энтузиазмом развлекал немцев, а так называемое Сопротивление (по большей части мифическое), слегка оживившееся перед приходом американцев, даже по официальным данным, не завлекло в свои сети и полпроцента населения. А вот Первая мировая… В каждой французской деревне стоит памятник ее многочисленным погибшим в ту войну сыновьям (на боковой стороне пьедестала обычно лишь две-три фамилии тех, кто умер на принудительных или добровольных работах на чужой территории в 1940–1945 годах, как говорят, «в депортации»). Так вот, окрестности города Mo (Meaux) являют собой истинное поле поминовения жертв Первой мировой войны. Среди множества здешних мемориалов чаще других задерживает внимание путников мемориал в Вильруа, где рядом с боевыми товарищами похоронен поэт Шарль Пеги.
На грустные и несколько даже недоуменные размышления может навести стороннего путешественника американский мемориал на высоком берегу Марны севернее Mo. Две с половиной тысячи американцев, приплывших из своей мирной страны на помощь Франции, полегли здесь, на Марне, во время второй битвы (в 1918 году). Но откуда же, думает опечаленный путник-турист, идет тогда у французов эта стойкая недоброжелательность по отношению к американцам, дважды на протяжении XX века выручавшим Францию в беде и пролившим на ее полях столько молодой крови? Да может, оттуда она и идет – от унижения побежденных и не способных себя защитить самим? От зависти к огромной заокеанской стране (территория которой могла остаться французской, не продай ее великий Наполеон по дешевке)? Или идет она от столь неизбежного во Франции «левого» конформизма, обязывающего бороться с «американским империализмом» (на это предположение наводит и злорадство здешних «левых», вроде литератора Бессона, в связи с сентябрьской нью-йоркской трагедией 2001 года)? Так или иначе, русский путник, далекий от идеалов здешней коммунистической или троцкистской ячейки, наверняка снимет шапку перед монументом погибших американских парней близ знаменитого города Mo…
Что касается замка в городке Вильруа (Villeroy), близ которого среди прочих могил 276-го пехотного полка есть и могила поэта Шарля Пеги, то здешний замок хранит и кое-какие русские воспоминания. В 1859 году огромный этот замок снимали для своей дочери и внучки родители княгини Надежды Нарышкиной. Надежда Нарышкина (по отцу Кнорринг, мать же ее происходила из старинного русского рода Беклешовых) жила в этом замке со своим французским возлюбленным, писателем Александром Дюма-сыном. В 1860 году у Надежды и Дюма-сына родилась их старшая дочь (в семье ее звали Колетт). Поскольку Надежда состояла в ту пору в браке с князем Нарышкиным, новая дочка появилась на свет незаконнорожденной и была записана под чужим именем в отличие от своей старшей сестры Ольги. Была, впрочем, к тому времени у молодой Надежды Нарышкиной и еще одна внебрачная дочь, плод ее связи с молодым аристократом, будущим прославленным русским драматургом Александром Сухово-Кобылиным. Может, этот красавец аристократ, увлекавшийся философией Гегеля и прекрасными дамами, и не стал бы славным писателем, если б не попал в кровавую и таинственную историю, в которой, судя по всему, могла быть замешана и Надежда Нарышкина. История эта произошла в конце 1850 года, и в одном из писем живший в то время в Москве писатель Лев Толстой излагал ее так: «Некто Кобылин содержал юную г-жу Симон, которой дал в услужение двух мужчин и одну горничную. Этот Кобылин был раньше в связи с г-жой Нарышкиной, урожденной Кнорринг, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. Кобылин продолжал с нею переписываться, несмотря на связь с г-жой Симон. И вот в одно прекрасное утро г-жу Симон находят убитой, верные улики показывают, что убийцы – ее собственные люди. Это куда ни шло, но при аресте Кобылина полиция нашла письма Нарышкиной с упреками, что он ее бросил, и с угрозами по адресу г-жи Симон. Таким образом, и с другими возбуждающими подозрение причинами, предполагают, что убийцы были направлены Нарышкиной».
Это одна из московских версий убийства, вполне правдоподобная. Ибо будущую мадам Дюма, Надежду Нарышкину, считали дамой вполне «инфернальной», то бишь демонической. Она жестоко ревновала Сухово-Кобылина, и если она была возлюбленной этого красавца еще и до знакомства его в Париже с Луизой Симон-Диманш (но уже при супружестве своем с князем Нарышкиным), то есть в неполные 16 лет, то образ и впрямь рисуется вполне «инфернальный». Но ходили тогда, впрочем, по хлебосольной, добродушной Москве и другие сплетни. Говорили о ревности красавицы француженки, даже описывали убиение француженки наскучившим ее ревностью Сухово-Кобылиным. Рассказывали также о желании Нарышкиной подогреть ревность соперницы. Очевидно, что сплетни шли из разных лагерей. Во всяком случае, сообщаемая Толстым версия о скромной «переписке» Сухово-Кобылина с пылкой Надеждой не выдерживает медицинской критики, ибо в том же 1850 году Надежда в срочном порядке выехала «для поправки» за границу, где разродилась незаконнорожденной дочерью (получившей имя убиенной красавицы Луизы). Не исключено, что скоропалительного отъезда Надежды из Москвы требовали не только компрометирующая ее беременность, но и причастность ее к судебным перипетиям Сухово-Кобылина. Позднее, в старости, живший в изгнании на Французской Ривьере Сухово-Кобылин испросил у русского императора разрешения удочерить Луизу, которая в уже вполне зрелом возрасте вышла замуж за французского графа де Фаллетана (родственника того Фаллетана, за которого ранее вышла дочь Надежды от графа Нарышкина – Ольга) и трогательно пеклась о папаше-изгнаннике. К тому времени Надежда сумела уже удочерить и двух своих незаконнорожденных дочек от писателя Александра Дюма-сына. Сухово-Кобылину пришлось в 50-е годы откупаться от судебного преследования большими деньгами, но, может, он и впрямь был не слишком виноват, потому что необходимость давать взятку окрасила уже первую его комедию, написанную в заключении, истинным сатирическим пафосом. России вся эта история подарила одного из лучших ее драматургов, а Лазурному Берегу Франции – еще одного богатого беженца-литератора. Остается сказать несколько слов о новом возлюбленном Надежды Нарышкиной, живавшем с ней некогда в Вильруа, – о французском драматурге Александре Дюма-сыне.
Сын парижской белошвейки и ее соседа-квартерона Александра Дюма-отца (который в пору рождения сына только начинал писать драмы и служил писцом в конторе герцога Орлеанского) вырос высоким красавцем, и отец (Дюма-отец), столько ценного семени раскидавший по свету напрасно, в конце концов признал его, усыновил и возлюбил, однако унижения и обиды детских лет никогда не умирали в душе сына. Они сделали его писателем-моралистом. Правда, строгие правила морали и обличительный пафос не помешали ему волочиться за парижскими кокотками и замужними дамами (по воле судьбы – русскими, из тех, что, оставив мужей в Петербурге, исцеляли таинственную хандру вполне действенным, и не только в Париже популярным, способом – внебрачной любовью). Однако именно смерть одной очень знаменитой кокотки принесла Дюма-сыну самый его крупный литературный успех. Девица эта делила свою любовь между молодым литератором и мерзкими (но очень богатыми) стариками (среди них был даже один русский посол), тратила деньги без зазрения совести и очень любила камелии (яркая деталь, какие всегда так полезны в литературе). У девицы была чахотка, а образ жизни она вела, как выражаются, нездоровый, и вот однажды, вернувшись с отцом из африканского путешествия, Дюма-сын обнаружил, что девицы этой (ее звали Альфонсин-Мари Дюплесси) уже нет в живых, а остались от нее одни только долги, так что вещички ее распродаются на аукционе. Французы растроганно покупали на нем сувениры этой беспутной, но в конце концов вполне трогательно (поскольку безвременно) завершившейся жизни, и только посетивший распродажу грубый британец Чарльз Диккенс бурчал, что не видит в истории лживой мотовки-шлюхи ничего умилительного. Но Диккенс не был, наверное, таким пылким моралистом, как Дюма-сын, а последний немедленно написал на эту тему роман, имевший, впрочем, весьма умеренный успех. Зато позднее Дюма-сын увидел могилу этой кокотки на Монмартрском кладбище, и ему в голову пришла идея. Не какая-нибудь там религиозно-философская идея, а идея вполне практическая, литературная: он решил переделать свой роман в пьесу. Вот тогда-то к нему и пришел настоящий успех. Кто ж из вас не слышал про «Даму с камелиями», которая прогремела на сценах всего мира? Ко времени написания драмы Дюма-сын, нарушая, как все моралисты, собственные правила морали, завел роман с молодой замужней дамочкой из Петербурга – Лидией Нессельроде (она была урожденная Закревская и резвостью своих дамских затей отомстила всему семейству своего тестя Карла Нессельроде за его нелюбовь к нашему любимому Пушкину). Лидию, вступившую в связь с молодым Дюма, ее муж-дипломат чуть не насильно увез из Парижа домой, но тогда с утешением пришла к писателю-моралисту ее подруга, княгиня Надежда Нарышкина (урожденная Кнорринг). Она была замужем за немолодым князем Нарышкиным и даже имела от него малолетнюю дочь, но так как князь медлил с переходом в лучший мир, то ей приходилось «лечиться» в Париже, где на помощь ей и пришел уже прославившийся писатель-моралист. В ранний период их романа он вполне выразительно описал Надежду в письме к Жорж Санд:
«Что я люблю в ней – это то, что она совершенно женщина, от кончиков ногтей до глубины души… Физически она представляется мне до крайности обольстительной, большое благородство линий, изящество форм. Эта ее душистая кожа, ее тигриные когти, ее длинные рыжие, как у лисы, волосы, эти зеленые глаза цвета морской волны, все это по мне…»
Далее в письме следовал перечень прочих радостей, которые могла предоставить писателю новая постоянная связь:
«Мне доставляет удовольствие перевоспитывать это прекрасное создание, испорченное ее страной, ее образованием и средой, ее кокетством, а главное – праздностью…»
«Я не первый день ее знаю, и наша борьба (ибо между такими натурами, как она и я, идет в полном смысле слова борьба), борьба эта началась уже семь или восемь лет назад, и лишь два года назад мне удалось одолеть ее… Я немало повалялся в пыли в ходе этой борьбы, но я уже встал на ноги, а она, надеюсь, окончательно повергнута навзничь на землю. Ее последняя поездка ее доконала…»
Речь тут идет о поездке в Россию. Замужней Надежде приходилось раз в год возвращаться к живому еще мужу, хотя бы для того, чтоб пополнить свою кассу и взять новое разрешение на вояж «для поправки здоровья» (поддержанное небескорыстным лекарем). Конечно, ей хотелось бы получить развод и устроить свою жизнь во Франции, но так случилось, что младшая ее подружка, Лидия Нессельроде (прежняя любовь Дюма-сына), и здесь ее опередила. Лидия затеяла развод с графом Дмитрием, а любящий папаша Закревский, поддержав ее демарш, вызвал этим неудовольствие императора и лишился высокого поста генерал-губернатора. Так что князь Нарышкин вовсе не хотел из-за бабских причуд навлекать на себя немилость трона. Он пригрозил, что развод лишит старшую дочь ее части наследства. Аргумент был нешуточный. Грозил князь и отобрать дочь. Рассказывают, что напуганная этой угрозой Надежда спала в замке Вильруа (где было много десятков комнат) в одной комнате с дочерью. Сами понимаете, что обстановка в замке была нервная.
Еще не получив развода, Надежда родила Александру Дюма вторую дочь (тоже внебрачную). Неудивительно, что к тому времени, как князь Нарышкин покинул нашу грустную юдоль несовершенных браков и Александр Дюма-сын с Надеждой смогли узаконить свои отношения, нервы княгини были порядком истрепаны, и брак выпал Александру нелегкий: Надежда бешено ревновала его к многочисленным французским поклонницам, а потом и вовсе помутилась умом…
От замка Вильруа рукой подать до уже нами упомянутого выше славного города Mo. События его долгой истории, ее герои и дошедшие до наших дней в сохранности памятники его старины могут задержать нас здесь надолго. Остановившись в старинном центре города, где-нибудь перед кафедральным собором Сент-Этьен, во дворе перед епископским дворцом, перед зданием старого капитула или былого почтового двора, мы припомним лишь самое главное в этой истории, без чего не было бы ни великолепных строений, ни многовековой славы города. Например, вспомним о здешних епископах. С самого IV века Mo был резиденцией епископов, среди которых можно насчитать нескольких вполне незаурядных деятелей. Первым из тех, кто оставил свое имя в памяти французов, был святой Фарон, основавший здесь в 630 году монастырь Святого Креста. В XII веке, при герцогах Шампанских, в Mo, оправившемся уже от норманских нашествий, начинается строительство кафедрального собора Сент-Этьен. В XVI веке вокруг епископа Гийома Брисоне группируются в Mo зачинатели французского протестантизма (Реформации). В 1564 году знаменитые «Четырнадцать» гугенотов были по решению Парижа сожжены живьем на площади Рынка, но протестантские идеи продолжали бродить по закоулкам этой рыночной части Mo (обычно противопоставляемой городу), готовя пожар будущих Религиозных войн. В 1681 году король Людовик XIV ставит во главе епископства в Mo воспитателя наследника (дофина), проведшего при дворе двенадцать лет и написавшего «Беседы о всеобщей истории», видного богослова, писателя, оратора и проповедника Жака Бениня Боссюэ. Это был великий мастер проповедей и надгробных речей (его речи над гробом принца Конде и Генриетты Английской вошли в золотой фонд этого высокоценимого во Франции жанра). Он написал также историю протестантизма и вообще стяжал высокое прозвище «Орел Mo». В 1926 году город Mo, выкупив у государства великолепно сохранившийся (существовавший чуть не с XII века) епископский дворец, устроил там музей Боссюэ – музей искусств и истории. Сам старинный епископский дворец, здание старого капитула и почтовой станции с их готическими залами и подземельями являют собой архитектурные памятники, достойные нашего просвещенного внимания. В не меньшей степени это относится к построенному в XII–XVI веках кафедральному собору Святого Этьена со всеми его вариациями готического стиля – от «примитивной» до «пламенеющей» готики, с великолепными статуями его порталов (увы, немало покореженных мстительными гугенотами), с интерьером, изобилующим произведениями старинного искусства.
Прогулка от паперти собора по улице Сен-Реми, по бульвару Жан-Роз, по улицам Генерала Леклерка и Жан-Кристофа, по улице Сапожников и площади Генриха IV (кстати, именно Mo первым из городов Франции принимал великого короля-беарнца) предоставит ненасытным любителям старинной архитектуры возможность увидеть великолепные дворцы XVII–XVIII веков, такие, как, скажем, Отель де Монкан, построенный в 1749 году архитектором Монвуазеном (в начале XIX века в доме был открыт постоялый двор «Шесть королев», и название его прозрачно намекало на вывеску отеля «Три короля»).
Название идущего вдоль укрепленной стены бульвара Жан-Роз, равно как и фасад одноименного лицея, равно как и надгробный камень Жанны Жан-Роз в часовне кафедрального собора, призваны напомнить тороватым жителям этого города, где целый квартал носит название Рынок (бойкому рынку этому на скрещении торговых дорог уже многие сотни лет), имя местного богача XIV века, более отчетливо, чем многие другие богатые собратья, сознававшего, что богатство обязывает. Обязывает к милосердию, филантропии, меценатству. В 1356 году благотворительный фонд, созданный купцом Жан-Розом, открыл больницу, где были приняты первые 25 молодых слепцов. Десять из них были освобождены от всякой платы за уход и обучение, которые с тщанием осуществляли монахи ордена Святого Августина. Впрочем, месье Жан-Роз был не единственным филантропом в этом процветающем торгово-ремесленном городе, подарившем Франции немало продуктов своего труда. Первым из этих продуктов следует назвать здешний сыр «бри», который на Всемирном венском конгрессе 1820 года был объявлен то ли королем, то ли императором всех сыров. И ныне еще каждые два года в Mo собираются члены Особой академии, присуждающей сырную премию года. Не следует забывать и о здешней особой горчице, которую гурманы считают горчицею всех горчиц или «истинной горчицей».
Продолжая свой путь на восток по той же госдороге № 3, мы можем выехать в десятке километров от Mo к величественным и романтическим развалинам ренессансного замка Монсо (Montceau), лежащим в гуще старинного парка. Замок этот (на развалинах еще более старого, феодального замка) построила в 1547 году великая королева-строительница Екатерина Медичи (супруга Генриха 11). «Добрый король» Генрих IV в 1594 году пожаловал этот замок (вместе с титулом маркизы Монсо) прелестной Габриэль д’Эстре. Ах, какие праздники устраивала здесь Прекрасная Габриэль!
Мария Медичи, выйдя замуж за короля Генриха IV, откупила в 1600 году замок у наследников Габриэль и приказала своему архитектору Саломону де Броссу (тому самому, что строил Большой Люксембургский дворец) произвести в замке посильные улучшения. Зато уж все посильные разрушения произвела здесь Великая Разрушительница – Французская революция (чудом уцелело лишь одно из зданий).
В этой тишине, близ руин, в глубине парка, может прийти на память живший в тогдашних густых лесах отшельник-шотландец, покровитель здешних мест святой Фиакр, которого и во всей Франции почитают как покровителя садовников и цветоводов (занятие это здесь нешуточное, ибо страна утопает в цветущих садах). Святого Фиакра изображают по традиции с садовым инструментом, и день его повсюду отмечают красочными процессиями и богослужениями, в ходе которых благословляют новые фрукты года… Проезжая один за другим цветущие городки Франции, невольно возносит нынешний путник смиренную молитву: да устоит цветущая эта страна и против новых безумцев, задумавших погубить Божий мир, богохульно прикрываясь Его именем…
Неторопливый (и разумный) путник, который не соблазнится на близлежащем развилке удобствами автострады A4 и продолжит свой путь к востоку по все той же госдороге (№ 3), в скором времени увидит на вершине холма, царящего над излучиной речки Пти-Морен, старинный монастырский городок Жуар (Jouarre). И вот здесь неторопливый (и разумный) путешественник будет вознагражден за свою неторопливость не только великолепной панорамой междуречья, которая откроется ему с вершины холма, но и дальнейшей прогулкой по самым старым во Франции монастырским подземельям и самым старым церквам. Подземелья вообще имеют свойство дольше хранить свои тайны и красоты, чем надземные постройки. Те, кому, как мне, посчастливилось пройти всю цепочку крымских подземных городов и монастырей древности от Бахчисарая до Инкермана, никогда не забудут подземного дыхания прохлады и тайны. Жуарские подземные церкви и коридоры обязаны своим рождением старинному бенедиктинскому аббатству VII века. Самый подъем христианства в этой северной части Бри приписывают деятельности святого Коломбана. Аббатство же было основано около 630 года неким Адоном, братом святого Оуэна, архиепископа Руанского. Было здесь два монастыря – мужской и женский, следовавший поначалу уставу святого Коломбана, а затем святого Бенуа (или, точнее, святого Бенедетто из итальянского города Субьяко, расписанные фресками подземелья которого мне довелось посетить в счастливой молодости). Первой аббатисой в Жуар епископ Mo Фарон (позднее, конечно, святой Фарон) назначил Теодешильду (которая в последующих веках прославилась как святая Тшильда). И как водилось по раннему уставу, существовали здесь три церкви: одна – монастырская церковь Богоматери, для монахинь, другая – церковь для монахов, а третья – средневековая, приходская церковь, сохраняющая до сих пор свои подземелья.
Монастырская церковь, заново отстроенная в романскую эпоху, позднее разрушенная и восстановленная вместе с монастырем в XIX веке, сохранила массивную колокольню XII века. В ее уцелевших зданиях монастырь разместил ныне исторический и археологический музеи, а также монастырские ателье искусств.
Большой интерес представляют два подземелья меровингской эпохи. В подземелье святого Павла, вырытом еще в VII веке и восстановленном в XI веке, размещалась некогда церковь и сохранились захоронения основателей монастыря (среди них саркофаг св. Адона и кенотаф св. Озанна). Знатоки отмечают высокие достоинства здешней меровингской архитектуры. Истинным же шедевром жуарской скульптуры считают кенотаф св. Тшильды (конец VII века). В подземелье есть также скульптуры, предвещавшие приход романского стиля.
В подземелье святого Эбрежезиля (имеющем, как и подземелье святого Павла, три нефа) представлено большое разнообразие старинных (как западных, так и восточных) стилей, сочетание элементов меровингского стиля с романским. Знатоки единодушно восхваляют несомненную прелесть подземной приходской церкви, ее часовен, скульптур, надгробий…
Если добавить ко всему этому, что над подземельями, в часовне Святого Мартина, открыт музей района Бри (с его замечательной коллекцией местного зерна, костюмов и кустарных, изделий), можно прийти к выводу, что, заехав по госдороге № 3 в Жуар, мы сделали мудрый выбор.
Между прочим, мне довелось однажды с друзьями из Петербурга ночевать здесь, рядом с монастырским Жуаром, в деревне Ла-Ферте-су-Жуар (Ferté-sous-Jouarre). Там, в зелени огромного парка, в замке де Бондон размещается гостиница. Если вы еще не ночевали в замках, можете остановиться здесь на ночь (это не намного дороже, чем в Петербурге или в придорожном американском мотеле). Помню, как хозяйка замка-гостиницы мадам Бускони с гордостью показывала моим спутникам узоры мраморного пола, приводившие на память Климта, и рассказывала, в каком запустении находился замок до того, как они с мужем купили его и привели в божеский вид. Мы похваливали мебель XVIII века, деревянную резьбу в столовой и картины на стенах. Парк, залитый вечерними лучами солнца, был выше всяких похвал. Впрочем, таких замков-гостиниц немало на Французском Острове…
ЛА ФЕРТЕ-СУ-ЖУАР, ЦЕРКОВЬ
Та же дорога № 3 приведет нас из Жуара в конечный пункт нашего нынешнего путешествия – в небольшой французский город Шато-Тьери (Château-Thierry), жители которого скромно, но с достоинством называют себя «кастротеодорицианцами». Живописное местоположение города, оцепившего по кругу лесистый холм над Марной, неподалеку от своего знаменитого замка, труды и битвы бурной истории города, наконец, имя великого баснописца, чье рождение и многие годы жизни с этим городом были связаны, думается, дают законное право мирным обитателям прелестного Шато-Тьери носить имя столь гордое, хотя и труднопроизносимое (если буфетчица на пристани скажет вам, что она «кастротеодорицианка», не падайте духом).
Среди историков нет согласия, считать ли сообщение о том, что здешняя крепость была построена еще в 720 году для знаменитого шампанца Тьери IV, достоверным. Однако в том, что в 923 году граф Вермандуа запер в стенах этой крепости Карла Простодушного, историки не сомневаются. Стало быть, уже существовала к тому времени крепость. Графы Шампани расширяли ее и укрепляли в XI и XII веках. Англичане стояли под ее стенами в 1421 году (Жанна д’Арк выгнала отсюда англичан в 1429-м, Карл V сделал то же в 1544 году, герцог Майенский – в 1591-м). Город сильно пострадал в XVII веке во времена Фронды, а в 1814 году Наполеону удалось отбить возле города атаку 50 000 русских и их союзников-пруссаков, которыми командовал сам Блюхер (зато уж год спустя, под Ватерлоо, Блюхер расквитался с Наполеоном). В 1914 году (а потом снова в 1918-м) в город входили немцы. Несмотря на все эти превратности судьбы, в Шато-Тьери целы даже крепостные ворота XIV века, через которые въезжала в город Орлеанская Девственница, целы колокольня и башня Балан XV–XVI веков, цела и восстановлена больница (Отель-Дьё), построенная женой короля Филиппа Красивого Жанной Наваррской в 1304 году, целы часовня XVII века и старые надгробия, целы замечательные старинные дома на Замковой улице, и даже старинный киоск железистой минеральной воды (бесплатной) цел и бывает открыт, – в общем, немало всякой старины уцелело в этом старинном городе. Однако больше всех прочих старинных домов прославил этот город ренессансный (1559 года постройки) дом № 12 на улице Жана де Ла Фонтена, ибо именно в этом доме 8 июля 1621 года родился будущий баснописец Жан де Ла Фонтен – короче говоря, Лафонтен. Этот прекрасный дом, что неподалеку от замка, стоял тогда в окружении других прекрасных домов, и жили в них люди не бедные.
Жан Лафонтен рано потерял мать, недолгое время учился в духовной семинарии, потом женился на хрупкой (четырнадцатилетней) девице, знатная семья которой состояла в родстве с самим Расином. Это, впрочем, не спасло супругов ни от денежных трудностей (усугубленных долгами, оставленными сыну усопшим родителем), ни от развода. Должность смотрителя вод и лесов, приобретенная будущим баснописцем, приносила Лафонтену скудный доход, зато, как считают многие, помогла ему расширить свои знания о французской фауне, что пригодилось его басням, где (согласно добросовестным подсчетам французских наукознавцев) выступают 98 различных животных, которые, как и положено в баснях, ведут себя очень по-людски (что не исключает, конечно, всяческой бесчеловечности). Чтобы существовать прилично, Лафонтен, как и прочие интеллектуалы, должен был искать себе богатых покровителей и меценатов (чем он и занимался с переменным успехом до конца своих дней). Еще и не достигнув тридцатилетнего возраста, он поднес свою навеянную Овидием поэму «Адонис» знаменитому королевскому интенданту Фуке и попал в литературную свиту Фуке (в ней уже состояли Корнель, Мольер, Перро, Скаррон), оживлявшую царственный замок Во-ле-Виконт. Замок слишком царственный для министра. Отчасти поэтому царственный Фуке (а с ним и Лафонтен) были отправлены в отставку. Королевский гнев был страшен. Может, это о нем строки более поздней лафонтеновской басни:
(Басня-то лафонтеновская, но слог, как вы, наверное, отметили, крыловский, оно и лучше.)
Позднее Лафонтену покровительствовали (в родном Шато-Тьери) герцог Бульонский и его юная супруга Мария-Анна Манчини, племянница Мазарини; еще позднее – вдовствующая герцогиня Орлеанская, потом другие… После смерти герцогини Орлеанской Лафонтен продал здешний дом своему кузену, чтоб расплатиться наконец с отцовскими долгами. Когда ему было уже за пятьдесят, Лафонтен (вместе с Буало и Расином) перешел под покровительство фаворитки короля мадам де Монтеспан, потом под крылышко вдовствующей мадам де Ла Саблиер – ах, жизнь сочинителя трудна, как ему без покровительства сильных?
Лафонтен написал роман, он писал сказки, сочинял фривольные новеллы, либретто для сцены и еще много чего, но по-настоящему прославился он (годам этак к сорока) своими баснями. Французы обожают его басни, несмотря на то что по меньшей мере две басни французских деток заставляют до отвращения заучивать наизусть в школе (что-то вроде басен «Стрекоза и муравей» и «Волк и ягненок»). Над сюжетами своих басен Лафонтен не ломал голову: брал их живьем у давным-давно неживого Эзопа. Специалисты считают, что это никак не принижает заслуг искусного баснописца Лафонтена. В конце концов, сюжеты как собаки, они неизбежно становятся «бродячими». И вообще, сюжетов ведь существует ограниченное количество. Главное – как написано (написано же у Лафонтена лихо). А сюжет что, сюжет не возбраняется позаимствовать. Бывали времена, когда модно было даже указывать, что это вот произведение написано «по мотивам такого-то автора» (как правило, автора экзотически иностранного). Впрочем, бывали люди, которые ни за что не признавались, по чьим «мотивам» и откуда (А.Н. Толстой даже намеком не выдал, откуда взялся его «Золотой ключик»). Потом пришли времена, когда стали честно сообщать, что это, мол, собственно, «перевод», на худой конец, «вольный перевод». Но даже те из французов, кто слышали про Эзопа, вам с убежденностью объяснят, что у Лафонтена это все лучше изложено, чем у Эзопа. Так же как те русские, которые знают, к какому источнику обратился еще полтора столетия спустя сорокалетний И.А. Крылов (живший под крылышком у князя Голицына), утверждают (и, по-моему, вполне справедливо), что у Крылова все лучше, чем у Лафонтена. Так что строгий наш Белинский не позволял даже при самых близких совпадениях русского и французского текстов называть басни Крылова «переводами». «Хотя он и брал содержание некоторых своих басен из Лафонтена, – пишет Белинский, – но переводчиком его назвать нельзя – его исключительно русская натура все перерабатывала в русские формы и все проводила через русский дух». А тонкий знаток и ценитель всего французского А.С. Пушкин еще определеннее выразился о различии народного характера у Лафонтена и у «дедушки Крылова»:
«…Простодушие (naïveté, bonhomie) есть врожденное свойство французского народа: напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов».
Думаю, что, говоря о простодушии французов, Пушкин имел в виду именно отсутствие того, что у нас считается чувством юмора. Выражаясь менее деликатно, то, что здесь считается юмором, настолько простовато и несмешно, что вполне может сойти за простодушие. Ну слышали ли вы когда-нибудь французский анекдот? Здесь и самим этим словом (французским, без сомнения) называют просто какую-то как бы забавную или не вполне научно достоверную историю. Да в России за неделю появляется больше новых анекдотов, чем во Франции за два столетия. Правда, некоторым из французов все же бывает понятно, почему то или иное может рассмешить в русской побаске (мне довелось встречать таких два или три раза за последние двадцать лет), эти люди даже улыбаются, даже смеются, однако убедительно просят при этом не называть эти русские шутки анекдотами, а придумать какой-нибудь другой термин, скажем хохма. Один засидевшийся в Москве французский корреспондент придумал франко-русское название для русских анекдотов – «благская история» (от французского blague – шутка)… У вас найдутся время и повод поразмыслить над всем этим, гуляя по родительскому дому Лафонтена среди мебели XVII века, среди иллюстраций к навязшим в зубах басням («Ты все пела, это дело…») на стенах музея.
…По признанию знатоков, лучший вид на Шато-Тьери, на долину (а может, и на иные из парадоксов новейшей истории) открывается за городом, с горы Беллё, или от Высоты 204, близ которой американским частям лишь после пятинедельных кровопролитных боев (в июле 1918 года) удалось выбить из их траншей отчаянно сопротивлявшихся немцев. Остатки траншей сохранились в этих мемориальных местах рядом с монументами, часовнями и солдатскими кладбищами. На большом американском кладбище – 2300 могил, а над ним, чуть повыше, – черные кресты немецкого кладбища (еще новые тысячи не за понюшку загубленных жизней). У самой Высоты 204 белеет огромный Франко-американский монумент: шестиметровые фигуры из белого камня, символизирующие Францию и Америку, стоят, взявшись за руки и вселяя в наш мир надежду на вечную дружбу. Что случилось позднее с этой священной дружбой, можно проследить по трудам историков и старым газетам. Союзники освободили Францию вторично в 1945 году, изгнали оккупантов из их курортного парижского пристанища и даже из Эльзаса. Сталину не удались тогда планы захвата Западной Европы (пришлось довольствоваться Восточной). Не удалась ему и попытка захватить власть во Франции с помощью послушной компартии, Коминформа, щедрых денежных вливаний и коммунистических профсоюзов в 1947–1948 годах. Зато ему, бесспорно, удались разведывательно-пропагандистские операции «холодной войны», «борьбы с империализмом», «борьбы за мир» и «борьбы против плана Маршалла» (каковой план не последнюю роль сыграл в чудесах послевоенного возрождения Западной Европы). Удался Сталину и левый «идеологический террор» во Франции. Понятно, что не одна компартия, но и генерал де Голль преследовал при этом свои цели, внедряя во Франции послевоенные мифы о роли левого Сопротивления и американских планах мирового господства. Пропаганда эта (подпитанная разведкой) нашла благодатную почву в душе воинов, вернувшихся из плена в супружеские постели, согретые оккупантами, в душе гордых французских патриотов, упустивших пресловутое «мировое первенство» и в экономике и культуре (даже в распространении великого «международного языка»). В результате левая Франция до сих пор мучительно избавляется от сталинизма и маоизма, не теряя тайных надежд на идеи провинциального террориста Троцкого. При этом широкая публика дружно ходит на американские фильмы и жует гамбургеры, а издатели переводят американские детективы, чтоб было что почитать перед сном. А все же левая пресса не без злорадства печатает портреты восточных фанатиков-фундаменталистов и красавцев террористов, в одночасье уничтоживших в ненавистном Нью-Йорке больше живых душ, чем все нацистские налеты на все французские города за все годы Второй мировой войны…
Так что гигантские каменные фигуры близ Шато-Тьери, все так же взявшись за руки, довольно безнадежно смотрят вниз, на несказанную красоту долины, на политые кровью берега Марны…
В долины рек Марны и Гран-Морен
Сен-Манде Ножан-сюр-Марн • Шан-сюр-Марн • Германт • Дисниленд • Ланьи-сюр-Марн • Куйи-Понт-о-Дам • Креси-ла-Шапель • Куломье
Чтобы выбраться из Парижа на восток в долину реки Марны (где счастливые родители, путешествующие с малолетним потомством, рискуют застрять надолго), надо объехать с юга Венсен и проскочить через городок Сен-Манде (Saint-Mandé), типичный перенаселенный пригород, в котором к началу XIX века не было еще и трех сотен жителей, а к началу XX века было уже больше пятнадцати тысяч, так что спокойно в этом Сен-Манде можно погулять только на кладбище. Там, кстати, можно увидеть знакомые имена и интересные памятники – скажем, надгробную скульптуру работы Давида Анжерского, а также могилы возлюбленной Виктора Гюго Жюльетты Друэ и ее дочери Клэр Прадье (прижитой еще до Гюго, со скульптором Прадье): оба надгробия украшены стихами Гюго. Неподалеку от этих двух дам покоится знаменитый Эжен-Франсуа Видок, бывший каторжник, авантюрист и дуэлянт, ставший сыщиком, доносчиком и начальником сыскной полиции, великий профессионал сыска и преступлений. Знатоки кинематографа могут посетить здесь также могилу Шарля Пате (в мире французского кино имя известное). В начале века Пате построил у Марны (близ Жуанвиля) киностудию, цеха для проявки и тиражирования фильмов. Места эти хорошо знали и усердно навещали и Жан Ренуар, и Рене Клэр, и Марсель Карне, которым не нужно было с этой студии далеко ездить на «выбор натуры». Прогулка по берегу Марны позволяла им отыскать все, что нужно: устарелые лодочные гаражи, былые танцульки-«генгет», ветряные и водяные мельницы (их тут было 158). Недаром же Марсель Карне снимал здесь «Эльдорадо воскресного дня», Жак Бекер – «Золотую каску» с Симоной Синьоре в главной роли, а позднее и Бертолуччи – своего замечательного «Конформиста»…
Впрочем, не будем слишком долго задерживаться у могилы Пате и киношной «натуры», ибо нас ждет неподалеку один из самых живописных и самых известных городков в восточных пригородах Парижа, тот самый, что стоит над берегом Марны на месте былой усадьбы «Красота», получившей свое красивое название еще в царствование Карла V. Позднее король Карл VII поселил здесь свою «Даму Красоты», свою фаворитку (вероятно, первую в ряду официальных королевских фавориток) – Агнесу (по-французски совсем мило – Аньес) Сорель. В том же городке маркиза де Ламбер учредила в XVIII веке свое «ведомство духа», где живали Д’Аламбер и Бугенвиль, где умер Ватто… Короче, нас ждет городок Ножан-сюр-Марн (Nogent-sur-Marne).
Если я начал перечень здешних знаменитостей не с интеллигентной маркизы, а с королевской фаворитки Агнесы, то это не случайно. Дело в том, что до царствования Карла VII все эти столь часто сменявшие друг друга на роскошных (хотя и до смешного коротеньких) постелях французских королей разнообразные (порой даже вполне очаровательные) дамы не привлекали внимания ни всесильных министров, ни нищих поэтов, ни бесчисленных историков, посвятивших себя позднее воспеванию французской монархии. Ну да, попользовались их величество некоей фрейлиной. А вот еще снискала их постельное предпочтение некая белолицая обер-подавальщица, промелькнули одна-две уличные шлюхи не слишком высокого пошиба, да еще была эта, как же ее звали, которая наградила весь нижний этаж дворца стыдно сказать чем, – что с того? Но вот с короля Карла VII начинается в истории французского двора нечто новенькое – появляется статус главной королевской любовницы. Прототипом ее как раз и считают возлюбленную Карла VII Агнесу Сорель, якобы подвигнувшую короля на изгнание англичан и прочие подвиги любви. После этого героического эпизода, уже во времена темпераментного Франциска I (с его герцогиней Этампской Анной де Пислё), королевская любовница-фаворитка становится постоянным институтом монархии и центром придворной жизни, однако, что бы ни писали нынешние женолюбиво-прогрессивные французские авторы о цивилизующем и окультуривающем грубый тогдашний двор благотворном женском влиянии, «гигиенический момент», как сказал бы опытный оратор, играл в этом нововведении далеко не последнюю роль. Но поскольку почтенный список официально признанных королевских фавориток возглавляет живавшая в Ножане Агнеса Сорель, как нам было с нее не начать?
Вдобавок к этой своей исторической заслуге Ножан-сюр-Марн, первым из всех окружающих Париж и столь непохожих на Париж провинциальных городков, сумел воздать должное незабываемой парижской Бель Эпок, устроив у себя скверик Старый Париж, куда были перенесены из Парижа фонтанчик Уолласа и старинный вход на станцию метро «Георг V» (все это подлежало списанию и спасению). А над самым берегом Марны (пусть и не в самом удачном месте) установлен был в городке единственный из уцелевших рыночных «павильонов Бальтара». Того самого Бальтара, что строил в 1858–1864 годах павильоны «чрева Парижа», лишившегося этих архитектурных шедевров в 1972 году, через три года после закрытия знаменитого оптового рынка. Никак не оспаривая соображений высокой гигиены, потребовавших закрытия рынка в центре столицы, нельзя не отметить пренебрежения, которое нередко высказывало в те годы городское начальство – будь оно парижским, московским или пошехонским – к «модерну» истекших столетий, и пылкого пристрастия этого начальства к «самому-самому», самоновейшему. А ведь парижские павильоны Бальтара породили в XIX веке сеть великолепных крытых рынков по всей Франции. Теперь-то еще на подъезде к провинциальным городкам особые панно указывают при дороге на их сохранность как на главную достопримечательность места, но в начале 70-х годов XX века они, наверное, казались судьбоносным парижским властям устаревшими и ни к чему не пригодными. А в маленьком Ножан-сюр-Марн рассудили иначе. В городок перевезли рыночный павильон № 8 (тот, где торговали птицей и яйцами). Конечно, в Ножане порезвились над некоторой переменой облика павильона: облицевали его белой керамикой, закрыли просветы витражами, зато уж внутри павильона поместили старинный орган из былого кинотеатра «Гомон», что на площади Клиши в Париже, и воздвигли в помещении амфитеатр на полторы тысячи зрителей, сделали передвижную сцену и еще кое-что: в общем, обзавелись залом в две тысячи квадратных метров для концертов, спектаклей и выставок. Поживился Ножан и другими плодами парижского варварства (на сей раз революционного) – например, роскошным готическим порталом от разрушенной в Париже старинной церкви.
Сохранились в Ножане и собственные старинные дома XVIII века, а здешняя мэрия была со вкусом расписана художником Карбовским. Художники вообще жалуют городок: неподалеку от того места, где умер когда-то великий Антуан Ватто, в красивой усадьбе XVII века с прекрасным парком (ул. Карла VII, дом № 14–16) разместился в 1944 году старческий дом художников, завещанный государству Мадлен Шампион. При доме построены были 60 ателье, в которых и работают пожилые художники. При доме большая библиотека и великолепное собрание произведений искусства. Здесь провели последние годы жизни многие славные художники, и ни дом этот, ни городок Ножан-сюр-Марн не забыли еще светлоглазую русскую художницу Марию Васильеву, которая прожила здесь последние четыре года своей жизни. В Париже-то ее помнят, более того, память ее была недавно увековечена: в ее мастерской, что в коротеньком зеленом пассаже; выходящем на монпарнасское авеню дю Мен (дом № 21), открылся в 1998 году Музей Монпарнаса, причем открылся выставкой «Мария Васильева в своих стенах», я бы лучше сказал: «у себя дома». И надо заметить, обитатели этого островка старого Монпарнаса выдержали настоящее сражение, не только не дав пройтись по их раю бульдозерами, но и не позволив заслонить вход в свой пассаж специально спроектированными суперэлегантными особнячками (а кто-то ведь уже на них рассчитывал, кто-то что-то за них сулил). В общем, «пассаж Марии Васильевой» одержал победу над всесильной мэрией, над загребущими чиновниками, гип-гип-ура!.. Но кто она была, эта милая русская женщина, эта художница-модернистка, которую в 10-е годы XX века знал «весь Монпарнас» и которая в начале Первой мировой войны открыла на Монпарнасе благотворительную столовую для художников (кто только туда не заходил утолить голод; говорят, сам будущий кровопийца Троцкий блестел там очками и с аппетитом облизывал губы).
Родилась Мария Васильева в богатой семье в Смоленске (он немало подарил миру талантов, наш забытый Богом Смоленск!), с восемнадцати лет изучала медицину в Петербурге и училась в частной художественной школе. В 1905 году поехала в Париж изучать живопись на стипендию вдовствующей императрицы Марии Федоровны (бедняжка Дагмар Датская, ей, дважды овдовевшей, еще предстояло пережить кровавую гибель чуть ли не всего потомства). Поселилась Маша в пансионе мадам Буве, где жила также будущая Соня Делоне (по-петербургски Соня Терк, по-одесски Соня Штерн, тоже красиво). Потом училась Маша у Матисса, посещала академию Ла Палет, а мастерская у них была на пару с Олей Меерсон (столько будущих знаменитостей на каждый метр парижской жилплощади). Когда Маше было 25 лет, она уже выставляла живопись и в Париже, и в Москве, и в Харбине. И еще было в ней с избытком доброты и активности: создала с друзьями в Париже Русское литературно-художественное общество, была старостой Русской художественной академии, а потом у себя в мастерской основала «Академию Марии Васильевой», или «Свободную академию», где просто учились друг у друга, никому ничего не навязывая. Здесь у нее собирались молодые художники и музыканты, будущие звезды первой величины – Эрик Сати, Пабло Пикассо, Жорж Брак, Анри Матисс, Амедео Модильяни, Осип Цадкин, Фернан Леже, Маревна, Блез Сандрар…
Но вот грянула Первая мировая война. Деятельная Мария не только открыла столовую для неимущих собратьев, но и пошла сотрудничать в Красный Крест. А тут еще замучили беспокойство и тоска по родине – поехала в Россию повидаться со своими. Что значит «поехала»? Еле-еле добралась с приключениями через Сербию, Грецию, Болгарию, Румынию… В России она успела принять участие в двух авангардных выставках, а в 1916 году уже вернулась через северные страны в Париж, ставший ей домом. Тогда она и начала создавать куклы-портреты из папье-маше, клеенки, проволоки. Когда большевики подписали Брестский мир, русскую гражданку Васильеву посадили в лагерь Фонтенбло. Друзья (А. Салимон, супруги Леже) добились ее освобождения и вручили ей по возвращении из лагеря ее собственного, уже к тому времени годовалого сыночка. Мастерская ее оказалась разграбленной, но выдумки и работы пока хватало, жизнь продолжалась: художница оформляла балеты, помогала расписывать новое кафе на Монпарнасе («Ла Куполь» – там и нынче на меню ее картиночки, и любой официант вам покажет, где тут на столбах роспись Васильевой)…
АВТОПОРТРЕТ МАРИИ ВАСИЛЬЕВОЙ
Фото Б. Гесселя
Потом снова были выставки, салоны, заказы, куклы, картины, личная жизнь и жизнь друзей-русских, друзей-французов (их было множество). И только в 1953 году переехала она в «художественный» старческий дом, что в Ножан-сюр-Марн… Но она еще и после этого участвовала в Салоне независимых. А парижские художники устроили выставку ее работ в своей столовой. В 1955 году (за два года до ее смерти) была еще ее ретроспективная выставка в галерее От-Паве…
И вот в 1998 году имя Марии Васильевой оказалось вписанным в историю Монпарнаса и Старого Парижа. В ее мастерской – музей Старого Монпарнаса, да и весь пассаж, выходящий на авеню дю Мен, носит имя Марии Васильевой…
Но последний приют Васильевой – у нас на пути, в Ножан-сюр-Марн: эти деревья она видела из окна тридцать лет тому назад…
ЗАМОК ШАН, КОТОРЫМ ВЛАДЕЛИ И ПУАССОНЫ ДЕ БУРВАЛЛЭ, И КОНТИ, И МАРКИЗА ДЕ МАРБЁФ И КОТОРЫЙ ПРОСЛАВИЛА МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР
Надо сказать, что многие художники и писатели (Рене Магритт, Эрве Базен и другие) не пренебрегали здешним зеленым раем, но по-настоящему эти края сумела некогда оценить былая обитательница парижского правобережья, а позднее фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур. В замке Шан-сюр-Марн (Champs-sur-Marne), бывшем некоторое время ее резиденцией, а позднее украшенном хозяевами со всем шиком эпохи Регентства, посетители с особым вниманием осматривают комнату мадам де Помпадур, с которой в популярности может соперничать лишь тамошний «китайский салон». Маркиза де Помпадур (построившая на Французском Острове множество замков и вилл) этот замок снимала лишь в течение двух лет у герцога де Ла Вальер. Позднее замком до самой Революции владела мадам де Марбёф, а еще столетие спустя им всерьез занялся новый хозяин – Луи Казн д’Анвер, от сына которого замок и перешел к государству. Замок был построен для финансиста времен Людовика XIV Пуассона де Бурваллэ в 1701–1707 годах, но усовершенствовался он, как вы поняли, еще долго. Здесь можно увидеть ныне не только знаменитый французский сад – здесь в интерьере множество роскошных салонов и столовая с прекрасными картинами. Следует отметить, что это одна из самых старых во Франции столовых в замках. Дело в том, что почти до XVIII века во французских замках вообще не было постоянных столовых: обедали в роскошных замковых вестибюлях, где по случаю обеда и ужина не просто «накрывали на стол», но и «устраивали стол». Но вот в XVIII веке появляются постоянные столовые, а в них – постоянные столы. Поначалу столы эти накрывали шерстяными коврами, а чуть позднее стали накрывать вышитыми скатертями. Как медленно, о боже, совершенствуется мир, каким несовершенным получили его из рук своих грамотных предков наши прапрапрадеды. Когда читаешь, что все эти благородные поэты-рыцари, встав из-за обеденного стола, отходили помочиться у ближайшей стены того же обеденного вестибюля (и только извращенец Ришелье отчего-то мочился в камин), благодаришь судьбу, которая задержала твой приход в этот несовершенный мир хотя бы до появления сортиров… Но зато какая мебель была в этом замке Шан-сюр-Марн, какая живопись, какой парк! И, насколько мне помнится, русский Серебряный век, русские «мирискусники» не придирались к несовершенствам тогдашней канализации, а видели в «галантном веке» одну лишь неизбывную галантность:
Это стихи Михаила Кузмина, так что дальше в них идут застенчивые рассуждения о преимуществах «мужской дружбы» перед обычной любовью. Впрочем, «галантный век», похоже, был более гетеросексуален, чем Серебряный век…
Восточные пригороды столицы изобилуют старинными церквами и замками, так что и музеев здесь множество – чуть ли не в каждом маленьком городке музей. В лесу близ Жоссиньи стоит замок с великолепным интерьером, построенный в 1743 году. Однако, еще и не доезжая до Жоссиньи, можно увидеть известный во всем мире по романам Марселя Пруста знаменитый замок Германтов (Guermantes). Какой же европейский или американский интеллигент не посетит здешний музей в поисках своего утраченного времени или еще не прочитанного Пруста?
В том, что Пруст еще не бывал в здешнем замке, когда имя Германты стало мелькать в его эпопее, – в этом как раз нет ничего странного: писателю не обязательно все видеть, ему нужно найти слово для обозначения того, что он намечтал. Слова, навеянные районом Бри, показались Прусту самыми что ни на есть самыми. У него не только герцог Германтский в романе присутствует, но и Одетта де Креси, и Робер де Сен-Лу тоже названы по здешним местам. А сюда, в настоящий Германт, который он прославил, Пруст попал лишь позднее, во время Первой мировой войны, притом всего на несколько часов. И все же спасибо ему как гиду – в замок он нас с вами привел замечательный…
Поместье Германтов с самого 1580 года принадлежало семейству Виоль. Бывший королевский советник Клод Виоль затеял строительство нынешнего замка в начале XVII века: на голубятне, что сохранилась при входе в английский парк, есть дата – 1631. От Клода Виоля замок перешел к его сыну Пьеру, который в 1633 году был председателем Парижского парламента. По краям главного корпуса стояли здесь тогда два кирпичных павильона с крутыми аспидными крышами. Но самая знаменитая часть замка, галерея, прозванная Прелестной Бесполезностью, была построена лишь в конце XVII века Клодом Перро, украшена в самом начале XVIII века и дошла до наших дней в прекрасной сохранности. Корпуса замка, идущие зигзагом, как буква Z, лучше всего, говорят, видны с самолета. Но мы с вами не спеша обойдем их пешком, начиная с Итальянской комнаты, в которой сохранились дата ее постройки, 1745 год, и инициалы знаменитого Пьера Виоля – PV. Здешнюю роспись потолка, медальоны и лепку приписывают мастерам так называемой Второй школы Фонтенбло. В комнате Виоля сохранились без реставрации все росписи французского стиля, еще точнее, стиля Людовика XIII – пожалуй, самые старые в замке: 1633 год. Две сплетенные буквы V напоминают о бракосочетании Пьера Виоля и Марии Балле (Viole – Vallée). Ну а столовая, как легко догадаться, переделана из былого вестибюля.
Из окон Музыкального салона с его декором из флейт и скрипок открывается великолепный вид на королевскую аллею и зеркало пруда – до самых гротов.
В Желтом салоне есть портрет канцлера де Мопеу кисти Ван Лоо. Юному Людовику XIV вместе с Анной Австрийской пришлось однажды (в пору Фронды – 27 июня 1652 года) заночевать в Королевском салоне замка Германтов. В память об этом король подарил хозяевам два портрета кисти того же Ван Лоо – свой и супруги.
Ну и наконец, главная приманка замка – стеклянная галерея Прелестная Бесполезность, законченная к 1700 году под наблюдением Робера де Котта и Клода Перро. Галерея имеет в длину больше тридцати метров и освещена восемнадцатью панорамными окнами. По картонам де Котта в галерее выполнены фигуры римских императоров, а между окнами висят копии Мереля, воспроизводящие самые знаменитые картины эпохи. Хрустальные люстры, зеркала, паркет… Более поздняя потолочная роспись, осуществленная одним из учеников Делакруа… В общем, как утверждают специалисты, это один из самых великолепных памятников эпохи, дошедший до нас в завидной сохранности.
В долине Марны есть еще замок Ферьер, есть старинные церкви, но, конечно, настоящим Эльдорадо эта долина Марны предстает не глазам взрослых, а глазам восхищенных деток. Здесь и раньше уже создавали детские парки на темы легенд и древней истории, но вот в начале 90-х годов прошлого века труды эти по умножению радостей детства завершились созданием в Марн-ла-Валле европейского Дисниленда. Во Франции, где туризм является главной отраслью национальной индустрии, ревниво следят за популярностью (и доходностью) французских достопримечательностей и приманок, так что ни от кого не ускользнул тот момент, когда Эйфелева башня с ее чуть не шестью миллионами посетителей в год передвинулась на седьмое место, а на первом среди туристов-иностранцев (хотя, вероятно, только на втором среди гуляющих французов – вслед за лесом Фонтенбло) засиял огнями несравненный парижский (и при этом американский; что может быть блистательней – сразу и парижский, и американский), первый и единственный в Европе парк Дисниленд, который (с его двенадцатью миллионами посетителей в год) давно потеснил в сердцах туристов и собор Нотр-Дам, и блошиный рынок на северной окраине Парижа, и Версаль, и Центр Помпиду, не говоря уж о каком-нибудь там Лувре или Монмартре с их пятью миллионами посетителей. Недаром составители одного из новых французских путеводителей всякие эти побочные вылазки в Лувр, на Монмартр, в музей Орсэ, на Елисейские Поля и площадь Конкорд, в Марэ или к отелю Инвалидов вынесли в отдел «путешествий по окрестностям Дисниленда», в «окрестностях» которого и размещается отныне этот несколько устаревший и старомодный город Париж.
ЗНАМЕНИТУЮ ГАЛЕРЕЮ ЗАМКА, УВЕКОВЕЧЕННОГО ПРУСТОМ, ПРАГМАТИКИ ПРОЗВАЛИ ПРЕЛЕСТНОЙ БЕСПОЛЕЗНОСТЬЮ. ОНА И ВПРЯМЬ БЕСПОЛЕЗНА, НО ПРЕКРАСНА – КАК ВСЯ ИЗЯЩНАЯ ЛИТЕРАТУРА, КАК СЛОВА И МУЗЫКА…
«Ну а что Дисниленд?» – не раз спрашивал я у детей и взрослых, уже потратив сотни две долларов на билеты для дочкиных поездок в этот рай, но еще не собравшись туда заглянуть сам. «Замечательно… – с достоинством отвечали взрослые. – Такая фантазия». «Лучше всего на свете!» – восклицала моя доченька.
Что ж, заглянем туда ныне и мы с вами, нам по пути, это ведь все тот же район Бри, знаменитый своими сырами, которые, кажется, к происхождению Дисниленда не имеют никакого отношения. Но поскольку не может все-таки столь старая страна, как Франция, не иметь отношения к происхождению всего на свете, то напомним почти научную гипотезу о том, что фамилия Дисни или, как говорят русские, Дисней – нормандского происхождения. Гипотеза утверждает, что это нормандский солдат Хью д’Исиньи из деревушки Исиньи-сюр-Мер принял английское подданство в ту пору, когда у них на берегу царили англичане, а в XVII веке одна из ветвей его семьи перебралась в Ирландию, откуда ей грех было не эмигрировать в XIX веке в Америку – все сбежали, кто смог. Вот в результате всех этих козней судьбы Уолт Элиас Дисни, будущий отец Микки-Мауса и Дисниленда, и был рожден в 1901 году не на тихом нормандском побережье, а на шумном озерном берегу – в Чикаго. Между прочим, американское командование при высадке десанта в Нормандии в 1944 году дало операции кодовое название «Микки-Маус», и это еще раз доказывает, что генералам всегда все известно лучше, чем нам, даже самые смутные из исторических гипотез им известны.
В 1955 году, получив свой четвертый, а может, уже и пятый по счету «Оскар» за мультфильмы, Уолт Дисни открыл в США свой первый Дисниленд. В Америке этих парков сейчас уже несколько, а вне Америки был раньше только один – в Японии. Зато вот теперь есть и европейский Дисниленд, открывшийся на Марне в апреле 1992 года, после четырех лет строительства. Открылся он под названием Евро-Дисней, а ныне носит титул Парижского Дисниленда.
Строительство тут развернулось поистине гигантское. Нужно было не только застроить всеми этими фантастическими павильонами и аттракционами, ресторанами и современными отелями 1900 с лишним гектаров, но и устроить тут пруды, искусственные реки и лужайки, засадить их сказочными садами и деревьями – в первую очередь деревьями, которые некогда составляли славу здешних лесов, но давно исчезли вместе с лесами, а также, конечно, экзотическими калифорнийскими или канадскими деревьями, ибо нельзя же размещать форты и салуны Дикого Запада в дубовой роще. Так над былыми пашнями и лугами поднялись гигантские туи, кокетливые сербские ели, пурпурные буки, краснолистые каштаны, ливанские кедры, чилийские араукарии, колорадские елки, кавказские серебристые тополя, ну и кактусы, конечно, – какая же это Мексика без кактусов, где вы видели ковбоев без шляп и кактусного пейзажа? Надо сказать, что с кактусами здешним лесникам и садовникам безмерно повезло. Уникальную коллекцию в 200 кактусов подарила Дисниленду мадам Дегёрс, жительница соседнего с парком городка Ланьи (Lagny). Это от Ланьи пошли в старину знаменитые ярмарки Шампани, это Ланьи пережил какую-то смертельную лихорадку, от которой его исцеляла сама Жанна д’Арк, но вот как туда попали кактусы? Оказалось, что у симпатичной мадам Дегёрс из провинциального Ланьи был обычай все события жизни отмечать посадкой нового кактуса. «Откуда столько взялось событий?» – удивитесь вы. Так ведь это зависит от того, что считать событием. С возрастом каждый безбедно прожитый день начинаешь считать событием. К тому же, зная слабость мадам Дегёрс, друзья ее специально для нее изобретали события и дарили ей кактусы. Все эти кактусы сгодились Дисниленду с его огромным, на сотни гектаров, сказочным садом. Уже отдалившись от паркинга или выйдя из поезда электрички, вы становитесь на движущуюся дорожку (французское название – «тапи рулан», ползущий ковер, и оно точнее, ибо дорожка-то горизонтальная); встав на движущуюся ленту в прозрачном коридоре, вы видите по сторонам море цветов, и мхи, и деревья. Играет музыка, потому что вы уже попали в волшебный сад, в волшебный мир, в американский детский рай.
К тому времени, как вы сойдете с «ковра» близ отелей, исчезнут последние сомнения в том, что вы оказались в театрализованном сказочном мире, потому что вас будет окружать уже не только музыка, но и ряженые, и цветы, и огни – иначе говоря, атмосфера игры и праздника…
Кто усомнится в том, что при нашем чадолюбии такому парку успех просто гарантирован? Однако начинался этот веселый бизнес не без трудностей. Папы и мамы готовы были раскошелиться для детишек на билеты, но европейцы все же не японцы, и Париж не за тридевять земель от Амстердама или Бонна. Так что семьи приезжали в своих трейлерах, и пустыми стояли роскошные дорогие отели, и кемпинг, и бунгало, и площадки для гольфа. Бесчисленные рестораны скучали в безлюдстве, а хозяйственные голландцы и немцы, не говоря уж о поляках или словаках, оделяли детишек бутербродами, вынимали из рюкзачка свои бутылки с молоком и кокой, что обходилось им во много раз дешевле. Но парк-то при этом прогорал. Ну а потом притерпелись люди к здешним бешеным ценам, раскрутились: народ валит валом. И допоздна, по-голливудски, по-бродвейски, сияет огнями Дисниленд, и светятся окна в полдюжине огромных отелей, и бродят какие-то взрослые по площадке для гольфа, и звучат почти трезвые песни… А дети после бурного дня спят в номерах, и снятся им Индиана Джонс, Буффало Билл, Алиса, Пиноккио, бешеный поезд, «русские горы» (те, что в России прозвали «американскими»). Снится им во всех фантастических подробностях главный парк, так называемый «тематический парк».
– Ну а что там самое-самое? – спрашивал я у своей дочки всякий раз, когда она возвращалась из Дисниленда в Париж. – Небось Мишка-Маус, Микки-Мышка?
– Ой, поезд, бешеный поезд! – говорила она. – Ой, Индиана Джонс, «Храм Судьбы», и еще горы…
– Ну вот ужо и я как-нибудь соберусь.
Собираясь, я изучал путеводители. Понял, что начинать надо будет от главного входа в тематический парк, близ отеля «Дисниленд». Там и приходится решать, куда прежде всего отправиться. Пройтись ли по американской Главной улице – Мейн-стрит – до Центральной площади – Сентрал Плаза, откуда уже совсем недалеко до замка Спящей Красавицы, до городка Пиноккио, дома Белоснежки и семи гномов; или взять левее – к хижине Робинзона, а оттуда – к острову Приключений, Эдвенчер-айленд, а дальше уж в страну пиратов Караибского моря; или пойти прямо – к Питеру Пэну, к карусели Ланселота, к лабиринту Алисы. Вряд ли за день все это обойдешь, а если и обойдешь, все равно останутся за обочиной страна Утопии, Видеополис, Визионариум, страна Будущего, страна Открытий – Дискавериленд, страна Летающих аппаратов и подводный мир Наутилуса, а также Дом привидений, которых, говорят, числом 999, и павильон киномагии с Майклом Джексоном на ненашей планете… Да и слева от нас прошлепают тогда по реке незамеченными старинные корабли марктвеновской Миссисипи, и промчатся поезда по склонам Биг-Тфан-дер-Маунтинз, и останутся маячить в дреме форты Дикого Запада…
Любезные гиды советуют не пугать самых маленьких, пусть идут в страну Волшебных сказок, пусть себе идут к феям, пусть полетают с Питером Пэном, покружатся на лошадках с Ланселотом, покружат в лабиринте Страны Чудес с девочкой Алисой…
Помню, как с первой своей экскурсии моя десятилетняя дочка (ах, вот и ей уже 28!) принесла фотографию: Алиса выбежала ей навстречу, обняла ее, и дочка глядит в объектив – испуганная и счастливая, и верит и не верит в свою удачу.
После четвертого посещения Дисниленда (ей уже было лет 11) она сказала, что надо идти в страну Приключений – чтобы мурашки по коже, и непременно – в «Храм Судьбы». Вот туда мы с вами, пожалуй, сейчас и двинемся за мурашками – через остров Приключений. Тут, собственно, даже два острова. Соединяют их два моста. Один – плавучий, через обломки кораблекрушения, другой – подвесной, по воздуху, тоже дух захватывает. Один остров пришел из «Робинзона Крузо», другой – из романа Стивенсона «Остров сокровищ», оттуда же и затонувший корабль, и скала-череп, и пещера Бен Гуна… Путешествие тревожное, тревожная музыка, хохот пиратов в траве и пиратское зеркало, выслеживающее врага…
Ну а добравшись до «руин» старинного храма среди джунглей, попадаешь в атмосферу спилберговских фильмов о неистребимом археологе по имени Индиана Джонс, или Инди. Во дворике ржавеют брошенные джипы археологов, в ящиках пылятся их находки, забытое белье на веревке. Дальше заросли все гуще, входим в таинственный храм, поднимаемся по лестнице. Каменные кобры стерегут каждый наш шаг… Садимся в вагонетки – назвался груздем, полезай… И тут начинается бешеная гонка – вверх, вниз, во тьму, к небу, вверх ногами… От ужаса и восторга повизгивают девчушки в передней вагонетке: во мраке все пропорции меняются, все что-то чудится, что-то грезится… Натерпевшись страху, выходишь живым и, утирая пот со лба, произносишь любимую фразу из школьного анекдота: «Дурак ты, боцман, и шутки твои дурацкие…» Но потом видишь, какие счастливые лица у двух испуганных девчушек из передней вагонетки, вспоминаешь, что тут еще много будет таких страстей и всяких домов с привидениями и еще бог знает чего, вспоминаешь, что это же для широких масс задумано (а для узких, так для них и в Америке, и в Париже все есть свое – и музей Гугенхейма, и элитарные библиотеки, и концерты), вспоминаешь и думаешь, что напрасно здешние «интелло» предрекали Дисниленду в Европе полный провал и финансовый крах, нет, нет, парк давно оправился и вполне процветает… А те две девчушки, что повизгивали в передней вагонетке, они уже храбро уселись в байдарку. «Дай коры мне, о береза…» Пока я вспоминаю ими не читанных Генри Лонгфелло и Ивана Бунина, они уже плывут навстречу новым приключениям, мимо Пустынного острова, в Аризону, в Уту (или, как говорил Набоков, в Утаху), в Рио-Гранде и Колорадо, на север Калифорнии, к Сакраменто, где лихие парни искали золото, и дальше – на завоевание Дикого Запада… И в Луизиану плывут, которую здешний хваленый гений Наполеон Бонапарт заодно чуть не с целой Америкой продал за смехотворную сумму в 15 миллионов долларов…
Оставив байдарку, можно сесть на старинный поезд, а потом пересесть в трамвайчик (из тех, что ходили в Сан-Луи, в Саратоге и в Сан-Франциско), в который впряжены першероны, послушные кучерам в ливреях. История Нового Света и самые знаменитые уголки его природы – все тут есть, и все обслуживается новейшей технологией, всюду неистощимая выдумка и размах.
Вечером Главная улица будет вся в бесновании огней, но здесь и днем люди толпятся возле аттракционов, раскупают американские сувениры, здесь тебя окружают дома викторианской Америки, горят газовые рожки, манит яркими красками реклама, здесь появляется сам Микки-Маус и фотографируется с публикой, всем сердечно пожимая руку, как кандидат в президенты избирателям… А я, листая за столиком кафе справочный буклет, вспоминаю сегодняшнюю прогулку по парку и узнаю, что в нем было посажено в предвкушении моего визита 360 000 деревьев, было завезено сюда 10 миллионов килограммов цемента, чтобы создать 68 000 квадратных метров скалистой поверхности, ну а заодно истрачено 500 000 литров краски…
Глядя на счастливые лица вокруг, я думаю, что, может, и не напрасно истрачено. Или все же напрасно?
– Уж они на этом заработают, – говорит мой русский спутник.
– Так что, стало быть, не напрасно? – спрашиваю я.
– Еще бы, – вступает в разговор француз за соседним столиком. – Столько рабочих мест… Им повезло, здешним жителям. А сколько их работает в ресторанах, в отелях…
Дети, которым еще не спится, нас не слушают, они убегают на Плазу: какая-то там появилась знаменитость: сам Микки-Маус, Минни, папа Карло-Джепетто с Буратино-Пиноккио, Алиса, какой-то из семи гномов (а может, и все семь), Бемби, ослик, Золушка, собака Динго, Серый Волк, Маугли, Мэри Поппинс, три поросенка, Питер Пэн, Братец Кролик, Робин Гуд, Винни Пух… Как видите, здесь свои знаменитости. И если появятся дядя Саркози или дядя Обама вместе со страшным бородатым убийцей, дышащим на ладан, – Бен Ладеном, их здесь никто не узнает…
Допускаю все же, что ограниченный временем и не слишком охочий до индустрии массовых зрелищ странник после высокоинтеллектуальной прогулки по прозрачному замку Германтов не поспешит в шумный рай Дисниленда. Но здесь, на Марне, как я упоминал уже, целое созвездие старинных замков и музеев, а всего в нескольких километрах к северу от замка Германтов – древний Ланьи-сюр-Марн (Lagny-sur-Marne). К нему и направим свои стопы.
Город этот, непомерно разросшийся ныне, как все близкие к Парижу города, уже и в IV веке был известен как Латинус. В VII веке ирландский монах (позднее он звался святой Фурсий) основал тут аббатство, а в XI веке обветшавшие монастырские здания были восстановлены тщанием графа Вермандуа и короля Гуго Капета. Ланьи был городом, пограничным с Шампанью, городом торговым и укрепленным. Но в эпоху Франциска I (в 1544 году) город оказал сопротивление Парижу, был взят, разграблен и с той поры утратил прежнее благосостояние. Местная церковь Богоматери и Святого Петра (XIII век) славится чистотой линий и стройностью интерьера. Историю ее связывают с исцелением людишек от поражавшей местное население в XII веке страшной лихорадки. Здесь чтут память о чуде оживления мертвого ребенка Жанной д‘Арк, проезжавшей через город в 1430 году.
Фонтан Святого Фурсия, как и в XIII веке, стоит в центре города, а питает его источник, протекающий в крытом зале на улице Доктора Нодье: из трех бронзовых голов XVI века плещет вода. По краям старинной площади – пять крытых рынков XII века, а в местном музее – находки трудолюбивых археологов…
Двинувшись от Ланьи дальше на восток, мы попадем в деревушку Куврэ (Coupvray), которая гордится одним из своих сыновей, перенесенным полвека назад с деревенского кладбища в парижский Пантеон. Звали его Луи Брайль, и жил он в доме своего отца, деревенского шорника, на краю деревни. Ему было три года, когда он поранил глаз в мастерской у отца и ослеп. А к двадцати годам он изобрел свою знаменитую азбуку для слепых, стал профессором и посвятил свою жизнь обучению незрячих. Отчий дом его превращен ныне в музей.
Еще чуть дальше 34-я госдорога пересекает реку Гран-Морен (Grand Morin), и местечко у переезда содержит в своем названии и указание на мост, и воспоминание о женском бернардинском монастыре XIII века – Куйи-Понт-о-Дам (Couilly-Pont-aux-Dames). В монастырь этот после смерти Людовика XV была сослана знаменитая его фаворитка – красавица мадам дю Барри, от маленькой парижской продавщицы и уличной девки поднявшаяся на уровень любовницы Людовика XV, покровительницы искусств и великой модницы. Она, впрочем, пробыла в монастыре недолго, король Людовик XVI разрешил ей поселиться в ее великолепном имении, в Лувесьене, вместе с ее возлюбленным, герцогом де Бриссаком. Потом пришла революция, герцог был убит, а самой мадам дю Барри в незабываемом 1793 году отрубили голову на гильотине. Что касается монастыря на берегу реки Гран-Морен, то он был разрушен в начале революции, но некоторые из находившихся в нем произведений искусства XIV, XVII и XVIII веков были перенесены в здешнюю церковь Святого Георгия.
В 1902 году, за семь лет до своей смерти, знаменитый актер Констан Коклен (по кличке Коклен Старший), тот, что сыграл роль Сирано де Бержерака, устроил в своем доме приют для престарелых актеров театра и эстрады. При доме этом возник и Музей театра, где выставлены портреты театральных знаменитостей начала века – того же Коплена, Тальма, Саши Гитри, Режан, Сары Бернар, а также их костюмы, сувениры, картины, бюсты… Туристы любят посещать этот музей: вопреки всем пессимистическим прогнозам, любовь к театру в Европе не умерла.
В одной из соседних деревень, в Вильер-сюр-Морен, тоже прижились актеры и художники, так что во Франции все же есть свои Малеевки и Переделкины, свое Внуково и свое Комарово, хотя нельзя сказать, чтобы государство проявляло здесь хоть какую-нибудь щедрость к творцам (разве только по линии партийных выгод).
Следующая средневековая деревня, Креси-ла-Шапель (Crécy-la-Chapelle), отчасти обязана своим выживанием омывающим (и ограждающим) ее речным рукавам, а отчасти, конечно, боевым укреплениям, скажем, средневековому замку, что стоял близ церкви Святого Георгия. На левом берегу реки еще сохранились старинные оборонительные башни – башня Святых, башня Шатлен и башня Мижон. В этой деревне веков семнадцать тому назад отдыхали путники по дороге на ярмарки былой Шампани.
По берегам реки сохранилось немало мельниц, а также старинных бельевых (каменных, конечно) корыт и прочих стиральных приспособлений (lavoirs) – вроде как на берегу Плещеева озера у Переславля-Залесского. Французские художники обожали писать эти мирные берега Гран-Морен. Особенно часто работали здесь Коро, живший близ моста у своего друга Шатлена, а также Дюнуайе и Сегонзак.
Соседняя деревня, Шапель-су-Креси (Chapelle-sous-Crécy), недавно объединена решением уездного начальства с деревней Креси-ан-Бри (Crécy-en-Brie). Здешняя приходская часовня Нотр-Дам, построенная в 1230 году, конечно, не раз перестраивалась, но и в нынешнем виде остается жемчужиной готической архитектуры Французского Острова (который, как вы успели заметить, не беден готикой). Место тут низкое, часовню часто заливали паводки, и ее укрепляли косыми арками (аркбутанами), их анфилады и придают средневековой часовне особую элегантность. Колокольня здесь с крышей, украшенной четырьмя «щипцами», типичными для района Бри (как вы могли заметить, старинная архитектура жилья и храмов сохраняет и поныне свою специфику в каждом районе Франции – чего не скажешь о здешних «хрущобах» и новостройках). Интересен западный фасад часовни с его контрастом окон XIII и XV веков. Производя реставрацию нефа в XV веке, здешние строители бережно сохранили растительные узоры и маски на более древних капителях. В интерьере церкви можно увидеть резное деревянное распятие XVI века, Богоматерь с младенцем XIV века и статую святого Фиакра, покровителя садов.
Среди европейских широких масс места эти, конечно, больше славятся своими сырами, чем своими средневековыми часовнями. Сыров здесь изобрели великое множество. Их все называют сырами «бри» (а иногда называют и «доброй ракушкой» или «добрым колесиком»). Держат их в холодном подвале примерно месяц – так они сохраняют свежесть и мягкость. Разнообразие их может удивить приезжего – изготовляют здесь «синие» сыры Mo и Мелэна, «черные» сыры Нантёя (выдержка четыре месяца), козьи сыры Шеврю. Во всяком случае, при слове «куломье» французу прежде всего вспоминается колесико сыра, а потом уж (в зависимости от жизненного опыта) – пейзажи Коро, часовня в Креси, счастливый воскресный день на берегу реки Гран-Морен («Ах, мы тогда только-только сыграли свадьбу…»).
При слове «куломье» вспоминается, впрочем, и сам средневековый городок рыцарей-храмовников Куломье (Coulommiers), что так недалек от Парижа. Имя свое городок выводит из римского Каструм Колумбариум (Голубиная Крепость): во времена Цезаря здесь стояли лагерем римляне. От более поздних времен сохранилась здесь Командерия тамплиеров. После того как король Филипп Красивый ликвидировал этот богатейший орден, большая часть строений перешла к монахам-госпитальерам, создавшим орден Кавалеров Мальты.
В XVII веке Катрин де Гонзаг, она же герцогиня Лонгвиль, заказала знаменитому архитектору Саломону де Броссу построить ей здесь замок. Судя по руинам, это было настоящее чудо, но наследники герцогини не утруждали себя ни ремонтом, ни реставрацией замка и привели его в состояние весьма жалкое. Замок был разрушен в 1750 году. Осталась лишь церковь Капуцинов. А жаль! Ведь и места эти, и образ Катрин де Гонзаг навеяли некогда мадам де Лафайет ее роман «Принцесса Киевская». Так что непременно побродим все же среди руин в Парке Капуцинов… И конечно, непременно побродим по базару среди сыров в этом знаменитом центре «молочного Бри». А если попадем сюда весной, то можем посетить старинные ярмарки – и сырную, и винную. Этот край ведь и до сих пор богат вином, и молоком, и медом, и сыром…
Путешествие на юго-восток через Бри Французский в Бри Шампанский
Шарантон Озуар-ла-Феррьер • Розэ-ан-Бри • Куртавнель • Провен
Те, кто, устав от шума городского, захотят выехать в чисто поле и посмотреть сельскую Францию, не прогадают, выбрав юго-восточную прогулку, через район, который издавна зовут Бри. При этом, проскочив Бри Французский (всего-то меньше сотни километров по госдороге № 4), можно захватить и уголок Бри Шампанского с истинной столицей графов Шампанских – средневековым городом Провеном (Provins).
Главная задача при этом, конечно, выбраться из города, выскочить на упомянутую госдорогу № 4 через пригородный Шарантон-сюр-Пон (Charenton-sur-Pont). Конечно, цепкий (и притом забитый транспортом) Шарантон будет соблазнять вас своим знаменитым Музеем хлеба, а также центром здоровья, устроенным на том месте, где в недалеком от нас 1641 году царила здешняя знаменитая психбольница (та самая, где маялись маркиз де Сад и брат Виктора Гюго). Поскольку название Шарантон стало у парижан издавна ассоциироваться со словом «психушка» (как некогда Канатчикова дача у москвичей), то к середине XIX века больница сменила название, но жутковатое воспоминание не окончательно отошло от названия городка.
Зато уж, вырвавшись из грустной тесноты парижского предместья, мы сразу попадаем в провинцию Бри, что раскинулась между Сеной и Марной, и невольно ощущаем при этом запах знаменитого сыра, которому район подарил свое гордое имя – сыр «бри». Вообще район этот издавна славился и пшеницей своей, и свеклой, и, конечно, лугами, где пасутся славные коровы. Почва здесь наносная, речная, под слоем ее известняковое плоскогорье, которое не дает зазря уйти речной и болотной влаге. В общем, почва плодородная и климат благодатный. Ну а сыр «бри» явился продуктом творчества многих поколений здешних сыроваров. О сыре этом написаны стихи и поэмы, сложены легенды, и даже до крайности республикански настроенные французские историки не устают напоминать о том, как любили сыр «бри» Людовик XVI (казнь которого они до сих пор бурно приветствуют), Людовик XII, Филипп-Август, королева Мария Лещинская, Генрих IV, как любили сыр «бри» Великий Конде и принц Шарль Орлеанский, который послал кусок этого сыра своей возлюбленной, объясняя при этом (в стихах), что он отсылает ей самое дорогое на свете лакомство, ибо совершенно лишился аппетита по причине любви.
Те же историки с совершеннейшей серьезностью повествуют о том, как на международном венском конгрессе 1822 года французские посланцы (Талейран и граф Вьелькастель) повздорили с графом Меттернихом, ибо Меттерних набрался наглости оспаривать утверждение Талейрана, что «такого сыра, как «бри», нет на свете». Поскольку конгресс этот был мероприятием весьма серьезным (где не только пили, но и закусывали), всем послам было приказано доставить из их стран образцы местных сыров. Серьезное жюри обсудило (испробовав и запив) 52 образчика сыра и вынесло высочайшее решение о том, что сыр «бри» из французской провинции Бри является лучшим из сыров Европы, истинным Императором Сыров.
Один из французских политиков, помешанных на классовой борьбе (увы, таких, кажется, большинство среди этой весьма обеспеченной публики), сказал, что все-таки есть чувство, которое может объединить во Франции богатых и бедных, – любовь к сыру «бри».
Не следует недооценивать серьезности этой любви. Даже в эпоху осторожного отношения к содержанию холестерина в пище французы не мыслят себе завершения сытного обеда без подноса с жирными (и притом достаточно дорогими) сырами. Знаменитый знаток французской гастрономии месье Брийа-Саварен заявил, что обед без сыра подобен красавице без глаза. Тот, кто знает о снисходительности французских оценок женской красоты и о предпочтении, которое французы отдают сердечным, жантильным (gentilles) женщинам перед красивыми, поймет, что еще проницательнее был академик Гастон Дери, заявивший, что «обед без сыра «бри» – это красавица без сердца». Как истинный ученый, академик Дери уточнил, как видите, что речь должна идти не просто о сырах, а о сыре «бри».
Это кратенькое предисловие было совершенно необходимо, ибо мы отправились в странствие по стране Бри. Так что при первой же задержке у местного кабачка вы можете потребовать «бри из Mo» (из города Mo) со стаканчиком доброго бургундского, а то и просто ломтик «мягкого бри» со стаканчиком ронского вина (Кот-де-Рон) или, наконец, пряного и твердого «бри» со стаканчиком бордо (не перепутайте, что с чем, это недопустимо!).
Вообще же, на всем протяжении нашего пути через Французский и Шампанский Бри обращайте внимание на амбары, на ветряные мельницы (в Розэ их будет даже две, зерно надо было молоть, а ветра и на равнине в достатке), обращайте внимание на фермы при дороге. Многие из них похожи на замки и аристократические поместья, окружены могучими стенами, укреплены величественными воротами и башнями. Впрочем, иные из крестьян и впрямь приспособили под фермы развалины былых замков (в Бри такая ферма занимает былой укрепленный замок кардинала Убра, который был секретарем короля Франциска I). Фермы и будут едва ли не самым интересным, что попадется на нашем пути. Впрочем, вскоре после Парижа можно сделать остановку в деревне Озуар-ла-Феррьер (Ozoir-la-Ferrière). В здешнем парке возле деревенской церкви стоит замок Дутр, великолепный образец замковой архитектуры XVIII века – с башней неоготического стиля и рвами. Дальше, при дороге, хорошо виден у площадки для игры в гольф замок дез Аньо. А еще южнее, при выезде из деревни, у края леса Арменвиль, на площади в 10 гектаров раскинулся обширный зоопарк, в котором насчитывают до тысячи видов птиц и животных. Впрочем, ни зоопарк, ни замки, ни мирный здешний пейзаж, вдохновлявший многих французских живописцев, не смогут вытравить из памяти русского путешественника грустных воспоминаний, связанных с этой деревней. Вот что рассказывал об Озуаре в своих воспоминаниях глава Западной православной церкви митрополит Евлогий:
«Местные собственники разбили свою землю на участки и стали участки задешево распродавать. Русские охотно покупали эти земельные клочки, строили на них домики и перебирались сюда с семьями. С утра в Париж на работу, а к вечеру домой в Озуар на лоно природы. В Озуаре лес, луга… Весной такое обилие ландышей, что их вывозят грузовиками, а летом много ягод, грибов…»
Казалось бы, живи, радуйся тому, что бежал от ужасов революции и что снова весна… Однако даже то, что рассказывает митрополит о здешней русской жизни, далеко от идиллии. Некий русский псаломщик задумал стать священником и затеял интригу, привлек на свою сторону «карловацкого» епископа Серафима, посеял распрю между прихожанами. Позднее на место молодого, энергичного отца Александра Чекана митрополит направил в Озуар «пожилого иеромонаха Евфимия Вендта (Богословского института), инженера по профессии, прекрасного, тонкой души, культурного человека. К сожалению, жизнь его сильно потрепала: на фронте во время Гражданской войны он попал в плен к большевикам, они его мучили, пытали, издевались, и пережитый ужас наложил на его психологию тяжкий след. Физически и морально он и теперь был полубольной. Когда прошлым летом, еще в самом начале работы Блюма в министерском кресле, начались забастовки, митинги, появились процессии с красными флагами, с пением «Интернационала»… отец Евфимий был сам не свой и стал умолять, чтобы мы дали ему возможность выехать из Франции».
Надо признать, что для тех, кто с трудом переносит «красных», Франция (а особливо парижские пригороды) – далеко не всегда идеальное место обитания. Что же до Озуар-ла-Ферьера, то с ним связана и еще более мрачная история. Среди прочих русских здесь поселилась и построила себе виллу одна весьма заметная русская пара. Это были знаменитая эстрадная певица (замечательная певица, самородок) Надежда Плевицкая и ее муж, герой-корниловец, отважный генерал Николай Скоблин. Плевицкую (которая уже до революции заслужила высокую оценку двора, государя и видных деятелей искусства) часто приглашали петь перед русской публикой, и когда она исполняла ностальгическую песню «Замело тебя снегом, Россия…», в зале слышны были рыдания. В гости к супругам приезжал иногда в Озуар прославленный генерал Миллер, возглавивший «Русский общевоинский союз» после таинственного исчезновения в самом центре Парижа генерала Кутепова. Хозяин виллы генерал Скоблин был другом и Кутепова и Миллера, пользовался их безграничным доверием и служил у них обоих (по очереди) заместителем. Конечно, были отдельные люди в эмиграции, кто с недоверием относились к военно-эстрадной паре, жившей не по средствам, – и к малорослому честолюбцу генералу, и к стареющей певице, сменившей за годы войны немало мужей и любовников по обе стороны фронта. Но у кого ж из знаменитых людей нет завистников?
И все же – каково было удивление бедных русских эмигрантов, когда выяснилось, что блистательные супруги из Озуар-ла-Феррьера были платными агентами ГПУ, участвовали в похищении советской разведкой их друга генерала Миллера в 1937 году, а вероятней всего, уже и в 1930 году – в похищении их друга генерала Кутепова, который был посаженым отцом на их свадьбе. Подозревают, что оба супруга работали и на советскую и на гитлеровскую разведку. Скоблин успел сбежать и, вероятно, был поставлен к стенке своими (или в НКВД, или в гестапо), а Плевицкая предстала перед судом в Париже и умерла в женской тюрьме в Ренне перед самым приходом нацистов (которые зачем-то приказали выкопать ее из могилы). А дом их в Озуар-ла-Ферьере был обыскан французской полицией, которая узнала из найденных там документов немало подробностей о жизни русских эмигрантских организаций, кишевших советскими шпионами. Грустная история…
ПАНОРАМА ОЗУАР-ЛА-ФЕРРЬЕР
Но может, дальше, проезжая лес Арменвиль, прелестные здешние деревни, вроде Фонтенэ-Трезиньи и Ла-Уссе-ан-Бри с их старинными (XIII–XVI веков) церквами, замками и живописными фермами, мы сможем забыть эти грустные страницы эмигрантской истории, тем более что вон впереди показалась уже старинная (XI века), пограничная некогда крепость Розэ-ан-Бри (Rosay-en-Brie)… Этот живописный маленький городок, который спускается террасами к воде по правому берегу речки Йер, славится готической XIII века (с колокольней XII века) церковью Рождества Богородицы. Над центральным ее порталом стиля «пламенеющей» готики – великолепное круглое окно, так называемая роза. От нее, очевидно, и название деревни, но, может, не от архитектурной розы оно пошло, а от настоящих роз: на разведение цветов близ дома здешние крестьяне, даже и намаявшись в поле за день, сил никогда не щадят.
Южный портал здешней церкви более поздний, но тоже не новый – XVI века, а внутри церкви – и в ее нефе и на хорах – поразительное сочетание разного объема колонн и великолепный XVIII века орган. На этом органе каждое лето приезжие музыканты исполняют музыку старинного французского композитора Луи Куперена. Уроженцы Бри, Куперены были целой династией музыкантов (игравших на органе и клавесине) и композиторов. За Луи Купереном (который умер в 1661 году) последовали музыканты и композиторы Шарль, Франсуа I и Франсуа II Великий, который умер в 1733 году.
Городок Розэ-ан-Бри стоял некогда на границе королевских владений и графства Шампань, так что в XVI веке стены, его окружавшие, были оснащены двенадцатью сторожевыми башнями и проездными воротами.
В городке проходила знаменитая ярмарка, принесшая ему процветание. И не забудем о цветах, цветы тоже товар, цветы во Франции не залеживаются на прилавках – здесь ими издавна украшают жизнь.
Свидетельство былого процветания маленького Розэ-ан-Бри – это старинные дома на улице Сен-Жак, на улице де ла Арандери и на Римской улице, великолепные дома XVII века с деревянными балками – «коломбажем» – на кирпичном фасаде, с великолепными воротами, с весьма почтенного возраста арочными столбами. На старинной Римской улице, между прочим, в тридцатые годы XX века один из домов снимала русская православная церковь из Аньера, которая устроила тут храм Воскресения, освященный в 1935 году митрополитом Евлогием, а также Русский дом для престарелых, или, как выражаются эмигранты, старческий дом. Руководила им мать Меланья, к которой вскоре присоединились и другие русские монахини. Сестры тут трудились до конца Второй мировой войны, и только в 1946 году вместе с матерью Меланьей они перебрались в дальний уголок Бургундии, устроив новый русский монастырь на краю леса От, в доме, который был им оставлен в наследство эмигрантами Ельяшевичами. Я, между прочим, живу большую часть года в доме, что стоит неподалеку от этого монастыря, на другом (восточном) конце леса От, и заезжаю в Бюси-ан-От частенько.
Неподалеку от живописного городка Розэ-ан-Бри есть и другие места, которые связаны с воспоминаниями, близкими для всякого русского человека. Здесь, близ деревушки Песи (Pécy), стоял еще и в прошлом веке замок Куртавенель (Courtavenel), от которого остался нынче только окружавший его ров, тот самый, по которому полторы сотни лет тому назад любил плавать в лодке Иван Сергеевич Тургенев. В замке Куртавенель, принадлежавшем семье Виардо, Тургенев бывал с самых 40-х годов позапрошлого века и живал тут подолгу – то со всей семьей Виардо, то в компании одного месье Виардо, с которым они ходили на охоту, так как оба были страстные охотники, и толковали об искусстве, в котором оба знали толк, то вдвоем с супругой месье Виардо, певицей испанских кровей Полиной Виардо-Гарсия, а то и в полном одиночестве, сочиняя здесь что-нибудь по-русски (скажем, «Записки охотника»). Замок этот приводит на память потрясающую русско-французскую историю о том, как молодой, красивый, богатый, талантливый русский аристократ, поэт Иван Тургенев влюбился без памяти в Петербурге в заезжую французскую певицу и мотался за ней по свету до конца своих дней, получая от нее, на паях с другими мужчинами и ее почтенным мужем, лишь крохи любви (вдобавок к пожизненной дружбе ее семейства). Эта история великой и непостижимой любви (была ведь эта певица, по свидетельствам одних, страшна как смертный грех, но при этом, по мнению других, неотразима) тесно связана со здешним уголком Бри и с замком Куртавенель – с их лесами, полями, церквами, с окрестными деревнями. В деревушке Песи, например, Иван Сергеевич Тургенев впервые в жизни увидел французский деревенский праздник и под впечатлением его написал своей возлюбленной Полине длинное изумленное письмо, в котором сравнивал французские, уже идущие на убыль, деревенские обычаи с немецкими. Он писал о странных рединготах, в которые наряжаются здесь деревенские кавалеры, о фальшивящих музыкантах. И все же он очарован был всеобщим весельем, шумной, умытой детворой, негой летнего вечера…
Куртавенель явился свидетелем короткого и, может быть, самого счастливого периода в жизни Тургенева, когда, как он писал другу Боткину, каждый день становился для него подарком. Это было в 1856 году, когда 38-летний Тургенев, приехав из России в Куртавенель после долгой, вынужденной разлуки с Полиной, был вознагражден ее царственной нежностью. Возможно, именно эти счастливые недели увенчались девять месяцев спустя рождением в том же самом Куртавенеле маленького Поля Виардо. Тургенев встретил это событие с восторгом. Вообще письма его, отправленные из Куртавенеля в 1856 году, – совершенно счастливые. Он пишет Льву Толстому: «Мне здесь очень хорошо: я нахожусь с людьми, которых я люблю и которые меня любят…» Совершенно та же фраза в письмах Фету, Боткину, Герцену. Похоже, за это счастье он и расплачивался потом до конца своих дней.
ЗАМОК КУРТАВЕНЕЛЬ РИСУНОК ПОЛИНЫ ВИАРДО
Тургенев писал отсюда письма и своей внебрачной доченьке, младшей Полине, с которой он лишь незадолго до приезда в Куртавенель познакомился в России (у ее мамы-портнихи) и которую привез с собой во Францию…
Но вот прошло еще три года, темпераментная испанка умчалась дальше в поисках новых приключений, и Тургенев, из того же Куртавенеля, где он остался один, «на краешке чужого гнезда», пишет грустные письма графине Ламбер:
«…душа моя грустна. Кругом меня правильная семейная жизнь… для чего я тут, и зачем, уже отходя прочь от всего мне дорогого, – зачем обращать взоры назад?.. Не чувство во мне умерло: нет… но возможность его осуществления».
Сорокалетний Тургенев называет себя «стариком, который еще не разучился любить». Он прожил после этого еще четверть века, по большей части во Франции, прикованный неизбывной любовью все к той же неотразимой и страхолюдной певице, все так же «на краешке чужого гнезда».
Критик Стасов упрекал Тургенева в том, что он, «вечно писавший о любви», никогда «не дошел до изображения страсти». Тургенев отвечал на этот упрек со смирением и достоинством: «Всякий делает, что может. Видно, я больше не мог». По свидетельству сына Льва Толстого Сергея Львовича, отец его неплохо разобрался в этом споре Стасова с Тургеневым и в характере собрата-писателя:
«Стасов хотел побранить Тургенева, а вместо этого его похвалил. Тургенев певец не плотской любви, а чистой, самоотверженной любви, которая может ограничиться взглядом и намеком, но которая нередко, по выражению Мопассана, сильнее смерти… Он сам до старости лет был тем юношей, который умел любить глубоко и самоотверженно. Его мать говорила про него: он однолюб, он может любить только одну женщину».
В 1856 году Афанасий Фет гостил у Тургенева в Куртавенеле, и три года спустя Тургенев сообщил Фету в шутливом письме, что он все там же, в замке:
О любви Тургенева к этим местам, к Куртавенелю, писал в своей биографической повести русский писатель-эмигрант Борис Зайцев:
«Он обожал Куртавенель. Говорил позже, что, когда к нему подъезжает, всегда чувствует острое замирание сердца – в нежности… Он называл Куртавенель «колыбелью своей славы» – и это верно, конечно. (Самые русские «Записки охотника» принадлежат Франции!) О том, что это колыбель его любви, не упоминает – о ней он не высказывался, но это, конечно, так. Она сама сочится из строк позднейших писем, – пронзил его Куртавенель и то, что там происходило. А происходило многое, важнейшее в любви. «Помните ли вы тот день, когда мы смотрели на небо, чистое, спокойное, сквозь золотистую листву осин?» Вспоминает о дороге, обсаженной тополями и ведущей вдоль парка в Жарриэль. «Я опять вижу золотистые листы на светло-голубом небе, красные ягоды шиповника в изгородях, стадо овец, пастуха с собаками и… еще много другого». Не известно ничего об этом «другом», что испытал он. Это его тайна, его счастье – счастьем, ярким, удовлетворенным чувством, хоть и кратким, обвит Куртавенель. Здесь, по-видимому, сближение произошло полное».
…Нет больше замка. Нет Полины, ее мужа и ее поклонников. Нет прежних радостей и горестей. И если память об этой любви оживает время от времени в живописных окрестностях Розэ-ан-Бри, так это благодаря Ивану Тургеневу, писавшему в этих местах грустные письма и вдохновенную русскую прозу…
А нам пора в дорогу. Самый соблазнительный объект нашего нынешнего путешествия еще впереди, и до него нам уже недалеко: меньше двадцати километров к юго-востоку по 331-й департаментской дороге. И вот он, славный Провен, былая графская столица, а нынче просто маленький провинциальный городок (вроде Талдома, Пошехонья или Переславля-Залесского), но какой городок-памятник, какая сокровищница искусства!
Хорошо бы подъехать к Провену поздно вечером, когда, искусно подсвеченные, сказочно сияют в ночи и стены его, и шпили, и башни. Но тогда что же – ночевать, что ли, в этом Провене, в каком-нибудь часе езды от столичного Парижа? А отчего б и не заночевать, скажем, на улице Капуцинов, в дешевой гостиничке «Золотого Креста», которую считают едва ли не самой старой гостиницей в целой Франции (1270 год рождения, но с тех пор в номерах установили уже и телефоны, и телевизоры, и все прочее, чего требует современный организм)? Или в столь же недорогом «Шале» на площади Оноре де Бальзака? Есть, конечно, гостиницы подороже, да и ресторанов здесь прорва…
Провен – истинный шедевр Средневековья. Даже в короне городов-крепостей, окружавших маленькую средневековую Францию, крепость эта занимает особое, почетное место. Верхний Город обнесен крепостною стеной, наподобие знаменитого Каркассона, однако стеной, не подвергавшейся никаким переделкам и реставрации. И, вступая на улицы средневекового Провена, дивясь его старинным домам, обширным погребам и подземельям, его церквам, заполненным шедеврами старинного искусства, даже самый нелюбопытный из путников задает вечный вопрос: откуда все это, что здесь было? Но и самый просвещенный из историков не доведет нас до истоков этого древнего поселения на выступе между долинами, образованными с двух сторон речками Дютран и Вульзи. Археологи подтверждают, что жили тут люди издревле, а легенды твердят, что была здесь римская крепость, но первое письменное упоминание о городе относится лишь к 802 году нашей эры. А в XI веке было это место уже так соблазнительно, что графы Шампани перенесли сюда свою столицу из славного города Труа. К XII–XIII векам относится расцвет Провена, и старинные хроники сообщают, что был в ту пору город «и роскошным, и обильным», славился своими ярмарками, на которые дважды, а то и трижды в год съезжались купцы с целой Франции, а также итальянские, немецкие и испанские торговцы, – съезжались надолго, торговали всякий раз по месяцу и дольше. «Либеральный» Генрих I даровал жителям города хартию вольности, при графах же, носивших по традиции имя Тибо, в городе расцвели торговля, земледелие и ремесла: здесь насчитывалось тогда больше трех тысяч ремесленников (названия улиц, где они жили, и ныне увековечивают их полузабытые уменья и промыслы). Расцвели также и высокие искусства. Славным было правление Тибо IV, того самого, что был крещен в церкви Сен-Кириас в присутствии самого короля Франции, что вырос искусным политиком, дипломатом и поэтом (трувером). Его даже называют иногда Тибо Песнопевец. Здешние труверы, в отличие от провансальских трубадуров, творили не на лангедокском языке, а на лангдойле. Тибо IV устраивал у себя в замке состязания в любовной поэзии. Он поощрял ученых и богословов, у него гостили прославленные Абеляр и Бернар де Клэрво. А уж здешние ярмарки, кто только на них не бывал! И город получил в 1230 году свою автономию – о, славные времена!..
ПРОВЕН
Однако всякому городу, как всякому овощу, свое время. В 1284 году последняя здешняя графиня Жанна Наваррская (бедняжке было в ту пору 11 лет) вышла замуж за французского короля Филиппа IV Красивого, так что и Шампань, и Наварра (а заодно и Бри) перешли к французской короне. «Корона» в эпоху Филиппа IV Красивого проявляла безмерную алчность. Понятно, что многие французские справочники с восторгом пишут об укреплении монархии этим Филиппом, которого прозвали Красивым. Был ли он и впрямь красив? Трудно установить истину, когда речь идет о столь высоком начальстве. Вспомните наших собственных красавцев – рябого, сухорукого коротышку Сталина и злобного коротышку Ильича, облысевшего еще в ранней юности. Филипп, сказывают, был блондином с жестким, тяжелым взглядом светлых глаз. Но уж то, что он был законченным мерзавцем, об этом дошли вполне достоверные сведения. Правда, иные французские источники похваливают его за то, что он «приблизил к трону незнатных людей». Но людишки эти были по большей части бессовестные крючкотворы и насильники. Они должны были добывать деньги для короля, раздевая ближнего догола. Задолжав много денег ордену тамплиеров, король велел в 1307 году арестовать и обобрать всех членов ордена. Операция прошла не вполне удачно, потому что тамплиеры успели вывезти свои сокровища! Семь лет люди короля гноили по тюрьмам и пытали руководителей ордена, иногда сжигали их живьем. А 11 марта 1314 года на Острове Евреев среди Сены (остров назван был так, потому что на нем жгли евреев – бытовало тогда такое народное зрелище) был заживо сожжен (после пыток) гроссмейстер ордена тамплиеров Жак де Мелэ. На костре у гроссмейстера хватило мужества и силы проклясть бессовестного короля и своих мучителей на тринадцать поколений вперед, призывая их к ответу на Божьем суде. Как и предсказывал гроссмейстер, король и его подручные не дожили и до конца года…
Эту эпоху вообще считают концом Средневековья. Того самого, что принесло людям не одни горести, но и радости. Память о тех временах славы, о тех людях и событиях не изгладилась, живет на старинных улочках Провена, под сводами его храмов и погребов, в его башнях и крепостных стенах, бродя вдоль которых, в Провене легко забыть, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». Уже вроде не Средневековье, но и до Золотого века не близко…
Память о минувшем, обо всем читанном оживает на прогулке по зачарованному средневековому Провену, и прогулку эту после обеда в почтеннейшем из французских постоялых дворов – в гостинице «Золотой Крест» – можно начать с церкви Святого Кириаса, той самой, где крестили Тибо IV. Конечно, за минувшие столетия церковь эта много претерпела пожаров, достроек и перестроек, однако можно увидеть в ней скульптуры XII и XIII веков, да и статуя Христа над боковым порталом (перенесенная из храма Святого Тибо) относится к концу XII века. Знатоки искусства находят немало старых шедевров и в интерьере этого храма – вроде кованых железных решеток XVIII века и искусной резьбы по дереву XVII века. Много редкостных произведений искусства хранится и в сокровищнице храма. Еще больше хранят эти стены воспоминаний…
3 августа 1429 года здесь отстояла мессу Жанна д’Арк вместе с королем Карлом VII.
Перед церковью этой по многу месяцев в году шумела знаменитая Провенская ярмарка, по праздничным дням проходили пышные шествия. Об одном таком весеннем шествии осталась память как о битве дракона с ящерицей. Изображения чудовищ несли из разных концов города приходские звонари, и до самого 1761 года потешные эти бои не только развлекали горожан, но и должны были, по старинному поверью, влиять на урожай (когда-то здесь были и виноградники, потом их сменили пшеница и свекла).
Конечно, площадь перед храмом за последние столетия изменила свой облик. На ней были построены в XVIII и XIX веках дома с элегантными фасадами. В одном из этих домов (в конце тупичка справа от храма) просвещенная и милая мадам Анжебер держала литературный салон, который охотно посещали Гюго, Банвиль, Ламартин и Бальзак. Бальзак не только бывал в Провене, но и поселил в нем героев своей «Пьеретты». Отрывок из «Пьеретты» может, кстати, заинтриговать и самого ленивого экскурсанта:
«Помощник судьи, постучав по земле Верхнего Города, вскричал: – «Значит, вы и не слышали о том, что вся эта часть Провена построена на склепах и подземельях? – Да, склепах! – Именно так! На подземельях непостижимых размеров и высоты. Они как нефы соборов, там есть даже подпорные столбы и колонны».
Эти огромные подземелья Верхнего Города, пожалуй, и до сих пор толком не обследованы. Никто не разгадал эзотерические символы и письмена на их стенах, свидетельствующие о былой активности каких-то тайных обществ. А между тем у подножия улицы Сен-Тибо можно отыскать вход в эти подземелья и начать их осмотр с посещения былых лечебниц (в подземелье Святого Духа) и хранилищ. В эти хранилища Верхнего Города крестьяне и монахи сносили припасы – там они могли укрыться, когда враги нападали на Нижний Город. А войны были частые и долгие: одну из них, как вы помните, так и называют – Столетней (она-то и подорвала окончательно процветание города). От военной истории Провена сохранились не только знаменитые укрепленные стены и ворота и башни (вдоль которых неутомимо бродят сейчас туристы всего мира), но и знаменитая Башня Цезаря, могучий старинный (1137 года) квадратный донжон, окруженный круглыми башнями и размещавший воинов. В 1433 году эта 44-метровой высоты квадратная башня была соединена с другими оборонительными сооружениями Верхнего Города (а ныне она служит колокольней). От оборонительных сооружений остался и поразительный Десятинный амбар (La Grange aux Dîmes) XII века. В нем тоже можно увидеть красивый подземный зал, перекрытый стрельчатыми арками. Крипта XI века сохранилась и в старинном графском дворце (в том, где ныне разместился лицей).
На Дворцовой улице у подножия Башни Цезаря стоит самый старый из городских домов – Романский дом (XI век). Изначально здесь была еврейская школа – позднее синагога. В XIV веке дом принадлежал председателю парижского парламента и советнику Пьеру д’Оржемону, а ныне здесь интереснейший муниципальный музей, где можно увидеть старые камни, меровингские саркофаги, старинные произведения религиозного искусства и вполне современную живопись…
Наглядевшись на старые дома близ площади Шатель, вы спуститесь в звенящий ручьями, радующий зеленью и старинными улочками Нижний Город и здесь обнаружите, что ваша экскурсия еще не дошла и до середины. В Нижнем Городе обитали ремесленники и монахи, здесь бывали свои ярмарки и свои праздники.
В Нижнем Городе самых неутомимых и любопытных из моих спутников ждут новые подземелья, монастырь кордельеров, основанный Тибо IV (как сообщают, по велению святой Екатерины). Внутри здешней часовни XV века сокрыто сердце великого графа-песнопевца Тибо IV. По преданию, это он привез из крестового похода в 1228 году алую розу, которая стала символом города («rosa gallica»). Розу эту изобразил на своем гербе и один из Ланкастеров, бывший здесь какое-то время правителем. После его возвращения на родной остров (в XV веке), в Англию, во время Войны Алой и Белой розы провенская Алая роза (красовавшаяся уже на гербе Ланкастерского дома) выступала против Белой розы Йорков…
В Нижнем Городе путник непременно посетит старинную больницу в графском дворце, церковь Святого Креста и, конечно, замечательную церковь Сент-Эйуль, где с 1120 года читал проповеди прославленный богослов и злосчастный любовник Абеляр…
В каждом из названных мною зданий бесценные произведения искусства насчитываются десятками и достойно представляют многие века французского искусства. Будь то изящно-кокетливая статуя ренессансной богородицы или скульптурный триптих амьенского мастера Пьера Бласселя, погребенного здесь же, в церкви Сент-Эйуль, в 1633 году… И еще, и еще…
Тому, кто ищет в странствии дыхание подлинной старины и подлинных шедевров искусства, нелегко будет, поверьте, расстаться с этим сказочным средневековым Провеном.
Возвращение из Провена через Монтуа и Бри, а может, и через Во-Ле-Виконт (все в нашей власти)
Шалотр-ла-Птит Сен-Лу-де-Но • Донмари-Донтильи • Рампийон • Бри-Конт-Робер • Гро-Буа
Грех спешить прочь из Провена, не осмотрев его уникальных сокровищ и не облазив прелестных деревушек в окрестностях. Например, не побывав в лежащей у южной окраины города деревушке Шалотр-ла-Птит (Chalautre-la-Petite) с ее оригинальной деревенской церковью и стоящим на главной площади средневековым домом «Улитка».
Ну а тем, кто двинется в обратную дорогу поутру, предоставляется возможность вернуться в Париж по новой дороге и обнаружить на ней новые шедевры искусства и новые пейзажи. Выехав из Провена к югу по департаментской дороге № 403, попадешь на равнинный выступ правобережья Сены, который носит название Монтуа. А свернув после недолгой езды с 403-й дороги вправо, как раз и доберешься до очаровательной старинной деревни Сен-Лу-де-Но (Saint-Loup-de-Naud), сохранившей и развалины старой оборонительной стены, и башню XV века, оставшуюся от еще более старого здешнего аббатства, от которого уцелела также трапезная XIII века. Деревушку эту издавна облюбовали французские и заморские писатели, художники и композиторы. Кто тут только не жил, кто не вдохновлялся здешними пейзажами и руинами! И озорница Колет, и великий Марсель Пруст, и его английская подражательница Вирджиния Вулф, и композитор Франсис Пуленк… Знаток Пруста справедливо предположит, что имя Робер де Сен-Лу появилось у Пруста не без здешних воспоминаний (ведь и другие имена в его романах напоминают о топонимике Бри). Однако вовсе не мимолетным (по сравнению с веками) пребыванием этих и других творцов славится прелестная деревушка, а потрясающим памятником старинной романско-готической архитектуры и скульптуры, церковью Сен-Лу (XI–XII веков). В интерьере церкви – удивительное сочетание элементов романской архитектуры и ранней, «примитивной» готики. Однако главным сокровищем строения являются чудом уцелевшие от XII века столбы-фигуры в проеме портала. Если фигуры недвижны, как и положено столбам-пилястрам, то лица их, вытесанные из грубого камня, живы и доносят до приблудного странника XXI века откровения, пережитые этими святыми, царями, подвижниками, апостолами – святым Петром, Моисеем, царем Соломоном, пророком Иеремией, царицей Савской и святым Павлом. Изваяния эти (один из самых славных памятников архитектуры на всем Французском Острове) относят к 1160 году, то есть примерно к тем же годам, когда был построен портал Шартрского собора (1145–1170), к переходной – от романского искусства к готике – эпохе. Искусствоведы считают, что здешний скульптор черпал вдохновение в шедевре Шартра, о чем свидетельствуют и изображение Христа во славе, окруженного ангелами и евангельскими символами на фронтоне, и Богородица с апостолами (крылатый святой Матфей, орел – святой Иоанн, лев – святой Марк и бык – святой Лука) на перемычке портала. Дивный этот портал избежал (в большой мере) не только разрушающей десницы веков, но и стараний новейших реставраторов. Только былые фрески не уцелели… А об этих лицах на портале современные французские авторы восхищенно пишут, что они донесли до нас весть об открывшейся им вечности.
В простенке под карнизом портала – великолепная фигура святого Лу и сценка из жизни этого канонизированного епископа: однажды драгоценный камень упал в его чашу во время богослужения…
Двинувшись из Сен-Лу-де-Но на юг, можно быстро добраться до лежащих среди лесистых холмов и разделенных лишь речушкой Оксанс селений Донмари и Донтийи (Donnemarie-Dontilly), главного центра района Монтуа, а также до цепочки тогдашних оборонительных сооружений (от которых с восточной стороны старинного, еще Каролингской эпохи, Донмари уцелели лишь Провенские ворота с башнями). В том же селении можно увидеть начала XIII века церковь Богородицы и старую, романского стиля колокольню второй, не уцелевшей церкви. К северу от церкви находятся старинное кладбище, окруженное двумя прогулочными галереями, и часовня XVI века.
В каких-нибудь трех километрах южнее Донмари дремлют руины бенедиктинского аббатства Прёйи, основанного в 1118 году. Башни, стены, увитые плющом, портал с башнями, старинная ферма… Мало что может сравниться с красотой подобных, по-настоящему древних, средневековых развалин, над которыми витает дух ушедших веков, да и не веков даже, а, можно сказать, тысячелетий…
Оторвавшись от созерцания руин аббатства и старинной фермы, мы двинемся на север к госдороге № 19 и, свернув направо, попадем в Рампийон (Rampillon). В 1432 году англичане сожгли здесь укрепления ордена тамплиеров, однако каким-то чудом уцелели статуи на портале внушительной здешней церкви Сент-Элиф, а также укрепленная башня. В церкви целы суровые надгробия тамплиеров и кавалеров Мальтийского ордена, ибо Командерия Мальтийского ордена располагалась здесь же неподалеку, в Круа-ан-Бри.
ПОСТРОЕННЫЙ В XVI ВЕКЕ, А ПОЗДНЕЕ РЕСТАВРИРОВАННЫЙ ЖЮЛЕМ АРДУЭН-МАНСАРОМ, ЗАМОК ГРО-БУА ХРАНИТ МНОГО ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ЭПОХЕ НАПОЛЕОНА
От Рампийона дорога приведет нас через разросшийся Нанжи (Nangis) и прочие селения Французского Бри к былой графской столице Бри-Конт-Робер (Brie-Comte-Robert). Здесь в 1170 году граф Робер, брат короля Людовика VII, построил себе замок, в котором отпраздновали свадьбу Филипп VI Валуа и Бланш Наваррская. Замок XII века сохранился, уцелели в былой столице и кое-какие другие остатки былой роскоши.
В начале XIX века мореплаватель Бугенвиль завез сюда розы, и в ближних деревнях (Вилькрене, Мандр-ле-Роз, Мароль-ан-Бри), по всей долине речки Ревейон, разводят розы в теплицах – до 30 000 000 роз. Конечно, по выращиванию этих цветов, украшающих жизнь, район все же уступает департаменту Сена и Марна или Лазурному Берегу, но на третье место во Франции он явно может претендовать. Чуть дальше к северу, в Буасси-Сен-Леже (Boissy-Saint-Léger), затаилась и французская столица орхидей (150 гектаров теплиц, 500 000 цветов в год), но еще прежде, чем мы до нее доберемся, стоит свернуть вправо – к замку Гро-Буа (Gros Bois). Это просторный замок с красивым передним парадным двором. Построенный в конце XVI века, он был усовершенствован герцогом Ангулемским, внебрачным сыном Карла IX. В Наполеонов-скую эпоху замок был великолепно обставлен маршалом Бертье (создавая свою новую, имперскую аристократию, Наполеон дал маршалу титул принца Ваграмского), и нынче в замке открыт наполеоновский музей, где среди прочих экспонатов можно увидеть две вазы из сибирской яшмы, подаренные русским императором Александром I маршалу Бертье во время их встречи в Тильзите.
Впрочем, задолго до маршала Бертье, еще в 1701 году, Ашиль де Арлэ де Соси, владевший замком, привлек к его реставрации прославленного архитектора Жюля Ардуэн-Мансара. С тех пор замок переходил из рук в руки, а перед самой революцией он принадлежал графу Прованскому, будущему королю Людовику XVIII.
При маршале Бертье в замке был устроен Зал баталий с восемью огромными полотнами, увековечившими (во всяком случае, в этих стенах) наполеоновские победы. Здесь же установлен бюст Победителя резца Кановы.
Именно в этом замке в последний раз перед своей отставкой, то бишь перед разводом с императором (3 декабря 1809 года), императрица Жозефина присутствовала на королевской охоте. В тот день на охоте было немало тогдашних знаменитостей: короли Саксонии, Вюртемберга, Вестфалии, Баварии, королевы Неаполя, Голландии и Испании, вице-король Италии – да кто ж их всех ныне помнит? В этом же замке заночевала 23 апреля 1814 года и отставная французская императрица Мария-Луиза по дороге из Рамбуйе в ссылку (к отцу в Вену). Последний из Ваграмских принцев, потомков Бертье, был убит лишь в 1918 году…
Поклонникам Наполеона в этом музее есть на что посмотреть и чему поклониться.
А если повернуть на запад от Нанжи…
Морман Бомбон • Шампо • Бланди-ле-Тур • Во-ле-Виконт
Трудно переиграть пройденный тобой жизненный путь, сколько бы ты ни повторял в часы бессонницы: «Вот не поехал бы тогда с матушкой в гости, знакомиться с будущей женой, – все было бы иначе. А как было отказаться?.. С другой стороны, как ни крути, сам во всем виноват…» Нет, жизнь переиграть трудно (разве только все сначала?), а вот маршрут будущего путешествия можно изменить когда вздумается – на любом повороте. Вот мы с вами только что проехали Нанжи, мчимся на северо-запад, к столице Бри – к Бри-Конт-Робер, и вдруг нам приходит в голову повернуть на запад, по 408-й департаментской или по другой какой-нибудь дороге, да вон и на карте есть развилок чуть севернее Нанжи, в Мормане. От Мормана идет на запад, даже, точнее, на юго-запад, 215-я департаментская дорога – кто нам с вами помешает на нее свернуть? Свернем…
Сам Морман (Mormant), кстати, тоже очень старая деревня, в ней красуется церковь, воздвигнутая в XIII–XV веках. Впрочем, из всех последних пятнадцати веков морманцы особенно часто вспоминают век XIX, гордясь тем, что 17 февраля 1814 года их войска дали здесь отпор наступающим русским и австрийцам. Так и пишут французские историки: «одержали победу». Однако после этой славной победы французы отступали под натиском русских и австрийцев аж до самого Парижа, где союзников радостно встретили их легкомысленные враги – парижане. В общем, Морман не стал французским Бородином. Зато на деревенских дорогах за Морманом найдешь немало старинных боевых крепостей, свидетелей всяких былых сражений. Ближняя из них – XVII века замок Бомбон, окруженный рвом, по которому бегут речные воды. Знаменитый маршал Фош даже устроил в этом замке генштаб осенью 1918 года. Это здесь он получил свой маршальский жезл за борьбу против немцев. Однако отметим, что успешно сыгравший в ту же пору на руку немцам (и получивший на это уже в 1917 году дотацию от немецкого генштаба) знаменитый В.И. Ульянов-Ленин жил здесь на даче, в бомбонском деревенском пансионе, гораздо раньше – с начала августа до середины сентября 1909 года, жил, как сообщают надежные источники, вместе с женой и тещей. Ленин вообще любил часто и подолгу отдыхать на курортах и на дачах, набираться сил, зная, что и за границей, и в будущем на родине ему предстоит жестокая борьба за власть. Впрочем, в Бомбоне Ленин не только отдыхал, но и боролся с различными уклонами в своей собственной партии (или фракции). Это ведь и была борьба за первенство, за власть. В Бомбоне Ленин разоблачал большевиков-«отзовистов» (они хотели, чтоб социал-демократы ушли из охаянной Лениным Третьей Государственной думы), а также своих близких «друзей», большевиков-«богостроителей» (тех, кто допускали отклонения от материализма, и даже существование Бога могли допустить – чистый идеализм!). Статья Ленина, бичующая «отзовистов» и «богостроителей», была напечатана в малотиражной большевистской газете «Пролетарий» 24 сентября 1909 года. Поскольку статья была написана по-русски, в Бомбоне и в целой Европе ее никто не читал. Читал ли ее кто-нибудь в России позднее, кроме оплаченных историков партии и подневольных советских студентов, сказать трудно, но приходится признать, что Ленин вынужден был так или иначе компрометировать своих грамотных соратников по партии, которые тоже могли в какой-то момент заявить о своих правах на власть. В истории философии Ильич разбирался слабо, так что статья его была, как обычно, просто грубая и ругательская. Но если было в писаниях Ленина что-либо новое, так это как раз и был их ругательский стиль, внедрившийся позднее в советскую журналистику (особенно доставалось в статейках Ленина мировой философии и ненавидимому Ильичем доброму «боженьке», да и вообще все, что стояло в стороне от его узких партийных задач, Ильич по-простецки называл дерьмом)…
Семья Ленина снимала в Бомбоне «домик с питанием» – дом № 12 по рю дю Мулен (Мельничной улице), на котором в 1970 году силами местной компартии была установлена мемориальная доска (не могу поручиться, что доску позднее не пришлось снять, как это случилось недавно на парижской улице Мари-Роз, ибо малолетние злоумышленники на протяжении десятилетий регулярно писали на этой ленинской доске слово из трех букв, что по-французски, вероятно, не так грубо, как по-русски, и означает просто «чудак на букву «м». Впрочем, как знать, может, именно эти юные злоумышленники и читали ленинскую статью, написанную в Бомбоне, иначе откуда бы они обо всем догадались здесь первыми и решились подтвердить в своих «граффити» догадки самых вдумчивых мемуаристов и лениноведов?
Деревня и замок Бомбон Ленину понравились. Неподалеку от деревни простирался лес Вильфернуа со своими тенистыми буковыми и ясеневыми аллеями. Конечно, часть лесного массива размером в 6000 гектаров была в частном владении и окружала крупнобуржуазные или аристократические замки, но и для мелкобуржуазных аллей общего пользования оставалось еще больше двух тысяч гектаров. Кстати, свой собственный (и весьма обширный) парк у Ильича появился лишь незадолго до смерти (он был отобран властью вместе с дворцом у вдовы убитого ленинцами благодетеля большевиков, мецената Саввы Морозова).
Супруге Ленина Надежде Константиновне деревня Бомбон и лес тоже нравились, но ей не нравились «отдыхающие» французские работяги, которые были проникнуты не пролетарским, а мелкобуржуазным духом. Вот как она вспоминала об этом:
«Среди пансионеров были мелкие служащие, одна продавщица из какого-то большого магазина моды… камердинер какого-то там графа и т. п. Любопытно было наблюдать за всей этой публикой, проникнутой мелкобуржуазным духом. С одной стороны, они были очень практичны, очень требовательны во всем, что касается питания и их мелких удобств; с другой стороны, они старались вести себя как настоящие господа».
В то время еще не существовало настоящих пролетарских домов отдыха. Впрочем, когда они появились, большевистские лидеры, так любившие пролетариат, отчего-то в них ездить не стали, а тут же создали свои, «закрытые» – крупнобуржуазные. Что же до российских «мелких служащих», продолжавших и после революции требовать «питания и мелких удобств», то В.И. Ленин, его супруга Н.К., Л.Д. Троцкий и лучшие их ученики тт. Дзержинский и Сталин быстро с ними разобрались, устроив для них образцовые концлагеря, восхищаться которыми ездили в Россию те самые зарубежные товарищи, которые и прицепили позднее мемориальную доску к дому № 12 на Мельничной улице в Бомбоне…
«Любопытно было бы наблюдать…» – скажем мы, слегка перефразируя Крупскую, как повели бы себя «мелкобуржуазные» продавщицы и прочие бомбонские отдыхающие, если б узнали, какими способами заработало пристойно-буржуазное ленинское семейство деньги на летний отдых. Достаточно было бы описать ограбление бандами Камо казенной почты, кровавые налеты на банки в Грузии, убийство Морозова и Шмита, шантаж их семей и смертельные угрозы всем, кто «встанет на пути» ленинских барышей, а также прочие уголовные способы «изъятия» сотен тысяч золотых рублей, поступивших затем на личный ленинский счет в банке «Лионский кредит». Равно как и способы «отмывания» краденых денег «товарищами», о котором так умиленно и подробно писала в своих мемуарах супруга вождя (писала, конечно, уже в почтенные годы, уже облеченная властью составлять списки запрещенных в России книг и авторов)… Ну вот мы с вами и уподобились Ильичу, который в умилительном Бомбоне, отвернувшись от цветущей красы полей и леса, восклицал с досадой: «Ах, как гадят нам, Наденька, эти «отзовисты» и «богостроители»!..»
Так что оставим эту не слишком большой от нас удаленности историю (которая, увы, кончилась большой кровью) и погрузимся в глубины французской религии, архитектуры и музыки. Небольшая местная дорога за окраиной Бомбона после очень краткого путешествия на запад приведет нас в старинную деревушку Шампо (Champeaux). Имя ее прославил знаменитый богослов и схоласт XII века, учитель, а позднее и соперник в богословском ораторстве злосчастного Абеляра (как вы, может, помните, молодой ученый Абеляр, пламенный любовник Элоизы, был оскоплен злодеями) архидьякон Парижа Гийом де Шампо. Это Гийом де Шампо еще в 1070 году основал здесь прославленный центр богословия, схоластики и церковной музыки, свидетельством которого дошел до наших дней этот сурового облика собор с высокой, чуть не тридцатиметровой, квадратной колокольней. Искусствоведы полагают, что строители XIII века были намерены еще возвести здесь шпиль, но, вероятно, недостаток средств им этого не позволил, а из шести старинных колоколов дошел до наших дней только один – Святая Мария – весом в 675 килограммов. Хотя средства, надо отметить, были отпущены архидьякону немалые, а для руководства здешним центром духовной музыки были призваны 23 каноника, коим помогали 15 капелланов, ибо в каждом из пролетов нефа был свой особенный хор.
Селение Шампо пользовалось многими привилегиями. Была в нем разрешена ярмарка, в середине XIV века был открыт лепрозорий, а в середине XV века и больница (Hôtel-Dieux, буквально: Дом Божий). Конечно, немало натерпелись бед здешние богоугодные учреждения и в Столетнюю войну, и в годы Религиозных войн, а пуще всего – в годы богохульной Французской революции, но счастливо уцелел собор, иными из своих архитектурных особенностей напоминающий собор Сен-Кириас в Провене, а чередованием толстых и тонких колонн в трансепте – собор бургундского города Санса (откуда и пришел в школу парижского собора Нотр-Дам сам великий Шампо).
Украшен величественный храм скупо, однако знатоки с одобрением отмечают капители трансепта и статуи короля и королевы в простенке портала. Некогда собор был покрыт изнутри богатой росписью, остатки которой еще проглядывают здесь и там, а над порталом была написана сцена «Поклонение волхвов».
В первой четверти XVI века были устроены в хорах собора 54 сиденья с высокими спинками, представляющие и ныне его отличительную особенность, а понизу шли скамеечки-«мизерикордии» (слово это означает «сострадание»), установленные из сострадания к престарелым братьям, многие часы проводившим в молитве. Голова молящегося оставалась над спинкой сиденья, так что и не видно было сзади, что прибег он к сострадательной этой скамеечке, а скамеечки были украшены искусной скульптурной резьбой. Сюжеты были выбраны резчиком не только из Священной истории, но также из жизни и «из головы», за что в конце XVIII века собор должен был лишиться этого своего украшения по строгому решению парижского архиепископа. Но поскольку и решения и архиепископы имеют тенденцию меняться довольно часто, бесценные эти скамеечки и поныне здесь. Попадете в Шампо, непременно осмотрите все 54 резные скульптуры на скамеечках и спинках сидений (там и птички, и львы, и многострадальный Иов, и святая Катерина, и еще много чего)…
Однако нам надо ехать дальше, потому что в каких-нибудь четырех километрах от Шампо ждут нас руины великолепного замка, да не простого замка, а замка с привидениями (меня же могучие руины, по которым воображение воскрешает великое прошлое, зачастую больше волнуют, чем новые бетонные новостройки, которые ничего не воскрешают в моей памяти, кроме былой тесноты и духоты). Замок, о котором зашла речь, называют Бланди-ле-Тур (Blandy-les-Tours), и чтобы сразу покончить с элементами туристической мистики, передам без утайки, что в ночь с 5 на б января (Королевская ночь) посещает эти руины сам Дюнуа, а 3 ноября в верхнее помещение башни (донжона) заглядывает обер-егермейстер (другими словами, главный охотник) короля Франциска I. Так как сам я достоверность этих важных сообщений не проверял, опровергать их не наберусь смелости…
Замок Бланди был построен на границе их владений виконтами Мелэна еще в XII веке. Именно тогда была воздвигнута башня, называемая Квадратной и служившая донжоном старому замку, а также вырыто и обустроено замечательное подземелье. Но по-настоящему этим замком занялись сами французские короли в XIV веке, осознав, что замок стоит на дороге, соединяющей бургундцев с их союзниками-англичанами. Вот тогда-то и было построено все то, что предстает ныне в качестве вполне устрашающих руин настоящего оборонительного замка. К XVI веку замок утратил свое оборонительное значение, и новые его владельцы из рода Орлеан-Лонгвилей, добавив к нему кое-какие постройки в стиле Ренессанса, поселились в нем надолго. Но в XVIII веке новый хозяин замка маршал де Виллар, он же владелец замечательного замка Во-ле-Виконт, утратил всякий интерес к былой крепости и уступил ее одному из своих фермеров для использования в сельскохозяйственных целях. Сейчас замок перешел в ведение муниципалитета, который его помаленечку восстанавливает. Человек, питающий пристрастие к средневековым крепостям, уже и сейчас может увидеть здесь кое-что любопытное.
У донжона, от которого теперь открывается доступ к памятнику, сохранился колодец, который носит имя королевы Бланш Кастильской. Связано ли это с посещением замка королевой, сказать трудно, но сам донжон 35 метров в высоту, 12 метров в диаметре имеет у своего основания стены толщиной в три метра. Донжон пятиэтажный, и на третьем этаже сохранился великолепный камин XIV века. На верхней же площадке удивленный посетитель видит процарапанную стрелку Север – Юг (разве у них уже были компасы?). Еще больше удивляет осведомленного посетителя наличие уборных – по одной на каждом этаже донжона. Это уже, надо признать, удобства на уровне послевоенного ялтинского Дома творчества писателей.
Немало интересного сулит туристу и посещение прочих башен (их пять), но человек, предпочитающий жилищное или даже церковное строительство военному, может отправиться в здешнюю церковь Сен-Морис, где сохранился резной складень стиля Людовика XVI и две очень старые картины голландской школы.
Тем, кто не слишком будет занят в сентябре, рекомендую съездить в Бланди в третье воскресенье этого чудного месяца – в день Святого Маврикия. В этот день в местечке проводится ярмарка «по-старинному», и традиция этой ярмарки впрямь не нова (ярмарка проводится здесь с 1322 года). Старинная ярмарка в глуши, на краю страны Бри, – наверняка это вас потешит…
А мы поспешим дальше, ибо всего в каких-нибудь семи километрах от Бланди расположен еще один замок…
«То дом отдыха Ильича, то церкви, то замки», – проворчит самый утомленный из моих попутчиков, которого я сбил с прямой дороги на Париж. «Да, но это не просто замок! – воскликну я, мобилизовав весь свой запас энтузиазма. – Это всем замкам замок!» И вот тут уж мне придется в меру своих слабых сил объяснять, какой это замок…
Любой странник-европеец (или просто петербуржец) навидался дворцов, рожденных подражанием Версалю. Но в подражание чему сам Версаль появился на свет Божий? А вот как раз тому самому замку-дворцу, до которого нам сейчас рукой подать. В подражание великому Во-ле-Виконту. Это отсюда пошел гулять по свету стиль Людовика XIV.
Об этом замке, о трагедии его владельца-вдохновителя, о роковом летнем празднике 1661 года, о каждом из участников тогдашнего торжества и тогдашней драмы написаны во Франции книги и пьесы, поставлены фильмы. Даже те, кто книг не читает (таких в мире становится все больше), все же уделяют хоть часть жизни телеэкрану, так что они тоже слышали эти имена – Людовик XIV, Кольбер, Фуке, Ватель, Ле Нотр, Ле Брен, Ле Во, Лафонтен… Увы, никого из этих смертных давным-давно нет среди нас. Равно упокоились друзья и враги, победители и побежденные. Но жив спасшийся чудом замок Во-ле-Виконт, живы террасы парка, созданного молодым еще Ле Нотром (Le Nôtre), бьют фонтаны, красуются просторные конюшни, украшает замок живопись Ле Брена (Le Brun), высится массивный купол, радует душу гармония пропорций – колонны, фронтоны, высокие крыши (о, бессмертный Ле Во!).
Замку и парку Во-ле-Виконт повезло больше, чем Версалю, им повезло случайно, но повезло безмерно. Об этой удаче мы расскажем в свой срок – и об их спасителях расскажем тоже, но начнем все же с создателя. Можем скромно называть его заказчиком и спонсором, ибо он все-таки не был творцом, но в наше время уже научились ценить и заказчиков со вкусом, научились ценить и спонсоров и продюсеров (Дягилев ведь тоже не был ни композитором, ни дирижером, ни постановщиком, ни танцовщиком – а куда без Дягилевых?).
Заказчика этого национального шедевра Франции звали Никола Фуке, и было ему ко времени начала строительства едва за сорок. Родился он в богатой и знатной судей-ской семье, сам стал генеральным прокурором парламента, к 1653 году главным интендантом финансов и ближайшим сотрудником Мазарини, а к 1659 году, можно сказать, министром финансов целой Франции. В 1656 году он и задумал постройку, которая, по его понятиям, одна только и могла соответствовать его высокому положению и огромному его богатству (подобно покровителю своему Мазарини, он считал, что удачные его финансовые операции должны и автору их приносить доход). О положении и богатстве хозяина свидетельствовал и девиз на фронтоне его нового замка «Кво нон асцендер?» (Куда уж выше? Кто встанет выше?)…
Однако богатство и желания еще не все для заказчика. Нужны замысел, вкус, чутье в выборе мастеров. Это ведь сам Фуке выбрал из всех архитекторов Луи Ле Во, из всех художников – Шарля Ле Брена, из всех пейзажистов-садовников – Андре Ле Нотра, которым он дал свободу творить на шести тысячах гектаров в полную меру их таланта. Ну и рабочей силой их обеспечил – 18 000 работяг в течение пяти лет воздвигали замок и парк, «преобразуя природу», снося старые деревни (их тут стояло три) и, как любили петь в наше время, «меняя течение рек». Фуке даже мануфактуру по производству ковров специальную построил в Менси, чтоб замок свой увешать коврами (ту самую мануфактуру, что легла потом в основу Королевской мануфактуры гобеленов в Париже). И обошлось это ему во много миллионов в переводе на новые деньги…
К лету 1661 года замок и парк были готовы к приему гостей. И конечно, в первую очередь главного гостя – молодого, недавно взошедшего на трон Людовика XIV, еще не ставшего «солнцем», на котором не бывает пятен.
И сам хозяин замка, и его мажордом Ватель, и его друзья Лафонтен и Мольер, и многие сотни артистов, мастеров кухни, мастеров фейерверков, мастеров фонтанов и просто слуг лезли из кожи, чтобы превратить это новоселье в сказочную феерию в сказочном парке (в зеленом театре играл для гостей театр Мольера, и Лафонтен пел своих «Нимф де Во», и феерические огни переливались в струях фонтанов и водопадов, и звучала музыка Люли, а мажордом Ватель расстарался, чтобы кавалеры и дамы едали «не на серебре – на золоте» и чтоб такое ели, что нам с вами не снилось…).
ПРЕКРАСНЫЙ ЗАМОК ВО-ЛЕ-ВИКОНТ БЫЛ ПРЕДТЕЧЕЙ ПРОСЛАВЛЕННОГО ВЕРСАЛЯ. ЗНАЛ ЛИ ЕГО ХОЗЯИН, ЧТО ЭТОТ ШЕДЕВР ВВЕРГНЕТ ЕГО В ТЕМНИЦУ ДО КОНЦА ДНЕЙ?
Таким был прекрасный августовский вечер 1661 года, оказавшийся трагическим для его хозяина. Король был в ярости, он не остался ночевать в специально для него построенной Спальной Короля и уехал в Фонтенбло. Вполне возможно, что он был ослеплен и унижен всем этим богатством, роскошью, блеском и вкусом (он ведь забрал к себе потом всех создателей дворца и парка, забрал даже статуи, белевшие на аллеях), унижен тем блеском и вкусом, которые продемонстрировал один из его подданных, да еще и распорядитель его королевских финансов. Но скорей всего, ярость его была заранее возжена наветами врагов и конкурентов Фуке, в первую очередь Кольбером, так что ликующий бедняга Фуке попал в западню.
Но есть во всей этой катастрофе еще и другое, едва ли не главное объяснение. Как сообщает Бриен, на заседании Совета в марте того же 1661 года король сделал многозначительное заявление о том, что отныне все в этом театре пойдет иначе. Если б не тогдашнее пристрастие к театрализации не всегда приглядной действительности, король, может, сформулировал бы то же самое попроще – так, как, к примеру, объяснил своей собственной мафии товарищ Ленин на похоронах своевременно отправленного к предкам товарища Свердлова, или, скажем, объявлял (своей куда более симпатичной компании) турецкоподданный О.И. Бендер: «Командовать парадом буду я!» Король дождался власти, и теперь он должен был привести всю свору к смиренному повиновению и унизительному лизоблюдству (чего король и достиг в Версале).
Так или иначе, это был последний счастливый день в жизни всемогущего Никола Фуке. Уже назавтра начато было следствие по делу этого главного финансиста Франции, а еще три недели спустя явился в замок Во-ле-Виконт вездесущий д'Артаньян (не романный, а настоящий), чтобы арестовать Фуке и увезти его в крепость. Все его имущество было конфисковано (только замок сумела забрать в качестве компенсации за приданое мадам Фуке, и это ее сын стал позднее владельцем замка, виконтом Во и Мелэна). Суд присудил Никола Фуке к трем годам изгнания, но король в ярости ужесточил приговор, повелев упрятать его в темницу до конца жизни!
ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ ЗАМКА ВО-ЛЕ-ВИКОНТ ЗАЛИЛА ЯРОСТЬЮ ГЛАЗА МОЛОДОГО КОРОЛЯ
Жестокая и резкая перемена в судьбе счастливого строителя замка Во-ле-Виконт вошла в легенды. Его имя называют иногда, гадая о том, чей лик был скрыт под «железной маской» в темнице пьемонтской крепости Пиньероль и в парижской Бастилии. Знатоки, впрочем, указывают, что Фуке прожил в заключении всего 19 лет, а таинственная «железная маска» – 42 года. Так что, вероятней всего, маску носил не бедняга Фуке…
Теперь обратимся к судьбе самого замка, которая сложилась довольно счастливо на фоне всех перемен, неистовства и разора, бушевавших во Франции на протяжении истекших трех с половиной веков.
В начале XVIII века (еще точнее, в 1705 году) замок стал владением доблестного маршала Виллара, одержавшего славную победу в войне за Испанское наследство, после которой маршал и сделался герцогом Во-Вилларом. Удалившись с молодой (лет на тридцать его моложе) супругой от двора, маршал вел в замке вполне мирную идиллическую жизнь в окружении блестящего общества. Вольтер подолгу гостил у маршала: места в замке хватало всем. К счастью, маршал не производил в замке никаких художественных усовершенствований, только заказал несколько новых батальных картин, чтобы вспоминать о былых подвигах.
После смерти маршала замок приобрел знаменитый министр иностранных дел короля Людовика XV герцог Шуазёль-Прален. Эрудиции старого дипломата замок обязан обретением библиотеки, а дипломатическим талантам одной из герцогинь Прален – и своим спасением. Ибо времена наступили страшные – Великая французская революция, родная мать Великой Октябрьской. Правда, у герцога и его наследников были добрые отношения с местными жителями, но в дни всеобщего безумия все нормальные отношения прекращаются (только разорвав на куски своего добряка мэра, жители Труа узнали, что он все имущество завещал любимому городу). Короче, из центра революционной мудрости города Парижа пришел в 1793 году приказ очистить за восемь дней от всей контрреволюционной рухляди помещение замка и приступить, не медля, к его уничтожению. Герцогиня Прален поняла, что в этой суматохе главное – выиграть время. Она сообщила в Париж, что в ее собрании есть ценные полотна Ле Брена, которые она хочет завещать Нации, только ей, любимой, и никому больше. В Париже задумались, и Конвент принял новое решение, на сей раз менее искрометное: решили послать в Во-ле-Виконт Комиссию по делам искусств. В комиссии, видимо, оказались и знатоки искусств, которые подтвердили высочайший художественный уровень замка и парка, высказавшись против их уничтожения. Замок был спасен, но стал мало-помалу приходить в запустение.
А полвека спустя замку Во-ле-Виконт выпала новая удача. Промышленник Альфред Сомье, увидев это поместье, был поражен его красотой и решил посвятить остаток своей жизни его восстановлению. К счастью, у него оставалось еще достаточно лет жизни, достаточно денег, достаточно вкуса и такта, чтобы привлечь к реставрации замка хорошего архитектора. В 1919 году месье и мадам Сомье смогли представить вниманию широкой публики великолепно отреставрированный парк Ле Нотра (восстановленный по проекту Израэля Сильвестра).
Потомки супругов Сомье, а потом и новый владелец замка граф Жан де Вогюэ добились для Во-ле-Виконта охранной грамоты и звания «исторического памятника». Вот вам и подлинная история со счастливым концом (может, бедняга Фуке тоже сможет ее услышать…).
Чтобы толково описать все, что можно увидеть в этом замке, нужна отдельная книга, написанная (и хорошо бы вдобавок вразумительно) настоящим историком искусств. Я лишь могу (исчерпав свои «охи» и «ахи») дать интендантский перечень сокровищ: менсийские ковры по рисункам Ле Брена в вестибюле первого этажа, над лестницей и на лестничной площадке – обтянутая кордовскою кожею квадратная комната с портретом герцогини де Виллар (работы Койпеля), галерея с портретами всех Сомье, салон муз с картинами Ле Брена, интимная комната со «Сном» Ле Брена, салон Геркулеса (бедняга Фуке считал знаменитого силача символом своей беспредельной власти), большой салон с бронзовым Людовиком XIV, библиотека в стиле Людовика XIV, Королевская комната, которой когда-то пренебрег король, комната Лафонтена, сохранившего верность узнику Фуке, с бюстом работы Гудона, а в вестибюле второго этажа – картины Пуссена и Веронезе, комнаты месье Фуке и мадам Фуке, галерея Виллара, бюст Вольтера, столовая в стиле Людовика XIII и картины, картины, картины…
Что до меня, то я из всех чудес выберу сады, или парк, раннее творение великого Андре Ле Нотра, который и сам заслуживает нескольких слов. Он был сыном знаменитого Жана Ле Нотра, садовника королевы Марии Медичи, и поначалу вовсе не собирался идти по стопам отца. Андре собирался стать живописцем, брал уроки у великого Симона Вуэ. Знатоки считают, что уроки эти пошли ему на пользу, ибо садовые творения его отличает особая чуткость к композиции и гармонии. Но главным творением его были сады «во французском вкусе», или «французские парки». Оправдание этой манере обстригать все сверху донизу Андре Ле Нотр находил в своем стремлении представить архитектурное строение (дворец, замок) во всей его чистоте, нетронутости, «расчистить» все подходы, сохранив целостность его массы и линий. Для этого он создавал свои длинные аллеи, не только открывавшие лучший вид на здание, но и как бы вписывавшие его в некую декорацию, подобную театральной, уводящую к горизонту, далеко за пределы дворца. Вид аллей парка из окон дворца представлял собой яркое, необычное зрелище, гармонирующее с интерьером и таящее немало чудес… Таковы были главные принципы Ле Нотра, и для их воплощения этот творец французского сада не останавливался перед кознями натуры. Деревья и кустарники надо было преобразить, обрезать, причесать, обстричь, создать из них нечто, весьма удаленное от первоначального их облика, от «натуры». Для достижения своей цели пейзажист не останавливался ни перед какими трудностями, ни перед каким сопротивлением натурального пейзажа. Художник-пейзажист мог срыть холм и, напротив, создать склон нового холма на горизонте, убрать прелестную речушку (в данном случае ее звали Анкёй) в каменные стенки канала. Иногда мне думается, что неудержимая страсть французов к социалистическому насилию над естественными законами развития общества и природы, ко всякого рода социалистическому «планированию» идет из смутно различимого далека. Так или иначе, Андре Ле Нотр и его Во-ле-Виконт, а за ним и его Версаль задали моду всей монархической Европе, а потому, входя в здешний (так счастливо восстановленный) сад, мы как бы припадаем к истокам…
Вот два партера Первого сада – стриженые кустарники, песок, толченый кирпич и даже измельченный уголь (это было очень модно), очертания восточного ковра («ковер Туркерии»), келлеровская статуя Дианы, бассейн Короны, младенцы в корзинах, изъятые в свое время в Мезоне, «Похищение Европы» Шапю и другие статуи, которые пришлось ставить вместо тех, что бесцеремонно вывез Людовик XIV…
Главная аллея, упираясь в перпендикулярную к ней ось, дает место для водяной клумбы, окруженной четырьмя статуями XVII века. А перпендикулярная аллея выходит к фонтанам и нависающим над ней бассейнам. Под ними и играла труппа Мольера в тот памятный вечер 17 августа 1661 года.
А еще ниже – скульптурные группы тигров и львов, тщетно предупреждавшие хозяина замка, что вокруг него хищники: зазевался – и съели… Еще ниже – лужайка, навеянная греческими мотивами, потом группа Тритонов и, наконец, квадратный бассейн «Зеркало», отражающий в своей глади гроты южного дворцового фасада перевернутыми. А дальше – малые водопады, и большой канал, и гроты по берегам былых речек Анкёй и Тибр, и замыкающая перспективу копия Геркулеса Фарнезе, отлитая из свинца и, конечно, позолоченная.
Вообразите все это в сиянии утренних лучей, и в сумерках, когда статуи белеют так загадочно, и в феерическом мерцании фейерверков, и с подсветкой, в которой французы нынче достигли большого мастерства…
Вдобавок для утехи и для просвещения тех, кто не истратит всей способности восхищаться, в былых конюшнях замка открыт музей старинных экипажей, тех самых легких колясок XVII века (открытых и закрытых, имеющих множество видов и названий, так затрудняющих нам понимание старых романов), в которых выезжали на аллеи Булонского леса подышать свежим воздухом (он еще был тогда действительно свежим)…
В музее есть и старинные виды «общественного транспорта», скажем омнибусы, есть и легкие автомобильчики-«фаэтоны», в которых можно прокатиться. Иные из них сохраняют специальные чехлы для дамских кринолинов.
Дети, посещающие парк, катаются в колясках, в которые запряжены пони, но могут передвигаться также по парку с родителями в старинных английских дилижансах и почтовых каретах…
Как нам с вами все-таки повезло, что не все мудрые решения революционного Конвента приводились в исполнение немедленно. Что уцелел Во-ле-Виконт…
В кольце ближних пригородов
Недолгая езда – долгая память
Ближние пригороды Парижа были свидетелями великих событий французской истории и оберегают, конечно, следы и самих событий, и их героев, однако облик этих некогда не слишком многолюдных, живописных, манивших горожанина на лоно природы пригородов и селений меняется так стремительно, а население и промышленность растут в них так бурно, что нужно быть настоящим следопытом, чтоб отыскать порой былую прелесть природы или шедевры искусства в тесноте всех этих разномастных вилл, хрущоб и новостроек. Сдается, однако, что все эти следы, и прелести, и шедевры стоят наших поисков.
Есть, впрочем, и еще одна причина, которая может подвигнуть нас на подобные вылазки в предместья Парижа. С начала 20-х годов XX века именно здесь селились русские изгнанники-эмигранты: здесь им легче было найти жилье, да и стоило оно дешевле, чем в Париже, а для эмигрантов, все потерявших на родине, это было немаловажно. Так что постоянными обитателями парижских предместий становились в ту пору многие славные люди России. О них мы, конечно же, не забудем в наших странствиях…
Клиши
Клиши Аньер • Курбевуа • Нёйи-сюр-Сен • Булонь-Бийанкур • Нантер • Кламар • Ванв • Исси-ле-Мулино • Малаков • Медон • Фонтенэ-о-Роз • Монтрёй • Дагобер с Гоматрудой • Салон мадам Рекамье • Генри Миллер и шофер Женя
Чего греха таить, не так уж много осталось в королевском (некогда меровингском еще) Клиши (Clichy) от былой красоты и былого малолюдства. Так что название романа знаменитого американского писателя Генри Миллера «Тихие дни в Клиши» звучало уже и много лет назад ностальгически (чего, впрочем, и хотел Миллер…).
Известно, что в 623 году король Клотер II (король франкского королевства Невстрии, а одно время и Остразии) праздновал на здешней вилле свадьбу своего сына Дагобера с юной Гоматрудой, а лет через пять даже собирал в местном соборе Сент-Мари-де-Клиши какой-то важный совет. Здесь стоял (между берегом Сены и нынешней улицей Ланди) в XVI веке замок, однако из всех городских памятников уцелел на той же улице Ланди (дом № 7) особняк XVII века, который снимал с 1796 года то ли для своих нужд, то ли без нужды богатый банкир месье Рекамье. На портале и фасаде особняка и нынче остались изображения Вакха, пантер, амуров и музыкальных инструментов. А раньше еще и парк, окружавший дом, спускался до самой Сены, так что было здесь и тихо, и красиво, и от города недалеко. Банкира это все, впрочем, мало трогало, зато места эти понравились его жене, прославленной Жюльетте Рекамье, которую впервые сюда привезла (здешней станции метро еще не было, и ехали они в экипаже) знаменитая писательница, одна из главных муз времен Империи, Жермена Неккер, дочь банкира Неккера и жена шведского посла, – мадам де Сталь. А год спустя мадам Рекамье уже принимала здесь 25-летнего Люсьена Бонапарта, младшего брата Наполеона, и прочее весьма заметное общество – Моро, Жюно, Монморанси, Евгения де Богарне, Тальма, Вестриса, а также блистательных актеров и писателей. Сама же мадам Рекамье до самого Санкт-Петербурга, до самой Камчатки славилась своими салонами, своей обходительностью и своим безупречным вкусом. В общем, еще и до американского гуляки-гения Генри Миллера бывали в Клиши знаменитые люди. Да и в 20-е годы Генри Миллер тут был не единственным иностранцем. Скажем, русских эмигрантов после октябрьской катастрофы 1917 года было в Клиши полным-полно. В городе Пуатье преподавала в университете выросшая в Клиши профессор русской литературы Элен Менегальдо, которая рассказала в выпущенной ею книге о своей русской семье – об отце и его братьях, бывших до войны таксистами. В ту пору в Париже и пригородах было больше трех тысяч русских шоферов такси.
Французская молва представляла чуть не всех русских таксистов великими князьями, которые еще недавно секли крестьян в своих поместьях, а нынче вот… Но хотя чаще все же шоферили по большей части молодые поручики и есаулы, князья с генералами и впрямь встречались иногда за рулем. Шоферили начальник I отдела «Русского Общевоинского союза» генерал Иван Эрдели и адмирал Старк, шофером такси был бывший кавалергард из старейшего русского рода князь Юрий Ширинский-Шихматов. Шоферская жизнь, хоть и предоставляла минимальную свободу, которой был лишен работяга у заводского станка, была чревата также и трудностями, и унижениями. Недаром именно в головах двух интеллигентных таксистов – Ширинского-Шихматова и Казем-Бека – зародились столь сходные экстремистские, профашистские и прокоммунистические идеи протеста, которые в 1923 году привели к созданию младоросской партии. Юрий Ширинский-Шихматов погиб в войну в нацистском лагере, зато Александр Казем-Бек, не сумев договориться с нацистами, нашел приют у их конкурентов – у советских разведчиков. Иные же из таксистов попроще (вроде Вадима Кондратьева) и без всяких теорий стали агентами НКВД.
Элен Менегальдо приводит в своей книге воспоминания своей матери, Дианы Пашутинской, жены парижского таксиста:
«Компания G-7 и еще одна (у которой были желтые такси) высоко ценили русских: они всегда сдавали в бюро находок все, что найдут в машине, и никогда на них не было жалоб, и еще они умели писать, чему не все французы в ту пору были обучены. Клиенты тоже предпочитали русских – воспитанных, честных работяг, не вымогавших чаевые. За рулем можно было видеть бывших адвокатов, прокуроров и врачей. Наш друг Саша Градов в человеческом плане был просто персонаж замечательный, бывший военный атташе русского посольства в Париже. Он был очень образованным человеком, говорил на пяти языках, сидел за рулем, как все. Когда он умер, французское правительство вспомнило о нем и послало на его похороны какого-то министра, а до того его жена весь Париж обегала, искала больницу, куда б его приняли. Но большинство таксистов были все же офицерами. И совсем не все были бывшие аристократы, как утверждают, было много казаков, но среди них были и офицеры, из их собственных полков.
…В то время почти не было частных машин. Богатые дамы делали все покупки на такси, потом вечерние выходы тоже на такси – в театр, в кино, в ресторан, тогда ведь даже друзей приглашали на аперитив – в большие кафе на бульварах. Квартиры были маленькие, так что всё не дома. Вечером из театра возвращались на такси. А потом стало труднее, перестали брать… И еще было много «халявщиков»: скажут подвезти к магазину и подождать, а сами удерут через пассажи… 1934–1936 годы были ужасными. Была забастовка, которая продолжалась целый месяц (кажется, в 1936-м), чтобы был твердый аванс. А при Блюме стоимость жизни упала, райское было время для тех, у кого была работа, конечно… Часто бывали споры с французскими шоферами… И простые французы в массе были настроены против таксистов. «Белые русские». А рабочие были на сто процентов коммунисты, они были очень враждебно настроены».
Упомянутый мной выше американский писатель Генри Миллер жил в конце двадцатых годов в Клиши (на авеню Анатоля Франса) и был соседом братьев-таксистов Пашутинских. В ту пору молодой веселый американец Генри нередко испытывал материальные затруднения, так что он не раз появлялся у братьев Пашутинских, чтобы перехватить «пару копеек». Из троих братьев он ближе всех сошелся с молодым Евгением, который вел почти такой же разгульный образ жизни, как и сам Миллер. Шли разговоры о том, что во время одной из их эскапад веселый Женя спас жизнь веселому Генри. Потом у себя на родине Миллер стал знаменитым писателем и описал свою тогдашнюю жизнь в романе «Тихие дни в Клиши». А после войны Генри Миллер решил разыскать русских друзей своей бурной юности. Это было не так просто, и эти свои поиски Генри Миллер описал в рассказе про апельсины Иеронима Босха. Генри отыскал Евгения, и позднее французская печать опубликовала фотографию, запечатлевшую встречу двух постаревших друзей…
Аньер
Церковь Сент-Женевьев Собачье кладбище • Злоключения купринского кота • Эмигрантский Аньер • Казаки • Младоросское искушение • Графиня Мария Толстая и аньерский приход
Как ни трудно в это поверить, но до самой что ни на есть эпохи Реставрации нынешний многотысячный Аньер (Asnières), что лежит в большой излучине Сены к северо-западу от Парижа, оставался крошечной деревушкой, которая неудержимо влекла к себе любителей тишины и природы. Здесь любила проводить свои дни принцесса Клевская, а в 1753 году маркиз д’Аржансон велел архитектору Мансару де Сагону построить тут для него замок, фасад которого вы можете и нынче созерцать на Замковой улице (рюде Шато, № 89). Здешняя церковь Сент-Женевьев (улица Кардинал-Вердье, № 2), несколько расширенная в 1931 году, сохраняет многие изначальные части строения (XVIII век). Монумент же, торжественно воздвигнутый на вокзальной площади Аньера в 1982 году, изображает вездесущего министра-карьериста, писателя Андре Мальро в обществе самого генерала де Голля.
Однако самым оригинальным учреждением нынешнего Аньера является, конечно, удостоившееся особых страниц в русской эмигрантской литературе собачье кладбище близ моста Клиши, на былом Острове Опустошительниц. У писателя Александра Куприна, до самой «потери сознательности» жившего в эмиграции в Париже (а в бессознательном уже состоянии с почетом возвращенного на родину), была любимая кошка Ю-ю, которая после его кончины не была «зарыта, как собака», а похоронена вполне почтительно на собачьем кладбище в Аньере, где, кстати, и собак хоронят по-людски. И жизнь симпатичной кошки и ее похороны описаны Куприным в двух рассказах – «Ю-ю» и «Барри». Впрочем, допускаю, что в двух этих рассказах описаны разные кошки, а ленинградская публикация первого из рассказов по причине стыдливых купюр проливает свет скорее не на жизнь животных, а на жизнь подсоветских человеков.
В рассказе «Ю-ю» описана любимая кошечка Куприна (который вообще любил животных и много писал о них):
«Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыкая, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом… И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей…»
В рассказе немало страниц посвящено красоте и уму этой кошки, ее дружбе с детьми и истории ее хозяев, попавших перед эмиграцией в первую, еще для них не смертельную (но угрожавшую уже голодной смертью) заваруху Гражданской войны. Рассказ кончался тем, что кошку пришлось отдать одному из мешочников, у которых хозяева кошки выменивали продукты питания на одежду, уцелевшую от лучших времен:
«Вот и все про Ю-ю.
А теперь у нас в Париже живет кот-воркот, бархатный живот…»
Рассказ Куприна был напечатан в его сборнике «Новые повести и рассказы», вышедшем в Париже в 1927 году. К 1938 году состояние здоровья Куприна сильно ухудшилось. По свидетельству знавших его в ту пору, он не узнавал даже близких людей. Жить семье было, конечно, трудно. Однако оказалось, что и в этом виде писатель мог сгодиться для операции по «добровольному возвращению знаменитых людей на родину». Операция эта, которую аж до самого 1990 года (когда имела место «репатриация» девяностолетней Одоевцевой) осуществляли работники советского посольства в Париже, была задумана некогда как одно из сокрушительных свидетельств торжества советского строя над всяким другим, несоветским. Вот и повезли в 1938 году беспамятного Куприна в тогдашний Ленинград. А там ему дали бесплатное жилье, деньги и даже стали что-то печатать. Пионерский журнал «Костер» выбрал для публикации совсем, казалось бы, безобидный рассказ про кошку Ю-ю. Однако при публикации оказалось, что и в этом рассказе не все пролезает в узкие ворота цензуры: сама кошка пролезла, но не пролезали «мешочники», свидетельствовавшие о пореволюционных «неполадках в снабжении», о которых лучше было бы не знать детям. Рассказ был сильно порезан редакторами-цензорами. В эпоху робкой послесталинской «оттепели» в 1958 году рассказ был снова напечатан – в пятом томе шеститомного собрания сочинений Куприна. Редакторы даже решились восстановить два куска, вырезанных в 1938 году трусливым журналом, но только мелким шрифтом, в конце тома, в примечании (купюры про тех же злокозненных «мешочников», приютивших кошку). Однако дальше этого «оттепельная» храбрость могучего московского издательства не пошла. Рассказ напечатали в кастрированном костровском варианте, в котором бедную кошку пришлось – для поддержания сюжета – укокошить:
«Вот и все про Ю-ю.
Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет…»
В конце концов, читателям, и юным и взрослым, «оттепельная» свобода разрешала уже знать, что от старости все же помирают (но только «от старости», а не от голода и революционного бардака).
Более того, в те нежные «оттепельные» годы нельзя было писать (как и еще лет сорок спустя нельзя было), в каком состоянии привезли бедного Куприна на родину. Так что «оттепельный» литературовед недрогнувшей рукой написал в научном своем комментарии:
«В 1938 году, после приезда в СССР, писатель переработал рассказ, значительно сократил его и опубликовал в журнале «Костер» № 4».
Легко догадаться, что беспамятствующего Куприна гуманная и перепуганная редакция по столь мелким поводам, как «переработка» и «значительное сокращение», даже и не беспокоила…
Пора, однако, покинув собачью жизнь тогдашних редакторов и собачье кладбище Аньера, перейти к жизни обитателей городка. Прежде всего русских, которых было здесь до войны немало.
Однажды мне в руки попалась изданная приходом храма Христа Спасителя в Аньере скромная брошюрка, в приложении к которой был дан список живших в городке основателей и будущих прихожан аньерского православного храма, подписавших просьбу на имя префекта полиции Парижа о разрешении храма: граф Граббе, герцог Лейхтенбергский, князь Чавчавадзе, граф Бенигсен, и еще, и еще… Список этот отражал социальный уровень русского населения городка, а самое желание создать еще один православный храм, как и намерение выпустить к 25-летию его создания особую брошюру, которая запечатлела бы для потомства память о добрых делах прихода, отражали некий подъем веры (его называли здесь истинным православным ренессансом), некий взлет духовной жизни и общественной активности этой уникальной (другой такой, пожалуй, и не случалось в эмигрантской Франции) пореволюционной русской диаспоры, равно как и ее неудержимое стремление к «гласности» (да какая же еще эмигрантская колония выпускала когда-нибудь во Франции десятки, и даже сотни, газет, журналов, бюллетеней, альманахов и книг на родном языке – для своих. В Аньере под руководством энергичного отца Мефодия Кульмана даже выходил свой журнал «Вечное», было даже издательство с тем же названием (мечтал ли о такой судьбе Аньер до русского нашествия?)
Брошюрку об аньерском приходе подарила мне как-то на Пасху бывшая аньерская прихожанка, а позднее игуменья маленького православного монастыря, что приютился неподалеку от леса От, где я обитаю большую часть года (на самой границе Бургундии и Шампани). Вернувшись из Бюси-ан-От в свой пустынный домик на лесном хуторе, я без особой надежды открыл юбилейную брошюрку, подаренную матерью Ольгой, и, честно сказать, зачитался: какие там были люди, какие судьбы…
Вот граф Адам Павлович Бенигсен, женатый на знаменитой красавице Феофании Владимировне (урожденной Хвольсон). Один из прихожан, князь Л. Чавчавадзе, вспоминает в брошюрке зиму 1931 года, когда прихожане оборудовали свою церковь: «Гр. Бенигсен писал иконы, расписал иконостас… помогали ему сыновья, а жена шила облачение на престол и аналой, вышивала бисером хоругви. Небольшая их квартира превратилась в настоящую мастерскую, где до глубокой ночи кипела работа». Кстати, о сыновьях. Сын Адама Павловича Александр родился в Петербурге в 1913 году и был увезен (через Эстонию и Турцию) в эмиграцию шестилетним мальчиком. В минувшую войну стал героем Сопротивления, был награжден Военным крестом и медалью Сопротивления, войну закончил в чине капитана. Позднее стал историком, профессором, жил в Турции, был специалистом по русско-тюркской истории и истории ислама, преподавал в Школе Высших штудий в Париже, читал лекции в Чикагском университете, незадолго до смерти издал в Париже книгу на русском языке о мусульманах в СССР.
О графе М.Н. Граббе вспоминал аньерский старожил А.А. Ста-хович. Он вспоминал, как в 1925 году в Аньер «перекочевала из Югославии дружная, многочисленная лейб-казачья семья», и у русских появилась мысль о создании в Аньере православного храма. Дело оказалось нелегким, однако «прошел еще год, другой, на аньерском горизонте появилась красочная фигура последнего Наказного Атамана войска Донского, вскоре затем избранного зарубежным казачеством и Войсковым Атаманом, гр. Михаила Николаевича Граббе». Вот тут-то «все вдруг преобразилось». Граф Граббе (еще не избранный в ту пору Войсковым атаманом) нашел на аньерской Лесной улице особняк, и прихожане взялись за работу… Прихожанин князь Л. Чавчавадзе продолжает рассказ Стаховича:
«Гр. Граббе, которому удалось отыскать особняк, где и ныне помещается храм, работал не покладая рук. Вставал он нередко в 6 часов утра и сам, уже далеко не молодой, затапливал печь центрального отопления при храме, чистил пол и держал дом в образцовом порядке, заменяя сторожа, держать которого не было средств».
А пока вовсе не было помещения, проводили службы в особняке князя Кочубея:
«В большом зале завесили зеркала, разместили несколько икон. Служил приезжавший из Парижа о. Иоанн Шаховской. Любовь к нашей церкви, к нашему пастырю объединила всех прихожан в тесно сплоченную семью…»
В судьбе упомянутой здесь княжеской семьи Чавчавадзе нашли отражение все перипетии эмигрантских поисков и заблуждений.
Княгиня Любовь Владимировна Чавчавадзе была сестрой Феофании Владимировны Хвольсон, той самой, что была замужем за графом Адамом Бенигсеном. Нина Кривошеина вспоминает в своих мемуарах, как, заговорив с ней однажды о младороссах, граф пообещал, что его свояк Миша Чавчавадзе отведет ее к ним на сборище. Этот Миша и был муж Любови Владимировны – князь Михаил Николаевич Чавчавадзе (ему было в ту пору 33 года). Князь окончил Пажеский корпус, некогда служил в гренадерском гвардейском полку, но именно великосветских «детей» и соблазнили в эмиграции лозунги и идеи младороссов, придуманный их фюрером Казем-Беком полунацистский ритуал, их лозунг «Царь и Советы», надежды на «перерождение» комсомола и Красной Армии, которые «прогонят большевиков».
Веселый, ресторанный человек Миша Чавчавадзе ушел от Любови Владимировны (уже имевшей от него двоих детей) и женился на сестре «вождя» младороссов Маре Казем-Бек (уже имевшей детей от А. Некрасова). «Младоросская» семья Чавчавадзе жила беспечно, хмельно, изрядно бедствовала и наконец после войны в числе других советских патриотов была репатриирована в СССР. До конца 1948 года Миша работал администратором в Тбилисской филармонии, а в последний день года уже был отправлен на лагерные шахты знаменитой Инты (Республика Коми). Семья же его была отправлена в вечную ссылку и мерзла в землянке в степях Казахстана…
Графиня Мария Николаевна Толстая долгие годы (с 1932 до 1947) была в Аньере церковным старостой. В упомянутой мною аньерской брошюрке опубликованы ее дневниковые записи… Вот запись от 15 марта 1942 года. Приход отмечал в тот день свое десятилетие, служил владыка Евлогий, который дал Марии Николаевне свое благословение и поднес грамоту за неустанный десятилетний труд в приходе. «И за что! – восклицает Мария Николаевна. – За то, что Господь допустил мне 10 лет служить при Его храме…» А вот аньерская запись от 15 сентября 1943 года. Едва Мария Николаевна села ужинать с дочерью и внуком, как вдруг – грохот, звон стекла, «дом стал сотрясаться от пальбы, казалось – вот-вот рухнет на нас потолок… Мы не совсем еще спустились и стояли на лестнице, когда удар сильнее прежнего сотряс весь дом. Мы все вместе молились в эти страшные мгновения, и Господь помиловал нас. Оказалось, что одна бомба, не разорвавшись, упала под окном столовой… вторая в саду в нескольких шагах – тоже не разорвалась…». Вот и еще, запись за 12 марта 1945 года: «Вчера было наше приходское собрание. Я принуждена была, к глубокому моему сожалению, подать в отставку по дряхлости. Такая честь и радость была служить при церкви с моим дорогим батюшкой – служить прихожанам… Теперь в наш храм я не в силах ходить и только с лестницы слежу за богослужением…»
Прихожанка Е.И. Слезкина (та самая, что стала к старости игуменьей в женском монастыре Бюси-ан-От) вспоминает:
«После войны М.Н. переехала в верхний этаж нашего церковного дома – часто она мне говорила, как она благодарна Господу, что ей дано последние годы жизни провести под кровом столь любимого ею храма… А сколько интересных воспоминаний у нее было о России, и как много М.Н. самой пришлось перенести горя и трудностей. И уходили от нее как-то успокоенные, будничная жизнь казалась легче…»
30 октября 1948 года, когда скончалась Мария Николаевна Толстая, хорошо знавший ее священник отец Мефодий так помянул ее перед отпеванием:
«…из хорошей аристократической семьи (княжна Мещерская), она соприкасалась с царским двором и была фрейлиной Императрицы Марии Феодоровны. Много горя перенесла она в жизни: потерю детей, смерть мужа, убийство 15-летней дочери, тюрьму, голод, почти нищенское существование. Но ничто не сломило ее. Она была крепкой веры человек. Как она служила церкви и людям! Приняла тайно монашеский постриг, но это не отдалило ее от людей. Обо всех она помнила, обо всех заботилась… Большой человек была Мария Николаевна, большая и глубокая была жизнь ее души… не только в храме проявлялась ее забота и сочувствие: мы знаем, как она, старая и слабая, отправилась однажды, узнав о душевнобольном человеке, который заперся у себя в комнате верхнего этажа и никого к себе не пускал. Мария Николаевна пошла к нему, он ее впустил, и она содействовала устройству его в больницу. Многое другое мы знаем, но многого мы и не знаем».
«Многого мы и не знаем…»
Помню, как, возвращаясь однажды летом из Сент-Женевьев-де-Буа и отчаявшись дождаться местного автобуса до станции, поднял я руку по старой бродяжьей привычке, и остановилась машина… «Я к станции не еду, я вас подброшу в Париж», – сказала мне по-русски симпатичная средних лет дама, сидевшая за рулем. Оказалось, что это внучка Марьи Николаевны Ольга Павловна Толстая. Дорогой я услышал историю ее отца, Павла Николаевича. Он был из «эмигрантских детей», которых так неудержимо тянуло назад, на родину. А тут еще специально приехал звать изгнанников назад в Россию граф Алексей Николаевич Толстой, известный некогда всей эмиграции писатель. Звал возвращаться, потому что там молочные реки и кисельные берега, и он вот, например, граф, а как сыр в масле катается… Так что Павел Николаевич, измученный ностальгией, и поехал…
– Что, расстреляли? – спросил я.
– Да, – сказала Ольга Павловна. – Откуда вы знаете?
– Догадываюсь… Наслышан…
Сердце у меня сжалось, потому что я подумал о Марье Николаевне, которой было уже тогда за семьдесят: еще сын, еще один… Господи, что за мука…
Курбевуа
Парижский Манхэттен Музей Ройбер-Фульда • Память казачьего полка
На бедный пригородный Курбевуа (Courbevoie) наступает с юга парижский Манхэттен 70-х годов прошлого века, стеклянный многобашенный квартал Ла Дефанс. Я посетил этот бетонный лес во время первого своего парижского визита четверть века назад и тогда же понял, что меня не потянет больше ни в Нью-Йорк, ни в Токио. Впрочем, «на вкус, на цвет…».
Самые патриотичные из французов скорбят о том, что так непоправимо испорчен пейзаж, на фоне которого нация получила в свое владение в 1840 году величайшую ценность – прах Наполеона. Иные, менее патриотичные и более оптимистично настроенные граждане, усердно пытаются отыскать, что же тут все-таки уцелело от пейзажа. Среди наиболее выразительных останков называют скульптурный фронтон, украшавший центральное здание швейцарской казармы, построенной в XVIII веке при Людовике XV на нынешней площади Шаррас. Собственно, здания казармы заняты ныне под торговый центр, бассейн, отель и бесчисленные госучреждения (не забудьте, что во Франции больше чиновников, чем в любой европейской стране), но старый фронтон перенесен в парк де Бекон, поближе к берегу Сены. В том же парке восстановлен и павильон Британской Индии со Всемирной парижской выставки 1878 года.
Но пожалуй, самым заметным центром культуры Курбевуа является музей Ройбер-Фульда, который выходит к Сене былым сосновым фасадом шведско-норвежского павильона со все той же Всемирной выставки (вообще, многие бережливые парижане еще раньше, чем москвичи, пощадившие экзотическую сталинскую ВДНХ, поняли, что «ломать не строить»: вспомните хотя бы былой винный павильон, ставший «Ульем», взрастивший Шагала, Сутина, Модильяни и подобранный рачительным Бюше среди разора Всемирной выставки). Главным сокровищем здешнего музея (носящего имя знаменитого министра финансов Ройбер-Фульда) является коллекция рисунков, картин, муляжей и скульптур замечательного французского скульптора эпохи Наполеона III Жана Батиста Карпо (1827–1875), кончившего свои дни в Курбевуа.
Русского путешественника может заинтересовать в Курбевуа и дом № 12-бис на улице Сен-Гийом, где разместилась Ассоциация бывших офицеров казачьего полка русской императорской гвардии. До самой своей смерти в 1989 году Ассоциацию возглавлял полковник Борис Дубенцев. Дом был куплен им в 1925 году, и в этот дом эмигранты-офицеры, в ту пору по большей части железнодорожники, трудившиеся на Восточном вокзале (железнодорожник – это была вполне почетная эмигрантская профессия: сын русского офицера Петя Береговой-Береговуа, дослужившийся у социалистов до поста французского премьер-министра, но не сберегший ни жизнь, ни честь, начинал как рабочий-железнодорожник), скупая, сносили полковые сувениры, вывезенные некогда из Петрограда через Новочеркасск, Константинополь, Белград. В 1931 году в доме на рю Сен-Гийом открылась выставка этих реликвий, но в 1937 году казаки, справедливо опасаясь, что устроенное, скорее всего, советской разведкой правительство Народного фронта может реквизировать их коллекцию и отправить в Москву хозяину (как, похоже, и поступили в 1940 году нацисты с парижской Тургеневской библиотекой), переправили самые ценные реликвии в Бельгию. Однако и нынче выставлены в доме Ассоциации портреты 27 генералов, командовавших полком с самого его основания императором Павлом I, живописные и фотографические портреты русских самодержцев, казацкие униформы, медали и штандарты, портреты атаманов и великого князя Николая Николаевича и т. п. Но о визите в этот уникальный музей следует, конечно, договориться заранее, хотя бы по телефону.
КУРБЕВУА, МНОГОБАШЕННЫЙ КВАРТАЛ ЛА ДЕОРАНС
Нёйи-сюр-Сен
Римские виллы и новая знать Корсет Марии-Антуанетты • Художники на Сене • Василий Кандинский • Американский госпиталь • Рука молодого Пешкова
Небольшой, но густонаселенный, подобно всем ближним столичным пригородам, городок Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) расположен, как показывает самое его название, на берегу Сены. С юга он граничит с Булонским лесом, а на востоке от него до Триумфальной арки и площади Шарль-де-Голль-Этуаль рукой подать. В общем, положение завидное, привилегированное, таким его, кстати, считали еще и пять веков назад. Нынче, как и в старину, здесь тоже живет чистая публика, живут, так сказать, «более равные». Родиться в Нёйи – это уже привилегия, это словно бы обещает благополучие. В Нёйи и живут и говорят по-особому. И держатся своего клана. А переселиться из какого-нибудь XIII или XX округа в Нёйи – знак преуспеяния… Хотя бывают, конечно, и исключения из общего правила. Консьержка и в Нёйи всего-навсего консьержка.
Римское название этих западных ворот города – «портум де Нулиако» – появляется еще в документах XIII века. Здесь уже и полтысячи лет назад строили себе замки, дворцы и виллы люди состоятельные и знатные, чтобы вкушать покой и роскошь невдалеке от столицы. В 1528 году здесь построил себе так называемый Мадридский замок король Франциск I, а уж в XVIII и XIX веках кто только не строил: граф Аржансонский – замок Нёйи, граф д’Артуа – замок Багатель, финансист Клод Бодар, он же барон Сент-Джем, построил себе в стиле прославленного Палладия загородный дворец Сейнт-Джеймс, который, в отличие от прочих замков, и по сию пору стоит в Нёйи на проспекте, названном по имени первого в местечке королевского замка, – на авеню де Мадрид. Во дворце этом нынче лицей, а в парке можно еще увидеть и павильон, где размещался Кабинет науки, и часовню, и фасад маленького храма, прилепившегося к гроту. В начале прошлого века во дворце этом жила сестра Первого консула Элиза Бачиокки, здесь Шатобриан впервые встретился с этим Первым консулом, то бишь Бонапартом. Здесь же позднее герцогиня д’Абрантес принимала канцлера Меттерниха (и писала свои мемуары), а в 1815 году Веллингтон устроил здесь свою штаб-квартиру. Мадам Рекамье жительствовала здесь в 1842 году, а еще позднее тут разместилась больница, в которой терпел предсмертные муки художник Тулуз-Лотрек. Так что человеку, попавшему во дворцовый парк в тихую минуту, когда лицеисты корпят над своими сочинениями или контрольными по математике, будет что вспомнить. В Нёйи жили и умерли Теофиль Готье и Баррес…
Прогулка по авеню де Мадрид небезынтересна во многих отношениях. От авеню уходит к Булонскому лесу бульвар Командан-Шарко, названный по имени знаменитого полярного исследователя, жившего тут же неподалеку от дворца и бывшего уроженцем Нёйи (желательно все же говорить: Нёйи-сюр-Сен, ибо есть во Франции, и даже в Парижском районе, другие Нёйи). Можно дойти отсюда до недалекой Мадридской заставы, где высится новый Мадридский замок, построенный уже в XIX веке в ренессансном стиле – на месте старого, королевского. Можно свернуть на бульвар, названный по имени Ричарда Уолласа, знаменитого коллекционера и мецената (это он подарил Парижу питьевые фонтанчики «уолласы»). Как и отец его, английский коллекционер и аристократ, бедный богатый бастард Ричард Уоллас умер в Булонском лесу, в замке Багатель, который в ту пору еще входил в черту городка Нёйи. Гуляя по Нёйи, можно набрести и на дворец, построенный для византийского принца. Позднее в этом дворце чилийский меценат и коллекционер Артуро Лопес разместил свои великолепные коллекции произведений искусства. Ныне там муниципальная библиотека и Музей автоматов. В зале этого музея, отделанном ракушками на манер морского грота, можно полюбоваться десятками кукол-автоматов прошлого века, вроде Заклинательницы змей, Канатного плясуна или Пьеро. Автоматы эти (их не меньше шестидесяти) были подарены городку Нёйи антикваром Жаком Дамио. Он же устроил в других залах дворца Музей женщины, где хранятся трость Сары Бернар, корсет Марии-Антуанетты и прикроватные несгораемые ящики для драгоценностей, принадлежавшие московской авантюристке Терезе Лахман, которая была известна «всему Парижу» как маркиза де Пайва. Наряду с этими реликвиями женской славы в музее можно увидеть бюст императрицы Александры Федоровны, портреты Екатерины II и пейзаж кисти выходца из Белоруссии Хаима Сутина. Напротив дворца расположена так называемая вилла Жауль – два дома, построенные архитектором Шарлем Эдуаром Жаннере, более известным миру под псевдонимом Ле Корбюзье. Творения этого уроженца Швейцарии, знаменитого властителя умов, архитектора, художника, философа, писателя, дизайнера мебели и теоретика урбанизма, можно обнаружить не только в Нёйи или в Москве, но также и в Токио, и в Марселе, и в Пенджабе, и в Рио-де-Жанейро. С художниками тихому живописному Нёйи вообще везло. Еще Курбе писал своих девушек на здешнем берегу.
Что до импрессионистов, то они вообще упорно обживали живописный берег Сены – и в Нёйи, и в Буживале, и в Лувесьене, и в Аржантёе, и в Марли, и в Вильнёв-ла-Гаренне, и на острове Гран-Жатт. Берега эти узнаешь на картинах Мане и Моне, Сислея, Писсарро, Ренуара, Моризо и многих других. Позднее им отдали дань Сера и Таможенник Руссо. Неудивительно, что, когда Василию Кандинскому пришлось бежать из Германии, где нацисты, придя к власти, объявили все, что было им непонятно, ублюдочным, он поселился в идиллическом Нёйи, на седьмом этаже дома 135 по бульвару Генерала Кенига (бывший Сенский бульвар). Квартира у Кандинских была пятикомнатная, с террасой. В самой большой комнате художник устроил свою мастерскую. Здесь было пусто: лишь несколько икон на стенах. Нина, жена художника, вспоминала:
«Сена текла перед домом – между зеленым островом и каштанами набережной. Вдали виден был форт холма Валерьен… Лес был совсем неподалеку: Кандинский любил гулять в нем… Он жил теперь только для живописи. В «Парижский период» его творчество пережило вторую молодость. Серьезная веселость и легкость возвышали форму, разворачивая феерию загадочной поэзии».
Сам Кандинский сделал такую запись в декабре 1937 года:
«Через окно моего ателье… я вижу свет несказанной красоты, серую гармонию с мягкими оттенками цвета, очень звучными».
Кандинский написал здесь 44 картины, 200 акварелей и гуашей, создал множество рисунков.
В 1939 году он получил французское гражданство и прожил еще пять лет французом, пока не упокоился на так называемом Новом кладбище Нёйи, том самом, где похоронены были композитор Александр Глазунов, Борис Лифшиц-Суварин и другие знаменитости, вроде Анатоля Франса, Андре Моруа, Пюви де Шаванна и Пьера Дриё ла Рошеля, талантливого французского писателя, увлекшегося расистскими идеями фашизма, сотрудничавшего с оккупантами, но в отличие от множества других коллаборационистов (снова «вышедших в люди», уже при де Голле) заплатившего за это жизнью (после войны он прятался от полиции и покончил с собой в момент ареста).
На старом кладбище Нёйи похоронена Надежда Нарышкина-Дюма, урожденная Кнорринг. После долгожданной смерти своего русского мужа, князя Нарышкина, она вышла замуж за своего давнего любовника и отца ее дочерей, писателя Александра Дюма-сына. Брак их был зарегистрирован в мэрии Нёйи в последний день 1864 года.
Идиллическая зелень Нёйи напоминает также о нелегком пути к европейскому желудку, пройденном клубнями картофеля, нежно любимыми всяким русским (а также польским, литовским, немецким и французским) едоком. Во Франции не было «картофельных бунтов», но и во Франции завезенный в Европу еще в 1550 году картофель вошел в обиход лишь через два с лишним столетия, и обязана этим Франция была стараниям замечательного человека, военного фармацевта и агронома Антуана Огюстена Пармантье, который, судя по истории с картошкой, был еще и тонким психологом. В 1786 году Пармантье посадил на равнине Саблон в Нёйи картошку и поставил на картофельном поле стражу, что, конечно, разожгло любопытство публики. По ночам стража удалялась, и публика совершала налеты на поле, вследствие чего слухи о высоких вкусовых качествах нового продукта незамедлительно умножили его популярность. Так что обошлось без бунта и принудиловки.
Мне приходилось дважды бывать в гостях в Нёйи – у богатого инженера и у еще более состоятельного, но мелочно-жуликоватого кинопродюсера, нанявшего меня синхронистом на «озвучание» фильма Никиты Михалкова «Очи черные», но за работу платить ни в какую не желавшего. Никакой особой деревенской идиллии я в Нёйи уже не застал. Ныне же близость города и бойких автомобильных магистралей и вовсе вышла городку боком. Знаменитая, задуманная еще Ле Нотром ось от Елисейских Полей и Триумфальной арки к Дефансу, по-нынешнему – авеню Шарль-де-Голль-Этуаль, превратилась в автомобильный ад, и мэр Нёйи, нынешний французский президент Никола Саркози одержим был проектом увести все движение с этой авеню, разделившей городок надвое, под землю, в туннель. Новые автострады и автомобильные развязки сделали жизнь близ авеню совершенно невыносимой. Тут уж не до престижности – не оглохнуть бы и не задохнуться.
Не застрахован Нёйи и от других безумств большого города. Несколько лет тому назад молодой программист, потерпев неудачу в частном бизнесе и наглядевшись дурацких фильмов, обмотался взрывчаткой и, превратив себя в «человека-бомбу», взял в заложники группу малышей из детсада «Командант-Шарко» в Нёйи. Он потребовал выкупа в сто миллионов, и полиция с трудом взяла его измором после сорокавосьмичасовой осады. Жандармы застрелили его, когда он задремал, и легко представить себе, что пережили за эти сорок восемь часов смертельной тревоги родители пленных деток и бесстрашная 29-летняя воспитательница Лоранс Дрейфус, которая отказалась покинуть своих малышей, кормила их, развлекала, успокаивала, а заодно успокаивала и психа, обмотанного взрывчаткой, чтоб он, упаси Боже, не совершил непоправимого. (Нынче таких психов-камикадзе десятками готовят группы исламских террористов, а тогда это было в новинку, и вся Франция, затаив дыхание, следила на экране за развитием драмы.) История эта доказывала, что нет мира и под старыми платанами аристократического Нёйи, лежащего на западной границе Парижа между Сеной и Булонским лесом.
В Нёйи с давних пор размещается знаменитый Американский госпиталь, в котором умер нежно любимый Россией Булат Шалвович Окуджава. В этом же госпитале умер в 1938 году великий князь Кирилл Владимирович (так счастливо избежавший смерти в 1905 году на крейсере «Петропавловск», на котором погибли Верещагин и Макаров).
Весной 1915 года в этом госпитале отрезали руку раненному под Аррасом будущему бригадному генералу французской армии, агенту и дипломату Зиновию Пешкову, «приемному сыну» Горького и родному брату малосимпатичного Якова Свердлова. В начале июня того же года корреспондент киевской газеты, посетивший Зиновия в госпитале, записал его слова: «И вот теперь я, как видите, без руки. Хуже всего, однако, то, что я ее прекрасно чувствую. Почти все время у меня зуд в ладони отрезанной руки и страшная боль в сочленениях. Так хотелось бы схватить ее. Ночью хватаешь пустое место, чтобы поправить руку. Страданий она пока доставляет много». Уточним, что лихого корреспондента звали А.В. Луначарский. Надо сказать, в борьбе со своим несчастьем молодой Пешков проявил огромную волю к жизни, настоящие мужество и упорство. Он не только сделал потом блестящую военно-дипломатическую карьеру, но и доказал, что настоящий мужчина и без руки может остаться любимцем женского пола. Среди его поклонниц были княгини, графини, дочери миллионеров, писательницы и чуть ли не королевы… Вот как рассказывала о нем одна из довольно близких к нему современниц (по ее выражению, он «имел у нее успех»), звезда петербургского небосклона 10-х годов Саломея Андроникова, которую он вывез во Францию из Тифлиса:
«У него воля – удивительное количество. Это воля такая и жизненная цепкость необыкновенные… и он говорит: «Я решил так, что я должен научиться делать левой рукой все, абсолютно все и не зависеть ни от кого. А если я не научусь, я должен покончить с собой, потому что так жить я не могу». И он абсолютно настолько все делал левой рукой, что у меня как-то в поезде вырвалось: «Слушайте, как вы мне надоели с этим чемоданом, возьмите обеими руками!» Настолько ты забываешь, что у него нету одной руки. Чудесно писал, ел, завязывал галстук, умел все одной рукой».
На этой оптимистической ноте мы и кончим наш краткий рассказ об аристократическом Нёйи…
Булонь – Бийанкур
Бийанкур – автомобильная столица Паломники из Булони • Вилла Юсупова • Третья жена Ходасевича • Вилла на Сосновой аллее • Мой друг Андрей
За последнее столетие минувшего второго тысячелетия нашей эры в жизни двух соединивших свои названия пригородных деревень юго-западного парижского пригорода – деревень Булонь и Бийанкур – произошло столько событий, что не знаешь, с чего начинать рассказ. Люди деловые, не отнимая рук от руля автомобиля и нетерпеливо гипнотизируя красный глаз светофора, заявляют, что начинать надо с самого рубежа века (а именно с 1898 года), когда молоденький инженер Луи Рено и его брат Марсель соорудили в садике здешнего родительского дома первый автомобиль «Рено» с ничтожной мощностью в три четверти лошадиной силы (кобыле на смех), но зато «с прямой передачей», что было по тем временам большим нововведением. Мало-помалу Бийанкур стал столицей автомобильной империи «Рено»…
Люди, озабоченные русской историей, спешат прибавить, что этот факт, в соединении с катастрофой, постигшей нашу бедную родину в 1917 году, способствовал наплыву русского трудового населения в Бийанкур, что попутно помогло вписать это скромное имя в историю литературы, ибо не только Верлен тут живал, но и Ходасевич, и Борис Зайцев, и прославившаяся среди французских модников «Нина Бербероф» здесь жила…
И все же, верные нашему принципу обращаться сперва к истоку, к яйцу, к зародышу, мы и в рассказе об этом безмерно разросшемся ныне Булонь-Бийанкуре (сто тысяч населения – это, по французским меркам, немалый город) начнем с XII века и с деревушки-хутора Меню (от латинского Мансионилес, что означает – домишки), которой король Людовик VI Толстый в 1134 году со всей торжественностью присвоил название Менюль-ле-Сен-Клу, приписав и здешний лес, и луга, и виноградники к монмартрскому аббатству. В память о паломничестве здешних поселян к знаменитому образу Святой Девы в Булонь-сюр-Мер король Филипп Красивый соорудил здесь в 1308 году часовню во имя Божией Матери. Различные события французской истории способствовали прокладке в этих местах новых дорог к Версалю, ну а в 1925 году здешняя мэрия вместо Булони-на-Сене учредила более внушительное поселение: Булонь-Бийанкур.
В 1898 году Луи Рено построил здесь свой первый автозавод, Блерио, Фарман и Вуазен присоединили к нему авиастроительное предприятие, а в 1928 году ко всему этому прибавилась еще и Булонская киностудия.
О притоке рабочей силы для здешнего автозавода позаботилась большевистская революция, разогнавшая своих граждан по свету и создавшая обездоленный русский «эмигрантский народ». К заводским станкам в Бийанкуре встали офицеры и солдаты былой Российской армии, учителя былой русской школы, чиновники, служащие, торговцы и все прочие, кто больше в России не мог выжить и кто ей оказался не нужен. Более аристократичная Булонь-сюр-Сен еще сохраняла в ту пору свой дачный облик, но Бийанкур заметно обрусел и опростился, и наряду с прочими сочинителями сообщала об этом поселившаяся в Бийанкуре начинающая журналистка Нина Берберова (позднее она перенесла эти свои газетные заметки в нашумевшую мемуарную книгу «Курсив мой»):
«В Булони был стадион, в Булони были скачки. В Бийанкуре был автомобильный завод «Рено», кладбище, река и грязные, бедные, запущенные кварталы…
В Бийанкуре была улица, где сплошь шли русские вывески, и весной, как на юге России, пахло сиренью, пылью и отбросами. Ночью (на Поперечной улице) шумел, галдел русский кабак…»
Или вот еще – из тех же очерков Берберовой:
«…Гудит заводской гудок. Двадцать пять тысяч рабочих текут через широкие железные ворота на площадь. Каждый четвертый – чин Белой армии, воинская выправка, исковерканные работой кисти рук… Люди семейные, смирные, налогоплательщики и читатели русских ежедневных газет, члены всевозможных русских военных организаций, хранящие… георгиевские кресты… Про них известно, что они а) не зачинщики в стачках; б) редко обращаются в заводскую больничную кассу, потому что у них – здоровье железное, видимо обретенное в результате тренировки в двух войнах… и в) исключительно смирны, когда дело касается закона и полиции: преступность среди них минимальна…»
В русскую эпоху Булонь-Бийанкура там разместились и некоторые из учреждений русской эмиграции. Так, в 1928 году в дом № 6 по бульвару Отёй переведен был единственный в Париже русский лицей-гимназия. Дом для лицея купила меценатка Лидия Павловна Детердинг (в первом браке Багратуни), жена известного английского нефтепромышленника. Она и раньше пеклась об этой первой русской гимназии (позднее носившей ее имя и просуществовавшей до 1960 года). Гимназия, сыгравшая большую роль в жизни молодого эмигрантского поколения, в 1931 году насчитывала 220 учеников. В том же здании разместился и Русский коммерческий институт, основанный Земгором. В 1949 году в здании гимназии была проведена посвященная 150-летию со дня рождения Пушкина вторая выставка «Пушкин и его эпоха», организованная знаменитым танцовщиком и коллекционером-пушкинистом Сергеем Лифарем.
В БИЙАНКУР ХОДЯТ ПОГЛЯДЕТЬ НА БЫЛУЮ СТОЛИЦУ «РЕНО». О РУССКИХ РАБОТЯГАХ И ПОЭТАХ ТУТ ДАВНО ПОЗАБЫЛИ.
Фото Б. Гесселя
В доме № 27 по улице Гутенберга в Булони с 1920 до 1931 го-да жил князь Феликс Феликсович Юсупов со своей супругой, княжной императорской крови Ириной Александровной. В одном из помещений вполне скромного княжеского дома, расписанном знаменитым художником Александром Яковлевым, Юсупов устраивал по субботам вечера и спектакли. Если в России Феликс Юсупов был известен своим невероятным богатством, высокими связями и несколько скандальной репутацией, то за границей прославился он главным образом как убийца Распутина. Любопытно, что даже в новейшем перечне могил русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, продаваемом в кладбищенской конторке, против фамилии Юсупов можно найти невероятную по своему тону формулировку: «освободил Россию от Распутина». Сам Юсупов рассказывал в своих (не внушающих, впрочем, большого доверия) мемуарах:
«Что сказать о хозяйке дома, которая в разгаре многолюдного обеда не может удержаться от следующего восклицания: «Юсупов войдет в историю благодаря своему ангельскому лику и своим окровавленным рукам».
На самом деле эта кровавая история (нисколько, похоже, не смущавшая Юсупова) сыграла ему в годы эмиграции добрую службу. Стоило какой-нибудь киностудии или издательству затронуть в своих произведениях историю экзотического друга императорской семьи Распутина и его гибели, как адвокаты Юсупова затевали против дерзновенных новый судебный процесс, жалуясь на искажение фактов, наносящее моральный ущерб убийце-князю и молчаливой красавице княгине. Один из таких процессов был выигран Юсуповым и принес ему крупный куш. Князь славился также как человек тонкого вкуса, и его нередко привлекали для консультаций в области оформления домов моды, магазинов, спектаклей, фильмов. Одно время супруги Юсуповы держали и собственный дом моды в Париже.
Вернемся, впрочем, к кругам менее аристократичным и соответственно жительствовавшим в более дешевой части поселка – в Бийанкуре. Именно там снимали квартиру Нина Берберова и ее муж Ходасевич.
Таким парижским чердаком и стала для Ходасевича на долгие годы квартирка в Бийанкуре с ее уличным шумом, духотой и не слишком мелодичным пением водопроводных труб.
Владимир Набоков называл Ходасевича величайшим русским поэтом XX века, литературным потомком Пушкина по тютчевской линии. Того же мнения, как ни парадоксально покажется такое сближение, придерживался Горький, назвавший в 1923 году Ходасевича «лучшим поэтом современной России».
Владислав Фелицианович Ходасевич родился в 1886 году в Москве. В 1920 году Ходасевич вместе со своей верной и заботливой второй женой Анной Ивановной и пасынком переехал в Петербург, где Горький помог ему получить две комнатки в Доме искусств (на углу Мойки и Невского). Ходасевич много пишет в это время, переживает творческий подъем и настоящий взлет своей популярности. Но вот 31 декабря 1921 года на встрече Нового года в Доме литераторов 34-летний Ходасевич оказался за одним столом с 20-летней Ниной Берберовой, начинающей поэтессой, которая только что перебралась с родителями в Петербург из армянского пригорода Ростова-на-Дону, из Нахичевани-Донской, где едва закончившая гимназию Нина пережила и то, что она называет в мемуарах «периодом распутства» (начала «шляться»), и первую свою большую любовь, может, самую большую любовь жизни – любовь к прелестной армянской девушке, к Виржинчик. Но тут, на новогодней вечеринке, начинается новая любовь – впрочем, как мне сдается, не любовь Нины, а любовь к ней Ходасевича, им тогда же и описанная:
Карты – это еще полбеды. Ходасевич с юности был неисправимый картежник, даже хотел написать теоретическую статью о связи карт и поэзии. Но вот новая буря любви… С одной стороны, она приносит бесценное вдохновение.
Но с другой стороны… Есть ведь самоотверженная, любящая жена Анна Ивановна, которая в эту программу не вписывается… В феврале 1922 года Ходасевич пишет жене письмо, которое начинает цитатой из Афанасия Фета:
«Офелия гибла и пела» – кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой – погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всегда хочется, человечкам. А потом не выдерживают».
Ходасевич храбрится, да ему и неловко, но суть ясна… Девочка хочет стать поэтессой, литератором, хочет, чтобы ее вывели на дорожку. Ей нужен помощник, защитник, учитель, поводырь. К тому же, судя по ее мемуарам, соблазняет ее и Запад, где пока что живут нормально… По-человечески ее можно понять, хотя в мемуарной книге своей она зачем-то намекает при этом, что уехала против своей воли. Но знаменитая ее книга, увы, не искренна и не правдива.
В 1922 году Ходасевич оформил на себя и «свою секретаршу» Берберову командировку «для поправки здоровья» и уехал из России навсегда. Первой остановкой был Берлин, эта «мачеха русских городов». В Берлине супруги были недолго: они жили возле Горького в Саарове, потом в Праге, в Венеции, в Париже (на бульваре Распай) и довольно долго – в Сорренто, опять же «под крылышком» у Горького: ведь главное на Западе даже не кусок хлеба, который никогда не был особенно дорог, не скромный пиджак, не галстук, главное – крыша над головой, которая всегда недешева. Ну а живший щедро, по-помещичьи Горький размещал у себя множество гостей и нахлебников еще и в Петрограде. До самого апреля 1925 года Ходасевич жил при Горьком. Официально он еще находился в командировке, только что-то не возвращался в Россию (почти как и сам Горький, который все время обещал вернуться), но мало-помалу положение Ходасевича становится двусмысленным. С 1925 года Ходасевич окончательно становится эмигрантом. На его несчастье, следует и разрыв с Горьким…
ТАКИМ ПРЕДСТАЛ МОЛОДОЙ ХОДАСЕВИЧ ПОД ПЕРОМ «МИРИСКУСНИКА» АННЕНКОВА
Фото Б. Гесселя
Ходасевич с Ниной переезжают в Париж: кончаются путешествия и каникулы… Сперва скромный, многим небогатым русским изгнанникам знакомый «Притти отель» на улице Амели, потом парижские пригороды – Медон, Шавиль, Бийанкур… В 1926 году Милюков отказывает Ходасевичу – не «от дома» (это бы куда ни шло) – от сотрудничества в своей газете, в «Последних новостях», в лучшей газете эмиграции. Ходасевич был вынужден до конца своих дней работать в худшей из двух главных эмигрантских газет – в «Возрождении».
Настоящая эмигрантская и настоящая семейная жизнь Ходасевича и Берберовой начинается с парижских пригородов и с поисков заработка (у эмигрантского литератора всегда нищенски скудного). Конечно, жизнь молодой, здоровой, тщеславной и полной любопытства Нины Берберовой была более активной и веселой, чем у ее загнанного даже не на парижский, а на пригородный чердак мужа. Нина сотрудничает в милюковских «Последних новостях», печатает там на машинке, а иногда и печатает свои писания. Стихи ее не имеют особого успеха («лет через 15, может, начнешь писать», – говорил ей Ходасевич), но зато сама хорошенькая журналистка имеет успех. Со временем и журналистика у нее становится лучше. Появляется в газете ее серия бытовых очерков из жизни рабочего предместья Бийанкур, где они обитали на улице Четырех Дымоходов.
Между тем Ходасевич впадает в панику, плохо спит по ночам, все его тревожит, вдобавок его мучают фурункулы, экземы… Семейной идиллии это все не способствует.
В 1932 году, после семи лет разнообразных парижских «дружб», Нина Берберова окончательно уходит от Ходасевича к Николаю Васильевичу Макееву.
К счастью, Ходасевич не долго оставался один. Молодая одинокая женщина Оля Марголина выходит за него замуж и разделяет тяготы его жизни.
14 июня 1939 года Ходасевич умер. Через два дня его отпел католический священник православного обряда на улице Франсуа-Жерар, и поэт был похоронен на кладбище своего унылого пригорода Булонь-Бийанкур.
Ходасевич – не единственный талантливый русский, похороненный на бийанкурском кладбище. Там же покоится известный философ и писатель Лев Шестов (Шварцман). Там же – могила прекрасного скульптора Акопа Гюрджана, который родился в Нагорном Карабахе, в «грозном городе Шуша», учился на медицинском факультете в МГУ, потом в мастерской Паоло Трубецкого, затем в Монпелье. Вернувшись в Москву в 1915 году, он создал бюсты Скрябина, Рахманинова, Шаляпина, Бетховена, Толстого (этот бюст стоит на площади Льва Толстого в Париже). В 1921 году Гюрджан уехал во Францию, трудился, путешествовал, а умер в 1948 году в Булонь-Бийанкуре.
На том же кладбище упокоились еще два русских скульптора. Первый из них, Натан Именитов, родом из Латвии, обосновался в Париже еще в 1904 году, а выставлялся в Петербурге в 1909-м, в салоне Сергея Маковского. Умер он в Булонь-Бийанкуре в 1965 году, на 82-м году жизни. Другой – Леонид Инглези, из обрусевших греков, был губернским секретарем и гласным думы в Николаеве, с 1928 года (долгих 30 лет) он работал на парижском бульваре Араго (дом № 65) в мастерской мозаичиста Бориса Анрепа (в которого так пылко была влюблена Анна Ахматова). Последние 12 лет Инглези доживал в Русском старческом доме Земгора и умер в Булонь-Бийанкуре. Неподалеку упокоился русский живописец и график, уроженец Воронежа Павел Дмитриевич Шмаров. В Булонь-Бийанкуре он поселился только после войны, а до того выставлялся по всему свету, был награжден призами и медалями на международных выставках. Писал портреты и пейзажи. Его картину «Монмартр» купила вдовствующая императрица Мария Федоровна, та самая, у которой большевики перебили чуть не все потомство…
Вообще, как вы заметили, Булонь-Бийанкур густо населяли художники и скульпторы. Эту моду на Булонь среди людей искусства завел, кажется, еще эльзасец Бартольди, тот самый, что прославился своей статуей Свободы, установленной у входа в нью-йоркскую гавань. Даже те, кого не волнует скульптурное искусство, со статуей этой знакомы по бесчисленным карикатурам в антиамериканской прессе. Вслед за Бартольди в Булонь-Бийанкуре стали селиться и другие скульпторы – Жаннио, Пуассон, Ландовский, Липшиц, Мещанинов. Они известны во всем мире, но работы этих всемирно известных авторов можно найти и в местном музее. Полю Ландовскому (он умер в 1961 году 76 лет от роду) даже посвящен здесь особый музей (на улице Макса Блонда в Булони). Ландовский был всемирно знаменит между войнами: его святая Женевьева украшает мост в Париже, даже в нанкинском музее есть его работа, а изваянная им фигура Христа возвышается над Рио-де-Жанейро.
В Булони есть виллы знаменитых архитекторов, вроде Малле-Стивенса и Корбюзье, среди которых меня больше всего волнует вилла на Сосновой аллее (дом № 9), построенная знаменитым Корбюзье для его друга, русского скульптора, уроженца Литвы (а некогда – Гродненской губернии) Якоба Хаима Липшица (в Париже его звали Жак Липшиц). Липшиц учился в Вильно, сбежал в Париж восемнадцати лет от роду, дружил с Модильяни, Сутиным, Кислингом, увлекался, как все, африканским искусством и кубистами, стал выставляться в Париже 22 лет от роду, а к своим 82 годам был всемирно известным скульптором, лауреатом, кавалером орденов, богачом и умер на острове Капри. Тут самое время уточнить, что на булонскую виллу Липшица, построенную Корбюзье, я ездил в гости, не к скульптору-лауреату Липшицу, который давно на ней уже не жил, а к его бывшему пасынку и моему приятелю, человеку невероятной судьбы Андрею Шимкевичу. Может, это именно Андрей, а не изнеженный хитрец Феликс Юсупов и был самый славный человек в Булони…
Андрей был выходцем из знаменитой петербургской семьи. Фамилию его дяди, известного ученого-биолога, найдешь даже в кратких советских энциклопедиях (он, кстати, давал некогда уроки биологии юной матушке писателя Владимира Набокова – тесен былой Петербург). Отец Андрея, молодой Шимкевич, был, как все тогдашние недоучки, бунтарь, революционер, писатель, попал в Париж в эмиграцию (в пору первой русской революции), влюбился в красивую поэтессу-эмигрантку и женился на ней. Тут-то и родился Андрей. Потом супруги разошлись, а в России грянула новая, долгожданная, накликанная интеллигенцией революция, а за ней большевистский путч. Отец Андрея ринулся на родину – завершать дело революции, а красавица поэтесса вышла замуж за ставшего уже знаменитым молодого скульптора Липшица, в семье которого и рос Андрюша. Подросши, он стал неуемным, неукротимым (как все подростки, переживающие, можно сказать, новое свое появление на свет). В таком возрасте и с родным-то отцом не договориться, а тут еще какой-то отчим… Вот в России, где все поставили, говорят, с ног на голову, там интересно. К тому же там родной отец, видный военачальник. Надо бежать в Россию… И Андрей уехал к отцу. Отцу, конечно, было не до воспитания подростка: он день и ночь пропадал над картами в штабе, где обсуждали захват власти на всей планете. А Андрюша оказался на московской улице, дружил с беспризорниками, ночевал в теплых асфальтовых котлах. Учился у новых уличных друзей чему придется и уже лет пятнадцати попал в тюрьму – угодил в шестеренки еще только созидаемой гигантской пенитенциарной машины. Подросток он был лихой и крепкий, сбежал из тюрьмы, снова попался и снова сбежал. Снова поймали… И вернулся Андрей Шимкевич обживать бараки и нары ГУЛАГа – на долгих 27 лет. А потом Гуталинщик дал дуба, и была амнистия тем ни в чем не повинным, кто еще выжил. Андрей выжил – он был чуть не с детства лагерным человеком. А когда он вышел на волю, оказалось, что матушка его еще жива, живет на краю Булонского леса в доме, который Корбюзье построил для ее второго, давно уехавшего в Америку мужа. Первого-то большевики к тому времени поставили к стенке за все его «ревзаслуги». Стала Андреева матушка теребить французское правительство, а оно теребило советское. И чудо свершилось – отпустили Андрея к матери, на волю, в родную Францию, от которой так давно он отвык. Привыкать было, пожалуй, поздно – ни жены, ни профессии он уже не завел, а все-таки выжил, выживать его научил лагерь…
МОЛОДОЙ ГЕНИЙ ЛИПШИЦ ВСЮДУ ХОДИЛ С ЛЮБИМОЙ СОБАКОЙ
Приехав во Францию, я навестил его на Сосновой аллее в Булони, где и запертая мастерская, и самый дом пропахли его любимыми кошками. В доме Корбюзье и жил со своими кошками бедный зэк, оставивший больше полжизни в лагерях. Выражался он красочно, одними русскими матюжками, притом с неистребимым французским акцентом. Да хоть бы и без матюков, все равно на сытых аллеях Булони никто никогда бы не понял, о чем он толкует, какой еще такой лагерь…
Андрея нет больше, а вилла стоит: Сосновая аллея (l’Allée de Pins), дом № 9, угол улицы Искусств (la rue des Arts). Тут даже не один особняк, построенный Корбюзье для друзей-скульпторов, а два: один для Жака Липшица, а другой – для Оскара Мещанинова. Дома эти и в путеводителях обозначены, сюда ходят любители современной архитектуры, интересуются творчеством Корбюзье. Тут им раздолье, в этом булонском квартале Парка Принцев (Le quartier du Parc des Princes): на улице Нэнжессер-э-Коли (Nungesser-et-Coli) тот же Корбюзье построил дом № 24, а на улице Данфер-Рошро – дом № 6 (знаменитый дом Кука). Конечно, те же любители будут искать тут и дома, построенные архитекторами Малле-Стивенсом, Фидлером, Гильго, Хиляром, Перре, Фор-Дюжариком, Куррежем, Борнэ, Фишером, Пату… А самый этот квартал между Булонским лесом и авеню Королевы (l’Avenue de la Reine) задумал для чистой публики еще сам преобразователь Парижа барон Осман.
В том же шикарном квартале Парка Принцев на улице Саломона Рейнаха поклонники Наполеона обнаружат библиотеку-музей Поля Мармоттана. Чего там только нет, в этой галерее! Главное, там есть все, что имеет непосредственное отношение к прославленному императору.
Музеями эти места вообще не бедны. В квартале Меню (Menus) на набережной Четвертого Сентября (дом № 10) разместился музей-сад Альбера Кана. Этот богатый меценат, друг Родена и Анри Бергсона, оставил в дар городу не только свои дом и сад, но и свою богатейшую фотокиноколлекцию, истинный «архив планеты».
О музее Поля Ландовского я уже упоминал выше, но не говорил еще ни о здешней церкви Нотр-Дам-де-Меню (основанной в начале XIV века), ни о замковом парке, ни о замке Бушийо, ни о доме Марии Валевской, ни об острове Сеген, ни о муниципальном музее, ни о Булонском лесе… Богат славный мир городка Булонь-Бийанкур, в который то ли судьба, то ли просто женщина, то ли обе загнали на унылый чердак замечательного русского поэта…
Не имея надежды описать не только всех славных французов, но даже и всех славных русских, чья жизнь была связана с этим мало кому известным за пределами Франции парижским предместьем, не могу не рассказать хоть кратенько об одной совершенно замечательной русской женщине, жившей на малоприглядной главной улице былого Бийанкура. Звали ее Софья Алексеевна Волконская, княгиня Волконская, еще точнее – светлейшая княгиня Волконская… В ту пору, когда в разных углах ее обширной бийанкурской квартиры жили ее и мужа родственники, ее молодые племянники-студенты (ныне разбросанные по свету, но помнящие и эту безалаберную квартиру и ее блистательную хозяйку), – в те годы Софья Алексеевна зарабатывала на жизнь за баранкой. Она была шофером ночного парижского такси, хотя в той, другой жизни…
По рождению она была Бобринская, графиня Бобринская. Бобринские ведут свой род от самой императрицы Екатерины II и красавца Григория Орлова, а уж юная-то Софи Бобринская женскую судьбу и вовсе выбрала себе необычную – окончила Женский медицинский институт, стала хирургом, а в Гатчинской летной школе сдала экзамены и получила диплом пилота. Замуж она вышла за князя Долгорукого, родила дочку, которую назвали по матери Софьей, Софкой, но брак не очень клеился, а тут еще – Первая мировая война. Молодой врач княгиня Долгорукая чуть не с первых дней войны – среди крови, криков боли, страданий – в госпиталях Красного Креста, на передовой. Сперва на западе – в Варшаве, Лодзи, Равке… Потом оказалась в Персии, при корпусе генерала Баратова. Там война еще дольше тянулась, чем всюду. В 1923 году в Берлине вышла мемуарная книжка «Персидский фронт», написанная А. Емельяновым, возглавлявшим в тех краях фронтовую медицину. Вот из нее страничка:
«…В холерном отделении в круглом сводчатом зале пришлось больных класть на циновках на каменный пол… Холерных человек шестьдесят. В «бараке» доктор – кн. Долгорукая. Слушает пульс, дает лекарства, поправляет подушки, переворачивает больного. Все сама. Молодая, лет двадцати пяти. Уже несколько ночей она не спит, и странным кажется бледно-зеленый цвет ее лица… от усталости, или это такое освещение в полутемном сводчатом зале старинного здания? Она – в белом халате, со сжатыми губами и карими с лихорадочным блеском глазами… Мать, доктор, авиатор, георгиевский кавалер трех степеней – она уехала с нашего фронта полным кавалером. Бесстрашная в боевой обстановке, она презирала опасность и в заразном бараке. Она очень любила жизнь и была фаталисткой. На фронте она рисковала ею очень часто – жизнью молодой, интересной и материально сверх меры обеспеченной. Нет, это не только любовь к приключениям! Это уже любовь к долгу, к посту своему, к ближним!»
…Вот такая женщина, небрежно отведя локтем пьяного кабацкого завсегдатая и даже не обернувшись на полуфранцузское бормотание сутенера, выходит из ночного шоферского кафе в свежесть парижской ночи, садится за руль. На лице ее омерзение, тоска, боль. Потом тень воспоминания ложится на лицо, его освещает чуть заметная мечтательная усмешка… О чем вспоминает светлейшая княгиня, героиня железного XX века, полный георгиевский кавалер? Нам с вами удастся узнать об этом, ибо кое-что из того, о чем она вспоминала (и о чем, конечно, писала), до нас дошло – стихи (напечатано было совсем немного стихов, которые высоко оценил эмигрантский «король поэтов» Георгий Иванов), ее проза: в 1934 году вышла в Париже ее книга «Горе побежденным», одна из самых удивительных книг эмигрантской мемуарной прозы – и прошла незамеченной (до того ль было бедолагам-русским в 1934-м?). В этой книге – фантастический эпизод этой воистину фантастической женской жизни. Время действия: 1918–1920. Крестный путь – Петроград, Лондон, Стокгольм, Хельсинки, Гатчина, Петроград, Москва, Таллин, Париж… Путешествие по краю пропасти, история любви и подвига, история победы любящей женщины в ее отчаянной борьбе за спасение любимого человека, лучезарной победы, которую здесь, ночью, возле паскудного парижского кафе и стоянки ночного такси так трудно отличить от поражения…
Думаю, что позднее, после войны, к прочим трудностям и унижениям, которые претерпела светлейшая княгиня, прибавилось еще одно. Дочь ее Софья Долгорукая (Софка) приехала к матери в Париж из Лондона погостить и после триумфального вступления нацистов в Париж была арестована как британская подданная. С большим трудом удалось ее вызволить из лагеря, и она вернулась в Англию. Этот эпизод (вписавшись в атмосферу послевоенного патриотического полевения русской эмиграции), возможно, завершил политическое воспитание молоденькой княжны Долгорукой: она стала боевитой коммунисткой и вышла замуж за английского работягу, взяв его незамысловатое имя Скипуид. Позднее княжна-коммунистка поведала о своих приключениях в книге «Софка» (написанной, понятное дело, по-английски), но на ее счастье, светлейшая княгиня уже не дожила до этого скромного дочернего литературно-издательского подвига: Софья Алексеевна умерла в 1951 году, и на смерть ее откликнулись в скромной послевоенной «тетради» журнала «Возрождение» поэт Георгий Иванов и генерал Лампе. «Из нашей жизни ушла замечательнейшая русская женщина, – писал Георгий Иванов, – необыкновенно одаренная и своеобразная. В любой стране ум, литературный талант, душевная исключительность и энергия покойной С.А. Волконской обратили бы на нее всеобщее внимание, поставили бы ее на заслуженную высоту. В любой «своей» стране. Но ведь она долго жила и умерла не в своей стране. И вот, вместо любви и признания, могила в чужой земле, тетрадь своеобразных, острых, блестящих стихотворений, из которых всего одно или два были где-то случайно напечатаны, изданная по-русски и по-английски интереснейшая и все-таки не пробившая стены читательского равнодушия и духовной глухоты книга, да еще ряд статей и литературных обозрений… тоже блестящих, умных и острых, как все, что выходило из-под пера Софьи Алексеевны.
…Грустная, типично эмигрантская судьба.
…Образ С.А. Волконской когда-нибудь послужит будущему, более счастливому, чем она, русскому писателю волнующей темой», – завершал некролог Георгий Иванов.
Нантер
Девочка из Нантера Нантерские слависты • Библиотека всемирной документации • Кладбище в Нантере
Кто б мог подумать в эпоху неолита, когда здесь уже существовало человеческое поселение, или хотя бы в галльскую эпоху, когда городок этот носил простенькое название Намнетодурум, что невидный этот город разрастется так бурно (и безобразно), став центром департамента Верхней Сены и вместив великое множество казенных учреждений. Судя по названиям нынешних улиц Нантера (Nanterre) – Пикассо, Жолио-Кюри, Альенде, – местная власть находится здесь в руках левых, а ведь все начиналось когда-то так славно. В 419-м, то ли в 422 году нашей эры в селении этом родилась девочка, которую нарекли Женевьевой, а по смерти стала она высокопочитаемой покровительницей Парижа и называлась Святой Женевьевой (почитание это, впрочем, не помешало беспардонным парижанам в пору их безбожной Революции раскурочить гробницу своей святой покровительницы).
Когда Женевьева (ее называют иногда Геновефой) была еще совсем маленькой девочкой и пасла овец, ее заметил приходивший в Нантер проповедовать святой Жермен, который и предсказал ей великое будущее. И действительно, еще в молодые годы Женевьеве выпало совершить немало чудес. Например, она исцелила от слепоты собственную матушку, омыв ей глаза простою водой из колодца – колодец этот, кстати, до сих пор стоит на Церковной улице (rue de l’Eglise) близ кафедрального собора Святой Женевьевы в Нантере. В 451 году во время нашествия гуннов Женевьева уговорила жителей левобережного холма (ныне гора Святой Женевьевы в Париже) не покидать свои дома и ничего не бояться. И случилось чудо: гунны не напали на Париж, город был спасен. После прихода франков в Париж Женевьева сумела подружиться с королевой франков Клотильдой и немало способствовала обращению короля Хлодвига в христианскую веру. Можно заметить, что даже многие из православных почитают святую Женевьеву, покинувшую сей мир в 512 году. Мне лично доводилось читать в статье руководителя православного издательства «Имка-Пресс» Никиты Алексеевича Струве, что, по его наблюдениям, его издательство и русский книжный магазин на улице Горы Святой Женевьевы находятся под покровительством святой Женевьевы. Кстати, в родном городе святой Женевьевы Н.А. Струве доводилось профессорствовать до самой пенсии. Дело в том, что в Нан-тере размещается один из тринадцати университетов, на которые распалась былая Сорбонна, – университет Париж-Х-Нантер. В 70-е годы минувшего столетия в университете этом преподавал русский язык и литературу ленинградский профессор Ефим Эткинд, по инициативе которого были изданы на французском языке поэтические переводы из Пушкина и «Антология русской поэзии». Университет устраивал международные коллоквиумы, посвященные тысячелетию крещения Руси, столетию со дня рождения Анны Ахматовой и другим событиям, здесь преподавало и преподает много знатоков русского языка и литературы (в том числе внучка Н.О. Лосского М.В. Семон). А лет десять тому назад мне довелось познакомиться с одной из преподавательниц русского языка в Нантере, которую зовут Анна Кишилова. Она француженка, преподавала в Москве, где вышла замуж за русского художника Николая Кишилова, которому родила дочь и сына. Вскоре по приезде семьи в Париж совсем еще молодой художник умер от сердечного приступа, и Анна одна растила детей. И вот недавно, когда я почувствовал боль в сердце, друзья сказали мне, что в Париже есть «русский доктор» и зовут ее Лиза Кишилова. Я добрался до XI округа Парижа и впервые в Париже попал на прием к «русскому доктору». То есть к врачу, который (вопреки пессимистическим прогнозам Стефана Цвейга) еще «глядит в лицо больному», подолгу расспрашивает его, пытается понять, что к чему, и только потом берется за перо, за телефонную трубку, за толстый справочник рецептов или за мышку компьютера… Я не знаю, в чем здесь было дело – в ранней ли трагической гибели отца-художника, в русской литературе или в уроках покойной русской бабушки, но что-то там происходило нездешнее, непарижское в неказистом врачебном кабинете в XI округе Парижа. Вот там я и услышал впервые о Лизиной матери, преподавательнице Анне Кишиловой из города святой Женевьевы – Нантера…
В кампусе Нантерского университета находится и одна из интереснейших библиотек Франции: Бе-Де-И-Се, Библиотека всемирной современной документации (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine). Когда разразилась Первая мировая война, возвестившая истинное начало нового страшного века, века войн, концлагерей, тоталитарных режимов, репрессий и геноцида (того, что мы гордо называем нашей современностью), не французские профессора истории, а скромные (но тонкие, чувствительные) супруги-парижане, фабрикант месье Леблан и мадам Леблан, решили собирать все, связанное с войной и эпохой: как-то так получилось, что именно чета Лебланов осознала переломный характер всего происходившего тогда в мире. Собирали печатные издания, афиши, фотографии, картины, рукописи, письма, открытки… Коллекция вскоре заполнила квартиру Лебланов близ Елисейских Полей, а потом и купленный супругами дом в предместье Малаков. В 1917 году супруги передали свою уникальную коллекцию государству, и на ее базе в Венсенском замке открылась «Библиотека-музей войны», приписанная к Париж-скому университету. Библиотека пережила оккупацию, пожар, все угрозы века, и вот в 1970 году библиотека-музей переехала в кампус Нантерского университета. Там много чего найдешь, в этой библиотеке, – и то, что связано с войнами, и то, что связано с заблуждениями века, а еще больше – с его преступлениями. В библиотеку поступили многие важные «приблудные» архивы – от архивов лагерей депортации или архива зарубежного украинского союза до архива движения феминисток. Библиотека дала приют и беглым документам, и живым беженцам (двое моих московских друзей нашли здесь самое дефицитное, что есть во Франции, – работу). А тем, кто захочет узнать что-нибудь новое о «современности», тем остается только доехать в поезде пригородного метро до Нантера…
Кстати, в Нантере, на улице Вальми (№ 40), есть заслуживающее внимания так называемое «Новое кладбище Нёйи». В 1936 году здесь был похоронен русский композитор Александр Глазунов. Он десять лет прожил в Париже эмигрантом. В 1972 году останки его были перевезены в Ленинград.
На том же кладбище покоится и один из основоположников абстрактной живописи, всемирно известный художник Василий Кандинский. Он родился в Москве, учился в Московском университете, потом четыре года жил в Германии, куда снова уехал после революции. До прихода фашистов к власти он преподавал в веймарском «Баухаусе», а потом перебрался под Париж, в Нёйи-сюр-Сен, где и умер в 1944 году.
Уроженец Киева Борис Суварин (Лившиц), довольно известный левый политик, похоронен на том же кладбище. Он был членом президиума и членом секретариата 3-го Интернационала, активно участвовал (даже находясь в парижской тюрьме Санте) в создании французской секции этой всемирной саботажно-разведывательной организации (позднее секция эта была названа компартией Франции), однако был из организованной им подрывной партии исключен за симпатии к Троцкому. Оставшись без дела, он написал много трудов, среди которых была и нелицеприятная биография Сталина. Суварин дожил на покое до 89 лет, однако я не уверен, что он позволил себе до конца осознать преступно-уголовный характер большевизма. В одной из книг о Суварине есть любопытный эпизод. Ему, уже исключенному из партии, коминтерновцы вдруг поручают собрать материалы о еврейских погромах для оправдания убийцы Петлюры перед судом в Париже. И Суварин, по его сообщению, недоумевает, почему оправданием убийцы занимается компартия. Как поверить, что Суварин и в зрелом возрасте не знал о единстве ГПУ и Коминтерна, что он не догадывался, чьим агентом был убийца Петлюры? Впрочем, и нынешние французские леваки позволяют себе подобное кокетство…
Кламар
Русский «мозговой центр» Кламара «Ссыльная королева» Кламара • Тайна Бердяева • Сестра и брат Карсавины
На фоне большинства изуродованных многолюдством и промышленной застройкой предместий Парижа юго-западный городочек Кламар (Clamart) выглядит вполне зеленым и тихим. Сказывается близость Медонского леса на восточной окраине, а в северной части города сохранились и остатки здешней старины. Городская мэрия, к примеру, разместилась в старинном замке, где уцелела даже голубятня XV века. Церковь Сен-Филипп-Сен-Жак была построена в 1741 году на месте старинной часовни Святой Европы, упоминания о которой можно найти уже в документах XII века. Перестроенная в XV веке одна из церковных башен сохраняет фундамент XIII века. Сохранились также северный портал церкви и неф, построенные в стиле «пламенеющей» готики.
Кламар некогда славился искусством своих огородников, поставлявших овощи в столицу. Как Ростов-Ярославский, он был городом зеленого горошка, и эту славу удерживал до Первой мировой войны. Ныне лишь ежегодный июньский праздник в былой огородной столице напоминает об ушедшей его гороховой славе.
Позднее в Кламаре, преимуществом которого считалась его близость к Парижу, жили иные из французских литературных знаменитостей. Так, в доме № 46 по улице, носящей имя активного певца стахановского движения Поля Вайяна Кутюрье, жил писатель Альфонс Доде, родной отец ультраправого литератора Леона Доде.
Впрочем, в большую литературу Кламару довелось войти лишь с прибытием русских беженцев из большевистской России. Вообще, учитывая незначительность числа русских эмигрантов во Франции (в сравнении с числом итальянских или польских, а позднее – алжирских или тунисских беженцев), надо признать, что в Кламаре (как и в Медоне или Ванве) присутствие русских было все же весьма ощутимо. Во-первых, заметным было появление в этом старинном католическом городке православной церкви. Ее построил в парке своего обширного кламарского имения граф Хребтович-Бутенев, и митрополит Евлогий назначил в нее священником только что прибывшего из Константинополя отца Александра Калашникова. Посвященная святому Константину и святой Елене церковь размещалась в доме № 4 по улице Анри, в графском имении, которое из-за обилия обитавших в нем беглых родственников графского зятя Григория Трубецкого окрестили в Кламаре «гнездом Трубецких».
Кламар конца двадцатых годов можно было бы назвать и «гнездом левого евразийства». Историки этого эмигрантского движения (идеи которого часто всплывают на поверхность и ныне) иногда пишут о «кламарской группе» и о «кламарском расколе». Первые книги с изложением идей об особом, не западном и не восточном пути России (о русском «третьем континенте»), о чуждости России европейскому укладу, а позднее также о постепенной либерализации большевизма и возвращении к православным ценностям написали известные ученые – Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский. Позднее обнаружились различия и даже противоречия между пражской и парижской группами евразийцев. Парижская группа, как заявлял муж поэтессы Марины Цветаевой Сергей Эфрон, была более левой и радикальной и, по мнению того же Эфрона, могла сгодиться для пропаганды советских взглядов (Савицкий даже называл взгляды кламарских евразийцев «коммуноидальными»). Сам Эфрон пришел к принятию этих взглядов еще раньше, а в 1926 году примкнул (а может, и был прикомандирован) к евразийцам. В 1928 году в Кламаре, где жил левый евразиец музыковед П. Сувчинский, уже обосновалась редакция еженедельного журнала «Евразия». Направление журнала разрабатывали Трубецкой, Савицкий, молодой профессор князь Д. Святополк-Мирский и Сувчинский, но последний взял все в свои руки, и это привело к расколу движения. Спор возник уже из-за первого номера журнала, прежде всего из-за публикации «Приветствия Марины Цветаевой Маяковскому». Маяковский в то время часто навещал Париж при благосклонной помощи своих друзей и друзей Лили Брик из ГПУ. В своем «Приветствии» Цветаева решила подтвердить свое согласие с очередным пропагандистским выступлением Маяковского, заявив, «что сила – там», то есть у большевиков, в СССР. О какой силе идет речь, Цветаева не объясняет. О силе армии, ГПУ, партии, концлагерей или о силе «правды» (как утверждал Маяковский) и «силе духа»? Позднее к такому же выводу о «силе» (и к полной капитуляции перед сталинским режимом) пришли все вожди эмиграции, но в 1928 году заявление это содержало вызов. Маяковский был певцом воинствующего атеизма и террора, и это как-то мало вязалось тогда даже с идеократическими идеями евразийства. В евразийской партии произошел раскол («кламарский раскол»). Что до Цветаевой, то ей это «Приветствие» доставило немало неприятностей. Ее перестали печатать в лучшей эмигрантской газете. Сергей же Эфрон, как считают, стал платным агентом ГПУ – НКВД только в 1932 году. Впрочем, бесплатным агентом идеалист Эфрон мог быть и раньше. Даже самые благожелательные цветаеведы пишут об этом человеке, что «жажда действия опережала в нем осознание мотивов действия» (то есть если он и обладал умом, то «задним»). Так или иначе, «вербовщик» и «наводчик» (как назвала его собственная дочь) Эфрон успел завербовать в разведку и свою дочь, и довольно много будущих убийц и шпионов, ну а в Кламаре семья Цветаевой жила в довольно плотном просоветском окружении.
Собственно, случайное (а скорее не случайное) скопление левых евразийцев – как чистых идеологов, так и энтузиастов нелегальных связей с ГПУ и вполне отчаянных «практиков» (вроде Родзевича, Арапова, Эфрона) следует отнести к началу 20-х годов, когда маленький, невидный Кламар становится «мозговым центром» эмиграции и в значительной степени опорным пунктом московских разведслужб. В этом становлении «кламарской группы» самую видную роль сыграл даже не знаменитый писатель-философ Бердяев, а гораздо менее знаменитый (и гораздо меньше писавший) музыковед П.П. Сувчинский. А в «раскручивании» и вдохновлении левого евразийского уклона, представляется мне, большую роль сыграла успешная лубянская операция «Трест», непосредственно связанная с Кламаром, обсуждавшая с тамошними евразийцами вопросы «идеологии» (борьбы с империализмом и чуждыми течениями эмиграции, помощь большевизму) и тактики: иные из евразийцев ездили на совещания в Москву с докладами, но документов, как иазвестно, пока напечатано мало, а благожелательные мемуаристы редко дерзали задевать долгожителя Сувчинского. Кое-что все же дошло до наших дней. В 30-й тетради послевоенного парижского журнала «Возрождение» (1953 год, публикация Н. Цурикова) помещено было относившееся к 20-м годам письмо некоего молодого пражского евразийца. Автор его пишет из Парижа о роли Сувчинского и его помощников по затеянному ими просоветскому журналу:
«Характер сотрудников в тройке обуславливает выдающееся положение Сувчинского. Фактически он, конечно, лидер… Он является крестным отцом евразийской идеологии. Он ведет внешнюю работу, сношения… Он является главным нервом всей системы. На нем лежит тяжесть конспиративной работы».
В том же письме можно найти любопытный портрет Сувчинского (который позднее использовала в своей книге «Люди и ложи» Н. Берберова):
«Сувчинский произвел на меня впечатление избалованного кота-сутенера. В головке он больше всего гнет в сторону ГПУ, как он говорит, в сторону реальной обстановки… Он типичный эстет-лодырь, самовлюбленный до конца. Евразийство для него средство, которое дает ему возможность хорошо жить, ездить отдыхать на берег океана, проводить время в праздном безделии… По своему складу он эстет с головы до ног. Сомневаюсь, чтобы он стал бы распинаться за евразийство. Прежде всего он думает о себе и с этим критерием подходит к вопросам «идеологии». Евразийство, кроме материальных возможностей, щекочет его самолюбие… Все-таки он столп и апостол этого течения, о котором все говорят, и о котором он говорит с видом скучающего сноба. То обстоятельство, что он стоит во главе определенной отрасли дела, создает определенную возможность для появления около него всесильного секретаря. Учитывая характер лиц пражской группы, можно сказать, что вероятным его «секретарем» будет Родзевич, человек волевой и беспринципный (напомню, что это знаменитый герой двух цветаевских поэм, а может, и отец ее сына. – Б.Н.). Более талантливый Ефрон не сможет дополнить Сувчинского, так как сам бесхарактерен и, кроме того, с известными устоями элементарной морали».
Автор письма из Парижа подробно пишет о подготовке евразийского журнала:
«Сейчас здесь, в Париже, заняты подготовкой газеты-журнала для заграницы. В состав редакции, кроме ведущей группы (тройки), предполагается назначить С.Я. Ефрона, человека, пользующегося большим моральным авторитетом, говорят, очень симпатичного. Ефрона я мало знаю. На меня он произвел впечатление мягкотелого интеллигента-эстета, тоскующего по силе… Большую роль играет К.Б. Родзевич – расчетливый карьерист, без всяких моральных устоев, с одним желанием – играть роль, не брезгуя средствами. В качестве идеолога он не выступает, писать не умеет. Его быстрое продвижение объясняется, очевидно, какими-то организационными заслугами. Сейчас сюда командирован Ч., человек в высшей степени порядочный, симпатичный, как институтка, влюбленный в евразийство. Выступал до прошлого года как идеолог-публицист…»
Не берусь сказать, может ли под Ч. быть зашифрован Карсавин. Что касается Родзевича, то данная здесь характеристика не противоречит письму Цветаевой о том, что герой ее двух поэм К. Родзевич сообщал ей, что на дочери о. С. Булгакова молоденькой Муне (Марии) он женится без любви, из соображений «деловых».
В общем, теперь уже мало сомнений в том, что переезд семьи С.Я. Эфрона и М. Цветаевой в парижские пригороды связан был с его «новой интересной работой, о которой Эфрон сообщал в интимном письме. Право на такую работу он заслужил, вероятно, еще в Праге. Позднее связи Эфрона с разведкой (и близость поэтессы к нелегалам и шпионам, вроде новой жены Сувчинского В. Гучковой) стали очевидны для многих в эмиграции, но, конечно, не для всех.
«Ссыльной королевой» называла поселившуюся в 1933 году в Кламаре (сперва на улице Кондорсе, а потом в доме № 10 по улице Лазаря Карно) жену Эфрона Марину Цветаеву жившая неподалеку французская писательница из знаменитой русской семьи – Зоэ Ольденбург:
«Ссыльная королева, бродившая в старых стоптанных туфлях по улицам Кламара, – что там «уборка чужих квартир», заработок более пристойный, чем многие другие, – натирая черепицу пола или раковину, продаешь лишь силу своих мускулов. А она жила, отгороженная от целого мира кошмарной музыкой слов, опалявших ее днем и ночью… ворожея и вакханка, волчица, колдунья, заклинательница, чаровница, звезда, упавшая с неба на перрон станции метро».
Такой представлялась издали молоденькой аристократке загадочная, мифическая поэтесса. Письма самой Цветаевой, написанные из Кламара, содержат обычные жалобы на домашнюю работу, на отсутствие новой любви и женского счастья, на нужду и надоевшую конину, которая тогда стоила дешевле телятины. Хотя к 1933 году материальное положение семьи поэтессы несколько поправилось (С.Я. Эфрон уже получал тогда жалованье в НКВД), но денег не хватало. Да надо сказать, и другим жителям Кламара «из бывших» приходилось нелегко. Вот как сама М.И. Цветаева описывает (в письме к А. Тесковой) быт своей кламарской подруги, бывшей жены писателя Леонида Андреева Анны Ильиничны Андреевой:
«У нее четверо детей, и вот их судьба: старшая (не андреевская) еще в Праге вышла замуж за студента-инженера и музыканта. И вот А.А. уже больше года содержит всю их семью (трое), ибо он работы найти не может, а дочь ничего не умеет. Второй – Савва танцует в балете Иды Рубинштейн и весь заработок отдает матери. Третья – Вера (красотка!) служит прислугой и кормит самое себя, – А.А. дала ей все возможности учиться, выйти в люди, – не захотела, а сейчас ей уже 25. Четвертый – Валентин, тоже не захотевший и тоже по своей собственной воле служит швейцаром в каком-то клубе – и в отчаянии. Сама А.А. держит чайную при балете Иды Рубинштейн и невероятным трудом зарабатывает 20–25 франков в день, на которые содержит своих – себя и ту безработную семью. Живут они в Кламаре, с вечера она печет пирожки, жарит до 1 ч. ночи котлеты, утром везет все это в Париж и весь день торгует по дешевке в крохотном загоне при студии Рубинштейн, кипятит несчетное число чайников на примусе, непрерывно моет посуду, в 11 ч. – пол, и домой – жарить и печь на завтра…» Можно добавить, что лучшая эмигрантская подруга Цветаевой А. Андреева имела вдобавок терпение выслушивать («с пониманием») все жалобы (по большей части любовные) страдалицы поэтессы и еще находила время, чтобы перепечатывать для нее письма и стихи. Она устраивала у себя музыкальные вечера (с участием С. Прокофьева), чтение стихов…
В ЭТОМ КЛАМАРСКОМ ДОМЕ МАРИНА ЦВЕТАЕВА НАЧАЛА ПИСАТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ПРОЗУ.
Фото Б. Гесселя
Кламару, который казался Цветаевой плоским и невзрачным, русская литература обязана началом цветаевской лирической прозы. Осенью 1932 года Цветаева начала здесь писать очерк о Максе Волошине. Здесь были написаны также «Дома у Старого Пимена», «Пленный дух» и «Хлыстовки».
«…Стихов моих, – писала Цветаева из Кламара в Прагу, – нигде не берут, никто не берет – ни строчки… Эмиграция делает меня прозаиком…..лучшее в мире после стихов, это – лирическая проза, но все-таки – после стихов».
Весной 1934 года, пытаясь подбодрить Ходасевича, Цветаева написала ему из Кламара в его Бийанкур:
«Нет, надо писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, ни Вишнякам, ни бриджам, ни всем… этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта – прозаика, а из прозаика – покойника».
В несколько лучшем, чем его соотечественники – соседи по Кламару (и тем более, чем его соотечественники и единомышленники, оставшиеся в России), положении находился живший в Кламаре известный религиозный философ (и пылкий политик) Николай Бердяев. Николай Александрович Бердяев был выслан Лениным из России в 1922 году и уплыл в эмиграцию на знаменитом «корабле философов». Бердяевы (Николай Александрович, жена его Лидия Юдифовна, сестра ее Евгения и прислуга Мария) сперва снимали квартиру, а к 1937 году (когда материальное положение семьи стало особенно затруднительным) они вдруг получили наследство от умершей в тот год участницы кружка Бердяева и подруги его жены англичанки Флоранс Вест. Вот как рассказывает об этом Лидия Юдифовна в своих дневниках:
«Как бы предчувствуя свою смерть, она составила завещание. Большое состояние, полученное ею от мужа, она распределила между родными, на благотвор. цели и среди друзей. Для нас это завещание было поистине выходом из критического положения. В июне… мы должны были оставить квартиру, где жили 10 лет, т. к. не могли бы платить за нее из-за повышения цен и вздорожания жизни. И вот именно в это время мы получили этот дом, куда и переехали летом… Дом очень уютный, с небольшим садом, большими каштанами. Нравится он мне тем, что напоминает старую русскую усадьбу…»
Так что хотя бы Бердяеву удавалось жить в Кламаре почти по-барски. В доме бывали гости, устраивались журфиксы, совещания с участием бывших эсеров и левых католиков, собеседования-чаепития, о которых регулярная их участница Е.И. Извольская вспоминала так:
«Мы сидели вокруг широкого стола в столовой, из которой открывался вид на липовую аллею, которая в пору цветения наполняла сад своим сладким ароматом… Казалось, вот-вот увидишь бесконечные хлебные русские поля, вместе с их спелыми стеблями, колышущимися от ветра… На стол подавались разнообразные домашнего приготовления пирожные и пироги, поскольку жена Бердяева и его свояченица обе были искусные домашние хозяйки, делившие свой досуг между философскими размышлениями и тайнами кулинарии…»
Впрочем, Лидия Юдифовна признавалась, что она, как и Марина Цветаева, ненавидела быт, только у нее помойное ведро не стояло посреди комнаты, поскольку быт в доме налаживала ее сестра Евгения. Сама Лидия Юдифовна занималась католической деятельностью и писала стихи:
Николай Александрович Бердяев очень много писал, мог работать в любом настроении и писал блестяще. Он был религиозным философом, высоко ценимым во всем мире, но был он и политиком, и социологом, и экономистом и, как верно отмечалось, «не чужд был партийной страсти». При этом он считал себя марксистом, левым и, как какая-нибудь студентка из либерального американского университета, опасался, что его, упаси Боже, сочтут реакционером и сколько-нибудь «не левым». Хотя он написал две вполне антибольшевистские, блестящие книжки, он считал себя революционером (вероятно, даже в большей степени, чем большевики). В дневнике за 1943 год Лидия Юдифовна передает слова Бердяева: «Из людей, с которыми я был связан в прошлом (С. Булгаков, П. Струве), только во мне остались еще какие-то элементы марксизма. У них они окончательно исчезли. Я же по природе своей революционер». К тому времени Бердяев уже объявил себя вполне «просоветским» человеком, и это было очень по-эмигрантски. Бердяев, впрочем, с первого дня заявил, что он не сам эмигрировал, а был выслан. Звучит это последнее заявление неубедительно, так как товарищ Ленин предоставлял истинным революционерам выбор: вернуться и быть расстрелянным. Так многие и поступили. Поскольку Бердяев неплохо знал об истинном положении подсоветских россиян, о гибели священников, крестьян, интеллигенции, о лагерях и цензуре, его восторги по поводу демократической советской конституции и сталинского режима наводят на мысль о том, что, глубоко интересуясь Богочеловеком, религиозно-политический философ Бердяев мало интересовался судьбой простого человека. Такое бывает и с французскими философами (примером может служить «друг пролетариата» и человеконенавистник-марксист, исламист-интегрист Роже Гароди).
Надо сказать, что, странные, порой неожиданные и абсурдные пробольшевистские выступления прославленного Бердяева ставили в тупик и людей, лично знавших его, и его исследователей. И Вишняк, и Кускова говорили в связи с этим о «тайне Бердяева», разгадать которую не брались. Дерзнем предложить гипотезу, основанную не на сопоставлении бесчисленных противоречащих друг другу суждений этого европейски знаменитого автора, а на интимном признании жившего в ту же пору Осипа Мандельштама, обратившегося к Господу со смиренной молитвой:
Когда решение о высылке в 1922 году интеллигенции («корабль философов») было принято «на самом верху», осуществление операции (вполне возможно, что в рамках того же «Треста») было доверено Ф. Дзержинскому, и тогда для начала чекисты упрятали самых видных и влиятельных из намеченных к высылке интеллигентов на Лубянку, в «корабль смерти», в камеры смертников. Можно гадать зачем. Можно также гадать, о чем с ними толковали на «дружеских собеседованиях» у следователя – где-нибудь по соседству с камерой пыток. О том, какую «взаимоприемлемую» общую платформу вырабатывали на этих допросах-совещаниях (властям позарез нужно было склонять в ту пору Запад в сторону большевистской «национальной власти»). Излишне гадать о том, хотелось ли этим прекрасным людям (имена их известны – Бердяев, Осоргин, Кускова и ее муж, Карсавин, Ремизов…) выйти из «корабля смерти» живыми на свободу и уехать хоть на край света. Об этом догадаться нетрудно… И вот их выпустили, им подарили жизнь, взяв предварительно с них какие-то обязательства и дав подписать специальную бумагу. О бумаге этой упоминали и Бердяев и другие, а Бердяев даже дерзнул назвать какое-то неправдоподобное, абсурдное обязательство, которое с него взяли (обязательство «не возвращаться»). Но кто видел эту бумагу?
Вскоре по приезде в Берлин Бердяев был приглашен на антибольшевистское совещание философов на квартире Струве и произнес пылкую речь в защиту… большевизма. Беднягу Бердяева, едва вышедшего из камеры смертников, можно понять. Думаю, что ни в чьем прощении он не нуждается…
Через год после высылки философов помощница Ф.Э. Дзержинского, бывшая жена Горького Е.П. Пешкова, поехала в Европу затевать кампанию… «возвращенчества» (об этой истории дважды писал В. Ходасевич). Возглавить эту кампанию (имевшую целью смягчение неприязни Запада к большевикам, которым теперь нужна была срочно экономическая помощь капиталистов) влиятельная посланница ЧК поручила Кусковой, Осоргину, Пошехонову… Думается, они не могли ей отказать. Русская диаспора во Франции (ни на одном из своих уровней) никогда не могла отрешиться от страха перед всемогущей ЧК, избавиться от ее опеки, даже когда эмиграция этого хотела (а ведь и не всегда хотела при том положении полунищеты, униженности, утраты былого социального положения, в котором жили изгнанники). Не могу избавиться от мысли, что на всплески бердяевского филобольшевизма и «революционности» эти тайные «условия» могли влиять, независимо от того, как философ сам объяснял эти странности и себе самому, и другим…
Кроме столь понятного страха за жизнь Бердяев мог даже испытывать некую благодарность к «солдатам Дзержинского», которые выпустили его на свободу (хотя, конечно, все же и не оставляли вниманием) – поговорили так мирно (без зуботычин), обсудили кое-что и отпустили пользоваться проклятыми, столь ненавистными демократическими свободами, и даже писать о любимом, о своем разрешили (лишь изредка вставляя, да еще иногда и петитом) какую-нибудь смехотворно-восторженную фразу о сталинской конституции или еще о чем-нибудь подобном). Да ведь благодарность эта могла и подпитываться по временам какой-нибудь помощью. Вот супруга философа Любовь Юдифовна посещает время от времени жену старого знакомого Семена Либермана Генриэтту Паскар (она здесь зовет себя Паскаль, так ведь и новый ее коминтерновский возлюбленный Фогель зовется здесь повсеместно Вожелем). До крайности легкомысленное любовное поведение зрелой Генриэтты слегка шокирует добрую католичку Любовь Юдифовну, но при этом она ведь так добра, Генриэтта, так щедра. Щедроты ее могут питаться только одним источником – бизнесом ее мужа Семена Либермана (будущего тестя парижской музы Маяковского Т. Яковлевой), потому что С. Либерман еще с петербургских пореволюционных времен был бизнесмен-большевик, помощник Ленина и Красина. С последним он связи и за границей не порывал, деньги они добывали вместе, себя, конечно, не обижали, но и о нуждах большевистских пеклись. Бердяев в своих отвлеченных трудах не забывал (петитом же где-нибудь) поблагодарить С. Либермана за помощь (не философскую, конечно, а вполне конкретную). Да и мирную смерть С. Либермана в США (выделив из многих смертей, косящих людей что в России, что во Франции, что за океаном) отметил Бердяев особым некрологом…
Сам Бердяев умер в 1948 году с чистой совестью, за письменным столом, не выпуская перо из рук, прославляя Сталина и держа Библию под рукой. Похоронен он был на старом кламарском кладбище, а на первом этаже его дома устроена ныне церковь Святого Духа (входящая в юрисдикцию Московской патриархии), иконостас для которой написал отец Григорий Круг.
Бердяев был не единственным известным русским философом в малоизвестном местечке Кламар. В доме 11-бис на улице Сен-Клу (rue de Saint-Cloud) жил с семьей в середине 20-х годов (с 1926 по 1928) философ Лев Платонович Карсавин. Он принадлежал к тому главному направлению Русского религиозно-философского ренессанса, начало которого было положено Владимиром Соловьевым (к направлению этому относят отца Павла Флоренского, отца Сергия Булгакова, Евгения Трубецкого, Семена Франка, Николая Лосского). Вместе с другими философами, обременявшими ленинскую Россию излишком культуры, Лев Карсавин был выслан из России на «корабле философов» в августе 1922 года, жил и печатался в Берлине, еще в 1925 году начал сближаться с евразийцами, а летом 1926 года переехал в Кламар, самое гнездо «левых евразийцев», на всех парах шедших к сближению с большевиками. В Кламаре посещала Карсавина его красавица сестра, знаменитая дягилевская балерина Тамара Карсавина.
Лев Платонович Карсавин стал главным теоретиком левого евразийства, он напечатал два десятка теоретических статей в газете «Евразия». Понятное дело, что Карсавин отстаивал подчинение индивида коллективу и возлагал большие надежды на гуманизацию большевизма. Понять подобную слепоту философа не так просто, но, может, Карсавин с еще более философским спокойствием, чем Бердяев, взирал на страдания русских крестьян и пролетариев…
В 1928 году Карсавин переехал в Литву и возглавил кафедру всеобщей истории в Каунасском университете. В Каунасе Карсавин читал лекции и писал по-литовски, издал пять томов своего фундаментального труда «История европейской культуры» (рукопись шестого тома была изъята при аресте и утеряна). При вторжении советских войск в Каунас друг Советов Карсавин не бежал на Запад, несмотря на уговоры домашних, и вскоре был уволен из университета. Какое-то время он еще возглавлял музей в Вильнюсе и, может, за эти годы успел познать в распятой Литве степень гуманизации большевизма. Тем более что вел он себя смело до безрассудства. Он, понятное дело, хотел пострадать. Но хотел ли он, чтобы пострадала его семья? Кто поймет душу философа?
Карсавин был арестован чекистами в 1949 году, получил десять лет лагерей (в соответствии с Конституцией, воспетой Бердяевым и Джамбулом) и был препровожден в Воркуту по этапу. Он продолжал писать религиозно-философские статьи и за колючей проволокой, создал кружок из заключенных, вел с ними духовные беседы и сгорел от чахотки в лагере Абезь, не дожив до своего семидесятилетия. Склони голову перед могилой зэка, вечно коммунистический Кламар…
Надо сказать, что в этом некогда столь «русском» Кламаре жило, умирало и даже было похоронено много наших соотечественников, некогда известных если и не всему «русскому Парижу», то уж наверняка всему «русскому Монпарнасу». Ну, скажем, похоронен здесь друг Бориса Поплавского, Константина Терешковича, Ильи Зданевича, Ивана Пуни и Пинхуса Кременя, уроженец польской (тогда еще русской) Лодзи Морис Блюм (или Блонд). Учился он на художника в Варшаве, не доучился (денег не хватило), уехал в Берлин (где и встретил впервые Поплавского), потом в Дрезден, в Лейпциг и, наконец, в Париж. Здесь он выставлялся на многих коллективных выставках (в том числе и в обжитой уже предыдущим поколением «Ротонде») и даже на нескольких персональных выставках. Названия иных из коллективных выставок, где он был представлен, свидетельствуют о круге его друзей – «Русские художники Парижской школы» (1961), «Малоизвестные большие художники» (1961), «Художники Монпарнаса» (1970), «Русский взгляд» (1974)…
Bahb
Русское предместье Утренний визит полиции • Последний пригородный адрес Цветаевой • Русские художники в Ванве
На территорию городка Ванва (Vanves), примыкающего к парижской заставе, столько раз покушались его влиятельные соседи (в последний раз Париж отобрал кусок земли у Ванва в 1860 году), что стал он едва ли не самым крошечным селением в департаменте Верхней Сены. В 1718 году правнук Великого Конде Луи-Анри Бурбонский приобрел это имение вместе с его замком, построенным Мансаром. Ныне в бывшем замке (улица Жюльена Мишле, № 5) разместился местный лицей.
В церкви Сен-Реми, что красуется на площади Республики, уцелели старинные хоры, часть старого нефа и абсида XV века, а также относящееся к XIII веку основание колокольни и портал в стиле «пламенеющей» готики.
В XVIII веке Ванв славился мягкостью и чистотой вод в его источниках, что позволяло процветать здешним прачечным. Поскольку жилье в этом недалеком пригороде (всего в каких-нибудь 5–6 километрах от собора Нотр-Дам) было в начале прошлого века все же дешевле, чем в «собственно Париже», здесь селилось много небогатых эмигрантов, в том числе и русских. На улице Микеланджело (по-французски, понятное дело, Мишель-Анж) в доме № 61 была устроена православная церковь Святой Троицы, иконостас которой написал отец Григорий Круг.
А в доме № 65 по улице Жан-Батиста Потена (бывший № 33) снимала свою последнюю пригородную квартиру русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева.
22 октября 1937 года в доме на улице Жан-Батиста Потена произошло чрезвычайное (для мирного Ванва) событие: четверо полицейских явились в 7 часов утра в квартиру Цветаевой, чтобы произвести обыск. Полицейские бессмысленно рылись в русских бумагах мужа Цветаевой, агента НКВД С.Я. Эфрона, взяли бумаги с собой и вызвали Цветаеву на допрос в полицию. Полиция (случайно или намеренно) опоздала почти на две недели. Эфрон давно уже был отозван в Москву и бежал. В воспоминаниях подруги Цветаевой Марии Сергеевны (Муны) Булгаковой-Степуржинской, записанных В. Лосской, рассказывается, как ее муж – таксист Степуржинский, сама Муна и Марина с сыном вывозили Эфрона из Парижа в сторону порта, откуда советский корабль должен был его доставить в Россию.
На допросе в полиции Цветаева читала стихи и излагала полицейским легенду об отъезде Эфрона в Испанию. Возможно, что Эфрон был отозван в связи с грубо проведенной его агентурой операцией убийства советского перебежчика И. Рейса (Порецкого). Считают, что сам Эфрон не участвовал ни в убийстве Рейса, ни в убийстве сына Троцкого, однако похоже, что убийцы были завербованы и направляемы именно им. Об этом писала позднее, в частности, в своих письмах на имя руководства КГБ дочь поэтессы Ариадна Сергеевна Эфрон. В этих письмах она просила восстановить их с отцом доброе имя советских «разведчиков» и характеризовала деятельность отца как работу «вербовщика-наводчика».
Бежав из Франции, Эфрон сдал семью куратору из органов (В.И. Покровскому), который и выдавал мужнино «жалованье» М.И. Цветаевой. Нетрудно предположить, что он просил у поэтессы в обмен о каких-то негласных услугах, скажем, о контактах с эмигрантами. Может, именно этим объясняется то, что Цветаеву вскоре перевели из Ванва в захудалый отель «Иннова» на бульваре Пастер. Возможно, она пыталась оправдать удаленностью Ванва свои все более редкие встречи с прежними друзьями. На самом деле ее уже, видимо, побаивались в эмигрантских кругах. Понятно, что и для прощания перед отъездом на родину ей пришлось пригласить не прежних, а «новых» и «молодых» (к тому же просоветски настроенных) друзей. Согласно инструкции московских кураторов, ее и сына никто не должен был провожать на вокзале Сен-Лазар…
В ЭТОМ ДОМЕ В ВАНВЕ ЖИЛА ДО 1937 ГОДА СО СВОИМ МУЖЕМ М.И. ЦВЕТАЕВА. КОГДА СЮДА НАГРЯНУЛА ПОЛИЦИЯ, СЛЕД МУЖА УЖЕ ПРОСТЫЛ…
Фото Б. Гесселя
Иные из современных цветаеведов считают, что именно эти не для всех душевно приемлемые и легкие «контакты» с органами (наряду с ее прочими бедами) привели в конечном итоге Марину Ивановну к самоубийству в эвакуации. Живя на парижском бульваре Пастера (а позднее – в поднадзорных Болшеве и Голицыне под Москвой), бедная Цветаева, вероятно, не раз ностальгически вспоминала не только чешский лес ее ранней эмиграции, но и Медон, и Ванв… Родные березки (и даже рябинки) не спасли ее от ностальгии по свободе и от одиночества зачумленной.
Количество русских в крошечном Ванве было в те годы так значительно, что одних только имен русских художников, живших и захороненных здесь, насчитаешь как в доброй картинной галерее.
С 1960 года (до самой своей поздней славы и поездки на Галапагосские острова) жил в Ванве удивительный художник и писатель, сын бугурусланского купца, модернист из модернистов Сергей Шаршун.
Или, скажем, жил здесь (и был здесь похоронен) чуть ли не всему Парижу известный художник, сын аптекаря из нижегородского села Растяпино Леон Зак (Лев Васильевич Зак). По первому браку своей матушки приходился он единоутробным братом известному философу Семену Франку, сам же он с тринадцати лет занимался в студиях знаменитых художников, учился также на филфаке в МГУ, выполнял виньетки для «Золотого руна», участвовал в выставках «Мира искусства». В 1910 году он подружился с филологом Романом Якобсоном, вошел в круг футуристов, оформлял сборники Ивнева и Шершеневича, да и свои печатал стихи, писал прозу (взяв в качестве псевдонима девичью фамилию матери – Россиянский). В 1920 году он бежал с женой и дочерью в Константинополь, потом были Рим, Флоренция, Берлин, где он готовил декорации к спектаклям, участвовал в выставках, оформлял книги. С 1923 года Зак жил в Париже, выставлялся, учредил Салон Сверхнезависимых, создавал рисунки для тканей и шарфов, а в 1930 году примкнул к «неогуманистам». Уже в 1935 году музеи покупали его картины, а с 1939 года он скитался по Франции (Вильфранш, Биарриц, Аркашон, Гренобль). В 1941 году он принял католичество (к тому времени он был уже «суровым экспрессионистом» и все дальше уходил от фигуративности). Оформлял он и балеты.
К 1948 году он перешел к геометрической абстракции, а потом к «лирической абстракции». В 1950 году вместе с дочерью-скульптором он создал для церкви в Дордони серию скульптур из обожженной глины «Крестный путь Господа». С тех пор он много работал для церкви. Создавал он также рисунки для парижской мануфактуры гобеленов и для Обюссона.
В 1959 году Леон Зак приобрел мастерскую в Ванве, а в Мюнхене выпустил книгу своих русских стихов. На бьеннале в Ментоне Зак получил приз Президента республики, да и то сказать, немало он уже создал произведений искусства к своим 78 годам. Последняя его прижизненная персональная выставка прошла в парижском Музее современного искусства в 1977 году. В 1980 году в рамках Осеннего салона состоялась уже выставка мемориальная (вроде как наша с вами прогулка по ванвскому кладбищу…) – в тот год он и умер 88 лет от роду.
В те самые годы, когда Леон Зак приобрел мастерскую в Ванве, автор этой книги еще дотягивал в Москве недолгие годы своей регулярной, как выражаются, «штатной» журналистской службы на московском радио. Зачастую ночная запись шла у нашей английской редакции бок о бок с «французами», которых я всех знал в лицо: вон благородного вида седой Сеземан с его хорошенькой Олечкой, а вон благовидный красавец Кирилл Хенкин со своей Аннет… Четверть века спустя прочел я в книжке, выпущенной этим самым Хенкиным, что он жил в молодые годы в городке Ванв и рвался тогда на защиту «республиканской Испании», а его, апатрида, туда не пускали, пока вдруг не выяснилось, что его всемогущий сосед, агент НКВД Сергей Эфрон (муж знаменитой поэтессы) может ему это без труда устроить. Но только завербован был Хенкин уже не по линии интербригадского идеализма, а по самой что ни на есть эфроновской линии тайного истребления «врагов народа» в рядах добровольцев (всяких там анархистов и всех прочих, кто «против Великого Вождя»). На этой службе Хенкин и подвизался до новой эмиграции, а может, и дольше. Книга его была посвящена лучшему его другу «полковнику Абелю» (он же был агент Вилли Фишер). Кстати, из этой книги (и многих других вышедших за последние четверть века книг) понял я (с опозданием на четверть века), что провел четыре года своей «штатной» службы и пять лет инязовской учебы в милом окружении отставных резидентов, шпионов и нелегалов (вроде обаятельнейшей инязовской деканши Зои Зарубиной). Что же до дикторско-переводческой аристократии на иновещании московского радио, где я проработал четыре года, то она и вовсе была вся из числа «бывших» агентов (хотя самого «Иванова»-Тореза я во французской редакции уже не застал). К тому же времени, когда меня впервые выпустили в Париж и я поехал в пригородный Ванв, большинство тайных «сексотов» были уже Там, где все предстают с открытым лицом – как на духу: перед Судьей Небесным, которому одному и ведома степень человечьей вины и низости…
Исси-ле-Мулино
«Ереван на Сене» Моя Армения • Резня ХХ века • Жано ле Хай • Другой Покровский
Некогда городок Исси-ле-Мулино (Issy-les-Moulineaux) стоял в центре обширных земельных владений богатейшего аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Городок долго сохранял следы своей монастырской принадлежности, да и ныне здесь еще есть высшая школа богословия (понятное дело, католического). В былые времена стены здешней семинарии Сен-Сюльпис видели Боссюэ и Фенелона, Талейрана и Эрнеста Ренана.
Позднее городку суждено было стать колыбелью французской авиации. С того самого места, где нынче размещается вертолетный аэродром Парижа, в 1908 году Анри Фарман совершил полет по кругу длиной в километр на биплане, построенном Габриэлем Вуазеном. До Первой мировой войны пилоты еще нередко учились на этом поле, пока оно не стало для них тесным. Надо отметить, что одним из первых иностранцев, обративших внимание на эти полеты, был великий князь Александр Михайлович, который приезжал сюда, а позднее открыл свою летную школу в Севастополе – в общем, стал основоположником русских ВВС.
Нынешнее здание духовной семинарии и высшей богословской школы построено было здесь лишь в конце XIX века на том месте, где стоял замок королевы Марго. От времен Маргариты Наваррской замковый парк сохранил Каменный кабинет со всеми его чудесами.
На углу улицы Бодэн и авеню Шарля де Голля жил в Исси-ле-Мулино художник Анри Матисс. Его потомки живут здесь и поныне. Что до здешнего замка семьи Конти, то он был разрушен в пору Парижской коммуны и о нем напоминает лишь замковый парк, носящий имя писателя-коммуниста, воспевшего Сталина, – Анри Барбюса (ему, впрочем, не пришлось вернуться после этого живым из Москвы – может, был он больше уже не нужен Коминтерну).
Как сообщает в своей книге о Марине Цветаевой И. Кудрова, в Исси-ле-Мулино (в самой гуще эмигрантского обитания) жил один из советских кураторов С. Эфрона – В.И. Покровский. Ему и сдал жену Сергей Эфрон, бежав в Советский Союз после убийства И. Рейса. Выдавая Марине Ивановне «жалованье» мужа, Покровский хотел даже переселить ее в Исси-ле-Мулино на какую-то «служебную» квартиру (были и здесь такие), но потом было, видимо, решено переселить ее в парижский отель…
Вместе с Юрием де Планьи Владимир Ипполитович Покровский (все звали его просто Дик) держал на Лазурном Берегу (в Ла-Фавьере близ Лаванду) русский пансион. В гости к ним не раз приезжал их родственник, таксист Вадим Кондратьев, завербованный в советскую разведку С. Эфроном и Н. Клепининым. После нашумевшего убийства эфроновской группой перебежчика И. Рейса В. Кондратьев, как и сам С. Эфрон, бежал в Москву, но в отличие от своих «вербовщиков», умер там очень скоро, не дождавшись ни ареста ни расстрела. Умирал, вероятно, спокойно, ибо ни Исси-ле-Мулино, ни русский Ла-Фавьер они не оставили без «хозяйского» присмотра.
В Исси-ле-Мулино есть интересный музей старины, который называют Музеем игральных карт. В нем и правда экспонируется богатая коллекция карт XVI–XIX веков, однако в музее этом не одни только карты. Здесь есть залы, экспозиции которых дают возможность проследить развитие местных ремесел и зарождение промышленности. В музее представлено также обширное собрание картин местных художников.
Городочек Исси-ле-Мулино называют иногда «Ереван-на-Сене». Для моих ушей оно не пустой звук, это «ан» – Ереван, джан, Хайастан… Звук армянский…
Первых в моей жизни настоящих, живых парижан мне довелось встретить в маленьком армянском городке Эчмиадзине, что неподалеку от Еревана и турецкой границы (там издавна размещается резиденция религиозного главы всех армян – католикоса). Произошла у меня эта встреча еще в молодости. После окончания университета и института иностранных языков, в то время носившего имя забытого ныне партийного функционера Мориса Тореза, я был призван на действительную службу в армию и доставлен в русский полк, стоявший в святом Эчмиадзине. За те 25 месяцев солдатской службы, что я мыл тепловатой водой сотни сальных алюминевых мисок на кухне, драил офицерский сортир, изучал устройство автомата Калашникова, а позднее вполне мирно сачковал в каптерке хозчасти, в столице моей родины Москве произошли некие климатические перемены, которые хитроумный товарищ Эренбург назвал «оттепелью»: в 1956-м товарищ Хрущев с партийной трибуны осветил особенности сталинского гуманизма, а в мигом потеплевшую, «оттепельную» столицу России впустили двух-трех певцов нерусского происхождения. Среди них был французский певец-коммунист Ив Монтан, который (справедливость требует отметить) лет 30 спустя умер ярым антикоммунистом. В те месяцы 1956 года черная тарелка репродуктора у нас в казарме над дремлющим дневальным распевала отныне по-французски: «О Пари! О Пари! Гран бульвар… Мадмуазель сюр ля балансуар…» С ума сойти, какие слова! Заслышав это пение, я раздобыл учебник французского языка для 6 класса средней школы и начал учить новый язык.
Похвастаюсь, что к тому времени я уже сносно научился говорить по-армянски и по-английски, но французский, как вскоре выяснилось, это было совсем другое дело. Я без труда понял, что такое «парашют», «бюрократ», «сортир», «будуар», «суп» и даже «бульон», но мне хотелось узнать, как это читается, а спросить было не у кого: я и так был у нас в «русском полку» самый «высокообразованный». И вот однажды, получив увольнение, я пошел на почту, чтобы отправить в Москву мамины письма. Бедная мамочка чуть не каждый день писала мне в полк письма из Москвы, я их хранил, но накопилось их уже больше полтыщи, и прятать было негде. Так вот я занял очередь на почте и вдруг увидел, что передо мной какая-то молоденькая армянка вертит в руках письмо с американским адресом, в котором было, как я сразу заметил при тогдашнем молодом зрении, две ошибочки – французские надбуквенные знаки. Я спросил ее, не знает ли она случайно французский. Она сказала: «Га! – это по-нашему, по-эчмиадзински значит «Да», а потом она сказала «Уи, месьё», или что-то вроде того – это уже по-ихнему, по-французски. Я отозвал ее в угол и достал из своей противогазной сумки запрятанный под маской учебник, открыл урок десятый и говорю: почитайте, пожалуйста, вот тут: «Пьер большой мальчик». И тут уж она заворковала, закартавила, заграссировала – райская музыка для души. Конечно, то, что молодая армянка из захолустного городка вступила в непринужденную беседу с русским солдатом, уже это было ненормально, но я только потом понял, что она не просто армянка была, что она еще была парижанка. Боже, как она прочитала это мерзкое слово «гарсон»! Тогда-то я и понял, что это не просто лакей, который носит пиво, как у Мопассана: это значит «мальчик». Я и сам был тогда гарсон, полный сил гарсон, смазливый такой гарсон в солдатской гимнастерке х/б б/у в тропическом варианте, с панамой… Гарсон… Амур… Тужур… Впрочем, ликбезное счастье мое было недолгим – подошла наша очередь к окошечку на почте. «Слушай, – сказала она мне по-армянски, – приходи к нам домой в воскресенье. Четвертая улица дом десять. Муж будет очень доволен…» Ничего себе, подумал я, армянка, русский солдат, да еще и муж будет доволен…
В воскресенье я долго чистил свои кирзовые сапоги-говнодавы, наводил блеск на пуговицы асидолом и живо представлял себе, как армянский муж встретит меня дубиной. Но все же я пошел, аккуратно заправив учебник французского под маску противогаза. Жили они возле нашего полка в нищенской халупе с земляным полом, и когда я вошел, ее муж, прелестный, щуплый молодой мужик в очках, купал в корыте маленьких дочек. В сенях было холодно, пар вздымался от корыта клубами, но армянский мужик, мельком взглянув на чужого солдата через запотевшие очки, лишь закричал: «Симон, воды, еще воды! И полотенце!» А я столбом стоял в углу среди пара и мыльных брызг. Оказалось, что Симон забыла предупредить мужа о моем предстоящем визите. А он домыл своих визгучих девчушек, обтер руки, представился мне – и мы стали друзьями. Они были парижанами, эти новоприезжие армяне, так сказать, норикох – из тех семи тыщ, которых пропагандисты из якобы распущенного Коминтерна уговорили после войны уехать в страну обетованную, в страну счастья, на «старую родину», где они сроду не бывали. Это было в 1947-м. И вот они жили здесь чуть не десять лет, в этой эчмиадзинской трущобе. Андроник с трудом достал работу, учителем французского в армянской школе, за 20 километров от Эчмиадзина, за 80 руб в месяц – на пятерых, он, жена, две девчушки, бабушка, ее мама – гуляй, рванина, от рубля и выше. Но хорошо хоть не посадили, потому что ихних репатриантов, как и тогдашних русских, что сдуру вернулись, поддавшись порыву и пропаганде, – их, если и не в ссылку, то в лагеря. Правда, Армения – маленькая, далеко не сошлешь. Но зато в Армении даже поселок для приезжих «норикох» назывался символически – «Поселок имени товарища Берия». От одной надписи страху натерпишься…
Чтоб поднять вам настроение, сообщу, что армян вскоре после этого начали выпускать с «исторической родины» и мало-помалу они почти все (кого еще не зарыли в каменистую землю) унесли ноги обратно – в Марсель, в Баланс, в Лион и сюда, под Париж, в Исси-ле-Мулино, в Альфортвильд, а также в IX округ Парижа. О Пари! О Пари! Гран бульвар. Что там еще?
Вот и вся моя короткая история о том, как у меня, у русского солдата, появилась знакомая эчмиадзинская семья – мои парижане – Андроник Эскузян, Альтун Эскузян, по-парижски Андре и Симон. Чудная была пара – неунывающая, веселая, щедрая. А в доме у них – холод сучий, горная зима на дворе. Андре мне объяснил: «Угля тут не купишь ни за какие деньги…»
Тут уж мне представилась возможность отличиться. Поговорил я в части со старшиной-сверхсрочником Черешневым со склада ГСМ: думаю, деньги ему будут нелишние. С другом-шофером из автовзвода поговорил. Накидали втроем машину угля, подъезжаем к их дому – Андре стоит в плащике, подбитом ветром. Сует им деньги, бутылки с вином. Старшина говорит: «Чудной какой армянин…» Я говорю: «Лапоть. Это не армянин. Это парижанин… Я у него учусь французскому языку». Старшина говорит: «И тебе это надо, Борочка…»
Но по-французски я так и не научился тогда. Всего прошел месяц нашего знакомства, и как-то под вечер писарь стройчасти мне говорит: «Пришла бумага – тебе младшого и увольнение в запас. Сегодня подписать некому, но завтра я тебя оформлю, беги на волю…»
Боже, что со мной творилось в тот вечер! Вернулся в казарму – храп, все уже спят. А я чую – не усну нынче. Побежал на Четвертую улицу к Эскузянам, всех разбудил, даже бабушку. У Андре была бутылка коньяку заначена. Выпили за свободу, за мой дембель, а назавтра я уже содрал на рассвете погоны и ехал в Москву на поезде…
В Париж я приехал впервые только четверть века спустя: не пускали «менее равных» россиян по Парижам шляться. Эскузянов след давно простыл – наверно, вернулись во Францию. А со мной тут часто бывало в Париже: увижу какую-нибудь молодую француженку на улице – думаю, вот она идет, Симон… Джаникес… Потом себя одерну – побойся Бога, сколько лет прошло, ты на себя погляди…
Но, конечно, армянский Париж мне не мог быть безразличным все здешние годы, хотя армянский язык я подзабыл. Какие-то слова сидят в памяти: абсос, джаникес, мурацелем гаирен… нерегуцюн… сагльнес… Вот такая история. История моей молодости – 1956 год. Их молодости, их 1947-го, незабываемого, как наш 1917-й или наш 1937-й.
Эту мою память читатели чуют. Иногда пишут мне и звонят незнакомые армяне. Звонят Давид из Корка, Еновк из Исси-ле-Мулино. И правда ведь, этот маленький Исси (как и недалекий Альфортвиль) – истинный Ереван-на-Сене.
Вообще-то небольшие армянские колонии издавна существовали в европейских и восточных городах. Жили там негоцианты, деловые люди, интеллигенция. В Париже к началу Первой мировой войны жило тысячи полторы армян, по большей части, люди состоятельные и образованные. А после войны произошла катастрофа: безжалостная армянская резня в Турции. Турки резали армян. Бывает такое затмение у народов – при попустительстве правителей и с подначки политиков: темнеет разум, ярость заливает глаза и режут люди друг друга, ближнего своего режут… Чуть позднее, в том же проклятом веке ведь и русские резали русских, а еще позднее цивилизованные немцы вполне организованно, но озверело резали цыган и евреев. Нынче вот, слышал я, режут русские чеченцев, а чеченцы русских, братья-арабы режут братьев-евреев, а зверея, и вовсе режут кого ни попадя… И похоже ведь, нет этой ненависти конца – возрождаются целые группы и партии ненависти: национал-социалисты, национал-большевики, нацфронты, нац, нац, наци, нацисты…
Так вот, с начала 20-х годов недоброй памяти XX века хлынули во Францию беженцы-армяне: бежали от насилия, от смерти. Многие так и не смогли потом оправиться от пережитого ужаса. Сошел с ума в Париже замечательный композитор и этнограф Комитас…
Приплывали в Марсель пароходы с беженцами, которые заполняли пересыльный лагерь Оддо на северной окраине города. Мало-помалу переселялись армяне из бараков в дома – в Марселе, в Балансе, в Лионе. Не сразу, ой, не сразу обзаводились крышей над головой. А близ Парижа – заселили ближние Исси-ле-Мулино и Альфортвиль. Самое плотное армянское население было в Альфортвиле, на улице Новой, а в Исси – на улице Дефанс, по-местному – на «улице Де». В 1923 году в Лозанне подписан был европейский договор о гуманитарной помощи, а потом выдали армянским беженцам те же апатридские, нансеновские паспорта, что и беженцам русским. Началась новая жизнь. Местный автобус останавливался на углу улицы Дефанс в Исси, вываливала толпа пассажиров, перекликаясь: «Вонцес, джаникес? – Камац-камац… Барефдзес… Стесютюн… Шнуракалютюн…»
Тянуло людей к своим. Свои – это прежде всего те, кто на твоем языке говорят. Язык – это то, что ты вывез, хотя все бросил, и дом, и родных, и все нажитое…
А в этих двух пригородных городках, все же было много своих. Были армянские кафе, вроде «У Филиппа» или, к примеру, «Жано ле Хай». Хай – это значит армянин, но уже не Ованес, а Жано, идет интеграция.
В кафе «Карабах» в Исси продавали нормальный турецкий донер – кебаб, но французы звали его «армянский бутерброд», да и улицу, и квартал французы звали армянскими. Были у армян свой спортивный клуб, организация помощи – Голубой Крест. Шли годы – все больше становилось в армянских кварталах итальянцев, а потом португальцев, но к 1925 году было уже во Франции тыщ тридцать армян (не так уж много – на два-то мильона эмигрантов). К 1938 году число армян удвоилось, но и это не так много в сравнении с итальянской, португальской, арабской иммиграцией. Селились по соседству со своими – общий язык у соседей, общая память. В Альфортвиле на площади Карно стоит армянский крест – хачкар (помню, такие стоят по Араратской долине и за Цахкадзором), в память о жертвах геноцида. Считают, что полтора мильона тогда погибло в Турции…
Были и такие армяне, что селились в самом Париже, скажем, в Латинском квартале. Сын рожденного в Ахалцихе, а жившего в Тифлисе Миши Азнавуряна и турецкой армянки Кнар, прославленный певец Шарль Азнавур поет в своей песне «Автобиография», что он «родился в унылом доме на улице Месье-ле-Пренс среди певцов и артистов, среди фантазеров, говоривших по-армянски и по-русски». Веселый человек Миша Азнавурян, отец будущего певца, держал одно время ресторан на улице Юшет в Латинском квартале. Другом Миши был коммунист Мисак Манушан, тот самый, что возглавил группу вооруженного Сопротивления, террористическую группу, первую и последнюю в мирном оккупированном Париже. Немцы напечатали «Красную афишу» с портретами террористов, чтоб показать, что среди них нет французов – лишь армяне, евреи, испанцы… Это была правда. Коммунисты, впрочем, этот факт, в отличие от немцев, старались не афишировать.
В 1938 году армянам выдали документы, где было сказано, что они не подлежат призыву, так как не являются французскими гражданами. То-то было волнений в армянских кварталах. А уже в 1939-м армяне, как и все, ушли воевать. «Странная война» была, хоть и кровопролитной, но недолгой. Маршал Петэн запросил пардону у нацистских единомышленников…
В Париже и пригородах есть армянские церкви разных конфессий. Но мне в самый первый мой приезд довелось набрести в Париже на вполне экзотическую группу верующих армян – на кришнаитов. Однажды на площади Оперы в Париже я увидел молодых парней в желтых и белых одеждах, которые приплясывая, напевали: «Харе Кришна, харе Кришна, Кришна, Кришна, харе, харе». Я спросил их, что бы это все могло значить, а они сунули мне в руку адрес их ашрама на западе Парижа и пригласили приехать вечером к метро Аржантин. Соблазняли бесплатным ужином. Погнал меня туда не голод, а любопытство. Уселись мы на полу в ашраме, и один из молодых людей стал читать по-французски отрывки из Бхагават-Гиты. Я очень скоро задремал, и проснулся оттого, что здоровый такой мужик толкнул меня в бок и спросил по-армянски: «Ты кто? Ты армянин? Ду гай эс?» Я сказал, что я русский. Он перешел на русский и объяснил, что у них в секте большинство кришнаитов армяне, что его самого зовут Вартан, что он жил в Москве, в Кузьминках, но теперь он не может уехать отсюда, так как вот-вот воспарит. Он пригласил меня посетить их фирму «Спиричуэлскай» в Альфортвиле, где они производят благовония на продажу, и сказал, что у них в гостях бывает писатель Сароян, который часто приезжает в Париж. Узнав, что я переводил Сарояна, он дал мне его телефон. Я позвонил Сарояну тем же вечером, очень поздно. Представился: я, мол, ваш русский переводчик, с самого Эчмиадзина все перевожу… Он мне вдруг сказал:
– Приезжай на метро к станции Нотр-Дам-де-Лорет. Будем гулять и беседовать.
Несмотря на поздний час, я поехал и, выйдя из метро, стал озираться.
– Не туда смотришь, – крикнул мне усатый старик в соломенной шляпе, и я удивился, как это я сразу его не узнал. Таким я его и представлял. Мы долго гуляли с ним, и он дурачил меня фантастическими историями про армянина-сапожника, к которому слетаются все птицы Парижа…
Когда я вернулся в Москву, я позвонил в Кузьминки жене Вартана.
– Как он там? – спросила она со смешком. – Не завел себе блондинку?
– Нет, наоборот, он постится, – сказал я. – Скоро он достигнет блаженства, воспарит и вернется…
Она смеялась в трубку очень задорно и долго, до тех пор, пока ее дети не начали плакать где-то рядом – в кузьминской хрущобе… А через месяц я встретил в Союзе писателей консультантку Фриду, и она сказала мне, что Сароян умер у себя во Фресно, в Калифорнии. Он позвонил ей незадолго до этого и сказал, что очень не хочется умирать.
Когда мы, наконец, добрались с сестричкой Аленой до Калифорнии, я, конечно, потащил ее во Фресно, но там ничего не нашел, что напомнило бы мне о Сарояне. Зато в Париже, когда я прохожу мимо станции метро Нотр-Дам де Лорет, мне всегда мерещатся старомодная соломенная шляпа Сарояна, лавка армянина-сапожника, птицы Парижа, огромные стаи птиц… Он очень армянский город этот Париж…
Малако́в
Соседний с Ванвом Малако́в (Malakoff), вероятно, правильнее было бы назвать Малахов, ибо название его идет от Малахова кургана, что в Севастополе. В середине XIX века это охотничье владение, примыкавшее к Ванву, купил предприниматель Александр Шовело, предвидевший неизбежное расширение столицы и рост цен на жилье. Здесь, у самой стены города Парижа, Шовело построил деревушку, которую назвал весьма модным в ту пору во всем мире именем – Калифорния (La Californie). Чтобы завлечь новых постояльцев, предприимчивый Шовело оборудовал здесь вдобавок парк с аттракционами и воздвиг здесь башню, которую назвал Малаховской в память о недавно завершенной Крымской войне: победа в ней веселила сердца французов (вспомните мост Альма, бульвар Севастополь и еще, и еще). Внутри башни были вдобавок росписи, напоминавшие о самых героических эпизодах осады Севастополя. Более того, вокруг башни были установлены миниатюрные модели героических мест – Мармелон, мост Трактир, Инкерманская долина… Затея эта и впрямь завлекла в Малаков множество посетителей. Правда, в 1870 году, когда пруссаки подошли совсем близко и стали обстреливать город-герой Париж, Малаховскую башню пришлось снести, чтоб она не могла служить врагу наблюдательным пунктом, но название Малако́в прижилось…
Медон
Медонские замки Стихи и музыка в Медоне • Селин из семьи Детуш • Бельвю • Вилла Родена • Город скульпторов • Русский Медон ·Зоэ Ольденбург • В гостях у Кедровых • Очаг Святого Георгия
Медон (Meudon), что в каких-нибудь двух-трех остановках пригородного метро (RER) от границы Парижа, – местечко удивительное и не только многим русским, но и многим французам хорошо знакомое. Для меня самый пленительный из здешних уголков – возвышение в сердце городка, терраса, покрытая зеленым ковром лужайки и окаймленная могучими деревьями. Подойдешь к самому краю террасы, поддерживаемому XVII века подпорной стеной, и увидишь, что терраса царит над крышами Медона, над Кламарским лесом, над долиной Сены. А отвернувшись от стены, увидишь, что ты не один на лужайке, но публики немного, и публика все симпатичная – нянечки с детишками, папаши, выкроившие часок, чтобы позабавиться с любимым наследником какими-нибудь (для обоих забавными) современными игрушками с дистанционным управлением или поиграть в прятки с помощью мобильного телефона… А на их игры со снисходительной печалью взирает увековеченный скульптором астроном Янсен, ибо в остатках Нового замка размещается нынче знаменитая медонская обсерватория, важный центр космических исследований. Обсерватория изучает солнечные лучи, которых так не хватает бледнолицым горожанам, чьи лица целый день подсвечены лишь экранами компьютеров, а по вечерам – экранами телевизоров.
Упоминание о Новом замке, этом детище Мансара, приводит на память бурную историю симпатичного пригорода на краю Медонского леса, вдоль и поперек исхоженного «братством пешехожих ступней» неуемной Марины Цветаевой, которая здесь жила, гуляла вволю и искушала судьбу вечной жалобой на жизнь. А между тем именно в Медоне у цветаевского семейства было лучшее за всю их французскую эмиграцию жилье (и на улице Эро, и на улице Жанны д’Арк, дом № 2).
Что же до Нового замка, построенного здесь в самом начале XVIII века по приказу Великого дофина-наследника (сына Людовика XIV), то свято место и до того не было пусто. Еще в 1520–1540 годах здесь был воздвигнут Старый замок по приказу герцогини Этампской, возлюбленной короля Франциска I, который тут частенько бывал. Достраивал замок по указаниям нового его хозяина, архиепископа Реймса, не иначе как сам Филибер Делорм. Тогда же устроен был обширный сад. Замок стоял северо-восточнее нынешней обсерватории, а позднее здесь появился знаменитый Грот, сооруженный, как считают, самим Приматиче и воспетый восторженно самим Ронсаром. И позднее по-прежнему владели Медоном виднейшие люди королевства (Гизы, Сервьены, Лувуа), расширившие террасу, устроившие у края ее оранжерею, привлекавшие к работам и Ле Во и Ле Нотра. В конце XVII века Великий дофин выменял Медон у мадам де Лувуа, отдав ей взамен замок Шуази-ле-Руа (полученный им от мадам де Монпансье). Вот тогда-то дофин и велел Жюлю Ардуэн-Мансару, разрушив Грот, построить на его месте Новый замок и переустроить сад, в частности, перекачать воду из пруда Шале в пруд Бель-Эр (при помощи машин искусника Вобана). Над украшением замка трудились такие художники, как де ла Фосс, Койпель, Одраны.
Дофин наслаждался прекрасным этим имением до самой своей смерти (в 1711 году), но и после его смерти оно не совсем опустело, бывали в нем знатные гости. Так, 19 мая 1717 года в замке побывал русский император Петр I, на которого, как сообщают, самое большое впечатление произвела картина Леонардо да Винчи «Святая Анна» (ныне она висит в Лувре). Позднее бывали здесь прочие знаменитости, а в 1789 году в этом замке умер старший сын Людовика XVI. Легко вспомнить, что последовало за 1789 годом. Революция устроила в замке арсенал, химик Бертолле химичил тут «бертолетову соль», а Конте сооружал военный аэростат, и в результате всех этих полезных опытов в замке в 1795 году случился пожар, но розовые мраморные колонны замка сгодились еще для триумфальной арки Карусель, ибо Франция шла с той поры от триумфа к триумфу. На время Русской кампании великий триумфатор Наполеон I поселил в Медоне свою вторую супругу и крошку-наследника, который уже объявлен был королем Рима.
При французском короле Луи-Филиппе живал здесь герцог Орлеанский, а при Второй империи принц Жером Наполеон, но в 1870 году замок снова горел, остались только его боковые крылья, а в восстановленной центральной его части и размещается теперь обсерватория.
Нынешняя терраса, лежащая на оси Замковой авеню, состоит из трех аллей, разделенных рядами деревьев… У входа в нее слева стоят мегалиты, вырытые из земли при строительстве авеню. Замковая авеню, обсаженная четырьмя рядами тополей, спускается к кварталу Бельвю, где в 1926–1927 годах жила Марина Цветаева. Места эти были отмечены присутствием крупных звезд литературы и музыки. Начать прогулку вниз по авеню можно от дома № 27, в котором жил знаменитый композитор Рихард Вагнер. Именно здесь он сочинил (в 1841 году) своего знаменитого «Летучего голландца». Первая супруга композитора Минна вспоминала, что они в 1841 году снимали здесь квартиру у странной старухи, которая любила рассказывать им, что в детстве она видела мадам де Помпадур в Версале. Сам композитор вспоминал позже, что они были тогда очень бедны и питались грибами, которые собирали в местном лесу. Ах, чудный лес, ах, бедный Вагнер…
Чуть ниже, на Гвардейской улице, в доме, принадлежавшем королю, жил драматург Скриб. Из числа прочих театральных знаменитостей живал здесь Лабиш, а славный Виктор Гюго в «Песнях улиц и леса» так вспоминал Медон своей юности:
В доме № 35-бис на Замковой улице жил после Второй мировой войны классик французской литературы пессимист Луи Фердинанд Детуш, более известный как Селин. С давно умершим гениальным Вагнером Селина объединяла лишь лютая ненависть к евреям, так что он даже сердечнее, чем масса парижан, приветствовал приход нацистов. Впрочем, до войны его лютая ненависть к буржуазной (и любой прочей) действительности радовала сердца левой публики, и предприимчивая коммунистка Эльза Триоле перевела на русский язык и издала в Ленинграде знаменитый роман Селина «Путешествие на край ночи», после чего она стала уговаривать автора поехать в Ленинград и получить там за издание кучу денег и заодно восхититься былой столицей. Селин поехал, но не пришел в восторг от Ленинграда. Мало того, что все встречные казались ему евреями: он совершил то, на что, кажется, не решался еще в Ленинграде ни один иностранец. Он не стал таращиться на Невскую перспективу и свежеокрашенные фасады петербургских дворцов, а вошел в первый попавшийся двор. И вот тут он увидел окна кухонь и сортиров, заваленные нищенским барахлом, увидел ржавые трубы, гниющие серые здания, перенаселенные коммуналки, беспощадно облитые мочой лестницы, мразь запустения… Впрочем, если бы не «перестроечная» публикация в «Невском архиве», вряд ли кто из русских (да и французских тоже) читателей прочел бы когда-нибудь это поразительное описание Северной Пальмиры из редкостной (и вполне антисемитской) книги Селина.
Селин горячо приветствовал приход нацистов, но, в отличие от расстрелянного поздней за то же самое писателя Бразийяка, он успел бежать перед самым Освобождением и пересидеть смутные годы за границей. Когда все утихло (и даже вишист Миттеран стал министром, а миттерановский друг-палач Буске и вовсе разбогател), Селин вернулся во Францию и мирно просидел последние десять лет жизни в Медоне. В 1961 году он был похоронен на медонском кладбище, а его незаурядный талант писателя-человеконенавистника ныне оценен по заслугам.
МЕДОНСКИЙ ЛЕС
Медонский квартал Бельвю возник на территории чудесного парка, окружавшего дворец королевской любовницы мадам де Помпадур. Человек, пожелавший приобщиться к истории Франции, просто обязан помнить имена важнейших королевских фавориток, задолго до возникновения современного прогрессивного феминизма уже правивших этой страной из королевской постели. Медон так понравился мадам де Помпадур, что она заказала Ж.-А. Габриэлю спроектировать здесь для нее дворец. К украшению этого дворца она привлекла и Фальконе, и Пигаля, и Буше, и Ван Лоо. Результат был таким впечатляющим, что король Людовик XV попросил мадам продать ему дворец. Ну кто ж может отказать королю, тем более, если он «за ценой не постоит»? В 1773 году тот же Ж.-А. Габриэль стал усовершенствовать дворец для короля и даже устроил в нем нечто вроде центрального отопления (теплая вода журчала под кафельными плитками пола). После смерти Людовика XV дворец перешел к королевским дочкам – мадам Аделаиде, мадам Виктории и мадам Софии. Новые хозяйки также немало пеклись об усовершенствовании имения и даже соорудили в нем элегантный («как настоящий») крестьянский хутор, увидев который Мария-Антуанетта устроила себе такой же в Версале. В 1791 году трем сестрам пришлось (с вполне оправданной поспешностью) бежать из Медона в Италию, а во дворец ворвалась толпа громил, охваченных революционным духом. Каким-то образом смогли уцелеть (были всего-навсего украдены и перепроданы) некоторые из произведений Пигаля и Фальконе, сделанные по заказу мадам де Помпадур, а также кое-что из мебели (ныне украшающей Лувр). Потом прошедшая рядом железная дорога и спекулянты доконали сад, а по кварталу пролегли улицы, застроенные где многоэтажками, где виллами. Вот в доме № 31 по бульвару Вер-де-Сен-Жюльен как раз и снимала почти полтора года квартиру Марина Цветаева: писала стихи и письма, иногда даже письма в стихах – вроде «Новогоднего письма» к Райнеру Марии Рильке, написанного после его смерти и завершившего один из многих эпистолярных романов поэтессы. Впрочем, Пастернак был еще жив в ту пору в России, так что знаменитый эпистолярный роман Марины Ивановны и Пастернака продолжался. 31 декабря 1926 года Цветаева написала (по-немецки):
«Год завершился смертью? Конец? Начало.
Очень дорог для меня, теперь я знаю… Райнер – я плачу – и теперь ты можешь все прочесть без писем, ты читаешь меня…
Я хотела бы присоединиться к тебе, я не хочу оставаться здесь…
Та маленькая девочка, что так тебя и не увидела никогда.
Бедняжка.
И все же не надо грустить. Сегодня в полночь я чокнусь с тобой (очень тихо, мы оба не терпели шума).
Милый, сделай так, чтоб ты мне приснился».
Марина Ивановна сочиняла стихи, бродя по Медонскому лесу (тому самому, где с энтузиазмом катались когда-то на велосипедах Ильич и Крупская, позднее изгнавшие столько поэтов за пределы России).
В октябре 1926 года, вернувшись из Вандеи и поселившись в медонском квартале Бельвю, Цветаева писала философу Льву Шестову:
«Мы живем в чудном месте, – парк и лес. Хочу, пока листья, с Вами гулять… Наш дом с башенкой, в саду (несколько корпусов) за серой решеткой…»
В апреле 1927 года Цветаева переехала на новую квартиру в Медоне и написала тому же Шестову:
«Второй день на новой квартире… целые дни! возили вещи на детской коляске (сломанной).
Но у меня отдельная комната, где можно говорить, и отдельный стол, где можно писать, и отдельная плита, где можно готовить.
Лес близко – 5 минут. Летом будем гулять, есть озера».
Итак, в Медоне (дом № 2 на авеню Жанны д’Арк) было не так плохо. Одна беда – надо было платить за квартиру и за все прочее, так что медонские письма к Саломее Андрониковой полны просьб выплатить «иждивение» досрочно (С. Андроникова, Е. Извольская и другие регулярно собирали деньги для Цветаевой, она называла это «иждивением»), к прочим – похлопотать о пособии, о благотворительной помощи, о продаже билетов на вечера поэзии (регулярно зарплату С. Эфрону НКВД стал платить лишь в начале 30-х годов, а он учился на кинооператора, занимался любительским театром и политикой, лечился…). Цветаева сама предупреждала в начале писем, что будет «попрошайничать», и действительно, редкое письмо Цветаевой не содержит горделиво-униженной просьбы о деньгах, об услугах, об одолжениях, о подарках. З. Шаховская сказала однажды, что «письма и дневники писателей старшего поколения эмиграции читаются как жалобная книга». Но конечно, ни в чьих письмах жалобы на бедность и на необходимость обходиться без прислуги не достигают такого трагизма, как в обширном эпистолярном наследстве Цветаевой. Вот весеннее медонское письмо 1928 года, адресованное Л.О. Пастернаку (отцу поэта):
«Пишу Вам после 16-часового рабочего дня, уставшая не от работы, а от заботы: целый день кручусь, топчусь, верчусь, от газа к умывальнику, от умывальника к бельевому шкафу, от шкафа к ведру с углями, от углей к газу, – если бы таксометр! В голове достукивают последние заботы: выставить бутылку – сварить Муру на утро кашу – заперт ли газ? Так – каждый день, вот уже – сколько? – да уж шесть лет, с приезда за границу…»
Марина Ивановна жалуется в письмах на неряшливость всех членов семейства, но воспоминания ее лучших подруг (собранных цветаеведом В. Лосской в отдельной книге) не щадят и хозяйку дома. «В доме у них грязь была ужасная, вонь и повсюду окурки. Среди комнаты стоял громадный мусорный ящик», – вспоминает Саломея Андроникова. Об этой помойке посреди комнаты, о неряшливости и немытости своей гениальной подруги (и одно время – соперницы в любви) вспоминает и М.С. Булгакова-Степуржинская. А между тем Цветаевой хотелось освобождения для литературных трудов, она была не старая еще женщина, и у нее была постоянная, неутомимая потребность в дружбе и «настоящей» любви. Вот письмо 1928 года А. Тесковой из Понтийака, с океанского берега, о восемнадцатилетнем друге Цветаевой – поэте Николае Гронском:
«…Чудесный собеседник и ходок… В Медоне мы с ним часто видимся, но – отрывочно, на людях, считаясь с местами и сроками. Здесь бы он увидел меня – одну, единственную меня… Будь я другой – я бы звала его, «либо – либо», и он бы приехал, бросив семью, которая в данный час только им и держится (не денежно, хуже), и был бы у меня сентябрь – только не мой, ибо у той, которая может рвать душу 18-летнего на части, не может быть моего сентября. Был бы чужой сентябрь…
Я знаю, что таких любят, о таких поют, за таких умирают. (Я всю жизнь – с старыми и малыми – поступаю как мать.) Что ж! Любви, песни и смерти – во имя – у меня достаточно!»
В медонских письмах немало восторженных строк о маленьком сыне:
«У нас весна. Нынче последний день русской масленицы, из всех русских окон – блинный дух. У нас два раза были блины, Аля сама ставила и пекла (Аля – почти взрослая дочь Цветаевой, Мур – ее маленький сын. – Б.Н.). Мур в один присест съедает 8 больших. Его здесь зовут «маленький великан»… В лесу чудно, но, конечно, несравненно с чешским… Мне и те деревья больше нравятся». (Позднее будут вспоминаться медонские деревья, как в Медоне вспоминались чешские…)
Кстати сказать, и упомянутый выше поэт Р.М. Рильке живал когда-то в Медоне. Он был секретарем у скульптора Родена, и Роден позволил ему жить в хижине близ своей виллы (впрочем, позднее, в старости, придя в дурное настроение духа, Роден однажды выгнал поэта, как нашкодившего слугу). Вообще же Медону везло на деятелей искусства и писателей. Кроме упомянутых уже Вагнера, Родена и Селина, здесь жили Руссо, Рабле, Сен-Симон, Жак Маритен, Арп, Сегонзак, Арманд Бежар, Мамлеев (а Василий Бетаки живет и сейчас)… В Медоне даже есть Музей искусств и истории, где упомянуты все великие творцы, жившие в Медоне, и экспонируются их произведения. Но еще интереснее в Медоне две сохраненные для потомства мастерские – Родена и Арпа.
В 1895 году Роден купил у некой медонской художницы довольно скромную (двухэтажную с мансардами) виллу в стиле Людовика XIII. Вилла стояла на холме над излучиной Сены, над садами, виноградниками и лугами. К тому времени Роден еще не порвал со своей талантливой и красивой ученицей, сотрудницей, любовницей и любимой моделью – скульпторшей Камиль Клодель, но дело уже шло к разрыву. В 1898 году Камиль покинула мастерскую Родена, ей было 33 года (ему 52), она хотела изменить свою жизнь, выйти замуж, найти иной путь в искусстве. Она была неукротима в любви и творчестве, они прожили вместе пятнадцать лет. В 1913 году она сошла с ума и влачила свои дни в безумии еще 30 лет (умерла в октябре 1943 года).
А в Медоне после ухода Камиль поселилась та, что была когда-то первой женщиной Родена, – Роза Бере. Ее роман со скульптором начался в 1864 году (когда Родену было 24 года). Она не была ни красавицей, ни художницей, ни грамотейкой, она была белошвейкой, любила его, родила ему больного сына. Рано состарилась, но верно стерегла его мастерскую. И когда Роден возвращался в Медон, ему порой казалось, что он возвращается домой. Роден был еще полон сил, имел успех у женщин, был всемирно известным скульптором. Десять лет спустя в жизнь его вторглась энергичная, бесцеремонная герцогиня де Шуазель. Она хотела избавить его от всего, что было в прошлом, стать единственной его повелительницей. Но еще восемь лет спустя Роден вернулся к Розе в Медон.
Рильке был секретарем у Родена в 1908-м. В те годы Роден увлекается балетом: он создает скульптуры танцовщиц и танцовщиков. Увидев в первый раз Нижинского, Роден пришел в восторг и начал работать в Медоне над статуей Нижинского. Но однажды, приехав в Медон в жаркий полдень и обнаружив, что скульптор и его модель заснули обнаженными, ревнивый Дягилев пришел в ярость и запретил сеансы.
Как король Лир, Роден еще при жизни завещал все свое имущество, и свои дома, и все работы государству (и как король Лир, был за это наказан). Во дворце Бирона государство еще при жизни скульптора начало создавать музей его бронзовых и мраморных статуй. Жить во дворце ему теперь мог разрешить только директор музея.
На роденовской вилле в Медоне оставались керамика, гипсовые модели и слепки. Для тех, кого интересует процесс рождения скульптуры, медонский музей Родена ныне не менее увлекателен, чем тот, что во дворце Бирона и в саду вокруг дворца.
29 января 1917 года, в самом разгаре войны, Роден приехал в Медон, на свою виллу, чтобы через 53 года после дня их знакомства обвенчаться с Розой Бере. Роза умерла 18 дней спустя – 77-летний Роден последовал за ней через девять месяцев, в ноябре 1917-го…
Он лежал в салоне-мастерской медонской виллы, закутанный в белую шерстяную рясу – точь-в-точь такую, в какой он изобразил своего Бальзака. Отвергнутая заказчиком (Обществом писателей) модель статуи Бальзака тоже покоилась в мастерской, ожидая дней своей славы…
Так сложилось, что Медон стал городом знаменитых скульпторов. Скульпторы жили и работали в этом ближнем, но таком зеленом и живописном пригороде еще и до Родена – Постав Крок, Шарль Девернь, Оноре Юссон, Сопик… Позднее, при Родене, на вилле его бывали Бурдель, Деспио, Майоль. После смерти Родена скульпторы не забыли дорогу в Медон – Аристид Миан, Матео Эрнандес, Андре Блок. Еще и нынче живет здесь (уже больше полувека) Франсуа Стали, создавший общую мастерскую для скульпторов и архитекторов. А в доме № 21 на улице Каштанов открыта для посетителей (в доме, спроектированном его женой Софи) мастерская знаменитого скульптора Жана Арпа, прожившего в Медоне сорок лет. У него до войны регулярно собирались художники. В войну супруги жили в Швейцарии, и Софи погибла там в 1943 году, надышавшись печного угара, а Жан вернулся в Медон в 1945 году. Французский Фонд Арпа, разместившийся в доме покойного скульптора, проводит ныне экскурсии и конференции и издает материалы о творчестве Арпа.
Впрочем, есть люди, которые никогда не были согласны с определением Медона как «города скульпторов». Эти люди называли Медон городом русских. Проведшая детство в Медоне в окружении русских семей на нынешней авеню Маршала Жоффра французская писательница русского происхождения Зоэ Ольденбург писала в своем романе «Радость-печаль»:
«Между 1925 и 1935 годами Медон считался по праву русской колонией. Строго говоря, на 20 тысяч обитателей этого пригорода приходилось всего тысячи две русских, но эти русские не замечали существования аборигенов».
Существование русской диаспоры в среде «невидимых аборигенов» довольно подробно описал в своих книгах берлинского периода В.В. Набоков. Зоэ Ольденбург описывает нечто подобное в скромных масштабах живописного Медона, в местности, которая была, по ее словам, похожа на «скопление «русских гор» (аттракцион, который в России называют «американскими горками»)».
В Медоне были в ту пору не только русские квартиры в дешевых «доходных домах», но и русские виллы. На той же авеню Маршала Жоффра русскую виллу с садом можно было опознать еще с улицы, через ограду, настолько непохожа она была на «аборигенскую».
«У семьи Б. и семьи Ж., – рассказывает Зоэ Ольденбург, – были сады, и довольно обширные, но пришедшие в запустение – у кого хватало времени ими заняться? Цветники заросли повсюду сорной травой… Виллу занимали три семьи (русские), и в хорошую погоду обитательницы виллы и их соседки собирались в саду, сидели прямо на траве или в шезлонгах со своим вязанием, своими младенцами, своими сплетнями и пересудами».
Долгие десятилетия прожив в родной русской среде, почти не общаясь с «аборигенами», эмигранты и не ждали от них ничего, кроме неприятностей. Набоков называет эти периоды эмигрантских невзгод периодами затвердения аборигенской среды. А Зоэ Ольденбург, описывая медонское свое детство, отмечает эмигрантскую робость взрослых:
«…родители были люди боязливые, робкие, вечно опасавшиеся, чтобы французы не причинили им неприятностей».
Легко представить себе, какая волна страха накатывала на русские Медон, Ванв или Кламар, когда какие-то подозрительные русские (как правило, агенты Коминтерна) убивали на парижской улице политического лидера или даже французского президента, затевали скандал, грозивший сбросить правительство… А ведь всего-то русских эмигрантов к концу войны (после бегства или гибели в печах крематориев тех, кого сочли евреями) насчитывалось в Париже и его окрестностях тысяч двадцать. Больше половины из них взяли после войны советские паспорта, так что уникальный период великой Первой эмиграции во Франции можно было считать законченным…
Я бывал в одной из русских квартирок Медона по приезде во Францию, лет двадцать тому назад, – в гостях у певицы Наташи Кедровой (дочери одного из знаменитых музыкантов из квартета Кедровых и сестры блистательной киноактрисы Лили Кедровой, той самой, что сыграла роль старой проститутки в знаменитом фильме «Грек Зорба»). Наташа и ее муж Малинин (певец, инженер-химик и, конечно, таксист) рассказывали мне о послевоенных годах знаменитого ресторана «Шахерезада», когда им довелось петь между столиками «Интернационал». Оба искренне удивлялись, что я не покушаюсь на еще висевшие у них тогда на стенах иконы и картины. Наташа отослала в подарок Коктебелю, где гостила некогда у Волошина, целую коллекцию волошинских акварелей. Иногда я встречал Наташу с мужем в русской церкви на Экзельманс, где они пели в хоре…
ПОДРАСТАЛИ ТРЕТЬЕ И ДАЖЕ ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ИЗГНАННИКОВ – И ВСЕ ТАК ЖЕ СОБИРАЛИСЬ ПО ПРАЗДНИКАМ В ПРИВЫЧНОЙ ОБЩАГЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.
Фото Б. Гесселя
Чуть позднее я открыл в Медоне удивительный дом с садом на Пуэрто-Риканской улице (рю Порто-Риш, № 15). На воротах там была старинная железная вывеска «Огородник дофина» Конечно, у огородника не могло быть такого дворца, как у самого наследника-дофина, но и у него тоже была большая, красивая вилла, на которой в 1946 году разместились сперва русские интернат и школа Святого Георгия Победоносца для эмигрантских детей (основанные в 1920 году в Константинополе, с 1925 до 1946 года продолжавшие свою работу в Намюре, а с 1946 в Медоне) и церковь Святого Георгия. После 1970 года это райское местечко называлось просто Центр изучения русского языка или Очаг Святого Георгия. В 1985 году сюда была передана замечательная библиотека знаменитого русского католика отца Гагарина, а в 70–80-е годы здесь находили пристанище, стол и работу редкие тогдашние эмигранты и диссиденты. Здесь преподавали русский язык прозаики Мамлеев и Артамонов, редактор и поэт Сарафанников и еще многие другие. Бродя по парижским пригородам в поисках тихого места для занятий, я набрел однажды на этот Очаг, и святые отцы разрешили мне сидеть над рукописью в одном из свободных сарайчиков, в которых студенты писали иконы, упражнялись в игре на флейте, в русском произношении и еще Бог знает в чем. А когда подошло лето и мне некуда было вывезти из города дочурку, отец Андрей пригласил меня преподавать у них в шале над Женевским озером, где для нас с доченькой тоже нашлась сараюшка. Я занимался с дочкой и со студентами русским языком, молился вместе со всеми в крошечной церкви, где так прекрасно читал и пел молодой Никита Круглый, готовил со студентами русские юмористические телепередачи, пародировавшие французское телевидение… С изумлением я узнал, что здешние добрые, терпеливые и терпимые, трудолюбивые и набожные русские наставники, святые отцы и монахи называются страшным словом «иезуиты». Пришлось привыкнуть и к этому, как уже привык к тому, что лучшая моя подруга в Париже, добрейшая Татьяна Алексеевна Осоргина-Бакунина называлась страшным словом «масонка».
В МЕДОНСКОМ ДОМЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ БЫЛИ СВОИ СЛАВНЫЕ ИКОНОПИСЦЫ – ОТЕЦ ИГОРЬ, ОТЕЦ ЗЕНОН И ДРУГИЕ.
Фото Б Гесселя
Такие самоотверженность и доброта, которые я наблюдал у Татьяны (якобы неверующей) и отца Андрея (иезуита), мне не так уж часто встречались во Франции. И глядя на них, я думал, что Господу безразлично, какие еще разделения придумают для своей паствы небескорыстные пастыри, так ждущие власти, словно заветов Любви и Смирения им недостаточно.
А недавно, совсем нежданно мне довелось вспомнить медонский сад в… Санкт-Петербурге. Я «представлял» (по-русски теперь положено говорить «презентовал» свою только что вышедшую в Петербурге книгу о «Русских тайнах Парижа» во Французском клубе «северной столицы», и за председательским столом сидел французский консул месье Кельчевский. Он показался мне довольно-таки настороженным, подозрительным и закомплексованным, вполне – похожим на любого французского чиновника. И вдруг консул узнал, что я преподавал когда-то у отца Андрея в летнем шале Дарбон на озере Леман, что я бывал в Медоне, где он, совсем еще молодым, изучал русский. На лице консула, сразу потеплевшем, промелькнула ностальгическая тень воспоминания. У него и голос стал другой… Сколько же таких студентов, как он, помнят Медон, шале Дарбон, молитву в часовне Святого Георгия… Помнят то место, о котором здешние русские уже много лет говорят просто – «в Медоне». Или – «у отцов в Медоне»… Медонский Очаг Святого Георгия свой добрый след оставил.
Конечно, в Медоне есть до сих пор и русская православная община, есть и приходский храм, некогда расписанный инокиней Иоанной (художницей Юлией Рейтлингер). Об одном из довоенных медонских священников, отце Андрее Сергеенко, рассказывает в своих мемуарах митрополит Евлогий. Владыка пишет, что это был «молодой священник, незаурядный, начитанный и склонный к мистической жизни», хотя при этом и человек «властный, неуступчивый»:
«У него есть дар влияния на людей, что дает ему повод, по молодости лет и по неопытности, притязать на роль «старца»… Отец Андрей устраивает у себя на дому собрания, на которых некоторые его последовательницы обучаются медитации: сидят молча, медитируя над предложенной им темой, и не смеют шелохнуться, «чтобы не нарушить богомыслия батюшки», который тем временем сидит, запершись в своем кабинете. Иногда он, тоже молча, проходит через комнату медитирующих…
…Очередное увлечение отца Андрея – организация скита в каком-то глухом уголке, в 30 кил. от Медона. Он купил там 200 метров земли (по 1 фр. за метр), достал камион и уезжает туда со своими последователями для построения своими руками хижины-скита и разработки участка. Предполагалось в будущем начать подвиг скитожительства для преуспевших на путях мистических. А пока были лишь совместные поездки и совместный труд – нечто среднее между partie de plasir и попыткой людей, увлеченных идеалом монашества, вообразить себя пустынножителями.
Последнее увлечение отца Андрея – изучение еврейского языка и еврейской Библии для миссионерской работы среди евреев».
Медонский лес простирался в былые времена до Шавиля, Севра и Кламара, обтекая окруженные виноградниками и огородами Исси-ле-Мулино, Ванв, Монруж и Шатийон. Зверья было тогда в лесу видимо-невидимо.
И сегодня живописный лес этот, с его березами, дубами и каштанами, простирается больше чем на тысячу гектаров. И нынче по следам Цветаевой и молодого поэта Николая Гронского (погибшего чуть позднее под поездом парижского метро) бродят здесь романтичные влюбленные. Впрочем, может, и по следам великого конспиратора Ульянова-Ленина, обсуждавшего на здешних оздоровительных прогулках со своей супругой Н.К. Крупской планы захвата абсолютной власти, тоже есть кому побродить. Если верить зарубежным источникам, именно здесь крупный французский «ответработник» Жорж Пак, завербованный советскими органами еще в годы войны, передавал своим кураторам из КГБ Николаю Лысенко и Василию Власенко всякие секретные документы. Позднее (в 1963 году) бедный Пак был посажен в тюрьму, так что ему (как и великому конспиратору В.И. Ульянову-Ленину) лесные прогулки не пошли на пользу. Но прочие люди, гулявшие для здоровья и удовольствия в этом прекрасном лесу, сказали про него немало добрых слов.
Фонтенэ-о-Роз
Дюма отправляется в гости Бесстрашный Борис Вильде • Знаменитые и полузабытые обитатели дома 8 по улице Вильде
Среди прочих некогда живописных пригородных местечек под Парижем, в названии которых журчат былые ручьи («фонтен»), деревушка эта кичится вдобавок упоминанием о розах. Розы и впрямь на здешней песчаной почве произрастали чу́дно. Их здесь и нынче много в дачных садах – хватит на все могилы былых обитателей, в том числе и русских, которых тут было немало.
Впрочем, историки уточняют, что розы здесь (как и в ближних деревнях Со и Шатийон) появились сравнительно недавно – в середине XVII века, сама же деревушка (со всеми своими ручьями) появилась задолго до роз. Она упомянута уже в каком-то документе XI века, хотя еще не обрела к тому времени гордой самостоятельности и упомянута как Фонтане-тум апуд Бальнеолас (учтите, что римляне еще были здесь, оттого и латынь была в ходу), а говоря по-французски: Фонтенэ-су-Банё. То есть деревушка была частью Бане. А вообще, за истекшие столетия кому только она не была придана, эта деревенька, – какому аббатству или коммуне. Но уж в XVII веке в названии деревушки наличествовали розы, а часть ее принадлежала тогда прославленному Жану Батисту Кольберу, министру Людовика XIV. Французские историки помнят много разнообразных событий, так или иначе связанных с этой деревней. Скажем, в 1793 «ревтеррорном» году прославленный Кондорсе, спасаясь от преследователей, отчаянно стучал здесь в калитку друзей своих Сюаров, но ему не открыли, так что бедняга арестован был в Кламаре и покончил с собой в тюрьме, в недалеком Бур-ла-Рене. В Фонтенэ умер в 1874 году знаменитый политик Ледрю-Роллен. Основатели первого парижского универмага («Бо Марше») знаменитые меценаты Бусико осыпали деревню благодеяниями. А в первой половине XIX века здесь еще были простор и дачная глушь хоть куда. Поклонники Дюма-отца, осилившие все многопудье подписанных им томов, с торжеством выудили соответствующую фразу из романа «Тысяча и одно привидение». Вот она:
«1 сентября 1831 года я был приглашен на открытие охотничьего сезона, имевшее место быть в Фонтенэ-о-Роз».
Далее знаменитый автор подробно рассказывает о хозяине здешних мест, «достойном выученике Римской школы», и пространно живописует равнину Фонтенэ «с ее стогами соломы, где укрываются зайцы, и полями люцерны, из которой взлетают перепела», не упустив и описания дороги от Парижа до Фонтенэ – мимо морковной и свекольной огородной пустыни, мимо белеющих каменных карьеров. Но вот цель путешествия, наконец, достигнута:
«В восемь с половиной мы прибыли в Фонтенэ, которое являет собой истинный букет роз: у каждого дома свой розарий, и розы стелются вверх по стенам. Солнце уже вставало над деревнями Со, Бане, Шатийон и Монруж, за которыми нарастал некий глухой шум: это было дыхание Парижа».
А теперь, определившись с помощью Дюма в пространстве, мы можем перейти в наиболее занимающий нас период пригородного существования местечка, тот, что последовал за большевистским переворотом 1917 года в России. Здесь тогда стали появляться русские изгнанники. Иные из них уже вошли, другие еще только войдут в историю – в русскую, французскую, общеевропейскую и мировую, в историю искусства, литературы и даже редкого, но от этого не менее славного здешнего Сопротивления…
Я имею в виду не одних только новых более или менее постоянных обитателей деревни, вроде знаменитой художницы Александры Экстер, которая и упокоилась на местном кладбище, но также и тех, что прожили тут недолго, а также тех, что год за годом приезжали сюда на лето, – вроде Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова…
Самому мне впервые довелось побывать в Фонтенэ лет двадцать тому назад, вскоре после приезда во Францию, и тот теплый весенний день до сих пор стоит у меня в памяти. Пригласила нас тогда в гости к своим родителям, жившим в Фонтенэ-о-Роз, знакомая нам с женой еще по Москве красавица переводчица Аннушка Лоран. Матушка ее Алиса Лоран (в девичестве Пресс) происходила из знаменитой музыкальной семьи. Отец Алисы, замечательный виолончелист Иосиф Пресс, его славный старший брат-скрипач Михаил и жена брата Вера Маурина составили «Русское трио» и выступали с концертами по всему миру. Крупнейшие музыканты и композиторы, вроде Хейфеца, Рахманинова и Эльмана, высоко ценили трио семьи Пресс. В начале же двадцатых годов, после смерти старшего брата, Иосиф Пресс с успехом давал сольные концерты в США и уже начал преподавать в Рочестерской консерватории, но скоропостижно умер от гриппа, оставив двух малолетних дочек и любимую жену Евгению Даниловну (урожденную Балаховскую). Когда-то родительский дом Евгении Даниловны на Трехсвятительской улице в Киеве был гостеприимен, богат и счастлив. Отец Евгении Данила Григорьевич Балаховский, сахарозаводчик и представитель французского консульства в Киеве, знаком был здесь многим. Часто гостила у Балаховских семья хозяйкиного брата, ставшего знаменитым философом (псевдоним его был Лев Шестов). Все кончилось с приходом российской катастрофы. В ноябре 1918 года семья покинула Киев, добралась во французском поезде до Одессы, а оттуда – дальше на запад. В Генуе у Жени Балаховской и молодого виолончелиста, ее мужа, Иосифа Пресса родилась дочка Марианна, а еще через год, в Висбадене, и вторая – Алиса, к которой я и угодил в гости в Фонтенэ каких-нибудь шестьдесят лет спустя.
Алиса росла по большей части во Франции, вышла замуж за симпатичного инженера-француза Пьера Лорана, с которым они в начале 50-х годов и купили дом в Фонтенэ-о-Роз… В тот памятный весенний день 1982 года мы завтракали в их почти русском саду под шелест молодой березовой листвы, и разговор шел по-русски. Моей соседкой за столом оказалась внучка философа Льва Шестова – она только что закончила книгу о жизни деда и была теперь озабочена ее переводом. С другим гостем, питерским художником-эмигрантом Толей Путилиным, и его симпатичной женой-художницей мы долго обсуждали перспективы их парижского творчества, которые, к моего наивному неофитскому удивлению, представлялись этим молодым и талантливым людям весьма сомнительными… Боже, как давно это было!
Помню, как, гуляя после завтрака по одной из тамошних дачных улиц, я заметил дощечку с надписью «улица Бориса Вильде». Имя это было мне знакомо. Моя московская наставница на стезе перевода, замечательная переводчица Рита Яковлевна Райт-Ковалева, долго-долго писала книгу о Вильде и часто мне о нем рассказывала. Вильде жил здесь в тридцатые годы в доме своего тестя, известного французского историка-медиевиста Фердинанда Лота, и тихие, уютные эти улочки он вспоминал до самой своей трагической гибели. Поздравляя тестя и тещу с Новым 1940 годом, Борис Вильде писал им в Фонтенэ из окопов «странной войны», которую Франция проиграла тогда, почти не повоевав:
«Дорогие родители!…есть один уголок, где я, бродяга по призванию и рождению, чувствую себя у нас дома. Этот уголок называется Фонтенэ-о-Роз. Деревушка маленькая и красотой не выделяется, дом старый и не очень удобный, но я глубоко привязан к этому семейному очагу, потому что в нем для меня воплощена настоящая Франция, моя Франция, за которую я ушел воевать…
Моя Франция для меня – не страна, не нация. Это те идеалы, которые касаются всего человечества в целом. До них еще очень далеко, а сейчас, может быть, дальше, чем всегда, но если я все же вижу возможность их осуществления, если я ищу их в проявлениях французской мысли, то лишь потому, что мне посчастливилось встретить во Франции таких людей, которые примирили меня со всем остальным человечеством. И среди этих людей вы, дорогие мои родители, занимаете совершенно особое место. Благодарю вас за это. До глубины души ваш – Борис» (здесь и далее в очерке – перевод с французского моей учительницы Риты Яковлевны Райт-Ковалевой, Царствие ей Небесное).
А вот и еще одно, вовсе уж зимнее, письмо из окопов той «странной войны» – сюда же, в Фонтенэ:
«…Холод и снег – 21 градус ниже нуля. Но вокруг – сказочная красота, ее очарование покоряет, вызывая воспоминания о моем далеком детстве. Неужели то был я, мечтательный и робкий мальчик, затерянный в бескрайних просторах русской зимы, неужто это я слышал шум ангельских крыл над моей кроваткой? Конечно же, он – этот маленький человек – был самым лучшим, самым чистым – и самым наивным! – из всех, кто сменил его в том же теле, пока он рос и мужал.
Так кто же был этот «русский мальчик», живший в Фонтенэ, писавший романтические письма с цитатами из Гумилева с фронтов французской «странной войны» против Гитлера, а позднее ставший героем Сопротивления, того самого, к которому в без трудов усмиренной немцами Франции, даже по официальным данным, имело прямое или косвенное отношение не больше полупроцента населения? И кто были эти прекрасные люди из Фонтенэ, примирившие молодого русского (похоже, немало уже испытавшего за тридцать лет жизни) «со всем остальным человечеством»?
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ВИЛЬДЕ
«Русского мальчика» звали Борис Владимирович Вильде. Родился он на станции Славянка под Петербургом, где отец его Владимир Иосифович (сам родом то ли из Литвы, то ли из Польши) был железнодорожным служащим. Отец умер совсем рано, оставив на руках у жены, Марии Васильевны (в девичестве Голубевой), двух малолетних детей – Раю и Борю. Вдова перебралась в родное село Ястребино, а потом, спасаясь от войн и революций, – в эстонский Тарту (былой Юрьев или Дерпт). Здесь Борис окончил гимназию, начал писать стихи, мечтая о писательской карьере. Учил эстонский и немецкий и поступил в знаменитый местный университет. Но потом из университета его отчислили и даже отдали под суд. Рассказывают, будто он пытался бежать из Эстонии на лодке в бурную погоду по озеру в благословенный Советский Союз, но был задержан пограничной стражей. Может, были у него и другие проступки или неприятности. Все, что рассказывают соученики и учителя о его отрочестве и мятежной юности, свидетельствует о незаурядных его способностях, мужестве и авантюризме…
В Тарту Борис не остался, решил пробираться на Запад, сначала в Германию, а потом, может, еще дальше. В Берлине, в Йене и в Веймаре этому стройному, красивому юноше с шапкой курчавых темно-золотых волос пришлось нелегко. Сохранилось его письмо к матери с благодарностью за присланные деньги:
«Обедаю в одной студенческой столовке – обед из 2-х блюд – 50 пф. Хлеба, правда, не дают, зато можно получить добавочную порцию картофеля с соусом… Моя хозяйка очень милая старушка. Когда было нечего есть, она раза три приносила мне бутерброды… От нее же беру для чтения книги – немецкие – я сделал очень большие успехи в языке… Как-то раз, когда было очень голодно, получил на улице случайную работу – таскать ящики с книгами на третий этаж. Было здорово тяжело…
Дорогая мамочка – не беспокойся обо мне. Ты знаешь, что я молод и здоров и все, что со мной ни случается, мне нипочем. Я верю в судьбу, и мне все равно, как и что случается с моей жизнью. Между прочим – писал ли я об этом – когда я уезжал из Юрьева, то в Валке случайно был у гадалки… и вот что она сказала:…мне предстоят в жизни странствия и приключения… в скором времени мне предстоит суд и тюрьма – но все кончится хорошо – еще много лет я буду жить неважно, но после стану очень богатым и женюсь где-то далеко за морем на прекрасной блондинке (вероятно, с приданым!) и буду знаменит… Как видишь, до сих пор предсказание довольно верно исполнилось – неудачное путешествие, тюрьма и суд, который хорошо кончился… Посмотрим, что будет дальше – против приключений во всяком случае ничего не имею. Я никак не могу смотреть на жизнь серьезно – ведь это только глупый и пустой сон, за которым все равно рано или поздно следует пробуждение – смерть…»
В Германии Борис подрабатывал переводами, читал в клубах какие-то лекции о малоизвестном ему советском культурном процветании и даже завел роман с единственной на весь город китаянкой. Рассказывают, что как-то после лекции Андре Жида он сумел разговориться с этим знаменитейшим в ту пору французским писателем и мужелюбом, на которого он произвел благоприятное впечатление и который дал ему свой парижский адрес. Может, так оно и было. О германских и первых парижских приключениях Бориса известно не так уж много. В Париж он попал в тяжкую пору безработицы. Его видели в столовой, которую мать Мария и ее помощницы открыли для безработных русских бедняков. Позднее он, впрочем, перестал ходить туда и сообщил знакомой, что поселился в пустовавшей мансарде у Андре Жида. Он даже повесил объявление об уроках русского языка, сообщив для связи адрес самого Андре Жида. Это было славное имя, и если не нужда в русском языке, то даже простое любопытство могло привести по этому адресу кого-нибудь из поклонников модного литературного гения. Вероятно, движимая подобным любопытством и пришла по адресу молодого учителя «прекрасная блондинка», нагаданная ему цыганкой из эстонской Валки (у нее были почти белые, светлые волосы, и вот как описывала ее кузина, видевшая ее в детстве в Ленинграде: «Она поразила меня своей прозрачной, «неземной» красотой. Высокая, тоненькая, очень элегантная… Белые волосы, совсем светло-голубые глаза… Что-то в ней было фарфоровое, неживое, без красок. Но вдруг – прелестная улыбка, легкость и грациозность движений…»).
Звали ее Ирен… Начались уроки русского языка, и за ними, как легко догадаться, последовал роман. Строго говоря, у «прекрасной блондинки» не было обещанного эстонскою цыганкой «приданого». Но у нее было большее – замечательная семья. На правах жениха, а потом мужа и зятя Борис Вильде вошел в одну из самых интеллигентных, вольномыслящих и терпимых русско-французских семей парижской диаспоры. Мать Ирен Вильде Мирра Ивановна Бородина родилась в Петербурге и была дочерью известного русского ученого-ботаника, академика Бородина. Двадцати пяти лет от роду (в 1907 году) она поехала учиться в Париж, вышла там замуж за известного историка-медиевиста, профессора Фердинанда Лота, родила ему трех дочек, да так и осталась во Франции. Брак удался, хотя Мирра Ивановна была верующей, православной, а профессор, как и положено французскому интеллектуалу (комильфо), был атеистом, антиклерикалом и вообще человеком очень левых взглядов. Конечно, при наличии трех дочерей, которых нужно и вывести в люди, и выдать замуж, профессор истории Лот и темпераментная Мирра Ивановна, которая занималась и наукой, и общественной работой, и благотворительностью, писала богословские статьи, да и стихи писала тоже (она издала вместе с поэтессой и медиевисткой Раисой Блох сборник своих стихов), не могли нажить палат каменных. Даже дом в Фонтенэ принадлежал им не полностью: там занимал квартиру еще один жилец, известный физик Ланжевен, ученик Пьера Кюри и, конечно, человек левых взглядов (левые тяготели тогда отчего-то к национал-большевизму Ленина и Сталина, а правые – к национал-социализму Гитлера). Супругов Лот в научных кругах Парижа знали все, и они знали всех, так что говорить о том, что цыганка из Валки вовсе уж ошибалась по поводу «приданого», нельзя. Во Франции трудно войти в какой бы то ни было профессиональный круг (даже в круг дворников-консьержей или бомжей) без семейной и дружеской поддержки, так что собратья Бориса Вильде, поэты из «незамеченного поколения» русских «монпарно», не без оснований считали его счастливчиком и ему завидовали. Отчасти, может, поэтому он и не сошелся близко ни с кем из молодых авторов «Чисел», «Кочевья» и «Круга» Фондаминского. К тому же был он человек непростой и еще в юности придумал для себя маску эгоиста и ницшеанца, хотя и был вполне сентиментальным «русским мальчиком» и вдобавок еще поэтом. Настоящим поэтом (он взял себе поэтический псевдоним Борис Дикой) Вильде, пожалуй, так и не стал, ибо отдаться одной лишь поэзии или философии (как это сделал маргинал Поплавский) он в тех условиях не решился. Нищета и нахлебничество его унижали, он работал с детства, с 12 лет, помогал матери-работнице. Квартиру ему и Ирен (они поженились в 1934 году) снимали ее родители, пока могли, в 1936 году молодые въехали в родительский дом в Фонтенэ. Борис сумел подыскать какую-то постоянную бухгалтерскую работу (пошел на то, от чего отказались в Берлине братья Набоковы) – на целый день. Кроме того, он упорно продолжал учебу – сдавал экзамены по русскому и немецкому, изучал финский и японский, переводил с эстонского – и наконец стал сотрудником этнографического Музея человека. В Музее он участвовал в создании Угрофинского и Арктического отделов, а летом 1937 года ему даже удалось съездить в экспедицию в Эстонию, где он изучал быт и фольклор народности сету.
Странно, что никто из знавших его собратьев-поэтов по «незамеченному поколению» не разглядел его особую силу характера, его незаурядный авантюризм и его способности. Стихи его, впрочем, были пока такие же, как у многих из них, – подражательные (разве что у него пошире был круг языков и кумиров – Рильке, Георге, Гумилев, Валери). Он и сам, впрочем, знал свои слабости:
Собственные стихи не удовлетворяли его, не давались. Но зато он втянулся в научную работу, делал интересные доклады, получил французское гражданство, отслужил в армии, а в 1939 году уехал в научную командировку в Финляндию.
Ну а любовь, семья? Началось все с упоения медовых месяцев, с поездки на юг: влюбленная Ирен, розовые скалы – и чудная семья: теща любила его как сына, равно как и симпатичный отец-профессор, вдобавок единомышленник, левый («Профессор очень рад моему приезду. – А то и не с кем было потолковать – о политике и т. д. Я очень люблю его слушать…» – письмо 1933 года). Целыми вечерами они гуторили с «отцом»-тестем о победах социализма, о грядущем коммунизме Сталина. Об «отце» в письмах Бориса – не меньше, чем о жене. Впрочем, с женой, выросшей в другой стране, в другом доме, было, наверное, не все просто. Но задуматься об этом он не успел. Собственно, он ничего не успел – не успел написать настоящие стихи, не успел обработать научные изыскания, не успел научиться нелегкой науке совместной жизни. Все происходило стремительно…
В 1939 году Борис Вильде был в научной командировке в Финляндии. Началась война, и ему пришлось вернуться во Францию. Он ушел на войну. «Странная война» длилась недолго. Французские воины заполнили немецкие лагеря военнопленных. В июле 1940 года бригадир Вильде бежал из плена и снова очутился в Париже. Пробил его час. Он всю жизнь мечтал об опасностях, борьбе, приключениях. Война для него не была закончена. Его война только начиналась. При Музее человека возникла крошечная подпольная группа, выпускавшая на институтском гектографе газету «Сопротивление» (резистанс). Слово было найдено. Не стоит думать, что здешнее движение Сопротивления до высадки союзников на французском берегу было сколько-нибудь массовым. Я склонен скорее верить бесстрашному Сент-Экзюпери, чем профессиональным пропагандистам компартии или де Голля. Сент-Экзюпери писал с горечью: «Где была живая Франция? Я верил, что в один прекрасный день она проснется. Но этот образ народной Франции, яростно ненавидящей власть, которая обрекла ее на… перемирие, – ах, какая все это ложь! С приходом немцев это стадо испустило чудовищный вздох облегчения». Сент-Экзюпери признает, что были исключения. Подпольная группа Музея человека была среди этих исключений. Можно отметить, что даже в маленькой этой группе было два молодых русских ученых, два поэта – Борис Вильде и Анатолий Левицкий.
6 июля бежавший из плена Борис Вильде появился в музейном кафе, когда сотрудники завтракали. Он хромал. Старик-директор бросился к нему, обнял его, повторяя: «Мой мальчик, мой дорогой мальчик…»
Через два дня Борис написал на листке отрывного календаря: «Вильде разбирает экспонаты… Сегодня ему исполнилось тридцать два года». Тридцать третью годовщину он отметил в тюрьме. До тридцать четвертой он не дожил…
С июля до марта 1941 года – семь месяцев – длилась его подпольная жизнь, его Сопротивление. С марта до конца жизни, до расстрела, – долгие одиннадцать месяцев – он провел в тюрьме.
Об этих его тайных семи месяцах подполья писали много и не очень внятно. Писали после его смерти. В героическом стиле. Оно и понятно. Подпольная жизнь его, связанная со смертельным риском, была и тайной и героической. Клод Авелин рассказывал:
«Мы познакомились в кафе: он подошел ко мне, широкоплечий, светловолосый, синеглазый, и, отведя меня в сторону, сказал, что он зять моих близких друзей.
– Говорят, вы работаете? – сказал он негромко.
– А вы? – спросил я, и мы оба рассмеялись. С тех пор мы стали друзьями и сотрудниками.
Я не знал человека, который бы лучше владел собой, а ему, с такими глазами, горевшими внутренним пламенем, надо было уметь себя сдерживать. Он походил на северное божество. Он был очень красив…»
Андре Жид писал в своих воспоминаниях о годах оккупации:
«…Я считал, что самые храбрые представители нашей молодежи слепо идут на верную гибель. Их самопожертвование грозило гибелью лучшим из лучших, и Франция была бы еще более обескровлена этими напрасными жертвами, этими ненужными, как мне казалось, потерями…
Потом пришел… один человек и так укрепил… пугливую надежду, что все небо вновь засияло надо мною.
Этого человека звали Борис Вильде, и он несколько месяцев жил в мансарде в моем доме. Не помню, какой счастливый случай свел меня с ним в тридцатые годы. Он тогда искал место, и я горячо рекомендовал его профессору Риве, который возглавлял Музей человека. Риве сразу сумел оценить его блестящие способности. Вильде всегда держался настолько скромно и сдержанно, что я почти ничего о нем не знал и уж никак не мог предугадать, какую героическую роль он будет играть в Сопротивлении. Во всяком случае, наш разговор в тот поздний вечер, когда он явился ко мне, показался мне настолько важным, что я без колебаний решил познакомить его с Пьером Виено, который скрывался у моих соседей.
Я представил их друг другу и ушел, чтобы не мешать им, и они проговорили до самого утра.
Вскоре после этой встречи Вильде был предан и расстрелян. Я с глубоким уважением склоняю голову перед этим благороднейшим человеком. Все, кто его знал, до сих пор преклоняются перед этим мучеником…»
На протяжении семи месяцев Вильде выпускал газету, переходил в свободную зону и переводил других, выполнял различные поручения… У него были друзья и помощники. Больше всех он доверял Гаво, который всех и продал. Почти в каждом подполье бывает предатель…
В те месяцы Борис почти перестал появляться дома, в Фонтенэ. Ирен упрекала его в этом, а может, и еще в чем-то, чего я не знаю. Кажется, еще в том, что он вовремя не уехал из Парижа. Что задержало его тогда? Один из мемуаристов (В. Яновский) утверждает, что у него был в то время роман в балетной студии Ирины Гржебиной. Все может быть: в тайной жизни подпольщиков нередко возникают и тайные любови… Все это потеряло значение в конце марта 1942 года, когда он был арестован на площади Пигаль, оказался в тюремной камере и был обречен на смерть. Последний раз он побывал в Фонтенэ 25 марта.
В тюремной камере он проявил все свое мужество (в котором у него никогда не было недостатка) и написал свои лучшие письма, а через полгода после ареста, в одиночной камере тюрьмы Фрэн, написал и свой «Диалог в тюрьме», «внутренний диалог между двумя «Я», и оба они настоящие». Один из «настоящих» «Я» бесстрашно идет навстречу смерти, другой подробно живописует радости жизни… Но главное в «Диалоге» – размышления об ушедшем, о прожитой жизни, об отношении к людям, о Франции, о любви… Вильде писал, что тюремная камера как темная комната, где проявляется фотопленка. Все становится ясным и отчетливым, проступает главное. Главным из того, что с ним случилось в жизни, неожиданно оказалось его чувство к жене:
«Иногда мне удается полностью отрешиться от того, что было моей жизнью, – от всего, кроме Ирен. Не могу оторваться от нее. И в этом – мера моей любви к ней, она одна еще связывает меня с жизнью… И это чудо. Почему и как я люблю ее?»
И дальше, обращаясь к себе самому:
«…В один прекрасный день в великолепном бастионе твоего равнодушия открылась брешь. Все началось со встречи с твоей будущей женой… ты боролся годами, прежде чем признать поражение. И только недавно ты понял, что это поражение и было победой… с минуты нашей встречи я почувствовал в себе человеческую душу…
Сама суть моего чувства к Ирен коренится в интуиции, в безрассудном, интуитивном представлении другой Ирен, которой она сама не знает, – той, что открывается только мне. Более того: лишь в соприкосновении с ней я сам себе открываюсь до конца. Какая-то взаимная избранность… Она как будто этого не хочет видеть…
Возможно, что любовь к себе и к другим – одно и то же, и любим мы в других людях и даже в животных ту же божественную сущность, которая есть во всем существующем. Эволюция человечества тогда означала бы развитие этой любви, любви вообще…»
В долгие тюремные месяцы в ожидании суда и смерти Борис читает книги по философии, учит языки, пишет письма жене, заклиная ее и родных не жалеть его, не горевать о нем:
«Ни одиночество, ни тишина меня никогда не страшили, а уж безделье мне никак не угрожает: никогда моя внутренняя жизнь не была столь напряженной, интенсивной.
…я испытываю тайную радость, чувствуя, что полностью сохранил всю жажду жизни, что во мне не убывает жизненная сила… что тюрьма не отняла у меня ничего.
И хотя я лишен… внешней… стороны жизни, я все же чувствую, что я безмерно богат. Есть глубокая правда в евангельских словах: «Царство Божие внутри нас».
…именно в иррациональном познании мира человеком я вижу сущность любви… Любовь – состояние души, когда реальное открывается человеку через духовное…
Может быть, я говорю не совсем ясно, но я на это и не претендую. Я рассчитываю на вашу любовь, она поможет вам понять меня, ибо любовь есть понимание и самое большое откровение…
Я ни в чем не отрекаюсь от прошлого… Нет ничего случайного, все предначертано.
Вспомните хотя бы о непредвиденном чуде нашей встречи, нашей любви – как же тут не верить в судьбу?»
Ирен навестила мужа в тюрьме 23 февраля. Когда она ждала его внизу, чтоб попрощаться, в камеру вошел прокурор, чтобы сказать Борису несколько слов по-немецки. Борис спустился вниз и с улыбкой объяснил обеспокоенной жене, что просто хотел еще раз ее поцеловать… Она успокоилась. Но он уже знал, что они не увидятся больше…
…Былой дом Лотов давно уже сломали. Вдова Бориса и много десятилетий спустя продолжала жить на той же улице Вильде, на седьмом этаже многоквартирного дома, храня несколько листков, вырванных им из тетради при их прощании:
«Простите, что я обманул Вас: когда я спустился, чтобы еще раз обнять Вас, я уже знал, что это будет сегодня. По правде говоря, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. И я иду на смерть с улыбкой, как на новое приключение, может быть, – с некоторым сожалением, но ни угрызений совести, ни страха во мне нет…
Моя дорогая, думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом… Придет день, когда Вы уже не сможете жить без меня, без моих писем, без воспоминаний обо мне. В этот день мы соединимся с Вами в вечности, в истинной любви…»
Вот и все… Такой вот «русский мальчик» жил в крошечном Фонтенэ-о-Роз. Может, этого хватило бы, чтоб прославить любимую им Францию, Французский Остров, узенькую деревенскую улицу Вильде.
На той же улице, в доме № 8 (который, может, со временем станет музеем), жили люди вполне знаменитые. Сначала жил здесь писатель Гюисманс, потом поселился художник Фернан Леже, а с конца 70-х годов XX века и до самой своей смерти – в 1997 году – здесь жил русский писатель-эмигрант Андрей Донатович Синявский с супругой своей Марьей Васильевной Розановой. В этом доме супруги Синявские издавали добрых два десятка лет русский журнал «Синтаксис», так что дом № 8 вошел в русскую литературу и в эмигрантскую журналистику. Конечно, читателю, пришедшему в наш лучший из миров лишь во второй половине XX века или даже позже, непременно надо напомнить, что значило для читающей (хотя бы газеты читающей) публики имя Синявского в конце 60-х годов минувшего века. Прежде всего это было имя человека, ставшего жертвой судебного процесса, вошедшего в историю как «Процесс Синявского и Даниэля». Писателя Андрея Синявского и писателя Юлия Даниэля судили в Москве за то, что они на протяжении нескольких лет передавали на Запад для печатания свои художественные произведения, подписанные псевдонимом. Синявский подписывался Абрам Терц.
Конечно, это был далеко не первый московский процесс над интеллигентами – большевики судили своих подданных, сажали в тюрьму, пытали и даже расстреливали сотни и тысячи раз и за меньшие «акты предательства Родины» (во французской исторической науке существует даже понятие – «московские процессы»), но к концу 60-х годов большевистская диктатура настолько ослабела, что даже ножкой не могла топнуть достаточно устрашающе, так что процесс получился странным и непривычным, а самая эта затея с «показательным процессом» прогремела на весь мир и стоила послушной Французской компартии не меньших потерь, чем, скажем, карательная экспедиция советских танков в мирную Прагу в 1968-м.
Чем же таким отличался процесс Синявского – Даниэля от предшествовавших им «процессов устрашения»? Прежде всего тем, что подсудимые не испугались, во всяком случае, не подали виду. Понятно, что на сей раз их не били, не пытали, но это уж подробности закулисно-подготовительной техники, а на поверхности – вот: они не каются (в отличие от былых твердокаменных ленинцев), не обливают себя грязью, не топят друзей, даже не признают себя виновными. И свидетели не рвутся их топить. Иные, рискуя собственной жизнью и карьерой (как старенький профессор Дувакин), грудью встают на защиту «злодеев». И дерзкие разговоры идут по тесным московским квартирам и некоммунальным уже кухням. В общем, что-то новое носится в воздухе… Помнится, сидел я в один из дней процесса на московской кухне (в квартире покойного уже в ту пору С.Я. Маршака), беседовал с английским стариком социалистом Э. Хьюзом, который привез очередную груду ксероксов (невиданная новинка), чтоб я перевел их и слепил из них от имени Э. Хьюза нечто вроде биографии Б. Шоу (я не знал еще, что они на Западе привыкли к таким вот «негритянским» услугам, это было мне в новинку, но сынок подрастал и уже что-то соглашался съесть, хотя и со скандалом). И вот в самый разгар нашей вежливо-хитроумной беседы о трудностях «перевода» прибежал корреспондент супербратской английской газетки «Дейли уоркер» (кажется, это был Темпест) и стал с восторгом, взахлеб рассказывать, как отважно борются московские интеллигенты против неправого, подъяремного суда, – ну и ну…
Вот как вспоминал об этом процессе три десятилетия спустя писатель Василий Аксенов:
«…Для той же самой России в ее какой-то, может быть, почти не существующей или совсем не существующей, но витающей над нами астральной модели, иными словами, для «идеалистической России», имя Синявского вместе с Даниэлем навсегда останутся символами борьбы и даже победы. Судилище 1966 года вместо того, чтобы запугать, открыло в обществе существование какого-то труднообъяснимого резерва свободы, то ли уцелевшего со старых времен, то ли накопившегося заново».
Не знаю, что уж там за свободы могли упомнить «со старых времен» наши с Аксеновым сверстники, но только пошло-поехало (с этого знаменитого процесса все и пошло). Уже отсидевший за самодельный журнальчик стихов «Синтаксис» свой первый срок, юный и бесстрашный Алик Гинзбург с ходу стал собирать «Белую книгу» откликов на процесс, причем в открытую предъявил ее властям и схлопотал за это свой новый срок (увы, не последний). Мой школьный друг Боря Золотухин пошел тогда в казенный суд защищать Гинзбурга, а другие собирались на кухнях, злопамятно вспоминая: а что там, кстати, записано в сталинской Конституции и в Декларации прав человека (которая, может, и про нас писана)? В общем, интеллигенция стала качать права, да и могучие правоохранительные органы оказались при деле, том самом, что было завещано Ильичем, – «расширять массовидность» и никуда «не пущать»… Иногда думаешь – не вытащили бы власти на свет Синявского, никто бы в целой Москве никогда и не услышал о нем (а на Западе, где столько книг, никто б и не прочел тем более). Но тогда сколько людей осталось бы не у дел. А так – процесс, борьба – жизнь идет, шевелится…
АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ И ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ В ЗАЛЕ СУДА
Синявский и Даниэль в ореоле мученичества были угнаны в лагеря, но там, хвала Господу, уцелели, выжили. Может, уже не совсем те были лагеря, что в 30–40-е годы, а может, помогало им отсутствие чувства вины – все же не враги они были своему народу, а просто писатели: писатель пишет и должен печататься, а органы тут ни при чем. И литература вообще занятие особое. Синявский так и записал в лагере:
«Произведение искусства ничему не учит – оно учит всему. Произведение не в пользу ни того, ни другого, ни третьего. Ни даже в пользу себя. Оно обратимо в своей полезности, в своем воздействии на сердца. Чему служит «Демон» у Лермонтова – атеизму или мистицизму? Сперва тому, потом этому».
Поразительная картинка лагерной жизни: приходит человек после рабской работы, после лагерной столовки, садится в уголке или в сторонке от барака – и пишет:
«Метафора – это память о том золотом веке, когда все было всем. Осколок метаморфозы».
Записи свои Синявский отсылал жене в письмах. Потом из них получились книги – «Голос из хора» и «Прогулки с Пушкиным» (написаны в Дубровлаге – а с кем же ему там было гулять, как не с Пушкиным, он был филолог, литературный человек, кандидат наук, знаток Горького, яростный поклонник Маяковского, которого ценил за его искреннюю революционность, прощая ему пошлые агитки, его дружбу с ГПУ и его совместные с Бриками шалости…).
Лагерная книга Синявского «Голос из хора» вышла в 1973 году, почти одновременно с могучим и яростным «Архипелагом» Солженицына, все затмившим. Но и у Синявского были свои читатели, грамотные, утонченные, не слишком многочисленные…
После пяти лет отсидки вышел на свободу Юлий Даниэль (мне довелось познакомиться с ним вскоре – что за прелестный был человек!), а потом досрочно выпустили на свободу и Синявского. Здешняя пресса не раз писала, что супруга Андрея Донатовича сумела провести переговоры с Властями об освобождении мужа и об их отъезде за границу на каких-то там самых льготных условиях (видимо, какие-то условия ставились). Что ж, сам Синявский тоже ведь не раз вел с Ними переговоры. Он считал, что эти игры возможны и что Их даже можно переиграть (все надеются «переиграть» казино Монте-Карло)… С другой стороны, с кем же ей (супруге) еще было договариваться, как не с Властями? Раз уж можно договориться. В сталинскую эпоху чуть не все литераторы (от Пастернака до Мандельштама) пытались договориться – не всем удалось выжить. В общем, об «условиях» мы ничего не знаем, но мужа надо было выручать…
Синявские уехали во Францию и поселились в Фонтенэ-о-Роз, в доме на улице Вильде. Профессор Синявский стал читать курс в одном из университетов Сорбонны, в Гран-пале. Выходили его книги. С 1978 года супруги стали издавать журнал, позаимствовав у А. Гинзбурга легендарное самиздатское название – «Синтаксис»…
Помню, по Москве ходили романтические слухи – лекции в Сорбонне, битком набитые залы, книги, «Синтаксис», международные конференции… Помню какую-то ночь, когда утонченная дама до утра шептала мне в сонное ухо: «Сорбонна, «Синтаксис», «Крошка Цорес». – «Кто, Цахес?» – «Нет, по-ихнему – Цорес!»
В начале восьмидесятых я поехал в Париж, чтобы успеть к рождению моей парижанки-доченьки. А успев, конечно, побежал на лекцию Синявского в Гран-пале. Я должен был быть ко всему готов – я ведь уже переводил к тому времени роман «Пнин» и писал книгу о Набокове… И все-таки это был жестокий урок эмигрантского смирения. В просторной, на сотни мест, аудитории бывшего павильона Гран-пале нас было человек пять-шесть. Четыре глуховатые бабушки садились за первый стол, заслоняя маленького Синявского от зала (то есть от меня). Одна бабушка каждые четверть часа вдруг начинала смеяться, и тогда Синявский смолкал. Все терпеливо ждали, пока у нее кончится приступ веселья. Потом Синявский снова читал, не поднимая головы от бумаги, – как читал в Корнеле сам В.В. Набоков (который, впрочем, иногда посылал Веру прочитать за него этот вечно юный, Бог знает когда написанный текст). Думаю, корнелские студенты понимали по-русски еще хуже, чем глухие парижские бабушки… Работа есть работа, хорошо хоть несколько человек записались на курс – не то вообще закрывай лавочку.
В перерыве между лекциями я подошел к Синявскому. Я видел его впервые. Он был маленький, косоглазый, вполне улыбчивый. Он сказал: «Да?» Но я даже этого не смог сказать, настолько блистательная парижская реальность не соответствовала «астральной модели». Я прослушал его курс до конца. Он читал о русских сектах, но иногда вдруг начинал рассказывать о собственных встречах с сектантами в лагерях. В общем, это было интересно, хотя, как и Набоков, он был не оратор.
Вышла его книга «Прогулки с Пушкиным», и в эмиграции поднялся несусветный крик – будто в советской печати в эпоху борьбы за «русский приоритет» во всех сферах человеческой деятельности. Конечно, Сталин умер, но Пушкин был вечно живой, как Ленин. И никто из ругателей будто не обратил внимания на то, что Синявский любит этого Пушкина. Что книга его (как сформулировала грамотная супруга самого автора) – это «гимн во славу чистого искусства и свободного творчества». Синявский гулял с Пушкиным запросто, гулял среди лагерных бараков, да и начал он разговор о Пушкине с привычной своей «эстетической провокации»: Пушкин, мол, вбежал в русскую поэзию на тоненьких эротических ножках. То бишь начинал он с эпиграмм и со стишков в дамские альбомы. Ну и, конечно, с дамами умел обращаться. Ничего страшного (любимый поэт Синявского Маяковский не то что начинал, он и кончал коммерческой рекламой), но подумайте, как можно было такое написать о нашем Самом что ни на есть Самом, о нашем Солнце? Ведь Пушкин – это Ленин сегодня, это Наше Все. Кроме того, это был не его, не Синявского, участок работы: раз ты маяковед, то и пиши про Лилю, Нетте, Аграныча, а у нас есть в стране настоящие профессионалы-пушкинисты.
Еще больше Синявский оскандалился с фразой по поводу евреев и России. Евреи в ту пору уже покидали Россию – одни уезжали от обид, другие – с надеждами на тот край холма, где трава еще зеленее. Синявский, сочувствуя первым, произнес совершенно ужасную фразу: «Россия-мать, Россия-сука, ты еще поплатишься и за это, выкормленное тобою и выброшенное на помойку, дитя». Боже, что тут началось! Ну, помойка ладно, Запад гниет, но обозвать сукой нашу мать, мать нашу… Всем стало ясно, что даже за границей литература не может быть беспартийной (как и предупреждал Ленин). В эмиграции было четыре журнала, а партий даже больше, и все патриотические. Каждая из них критиковала остальные, и критика была вполне партийной, а простая терпимость стала даже называться мерзким, явно нерусским словом «плюрализм». Больше всех доставалось от всех партий Синявскому, который поднял хвост и на Пушкина, – такого никому нельзя простить.
Дальше – больше: покатилось яблочко… Позволяли себе иногда Синявские и журнал «Синтаксис» кое-какие критические замечания по поводу, скажем, солженицынской «борьбы с русофобией» (для усиления этой борьбы даже были созданы в эмиграции какие-то ныне вполне забытые национал-большевистские журналы). Синявский сказал однажды, что, сколько он живет во Франции, никакой русофобии не замечал, и был тут же заклеймен за это как главный плюралист, литературный хулиган и русофоб. Может, он уже догадался, что слово «русофоб» создано было на смену устаревшим терминам «безродный космополит», «беспачпортный бродяга» и «убийцы в белых халатах», однако все же кличка эта, «плюралист-русофоб», его обижала. Вот как рассказывала об этом его лондонская подруга Наталья Рубинштейн:
«…Несмотря на то, что Синявского прорабатывали чуть ли не ежемесячно… у него никак не вырабатывался иммунитет к этим нападкам. Он – к моему огорчению – искренне расстраивался.
Более здраво относилась, вероятно, к дружной и ни с чем не соразмерной этой хуле супруга Синявского М.В. Розанова. Ведомый ею журнал «Синтаксис» не просто отругивался, но и ловил оппонентов на их знакомых до зевоты старинных дворовых фобиях. И то сказать, оппоненты подставлялись без особых хитростей, с сознанием силы и с верой в темное будущее. Может, предчувствия их и не обманывали – и то уж, сколько можно терпеть всем вместе, без малого двести лет…
Вообще, надо сказать, что при наличии столь малого числа сотрудников (один, точнее, одна) русский журнал в Фонтенэ-о-Роз («Синтаксис») выходил очень интересный. И написано все было здорово – высокий класс. Вообще, как поглядишь, грамотный народ плюралисты, и родным языком овладели, хотя, конечно, не все сто процентов из них смогли бы стопроцентно доказать чистоту своей русской крови (сам-то Синявский, конечно, смог бы).
К завершению шестого десятка лет своей жизни написал Андрей Синявский новый большой роман, который принес ему новые большие хлопоты. Это самое обширное произведение Синявского и как бы даже итоговое. Так сказать, итог жизни изгнанника с пригородной улицы Вильде в Фонтенэ-о-Роз, хотя, строго говоря, до конца жизни ему оставалось еще добрых полтора десятилетия:
«Костром потягивает. Дымком. Каштаны…жгут листву. Я свободен от ностальгии. Осень у них во Франции. Понимаете, так же как в России у нас, у них – осень. И жгутся листья, готовятся к зиме. Разве что вздохнешь глубоко, и приятно задышать. Сентябрь. Серебряный век. Эмиграция.
Если б и впустили обратно, с гарантией, что не убьют (я иногда воображаю), и пиши, что хочешь, я бы, наверное, все равно не вернулся…»
Это из романа «Спокойной ночи». Роман автобиографический, жанр его точно не обозначен, и только из письма одной из героинь романа можно понять, что в нем «личности и события во многом изображены в фантастическом духе».
В первой части романа А. Синявский рассказывает о своем аресте в 1965 году за публикацию книг за границей, о допросах на Лубянке, во второй части – об ожидании ареста, о лагерном Доме свиданий, о жене, о любви, о браке. Третья часть посвящена отцу, партийному работнику, который был арестован в 1951 году, а позднее реабилитирован. Ну а четвертая часть посвящена в основном Сталину, мистике и эзотерике власти («Что власть без тайны, без чуда? – Механическая сила, и не более того… Я родился под созвездием «Сталин – Киров – Жданов – Гитлер – Сталин» – и далее со всеми подробностями)…»
Понимаю, что пересказ такого романа может быть только очень приблизительным, ибо это вольная проза и в ней там и сям говорится обо всем, и я не могу даже с уверенностью сказать, где там, в этой автобиографической, до крайности печальной прозе, кроются какие-нибудь экскурсы в область фантазии. Фантастической является сама описываемая действительность, но она вполне узнаваема. Самой фантастической является, пожалуй, последняя, пятая часть романа («Во чреве кита»), и я попробую хоть вкратце пересказать ее содержание. В юные годы у Андрея был друг С., который пленил его своей образованностью, начитанностью и ранними догадками о сущности советской диктатуры. Мало-помалу выясняется, что человек он жуткий и вдобавок стукач. Кроме стукача С., в пятой части романа появляется прелестная француженка, дочь военно-морского атташе французского посольства в Москве. Ее зовут Элен. Она поступает учиться на филфак МГУ, знакомится с Андреем и относится к нему с симпатией. К С. она относится с меньшей симпатией, и он, понятное дело, на нее стучит в КГБ. Но и Андрей на нее стучит туда же (и это, конечно, слегка шокирует читателя: все же как-никак Синявский – Даниэль, но что поделать, время было суровое и подлое – 1947-й, самая борьба с русофобами. К тому же герой наш вступает в некие игры с Великой Организацией, надеясь ее переиграть). Органы хотят, чтобы Синявский женился на француженке, и тогда они ее убьют (зачем это им нужно вообще и почему нельзя убивать в натуральном виде, не очень понятно). Андрей решает спасти Элен от смерти, предупредив, что он, извините, стукач, что она не должна выходить за него замуж (кстати, неясно, хотела ли она вообще выходить за него замуж?) и что она должна сообщить о своем отказе органам через доносчика С. (который в отличие от Андрея, вероятно, знал, что браки советских граждан с иностранками и вовсе запрещены). Элен уезжает на родину, где ей больше не грозит смерть от брака, но и это еще не конец. Органы требуют, чтобы Андрей вызвал Элен в Вену, сажают его (доселе «невыездного») в пустой военный самолет и везут его в столицу Австрии, чтобы он там, бродя по городу, разыскал Элен и убедил ее вступить в брак. История настолько абсурдная, что приходит в голову, будто нечто в этом духе действительно могло происходить. Но что именно? Где тут элемент автобиографии и где фантазия? Единственный бесспорный элемент – стукачество героя, и то оно как-то наспех проговорено: мол, дело обычное, дело нормальное…
Выход в свет последнего романа Синявского развязал в эмигрантской прессе новую жестокую полемику о том, кто больше стукач и кто больше русофоб. Из небытия выплыл вдруг живой (да еще и живущий в Германии) прототип отрицательного героя – С., который объявил, что да, это он, Сергей Хмельницкий, был стукачом (Был, а перестал ли быть? Хмельницкий незамедлительно вернул тот же вопрос Синявскому в длинном письме…), но теперь вот Синявский его прославил (кстати, не назвав в романе его фамилию – обидно) и он, Хмельницкий, больше не хочет возвращаться «во мглу неизвестности», он умоляет «не казнить его молчанием», так что давно пора его простить и уделить ему хоть частицу известности, абы какой. Хмельницкий написал длиннющее письмо, один из эмигрантских журналов письмо это предал гласности, а остальные незамедлительно вцепились в штаны беспечному публикатору. И то сказать, тема оказалась животрепещущей. Интеллигентская Россия много десятилетий жила в атмосфере шпиономании и стукачества. Если в единственной из так называемых «социалистических» стран, решившейся после падения режима вытащить на всеобщее обозрение свои тайные досье (ГДР), стукачом оказался чуть не каждый седьмой гражданин, то что же творилось тогда в бедной параноической Совдепии? Тогда в России и за рубежом одна за другой стали выходить книги бывших стукачей всех рангов. Они поливали себя помоями, жалуясь, как и С. Хмельницкий, на муки безвестности. Все рекорды побил ленинградский критик-стукач В.И. Соловьев, выпустивший то ли три, то ли четыре издания своих стриптизерских «записок стукача» под завлекательным названием «Три еврея»…
Синявский мирно писал о Маяковском. Намеки на это содержатся в его последнем романе, где он так говорит о возлюбленном своем кровожадном «горлане-главаре»: «В нем одном, самоубийце, тлел неукротимый и праведный уголь революции ее начальной стадии, вносивший, отголоском, что-то истовое и возвышенное в нашу кондовую, комсомольскую доблесть». Может, Синявский даже издал бы со временем сборник революционных песен и маршей («Вихри враждебные…», «На бой кровавый…»), недаром же в конце его книги возникает вдруг лирическое обращение к милой француженке Элен: «Ты знаешь, даже сейчас, когда я заканчиваю этот роман и начинаю по временам, чисто физически, выдыхаться, я подбадриваю себя, мысленно, этими песнями. «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»
Читаю и думаю: не случись Процесса, стал бы Синявский еще одним доктором маякововедения, но так все же не случилось. Да и Марья Васильевна не допустила бы такой жизненной неудачи. Она не нимфа ручья, не эгерия, она вдохновительница самых дерзостных «проектов». Она не возражает, когда ее называют (вполне любовно) ведьмой, охотно рассказывает анекдот про покупку метлы в хозмаге, где продавец ее спрашивает: «Вам завернуть? Или так полетите?»
…Сам я сподобился лишь единожды побывать в доме Синявских на улице Вильде, в начале 90-х годов прошлого века.
Синявский был не слишком-то хорош уже и в пору моего визита в Фонтенэ. Но он еще успел потом съездить в Россию, посетил Псково-Печорский монастырь, помирился со своим эмигрантским врагом Владимиром Максимовым (который тоже сгорал от рака). Оба они с ужасом восприняли весть о том, что «молодая российская демократия» в упор расстреливала свой собственный парламент…
Хозяин дома № 8 умер в 1997 году. Конечно, оставшаяся в одиночестве вдова не голосила по покойнику, она и в тяжкую минуту осталась верна их «провокативной эстетике». Вот как описывает свое прощание с Синявским писатель Петр Вайль:
«В трехэтажном доме на улице Бориса Вильде все было так же, но Марья Васильевна повела на второй этаж, где в окружении икон, книг, подсвечников в виде купчих, прялок стоял на подставках гроб. В гробу лежал Андрей Донатович с пиратской повязкой на глазу.
– Вот мы теперь какие.
Строго говоря, в повязке лежал Абрам Терц. Это он при жизни любил прохаживаться по комнатам, нацепив «Веселого Роджера», и именно это имела в виду его вдова, устраивая макабрический карнавал. Ведь 25 февраля 1997 года умер один человек, но два писателя – Андрей Синявский и Абрам Терц…
– Вот мы теперь какие, – сказала Марья Васильевна, и вслед за ней я стал спускаться по лестнице.
Синявский остался лежать, задрав бороду, в голубой полосатой рубашке, застегнутой под горло, в черной флибустьерской повязке Абрама Терца с черепом и костями на левом глазу. Проверял – полезно ли писателю умирать».
У того же Вайля есть и описание погребения на муниципальном кладбище Фонтенэ-о-Роз:
«Знаменитый поэт, давно освоивший похоронный жанр, привез горшок с землей с могилы Пастернака. Хочется думать, что земля набиралась из фикуса в посольстве – иначе пастернаковская могила должна напоминать карьер. Горшок опростался в яму, и тут Марья Васильевна прервала речи, сказав, что покойный был человек антиторжественный и веселый, поэтому пора идти в дом – выпивать, закусывать и рассказывать анекдоты, которые он так любил».
Вайлевское описание похорон я нашел в номере 36 «Синтаксиса», но бдительно просмотрел после этого все прочие отчеты о грустной церемонии в Фонтенэ-о-Роз и, конечно, нашел разночтения (как может быть иначе у плюралистов?). В очерке Зиновия Зиника в том же номере «Синтаксиса» никакого горшка не было упомянуто, но зато был упомянут пакет. И поскольку у Зиника назван был по имени поэт (и без того очень известный), а также упомянут какой-то их там плюралистический кадиш и развернута мысль о наилучшем обслуживании писательских похорон, я приведу и лондонскую (зиниковскую) версию – тем более что уходить от дома № 8 мне пока неохота:
«На похоронах Синявского поговаривали, что, мол, в главной синагоге Одессы поют кадиш по Абраму Терцу, и поэтому вовсе не ясно, чье тело хоронили в парижском гробу.
Но не в том дело. На кладбище речь над могилой Синявского произносил поэт Андрей Вознесенский. В руках он держал пластиковый пакет и с этим пакетом, как я заметил, ни на секунду не расставался. Пакет оттопыривался: он был, похоже, набит какой-то снедью – такие пакеты носят с собой «органики», сидящие на специальной диете из отрубей с фасолью. Закончив надгробную речь, Вознесенский засунул руку в пакет и вытащил оттуда – кто бы мог подумать? – землю. Поэт объявил, что это горсть родной земли, которую он привез на могилу писателя на чужбине. Довольно увесистая горсть: с полкило. И не просто российской земли, а земли из Переделкина, – видимо, потому, что хоронили все-таки писателя. А поскольку Синявский изучал творчество Пастернака, все присутствующие поняли, что переделкинская земля – с могилы Пастернака. Моя подруга, парижанка Ира Уолдрон, сказала, что не впервые встречает Вознесенского на похоронах писателей-эмигрантов. Можно даже сказать, что он был на похоронах всех писателей, скончавшихся на чужбине в последнее десятилетие… И всюду с ним пакет родной земли. Все оттуда же, как я понимаю, с могилы Пастернака. То есть Вознесенский просто-напросто гробокопатель. Скоро от могилы ничего не останется. С чем ездить на похороны за границу?»
Учитывая, что писатели не перестают умирать и «спрос на горсть земли с могилы великого человека был, есть и всегда будет», писатель-гуманист З. Зиник предлагает как-то упорядочить это дело и открыть специальный магазин, где будут продавать в баночках землю с могил великих людей. У Зиника есть несколько разнообразных идей по части упаковки и обработки могильной почвы, но в целом все они в духе «макабрических» похорон в Фонтенэ-о-Роз и журнала «Синтаксис». И не эти мелочи занимают мой праздный ум, пока я стою перед домом № 8 на улице Бориса Вильде. Как человек серьезный, с креном к зарубежному туризму, я думаю о музее. Конечно, со временем здесь можно будет открыть Дом-музей Синявских или Дом-музей идейной (или безыдейной) борьбы в эмиграции. Еще лучше было бы открыть музей «Русские 60-е годы XX века». Но кто даст деньги, кто станет спонсором?.. У меня есть кое-какие идеи. Если объявить, что на печатном станке в подвале Синявских печаталась брошюра Троцкого «Женский перманент и революция», деньги потекут со всех сторон (здесь несколько троцкистских партий, в том числе и нелегальных, и они не перестают трясти зажиточных евреев). Во всяком случае, деньги найдутся, было б желание. А оттого, что я буду стоять вот так столбом и мерзнуть перед грустным домом № 8 в Фонтенэ, от этого дело не сдвинется…
Городок Монтрёй
Русский альбатрос спасает французского петушка Иван Мозжухин • Старый Жак из Монтрея
Городок Монтрёй (Montreuil), что прилепился к восточной окраине Парижа, знаменит своим блошиным рынком – настоящей, а не туристической, как на Клиньянкуре, «вшивкой», с которой и начинается этот городок, – начинается довольно убого и неопрятно. Так что если кто при парижанине назовет Монтрёй «городом искусства», то это вызовет только кривую усмешку. А между тем напрасно он усмехается, гордый парижанин – именно Монтрёй каких-нибудь три четверти века тому назад прославил хотя и не слишком древнюю, а все же любимую народом музу и сыграл важную роль в спасении одного из искусств, которое боевитый Ильич назвал когда-то главным орудием партии (мог ли быть выше комплимент в его партийных устах?). Ныне, конечно, роль этой музы поблекла, особенно в России, а все же и нынче остались на свете многие миллионы поклонников кино. Ибо речь, как вы, наверное, уже поняли, идет о кино.
Нынче городок Монтрёй, с его виллами, многоэтажками, с роскошной мэрией, прекрасным парком и итальянского вида Музеем живых искусств в парке – нынче Монтрёй уже не сотрясает основ мирового искусства, хотя он и нынче не чужд новаторства. В историю кинематографии городок Монтрёй, без сомнения, вписал яркую страницу, и притом соединил свое имя не только с мировым или французским кино, но и с русским – может, в первую очередь с русским. Впрочем, начну по порядку…
Лидером французского кино в начале XX века была фирма «Пате», у которой в Монтрёе имелась студия «Альбатрос», а задорный галльский петушок на афишах фильмов «Пате» был тогда знако́м любому поклоннику кино. Но Первая мировая война нанесла знаменитой французской фирме урон – казалось даже, непоправимый. К концу войны «Пате» отставала от американской промышленности уже лет на пять. Американцы выбросили к тому времени на кинорынок три тысячи высокопрофессиональных дешевых фильмов. Американцы привили кинозрителям, не только своим, но и европейским, и русским, новые вкусы. Французам оставалось только сложить оружие и сойти на нет. И тут в судьбу «Пате» вмешались счастливые обстоятельства. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Французам помогли русские беды – война, революция и, наконец, октябрьская катастрофа 1917 года, за которой последовали незабываемый 1918-й, а потом незабываемый и непереносимый 1919-й. Среди прочих отраслей человеческой деятельности в России загнано было в тупик великолепное русское кино. Снимать было больше нельзя, выжить тоже, оставалось бежать. Вот тогда-то в Париже и появилась киногруппа Ермольева, старого, довоенного еще русского партнера «Пате». Фирма «Пате» уступила русской группе простаивающую свою студию в Монтрёе, и русские вселились в съемочный павильон на улице Сержанта Бобийо – он и нынче стоит среди каких-то пакгаузов во дворе дома № 52 свидетельством чуда, которое свершилось здесь 90 лет тому назад. Чудо заключалось в том, что здешний «Альбатрос» (поначалу это было «Товарищество Ермольева», а после 1922 года и отъезда Ермольева – «Альбатрос»), русский альбатрос сумел спасти галльского петушка фирмы «Пате» от всемогущего голливудского льва. Выяснилось, что русские умеют делать все то же, что американцы. У них не только гениальные актеры и режиссеры, операторы и художники, сценаристы, портнихи и декораторы, у них еще и передовая техника. Оказалось, что они могут создать на радость публике любой «постановочный» фильм – какую-нибудь «Шахерезаду». И стало видно, что этот русский «Альбатрос» не хуже Голливуда взялся за воспитание собственной публики, что он задает тон в искусстве и воспитывает для французского кино новых гениев. Разве не об этом свидетельствуют воспоминания знаменитейшего французского режиссера Жана Ренуара, который был сыном прославленного художника Огюста Ренуара и, естественно, с молодых лет шел по стопам отца, занимался художественной керамикой, а русскими из Монтрёя был совращен на дорогу кинематографа? Вот поразительное свидетельство Ренуара о воздействии мозжухинского фильма, показанного в Париже:
«Однажды в кинотеатре «Колизей» я увидел «Пылающий костер»… Зал вопил, шикал, свистел, шокированный этим зрелищем, столь непохожим на обычную киношную жвачку.
Я был в восторге. Наконец-то я увидел хороший фильм, поставленный во Франции. Конечно, он был поставлен русскими, но все же он был поставлен в Монтрёе, во французской атмосфере, в нашем климате: и этот фильм шел в хорошем кинотеатре, он не имел успеха, но все же он шел.
Я решил забросить свой промысел керамиста и делать кино».
Фильм «Пылающий костер» поставили Волков и Мозжухин. При этом Иван Мозжухин написал сценарий фильма, великий Мозжухин в нем играл. И это был сложный фильм, где видения переплетаются с действительностью, это не был коммерческий фильм. Иные из русских критиков усматривали в фильме влияние немецкого экспрессионизма и даже французского авангарда, но французская критика увидела в нем чисто русское кино. Она видела в нем русское смятение и русские поиски. Французы говорили тогда – «русское кино», «русская школа», «русская школа Монтрёя». И конечно, над всеми определениями и воспоминаниями маячил неизменно один удивительный мужской лик. Где же, как не в пригородном Монтрёе, не на тихой улице Сержанта Бобийо, близ былого альбатросовского павильона, или в монтрёйском музейном парке, вспомнить о нем? Начнем с музея…
Сравнительно недавно, года три-четыре назад, монтрёйский Музей живого искусства, что уютно разместился в тенистом парке, вдали от живописных мусорных куч блошиного рынка, от цыганских трущоб и от унылых пролетарских улиц этого пригорода, устроил выставку «Русское кино – Монтрёй» и поведал забывчивой французской публике о нежданном взлете франко-русского эмигрантского кинематографа в 20-е годы XX века и о его монтрёйских подвигах. Самым заметным символом этой поразительно интересной выставки были птичка альбатрос, фирменный знак, так сказать, логотип монтрёйской киностудии, и загадочный лик русского красавца, который в пору выставки маячил везде и во всех видах на афишах, расклеенных по маленькому Монтрёю, – то под восточным тюрбаном, то над пышным жабо Казановы, то под офицерской фуражкой русской императорской армии. И посетителей выставки, и прохожих на улицах Монтрёя преследовал в те дни взгляд светлых стальных глаз этого, может быть, первого в мировом кино мужчины-премьера, которого звали Иван Мозжухин.
Об этом кумире мирового кино первых десятилетий XX века написано довольно много. Друзья-собутыльники, вроде знаменитого шансонье Александра Вертинского, писали о его щедрой бесшабашности и любви к цыганам, его малообразованности и якобы равнодушии к кино, о его любовях и браках. Критики и киноведы, противореча Вертинскому, напротив, писали о преданности Ивана Мозжухина театру и кинематографу, о школе театра, которую он прошел в России, о его самоотверженной работе над ролями в кино, которые чуть не с 1916 года – вскоре после его прихода в кинематограф и первых его успехов – стали «высшими достижениями мирового кинематографа». Мозжухин был не только исполнителем главных ролей в знаменитых фильмах – он часто выступал в них в роли сценариста и режиссера. Скажем, в фильме «Дитя карнавала», снятом в Монтрёе в 1921 году, Мозжухин выступает сразу как актер, сценарист и режиссер. Мозжухин любил рассуждать о кинематографе, в частности, сценариях, об особой «кинематографической литературе», которая, как в его сценарии «Пылающий костер», должна «подметить у людей их подлинное лицо и перенести на экран фарс жизни, смешанный с ее интимной драмой».
Фильмы Мозжухина и роли Мозжухина потрясали современников – и его «Кин», и «Лев моголов», и «Покойный Маттиа Паскаль» по мотивам Пиранделло, итальянского драматурга, который назвал Мозжухина «великим актером», и его «Казанова», и его Мишель Отрогов, имевший бешеный успех во Франции и надолго оставивший французам легенду о русском характере.
Два писателя – американец русского происхождения Владимир Набоков и француз русского происхождения Ромен Гари – оставили свидетельства необычайной славы и влияния Мозжухина на современников. Старшим из них был Набоков. Сочиняя в Америке свой до последнего слова продуманный автобиографический роман (русское название его – «Другие берега»), зрелый Набоков дважды вводит туда Мозжухина. Экран петербургской киношки с изображением Мозжухина бросает отсвет в темный зрительный зал, где томится в любовной истоме гимназист Володя Набоков со своей первой подружкой. Позднее, в крымских главах романа, живой Мозжухин, загримированный под Хаджи-Мурата, вдруг вываливается из зарослей Крымской яйлы под Ялтой во время съемок…
Младший из этих двух писателей, безотцовщина, безродный беженец Роман Кацев (позднее – Ромен Гари), придумал себе самого великолепного из вообразимых отцов – Ивана Мозжухина и водрузил его портрет на тумбочку в комнатке отеля в Ницце, где его мать была консьержкой. Гари почти удалось убедить Ниццу и целый свет, что он был сыном Мозжухина. Мне самому доводилось слышать про такое в Ницце от старожилов. Чуть дальше я расскажу, как другой поклонник Мозжухина, романтический священник с русского эмигрантского кладбища, разыграл в его славу воистину шекспировскую сцену, но пока нам надо обратиться к раннему увяданию и ранней смерти этого русского гения. По мнению многих, его карьеру погубил приход в мировой кинематограф звука, слова, которое Мозжухин считал на экране грубым и безвкусным, «как разрисованное красками мраморное изваяние». Звук погубил кинематографическую карьеру Мозжухина. На «ихних» языках он научиться говорить не мог. Личная жизнь тоже не удалась: в 1927 году он разошелся с Натальей Лисенко, потом разошелся и с женой-шведкой, наконец, и с актрисой Таней Федор. Он обнищал, больше не мог помогать брату-певцу, не мог и себя прокормить. Скоротечная чахотка добила его на 50-м году жизни. Он умер в клинике Нёйи под Парижем и поначалу был похоронен там же, в Нёйи. Вертинский утверждает, что на похоронах за гробом Мозжухина шли одни только парижские цыгане.
Позднее поклонник великого актера, энергичный русский священник-похоронщик отец Борис Старк перевез тело Ивана в Сент-Женевьев-де-Буа, перезахоронил его и даже оставил описание этой мрачной процедуры совершенно в стиле эпизода из шекспировского «Гамлета»:
«И вот, я стою перед раскрытым гробом того, кто считался одним из самых красивых мужчин своего времени. В гробу – сухие кости и почему-то совершенно сохранившиеся синие шерстяные плавки. С благоговением я взял в руки череп того, кто был нашим кумиром в дни моего детства… В этот момент мне почудилось нечто шекспировское… нечто от Гамлета. Я поцеловал этот череп и аккуратно положил в новый гробик вместе со всеми другими косточками, которые бережно вынул из старого гроба, покрыв их синими плавками. Бог помог и могилу достать, и выкопать ее поглубже, чтобы в эту могилу смог лечь и брат и невестка покойного. Удалось поставить и простенький каменный крест».
Невестка покойного, впрочем, обманула ожидания доброго отца Бориса: она всех пережила, вернулась в Ленинград и доживала свой век в доме для престарелых артистов.
Наверно, среди престарелых артистов помирать забавнее, чем среди католических монахинь, но тут уж редко приходится выбирать. Один из самых незаурядных жителей городка Монтрёй умер недавно в маленьком польском монастыре, что на улице Шевальре в XIII округе Парижа (в пяти минутах от моего парижского дома). В монастырь он переехал в самом конце XX столетия, и ему было уже за 90. А до того он долго-долго жил в новом муниципальном доме в Монтрёе и удивлял посетителей среднеазиатскими порядками: в ботинках по улице ходишь, а дома разуйся. Средняя Азия была лишь не слишком долгим и вполне симпатичным эпизодом в его долгой жизни, а удивить здешних провинциалов он мог многим. Когда, оторвавшись от увлеченной игры в петанк, здешние старики (казавшиеся ему малыми детьми) спрашивали его: «А ты, Жак, ты что делал до пенсии?», он спокойно отвечал: «Я был тайный агент Коминтерна». Старики пожимали плечами и возвращались к петанку. Они знали, что у этого нелюдима странное чувство юмора. Он мог бы еще сказать, что потом он был почетный зэк – иностранец в лагерях коммунистического Гулага, но этого бы уж и вовсе никто не понял в коммунистическом Монтрёе. В конце концов он встретил на улице Монтрёя русскую Галю из Израиля – она все поняла и угостила его русским борщом. Я тоже ему поверил, часто звонил ему со своего хутора в Шампани, и мы подолгу разговаривали по телефону, не рискуя больше ни сумой, ни тюрьмой…
А Жак и правда был в молодые годы агентом – и Коминтерна, и ГРУ, а может, еще и ГПУ, в общем, шпионом. Родился он во Франции, но детство провел в Польше: маменька его вышла замуж за польского аристократа, так что Жак Росси подрастал в богатом поместье, где его юное сердце ранило социальное неравенство и крестьянская привычка целовать при встрече милому шляхтичу ручку. Когда Жак подрос, он стал коммунистом, Москва, отметившая его лингвистические способности, подучила его на шпиона и отправила по свету. Последней страной, где он шкодничал, была Испания 1936 года, после этого его и посадили в стране Гулага на долгие 17 лет. Выпустили его, когда помер Гуталинщик (в «Справочнике», написанном Жаком, есть еще полдюжины прозвищ усатого палача). Потом он отбывал ссылку в Самарканде, сумел вернуться в простившую его Польшу (где стал преподавать что-то полезное), добрался со временем до США (там он преподавал «науку выживания» в университете), а оттуда в не слишком жаждавшую его увидеть родную, но как всегда революционную Францию. В коммунистическом Монтрёе он был главный знаток коммунизма, но поделиться своими грустными знаниями ему было не с кем (французы не любят, чтобы их огорчали). И тогда Жак сел за работу. Он написал замечательный «Справочник по ГУЛАГу». Это научный труд и это художественное произведение о концентрационном мире, который явился результатом построения коммунизма, увенчанием «Иллюзии, которая была так прекрасна» (так он назвал свою новую книгу, дописать которую ему не хватило и долгой жизни). Конечно, его учителями были Домбровский, Солженицын, Шаламов (особенно – безжалостный гений Варлам Шаламов), и так как он не обладал ни их талантом, ни их знанием родного языка (выучив в лагере великое множество языков), ему помогала с французским милая переводчица Софи Бенеш, но книгу он написал замечательную. Не думаю, чтоб ее жестокий юмор дошел до пожилых аборигенов, играющих в петанк, или потревожил спокойствие монтрёйских коммунистов-троцкистов, но книги не горят, а свой московский (русский) экземпляр на нищенской бумаге я иногда снимаю с полки, чтоб вернуться к точке отсчета. Построена книга как словарь: ищи на любую букву. Хотя бы на столь любимую монтрёйским р-райкомом коминтер-р-новскую букву Р. Вот и мы: откроем на Р. Статья «РУКИ»:
«РУКИ – 1
Подпункт 1
«Руки назад!» или «Руки!» – команда или оклик надзирателя, сопровождающего заключенного на территории тюрьмы. В Правилах внутр. распорядка сказано, что вне камеры заключенный «обязан держать руки назад, обнимая пальцами правой руки запястье левой». Большинство заключенных, не дожидаясь команды, «берут руки назад», как только выйдут за порог камеры.
Подпункт 2
Допускаются четыре исключения:
а) если с вещами (но если их можно удержать одной рукой, то вторую нужно взять назад);
б) когда несут парашу (если двое несут тяжелую парашу, то свободной рукой разрешается балансировать);
в) когда избитого заключенного надзиратели волокут с допроса;
г) если заключенный инвалид и у него нет обоих предплечий.
Подпункт 3
«Руки не касаются?!» – окрик надзирателя, когда заключенный забыл «взять руки назад».
РУКИ-2
«Руки на одеяло!», «Выньте руки из-под одеяла!» или «Покажите руки!» – команда тюремного надзирателя, особенно в следственных тюрьмах. Заключенному не разрешается спать с руками под одеялом, чтобы предупредить возможность самоубийства путем перерезывания вен.
РУКИ-3
Сравни со статьей глаз, пункт 4:
«Я должен видеть ваши глаза», замечание, которым тюремный надзиратель будит заключенного, отвернувшегося от яркого света, который горит в камере всю ночь (по глазам, даже спящего, надзиратель якобы может определить, жив ли он еще). Это касается особенно следственных тюрем, но не лагерей. Так же и в дневное время надзиратель должен видеть глаза заключенного (открытые), т. к. тюремные правила запрещают сон днем. И потому заключенному запрещено отворачиваться от волчка»:
Сравни также со статьей самоубийство пункт 2:
«О самоубийстве помышляет иной подследственный, который опасается не выдержать физические или моральные пытки. Но его очень строго стерегут, заглядывая в волчок каждые 10–15 секунд, днем и ночью… В проемах лестничных клеток следственных тюрем растянуты металлические сетки. В Бутырской тюрьме, гласит легенда, они появились в 1925 г., после предполагаемого самоубийства Бориса Савинкова… С царских времен сохранилась песня о том, как «В Александровском централе повесился арестант…» (однажды, в 50-е гг. эта песня долетела с воли к автору через открытую форточку камеры Александровского централа):
Сравни также со статьей выкручивание рук.
«В период ежовщины на допросы водили три надзирателя: один вызывал из камеры, а двое хватали вызванного под руки и выкручивали их, и так вели на допрос и с допроса…»
Такая вот краткая, вполне деловая статейка о том, что такое руки с позиции реального социализма. Есть там и пострашней, скажем, статья «Дети» – такого ни один самый страшный педофил-педофоб не придумает. Впрочем, монтрёйских «левых» и таким не запугаешь. Товарищ Сталин объяснил гостю-гуманисту Роллану, что дети особенно опасны для режима и что расстреливать их можно с 12 лет, а уж сажать – со дня рождения… И Роллан согласился – для пользы мирового коммунизма и собственного спокойствия…
Навещая позднее старого монтрёевского чудака в польском монастыре по соседству с нашим домом, я познакомился там с красивой француженкой, которая издала Жакову биографию. Она пожаловалась мне, что ее 92-летний герой ни за что не хочет рассказать, что же он делал там у них в ГРУ. Раз он больше не верит в «пользу дела», но не рассказывает, значит, он все еще ИХ боится. А еще говорят, что нет ничего страшней смерти. В данном случае смерть была на пороге, похоже, была желанной, но осужденный еще все боялся. ИХ боялся. А может, боялся разочаровать публику: ну что там могло быть интересного? Ну, отвез тайное задание – замочить троцкиста, замочить активиста, замочить отзовиста, замочить таксиста… Отвез или даже сам замочил… Господи – это ж сплошной Судоплатов…
Недавно я побывал с друзьями на панихиде по Жаку Росси в польском монастыре, где он доживал свои дни, наш славный писатель, в прошлом бесславный агент… Пришли, сложили под его фотографией цветочки, посидели на неудобных скамейках, помолчали, порассуждали о том, как поздно приходят в святой монастырь коммунисты… Но вce же приходят…
Никакого гроба вообще не было. И никакого тела не было. Жак завещал отдать свое бедное тело зэка студентам-медикам для упражнений.
Список имен и географических названий
Аньер (Asnières) 189–191
Бальзак Оноре де (Balzac Honoré de) 154, 262
Берберова H. 75, 206, 210, 226
Бердяев Н.А. 229, 234
Бланди-ле-Тур (Blandy-les-Tours) 171, 172
Бомбон (Bombon) 166, 167
Бомон-сюр-Уаз (Beaumont-sur-Oise) 37
Бонди(Bondy) 93, 95
Бри-Конт-Робер (Brie-Comte-Robert) 164, 165
Буасси-Сен-Леже (Boissy-Saint-Léger) 164
Булонь-Бийанкур (Boulogne-Billancourt) 206, 208, 215
Вагнер Рихард (Wagner Richard) 259, 265
Ванв (Vanves) 241–246
Васильева M. 123
Вемар (Vémars) 69–70
Венсен (Vincennes) 12–13
Виардо-Гарсия Полина (Viardot-Garcia Pauline) 149–151
Виарм (Viarmes) 36–37
Виллер-Котре (Villers-Cotterêts) 84, 87
Вильде Б.В. 277, 281
Вилье-ле-Бель (Villiers-le-Bel) 29
Вильруа (Villeroy) 102, 103
Во-ле-Виконт (Vaux-le-Vicomte) 115, 171
Ганьи (Gagny) 96, 98–100
Германт (Guermantes) 129, 138
Горбов Я. 98, 100
Гро-Буа (Gros Bois) 164
Гюго Виктор (Hugo Victor) 52, 86
Даниэль Ю. 292, 297
Дисниленд (Disneyland) 130, 132, 134, 136
Донмари (Donnemarie) 162
Дюма Александр, отец (Dumas Alexandre, père) 56, 105
Дюма Александр, сын 103–105
Жид Андре (Gide André) 281, 285
Жуар (Jouarre) 111
Исси-ле-Мулино (Issy-les-Moulineaux) 246–248
Карсавин Л. 239–240
Кламар (Clamart) 240, 274
Клиши (Clichy) 186–189
Компьень (Compiègne) 71–73
Крепи-ан-Валуа (Crépy-en-Valois) 64, 66
Креси-ла-Шапель (Crécy-la-Chapelle) 140
Крылов И. А. 117
Куйи-Понт-о-Дам (Couilly-Pont-aux-Dames) 130
Куломье (Coulommiers) 139
Куприн А. И. 190,192
Курбевуа (Courbevoie) 197, 199
Ланьи-сюр-Марн (Lagny-sur-Mame) 138
Ла Ферте-Милон (La Ferté-Milon) 88
Лафонтен Жан де (La Fontaine Jean de) 115, 117
Ле-Мениль-Обри (Le Menils-Aubry) 34
Лонпон (Longpont) 87
Люзарш (Luzarches) 35–36
Малако́в (Malakoff) 225, 256
Медон (Meudon) 257, 259
Миллер Генри (Miller Henry) 186, 189
Mo (Meaux) 102
Мозжухин И. 304–305
Монморанси (Montmorency) 45–47
Монсо (Montceau) 110
Монтрёй (Montreuil) 302–303
Мориак Франсуа (Mauriac François) 69–70
Морман (Mormant) 166
Морьенваль (Morienval) 84
Нанжи (Nangis) 164
Нантер (Nanterre) 223–226
Нантуйе (Nantouillet) 71
Нарышкина Н. 103, 106, 203
Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) 226
Ножан-сюр-Марн (Mogent-sur-Marne) 120, 122
Одоевцева И. 51, 98
Озуар-ла-Ферьер (Ozoir-la-Ferrière) 145–146
Ольденбург Зоэ 232, 267
Песи (Ресу) 149
Провен (Provins) 142, 153–154
Пьерфон (Pierrefonds) 81, 83
Рампийон (Rampillon) 162, 164
Расин Жан (Racine Jean) 88
Ренси (Raincy) 95
Роден Огюст (Rodin Auguste) 265–267
Розанова M.В. 296
Розэ-ан-Бри (Rosay-en-Brie) 148, 153
Руайомон (Royaumont) 36
Руссо Жан-Жак (Rousseau Jean-Jacques) 47, 48
Санлис (Senlis) 57, 59
Сарсель (Sarcelles) 30
Селин – наст. имя Луи Фердинанд Детуш (Céline) 259
Сен-Дени (Saint-Denis) 21–22
Сен-Лё-ла-Форе (Saint-Leu-la-Forêt) 52, 55
Сен-Лу-де-Но (Saint-Loup-de-Naud) 161–162
Сен-Манде (Saint-Mandé) 119
Сен-При (Saint-Prix) 45
Синявский А.Д. 288, 291, 293
Сухово-Кобылин А.В. 103, 105
Тибо (Thibaud IV) 156, 159
Тургенев И.С. 149, 150
Фонтенэ-о-Роз (Fontenay-aux-Roses) 275, 277
Ходасевич В.Ф. 210–211
Цветаева М.И. 229, 232, 234, 242
Чехов А.П. 39
Шаалис (Chaalis) 67–68
Шалотр-ла-Птит (Chalautre-la-Petite) 160
Шампо (Champeau) 169, 171
Шан-сюр-Марн (Champs-sur-Mame) 119, 126
Шантийи (Chantilly) 36, 41–42
Шапель-су-Креси (Chapelle-sous-Crécy) 140
Шарантон-сюр-Пон (Charenton-sur-Pont) 142
Шато-Тьерри (Château-Thierry) 95, 114, 116, 118
Шель (Chelles) 97
Шимкевич Андрей 216
Экуан (Ecouen) 30, 32
Энгиен-ле-Бэн (Enghien-les-Bains) 55, 56–57
Эриво (Hérivaux) 36
Эрменонвиль (Ermenonville) 68
Эфрон С.Я. 228, 230–231
Юсупов Феликс 208, 210